

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ
(1915–1931)
Обладание большой властью, как бы безмерна она ни была, не приносит с собой уменья пользоваться ею… Власть покидает нас в точности такими, какими она нас застает, только великие натуры растут вместе с властью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Католическая церковь весьма неразборчива на побужденья и средства своих союзников.
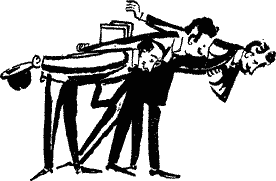
— Рил займет прочное место в федеральном парламенте, даже если мне придется купить ему это место, — заявил Джон Уэст архиепископу Мэлону.
Они гуляли по холмам над рекой Яррой, неподалеку от особняка Джона Уэста, и беседовали о предстоящих выборах в федеральный парламент.
Узнав о привычке архиепископа совершать по воскресеньям послеобеденные прогулки, Джон Уэст и сам стал часто выходить из дому, чтобы пройтись, и всегда «случайно» встречался с Мэлоном.
Дэниел Мэлон лукаво поглядел на собеседника.
— Купить место?
— Ну да, купить! Вряд ли кто-нибудь из лейбористов, выдвинутых в парламент, снимет свою кандидатуру, даже ради Т. Дж. Рила. Но им можно предложить приличное вознаграждение.
— Разумеется, мистер Уэст. Слушая вас, я начинаю думать, что нахожусь ни больше ни меньше, как в Тамманихолле.
Они медленно шли по склону холма вдоль берега извилистой реки. Листья на деревьях, окаймлявших берег, начинали менять окраску; самые слабые уже падали на землю под натиском осени 1919 года.
Джон Уэст и архиепископ Мэлон беседовали главным образом о политике; и тот и другой словно вовсе забыли о своих прежних разногласиях по вопросу о воинской повинности. Немного погодя они повернули обратно, и каждый был чрезвычайно доволен собой.
Мэлон думал, что, заполучив в союзники этого странного энергичного человечка, церковь скоро приобретет в Австралии такое же политическое влияние, как и во многих других странах. Мэлон почувствовал даже, что начинает проникаться к Уэсту некоторой симпатией.
Прощаясь с ним, архиепископ мягко сказал:
— Да благословит вас бог, мистер Уэст. В постигшем вас недавно горе вы показали себя мужественным и справедливым человеком.
Джон Уэст вздрогнул. Он пристально поглядел Мэлону вслед, пожал плечами и медленно пересек широкую дорогу и лужайку перед белым особняком, к которому было пристроено новое крыло.
От неожиданного намека Мэлона на измену Нелли радостное настроение его померкло. Мысли о том, как завоевать поддержку католиков в лейбористской партии, разом вылетели у него из головы.
Войдя в дом, Джон Уэст услышал доносившийся откуда-то сверху детский плач. Он прошел в музыкальную комнату в новом крыле дома — там он обычно сидел теперь по воскресеньям и читал. Бросив шляпу на пол, Джон Уэст с размаху опустился в кресло и долго сидел, плотно сжав губы, глядя прищуренными глазами в окно. Какое же еще наказание придумать для Нелли, чтоб утолить наконец бушующую в нем ярость и заглушить чувство унижения?
Разве он забудет когда-нибудь ту ночь, когда родился этот ребенок? Он в волнении ходил взад и вперед по будуару, а в соседней комнате миссис Моран хлопотала возле Нелли. С тех пор он не сказал Нелли ни одного слова и ни разу не упомянул о ребенке. В доме воцарилась напряженная и зловещая атмосфера ненависти.
Джон Уэст подозревал, что старшие дети кое-что знают, но что именно — угадать он не мог. Дети были подавлены и напуганы. Гнетущая атмосфера стала бы совсем невыносимой, если б миссис Моран не умудрялась каким-то образом разряжать ее. Она сумела даже установить косвенный контакт между Джоном Уэстом и Нелли.
Джон Уэст чувствовал, что миссис Моран задумала наладить разбитую жизнь дочери. Этому не бывать, решил он.
* * *
В обычный для засушливого времени года жаркий и ясный день по главной улице рудничного городка Чиррабу, находящегося в северо-западной части Куинсленда, быстро шагал человек небольшого роста, коренастый, с рыжеватыми волосами. На нем были брюки из чертовой кожи и фуфайка с короткими рукавами.
Он шел быстро. Видимо, у него было важное дело, ибо жители Чиррабу ходили всегда медленно, а разговаривали и думали еще медленнее. Поравнявшись с дощатой высокой верандой отеля, он поздоровался со стариком, сидевшим на веранде, но не получил ответа, потому что тот спал. Он чуть не споткнулся об облезлую собачонку, которая равнодушно огрызнулась на него и чуть-чуть отодвинулась в сторону. Мелкая, раскаленная пыль облаком клубилась у него под ногами.
Человека звали Джордж Рэндом. Он шел с целью привести в исполнение заговор, задуманный несколько месяцев назад в Мельбурне «Красным Тедом» Тэргудом и Джоном Уэстом.
Городок выглядел запущенным и грязным. Повсюду валялись кучи бумажек и всякого мусора. Улицы были безлюдны, многие дома пустовали. Казалось, городок уже израсходовал всю свою жизненную энергию и в изнеможении прилег отдохнуть.
Чиррабу был самым богатым и многообещающим из всех рудников Куинсленда. Он находился на перешейке между заливом Карпентария и Коралловым морем, в районе города Кэрнса, и его рудные залежи граничили на востоке и западе с двумя другими богатыми рудой районами. В семидесятых годах, да и позже, район Кэрнса считался «золотым дном» и соперничал с Мексикой. Первые старатели добывали медь и серебро из необычайно богатых поверхностных залежей руды. До постройки Кэрнской железной дороги возили руду к побережью на волах. В 1900 году промышленная компания, состоявшая главным образом из немцев, построила в Чиррабу плавильный завод. Вскоре вокруг завода возник поселок, который, словно магнит, притягивая к себе людей и машины, быстро начал застраиваться. Природа наделила этот край богатством; к северу от него земля была опустошена лесными пожарами, а к западу — засухой.
В самом начале века в городок Чиррабу приехали двое молодых людей. Один из них, итальянец Гаррарди, был общительный толстяк с курчавыми волосами и бородой; другого звали Тэргудом. Это был рыжеволосый и рыжебородый полурумын, краснобай и весельчак. Молодые люди нанялись на рудник, сбрили бороды и стали работать, играть в азартные игры и пьянствовать. Вскоре в городок приехали еще двое молодых людей. Одного звали Джордж Рэнд, а другого — огромного молодого увальня с длинными вьющимися усами — Мак-Коркелл, или «Большой Билл». Эта четверка объединилась и вскоре приобрела среди жителей Чиррабу громкую известность: Мак-Коркелл и Тэргуд — как коноводы, а Рэнд и Гаррарди — как их партнеры.
Тэргуд получил кличку «Красный Тед». В то время эта кличка еще определяла не только цвет его волос, но и политические убеждения: Тэргуд начитался социалистической литературы и любил поговорить о политике, экономике и о том, что рудокопы должны бороться с владельцами рудников за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Он внушал рабочим, что они должны держаться так же стойко, как держались стригали овец в забастовках девяностых годов.
В 1908 году городок Чиррабу переживал пору расцвета и жил так, как жили все процветающие городки на крайнем севере Австралии. Он мог похвастаться четырьмя гостиницами и несколькими кабаками и лавочками, где тайно торговали спиртными напитками; универсальным магазином, банком, публичным домом; несколькими красивыми особняками, где жили владелец завода и управляющие рудниками, множеством разнокалиберных домишек и, наконец, палатками и импровизированными хижинами на окраинах, как это всегда бывает во всяком беспорядочно разрастающемся городе.
Жители Чиррабу ничем не отличались от населения других северных городков. Почти все они много пили и не меньше того сквернословили. Это были люди суровые и простые. Нередко среди них заходила речь о стачках девяностых годов, о Лейне и других руководителях этих стачек. Вокруг города все еще рыскали старатели, пытаясь, как игроки на скачках, «отыграться на последнем заезде», но большинство жителей стали уже работать на рудниках и заводах.
Кроме пьянства, любимейшим развлечением жителей были азартные игры. Больше всего играли в орлянку двумя монетами. Каждый вечер где-нибудь на окраине при свете керосиновых фонарей собиралась в круг целая толпа мужчин. В густом табачном дыму все головы враз подымались и опускались вслед за взлетавшими в воздух и падавшими на землю монетами.
Мак-Коркелл работал здесь за казначея. Он держал «котел», который разыгрывали в орлянку. Красный Тед был судьей — он следил, чтобы игроки не мошенничали, и объявлял результаты. Гаррарди и Рэнд несли обязанности помощников и получали долю из солидных доходов своих старших компаньонов.
В 1908 году Тед Тэргуд и Мак-Коркелл с помощью Гаррарди и Рэнда организовали профсоюз, который они назвали «Объединенный союз рабочих». Мак-Коркелл стал секретарем профсоюза, а Красный Тед — председателем и организатором. Сначала они исполняли свои обязанности безвозмездно, в свободное от работы время.
Решив, что округ Чиррабу достаточно созрел, чтобы иметь своего представителя в парламенте штата Куинсленд, они организовали отделение лейбористской партии. Как истинные сыны Севера, они рассудили, что голосование выдумка, годная лишь для больших городов. Они решили разыграть кандидатуру в орлянку: кто выиграет, тот и будет лейбористским кандидатом от Чиррабу.
В кругу света, отбрасываемом фонарем, они стравливали ловкость с ловкостью, везенье с везеньем, а ставкой был депутатский мандат одного из самых надежных лейбористских округов в Австралии. Клиенты окружили игроков тесным кольцом и держали пари. Ведь всегда раз идет игра и кто-то подбрасывает монеты — значит, можно и нужно держать пари, даже если разыгрывается место в парламенте.
Красный Тед объявил условия: кто выкинет подряд наибольшее число «орлов», тот и будет кандидатом.
Первым стал бросать монеты Большой Билл. Он считался одним из лучших игроков в Куинсленде. Большой Билл высоко подбрасывал монеты, и трижды они падали на землю орлами вверх. Он подбросил их в четвертый раз; все взгляды устремились вверх и снова опустились вниз, когда монеты шлепнулись о разостланный брезент.
— Обе решки!
Но и три орла подряд уже считалось достижением, хотя говорили, будто Красный Тед однажды выкинул их восемь раз подряд, побив все рекорды.
Красный Тед взял щепку, как-то особенно, по-своему, расположил на ней монеты и сказал:
— Рекомендую вам нового представителя от игроков Чиррабу, джентльмены! — Откинув назад голову, он громко захохотал.
Плавным движением он подбросил монеты.
— Орел! — сказал Джордж Рэнд, работавший за судью.
Красный Тед снова подкинул монеты. Они столкнулись в воздухе и зловеще звякнули; некоторые игроки считали это верной приметой того, что будет решка, но Тэргуд крикнул:
— Звякнули — значит, орел! — Так оно и вышло.
Красный Тед снова подбросил монеты.
— Разные! — воскликнул Рэнд, когда монеты упали одна вверх орлом, другая решкой. Всех охватил неистовый азарт, ставки становились выше и выше. Тэргуд снова подбросил монеты, и опять Рэнд объявил «два орла». «Еще один раз — и место в парламенте мне обеспечено», — подумал Тэргуд.
Уверенным движением он подкинул монеты вверх.
— Разные, — сказал Рэнд.
Тэргуд бросал монеты еще три раза, и каждый раз Рэнд возвещал: «Разные». Хотя вечер был прохладный, но от волнения всех бросало в жар.
Тэргуд взял из рук Рэнда монеты, отошел в сторону и повернулся спиной.
— Пошел счастье менять, — хрипло сказал Большой Билл, поглаживая усы.
Массивное туловище Тэргуда быстро качнулось вперед, потом назад, и брошенные через голову монеты взлетели высоко над фонарем. Больше сотни людей вытянули шеи, следя за монетами. Наконец монеты шлепнулись на землю. Тэргуд, не оборачиваясь, ожидал выкрика судьи.
— Оба орла! — восторженно заорал Рэнд, и толпа разразилась криками «ура».
— Хо-хо! — громко хохотал Красный Тед, обмениваясь рукопожатием с Большим Биллом. — Выпивка за мной. Пойдем в трактир, выпьем за здоровье нового члена парламента!
Толпа двинулась к трактиру. Шумное веселье продолжалось до рассвета, а утром все нехотя разошлись, кто на рудники, кто на завод, и принялись за тяжелый труд, пóтом вышибавший из них спирт.
Так Красный Тед стал представителем лейбористов в парламенте штата Куинсленд. Вскоре он женился на молодой католичке, учительнице из Чиррабу. Они венчались в Брисбэне, в католической церкви, хотя сам Тэргуд был протестантом, а дед его, по слухам, был православным патриархом о Румынии. Тэргуды обосновались в Чиррабу; Красный Тед в перерывах между парламентскими сессиями приезжал домой и помогал Мак-Коркеллу в профсоюзных делах и старался укрепить лейбористскую организацию в своем избирательном округе. Мак-Коркелл, Гаррарди и Рэнд по-прежнему промышляли игрой в орлянку.
В свободное время Красный Тед работал в профсоюзе, занимая платную должность организатора; Большому Биллу платили двести фунтов в год, чтобы не зависеть от владельцев рудников, использующих любой повод для увольнения профсоюзных деятелей. Тэргуд бывал на строительстве новой железной дороги и вовлекал рабочих в профсоюз; потом организовал забастовку и добился значительного увеличения заработной платы.
В 1911 году Объединенный союз рабочих насчитывал уже несколько тысяч членов и усиленно вербовал новых. Тэргуд присоединил к этому «союзу» профсоюз рабочих сахарных предприятий, призвал рабочих к забастовке и благодаря умелому руководству снова добился успеха. Молодой профсоюз стал конкурентом огромного профсоюза австралийских рабочих, и между ними возникло соперничество. В 1910 году Тэргуд и Мак-Коркелл, тоже избранный в парламент, переключились целиком на политику — это было надежнее, выгоднее, чем орлянка. Они уже достаточно сделали для того, чтобы навсегда обеспечить себе парламентские места; поэтому решили ограничить свою внепарламентскую деятельность содержанием избирательной машины и выпуском лейбористской газеты. Они согласились на слияние Объединенного союза рабочих с Союзом австралийских рабочих и оставили орлянку всецело на попечении Гаррарди и Рэнда.
Городок Чиррабу разрастался и процветал до тех пор, пока не началась война и имущество немецкой фирмы не было заморожено согласно законам военного времени. Заводы закрылись, городок почти совсем обезлюдел, и так продолжалось всю войну.
Гаррарди и Рэнд занялись строительством и рыли землю в поисках поверхностных залежей руды. Однако добыча их была чрезвычайно скудной.
Но сейчас Рэнд, шагавший по пустынной улице, был в радостном волнении. Он только что получил от Красного Теда письмо, в котором тот утверждал, что городок вскоре снова начнет процветать. Дойдя до конца улицы, Рэнд вошел в ворота красивого дома с высоким крыльцом.
Дверь Рэнду открыл человек весьма мрачного вида. Сегодня, в отличие от вчерашнего и позавчерашнего дня, он был трезв. Звали его Данкен. Он был инспектором рудников в округе Чиррабу. Обязанности его были многочисленны и разнообразны: он надзирал за разработкой рудников, составлял отчеты, разбирал споры, давал разрешение на аренду участков; он был председателем полицейского суда, мировым судьей, другом и советчиком местных жителей.
Белый костюм Данкена был измят, волосы растрепаны, глаза налиты кровью.
Он серьезно относился к своим обязанностям и часто работал ночи напролет, чтобы вовремя подготовить отчеты. В последние годы он стал частенько выпивать — причиной тому было переутомление и угрюмый характер. К великому огорчению жены, он часто лил без просыпу несколько дней подряд. Из-за этих запоев он вечно был в долгах, ибо жалованья ему еле хватало на то, чтобы кормить, одевать и учить пятерых детей.
— Я только что получил письмо от Теда Тэргуда, — сказал Рэнд, входя в кабинет Данкена. — Мельбурнская компания, которой принадлежат рудники «Леди Джоан» и «Джилоуэлл», на целую неделю просрочила взнос арендной платы в министерство горной промышленности.
— Ничего, заплатят, — равнодушно ответил Данкен. С похмелья он чувствовал себя отвратительно — голова трещала, во рту было горько, соображал он с трудом.
— Заплатят, — повторил он. — С тех самых пор, как правительство закрыло заводы и прекратилась разработка рудников, Мэлгарская компания всегда платила аккуратно, хотя ее рудники и бездействовали.
— Тэргуд велел мне договориться с вами о том, чтобы отнять у них рудники, а я на них сделаю заявку.
— Да с какой стати? У компании хорошее имя, нужно оказать снисхождение. Верно, она просрочила платежи, но это, должно быть, только по недосмотру.
— Тэргуд велел передать вам двести фунтов — просто так, в подарок.
Данкен медленно поднял голову и, словно не веря своим ушам, удивленно уставился на Рэнда. Он хотел было сказать: «Я вас привлеку к суду за попытку подкупить представителя министерства горной промышленности», — но, вспомнив бурную ссору с женой из-за отчаянного безденежья, происшедшую всего час назад, спросил:
— Откуда же вы достанете двести фунтов?
— Красный Тед пишет, что вышлет их немедленно, а пока я занял у жены; у ней ведь водятся денежки, вы же знаете.
Данкен чувствовал себя таким разбитым и расслабленным, что ему ничего на ум не шло, кроме мыслей о долгах. — По закону я могу отказать в продлении аренды, но мне это очень не по душе, — сказал он.
Рэнд вытащил из кармана пачку денег.
— Могу передать деньги сейчас же. Вам остается только оформить это дело и удовлетворить мою заявку на рудники. Тэргуд позаботится, чтобы все было в порядке. Он теперь казначей штата. Мы с ним и Большим Биллом хотим учредить компанию. Уж мы тогда вас не забудем, не беспокойтесь.
Данкен положил локти на стол и уронил голову на руки.
— Оставьте деньги, — тихо сказал он.
— Спасибо, Данк! На будущей неделе зайду, — весело сказал Рэнд и вышел. Данкен не пошевелился и не поднял головы; он почти не отдавал себе отчета в том, что сделал. «Рано или поздно это должно было случиться, — думал он, — это — начало конца для меня».
Он встал, взял из пачки несколько бумажек, а остальное запер в ящике стола. Потом надел шляпу, вышел на улицу и медленно побрел в свой излюбленный трактир.
Через полтора месяца в Чиррабу приехал некий доктор Дженнер. В кармане у него лежала телеграмма от министра горной промышленности, в которой Дженнеру предписывалось дать заключение относительно просьбы Джорджа Рэнда, арендатора рудников «Леди Джоан» и «Джилоуэлл», о выдаче ему правительственной субсидии в десять тысяч фунтов.
Путешествие поездом утомило доктора Дженнера. Он привык ездить верхом — так он объездил весь Куинсленд и всю Северную территорию, производя разведку залежей руды. Поезд в Чиррабу медленно тащился по узкоколейке, вагоны были неудобные, и Дженнер был рад, что окончилась эта мучительная тряска.
Доктор Дженнер был очень высокого роста — больше шести футов — и слегка сутулился. Серый длинный пиджак и узкие брюки еще больше удлиняли его тощую фигуру. Походка у него была размеренная и энергичная, черты лица заостренные; проницательные голубые глаза глядели прямо перед собой. Чувствовалось, что это человек упорный, настойчивый и твердо решивший во всем следовать своему долгу и соблюдать справедливость.
Доктору Дженнеру было под сорок. Шестилетним мальчиком он приехал со своими родителями из Дании в Северный Куинсленд. Так как от их хижины до ближайшей школы было двадцать миль, то учиться он начал только с десяти лет. Затем ему удалось поступить в Сиднейский университет. Блестяще окончив курс, Дженнер решил посвятить себя геологии и поступил на работу в министерство земледелия Нового Южного Уэлса. В 1912 году он стал главным геологом и директором рудников на Северной территории. Там он впервые столкнулся с мошенничеством, которое так часто наблюдается в горнорудном деле. Потерпев поражение в борьбе со взяточничеством среди чиновников и арендаторов, он вышел в отставку и перешел в куинслендское управление рудниками.
Доктору Дженнеру уже несколько раз случалось бывать в Чиррабу. Его интересовал этот район — он был уверен, что здесь находятся богатейшие в мире залежи руды. Запущенный вид городка встревожил Дженнера: так много видел он рудничных городков, пришедших в упадок или совершенно заглохших либо потому, что иссякла руда, либо потому, что спекулянты уже нажили себе состояние и забросили рудники, не исчерпав их до конца.
Доктор Дженнер слыхал, будто лейбористское правительство собирается взять в свои руки плавильные заводы; он сам советовал правительству сделать это. Он слыхал также, что когда Мэлгарская компания просрочила взнос арендной платы, рудники «Леди Джоан» и «Джилоуэлл» были переданы какому-то синдикату. Доктор Дженнер был возмущен этим решением, но когда он попробовал заявить протест, ему сказали, что министр и его помощники могут руководить министерством и без вмешательства Дженнера. Слыхал он и то, что арендаторы получили субсидию в три тысячи фунтов для того, чтобы выкачать воду из шахт; он приехал в Чиррабу с твердым намерением расследовать, как Рэнд истратил эти деньги.
Дженнер отнес чемодан в гостиницу и снял номер. Приняв ванну, он с аппетитом съел незатейливый обед и уселся на веранде, покуривая свою любимую трубку. Бар был открыт, оттуда доносились голоса и смех. На веранду выходило окно из зала — там играли в карты, и игра, как видно, была в самом разгаре. Дженнер решил немного пройтись.
Он чувствовал себя одиноким. По складу своего характера доктор Дженнер был семьянином. В разлуке с женой и своими шестью детьми он всегда тосковал. Жена часто говорила, что он двоеженец: кроме нее, у него есть вторая жена — работа. И действительно, доктор Дженнер словно супружескими узами был связан с землей. Его страстно увлекало исследование ее тайн, изучение напластований горных пород. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы помочь человеку вырвать у земли ее сокровища. Пройдет несколько дней, думал Дженнер, и он уже не будет чувствовать себя таким одиноким. Он стал размышлять о деле, которым ему предстояло заняться завтра. Передачу прав на рудники Рэнду он считал явным беззаконием. Этот некрасивый поступок был совершенно не в духе Данкена. Доктора Дженнера несколько озадачило то, что Мельбурнская компания протестовала так слабо; когда же правительство выдало Рэнду субсидию для откачки воды из шахт, он просто ушам своим не поверил.
Он отнесся к просьбе Рэнда о второй субсидии с большим подозрением. Как ни жаль ему было отрываться от своей работы ради расследования этого дела, он решил разобраться в нем до конца.
Доктор Дженнер не спеша вернулся в свой номер, зажег лампу и присел к столику. Он всегда возил с собой перо и бумагу и с дороги писал подробные отчеты в министерство. Помимо этого, доктор Дженнер занимался разнообразной литературной работой: его перу принадлежали учебники почвоведения и минералогии; кроме того, он регулярно печатал в социалистических и других прогрессивных органах штата Куинсленд статьи по политическим и экономическим вопросам.
Перо его быстро бегало по бумаге. Бабочки, мушки и всякая мошкара кружились вокруг лампы и падали на бумагу, но он не обращал на них внимания. Вдруг за дверью кто-то сказал:
— Доктор Дженнер живет в этом номере, — и сейчас же раздался решительный стук в дверь.
— Войдите, — сказал доктор Дженнер, продолжая писать. У него был звучный, слегка гортанный, но не резкий голос.
Дверь открылась; Дженнер поднял голову и увидел невысокого рыжеволосого человека в рубашке с открытым воротом и легких серых брюках.
Это был Джордж Рэнд.
— Имею честь видеть доктора Дженнера? — шутливым тоном спросил он.
— Да, — ответил Дженнер, откладывая в сторону перо. — Чем могу служить?
Маленький человечек подошел к нему с протянутой рукой.
— Меня зовут Рэнд, доктор! Я арендатор рудников «Леди Джоан» и «Джилоуэлл».
Дженнер встал и, глядя на своего посетителя сверху вниз, пожал ему руку.
— Насколько мне известно, — продолжал Рэнд, — вы приехали по поводу моего ходатайства о субсидии в десять тысяч фунтов.
— Этим, да, я занимаюсь. — Дженнеру с трудом давался синтаксис, и иногда он строил фразы несколько странно. Он говорил скороговоркой, то повышая, то понижая голос.
— Надеюсь, док, вы мне посодействуете, — развязно сказал Рэнд, садясь на стоявшую в углу кровать и подминая под себя накинутую на нее сетку от москитов.
— Как государственный служащий, я буду действовать в интересах народа.
— Чего ради беспокоиться о государстве, доктор! Немножко попользоваться за счет государства — вовсе не грех. — Не сознавая своего цинизма, Рэнд с видом заговорщика нагнулся к Дженнеру. — Вот что я вам скажу, док. Рудниками заправляет синдикат — я и еще два человека, которые сидят в правительстве. Четвертый пай еще свободен. Составьте доклад в нашу пользу — и этот пай будет ваш.
Доктор Дженнер возмущенно выпрямился.
— Вы хотите меня подкупить?
— Ну, зачем такие слова, доктор. Это просто деловое предложение.
— Вот как? Я напишу доклад со всей справедливостью. Но раз уж вы пришли ко мне с такими разговорами, то могу вам сказать, что я возражал и против первой субсидии. Все же завтра утром я приду к вам и расследую ваше ходатайство. А сейчас вам, пожалуй, лучше уйти, мистер Рэнд.
Рэнд попытался было продолжать уговоры, но доктор Дженнер подошел к двери и сказал, с трудом сохраняя самообладание:
— Уходите, мистер Рэнд. Я начинаю терять терпение, да.
Джордж Рэнд помедлил немного, потом вышел; Дженнер с силой захлопнул за ним дверь и снова сел за стол. Он попробовал было писать, но никак не мог сосредоточиться. Он чувствовал, что тут пахнет мошенничеством более крупным, чем он себе представлял. Дженнер решил непременно докопаться до самой сути.
* * *
После разговора по междугородному телефону со своим управляющим в Перте Джон Уэст очутился лицом к лицу с серьезной проблемой. Ему сообщили, что правительство Западной Австралии намерено провести закон, запрещающий частным лицам держать конноспортивные предприятия с целью извлечения доходов, будь то бега или скачки. В Западной Австралии Джон Уэст, помимо прочей собственности, владел еще двумя ипподромами. Он мог бы уступить эти ипподромы по хорошей цене, но обладание ими давало власть. Деньги интересовали Джона Уэста теперь только постольку, поскольку они являлись мерилом власти. Он велел управляющему ждать его распоряжений и обещал немедленно послать кого-нибудь в Перт.
Фрэнк Лэмменс предложил снарядить туда Ренфри, но Джон Уэст не согласился на том основании, что Ренфри бывает иногда «круглым идиотом».
Джон Уэст знал, что этот законопроект — не что иное, как попытка его пертских конкурентов вытеснить его. Это была хорошо спевшаяся между собой шайка, которая действовала способами, весьма схожими с его собственными. Поездка в Перт могла оказаться делом нелегким и даже опасным.
— А что, если послать Боба Скотта? — сказал Лэмменс.
— Вздор! Разве можно поручать такую работу политическому деятелю? Каждого нужно использовать в его сфере. А что, если… Куда девался Барни Робинсон?
— Никуда он не девался. Пишет статейки о боксе для «Соколенка».
— Интересно, согласится он поехать или нет? Барни очень популярен. Умеет с людьми обращаться. Вот только захочет ли он?
— После истории с Дарби — вряд ли.
— Ну, Барни не станет помнить зла. Он человек слабый. По-моему, он вернется к нам, если ему приходится туго.
— Говорят, дела у него идут неважно.
— Попробуйте его разыскать, и пусть он придет ко мне.
Барни Робинсон добирался до города пешком, так как денег на трамвай у него не хватило. На нем был потрепанный костюм, помятый котелок и стоптанные ботинки; цепочки для часов он не носил, ибо часы давно уже снес в ломбард. Барни очень исхудал, одежда висела на нем мешком.
Флорри три раза в неделю ходила на работу; Барни это очень огорчало, но на те деньги, которые он получал за свои статейки о боксе в захудалой спортивной газетке «Соколенок», прожить было нельзя. И все-таки Барни видел, что Флорри сейчас гораздо счастливее, чем в те времена, когда он получал у Джона Уэста большое жалованье.
Барни был озадачен, когда ему сообщили, что его хочет видеть Джон Уэст.
Перед выходом из дому его стали волновать какие-то неясные надежды. Когда он подходил к городу, это смутное волнение стало более определенным — Барни надеялся, что Джон Уэст предложит ему работу. Барни было немного стыдно, но надежды разгорались все сильней, и в конце концов он стал искать для себя оправданий. Ведь он так любит бокс. Работа у Джона Уэста давала ему большое удовлетворение: он выходил на ринг и объявлял спортивные новости, сочинял рекламы, открывал молодые таланты, отстаивал права боксеров перед Джоном Уэстом и Лэмом, проводил раунды в гимнастических залах — и все любили «старину Барни», друга боксеров. Заметки о боксе в «Соколенке» никоим образом не могли заменить прежней работы, а положение боксеров, с тех пор как он ушел от Уэста, стало значительно хуже. Вернувшись на прежнее место, он, Барни, все же смягчал бы худшие проявления деспотизма Джона Уэста. А в городе у Уэста не было даже ни одного конкурента, которому Барни мог бы предложить свои услуги.
Барни был не способен долго таить в себе злобу: что толку снова воскрешать историю с Дарби? Лу Дарби уже отошел в область преданий.
Но как быть с Флорри? Когда Барни рассказал ей об обстоятельствах смерти Дарби, она сказала: «Чего же еще можно ждать от Уэста? Он негодяй до мозга костей, и ты это знаешь». Флорри была ему верным другом в самые тяжкие времена, но она не потерпит, чтобы он вернулся к Джону Уэсту. Барни пожал плечами и усмехнулся — рано еще загадывать. Джон Уэст пока что не предлагал ему работу.
— Ты хотел меня видеть, Джек?
— Да, Барни. Как живешь?
— Неплохо, бывает хуже.
— Не желаешь ли проехаться в Западную Австралию?
— У меня нет денег даже чтобы переправиться через Ярру.
— Расходы я беру на себя. Я хочу, чтобы ты устроил мне там одно дело. Мы ведь с тобой вместе начинали, почему бы тебе не вернуться ко мне? Знаешь что, поезжай в Перт, дело займет у тебя неделю-две, я тебе дам за это пятьдесят фунтов, а когда вернешься, возьму тебя опять на прежнюю работу. Плохо ли? А что было — то прошло, зачем вспоминать старое?
На самом деле Джон Уэст вовсе не собирался брать Барни к себе на службу. Барни держался старомодных взглядов — вечно заступался за боксеров, и Джон Уэст не мог ему простить истории с Дарби. Он обещал ему место только для того, чтобы заставить поехать в Перт.
— Все это хорошо, Джек, но, видишь ли, тут есть загвоздка. Что у тебя за дело в Перте?
Джон Уэст в общих чертах описал ему свой план, подробно объяснив, как надлежит поступать Барни: кого повидать, что делать и чего не делать, кому доверять и кому не доверять.
Барни колебался. Вдруг его осенила блестящая мысль. — Знаешь что, — сказал он, — я поеду на Запад и все сделаю, если мне можно будет взять с собой мою старуху. Только она не должна знать, зачем я туда еду. А насчет остального — потолкуем, когда я вернусь.
— Ну конечно, плутовать, как всегда, придется мне. Ладно уж, только ты думай о деле. Я тебе дам пять тысяч фунтов на… на то, чтобы оказывать влияние. И на всякий случай захвати с собой револьвер. Это народ отчаянный.
* * *
На другой день после примирения Барни с Джоном Уэстом Фрэнк Эштон сидел у себя в кабинете, выходившем окнами на улицу. Небольшой письменный стол и весь пол вокруг него были завалены записными книжками, газетными вырезками и клочками бумаги. Фрэнк Эштон недавно объехал полсвета, собирая материалы.
Вторая кампания против введения всеобщей воинской повинности отняла у Фрэнка Эштона здоровье и деньги. Он самозабвенно отдавался борьбе. Он исколесил всю страну, выступая на митингах, писал памфлеты против воинской повинности, а натолкнувшись на цензуру, стал распространять их нелегальным путем: он рассылал свои памфлеты в самые отдаленные уголки Австралии в ящиках для фруктов, прикрывая их двумя-тремя рядами яблок или груш. На несколько месяцев он забыл и думать о своей несчастной семейной жизни и о растущей толпе нетерпеливых кредиторов. Пить ему было некогда, ездить на скачки, что он прежде делал каждую неделю, — тоже. Он редко виделся с Мартой и детьми, а с Гарриет — еще реже.
Но после второго референдума все неразрешимые проблемы снова обрушились на него с еще большей силой. Денежные дела его были в отчаянном состоянии: он взял взаймы десять фунтов, отправился на скачки в надежде выиграть несколько сотен и проиграл все до последнего пенни.
Марта, не переставая, ныла и устраивала скандал за скандалом, не стесняясь присутствия перепуганных детей. Любовь к Марте давно уже перешла у Фрэнка в жалость. Холодная, практичная и неумная Марта искренне хотела быть ему хорошей подругой, но не понимала, что для этого нужно. Она целиком была поглощена хозяйственными заботами.
Фрэнку Эштону было совестно, что он до сих пор не ушел из парламента. Но куда же ему деваться, если он подаст в отставку? А жалованье и общественное положение члена парламента были ему крайне необходимы.
Русская революция взволновала его и послужила оправданием тому, что он отмахнулся от всех своих затруднений. Он жадно поглощал сообщения о ходе событий и пытался читать между строк ежедневной прессы, усердно искажавшей факты. Ему было ясно одно: русские рабочие свергают иго эксплуататоров. Он уже представлял себе, как рабочий класс всей Европы, точно лев, разбуженный от сна, подымается, чтобы положить конец войне и общественному строю, породившему эту войну.
Однажды, выступая на бурном митинге социалистов, он сказал: — Надеюсь, что мы сумеем добиться свободы для рабочего класса путем просвещения масс, но не надо забывать о том, что история знает много случаев, когда ради освобождения народа необходимо было проливать кровь.
Фрэнк Эштон восхищался Лениным и большевиками и всем говорил, что Австралии нужны такие же вожди. Он сказал об этом даже Марте, но она ответила:
— Если ты не прекратишь эту болтовню, тебя выгонят из парламента. Что тогда будет со мной и детьми?
Он назначил свидание Гарриет. Они встретились за завтраком, и он сказал ей, что едет в Европу, чтобы увидеть все своими глазами. — Вернусь оттуда и расскажу обо всем рабочим Австралии.
Трудность заключалась в том, что у него не было денег, но он занял небольшую сумму и купил самый дешевый билет на пароход, идущий в Америку; оттуда он уж как-нибудь доберется до Европы. Но тут его постиг удар: федеральное правительство отказывало ему в визе на выезд. Он разозлился и пошел прямо к премьер-министру Хьюзу.
Хьюз — маленький, морщинистый, необычайно подвижный — усмехнулся и сказал: — Я сам еду в Англию, Фрэнк. Неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы позволить вам таскаться за мной по пятам и рычать на меня, когда я буду стараться произвести там впечатление? Никуда вы не поедете.
Но Фрэнку Эштону не так-то легко было помешать. Он однажды уже ухитрился объехать весь мир и непременно сделает это опять. Он устроился помощником эконома на торговом судне, которое отправлялось в Америку. — Ты просто хочешь сбежать от меня и детей! Ты уже не вернешься! — всхлипывала Марта.
Фрэнк Эштон пошел к Гарриет. Он сказал об этом Марте и в знак своих честных намерений взял с собой обоих сыновей. Гарриет попрощалась с ним спокойно, но он чувствовал, что она опечалена.
Когда судно вышло в море, Фрэнк Эштон почувствовал огромное облегчение. Всю первую ночь он простоял, перегнувшись через борт, глядя на лунные блики, скользившие по спокойной поверхности воды. Ему всегда казалось, что корабль — это обособленный мирок, движущийся по водам, которые ограждают его от мирской суеты. Сейчас и Австралия, и все его невзгоды отодвинулись куда-то далеко. В море хорошо думать. Жизнь проста. Впереди — свобода!
В кармане у него было шестнадцать фунтов.
B Лондоне Фрэнк Эштон познакомился с Максимом Литвиновым. Ему показалось, что Литвинов с некоторым подозрением отнесся к члену лейбористского правительства, которое «предало рабочих милитаристам». Когда Эштон с восторгом заговорил о русской революции, Литвинов сказал: — Величайшая задача каждой революции — изменение социального строя. Нам еще предстоит выполнить эту задачу. Она требует упорной борьбы и жертв.
Затем Фрэнк Эштон поспешил в Девон навестить мать и сводного брата. Мать заплакала от радости и все повторяла: — Мой мальчик вернулся домой! — Она стала совсем старенькой и сморщенной и вся сияла от гордости за своего старшего сына.
Она вышла замуж в третий раз, и брак оказался довольно счастливым, хотя и она и ее муж были уже очень немолоды. Отчим понравился Фрэнку Эштону. Они часто вместе гуляли по старинным девонским дорогам, а иногда заходили в какой-нибудь старинный трактир и выпивали одну-две пинты пива.
Как-то вечером Эштон с увлечением стал рассказывать своим родственникам о русской революции. Они встретили его слова враждебным молчанием. Это были консервативные провинциальные обыватели, черпавшие свои политические убеждения из лондонской «Таймс». Эштон решил больше не портить настроения ни себе, ни им и не заговаривать о политике. Он даже пошел вместе с матерью в деревенскую церковь, понимая, что ей не терпится похвастаться перед прихожанами своим сыном, сделавшим такую блестящую карьеру.
Вскоре он получил телеграмму от исполняющего обязанности премьер-министра Австралии с предложением присоединиться к группе австралийских журналистов, едущей во Францию с официальной миссией. Таким образом его финансовое положение несколько улучшилось, что было весьма кстати, ибо львиную долю его парламентского жалованья Марта забирала в Мельбурне.
В сентябре 1918 года Фрэнк Эштон уехал во Францию. Он настоял, чтобы его пустили на фронт. Наблюдая сражение у Ленса с безопасного места на горе Вими — дальше его не пустили, — он почувствовал отвращение к этой чудовищной и бессмысленной бойне.
Проштудировав французско-английский словарь, он научился кое-как объясняться по-французски.
Все члены миссии уже вернулись в Австралию, но он задержался в Европе. Многие называли его «длинногривым большевиком», однако люди, сочувствующие русской революции, относились к нему подозрительно из-за его связей с представителями австралийской реакционной прессы.
Везде, где только было можно, Фрэнк Эштон говорил и слушал. Он собирал газетные вырезки и записывал факты, касающиеся Финляндии и новой России, а также предательства большинства лидеров рабочего движения в Европе.
Он не знал ни минуты отдыха, дни проводил словно в чаду, а ночи просиживал в своем номере, записывая все увиденное и услышанное.
Война кончилась, но он с прежним жаром продолжал собирать нужные ему факты. Потом, в феврале 1919 года, в английской прессе появились сообщения о том, что австралийская лейбористская партия назначила Фрэнка Эштона делегатом на конференцию социалистических партий в Берне.
Вместо этого он поехал в Россию.
Ему не удалось добраться ни до Москвы, ни до Петрограда; на юге России он с гневом и возмущением следил за действиями интервентов. Германия, Англия, Австрия, Франция и другие страны, четыре года старавшиеся перегрызть друг другу глотку, теперь объединились против Советской России. Он видел следы террора, предательства и лицемерия, но он видел также, что новорожденная Красная Армия, несомненно, одержит победу. Он собирал документы, портреты Ленина, фотоснимки, запечатлевшие японские и американские войска, сосредоточенные во Владивостоке, а также боевые действия Красной Армии, карты сражений. Потом он поехал в Финляндию, чтобы воочию убедиться в том, что рассказывал ему в Америке финский социалист о маннергеймовском режиме. Он видел, что Маннергейм превращает Финляндию в плацдарм для армий всего мира, выступивших в поход против Страны Советов.
Он с сожалением покинул Россию, вернулся в Париж, оттуда в Лондон — пора было возвращаться в Австралию.
В Лондоне он встретился с Томом Манном.
Манн приехал в Лондон из Кента, где у него была птицеводческая ферма. Манн заметно постарел. Ему еще не было семидесяти, но на Фрэнка Эштона он произвел впечатление человека, исчерпавшего свои силы, не способного ни на какую борьбу. Одежда висела на нем мешком, от прежней уверенной, горделивой осанки не осталось и следа, щеки побледнели и впали, а волосы и усы совсем побелели. Сидя с ним за обедом, Эштон, с воодушевлением размахивая руками и громко крича, заявил о своем сочувствии большевизму. Он рассказал Манну о борьбе против всеобщей воинской повинности в Австралии. Потом они стали вспоминать минувшие дни, когда они вместе выступали на стольких митингах.
Манн тихо сказал: — За это время, Фрэнк, я побывал и в Южной Африке, и в Европе и повсюду агитировал за объединение рабочих, пока ты сидел в парламенте и получал жалованье. Сейчас мы должны бороться за создание коммунистической партии в каждой стране земного шара. Это единственная надежда рабочего класса. Коммунистическое движение охватит весь мир, если нас будет много и мы будем упорно работать.
Эштон заявил, что он готов отдать всю свою душу этому делу, но Манн ничего не ответил. Он слишком хорошо знал своего собеседника. Эштон нравился ему, он ценил его как пропагандиста, но хорошо знал его слабости. Манн понимал, что Эштону не хватает теоретических знаний, терпенья и цельности политического мировоззрения.
— Тебя, должно быть, удивляет, что я занялся разведением кур, Фрэнк? — спросил Манн, меняя тему разговора.
— Удивляло, пока я тебя не увидел, Том.
— Здоровье мое поправилось. Я возвращаюсь в Лондон и снова приму участие в борьбе. Мы живем в революционную эпоху; я не хочу оставаться в стороне. Я хочу помочь созданию английской коммунистической партии.
В честь возвращения Фрэнка Эштона в Мельбурн был дан обед в Доме профсоюзов. Эштон услышал много неискренних похвал новому советскому правительству, встретил много людей, называвших себя коммунистами, но не заметил никаких изменений в политике и тактике лейбористской партии, а это казалось ему существенно необходимым. Лейбористы пели «Красное знамя», но не выражали желания поднять свое знамя в борьбе.
Эштон бросился искать сочувствия у «Индустриальных рабочих мира», но обнаружил, что эта некогда боевая организация сейчас находится при последнем издыхании. Он пошел к социалистам, рассказал им о Томе Манне, о событиях в России; кое в ком он встретил понимание, но большинство плохо разбиралось в том, что происходит.
Все находили, что Эштон вернулся другим человеком — в нем с прежней силой воскрес революционный дух. Даже Марта заметила перемену в муже, но благоразумно молчала, считая, что это пройдет.
Гарриет знала, что он приехал, и ждала его с нетерпением, но он не шел к ней. Разлука разрешила мучивший Эштона конфликт в пользу законной жены; Марта восторжествовала над Гарриет, по крайней мере — на время. Эштон считал, что ему следует подумать о детях и кроме того, разрыв с семьей вызвал бы громкий скандал.
Почти каждый вечер он делал доклады, иллюстрируя их картами и фотографиями. Эштон говорил красноречиво и вдохновенно; он покорял огромные аудитории, увлекая их своей проповедью социализма.
Гарриет не хотела совсем исчезнуть из его жизни. Она часто бывала на митингах, иногда даже разговаривала с ним в присутствии посторонних, и он знал, что связывающее их чувство не умерло. Марта ворчала, что он пропадал больше года и должен по крайней мере хоть сейчас уделять побольше внимания ей и детям.
Младший сын, входя в кабинет отца, чтобы проститься перед сном, иногда задавал ему вопрос: — Что ты пишешь, папа? — Фрэнк Эштон отвечал: — Пишу книгу, чтобы объяснить людям, как плохо устроен этот мир и как необходимо бороться за то, чтобы его переделать. — Мальчик, которому недавно исполнилось одиннадцать лет, спрашивал: — А почему мир плохо устроен, папа? — и Эштону трудно было ответить ребенку на этот вопрос.
Фрэнк Эштон привез с собой в Австралию немного денег, но их не хватило, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. Он был неприятно удивлен, когда Марта сказала, что Джон Уэст дал ей денег для уплаты долгов. Он понял, что Джон Уэст будет считать этот подарок авансом за услуги, которые Эштону еще придется ему оказывать. Эштон высказал свое недовольство Марте, но та заявила, что он должен быть благодарен мистеру Уэсту: теперь над ними уже не висят долги, и она позаботится, чтобы и впредь их не было.
Но сейчас, сидя у себя в кабинете, Фрэнк Эштон вовсе не думал о Джоне Уэсте. Книга его была закончена. Он решил назвать ее «Красная Европа». Теперь он придумывал заключительную фразу — она должна быть революционной и страстной.
Внезапно такая концовка пришла ему на ум, и он схватился за перо.
«Капитализм, трепеща от страха, прислушивается к барабанному бою армий Революции. Звуки барабанов становятся все громче и громче — армии подходят все ближе и ближе».
Он вывел эти слова своим витиеватым почерком, написал внизу страницы «Конец» и закурил сигарету.
Заходящее солнце светило прямо в окно. Фрэнк Эштон, бросив спичку в камин, откинулся на спинку стула, любовно поглаживая рукой толстую рукопись. У входной двери послышался резкий стук молоточка. Эштон машинально поднялся, отпер дверь и, к своему удивлению, увидел на пороге коренастую фигуру Перси Лэмберта, темным силуэтом выделявшуюся на фоне заката. Когда-то «во времена Тома Манна», как называл Эштон те годы, он был довольно близок с Лэмбертом, но с тех пор они не видались, если не считать официальных встреч во время кампаний против воинской повинности.
— Здравствуй, Фрэнк, — сказал звучным голосом Лэмберт. Они тепло пожали друг другу руки.
— Рад тебя видеть, Перси, — сказал Эштон. — Входи же.
Лэмберт прошел в кабинет. Походка у него была несколько вызывающая. Он был без шляпы, в простом, но хорошо сшитом костюме.
— Я слышал два твоих доклада, Фрэнк, — начал Лэмберт. — Это просто здорово. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы разоблачить газетную брехню. Мы должны рассказать рабочим правду о большевиках. Это начало мировой революции.
Эштон показал ему свою объемистую рукопись. — Я пишу книгу на том материале, который я использовал в лекциях; я добавил несколько превосходных фотографий и карт. Сегодня я ее закончил. Хочу назвать книгу «Красная Европа». Я прочту тебе последний абзац, и ты получишь представление о ее содержании. Слушай…
Эштон прочел вслух последние фразы, с гордостью взглянул на Лэмберта, потом смущенно провел рукой по волосам.
— Позиция правильная, — ответил Лэмберт, — но здесь, в Австралии, предстоит еще большая организационная работа. Поэтому я к тебе и пришел. Мы созываем конференцию социалистов и прочих организаций, а также отдельных лиц, с целью образовать в Австралии коммунистическую партию, входящую в Коммунистический Интернационал. Лейбористская партия изменила, социалистические группировки превратились в очаги сектантской пропаганды. Нам необходима новая партия, тесно связанная с международным революционным движением. И такой партии необходим ты, Фрэнк. Можем ли мы рассчитывать, что ты будешь одним из инициаторов создания этой партии?
— Я всегда с вами, ты это знаешь, Перси.
— Очень важно, чтобы ты с самого начала вступил в партию.
— Видишь ли, Перси… это довольно затруднительно, — запинаясь, сказал Эштон. — Ты слишком многого от меня требуешь… Я потеряю место в парламенте… Вообше-то мне на него наплевать, но… — У Эштона нечаянно вырвались слова, которых он вовсе не хотел произносить вслух.
— А кто говорит, что ты не можешь остаться в парламенте, даже будучи коммунистом? Ты — человек с большим влиянием. Кроме того, пока что ты можешь оставаться в лейбористской партии.
— Дело не в том, останусь я в парламенте или нет, Перси. Видишь ли, в Австралии сейчас полное политическое затишье. ИРМ дышит на ладан, а социалисты никак не могут договориться между собой. Лейбористская партия — большая и прочная организация, у нее много сторонников. Мы должны вести работу внутри лейбористской партии, нужно превратить ее в настоящую социалистическую партию. Когда я вернулся в Австралию, мне сначала казалось, что у нас можно создать партию коммунистов, но теперь я уверен, что для наших целей можно использовать лейбористскую партию.
— Что? Ты считаешь возможным покончить с капитализмом под водительством «Хьюза-Крысы» и ему подобных? Лейбористская партия предавала, предает и всегда будет предавать рабочих!
— Да, но может быть и иначе. Я решил это изменить. Сделать так, чтобы целью партии стал социализм. Кто знает, быть может, я даже стану лидером лейбористской партии. Австралия не похожа на Европу. Еще не время создавать здесь коммунистическую партию. Для этого потребовался бы труд нескольких поколений. Это непосильная задача.
— Превратить партию лейбористов в подлинно рабочую партию невозможно.
Фрэнк Эштон испытывал неудержимое желание сказать: — Я вступлю в партию, Перси. — Но мысли о положении и привилегиях члена парламента вытеснили это искреннее чувство. Что будет, если он вместе с Лэмбертом вступит на путь борьбы? Если он потеряет место в парламенте, ему снова придется вести отчаянную борьбу за существование, как в молодые годы. Он подумал, что Гарриет, наверное, одобрила бы такое решение, но тотчас отогнал от себя эту мысль. Все равно — это совершенно бесполезно. Австралийские рабочие еще не созрели. У Лэмберта и его единомышленников нет своего Ленина. Да, конечно, надо отказаться. Другого выхода нет.
Наступило неловкое молчание; затем Лэмберт сказал: — Значит, насколько я понимаю, Фрэнк, ты не веришь в то, чего мы хотим добиться, и поэтому не хочешь участвовать в борьбе.
Эштон понял, что Лэмберт хочет дать ему возможность объяснить свой отказ менее низменными побуждениями. — Пожалуй, я объяснил бы это иначе, Перси. Ты слишком многого от меня требуешь. Ты хочешь от меня такой жертвы, на которую я не способен.
Лэмберт встал. — Знаешь, я даже не осуждаю тебя, Фрэнк. Но я уверен, что в душе ты и сам сознаешь, что лейбористская партия, несмотря на все твои старания, и впредь будет предавать рабочих.
Фрэнк Эштон смотрел в окно вслед Лэмберту, твердым шагом переходящему улицу к трамвайной остановке. Лэмберт казался ему солдатом, который смело идет в атаку, бросив позади струсившего товарища.
Перед домом вдруг остановился автомобиль. Кто мог приехать к нему в такой нарядной новой машине? Эштон узнал человека, сидевшего за рулем, — это был Ренфри. Рядом с ним сидел Джон Уэст.
Эштон не знал, на что решиться. Ему очень не нравился этот визит. Эти люди снова усиленно занимались закулисными махинациями в лейбористской партии. Уэст уплатил его долги вовсе не из доброты сердечной, это было ясно. Эштон медленно пошел открывать дверь.
— А, мистер Уэст, добрый день!
— Как поживаете, мистер Эштон? — любезным тоном сказал Джон Уэст, протягивая руку. — Я узнал, что вы приехали. Можно войти?
— Да. А что же Ренфри?
— О, он может подождать и в машине.
— Как живешь, Фрэнк? — крикнул Ренфри, помахав рукой.
Они вошли в кабинет; Эштон сел у стола, а Джон Уэст — на диван.
Солнце зашло, и в комнате быстро стало темнеть. Фрэнк Эштон зажег электрическую лампу. Джон Уэст сидел, держа шляпу на коленях.
— Ну, как вам жилось в Европе?
— Я узнал там много нового.
— Говорят, вы пишете книгу?
— Да.
— Вы много успели с тех пор, как я вас посадил в парламент.
Фрэнк Эштон промолчал. К чему он клонит? — подумал он, перебирая пальцами свою рукопись.
— Что вас ко мне привело, мистер Уэст?
— Видите ли, — не сразу ответил Джон Уэст, — я желал бы, чтоб вы уступили свое место Рилу. Мне очень хочется, чтобы он прошел в федеральный парламент.
— То есть этого хочется архиепископу Мэлону?
— Я сказал — мне хочется, чтобы он прошел в федеральный парламент.
— Да ведь Мэлон изъездил всю страну вдоль и поперек и всюду твердил, что Рил — единственный честный человек среди австралийских политиков. И все знают, в чем тут дело. Сектантство губит лейбористское движение.
— Возможно, но я хочу, чтобы Рил прошел на выборах. Я хочу, чтобы вы уступили ему место. Конечно, я позабочусь, чтобы вы от этого не пострадали. Я устрою вас в каком-нибудь предприятии, пока вы снова не пройдете в парламент. Я ведь и так уже много для вас сделал. Должно быть, жена вам сказала, что я уладил ваши денежные дела, пока вы были в отъезде.
— Я вас об этом не просил. Меня нельзя купить, мистер Уэст, даже тем, что вы подскажете, на какую лошадь ставить, или заплатите мои долги.
— Будьте же благоразумны. Если хотите, я сразу отвалю вам хороший куш. Это же всего-навсего маневр. Я дам вам пять тысяч фунтов, чтобы вы уступили свое место Рилу. А позже вы опять можете пройти в парламент.
Эштон невольно подумал о том, что можно сделать на пять тысяч фунтов. Можно построить себе дом. Отдать сыновей в лучшие школы. Первый раз в жизни он узнает, что такое материальная обеспеченность. Ему легко будет пройти на следующих выборах в парламент. Марта перестанет хныкать.
Потом Эштон вспомнил о Европе. Подняв глаза, он встретил пристальный взгляд Джона Уэста. Нет, надо сопротивляться этому человеку изо всех сил, ибо он миллионер и враг рабочих.
— Я не подам в отставку даже за пять миллионов. Я противник католического влияния внутри лейбористской партии, а мне кажется, что эта затея инспирирована католиками.
— Вы, кажется, забыли о том, что я для вас сделал, мистер Эштон.
— Я ничего не забыл. Я был против того, чтобы Рил ушел с поста куинслендского премьера и выставил свою кандидатуру в федеральный парламент, потому что, по-моему, он в лидеры не годится, и, разумеется, ради него я не откажусь от своего мандата.
— Рил — гений. Вам следовало бы написать о нем в своей книге. Он боролся против всеобщей воинской повинности и добивался в Куинсленде открытия государственных предприятий.
— Это совсем не то, чего я хочу, Я стремлюсь к социализму.
— То есть к революции, как в России?
— Именно, мистер Уэст. Как в России.
— Здесь ничего такого произойти не может.
— Так или иначе, мистер Уэст, а я не стану подавать в отставку ради Рила. Даже если вы с Мэлоном купите ему место в парламенте, я постараюсь, чтоб он не стал лидером партии.
— Вероятно, вы намерены сами стать лидером?
— Может быть. Рил все равно лидером не будет.
Джон Уэст разозлился. — А я говорю — будет! Вот увидите! Вы, очевидно, забыли, что я вытащил вас из грязи и сделал членом парламента.
Фрэнк Эштон встал и посмотрел прямо в глаза Джону Уэсту. — Вы помогли мне пройти в парламент, мистер Уэст. Но не в ваших силах меня оттуда выгнать. Вот в чем загвоздка. Не в ваших силах!
* * *
Барни и Флорри Робинсон совершали восхитительное путешествие. Флорри первый раз в жизни ехала на пароходе, и все приводило ее в восторг. В заливе Байт и в открытом море стоял полный штиль. Барни и Флорри играли на палубе в теннис, попивали пиво, тихими вечерами пели хором вместе с другими пассажирами, а Барни неизменно декламировал из Генри Лоусона или Банджо Паттерсона. Однажды он спел сочиненную им на популярный мотив песенку о Лу Дарби:
Далеко в Теннесси
Лу Дарби они убили,
Не надеясь победить его.
Они его отравили
В далекой стране Теннесси.
Слушатели были захвачены глубоким волнением, слышавшимся в голосе Барни.
Кормили на пароходе превосходно. Флорри говорила, что уж одно то, что кушанья приготовлены кем-то другим, делает их особенно вкусными. Ее приходилось учить, как держать себя за столом в большом обществе; Флорри уверяла, что вилок, ножей и ложек им дают гораздо больше, чем нужно. К счастью, Барни, опытный путешественник, привыкший обедать в ресторанах, мог подсказать ей, когда какими приборами пользоваться.
Барни не раз думал о том, что за последние годы он разучился ценить Флорри; зато сейчас, взяв ее с собой в Перт, он снова стал понимать, что она значила в его жизни. Она всегда хотела иметь детей, а он — нет; что ж, быть может, еще не поздно… Она рассердится, если узнает, что они путешествуют на счет Уэста. Удивительно, как это она ничего не заподозрила, когда он сказал, что путешествие оплачивает «Соколенок», — ведь редакция, посылая его по субботам на стадион, не могла даже оплатить ему проезд на трамвае. Но пусть Флорри сейчас наслаждается отдыхом; огорчения от нее не уйдут.
Им казалось, что никогда они не были так счастливы. Они как будто снова переживали медовый месяц. Барни считал, что в их возрасте следовало бы вести себя благоразумнее — ведь ему уже было за пятьдесят, да и Флорри была старше, чем считала нужным признавать, — но они наслаждались безмятежным счастьем, и только когда пароход уже приближался к Перту, Флорри заметила, что Барни стал молчалив и озабочен.
— Флорри!
— Что, Барни?
— Как ты будешь жить, если со мной в Перте что-нибудь случится?
— С тобой ничего не может случиться.
— Я тоже так думаю, ну, а вдруг?
— Ну, тогда я через неделю выйду замуж за какого-нибудь богача. Быть может, даже за миллионера.
— А что, Флорри, под мой страховой полис уже все взято?
— Да, я ничего не смогу по нему получить.
— Значит, я оставлю тебе только пачку банкнот.
Она сжала ему руку в темноте. — С тобой ничего не случится, Барни. Ты проживешь, бог даст, до ста лет. Но я хотела бы знать, зачем мы туда едем?
Барни крепко стиснул ее руку. — Чувствую, что эта поездка добром не кончится. Я еду по поручению Джона Уэста. Я знаю, что не должен был тебя обманывать. Зря я вернулся к Джону Уэсту. Но, понимаешь, ведь я не могу без бокса. Уэст говорит, если я выполню его поручение, он даст мне прежнюю работу.
— Ты ведь знаешь мое мнение, Барни. Зачем ты мне лгал? — Флорри была неприятно удивлена и рассержена, но, почувствовав, что Барни и без того тяжело, решила не затевать ссоры.
— Он посоветовал мне взять с собой револьвер — видно, думает, что он мне пригодится.
Стараясь, чтобы голос ее звучал как можно беззаботнее, Флорри сказала: — Надеюсь, Барни Робинсон не трусит?
— Знаешь, я вдруг струсил. У меня предчувствие, будто что-то должно случиться. Давай вернемся в Мельбурн со следующим поездом, и я скажу Уэсту, что передумал.
— По-моему, так будет лучше, Барни. После всего, что наделал Уэст, не стоит с ним связываться.
Пароход подходил к пристани; Барни и Флорри, собрав свой скудный багаж, присоединились к толпе пассажиров, готовившихся сойти на берег, и вскоре, рука об руку, тесно прижимаясь друг к другу, спустились по сходням. Барни в полосатых брюках, длинном черном пиджаке, с котелком на голове, выглядел весьма элегантно, а Флорри в своем лучшем платье и в большой шляпе с перьями и искусственными фруктами была тоже очень недурна.
Когда они выбрались из шумной, оживленной толпы пассажиров и встречающих, Барни сказал: — Давай возьмем такси.
Они пошли к стоянке. Вдруг Флорри заметила, что из темноты вынырнул какой-то человек и пошел к ним навстречу. Он приблизился так быстро, что Флорри ничего не успела сказать. Человек остановился шагах в пяти от Барни, и Флорри услышала револьверный выстрел, резко щелкнувший в ночной тишине, потом второй, третий. Она почувствовала, как Барни вздрогнул, весь как-то осел и стал медленно опускаться на землю. Изо рта его текла кровь.
Где-то рядом закричала женщина; один из шоферов такси воскликнул: — Господи боже, кого-то убили!
Человек, стрелявший из револьвера, исчез в темноте; вместе с ним скрылся еще один. Флорри бросилась на колени возле Барни, шепча сквозь слезы: — О Барни, Барни! Что они с тобой сделали?
В полумраке его лицо казалось белым, как мел. Рубашка быстро намокла от крови. В горле его что-то клокотало. — Флорри, деньги! — торопливо заговорил он. — Деньги! Мне — конец. Деньги! Деньги Уэста! Возьми их.
Вокруг них начала собираться толпа, но, видимо, никто не знал, что делать. Все стояли и, как загипнотизированные, смотрели на распростертого на земле мужчину и женщину, стоявшую возле него на коленях.
— Барни, дорогой, все будет хорошо, — шептала Флорри, склоняясь над ним и пачкая кровью свое лицо и платье. Она вдруг подняла голову и закричала: — Что же вы стоите? Доктора! Доктора!
Барни, казалось, впал в беспамятство, но, сделав над собой усилие, заговорил снова: — Нет, мне — конец. Деньги, Флорри! Бери деньги и уезжай! Держись подальше от Уэста. Уезжай. Прости меня, Флорри. Я люблю тебя, Флорри, старушка моя… — Собрав последние силы, Барни приподнялся на локте и сунул руку во внутренний карман, но тотчас же снова упал. — Деньги, Флорри, — сказал он. — В этом кармане. Пять тысяч фунтов. Возьми их и уезжай. Только не туда, где Уэст. — Голова его откинулась на бок. Флорри пощупала его пульс и поняла, что муж ее умер. По лицу ее заструились слезы. — Барни, милый, — повторяла она, — дорогой мой Барни…
Почти не сознавая, что она делает, Флорри, пачкая пальцы в крови, стала расстегивать пиджак Барни; люди толпились вокруг, подталкивая друг друга, и, разинув рот, следили за ней. Флорри нащупала бумажник. Он пропитался кровью и вместе со своим содержимым вдавился в тело Барни возле сердца. Флорри отняла руку.
Всхлипывая, она сняла свое забрызганное кровью пальто, свернула и подложила Барни под голову; сквозь толпу протиснулся представительный мужчина с маленьким черным чемоданчиком в руках и, подойдя к Барни, опустился на колени.
— Мертв, — объявил он.
Флорри стояла, как окаменевшая, и все глядела на землистое, залитое кровью лицо Барни. Потом, словно приняв внезапное решение, она пробилась сквозь толпу и исчезла в темноте. В мозгу у нее стучала настойчивая мысль: сделать то, чего не сумел Барни; в ушах звенели его слава: «Держись подальше от Уэста».
* * *
Прошло три месяца с тех пор, как был убит Барни Робинсон, и его фотография появилась на стене кабинета Уэста рядом с фотографиями жокеев и боксеров. Джон Уэст узнал об убийстве из коротенькой заметки в мельбурнской газете: пассажир по имени Джексон, прибывший на таком-то пароходе, убит на пристани, и некоторые обстоятельства убийства вызывают недоумение сыскной полиции. Есть подозрение, что убитый путешествовал под чужим именем. Его спутница, — по-видимому, его жена — скрылась неизвестно куда.
Джон Уэст нисколько не чувствовал себя виноватым, и угрызения совести его не терзали. Убийство Барни вызвало у него сложную реакцию, не имевшую, однако, ничего общего с душевными переживаниями. Он раздумывал, следует ли послать в Перт Тэннера, чтобы отомстить за Барни, или благоразумнее будет замять это дело? И надо ли вообще посылать кого-нибудь в Перт ради попытки провалить законопроект? После совещания с неизменным Фрэнком Лэмменсом Джон Уэст быстро пришел к определенному решению. Настало время немного отступить; Джон Уэст уже научился тому, что иногда нужно понести поражение в единичной схватке, чтобы выиграть битву за власть.
Через Фрэнка Лэмменса удалось договориться с высшими чинами мельбурнской полиции; мельбурнские сыщики ничем не сумели помочь пертским сыщикам, и убийц так и не нашли.
Джон Уэст решил не вмешиваться в ход событий, происходивших в Перте, и предоставил им идти своим чередом. Законопроект был утвержден; Джон Уэст один из ипподромов продал, а другой сдал в аренду на самых выгодных условиях.
Он ждал, что к нему явится Флорри, расскажет ему подробности о смерти мужа и, быть может, вернет пять тысяч фунтов. Он не доверял женщинам и знал, как сильно Флорри любила Барни. Надо было разыскать ее и заставить молчать. Она все не приходила, и Уэст послал к ней Лэмменса, но ему сказали, что мистер и миссис Робинсон уехали отдыхать неизвестно куда.
— Конечно, она прибрала к рукам мои пять тысяч, так я и думал. Во всяком случае, теперь она хоть болтать не станет, — сказал Джон Уэст Лэмменсу.
Когда кто-нибудь спрашивал о Барни, Джон Уэст оборачивался к висевшей на стене фотографии и говорил; — Кто бы мог подумать, что у нашего Барни такое больное сердце, а? Умер скоропостижно в Южной Австралии. Хороший был парень, умный и образованный.
Уэст был несколько расстроен тем, что пришлось отказаться от своих планов относительно Перта, но его отвлекли другие дела, требующие внимания, — дела коммерческие и политические. Выборы в федеральный парламент принесли лейбористам поражение, но для Джона Уэста это явилось крупной победой, ибо в предвыборную камланию его влияние в лейбористской партии сильно возросло. Он купил Рилу место в парламенте от Нового Южного Уэлса, и Рил легко прошел на выборах.
Во время предвыборной кампании пресса не упускала случая обвинить лейбористов в том, что они связались с известным сторонником шинфейнеров, архиепископом Мэлоном. Официальный орган Протестантской федерации призывал избирателей голосовать за «протестантство и лояльность», чтобы не отдать страну в руки иезуитов. Сектантские разногласия разъедали лейбористскую партию; это главным образом и явилось причиной ее провала на выборах.
Джон Уэст пристально следил за раздорами в лейбористской партии. Морис Блекуэлл писал в «Голосе труда», что из этого поражения лейбористская партия должна извлечь для себя урок и строго придерживаться принципа веротерпимости. Архиепископ Мэлон пришел в ярость. Он выступил на многолюдном собрании, гневно обвиняя Блекуэлла и некоторых лейбористов в том, что они не понимают, какую огромную пользу приносит лейбористской партии поддержка католиков. Он грозил лишить лейбористов этой поддержки, если они не включат в свою программу требование субсидий католическим школам.
Джон Уэст очень ловко использовал имевшиеся у него козыри. Католическая федерация заполняла своими людьми все лейбористские организации. Заключив союз с архиепископом Мэлоном, Джон Уэст обеспечил себе их поддержку. Теперь задача состояла в том, чтобы избирательную машину, созданную им до войны, слить с этой новой машиной и превратить в одно целое.
Джон Уэст всегда приспособлял свои политические взгляды к своим личным интересам и планам. Делал он это бессознательно: просто мысль его так работала. Он затевал какую-нибудь кампанию или пускался в рискованное предприятие исключительно из личных побуждений, а потом провозглашал те принципы, которые должны были оправдать его действия.
Вскоре Джон Уэст убедил и себя и других, что он рьяный шинфейнер, что независимость Ирландии и субсидии католическим школам для него важнее всего на свете. Нередко можно было слышать, как он неумело насвистывает «Зеленое знамя». Он вспомнил, как когда-то мать говорила ему, что она потомок ирландских королей и что доказательством тому служит герб ее семьи. В свое время Джон Уэст относился к этим рассказам скептически, но сейчас они стали для него святой правдой. Кое-кому он начал рассказывать, что предками его были ирландские короли и что на его семейном гербе изображены кривая сабля и лев, стоящий на задних лапах, а над ним — девиз: «Уэст — к победе».
В 1920 году, когда архиепископ Мэлон обратился к Джону Уэсту за финансовой помощью, чтобы оплатить огромные расходы по устройству процессии в день святого Патрика, приходившийся на конец марта, Джон Уэст выписал ему чек на солидную сумму и сказал, что не только охотно окажет любую материальную помощь, но и самолично примет участие в устройстве процессии.
Тем временем в спортивных кругах назревало нечто вроде бунта против власти частных владельцев ипподромов и стадионов. На случай если правительство штата Виктория введет такой же закон, как и в Западной Австралии, Джон Уэст решил уберечь от опасности свои скаковые клубы.
И тут он снова отправился в мебельный магазин Леви.
Сидя за столом напротив Леви-младшего, Джон Уэст заметил, что Леви с каждым днем становится все больше похож на своего покойного отца. Он как-то весь съежился и походил скорее на прожорливую хищную птицу, чем на человеческое существо.
Джон Уэст был антисемитом и убеждал себя, что Леви — типичный представитель еврейского народа.
Уэст объяснил Леви цель своего визита. Начавшееся в Западной Австралии движение против частного владения спортивными клубами, вероятно, перекинется и в другие штаты, и к этому надо быть готовым.
— И что же вы предлагаете, мистер Уэст?
— Я предлагаю создать общественный клуб, который ведал бы всеми бегами и состязаниями пони в штате Виктория, а также, если окажется возможным, получить разрешение устраивать скачки.
— Как? Лишиться всех доходов?
— Не будьте дурачком, — ответил Джон Уэст. — Мы создадим клуб, который по виду будет общественным, и попросим правительство назначить директора. Мы с вами сдадим новому клубу свои ипподромы на таких условиях, что все доходы фактически останутся в наших руках. Я пришел посоветоваться с вами, так как вы должны назвать кандидатов в члены этого клуба. Само собой разумеется, учитывая, что бóльшая часть акций предприятий принадлежит мне и я сделаю всю работу сам, я имею право представить больше кандидатур, чем другие.
— Очень умно придумано. Очень умно. Но мне кажется, что к нам отнесутся с некоторым подозрением, мистер Уэст.
— А мы с вами вовсе не будем фигурировать в этом обществе. Правительство назначит директором Беннета, человека опытного, сведущего в конном спорте, к тому же он — член верхней палаты.
— И ваш друг.
— И мой друг, потому что он знает, что я навел порядок в скачках и бегах.
— Отлично, мистер Уэст. Я подберу двух-трех чиновников, которые работали на меня в прежние времена, потом кое-кого из моих управляющих, ну и еще кого-нибудь в этом роде. А вы тем временем действуйте. Кто же будет инициатором этой… гм… общественной организации?
— Годфри Дуайр. Бывший начальник службы комплектования штата Виктория, ныне — председатель Общества ветеранов войны.
— Отлично. Участник войны — это очень респектабельно. А скажите, мистер Уэст, вы, должно быть, и сейчас через подставных лиц держите немало скаковых лошадей, владеете половиной букмекерских контор, выпускаете спортивные бюллетени, держите закусочные и бары на ипподромах и прочие заведения?
— Само собой.
Леви пристально разглядывал Джона Уэста. Конечно, католикам вообще, а ирландцам в особенности доверять нельзя, это ясно. Слов нет, под контролем Джона Уэста конный спорт процветает, но недаром ходят слухи о жульнических махинациях. Один владелец скаковых пони говорил Леви, что рост пони, наверное, измеряют во время обедни, иначе чем объяснить, что некий католик постоянно пускает на скачках своих пони-переростков? Рассказывали ему и о том, как подменяют лошадей и как их «замораживают» букмекеры.
Леви был убежденным антикатоликом; он охотно верил всем этим слухам, ибо они служили доказательством врожденной нечестивости, свойственной всем католикам и особенно ирландцам.
Джон Уэст и Леви презирали друг друга, однако их связывало общее стремление к власти и богатству.
— Я часто думаю, мистер Уэст, — сказал Леви, — что вам совершенно незачем возиться со скачками и бегами. Не проще ли было бы вам приказать вашей банде, чтобы они проламывали головы людям и грабили их?
Джон Уэст разозлился, но решил не затевать ссоры. — Кто бы говорил! Вы сами всю жизнь грабили людей. С тех пор как дело перешло от вас в мои руки, я навел порядок на скачках. Все говорят, что порядку теперь больше. Ставки выше, публики гораздо больше, а коневодство шагнуло вперед.
— Судя по тому, что я слышал, там еще долго надо наводить порядок, мистер Уэст.
— Знаю, что не все еще ладно. Но Дуайр как раз такой человек, который может навести полный порядок. Я буду настаивать, чтобы он нанял специального человека для проверки регистрации лошадей и разрешений на перевозку из штата в штат. Скачки уж предоставьте мне, мистер Леви, а сами занимайтесь своей мебелью.
На следующее утро Годфри Дуайру, к немалому его удивлению, позвонил по телефону Фрэнк Лэмменс. Мистер Джон Уэст хочет предложить вам одно дело, которое вас заинтересует, — сказал он. — Можете вы быть у него в два часа?
Дуайр был высокого роста, держался прямо, двигался быстро и энергично. Уволенный из армии в запас, он носил штатское платье, но пиджак сидел на нем как военный мундир, а шагал он так, словно маршировал в строю. Положив телефонную трубку, он аккуратно надел шляпу и, сунув под мышку трость, словно это был офицерский стек, сказал секретарше, что сегодня уже не вернется.
— Хорошо, капитан Дуайр, — ответила девушка.
При слове «капитан» Дуайр самодовольно усмехнулся. Армия сделала его человеком. До войны он жил в захолустном провинциальном городке и служил у аукциониста. За работу он получал гроши, и ему до смерти надоело мести пол, отправлять почту, прислуживать на аукционах и показывать кур или гонять по кругу корову, пока его хозяин взывал: «Кто больше?»
Войну он встретил радостно, как пришествие второго мессии: наконец-то он избавится от нудной работы, от кур и коров. Дуайр долго упрашивал родителей отпустить его; наконец они с большой неохотой согласились, и он стал первым новобранцем от своего родного городка, вступившим в имперские австралийские войска. Очень скоро его перебросили в Галлиполи, и едва он успел высадиться на берег, как его ранило шрапнелью в ногу. Пока он поправлялся в госпитале, его произвели в лейтенанты, а по возвращении в Австралию дали чин капитана и назначили начальником службы комплектования штата Виктория. Можно ли было найти более подходящего человека для такого дела, чем один из первых раненых в Галлиполи ветеранов?
Дуайр познакомился с Джоном Уэстом в 1915 году: они вместе выступали на митингах. Тогда он на Джона Уэста смотрел сверху вниз: какой это солдат — он даже не нюхал пороху. Но сейчас — другое дело. Годфри Дуайра отнюдь не удовлетворяло его материальное положение. Должность председателя Общества ветеранов войны была почетной, но оплачивалась плохо. Если Уэст предложит ему хорошее место, он согласится.
Джон Уэст встретил гостя приветливо, однако Дуайра немного смущало присутствие молчаливого Фрэнка Лэмменса, с которым его даже не познакомили. Джон Уэст в общих чертах рассказал Дуайру о его будущих обязанностях; все это ему понравилось. На посту секретаря общественного конноспортивного клуба он сумеет по-военному поставить дело. Очевидно, ему предстоит вести с правительством переговоры о создании нового клуба. В этой области существуют злоупотребления, которые он должен будет искоренить. Он должен помнить, что лучше подвергать виновных штрафу, чем совсем отстранять их от дела, тем более что штрафы — великолепный способ увеличить доходы клуба. Жалованье его будет составлять семьсот фунтов в год, причем он может оставаться на прежней работе; более того, мистер Уэст даже настаивает, чтобы он не уходил оттуда.
— Я буду очень рад, если вы согласитесь, мистер Дуайр, — заключил Джон Уэст. — Мы будем бесплатно пропускать демобилизованных на все бега и скачки и дадим объявление, что на места привратников, барменов и так далее мы будем нанимать только бывших солдат. Мы должны всемерно помогать солдатам, спасшим нашу родину.
«Да, — подумал Годфри Дуайр, — а мы должны делать все, что в наших силах, особенно для Джона Уэста». Дуайр ушел с твердой решимостью выполнять любое высказанное и невысказанное желание этого маленького кривоногого человечка. Он будет служить Уэсту так, как он служил королю — усердно и беспрекословно.
* * *
— Пожалуйте, доктор Дженнер, — сказал Тед Тэргуд. — Гм-гм… Я хотел поговорить о вашем неблагоприятном докладе по поводу ходатайства Рэнда насчет субсидии в десять тысяч фунтов для освоения рудников «Леди Джоан» и «Джилоуэлл». Вот уже несколько недель, как я занял пост премьер-министра, но только сейчас нашел время заняться этим.
Доктор Дженнер, в белом костюме, со шляпой в руках, сел напротив Тэргуда. Дело происходило в кабинете премьер-министра, в здании парламента штата Куинсленд.
На Тэргуде был безукоризненно элегантный серый костюм; его рыжие волосы были подстрижены и аккуратно зачесаны назад, а лицо чисто выбрито.
Совсем не похож на легендарный образ «Красного Теда Тэргуда с Севера», подумал про себя доктор Дженнер. «Красный Тед может мертвого рассмешить», — сказал как-то Дженнеру один бывалый человек, но сейчас, как ни присматривался Дженнер, он не нашел и следов юмора ни в холодных, близко посаженных глазах Тэргуда, ни в складке толстогубого, чувственного и жестокого рта.
— Премьер Рил до своей отставки успел ознакомиться с докладом, — спокойно ответил Дженнер. — Мне казалось, что он вполне со мной согласен.
— Ну, знаете, доктор, новая метла всегда чище метет, — вкрадчивым тоном заметил Тэргуд, взяв с полированного стола объемистый, напечатанный на машинке доклад. — Однако политика лейбористской партии, разумеется, остается неизменной в общем. Видите ли, Рил сказал мне, что не успел как следует ознакомиться с докладом.
— Когда я с ним беседовал, он знал его содержание и соглашался с указанными в нем выводами.
— Так вот, доктор, я хочу поздравить вас с отлично составленным докладом и с правильной оценкой огромного значения залежей руды в Чиррабу. Я прекрасно знаю этот район, доктор. Я прожил там много лет и, кроме того, — это мой избирательный округ.
Дженнер насторожился. Эти два рудника особенно интересовали Тэргуда, и Дженнер предвидел, что с помощью уговоров и угроз тот будет стараться заставить его взять доклад обратно.
— Благодарю вас, — сказал доктор Дженнер, не чувствуя от этой похвалы ни радости, ни гордости. — Мне известно, что вы хорошо осведомлены о районе Чиррабу, мистер Тэргуд.
Тэргуд бросил на него пронзительный взгляд, стараясь угадать, что кроется за этими словами. — Откровенно говоря, доктор, я за то, чтобы дать Рэнду субсидию, которую он просит.
— Не сомневаюсь, что вы этого хотите, но я — против. Я твердо убежден, что для субсидии нет никаких оснований. Выдача Рэнду первой субсидии в три тысячи фунтов совершенно ничем не оправдана, не говоря уж о том, что он получил даром два рудника да еще в придачу на восемь тысяч руды, которая находилась в то время в бункерах. Рудники «Леди Джоан» и «Джилоуэлл» имеют большое значение для государственных заводов, и государство должно взять их себе за те деньги, которые должен Рэнд. Я в этом убежден, да! Но все это есть в моем докладе.
— Ценю вашу искренность, доктор Дженнер. Однако справится ли наше правительство, если мы будем взваливать на него такое количество государственных предприятий?
— Но ведь партия, к которой принадлежим мы с вами, ставит себе целью положить конец капиталистической эксплуатации, не так ли?
— Да, конечно. Но прежде чем бегать, надо научиться ползать. Правительство чрезвычайно ценит вас, доктор. Мы довольны вашей работой. Я позабочусь, чтобы вам дали повышение и увеличили жалованье. Я устрою так, что вы пройдете в парламент. Нам здесь нужны такие люди, как вы, но все-таки я бы желал, чтобы вы взяли свой доклад обратно.
Доктор Дженнер вздрогнул, словно от неожиданного удара. Его снова пытаются подкупить, и опять так же неуклюже, как и Рэнд, год назад пытавшийся в Чиррабу сунуть ему взятку. — Значит, все, что вы можете предложить, — это повышение по службе и прибавка жалованья? Ну, знаете, Рэнд был более щедрым, да. Он обещал мне четвертую часть доходов вашего маленького синдиката, если я представлю благоприятное заключение.
Тэргуд побледнел. — Моего синдиката? Что вы хотите сказать? Эти рудники арендует Рэнд. Я к ним не имею никакого отношения.
Дженнер встал. — Ни к чему продолжать этот разговор, — сказал он, поглаживая поля шляпы. — Я решительно против выдачи субсидии. Причины я объяснил в докладе.
Тэргуд сбросил с себя маску. Он встал и поглядел Дженнеру прямо в глаза. — Я премьер этого штата, и как я скажу, так и будет, — крикнул он. — А я говорю, что Рэнд должен получить субсидию. Приказываю вам взять доклад обратно.
— Не пытайтесь меня запугать. Доклада я не возьму.
Тэргуд побагровел. — Вы возьмете его обратно или вылетите из министерства горной промышленности!
— Ничто не заставит меня отказаться от доклада. Я не вижу оснований пересматривать свои выводы, вполне соответствующие политике лейбористской партии.
— Что вы понимаете в политике? Политику лейбористской партии определяю я! — Тэргуд ударил себя кулаком в грудь. — Я, Тед Тэргуд!
— Возможно, но вам не удастся дать Рэнду субсидию.
— Неужели вы думаете, что ваш дурацкий доклад может мне помешать?
— Нет, но казначей штата не даст разрешения.
— Ну, вы, конечно, знаете, как поступит казначей!
— Да, знаю. Он мне сказал, что, пока он занимает свой пост, Рэнд не полу гит субсидии.
— Значит, вы за моей спиной настраиваете против меня членов моего кабинета?
— Я говорил с казначеем еще до того, как вы стали премьером. Мы с ним друзья и состоим в одной партии. Мой доклад передали ему на рассмотрение. В том, что я с ним беседовал, нет ничего незаконного.
Тэргуд вышел из-за стола. У доктора Дженнера мелькнула мысль, что Тэргуд сейчас бросится на него, но тот только открыл дверь. — Слушайте, Дженнер, — понизив голос, сказал он угрожающим тоном, — запомните мои слова: Рэнд получит субсидию. Если вы не откажетесь от своего заключения, то лишитесь места. А теперь — убирайтесь!
Дженнер надел шляпу и направился к двери, но Тэргуд заступил ему дорогу. — И советую вам не распускать про меня клевету. Я не имею никакого отношения к этим рудникам, слышите?
Доктор быстро прошел мимо него. — Я не сплетник, но когда я соберу достоверные факты, мне ничто не помешает говорить о них там, где следует и когда следует.
После ухода Дженнера Тэд Тэргуд несколько минут шагал взад и вперед по комнате, ударяя кулаком по ладони, потом подошел к внутреннему телефону.
— Позовите, пожалуйста, мистера Мак-Коркелла. Это ты, Билл? Слушай, у меня только что был Дженнер. Он не хочет нам помочь… и знаешь, Рэнд, как всегда, треплет своим длинным языком. Зайди-ка сейчас ко мне.
* * *
Джон Уэст сдержал свое обещание и помог устроить процессию в день святого Патрика. Он не пожалел ни времени, ни денег. Вскоре архиепископ Мэлон убедился, что Джон Уэст обладает недюжинным организаторским талантом и несомненной склонностью к интригам.
Однажды утром архиепископ медленно опускался с холма по направлению к Джексон-стрит, думая о предстоящей процессии. Чем меньше времени оставалось до дня святого Патрика, тем больше ему приходилось сталкиваться с враждебностью, такой же ожесточенной, какая окружала его во время войны. Протестантская федерация и в газетах, и с церковных кафедр кричала об «иезуитском заговоре» и требовала, чтобы «чудовище из Мэйнута» было немедленно выслано или брошено в тюрьму, а процессия запрещена как явно нелояльная.
Мэлон отвечал на это логическими доводами и уничтожающим презрением. Не обращая внимания на истерические вопли протестантов и даже на то, что многие влиятельные католики отходили от церкви, он организовал огромное массовое движение. Он не упускал случая высказаться но ирландскому вопросу и увлекал за собою церковь и ее прессу. Под его влиянием церковь все еще с большой терпимостью относилась к русской революции. Католические газеты старались внушить своим читателям, что они защищают большевиков, и намекали на то, что теперь Ватикану, быть может, удастся ввести в России католическую веру, которую жестоко преследовал царь, поддерживающий греко-православных отступников.
— Доброе утро, ваше преосвященство. — Голос Джона Уэста прервал размышления Мэлона.
— Доброе утро, мистер Уэст. В такое прекрасное утро хорошо жить на белом свете.
Они медленно пошли по мосту через Ярру.
— Я придумал, как сделать, чтобы лорд-мэр и полиция не пытались помешать процессии, — сказал Джон Уэст. — Давайте соберем по всей Австралии ветеранов войны, награжденных Крестом Виктории, и пусть они возглавляют процессию на боевых конях в качестве вашей почетной охраны.
— Но во имя господа бога и его пресвятой матери, скажите, как это можно осуществить?
— Очень просто. Я напишу им всем письма, предложу оплатить расходы, да еще дать каждому по пятьдесят фунтов. Многие из них нуждаются в деньгах.
— Если это удастся, нам, конечно, не откажут в разрешении. Славная мысль, ничего не скажешь! Тогда трусы из Протестантской федерации и всякие масоны уже не посмеют и заикнуться о нелояльности и перестанут требовать запрещения процессии.
— Да, ваше преосвященство, а если даже ее и запретят, то мы можем не подчиниться. Полиция не посмеет вмешаться. Толпа будет на стороне награжденных ветеранов.
— Конечно, не хотелось бы никаких уличных столкновений, но если эти ветераны, или хотя бы некоторые из них, согласятся идти с нами, то процессия будет вполне легальной.
— Я напишу всем награжденным, какие только есть в Австралии. Как вам известно, Дуайр, председатель Общества ветеранов войны, работает у меня. Я достану у него описок награжденных Крестом Виктории. Сегодня разошлю письма и попрошу всех ответить с обратной почтой. А потом мы снова обратимся к лорд-мэру.
Они прошли мимо дома, где когда-то помещалась чайная лавка Каммина. Теперь здесь была мастерская гробовщика. Иезуиты позаботились о том, чтобы прошлое Джона Уэста не осталось для архиепископа тайной. Дружба этих двух людей не доставляла им никакого удовольствия.
— Кажется, где-то здесь находился ваш… как это называется — тотализатор, не правда ли?
Интересно, много ли он обо мне знает, подумал Джон Уэст. — М-м… да, где-то здесь, — ответил он.
Архиепископ лукаво усмехнулся. — Жаль, что вы теперь не держите тотализатора, — вы могли бы привлечь для его охраны всех награжденных Крестом Виктории.
Джон Уэст бросил на него острый взгляд, но ничего не ответил.
Результат писем, разосланных Уэстом ветеранам, награжденным Крестом Виктории, оказался более чем удовлетворительным: двенадцать человек согласились участвовать в процессии.
Тогда Джон Уэст устроил собрание бывших солдат-католиков и пригласил на него и некатоликов. Архиепископ Мэлон, выступивший с речью, выразил свою радость по поводу того, что австралийские воины готовы помочь делу освобождения Ирландии. Джон Уэст обратился ко всем присутствующим с просьбой принять участие в процессии и уговорить своих друзей сделать то же самое. Это будет достойным ответом на выпады тех, кто утверждает, будто католики нелояльны. Он, Уэст, гордится тем, что он католик и отпрыск ирландских королей. Услышав, что в жилах Уэста течет королевская кровь, присутствующие разразились приветственными криками. Собрание закончилось в атмосфере дружбы и энтузиазма.
Мельбурнскому лорд-мэру и муниципальным советникам пришлось перейти от наступления к обороне и в конце концов дать разрешение на процессию.
Дэниел Мэлон был чрезвычайно доволен.
Джон Уэст превзошел всех католиков в своем восхищении Мэлоном, «великим ирландским патриотом и великим гражданином Австралии». Сам круглый невежда, Джон Уэст восхищался образованностью других. Одному из лечивших его врачей, сыну покойного Девлина, он преподносил в подарок акции разных предприятий. В глубине души он уважал Фрэнка Эштона больше, чем кого-либо из знакомых ему политических деятелей. «Это я выдвинул Эштона в парламент», — часто говорил он с гордостью. Его очень огорчила смерть Дэвида Гарсайда, умершего незадолго до войны. Для него Гарсайд был не «крючок», обманывающий правосудие, а человек умный, знающий, блестящий оратор. Но никто еще не внушал Джону Уэсту такого уважения, как архиепископ Мэлон. В его представлении этот просвещенный ирландец, с его лукавым юмором, ученостью и знанием богословия, был наделен почти сверхчеловеческими качествами.
Когда Мэлон сообщил ему, что получил указание сейчас же после дня святого Патрика отправиться в Рим, Джон Уэст решил чем-нибудь доказать ему свое глубочайшее уважение. Прежде всего, конечно, ему пришла в голову мысль о деньгах. Он проведет подписку и после процессии, на митинге, который должен состояться в здании Выставки, вручит архиепископу крупный денежный подарок.
Однажды вечером, как раз когда Джон Уэст обдумывал этот план, к нему явился Ренфри, чтобы обсудить с ним, какую политику проводить в лейбористской партии в связи с предстоящими выборами в парламент штата Виктория. Ренфри и сейчас занимался тем, что охранял интересы Джона Уэста в лейбористских организациях Керрингбуша и других пригородов. Мало кто относился к нему с симпатией, но, как представитель всемогущего Джона Уэста, он обладал большим влиянием. В последние годы Джон Уэст полагался больше на Боба Скотта и других, чем на Ренфри, ибо Ренфри не хватало сметки.
Ренфри мало изменился за эти годы, разве только растолстел и стал косить еще сильнее. Он был похож на пестро разодетую куклу. У него было двое взрослых сыновей, но жена его, Агата, так и не стала умнее: на своей улице она была известна под кличкой «Все вижу, все знаю», ибо, как про нее говорили, другой такой сплетницы и скандалистки еще свет не видел.
— Я хочу устроить сбор, чтобы преподнести архиепископу Мэлону прощальный подарок, — сказал Джон Уэст Ренфри. — Я созову для этого митинг и приглашу нескольких богатых католиков. Я первый внесу пять тысяч фунтов, а ты дай тысячу, если у тебя есть.
— Брось, Джек. На митинг я, конечно, приду. Мы с Арти кое-чем помогаем нашей местной церкви, но тысячи фунтов у меня нет. Даже тысячи шиллингов не найдется.
— Куда же ты деваешь свои деньги? На скачках просаживаешь? Либо букмекерство, либо игра — пора бы тебе это знать, Ренфри. Ну, ладно, я тебе подарю тысячу фунтов, а ты ее пожертвуешь Мэлону. Это поддержит наш престиж в лейбористской партии.
Дэниел Мэлон сидел в своем со вкусом обставленном кабинете и ломал голову над вопросом — зачем его вызывают в Рим? Что это могло означать? Может быть, его деятельность идет вразрез с политикой Ватикана? Что мог наговорить папе и коллегии кардиналов тот иезуит, который недавно поехал в Рим?
Во всяком случае, отступать сейчас не приходится — по крайней мере пока он не побывает в Риме.
Мысли Мэлона обратились ко вчерашнему митингу, на котором председательствовал Джон Уэст. Произнеся пламенную, полную лести по адресу Мэлона речь, Джон Уэст объявил подписку с целью собрать пятьдесят тысяч фунтов в виде прощального подарка мельбурнскому архиепископу и первый внес чек на пять тысяч фунтов. Среди присутствующих на митинге было собрано двадцать тысяч фунтов.
Дэниел Мэлон присел к столу, взял перо, торчавшее в серебряной филигранной чернильнице, и принялся писать Джону Уэсту письмо с отказом от подарка. Копию письма он пошлет в католическую газету, — пусть вся его паства знает, что он не принял этого дара.
Закончив письмо, он перечел его:
«Дорогой мистер Уэст!
Хочу выразить Вам и всем тем, кто вместе с Вами почтил меня на вчерашнем собрании, свою глубокую и неизменную признательность. Я чувствую, что не заслужил столь щедрого дара, и желал бы от всего сердца быть более достойным его. То, что вы уже сделали на этом собрании и предполагаете еще сделать, свидетельствует о непревзойденном великодушии моих друзей, великодушии, на которое я не имею никакого права притязать, ибо за все то, что я сделал или пытался сделать как архиепископ и гражданин, я уже вознагражден сторицею.
Как бы то ни было, я взял себе за правило никогда не принимать подарков, подобных тому, какой предложили Вы. Признательность мою трудно выразить словами, но все же, рискуя показаться грубым и неблагодарным, я должен просить еще об одном одолжении — разрешите мне в данном случае поступить согласно моим убеждениям.
Прошу Вас еще раз принять мою благодарность и передать ее остальным.
Заверяю Вас, дорогой мистер Уэст, в своих искренних чувствах.
Теперь все будет в порядке. Джон Уэст не так уж плох, как изображают его иезуиты. Они говорят: бери Деньги, но дружеские отношения с ним не выставляй напоказ; слушать их, так они заставят своего архиепископа обидеть хорошего католика. На этот раз, решил Мэлон, я, уповая на господа бога и его пресвятую матерь, сделаю наоборот: я открыто признаю Джона Уэста своим союзником и откажусь от его денег.
Правда ли то, что говорят о Джоне Уэсте? Все его поведение опровергает рассказы о его прошлом. Трусы из Протестантской федерации изображают его чуть ли не убийцей, но ведь они всегда врут! Чего только не пишут в «Одиноком волке»! Разве человек не может раскаяться в своих поступках? Хорошо, если б он хоть изредка ходил к обедне и причащался — тогда бы я сумел дать отпор иезуитам. С них станется донести на Джона Уэста самому папе.
B комнату на цыпочках вошел молодой священник.
— Вас желает видеть мистер Джон Уэст, ваше преосвященство.
— Вот легок на помине, я как раз пишу ему письмо. Пусть войдет.
Появился веселый и оживленный Джон Уэст.
— Садитесь, мистер Уэст.
— Я пришел сообщить зам новость, ваше преосвященство. Мне удалось устроить так, что наша процессия будет заснята на кинопленку; получится настоящий фильм.
— Чудесно, мистер Уэст, — вот это называется широкий размах!
— Да. А кроме того, нам привезут из Ирландии фильм о дублинском восстании. Он называется «Ирландия будет свободной» — это самая настоящая кинокартина. Лучшей пропаганды для нашей старой Ирландии и не придумаешь!
— Прекрасно, мистер Уэст! Как странно, что вы пришли именно сейчас! Я только что написал вам письмо. Речь идет о вашем вчерашнем добросердечном поступке.
Джон Уэст пробежал глазами письмо. — Но, ваше преосвященство, помилуйте…
— Простите, мистер Уэст, но в этом письме я изложил свои убеждения. Я бесконечно благодарен вам, но… Быть может, вы пожертвуете эти деньги на церковь?
— Скажите, этот дом принадлежит церкви? — перебил Джон Уэст, обводя взглядом уютную, роскошно обставленную комнату.
— Нет, мы снимаем его. А что?
— Не купить ли мне его на эти деньги? Сколько он может стоить?
— Судя по плате, которую с нас берут, больше, чем золотой прииск.
— Должно быть, около двадцати тысяч. Я верну мистеру Рэнфри и другим чеки, которые они пожертвовали, и сам куплю для вас этот дом. Позвольте мне, ваше преосвященство, сделать хотя бы это в доказательство моего уважения.
— Я приму этот дар, мистер Уэст, и да благословит вас бог. А все-таки я пошлю копию письма в наши газеты, мистер Уэст, если вы ничего не имеете против.
* * *
Однажды вечером, за неделю до праздника святого Патрика, Нелли Уэст укладывала сына в кроватку, стоявшую возле ее постели.
Поцеловав мальчика, она ласково сказала: — А теперь бай-бай, Ксавье. Мама сегодня пойдет обедать в столовую.
— Пусь папа плидет, — пролепетал мальчик. Тактичная миссис Моран часто говорила, что ребенок — вылитая мать, но Ксавье унаследовал привлекательную внешность своего отца — Билла Эванса.
— Когда папа приходит домой, ты всегда уже спишь, — солгала Нелли. — Но если ты будешь хорошим мальчиком, то, может быть, скоро я позволю тебе ложиться попозже. — Ребенок не сомневался, что Джон Уэст — его отец, и это сперва смущало Нелли, но потом она решила поддерживать эту ложь и дала себе слово, что мальчик никогда не узнает правды.
Нелли и Ксавье фактически жили, как в тюрьме. Мальчик ни разу еще не выходил из дому, а Нелли бывала только в церкви, и то лишь по воскресеньям. Вот уже несколько месяцев миссис Моран упрашивала Нелли по крайней мере хоть сойти вниз к ужину. Сегодня она сказала дочери, что Джон тоже этого хочет.
Нелли решила вытерпеть эту пытку. Белое платье ей шло, она выглядела в нем очень миловидной, но лицо ее было грустно, почти угрюмо. Она присела к туалетному столику, разглядывая в зеркало свое лицо и волосы.
Ну вот, думала она, и кончилась наконец осада. Теперь надо делать вид, будто в доме все благополучно. Нелли вспомнила о тоске и унижении, пережитых ею в ту пору, когда она носила ребенка от Билла. Эти первые месяцы после разрыва с мужем оставили в ее памяти и сердце глубокие рубцы, которые никогда не залечит время. Оробевшие дети то и дело приходили к ней в комнату и спрашивали: «Ты больна, мама?», «А скоро ты поправишься?», «Папа тоже, должно быть, болен: он совсем с нами не разговаривает», «Папа никогда к тебе не приходит?»
Джон Уэст не разговаривал ни с кем из своих домочадцев. Нелли редко видела его, но всегда знала, дома ли он или еще не вернулся. Случайно встретившись в коридоре или на лестнице, они не заговаривали друг с другом, но Джон Уэст окидывал жену осуждающим, полным ненависти взглядом. Что бы она делала, если бы не приехала мать? Захлебываясь от неудержимых рыданий, Нелли все рассказала матери, и та поняла ее. Мать сказала, что ради детей Нелли должна забыть Билла Эванса и помириться с Джоном Уэстом.
Никогда ей не забыть той ночи, когда родился ребенок, — даже через сто лет это не изгладится из ее памяти. К тому времени Билл стал для нее горько-сладостным воспоминанием, но она знала, что ребенок, который вот-вот должен был появиться на свет, будет напоминать ей о нем до конца жизни. Физические страдания как бы растворялись в вихре беспорядочных мыслей, а миссис Моран в это время стояла возле нее, помогая, советуя, уговаривая. Из соседней комнаты слышались мерные шаги Джона Уэста — он ходил взад и вперед по комнате, и один бог ведает, о чем он в это время думал. Быть может, он разделял отчаянную надежду, появившуюся у Нелли, когда роды близились к концу, — надежду на то, что ребенок родится мертвым?
С появлением ребенка ее снова охватила тоска по Биллу Эвансу и вместе с тем жалость к мужу: она впервые поняла, сколько ему пришлось пережить; но время шло, и она постепенно подавляла в себе эти чувства. Что дали ей и тот и другой? — спрашивала себя Нелли. Ничего, кроме горя, тревог и разбитого сердца. Джон так и не зашел к ней, но мать рассказывала ей, что он стал еще жестче и мрачнее.
Нелли всецело отдалась заботам о сыне. Ксавье, мучительно напоминавший ей Билла, был прелестным ребенком, и она страстно привязалась к нему. Старшие дети приходили к ней до и после школы, а также перед тем, как идти спать. Они любили мать, восхищались малышом. Но многое им было непонятно. Это чувствовалось по их вопрошающим взглядам.
Так прошло два года, и время для Нелли отмечалось только ростом ребенка, воскресными посещениями церкви, восходами и заходами солнца и тем, как распускались, а потом опадали листья высокого дерева, которое стучало и скреблось своими ветвями в ее окно. Мальчика крестили, когда ему исполнилось полгода. Придя с ним в церковь, Нелли заставила себя войти в исповедальню. Священник посоветовал ей то же, что и мать: она должна искупить свой грех, вновь взяв на себя обязанности жены и матери.
Нелли отошла от туалетного стола и направилась к двери; вдруг она заметила, что вся дрожит и что у нее подкашиваются ноги. Ей показалось, что она ощущает острую боль в крестце; эти боли мучили ее с «того самого дня» — после родов она постоянно жаловалась на них, и в конце концов мать пригласила врача. Тот сказал, что позвоночник был ушиблен, но последствий опасаться нечего, однако Нелли по-прежнему жаловалась на боль. Просто мнительность, решила миссис Моран, но это было не совсем так. В сознании Нелли этот ушиб стал как бы символом вины мужа перед нею.
Огромным усилием воли она овладела собой, открыла дверь и вышла на лестницу.
Нелли медленно спускалась по широким, покрытым ковром ступенькам, а в это время все, кто был в столовой, застыли в напряженном ожидании. Обед еще не подавали, но вся семья уже собралась вокруг стола.
Джон Уэст сидел во главе его, положив руки на скатерть; лицо его походило на бесстрастную маску, глаза глядели прямо перед собой. Слева от него, лицом к Двери, сидела миссис Моран, с аккуратным узлом седых волос на затылке; она была из тех женщин, которые умеют стареть, сохраняя достоинство. Возле нее застыла на стуле старшая дочь Уэста Марджори, которой шел уже девятнадцатый год. Невысокая, коренастая, она была очень похожа на отца, но в отличие от него очень усердно училась и обладала недюжинными способностями к музыке. Она не опускала глаз с двери в ожидании этого желанного и вместе с тем страшного момента; она догадывалась о многом из того, что скрывалось за общим напряжением. По другую сторону стола сидели младшие дети. Мэри была прелестным подростком, в котором уже угадывалась будущая красавица; рыжеволосая, высокая, с изящной, рано развившейся фигурой, умненькая и общительная, ока покоряла все сердца, хотя ей еще не исполнилось и пятнадцати. Отец в ней души не чаял. Он говорил о ней так, как может знаток живописи говорить о прекрасной картине, но Мэри с ее тонкой чувствительностью отталкивала непреклонная холодность отца. Рядом с ней сидели мальчики — одиннадцатилетний Джон и восьмилетний Джозеф, названный в честь своего дяди Джо и такой же, как и он, спокойный, беспечный и безвольный. Джон характером и складом ума напоминал свою сестру Мэри. На отца он походил только наружностью.
На другом конце стола стоял пустой стул — это было место Нелли.
Она вошла твердым шагом, с высоко поднятой головой. Дети смотрели на нее во все глаза, пораженные ее высокомерной красотой и отчаянными усилиями сохранить самообладание.
Джон Уэст не поднял глаз и не пошевелился. На него нахлынули самые разнообразные чувства: жалость к себе, мучительный стыд и превыше всего — ненависть и бессильная злоба. Нелли ухитрилась вывернуться. Она добилась своего в конце концов. Она сохранила за собой место жены и матери его детей и хочет вернуть себе чувство собственного достоинства. Ведь она вышла из-под его власти, предала его, и он решил, что она за это поплатится; однако, по-видимому, особенно расплачиваться ей не пришлось. Кроме того, он взял себе за правило никогда не допускать и мысли, что был в чем-то неправ, так как признаваться в своих ошибках — это признак слабости. Позволить же Нелли спуститься в столовую — равносильно тому, чтобы признать свою неправоту.
Когда Нелли заняла свое место напротив мужа, дети, видимо, почувствовали облегчение.
— Мама, — сказала Мэри, — как хорошо, что ты опять с нами! Как это хорошо, мама! — Слезы хлынули из ее глаз и потекли по щекам.
Дети потупились. Нелли ухватилась за край стола и закусила губы, твердо решив держать себя в руках.
— Нечего плакать, — сказала миссис Моран. — Ваша мама уже выздоровела и теперь может спускаться вниз. Нужно радоваться, а не плакать. Мама теперь здорова.
Джон Уэст пристально взглянул на тещу. Умная старуха, подумал он, ведь два года она добивалась и ждала этого. Она всегда знала, что в один прекрасный день я сочту нужным уступить. Джон Уэст почувствовал невольное уважение к миссис Моран.
Нелли понимала, что ей следует сказать какие-нибудь подходящие к случаю слова, но не могла думать ни о чем, кроме боли в крестце. Все ее мысли сосредоточились на этом, и ей снова показалось, что начинается приступ.
Она вызывающе взглянула на мужа и сказала: — У меня до сих пор болит крестец. Иногда бывают страшные боли. Наверно, скоро я стану калекой.
Джон Уэст поднял глаза и испытующе поглядел на жену. Он знал, что теща однажды вызывала врача, потому что у Нелли болела поясница, но ведь это было так давно. Чего ради она заговорила об этом?
В комнате воцарилась гнетущая тишина, и все с облегчением вздохнули, когда вошла горничная и всем подала суп, а Джону Уэсту — стакан фруктового сока. Горничная и кухарка были наняты только сегодня — эго входило в соглашение, заключенное между Джоном Уэстом и миссис Моран.
Обед тянулся медленно, все как-то притихли и обменивались только самыми необходимыми словами, за исключением миссис Моран, которая всячески старалась наладить общий разговор. Джон Уэст и Нелли не сказали друг другу ни слова.
Когда обед кончился, Джон Уэст первый встал из-за стола.
— Мне нужно поговорить с тобой, Нелли, — сказал он сквозь зубы и вышел из столовой.
Минут через пять Нелли вошла в музыкальную комнату и села у рояля, под портретом Шопена.
Джон Уэст вошел следом и остановился перед Нелли, пристально глядя ей в лицо. — Ты, надеюсь, понимаешь, что это по моей воле тебе разрешено спускаться в столовую, — вызывающе начал он.
— Я думала, это мама устроила, — спокойным, почти безразличным тоном отозвалась Нелли.
— Ничего подобного! После того как… после этой истории я решил, что накажу тебя как следует, а потом снова заставлю исполнять свой долг по отношению к детям.
Нелли молчала, опустив руки на колени.
— Ну, что ты на это скажешь?
— Меня не надо заставлять любить своих детей. Если в нашем доме неладно, так в этом виноват только ты.
— Я? Значит, я виноват, что ты родила ребенка от моего каменщика? Да если бы не дети — мои дети, — я б давно уже отослал его в приют для подкидышей. И не очень-то радуйся, может, я еще так и сделаю!
Помолчав немного, Джон Уэст заговорил более миролюбивым тоном: — Теперь от тебя зависит, будешь ли ты исполнять свои обязанности хозяйки. Я хочу, чтобы ты была на приеме, который на будущей неделе устраивает у себя архиепископ в честь награжденных Крестом Виктории, и на банкете, который я дам после процессии. Будет много видных гостей. Ты моя жена, и им покажется странным, если тебя не будет.
— Хорошо, — сказала Нелли. — Я сделаю все, что ты пожелаешь. Но только помни, Джон: любить тебя я никогда не буду, никогда.
— Судя по твоему поведению, ты меня никогда и не любила.
Нелли встала и пошла к двери. — Мне нужно лечь, — сказала она. — У меня спина, болит. Она болит с того дня, с того самого дня, как ты меня толкнул. Я уверена, что в конце концов стану калекой.
У самой двери она обернулась и молча устремила на него пристальный взгляд. Джон Уэст поежился под этим обвиняющим взглядом. В эту минуту он понял, что всю свою жизнь она будет его ненавидеть.
Джон Уэст устроил в одном из своих отелей банкет в честь ветеранов, награжденных Крестом Виктории. Он сидел на почетном месте, во главе стола.
Было произнесено много тостов — за родную Ирландию, за архиепископа Мэлона, за успех процессии. Джон Уэст не любил крепких напитков, они плохо действовали на его желудок, но ради такого случая он тоже пил вино. Предложив тост за кавалеров Креста Виктории, он сказал, что жители Австралии и ирландцы будут вечно в долгу у них за то, что они съехались из отдаленных концов страны, чтобы присутствовать на празднествах. Только благодаря великому самопожертвованию солдат Австралия осталась свободной страной!
Джон Уэст выразил удивление, что большинство награжденных Крестом Виктории — всего-навсего рядовые. Ведь каждый из них имеет право на звание полковника. Они сражались на войне, защищая Бельгию. Теперь они прибыли в Мельбурн, чтобы выразить свое сочувствие другой маленькой стране, которая пока что лишена свободы. Эта последняя фраза была лишь повторением слов архиепископа Мэлона, которые Джон Уэст часто слышал от него в последнее время.
Джон Уэст закончил свою речь сообщением о том, что на все его ипподромы бывших фронтовиков будут пропускать бесплатно, а на вакантные должности он намерен принимать только демобилизованных.
После продолжительных аплодисментов стали выступать другие ораторы; последним поднялся член муниципального совета Роберт Ренфри, уже нетвердо державшийся на ногах.
Выражения мистера Ренфри были грубоваты и не совсем подходили к случаю. Он с трудом ворочал языком, пропускал гласные и согласные, и временами речь его становилась совсем невнятной из-за изрядного количества виски, поглощенного им в течение дня, и торчавшей в углу рта сигары. Слушатели поняли только, что, по его мнению, все кавалеры Креста Виктории, конечно, герои, будь они прокляты, но «тут есть человек, который заслуживает этой награды, но почему-то не имеет ее, и этот человек — Джон Уэст».
Мистер Ренфри закончил свою речь заявлением, что «надо бы хорошенько надавать по шее правительству за то, что оно, черт бы его побрал, не положит всем кавалерам Креста Виктории пенсию, хоть по десятке в неделю». Будь он премьер-министром, великодушно заявил мистер Ренфри, он назначил бы всем ветеранам такую пенсию «и даже бóльшую, будь я трижды проклят». Оп выплюнул изжеванный окурок сигары прямо на пол и плюхнулся на стул.
Кавалеры Креста Виктории по очереди выступали с ответными речами. Большинство ограничивалось благодарностью по адресу мистера Уэста и комиссии по празднованию дня святого Патрика, но один из них, ветеран из спортсменской тысячи, сказал, что он сам и его собратья готовы примчаться из любой дали, чтобы выполнить желание своего старого полководца, Джона Уэста.
Последний из фронтовиков, молодой парень с бледным лицом, потерявший ногу во Франции, попросил Джона Уэста ответить вместо него.
— Позор, что правительство дает человеку, потерявшему ногу, такую жалкую пенсию: всего тридцать шиллингов в неделю! — сказал Джон Уэст.
После этого Роберт Скотт предложил выразить благодарность мистеру Уэсту, что присутствующие и сделали, громко стуча кулаками по столу. Мистер Уэст, продолжал Скотт, всегда готов поддержать любое движение, которое ставит себе целью благо народа, но благотворительные дела он делает скромно, не напоказ, и правая его рука не ведает, что творит левая.
— Каждый знает, — заключил свою речь Скотт, театральным жестом указывая на Джона, — что хозяин нашего стола — истинный христианин.
Вечером те же самые гости собрались в доме архиепископа Мэлона. Архиепископ произнес пламенную речь против Британской империи.
Нелли тоже была на приеме. Она сидела рядом с мужем, улыбающаяся, прелестная, но очень бледная. Ветераны наперебой ухаживали за ней, как, впрочем, и все остальные.
Нелли понемногу оживилась и решила завтра устроить ветеранам такой прием, какого они еще не видали. Джон Уэст время от времени испытующе поглядывал на нее. Да, она умеет занимать гостей; непременно надо будет использовать это в будущем.
В день святого Патрика Джона Уэста разбудило утреннее солнце, обещавшее погожий осенний денек. Он быстро встал с постели и оделся. Его охватило радостное возбуждение. По его замыслу, процессия должна была быть грандиозной. То-то будет зрелище!
В девять часов, приколов к отвороту пиджака трилистник, Джон Уэст отправился в город; оказалось, что там уже собирается народ, хотя процессия должна была начаться только в два часа. Он сразу же принялся хлопотать, отдавая последние приказания распорядителям, которым предстояло руководить огромной процессией, начиная с ее отправного пункта на Бурк-стрит. Уже к полудню стало ясно, что такого количества участников и зрителей не собирала еще ни одна процессия за все время существования Мельбурна. Толпы людей запрудили четыре квартала, остановив уличное движение.
На Джона Уэста свалилась тысяча дел сразу, но он выполнял каждое с присущей ему энергией и упорством. Наконец наступила великая минута: прибыл автомобиль архиепископа, с трудом пробиравшийся сквозь толчею под приветственные крики толпы.
Процессия началась. По идее архиепископа Мэлона, ее возглавлял некий обтрепанный, в стоптанных сапогах, усатый человек, несший в руках маленький британский флаг. За ним на почтительном расстоянии следовала машина архиепископа, окруженная почетной стражей — кавалерами Креста Виктории в военной форме, на лоснящихся серых конях; потом шла комиссия по устройству процессии, и в первом ряду ее шагал сам Джон Уэст. В комиссию входили видные граждане-католики — среди них был даже один миллионер более почтенной разновидности, чем Джон Уэст и Роберт Ренфри.
Следом за комиссией под звуки оркестров и приветственные клики, выстроившись по четыре человека в ряд, шли тысячи демобилизованных солдат.
Их сопровождали шестьдесят бывших сестер милосердия. За ними шагали несколько тысяч девочек и мальчиков из католических школ и, наконец, множество самого разнообразного народа. Всюду мелькали австралийские и шинфейнерские флаги, но британский флаг был только один на всю процессию — тот, который нес Шедший впереди оборванец.
Как выяснилось позже, в процессии участвовало примерно двадцать пять тысяч человек, и сто тысяч стояло на тротуарах по пути ее следования. Кое-где под натиском толпы ломались специально сооруженные перила, но многочисленные отряды полиции зорко следили за порядком. В толпе зрителей были «лоялисты» и «оранжисты»; разозленные своим поражением, они надеялись на какой-нибудь скандал, но сами не осмеливались провоцировать столкновения.
Общее воодушевление как бы наэлектризовало атмосферу — никогда, ни до, ни после этого дня, солидные мельбурнские здания не видели подобной процессии. Киноаппараты, трещавшие то тут, то там, возбуждали огромное любопытство. В толпе, теснившейся на тротуарах, многие падали в обморок. Всюду виднелись ирландские значки, кокарды, трилистники, зеленые флаги.
Добродушно-насмешливые аплодисменты толпы подействовали на шедшего впереди оборванца совершенно неожиданным образом. Ведя за собой гигантский людской поток вверх по холму, к зданию парламента, он кланялся на все стороны, расшаркивался и размахивал маленьким флажком. У него была бойкая походка подвыпившего человека. Приходя во все большее возбуждение, он подпрыгивал и приплясывал на ходу, помахивая в знак приветствия своей помятой шляпой. Никогда еще ему не приходилось быть центром внимания стотысячной толпы, и он, видимо, решил полностью использовать этот случай. Нечаянно споткнувшись, он попытался было пройтись на руках, но это оказалось ему не под силу. Тем не менее после архиепископа и безногого солдата, который ехал в автомобиле, подняв на костылях шинфейнерский флаг, развязный человек с флажком был самой заметной фигурой в процессии.
Джон Уэст выступал горделиво, уверенным шагом, иногда помахивая рукой в ответ на одобрительные восклицания и аплодисменты толпы. Он ликовал; этот день принесет ему громкую славу и всеобщую симпатию.
Когда головная часть процессии дошла до конца Бурк-стрит, архиепископ Мэлон вышел из машины и, стоя на крыльце здания парламента, пропускал мимо себя поток людей, восторженно приветствовавших его. Он стоял, выпрямившись, сердце его стучало от радостного волнения. Сегодня великий день, сегодня австралийские католики дали достойный ответ своим противникам; это — свидетельство силы, которая сплотила вокруг него его паству и нанесла удар врагам Ирландии. Когда прошла колонна бывших фронтовиков, архиепископ снова сел в машину и поедал на территорию Выставки, находившейся в нескольких стах ярдах от парламента. Помещение Выставки было до отказа набито публикой еще задолго до того, как процессия двинулась от сборного пункта, и десятки тысяч желающих послушать речи и пение, посмотреть выступления гимнастов и танцоров так и не могли пробиться внутрь.
День своего торжества Дэниел Мэлон закончил саркастическим замечанием. — Мельбурнский муниципальный совет, — сказал он, — обязал нас нести впереди процессии британский флаг. Я не сумел уговорить ни одного ирландца, поэтому пришлось нанять за два шиллинга англичанина.
* * *
Джон Уэст завоевал почет и уважение огромного большинства католиков — приверженцев Дэниела Мэлона. В статейках, поносивших ирландское движение, которые печатали «Аргус» и официальный орган Протестантской федерации, его имя всегда упоминалось вместе с именем архиепископа. И точно так же их имена стояли рядом в статьях, которыми католическая пресса отвечала на эти нападки, в многочисленных заметках о дне святого Патрика и в сенсационных сообщениях о поездке архиепископа через Америку в Рим и Дублин.
Портрет Джона Уэста появился в «Католическом альманахе» за 1920 год, а также в специальном издании, посвященном празднованию дня святого Патрика, вместе с портретами архиепископа, героев, награжденных Крестом Виктории, и руководителей ирландского восстания. В хроникальных кинофильмах, посвященных процессии и проводам архиепископа, Джон Уэст тоже фигурировал на первом месте.
На проводах архиепископа хор исполнил «Вернись домой в Австралию», причем было объявлено, что эту песню «мистер Джон Уэст посвящает архиепископу Мэлону». Это была довольно пошлая сентиментальная песенка на популярный мотив. Сам Джон Уэст не смог бы сочинить песню, даже если бы в противном случае ему угрожали живьем содрать кожу. Слова ему написал один обнищавший поэт. Джон Уэст дал ему за это пятьдесят фунтов и на свой счет издал ноты. Песню эту пели на проводах архиепископа и часто исполняли впоследствии в торжественных случаях. Джон Уэст не пытался разуверять тех, кто считал, будто он сам был ее автором.
Накануне своего отъезда архиепископ нанес Уэсту визит. Джон заметил, что Мэлон не в духе, — с тех пор как его вызвали в Рим, он постоянно был в дурном настроении.
В своей прощальной речи Мэлон сказал: — Я еду по долгу службы, чтобы дать отчет о моем руководстве паствой за те немногие годы, что я провел в Австралии, и особенно после смерти моего незабвенного, всеми почитаемого предшественника. Если святой отец найдет ошибки в моей деятельности и в моем руководстве, то я прежде всего отвечу ему, что не добивался этого сана, что меня послали сюда, даже не спросив моего согласия, и что я делал все, что мог, и готов теперь предстать перед судом епископов, духовных лиц и народа Австралии, Если в моей деятельности и есть недостатки, то только такие, каких и следовало ожидать, ибо, повторяю, я не добивался этого назначения, и когда оно все-таки выпало мне на долю, я заранее знал, что такая высокая должность мне не по плечу.
Джону Уэсту показалось, что за этими внешне вызывающими словами кроется страх.
Уезжая из Мельбурна, Мэлон обещал писать Джону Уэсту и просил его приложить все старания, чтобы спасти от ссылки священника по имени Джеспер — он был арестован еще в 1917 году, и сейчас федеральное правительство намеревалось выслать его. Архиепископ объяснил, что он говорил с отцом Джеспером и что, по его убеждению, тот не виновен в преступлении, за которое ему вынесли приговор без суда и следствия. Священника обвиняли в том, что во время войны он будто бы держал сторону Германии.
Джеспер родился в Германии, но родители еще ребенком увезли его в Швейцарию. Окончив духовную семинарию, он приехал в Австралию. Во время войны он открыто высказывался против всеобщей воинской повинности и был на стороне ирландских повстанцев. Один католический священник, служивший в том же приходе, жестоко поссорился с Джеспером и донес на него местным властям. Джеспера немедленно арестовали. Он не был австралийским подданным, и все попытки добиться его освобождения оказались безуспешными.
Священник, донесший на Джеспера, понес наказание, сказал Мэлон Джону Уэсту, но отменить высылку еще не удалось.
Джон Уэст обещал любой ценой добиться, чтобы священника не высылали. Сначала его хлопоты как будто оказались успешными, но вскоре ему пришлось столкнуться с двумя опасными противниками — Перси Блеквудом, лейбористским депутатом от округа Брокен-Хилл, и Джоком Сомертоном, секретарем профсоюза моряков штата Виктория.
Джон Уэст организовал ряд митингов, на которых наряду с ним выступали с речами некоторые профсоюзные лидеры и деятели лейбористской партии. Затем он сосредоточил все свои усилия на том, чтобы добиться от исполкомов профсоюзов моряков и портовых рабочих принятия решений, призывающих моряков отказаться обслуживать тот пароход, на котором отец Джеспер будет отправлен в ссылку. Лидеров профсоюза портовых рабочих уговорить не удалось, но Уолш, секретарь профсоюза моряков, согласился за тысячу фунтов провести соответствующую резолюцию; большинство членов исполкома поддержало ее, ибо Джеспер во время войны боролся против всеобщей воинской повинности. К несчастью, как раз в эти дни состоялся ежегодный съезд профсоюза моряков, который, главным образом благодаря стараниям Джока Сомертона, отменил это решение. Съезд постановил не вмешиваться в дело Джеспера и сохранять полный нейтралитет.
Джон Уэст позвонил по телефону Уолшу и набросился на него с яростной бранью. Уолш, больше всего беспокоясь о том, как бы не потерять свою тысячу фунтов, посоветовал Джону Уэсту повидаться с Сомертоном.
Вскоре Джон Уэст появился в небольшом, очень просто обставленном кабинете Джока Сомертона.
Сомертон сделал вид, будто очень занят. Это был невысокий, весьма плотный мужчина лет сорока пяти, с бычьей шеей, покатыми плечами и широкой грудью.
— Садитесь, — бросил Сомертон, не поднимая глаз.
Джон Уэст, несколько смущенный таким небрежным приемом, опустился на стул.
Сомертон продолжал читать какие-то бумаги. Так прошло не меньше трех минут; наконец он поднял голову и спросил: — Ну?
— Меня зовут Уэст, Джон Уэст. Я…
— Чем могу служить, мистер Уэст?
— Я хочу поговорить с вами о деле Джеспера.
Сомертон, не оборачиваясь, протянул руку, взял с полки книгу в кожаном переплете и принялся листать ее.
— Джеспер, Джеспер… — бормотал он. — На «Д» такого нет. Должно быть, вы ошиблись, мистер Уэст. В описке членов нашего профсоюза такой не числится.
— Вы знаете, о ком я говорю, — об отце Джеспере.
— Ах, об отце Джеспере! — Сомертон говорил хрипловатым басом, с чуть заметным шотландским акцентом. Лицо его было непроницаемо, но Джон Уэст чувствовал, что он насмехается над ним. — Теперь припоминаю. Видите ли, отделение нашего профсоюза в штате Виктория не намерено вмешиваться в это дело.
— Мне случайно стало известно, что только благодаря вам профсоюз изменил свое отношение к отцу Джесперу.
— На последнем ежегодном съезде я действительно настаивал, чтобы наш профсоюз не обременял себя этим делом. По-моему, со стороны членов профсоюза было бы просто глупо бороться за то, что ни им, ни рабочему движению не может принести никакой пользы.
— Тут дело в принципе. Джесперу вынесли приговор без суда. Суд присяжных — один из пунктов хартии вольностей.
— Уж кому-кому, а вам с архиепископом Мэлоном не следовало бы ссылаться на хартию вольностей. Католическая церковь противилась ей изо всех сил.
Джон Уэст начинал не на шутку злиться. — Вы поддерживаете Хьюза, который преследует отца Джеспера, потому что ненавидите католическую церковь. Я все про вас знаю.
Джок Сомертон считал, что католическая церковь бич человечества, а архиепископ Мэлон такой же опасный врат рабочих, как и крупнейшие капиталисты. По его мнению, Мэлон боролся против всеобщей воинской повинности потому, что был не только сторонником ирландцев, но, в соответствии с политикой Ватикана, и сторонником немцев.
— Я вовсе не поддерживаю Хьюза, — невозмутимо ответил Сомертон, — я просто-напросто возражаю против вмешательства католической церкви в дела и политику профсоюзов.
— Я никогда не вмешивался в профсоюзные дела, но часто оказывал помощь профсоюзам, в том числе и вашему.
— Наш профсоюз никогда больше не примет вашей помощи.
— Много вы знаете! Уолш и Центральный исполнительный комитет готовы были помочь Джесперу по моей просьбе.
— Насколько я знаю Тома Уолша, ему, наверно, пообещали хорошо заплатить за это… гм… сотрудничество.
— Уолш поддержал бы Джеспера из принципа — он, если хотите знать, не менее принципиален, чем вы.
— Он только притворяется принципиальным. Он принципиален на словах, потому что держится за свое место, а в душе он оппортунист. И берет взятки. Уж если говорить начистоту, то мне известно, что ему заплатили за то, чтобы он поддерживал Джеспера.
— Ну, ну, поосторожнее!
— И заплатил ему за это не кто иной, как вы, мистер Уэст.
Джон Уэст метнул на Сомертона острый, как рапира, взгляд. Сталкиваясь с борьбой различных сил внутри лейбористской партии, он совершенно терялся. При помощи какого-то необыкновенного чутья он использовал в своих интересах многих лейбористских деятелей, но не понимал движения в целом и никогда не сумел бы понять. Сомертон был для него загадкой, как Эштон, Тэргуд и многие другие. Он не видел разницы между ними; он был не способен разобраться в политических и социальных факторах, оказывавших на них влияние. Он знал, что одних можно купить, а других запугать, но никак не мог понять, почему многих нельзя ни купить, ни запугать. Профсоюзные лидеры были для него еще менее понятны, чем политические деятели. Насколько он понимал, Уолш принадлежал к тому же типу, что и Боб Скотт, который прикидывался ярым социалистом, чтобы обеспечить себе голоса на выборах, но не мог устоять перед взяткой; но вот Сомертон отстаивал то же, что и Боб, а его нельзя ни подкупить, ни запугать. Джон Уэст приписывал это тому, что Сомертон — враг католиков, но дело, конечно, было не только в этом.
Сомертон был последним из профсоюзных лидеров времен «Индустриальных рабочих мира». Организация ИРМ просуществовала достаточно долго, чтобы изменить положение в австралийских профсоюзах. Ее идеи, основанные на классовом сознании, ее энергия и боевой дух проложили дорогу партии более оснащенных теоретически и лучше организованных коммунистов, которые появились в следующем десятилетии.
Влияние Джона Уэста на профсоюзное движение уже шло на убыль. Он объяснял это тем, что не мог оказывать на профсоюзные выборы такого влияния, как на выдвижение лейбористских кандидатов в парламент. Но он утешал себя мыслью, что в конце концов профсоюзы не имеют решающего значения для его планов.
Но Сомертон привел его в ярость. — А знаете ли вы, — злобно закричал Джон Уэст, — что отделение профсоюза в штате Виктория — ваше отделение — до сих пор не отдало мне тысячу фунтов из тех трех тысяч, которые я дал ему взаймы во время стачки?
— Знаю, но срок платежа еще не наступил. Вы получите ваши деньги. Если б я был секретарем во время стачки, союз не взял бы у вас взаймы. Из-за ваших ссуд и советов, на какую лошадь ставить, многие профсоюзы и профсоюзные лидеры влезли в долги. Я на скачках не играю, и теперь наш профсоюз отлично обойдется без ваших денег.
— Банки не станут ссужать вас деньгами во время стачек.
— Обойдемся и без ссуд.
— Я еще припомню это и вам и Блеквуду.
— Перси Блеквуд разъезжает по стране. И рабочие очень оберегают Перси.
— Ничего, я его найду. Я выкину его из парламента! Во всяком случае, если пароход с Джеспером отойдет не из Мельбурна, а из любого другого порта, ни один член профсоюза не станет работать на нем.
— Я слышал, что пароход отправится именно из Мельбурна.
Джон Уэст встал и перегнулся через стол. — Слушайте, Сомертон, если вы мне станете поперек дороги, я вас раздавлю. Я выкину вас с этой должности, хоть бы мне это обошлось в целое состояние!
— Не сомневаюсь, что это весьма понравится Тому Уолшу. Он давно уже старается выжить меня и будет стараться еще больше, если при этом ему перепадет несколько фунтов.
Джон Уэст угрожающе поднял кулак. Если бы не могучее телосложение Сомертона, Джон Уэст ударил бы его по лицу.
— Если ты, кривоногая гадина, дотронешься до меня хоть пальцем, я тебя на куски разорву, — внезапно изменившимся голосом проговорил Сомертон.
Джон Уэст опустил руку и пошел к двери. — Вы еще пожалеете об этом — и вы и Блеквуд, — неуверенно пробормотал он.
Правительство сделало большую оплошность, решив отправить Джеспера из порта Аделаида.
Джон Уэст немедленно явился туда, прихватив с собой Уолша, и тот организовал там массовый митинг моряков и портовых рабочих. На митинге было решено бойкотировать судно «Нектар», на котором предполагалось отправить Джеспера. Судовой команде «Нектара» Джон Уэст подарил пятьсот фунтов.
Однако власти его перехитрили. Джеспер был отправлен на английском судне, вышедшем из порта глухой ночью.
Поняв, что планы его рухнули, Джон Уэст поехал поездом в Перт и организовал громадную демонстрацию с участием двух тысяч бывших фронтовиков, которая должна была встречать судно в порту, но оказалось, что английский пароход погрузил в Аделаиде лишний запас угля нарочно для того, чтобы не останавливаться в западных портах.
Возвращаясь в Мельбурн, Джон Уэст весь кипел от злости на тех, кто расстроил его планы. Он проклинал Джока Сомертона и Перси Блеквуда.
На другой же день после своего приезда он выступил с речью на митинге перед пятью тысячами рабочих, собравшихся перед зданием парламента. Джон Уэст наловчился произносить пламенные речи; из него мог бы выйти неплохой лейбористский деятель, если б он вздумал заняться политикой.
Он начал с сообщения о том, что проделал четыре тысячи миль, стараясь избавить несправедливо обвиненного человека от незаслуженного наказания. Он употреблял такие выражения, как «солидарность рабочих», ссылался на священную хартию вольностей, на право каждого быть судимым судом присяжных и в конце концов вызвал у слушателей негодование и гнев. Он высказал свое мнение о деле Джеспера, утверждая, что хотя священник, видимо, был противником всеобщей воинской повинности, но ничего нелояльного не совершил и во всяком случае нельзя было признавать его виновным без суда.
Огромная толпа трижды прокричала «ура» — в честь лейбористского движения, в честь солидарности и в честь Джона Уэста. Потом все запели хором «В единении наша сила» и «Страна моя, Ирландия».
На следующий день Джон Уэст велел Фрэнку Лэмменсу разведать, есть ли какая-либо возможность выкинуть Блеквуда из парламента, а заодно приказать ребятам основательно проучить Сомертона. Пройдоха Тэннер и Арти Уэст с большой охотой взялись за это дело, но их шайке пришлось убедиться, что Сомертон превосходно владеет искусством самозащиты. Дважды получив взбучку от целого отряда телохранителей, не отходивших от Сомертона ни днем, ни ночью, они отказались от дальнейших попыток. Джону Уэсту пришлось ограничиться финансированием кампании, направленной на то, чтобы выжить Сомертона с поста секретаря профсоюза. Он истратил на это почти две тысячи фунтов, и наконец, через два года, при помощи всяческих жульнических проделок, Сомертон был забаллотирован на выборах.
Судьба избавила Джона Уэста от хлопот по расправе с представителем округа Брокен-Хилл: Перси Блеквуда случайно застрелил какой-то сумасшедший.
Тем не менее Джок Сомертон и многие другие были уверены, что Джон Уэст причастен к этому убийству.
* * *
Однажды вечером, полгода спустя, Джон Уэст сидел у себя в гостиной, поджидая архиепископа Мэлона, который накануне вернулся в Мельбурн.
Джон Уэст встал с кресла и принялся его разглядывать. Сиденье было обито горностаем с искусно вышитым гербом, на котором была изображена кривая сабля и лев на задних лапах; сверху шла надпись на гэльском языке. Джон Уэст отступил на несколько шагов, любуясь обивкой. Потом он передвинул кресло так, чтобы свет выгоднее падал на него, снова осмотрел со всех сторон и, наконец, снова уселся в него.
Кресло было вышито монахинями из монастыря «Доброго пастыря» и преподнесено Джону Уэсту на городском собрании католиков. Вручая ему подарок, мистер Т. Дж. Рил, недавно избранный заместитель лидера лейбористской фракции в федеральном парламенте, рассказал присутствующим о том, что мистер Уэст происходит из рода ирландских королей, и объяснил, что гэльская надпись в вольном переводе означает: «Уэст — к победе». Мистер Рил сообщил, что это подлинный герб предков мистера Уэста, и добавил, что его мать ведет свой род от самого Брайана Бору. Затем Рил принялся расписывать Джона Уэста как «истинного любителя всех видов спорта, щедрого благотворителя и бесстрашного борца за свободу и справедливость».
Джон Уэст очень гордился этим креслом. Он решил поставить его у себя в конторе, но прежде хотел показать архиепископу.
Он с нетерпением ожидал встречи с Мэлоном, который, без сомнения, будет доволен его хлопотами по делу Джеспера и прочей его деятельностью.
Джон Уэст снова встал с кресла, потом снова сел. Вошла Нелли. Он не произнес ни слова и даже не взглянул на нее. Она должна занимать беседой архиепископа, это входит в ее обязанности, но разговаривать с ней в ожидании гостя вовсе не обязательно.
Тем временем архиепископ Мэлон готовился выйти из своего особняка, чтобы отправиться с визитом к Джону Уэсту. На нем, как всегда, был длинный черный сюртук. Надев цилиндр, он вышел из дому.
Пять лет, истекшие со времени ирландского восстания, не прошли для него бесследно. Прежде все считали, что он хорошо сохранился, но теперь он выглядел не моложе своих шестидесяти лет: волосы его поседели, густые мохнатые брови стали совсем белыми, глаза впали и сузились, а лицо покрылось морщинами. Он сильно похудел, но держался по-прежнему прямо.
Архиепископа Мэлона беспокоил предстоящий разговор. Ему придется с полной откровенностью рассказать Джону Уэсту об инструкциях, полученных в Ватикане. Джон Уэст и понятия не имеет о том, что произошло, — Мэлон переписывался с ним и даже послал ему свою фотографию, но ведь в письмах многого не скажешь.
Прибыв в Ватикан после поездки по Америке, Мэлон обнаружил, что коллегия кардиналов и сам святой отец далеко не в восторге от ирландских событий и их отзвука в Австралии. Ватикан желал, чтобы в Ирландии воцарился мир — и притом как можно скорее. Мэлону сказали, что, поддерживая повстанцев, католическая церковь ничего не выиграет и может потерять все. Среди ирландского духовенства возникли разногласия по этому поводу. Среди повстанцев были такие элементы, которые считали нужным подорвать власть церкви, так же как и власть английских землевладельцев. На юге должно быть сформировано прочное правительство, которое признало бы раздел и договорилось с Англией. Архиепископу Мэлону сказали, что по приезде в Ирландию он должен использовать все свое влияние для достижения этой цели.
Во время беседы с папой Дэниел Мэлон сообщил, что успел приобрести немало сторонников среди католического населения Австралии. Папа выразил свое удовлетворение по этому поводу, но, сказал он, в Австралии были допущены ошибки в ирландском вопросе и некоторых других делах. Ирландский вопрос надо потихоньку отодвинуть на задний план, настаивал его святейшество, как это и было при архиепископе Конне до пасхи 1916 года. Из-за ирландского вопроса много богатых австралийских католиков отвернулось от церкви. Трактовка ирландского вопроса в Австралии шла вразрез с политикой Ватикана.
Но австралийские представители церкви допустили и другие, более серьезные ошибки. Католическая пресса, особенно в штате Виктория, заняла совершенно неправильную позицию по отношению к русской революции. Какова бы ни была прежняя точка зрения, но теперь не приходится рассчитывать на то, что новый государственный строй откроет путь для возрождения католицизма в России. В Австралии, как и всюду, необходимо вести борьбу против социализма, или, как теперь говорят, коммунизма. Сейчас во все страны рассылается серия статей по этому вопросу, принадлежащих перу известного католического журналиста, Хилэри Беллока, — эти статьи должны получить широкое распространение. Коммунизм стремится уничтожить власть так называемого класса капиталистов; к счастью или несчастью, сказал папа Дэниелу Мэлону, власть Ватикана сейчас в огромной степени зависит от власти класса капиталистов, поэтому против социализма или коммунизма надо бороться всеми силами, ибо он проповедует атеизм, противоречит христианским понятиям о семье и посягает на священную частную собственность.
Это новое отношение к социализму и коммунизму потребует изменения тактики со стороны архиепископа Мэлона, внушительно заявил папа. Он должен прекратить всякое общение с социалистами и членами ИРМ, ибо они легко могут стать проводниками революционных идей в Австралии. Необходимо также принять меры, чтобы австралийская лейбористская партия не превратилась в социалистическую.
Затем его святейшество вызвал кардинала, который изучал обстановку в Австралии с помощью австралийского иезуита-священника, недавно побывавшего в Риме. Последовало длительное совещание, во время которого было решено: католическая церковь в Австралии должна прежде всего опираться на лейбористскую партию и сделать ее главным орудием своего политического влияния. Поэтому надо прекратить выставление кандидатов на выборах через Католическую федерацию и на некоторое время ослабить агитацию за предоставление субсидий католическим школам. Дэниел Мэлон сообщил, что он уже начал проводить такую политику. Ему ответили, что его святейшеству и кардиналам это известно.
— Еще одно маленькое замечание, — елейным тоном сказал кардинал. — Архиепископ Мэлон должен прекратить всякое гласное сотрудничество с весьма известной личностью по имени… как его зовут… Ах, да, Уэст, правильно, Джон Уэст. Брать у него деньги — это в порядке вещей; использовать его политическое влияние — даже похвально, но связывать свое имя с именем Уэста во всякого рода общественных делах — это уж слишком. Церковь не может позволить себе быть чересчур разборчивой в выборе союзников, но должна избегать гласности.
После еще нескольких бесед о положении в Австралии и об ирландских событиях Дэниел Мэлон выехал из Рима в Англию. Английские власти отказали ему в визе на въезд в Ирландию, хотя он уверял, что хочет только повидаться с матерью, ибо она уже так стара и слаба здоровьем, что, вероятно, скоро умрет. Таким образом, Мэлону пришлось «вернуться домой, в Австралию», как умоляли его слова песенки, посвященной ему Джоном Уэстом и целую неделю считавшейся шедевром. И хотя Мэлону не удалось проникнуть на родину, чтобы помочь осуществлению политики Ватикана, он убедился, что это с успехом делает новое правительство, возглавляемое де Валера.
Нелли Уэст сама открыла архиепископу дверь, взяла у него шляпу и с подобострастным умилением пригласила войти. Здороваясь с Мэлоном, Джон Уэст сказал, что у его преосвященства очень усталый вид. Заговорили о поездке Мэлона; Нелли сидела молча, с вязаньем в руках. Потом архиепископ перевел разговор на ирландский вопрос. К немалому его удивлению, Джон Уэст охотно согласился, что этому делу, насколько позволят обстоятельства, следует уделять поменьше внимания — исключая, конечно, ежегодные процессии. Ирландский вопрос сослужил свою службу, и энтузиазм Джона Уэста сильно поостыл.
С гордостью продемонстрировав архиепископу новое кресло, Джон Уэст рассказал о своих хлопотах за отца Джеспера и был несколько разочарован, когда Мэлон довольно равнодушно сказал: — Вы много потрудились, мистер Уэст! Да благословит вас бог! Но отец Джеспер уехал, и теперь нам остается только ждать известий о том, что он благополучно устроился там, за океаном.
Похоже, что в Ватикане ему здорово влетело, подумал Джон Уэст; он впервые почувствовал, что может иметь власть даже над этим умным и ученым человеком, наделенным высоким священническим саном.
Затем Дэниел Мэлон сообщил об отношении Ватикана к социализму, коммунизму и лейбористской партии. Джон Уэст сказал, что прочел последние статьи Беллока в католическом органе «Защитник» и готов подписаться под каждым его словом. Лейбористская партия, заявил Джон Уэст, — это его партия. Он верит в «белую Австралию», в третейский суд и в честную оплату честного труда, но он с самого начала был противником русской революции и будет всегда бороться против проникновения подобных идей в Австралию.
Джон Уэст был чрезвычайно доволен, узнав, что отныне Католическая федерация не будет больше политическим орудием, что нужно отказаться от мысли о создании ассоциации рабочих-католиков и что церковь намерена осуществлять свое политическое влияние через лейбористскую партию.
Дэниел Мэлон сидел у Джона Уэста уже больше часа и начинал испытывать крайнее утомление. Веки его слипались, голова клонилась на грудь, и ему стоило огромных усилий продолжать беседу. Он так устал, что уже хотел было отложить разговор, составлявший главную цель его посещения, но когда Нелли вышла распорядиться насчет ужина, он все же решился заговорить.
— Святой отец весьма доволен вашей плодотворной деятельностью за последние два года, мистер Уэст.
— Я делал только то, что считал своим долгом.
— Святой отец и кардиналы отзывались о вас очень лестно. Но в то же время… — Мэлон с трудом заставил себя продолжать, — в то же время и он и кардиналы несколько встревожены…
Глаза Джона Уэста сузились.
— … да, несколько встревожены… Видите ли, иезуит, побывавший в Риме раньше меня, сообщил о свирепых клеветнических нападках, которым вы подвергаетесь в протестантской прессе…
Мэлон умолк, ожидая, что скажет на это Джон Уэст.
Если Джон Уэст и разозлился, то он ничем не выдал своей злости. Немного помолчав, он заговорил, быть может, чуть тише, чем обычно: — Продолжайте, ваше преосвященство. Пробиваясь из нищеты к богатству, я нажил себе много врагов. Еще больше их появилось во время моей борьбы за Ирландию и отца Джеспера. Я не раз думал о том, как вы и святой отец отнесетесь к клевете, при помощи которой пресса старается очернить вас, вытаскивая на свет божий всякую ложь, распространявшуюся обо мне еще в незапамятные времена.
— Вы сильный и мужественный человек, — с облегчением сказал архиепископ. — Хотя у святого отца и кардиналов вы вызываете только восхищение, они все же решили, что мы не должны выставлять напоказ нашу совместную деятельность и не должны давать повода связывать наши имена. Мы можем оставаться друзьями, и я верю, что наша дружба будет продолжаться до гробовой доски. Но я думаю, мы лучше послужим его святейшеству, если выполним его волю. Таким способом мы с вами можем достичь гораздо большего. Это вполне соответствует моим целям — и вашим.
Джон Уэст в душе все время надеялся, что Ватикан открыто признает его заслуги и папа наградит его соответствующим званием; тем не менее ему удалось скрыть охватившее его чувство разочарования и унижения. Никто никогда не узнает, что Ватикан, в сущности, нанес ему оскорбление. С тех самых пор, как он снова выступил на поприще общественной деятельности и оказался у всех на виду, Джон Уэст знал, что, достигнув своей цели, он опять должен будет отойти в тень.
Власть дает еще большее сознание могущества и силы, когда она осуществляется издали. Ему не нужна была слава, он хотел только власти — власти без славы.
— По-моему, все это вполне отвечает моим целям, ваше преосвященство, — было все, что он сказал.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Это мир денег, всякая иная власть свергнута, все иные понятия — лишь скорлупа без содержания.
Прошло почти четыре года. Как-то под вечер незадолго до выборов из конторы Джона Уэста вышло четверо. Все они были лейбористскими деятелями штата Виктория.
Шедший впереди У. Дж. Беннет, небезызвестный Вор-джентльмен, сказал, обращаясь к своему спутнику Бобу Скотту:
— Ну, дело решенное. На этот раз уж мы добьемся сласти.
За ними шагал долговязый мужчина по имени Нед Хоран. Над его лбом высоко поднималась черная копна волос, и котелок, казалось, едва держался на ней. Глаза у Хорана были большие и круглые, а зрачки маленькие и синие.
— Наша возьмет, — поддакнул он, — и скажу вам, почему такое. — Нед всегда пересыпал свою речь подобными бессмысленными словечками, которые странно было слышать в устах человека, претендующего на пост премьера штата Виктория. Это, однако, не смущало ни Хорана, ни его патрона Джона Уэста.
За Хораном следовал Том Трамблуорд, маленький человечек с живыми глазами, с круглым лицом и ямочками на щеках; казалось, что он вечно улыбается, и чтобы придать более солидное выражение своей физиономии, он отпустил длинные моржовые усы. Все уже сошли вниз, а Трамблуорд спустился лишь ступеньки на четыре и вдруг, видимо приняв какое-то решение, быстро вернулся обратно.
Подойдя к двери кабинета Джона Уэста, он осторожно постучал.
— Войдите.
— Извините, что снова беспокою вас, Джек, — запинаясь, проговорил Трамблуорд, — но я хотел кое-что спросить у вас.
— В чем дело, Том?
— Да вот насчет руководства партией, Джек. Видите ли, я думал, не поддержите ли вы мою кандидатуру на пост лидера лейбористской партии.
— Лидером будет Нед Хоран, — сказал Джон Уэст.
— Да, но когда я баллотировался от Керрингбуша, вы говорили, что…
— Весьма сожалею, Том, но лидером будет Нед Хоран.
Трамблуорд с минуту постоял в нерешительности, потом повернулся и вышел.
Джон Уэст не видел ничего странного в том, что от него зависит, кто будет лидером лейбористской партии в штате Виктория. Разве не этого он добивался целых двадцать пять лет?
На только что закончившемся совещании Джон Уэст с Фрэнком Лэмменсом, при участии Скотта, Беннета, Хорана и Трамблуорда, разработали план «завоевания» ежегодной конференции лейбористской партии штата Виктория; Джон Уэст не сомневался в успехе.
Метод, которым он намеревался подчинить своему влиянию парламент, теперь был окончательно разработан. Джон Уэст играл в политику, как играют в шахматы, обдумывая каждый ход, передвигая своих людей по заранее намеченному плану. И неизменно рядом с ним маячила высокая мрачная фигура Фрэнка Лэмменса.
Из своей невзрачной конторы Джон Уэст словно спрут протягивал щупальца к самым разнообразным людям; тут и спортсмены, и судьи, и гангстеры, и члены городского совета, и руководители профсоюзов и прежде всего политические деятели. Он использовал способности людей, истощал все силы их ума и с безошибочной прозорливостью направлял их в своих целях. Такими марионетками в его руках были главным образом лейбористы, но, вообще говоря, он не делал различия между партиями, считая, что все это одна только видимость. Поэтому среди ставленников Джона Уэста попадались деятели и аграрной и национальной партий.
Однако основой его политической власти была лейбористская партия; те махинации, которыми он непрестанно занимался внутри нее, доставляли ему огромное наслаждение. Он уже не мог обойтись без них, как пьяница без вина. Он до тонкости овладел искусством интриг. В каждом избирательном округе он прежде всего взвешивал шансы лейбористов и только в том случае выставлял «своего кандидата» в так называемых «надежных» лейбористских округах, если был уверен в успехе. Наибольшим влиянием он пользовался в промышленных районах, особенно в Керрингбуше и его окрестностях. Обычно он не выставлял своего кандидата до тех пор, пока не ознакомится со всеми другими кандидатами и не выберет такого, который скорее всего мог пройти на выборах и которого можно будет купить или запугать, когда он попадет в парламент. Затем, независимо от того, был ли выдвинут кандидатом его ставленник или нет, Фрэнк Лэмменс звонил тому, кто был выдвинут, и предлагал ему «сотню-другую на расходы по предстоящей кампании и сколько угодно автомашин и помощников». Обычно предложение принималось.
Помощниками Уэста были бездельники и головорезы из банды Пройдохи Тэннера и хулиганы, которых собрали вокруг себя Ренфри, Рон Ласситер и другие. Все они распространяли предвыборные воззвания и листовки, а иногда и запугивали избирателей или соперников своего кандидата, прибегая в случае необходимости и к физической расправе. Особенно энергично действовали они во время выборов кандидата в «надежных» лейбористских округах, когда этот кандидат имел все шансы пройти в парламент. Они разработали множество своеобразных приемов. Их девизом было: «Голосуй пораньше и почаще».
По уставу лейбористской партии, в избрании кандидата могли участвовать все члены профсоюза, независимо от того, являются они членами этой партии или нет. Эту статью устава приспешники Уэста ловко использовали в своих целях, снабжая своих людей членскими билетами, которые они получали от продавшихся Уэсту профсоюзных заправил. Таким образом, агенты Уэста пускали в ход голоса отсутствующих или даже умерших членов профсоюза. Если и этого оказывалось недостаточно, то «начиняли» урну, как выражался Ренфри. Это значило, что в урну старались опустить как можно больше фальшивых бюллетеней. Помимо своей избирательной машины, Джон Уэст пользовался еще поддержкой большинства католиков-лейбористов. Многие все еще верили ему, считая его щедрым покровителем рабочих.
Джон Уэст был уже полным хозяином в лейбористской организации штата Куинсленд, завоевавшей правительственные посты. В других штатах его влияние было невелико. Но его больше всего интересовал парламент штата Виктория и федеральный парламент; оба находились в Мельбурне.
Джон Уэст не имел определенных политических убеждений. Он оставался безучастным, когда Хоран и другие обсуждали политику лейбористов. Если других миллионеров и церковников тревожили так называемые «социалистические пункты», для вида включенные в лейбористскую программу и предусматривавшие «социализацию производства, распределения и банков», то Джон Уэст слишком хорошо знал лейбористских деятелей, чтобы не принимать эти пункты всерьез.
Когда участники совещания покинули его контору, он остался сидеть за своим столом и погрузился в сладостные мечты о власти. Ему уже стукнуло пятьдесят шесть лет, волосы поседели, но подтянутая внешность скрадывала его возраст, и к тому же он обладал энергией и здоровьем сорокалетнего человека. Он чувствовал, что его лучшие годы еще впереди.
Томас Трамблуорд, достопочтенный член законодательного собрания штата Виктория от Керрингбуша, выходя из кабинета Джона Уэста, уже не сомневался, что окончательно попал в лапы Джону Уэсту. Приятного в этом было мало; впрочем, он предвидел, что именно так и случится.
Он медленно опускался по обшарпанной скрипучей лестнице, испытывая острое чувство жалости к себе. Его идеалы, весь тот неутомимый труд, который он вложил в лейбористское движение, — все пошло теперь прахом. Выхода не было. Всякая попытка развязаться с Уэстом грозила потерей парламентского мандата, а для Тома Трамблуорда это явилось бы сущей катастрофой.
Сидя в трамвае, он перебирал в памяти свое прошлое, вспоминал, как беспощадно машина Уэста все больше и больше затягивала его. Когда он в первый раз прошел в парламент, он понял, что лейбористских деятелей, в зависимости от их отношения к Джону Уэсту, можно разделить на три категории. Группа, возглавляемая Беннетом и Скоттом, всецело поддерживала Уэста, правда иногда тайно; другая во главе с Морисом Блекуэллом решительно противодействовала ему; а члены третьей группы, хотя и не поддерживали Уэста открыто, но в большей или меньшей степени все же подчинялись его власти. Трамблуорд ухитрялся лавировать между двумя последними группами до тех пор, пока не лишился мандата. Только что созданная аграрная партия выдвинула против него кандидатуру некоего Дэвисона. Дэвисон провел предвыборную кампанию весьма энергично; денег у него, видимо, было много, и он легко одержал победу. Трамблуорд никогда не забудет потрясения, которое он пережил, когда стали известны результаты выборов. Он знал, что ему уже никогда не получить обратно свой мандат. Шахты бездействовали, и состав избирателей изменился — выбыли голоса рабочих. Он знал, что вряд ли его выдвинут от другого округа. Провалившиеся кандидаты не котируются ни в одной партии. Сбережений у него не было, и его ожидала бедность. Он когда-то выбрался из омута нищеты и не хотел снова попасть туда.
Ничто так не пугало Тома Трамблуорда, как бедность. В детстве он видел, как она погубила всю его семью. Ради борьбы с нищетой он примкнул к социалистическому движению, вступив одновременно в лейбористскую и социалистическую партии, и работал там, не зная устали. Он оказался блестящим публицистом. Его книги «Победоносный социализм» и «Проблема нищеты» были широко известны. Он работал на той же обувной фабрике в Керрингбуше, что и братья Уэст, но не знал их; он поступил туда уже после их увольнения. Все свободное время он отдавал лейбористскому движению. Вскоре ему повезло: лейбористы выдвинули его кандидатуру в парламент.
Он победил на первых же выборах. Вскоре он вышел из социалистической партии и все свои помыслы сосредоточил на политической карьере. Он купил обувную фабрику, ранее принадлежавшую Кооперативному обществу, но, убедившись, что это дело невыгодное, продал ее и возложил все надежды на свой талант политического деятеля.
После поражения на очередных выборах он возвратился в Мельбурн в поисках работы. Однако труд казался ему занятием не только скучным, но и унизительным. Его жена, сестра которой была замужем за Перси Лэмбертом, напрямик заявила ему, что очень рада его поражению и что в глубине души всегда страдала от того, что он отказался от своих революционных идеалов и променял их на парламентское кресло.
Тяжелый труд на обувной фабрике и нищенская оплата так измотали Тома Трамблуорда, что от него осталась одна тень. Политику он совсем забросил, однако никак не мог примириться с мыслью, что потерял и положение в обществе, и уверенность в завтрашнем дне, которые давало ему звание члена парламента. С горя он увлекся поэзией и нашел себе некоторое утешение в чтении стихов Шелли, Китса, Адама, Линдсея Гордона и других поэтов. Труднее всего ему было отказаться от привычки мотать деньги; но он стоически удерживался от соблазнов, в особенности от игры на скачках, боясь оставить без куска хлеба жену и двоих ребят.
Прошел год, и счастье улыбнулось ему. Были назначены досрочные выборы. Однажды, придя домой, Том Трамблуорд нашел у себя записку, приглашавшую его зайти к мистеру Фрэнку Лэмменсу. Он никогда не видел Лэмменса, но знал, кто он и что он. Том едва смел надеяться, что Лэмменс предложит ему, выброшенному за борт политической жизни, поддержку и поможет вернуться в парламент. Лэмменс свел его с Джоном Уэстом.
Оказалось, что член парламента от Керрингбуша умудрился как-то добиться выдвижения своей кандидатуры помимо Джона Уэста. Он, видимо, столь беспечно относится к своей политической карьере, что осмелился пойти не только против Джона Уэста, но и против архиепископа Мэлона. С безрассудной смелостью он взял сторону Мориса Блекуэлла, когда тот боролся против католического влияния в лейбористской партии.
Джон Уэст сообщил Трамблуорду, что хочет провалить кандидатуру этого наглеца и избрал именно его, Тома Трамблуорда, для выполнения этой задачи. Недолго думая Трамблуорд согласился. Некогда, в былые времена своего увлечения социализмом, он хорошо знал члена парламента, о котором шла речь, но это не остановило его.
Когда он выходил из кабинета Джона Уэста, тот вдруг вернул его.
— Кстати, мистер Трамблуорд, вам, вероятно, известно, что Дэвисона против вас выставил я. Очень сожалею, но я хотел провести его в парламент, а вы баллотировались тогда как раз по его избирательному округу. Но я тогда же решил, что проведу вас на следующих выборах.
Том Трамблуорд ничего не ответил. Итак, Уэст нарочно провалил его, чтобы заставить подчиниться!
Кандидатура Трамблуорда была выдвинута, и он прошел в парламент. Он знал, что если будет выполнять приказы Уэста, то карьера его обеспечена. Совесть все же мучила его, и, чтобы заглушить ее голос, он стал с равнодушием циника относиться к жизни, политике, социализму и к борьбе рабочего класса.
Правда, Уэст пока что предъявлял небольшие требования, но Том знал, как знали все лейбористы в парламенте, что Уэст ждет того дня, когда лейбористская партия в штате Виктория придет к власти. Вот тогда-то Уэст и предъявит им всем свои требования.
Тому Трамблуорду было очень жалко самого себя. Скоро ему придется окончательно расстаться со своими высокими идеалами, не осуществив своей мечты стать лидером партии.
Подумать только, предпочесть какого-то безграмотного ирландца Хорана, и кому же? Тому Трамблуорду, писателю, оратору, знатоку поэзии. Сплошное ханжество! Уэст знает, что он, Том, атеист. Уэст любит католиков. Ну, что же, спасибо и на том, что он вообще обо мне подумал.
Том Трамблуорд решил не идти домой. Лучше он позвонит Марион — актрисе, знакомство с которой он свел после того, как вернулся к политике. Он расправил плечи, подобрал свое солидное брюшко и зашагал бодрее. Они вместе пообедают, выпьют, а потом в ее объятиях он забудет все заботы, которые отягощают человека просвещенного, преданного идеалам, как только он ввязывается в политику.
Вскоре после ухода Трамблуорда и его коллег в кабинет Джона Уэста явился Артур. Гладко зачесанные седые волосы, седые усы, белый, слишком широкий целлулоидный воротничок и строгий черный костюм придавали ему сходство с проповедником — если не смотреть в его пустые, мертвые глаза.
Артур дорожил безнаказанностью, которую обеспечивало ему родство со всемогущим Джоном Уэстом, и от случая к случаю все еще выполнял при нем роль телохранителя. Жажда крови по-прежнему была сильна в нем, и он отчасти утолял ее, служа посредником между братом и шайкой Тэннера и терроризируя избирателей во время предвыборных кампаний. Но весь смысл его жизни был в Ричарде Брэдли. Артур не забыл слов утешения, сказанных ему когда-то в Пентриджской тюрьме: «Ничего, ничего, сынок, скоро отделаешься!»
Брэдли скрывался от полиции, и Джон Уэст весьма неохотно содержал его. Преступление, заставившее Брэдли «залечь», было предумышленное и могло иметь серьезные последствия для Джона Уэста, хотя оно и было совершено без его благословения.
Отбыв наказание за налет на Дом профсоюзов, Брэдли сразу же замыслил вместе с Тэннером дерзкое ограбление среди бела дня. Полицейские штата Виктория, возмущенные тяжелыми условиями службы и низкой оплатой, объявили забастовку. Самое время для рискованных предприятий! И вот однажды на платформе пригородной железной дороги Брэдли и некий юноша по имени Мартин, недавно примкнувший к шайке Тэннера, остановили управляющего банком, в руках у которого был саквояж с двумя тысячами фунтов. Ужас охватил его при одном взгляде на Брэдли: от левого уха во всю щеку тянулся шрам, широкополая шляпа была низко надвинута на лоб, а свирепый взгляд таил гораздо большую угрозу, чем револьвер, который оттопыривал карман его пиджака.
— Давай сюда, — процедил тот сквозь зубы, а Мартин шагнул вперед и схватил саквояж за ручку. Тщедушный управляющий стал было сопротивляться, но Брэдли недолго думая выстрелил в него три раза и затем вместе с Мартином бросился к поджидавшей их поблизости машине Тэннера.
Когда Тэннер пустил машину на самой большой скорости, Артур Уэст, сидевший рядом с ним, крикнул Брэдли:
— Что случилось? Тебе пришлось пристрелить собаку? — Брэдли ничего не ответил.
Мартин, бледный, испуганный, воскликнул:
— Зря ты это сделал! Саквояж был уже у меня. Я никогда в жизни не держал в руках револьвера. Что же теперь будет со мной?
— Закрой плевательницу, останешься цел, — проговорил Тэннер.
Погони не было. Артура высадили в городе, и машина помчалась к заранее приготовленному убежищу.
На следующий день все газеты кричали об убийстве и требовали срочных мер против разбоя преступных банд, Джон Уэст послал за Артуром и заявил, что ему надоели подвиги Тэннера и Брэдли. Артур, умолчав о том, что сам принимал участие в преступлении, потребовал денег, чтобы спрятать беглецов. Джон Уэст сначала отказал ему, а потом уступил. До Мартина Артуру дела не было, он и не думал о нем. Но Брэдли он ни за что не отдаст полиции.
Смертельно раненный управляющий банком успел все же оказать подбежавшему к нему железнодорожнику: «Стрелял человек небольшого роста, хромой». Даже Джон Уэст не мог бы спасти Брэдли, если бы его поймали. Но Артур и Тэннер были достаточно изворотливы, чтобы помешать поимке Брэдли. Тэннер возил Брэдли и Мартина с места на место, но погоня следовала по пятам. Сыскная полиция не бастовала, а шум, поднятый газетами, и гнев населения заставляли сыщиков стараться изо всех сил. Преступников могли задержать со дня на день!
Тогда Артур Уэст, вспомнив, как в 1915 году ради спасения Брэдли принесли в жертву Борова, придумал дьявольский план. Если найдут хоть одного из преступников, то его повесят, и общественное мнение будет удовлетворено. Пройдоха Тэннер приветствовал этот план, ибо ему, а кстати и Брэдли, он сулил избавление от тюрьмы или чего-нибудь еще похуже. Он отделил тогда Брэдли от Мартина, а затем условился с подкупленным сыщиком, что его самого арестуют вместе с Мартином, чтобы у того не возникло подозрений, а затем освободят.
Мартина арестовали, судили и приговорили к смертной казни, а он даже не подозревал, что его предали. Однако главарь банды, соперничающей с бандой Тэннера, добился свидания с Мартином и открыл ему глаза.
Защитник Мартина сообщил Фрэнку Лэмменсу через Артура Уэста, что Мартин собирается выложить все, что ему известно о шайке Тэннера, ее связях и покровителях. Джон Уэст пришел в ярость и даже несколько растерялся. Выход нашел Тэннер: они устроят Мартину побег из Мельбурнской тюрьмы. Когда Артур поделился этим планом с Джоном Уэстом, тот сказал, что это безумие: Мартин, разумеется, содержится под усиленной охраной, и его застрелят прежде, чем он доберется до наружной стены. На это Артур Уэст хладнокровно ответил: — Тэннер говорит, что это неважно. Тогда-то Мартин наверняка ничего не скажет.
Договорились с одним из тюремных надзирателей. Тот связал из нескольких полотен веревку и передал ее Мартину в условленное время. Мартин, прежде чем воспользоваться ею, измерил ее длину. Веревка оказалась коротка. Подозревая, что его «спасители» хотят, чтобы его пристрелили, когда он будет спускаться, Мартин бросился к надзирателю и потребовал, чтобы его заперли в камере.
Затем в дело вмешалась сама судьба в образе католического священника, и Мартин умолк навсегда. Он был воспитан в католической вере, и теперь муки совести и страх смерти вновь вернули его к религии. Он покаялся в своих грехах, обрел душевный покой и умер на виселице, никого не выдав.
Джон Уэст пришел к заключению, что его уголовные друзья становятся для него обузой. Но с такими людьми связаться легче, чем развязаться. К тому же он все еще нуждается в услугах Тэннера. Джон сказал Артуру, чтобы тот больше не смел рисковать, даже если опять произойдет такое чудо, как забастовка полицейских. После этого шайка Тэннера угомонилась, и хотя потасовки и перестрелки с конкурентами продолжались, ничего порочащего Джона Уэста не случалось.
Сегодня Джон Уэст вызвал к себе Артура, чтобы сообщить о новом плане, для выполнения которого ему понадобится помощь Тэннера и нескольких из его самых надежных головорезов.
Этот план состоял в следующем: в Америке все еще действует сухой закон. Он, Джон Уэст, владеет контрольным пакетом акций крупного завода джина и виски. Эту продукцию, ввиду ее низкого качества, трудно сбывать в Австралии. Здесь компания прогорает, а в Америке покупают какое угодно пойло, даже австрийский джин и виски, лишь бы в них был спирт. Так вот, пусть Артур и Тэннер наладят отправку из Австралии спирта контрабандой в Мексику, а оттуда в Соединенные Штаты. Дело это, конечно, не легкое, но в случае успеха Джон Уэст не поскупится.
Артур Уэст жадно слушал брата, глаза его беспокойно бегали. — Ничего трудного тут нет — раз плюнуть! — сказал он. — Да ты и сам можешь купить пароход, если понадобится.
— Может быть, и куплю, но помни — никому ни слова.
— Не беспокойся.
— Поговори с Тэннером, а в дальнейшем обращайся по всем этим делам к Фрэнку Лэмменсу. Меня это не касается. Можешь идти. Держи связь с Фрэнком.
— Ладно. Но ты мне дашь еще немного денег для Дика Брэдли?
— Что я тебе, Английский банк, что ли? Ведь всего недели две назад я дал тебе пятьдесят фунтов!
— Да, но все обходится дорого. Ему надо ведь не только пить и есть самому, но еще кормить племянницу, которая ухаживает за ним, нужно откупаться от легавых. Пронюхает такой прохвост, где обитает Дик, и заявляется к нему: «Как поживаешь, Дик?» Это в первый раз. А потом приходит и просит взаймы двадцать фунтов, якобы взаймы, видишь ли. Это уж всегда так, когда скрываешься, — чуют стервятники. Недавно мы проучили одного такого дармоеда. В другой раз не сунется.
— Очень умно, — иронически заметил Джон Уэст. — Слушай! Ты лучше рукам воли не давай. Помни, что ты мой брат. Ты можешь сильно повредить мне. Держись в тени. Ты часто бываешь у Брэдли?
— Почти каждый вечер. А что?
— Не ходи туда так часто. Его все еще выслеживают. Хорош я буду, если тебя накроют вместе с ним.
— Дика никогда не поймают; были бы только деньги. Он ничего не тратит на себя. Выходит из дома немного поразмяться только ночью.
— Долго ли это будет продолжаться? Почему ты не отправишь его за границу? Я не могу вечно возиться с ним. — Джон Уэст вынул из ящика стола пачку десятифунтовых билетов, отсчитал пять бумажек и протянул их брату. — Вот еще пятьдесят, и не ввязывайся больше ни во что. Отправь его за границу. Это можно устроить.
— Дик не захочет, — поспешил ответить Артур. — И он прав. Здесь лучше. Зачем ему бежать? — Артур Уэст не допускал и мысли о разлуке с Брэдли.
— Не торчи у него каждый вечер. Я поговорю с Фрэнком, найдем через кого передавать ему деньги. На этот раз можешь еще отнести сам. Не забудь же о моем деле. Держи связь с Фрэнком.
* * *
Марджори, старшая дочь Джона Уэста, вернулась из Италии, где она три года училась игре на скрипке.
В ожидании ее приезда в доме Уэстов царило радостное волнение. Миссис Моран, готовясь к встрече внучки, хлопотала, как усердная пчелка. Мэри, очень любившая сестру, по случаю ее возвращения приготовила ей подарок — прекрасный портрет Бетховена, любимого композитора Марджори, и пригласила друзей на торжественный обед. Больше всех, пожалуй, радовался Джон-младший, которого Марджори всегда обожала. Марго едет домой, милая, хорошая Марго. Ему трудно было представить себе сестру знаменитой скрипачкой, какой мечтал ее видеть отец. Для него она осталась веселым товарищем детских игр, сорванцом, лазившим на самые высокие сосны в саду, где они резвились в те счастливые дни, пока еще ничего не знали из биографии отца и не подозревали, что их родители ненавидят друг друга. Даже беспечный Джон, не проявлявший интереса ни к чему, кроме шалостей в школе, детективных романов и леденцов, поддался общему настроению.
Нелли Уэст тоже принимала участие в хлопотах. Она мало-помалу опять вошла в роль матери, но не жены. Она по-прежнему жила в отдельной комнате с Ксавье, которому уже исполнилось восемь лет. Это был красивый ребенок, поразительно похожий лицом на отца, но мечтательный и временами даже угрюмый. Он понимал, что чем-то отличается от остальных детей и как бы чужой в семье. Одна только мать любила его. Джон Уэст сердито, почти с ненавистью отталкивал мальчика, когда тот хотел приласкаться к нему. Помимо матери, лишь бабушка и Мэри были ласковы с ним. Хотя Ксавье почти не помнил Марджори, он тоже силился разделить общее радостное волнение.
Джон Уэст по-своему любил Марджори и с нетерпением ждал ее приезда. Увлечение дочери музыкой сначала не интересовало его: классическую музыку он не любил и не понимал. Ни музыка, ни литература, ни живопись ничего не говорили его уму и сердцу. Нравились ему только сентиментальные романсы и песенки, которые когда-то певала его мать. Но когда знатоки стали поговаривать, что из Марджори может выйти замечательная скрипачка, которая прославится на весь мир, он изменил свое отношение к ее занятиям. Его дочь могла стать знаменитой и зарабатывать уйму денег. Он так заинтересовался музыкой, что поручил фирме, ведающей гастрольными турне, пригласить знаменитого скрипача фрица Крейслера. Концерты Крейслера в различных городах Австралии прошли с огромным успехом не только в музыкальном, но и в финансовом отношении. Крейслер несколько раз посетил Уэстов и слушал игру Марджори. По его совету, Джон Уэст отправил Марджори в Европу, где она должна была завершить свое музыкальное образование. Он был уверен, что дочь его возвращается домой во всеоружии таланта и знаний и готова взять штурмом все столицы мира.
В первый же вечер после торжественного обеда Марджори подошла к отцу и объявила, что выходит замуж. Жениха ее зовут Пауль Андреас. Он тоже скрипач. Они познакомились в консерватории. Пауль поехал за ней в Австралию, устроившись агентом германской импортной фирмы, закупавшей шерсть. Завтра он придет к ним обедать и сделает официальное предложение.
Джон Уэст очень рассердился. Все шло так хорошо. Никогда в доме еще не было такого оживления, и вдруг новая неприятность. Но он сдержался и ничем не выдал своего разочарования: пусть жених дочери придет, а там видно будет.
На следующий день, не в пример веселому обеду, состоявшемуся накануне, атмосфера за столом была гнетущая, Джон Уэст критически разглядывал Пауля Андреаса и сразу же невзлюбил своего будущего зятя. Акцент Андреаса изобличал в нем немца, и уже одно это восстановило против него Джона Уэста.
Андреасу явно было не по себе. По-английски он говорил с трудом, и его, видимо, что-то угнетало. Он поговорил с миссис Моран о погоде, а когда эта тема иссякла, Нелли попыталась навести разговор на музыку, но из этого тоже ничего не вышло. Тогда разговором овладела Мэри, оживленно и уверенно перескакивая с одной темы на другую, и скоро все, кроме гостя, почувствовали себя свободнее.
Джон Уэст не спускал глаз с красивого, но сумрачного лица Андреаса. Его неприязнь к нему все росла. Ясно, что этот смазливый скрипач зарится на деньги Марджори — на его, Джона Уэста, деньги. Сразу видно — дамский угодник, вон как уставился на Мэри: можно подумать, что это ей он хочет сделать предложение. И в глаза тебе не смотрит. Нет, Марджори не откажется от карьеры ради этого расфуфыренного хлыща.
Джон Уэст перевел взгляд на Марджори. Видно, по уши влюблена в своего ненаглядного. Но что нашел в ней этот сердцеед? Она некрасива; коротко остриженные волосы точно бахрома обрамляют ее круглое лицо, да и толстые ноги, теперь, когда носят юбки выше колен, едва ли кажутся ему привлекательными. Ясно, что Андреасу нужны деньги Марджори. Но он их не получит! Никогда немец не станет наследником его миллионов!
После обеда Джон Уэст обратился к дочери: — Марджори, я хотел бы поговорить с тобой в музыкальной комнате.
— Хорошо, папа, сейчас иду.
Войдя в музыкальную комнату, Уэст сел на стул у рояля.
— Садись, — сказал он. — Почему ты хочешь отказаться от своей карьеры и выйти замуж за этого… Андреаса?
— Потому что я люблю его.
— Любишь? Ты не знаешь, что… А он-то тебя любит?
— Ну конечно, любит: он хочет жениться на мне.
— А не приходило тебе в голову, что он хочет жениться на тебе из-за денег?
Марджори Уэст была уязвлена таким недостойным подозрением и ничего не ответила.
Она знала о причине отчуждения между родителями и, уезжая в Европу, радовалась, что избавится от гнетущей обстановки, царившей в доме. Марджори горячо любила мать, пока не узнала о том, как она изменила отцу и как родила Ксавье. Тогда любовь ее к матери сменилась возмущением и жалостью и между ними возникла непреодолимая стена. Тяжелый нрав отца всегда отталкивал ее. Она питала к нему лишь уважение, смешанное со смутным страхом. Никогда она не решилась бы обратиться к нему за советом. Можно было предвидеть, что именно так он и будет разговаривать с ней. Но она не даст ему разлучить ее с Паулем.
Марджори сидела молча, избегая взгляда отца. Затем она встала, гордо подняла голову и вызывающе посмотрела на него.
— Пауль хочет жениться на мне потому, что любит меня. Не говори про него гадостей.
Пауль Андреас пользовался большим успехом у женщин, и Марджори по уши влюбилась в него чуть ли не с первого взгляда. Сначала он был равнодушен к ней, но потом, когда они познакомились поближе, он объяснился ей в любви и предложил руку и сердце. Она была счастлива, но несколько удивлена: вокруг Пауля было столько хорошеньких девушек, и ей казалось, что он мог бы выбрать любую из них, если бы только пожелал.
— Но он же немец. Почему ты не сказала мне об этом вчера?
— Я и не подумала об этом. При чем тут национальность?
— Немцы — скверный народ. Беда в том, что ты войны не помнишь. Моя дочь никогда не выйдет за немца!
— Немцы — хороший народ. Подумай, сколько великих музыкантов и ученых они дали миру. Пауль говорит, что пропаганда, которая велась во время войны, — это сплошная клевета. И все равно, папа, я совершеннолетняя, и если я хочу выйти замуж за Пауля, то ты не можешь запретить мне!
— Не говори со мной таким тоном. Я повторяю, моя дочь не выйдет за немца.
— А если я тебя не послушаюсь?
— Тогда я оставлю тебя без гроша. Андреас зарится на твои деньги, но он их не получит!
— Пауля не интересуют деньги. Он любит меня. А мне не нужны твои деньги, если ты так говоришь.
Джон Уэст встал и подошел к ней. Он заговорил мягче, в примирительном тоне. — Но разве ты не видишь, девочка, что ему нужны только твои деньги? Зачем жертвовать ради него своей карьерой? Через год-два ты кончишь учиться. Перед тобой блестящая будущность. Ты станешь знаменитостью, будешь зарабатывать уйму денег. А выйдя за него замуж, ты лишишься всего.
Эти доводы не произвели на Марджори никакого впечатления. Встретив Пауля, она сразу отказалась от мечты стать знаменитой скрипачкой. Марджори знала, что она одна из лучших учениц в консерватории, но чтобы стать знаменитостью, нужны еще настойчивость и талант, а ей казалось, что именно этих качеств ей и не хватает. Она начала пренебрегать занятиями. Первая любовь поглотила все ее существо.
— Я откажусь от всего ради Пауля. Я хочу выйти за него замуж, иметь детей. Это право каждой женщины. Я не брошу музыку, но больше всего на свете я хочу быть женой Пауля.
Джон Уэст почувствовал смутное желание обнять дочь, по-отечески поговорить с ней, убедить ее внять доводам рассудка, сказать, что любит ее и думает только о ее счастье и успехе в жизни, но это было не в его силах. Он уже не был способен на дружеские отношения со своими детьми и не терпел с их стороны никаких противоречий.
— Ты сама не понимаешь, что делаешь, — сердито сказал он. — Можешь передать Андреасу, что ему не о чем говорить со мной. Немец не женится на моей дочери. Поразмысли над этим и образумься. Я ухлопал уйму денег на твою музыку и не позволю тебе губить свою карьеру из-за этого… этого пройдохи. Подумай хорошенько. А если не послушаешься меня, ни ты, ни Андреас не получите от меня ни гроша.
Джон Уэст резко повернулся и вышел из комнаты.
В гостиной он с мрачным видом уселся читать газету в ожидании Ренфри, с которым собирался потолковать о политических делах.
Вся семья между тем собралась в музыкальной комнате. Марджори успела шепнуть Паулю, что отец сегодня не хочет разговаривать с ним. Она все ему расскажет после.
Пьесы Дворжака, которые Марджори играла по просьбе Джона, звучали грустно и жалобно; Мэри почуяла что-то неладное и догадалась, в чем дело. Потом завели граммофон и прослушали симфонию Бетховена и несколько произведений Крейслера.
А в это время между членами муниципалитета Ренфри и Джоном Уэстом происходил серьезный разговор. Речь шла о предстоящих дополнительных выборах и, в частности, о лейбористском кандидате Морисе Блекуэлле. Джон Уэст заявил, что его нужно убрать во что бы то ни стало.
— Брось, Джек. Блекуэлл слишком популярен. Он выдвинут кандидатом, а рабочие округа Фицрой всегда будут голосовать за лейбориста, даже если кандидатом от них будет сам дьявол.
— Нет, Блекуэлл провалится, если мы сумеем доказать, что он коммунист. Тогда мы заставим лейбористов снять его кандидатуру и выдвинуть другого кандидата.
Решение об исключении коммунистов из лейбористской партии, недавно принятое на ежегодной конференции, дало в руки Уэста сильное оружие. Он хотел устранить Блекуэлла. Того же добивался и архиепископ Мэлон. Сообщив архиепископу о том, что ему не удалось предотвратить выдвижение кандидатуры Блекуэлла, Джон Уэст сказал, что у него есть план, который еще может поправить дело. Архиепископу план понравился. Понравился он и Ренфри: — Вот это здорово, Джек. Как бы нам это устроить?
— Еще точно не знаю. Может быть, заставить кого-нибудь из красных заявить, что Блекуэлл тайно состоит в компартии? Кстати, вероятно, так оно и есть. У красных туго с деньгами, и их можно купить, как и всех других. Ты сумел бы это сделать?
Ренфри выпятил грудь и немилосердно задымил большущей сигарой. — Попробую. Этот Джим Мортон, говорят, неплохой парень, хоть он и красный. Беден, как церковная мышь. Его можно уломать. Я поговорю с ним, если хочешь.
— Валяй, только будь осторожен. Не верю я этим коммунистам. На случай если наш план не удастся, мы выставим против Блекуэлла независимого лейбористского кандидата. А ты уговори этого Мортона заявить, что Блекуэлл коммунист, номер билета такой-то… ну там еще кое-какие подробности, чтобы все поверили. Я заплачу Мортону, окажем, пятьдесят фунтов. Но сначала ты все же попробуй предложить ему меньше. Я не хочу, чтобы слишком много моих денег перешло в карманы красных.
Проводив Ренфри, Джон Уэст отправился спать. Он разделся, положил револьвер под подушку и лег. Почти час он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к шелесту ветерка в вершинах сосен, и размышлял о своем разговоре с Марджори. Снизу доносились звуки музыки, гул голосов, временами смех.
Немного погодя в соседнюю комнату вошла Нелли. Джон слышал, как она разговаривала с Ксавье, с этим сыном каменщика, с этим приблудным мальчишкой, которого она любит больше, чем своих законных детей, детей Джона Уэста. Как нехорошо у них в доме! Временами он тосковал по любви Нелли, по ее дружескому участию, но всячески подавлял в себе это чувство. Нелли разрушила его семейный очаг и должна нести наказание. Он будет справедлив, но прежде всего должен проявить твердость характера. Он не допустит, чтобы его семья распалась, он будет направлять ее, руководить ими всеми, кроме этого ребенка, — за него он не отвечает. Его совесть чиста, он кормит его, поит, дает образование. Ни на что больше этот мальчишка, как и Нелли, не может претендовать. Он более чем справедлив. Но с Марджори дело обстоит сложнее. Глупая девочка хочет пожертвовать своей карьерой ради какого-то хлыща, да еще хуже того — немца. Ну что же, ему только придется образумить ее, вот и все.
Так размышлял Джон Уэст, пока не задремал. Сегодня он лег поздно. Обычно он укладывался в десять, кроме субботних вечеров, когда бывал на стадионе.
Он уже засыпал, когда снизу, видимо с веранды, донеслись приглушенные голоса. Он приподнялся и стал слушать. Шептались два голоса, мужской и женский. Это, конечно, Марджори и ее немец. Этого еще не хватало — спать не дают! Он напряг слух, но не мог разобрать, о чем они говорили. Марджори как будто плакала, а немец старался утешить ее.
Он поднялся с постели, босиком на цыпочках подошел к балкону и стал слушать.
— Пауль, ведь ты любишь меня? Ты не допустишь, чтобы это разлучило нас, ведь правда же, Пауль?
Голос Марджори, взволнованный и страстный, теперь был отчетливо слышен. Он не разобрал, что ответил Андреас, но до него все еще доносился плач Марджори. Затем раздался звук поцелуя и шепот: «О Пауль, Пауль, дорогой, я люблю тебя. Не покидай меня, Пауль».
Внезапно острая ненависть к Паулю Андреасу пронизала все существо Джона Уэста. Этот немец играет любовью его дочери, он губит ее карьеру лишь потому, что хочет завладеть его деньгами. Пока я жив, этому не бывать, немецкий выродок!
Джон Уэст слышал их тяжелое дыхание и вздохи. Обнимаются и целуются там в темноте под беззвездным небом. Гнев и ревность разгорались в Джоне Уэсте. Впервые он подумал о том, что его дочери выросли, что они могут любить и быть любимыми.
Его голос неожиданно разорвал тишину: — Марджори, иди спать! Ты что — хочешь поднять весь дом?
На мгновение внизу воцарилось молчание, потом послышался голос Марджори: — Извини, папа, я не знала, что ты не спишь.
— Ну, теперь ты знаешь. Очень жаль, что некоторые люди так злоупотребляют гостеприимством.
Джон Уэст снова улегся в постель; с веранды больше не доносилось ни звука. Он был раздражен, в голове носились горькие мысли. Долго не мог он заснуть. Не о лейбористской партии и Морисе Блекуэлле думал он, а о том, как расстроить планы Пауля Андреаса, посягнувшего на любовь его дочери и на его деньги.
* * *
Несколько дней спустя, ясным весенним утром Джим Мортон шел по Бурк-стрит. Судя по внешнему виду, трудно было представить себе человека, менее отвечавшего тому значению, какое придавали ему Джон Уэст и Ренфри. Солнце и тепло не могли приободрить Джима Мортона, он слишком устал и — хуже того — под ложечкой сосало от голода. Джим был высок и строен, но очень худ и явно истощен. Пиджак и брюки на нем были от разных костюмов, но довольно опрятны, хоть и поношены, каблуки стоптаны, и он прихрамывал — правая подошва насквозь прохудилась, и нога касалась асфальта. К тому же он был еще и небрит.
Джима Мортона огорчало положение в австралийской коммунистической партии. Через год после того, как ее создали Перси Лэмберт и его сторонники, она распалась из-за отсутствия единой политической линии. Хотя затем она была реорганизована, но Лэмберт не вступил в нее, так как пришел к убеждению, что создание коммунистической партии в Австралии преждевременно. Все же он остался неофициальным руководителем той горстки людей, которые составляли партийную организацию штата Виктория.
Джима Мортона одолевали сомнения. Ему казалось, что борьба безнадежна. Он не был Томом Манном, но слыл неплохим организатором. Помимо обычной работы — продажи брошюр, выступлений на берегу Ярры и агитации среди безработных, — ему поручили проводить в профсоюзах линию партии. Он должен был по возможности оказывать влияние на профсоюзное руководство при решении важнейших вопросов. Эта задача оказалась очень трудной, ибо его влияние было невелико.
Он шел, прихрамывая, и держал руку в кармане, зажав в ней последнюю шестипенсовую монету, как бы опасаясь, что она может выскочить из кармана и потеряться.
Давно ли он бежал из ветхой лачуги в Новой Зеландии, куда родители привезли его из Ирландии ребенком? Давно ли бежал из дому и пустился в плаванье вокруг света? Казалось, с тех пор прошла целая вечность, долгий путь проделал он, прежде чем остался с шестью пенсами в кармане.
Давно ли он сидел в тюрьме за то, что поднял бунт на корабле? Давно ли сошел на берег в Мельбурне, когда ему осточертело море, пробавлялся случайной работой и наконец обосновался на суше? Давно ли от нечего делать пошел в воскресенье на берег Ярры и слушал, как неугомонный Джо Щелли призывал своих многочисленных слушателей организоваться и действовать, чтобы приблизить день, когда бедные и угнетенные восстанут и сбросят ярмо ненавистного «господствующего класса»? Давно ли имя Ленина пламенем возгорелось в его груди? Давно ли он вступил в коммунистическую партию?
Он в нерешительности остановился на углу перед рестораном. Он уже догадывался, что слабость и сосущая боль под ложечкой происходят не только от отсутствия курева, но и от голода. Когда он курил в последний раз? Чего бы он не дал сейчас за одну затяжку! Только позавчера он с жадностью выкурил последнюю папиросу, а кажется, что с тех пор прошла целая вечность.
Он сделал над собой усилие и собрался с мыслями. Вот что он сделает: истратит пять пенсов на чашку чая и пирожок с мясом в дешевом кафе напротив, а потом, чтобы не чувствовать себя полным банкротом, с одним пенни в кармане, пойдет к витрине редакции «Века» посмотреть объявления о найме. Ему нужно заработать денег, чтобы расплатиться за комнату, немного подкормиться и починить обувь. Значит, партийной работой ему придется заниматься лишь в свободное время. Человек не может творить чудеса, ему нужно жить. Со сбора средств на митингах сигарет не купишь. Брось ты все это, дружище Джимми. Какое дело рабочим, что ты дошел до точки, что у тебя не заплачено за квартиру, что ты весь обносился? Он пожал плечами. Пойти съесть пирожок и выпить чаю. Может, настроение подымется.
Джим только хотел сойти с тротуара и пересечь мостовую, как вдруг прямо на него наехала большая автомашина. Он отскочил назад. Машина резко затормозила у тротуара, из нее вышел мужчина в котелке и с толстой сигарой во рту и направился к чертыхающемуся Мортону. Тот сразу узнал Ренфри, репутация которого была ему хорошо известна.
— Вы Джим Мортон?
— Да, но из этого не следует, что на меня можно наезжать! — сердито сказал Джим.
Ренфри добродушно похлопал его по плечу. — Ну где там! И не задели. За рулем сын сидит, горяч малость. Я искал тебя. Мы едем, а он и говорит: «Вон Мортон, на углу стоит». Легок на помине, — говорю. — Я — Ренфри. Небось слыхал?
— Слыхал, — буркнул Мортон, немного поостыв.
— Пойдем выпьем?
Мортон был в нерешительности. Кто это сказал — Генри Лоусон, кажется, — что голодному человеку часто предлагают выпить, но редко поесть.
— Ладно, — согласился он, и Ренфри, крепко взяв его под руку, повел в бар.
— Ты что будешь пить?
— Виски с содой. — Мортон подумал, что от пива его сейчас стошнило бы, а виски, может быть, подбодрит.
Мортон знал, что Ренфри влиятельная фигура в лейбористской партии — ставленник пресловутого Джона Уэста. Ренфри заказал две порции виски и облокотился на стойку, перекатывая незажженную сигару из одного угла рта в другой.
«Прав Дарвин, — подумал Мортон. — Сущая обезьяна. Интересно, что ему от меня нужно».
— Просто вчуже обидно, что такой умный парень ходит оборванцем. Того и гляди, из штанов вывалишься, — сказал Ренфри сочувственно.
Мортон не спеша глотнул виски, ему обожгло внутренности, потом ударило в голову. Когда мысли прояснились, он ответил:
— Пока еще не вывалился!
— Такой парень, как ты, далеко может пойти в любом деле. Язык у тебя хорошо подвешен, да и грамотный ты. Я могу дать тебе работу на швейной фабрике у Джека Уэста. Я там директором.
Мортон промолчал.
— Брось ты якшаться с красными. Что это тебе даст?
— Боюсь, что очень немного.
— То-то. Почему бы тебе не вступить в лейбористскую партию? Будешь работать со мной, а я тебя устрою на фабрику. И в парламент проведу. Я уж постараюсь, чтобы Джек Уэст протолкнул тебя туда.
Джим Мортон все потягивал виски. Оно немного подкрепило его, и он чувствовал себя лучше. Слова Ренфри заинтересовали его. Мортону, как и большинству руководителей рабочего движения, Джек Уэст представлялся таинственной силой, действующей за кулисами. Он слышал, что Уэсту принадлежат спортивные залы, ипподромы и бог весть что еще, что он разбогател на тайном тотализаторе, который некогда держал в Керрингбуше.
Мортон решил разузнать, что за всем этим кроется. — Неужели это так просто? — спросил он.
— А то как же? За Джеком Уэстом всегда последнее слово, когда выдвигают кандидатов. А если кто-нибудь идет не так, мы подтасовываем бюллетени. — Ренфри вынул сигару изо рта и расхохотался, хлопнув Мортона по спине и чуть не расплескав его виски.
— Понимаю. Но не станете же вы это делать для меня даром.
— Нет, не совсем. Тут есть один тип, который дает деньги коммунистам. Подписывается «Номер девять» в красной еженедельной газете «Рабочий». Его статьи печатаются чуть ли не в каждом выпуске. Ты не знаешь, кто он такой?
— Понятия не имею.
— Не Блекуэлл ли? Он выступал против исключения коммунистов из лейбористской партии.
— Нет, Блекуэлл не состоит в коммунистической партии.
— Ну, а мы думаем, что состоит.
— Кто это — мы?
— Я и Джек Уэст.
— Ну, так вы ошибаетесь.
— А хоть бы и так. Если бы ты заявил, что Блекуэлл коммунист, он провалился бы на выборах.
«Вот оно что, — подумал Мортон. — Хотят доказать, что бедняга Морри — коммунист, каково?» — Так чего же вы хотите от меня? — спросил он.
— Вот чего, — Ренфи наклонился к Мортону, оглянувшись по сторонам с видом заговорщика. — Я дам тебе пятьдесят фунтов, если ты письменно подтвердишь, что Блекуэлл и есть «Номер девять». Он побил нашего кандидата на предварительных выборах. Если мы докажем, что он член компартии, его кандидатуру снимут, и это место получит наш кандидат. Официальный лейбористский кандидат наверняка пройдет.
— Пятьдесят фунтов — это немало. Видно, вам очень приспичило свалить Блекуэлла.
— Да, он нам очень мешает.
— И будет мешать, если я не соглашусь?
— Это еще неизвестно. Если мы не сумеем доказать, что Блекуэлл красный, мы выдвинем против него своего человека как независимого. А шайка Тэннера поможет нам в избирательной кампании.
«Ну и болтливый же ты дурак, — подумал Мортон. — Всемогущий Уэст мог бы выбрать себе в помощники кого-нибудь поумнее».
— Давай выпьем еще по одной, — сказал Ренфри, убежденный, что дело у него идет на лад. — Ты только сделай это для нас — не пожалеешь. Рабочим твоим плевать на все это. Стадо баранов. Переходи к нам. Пятьдесят фунтов и хорошее место. Начальником будешь. Мало кто получает такие предложения.
Джим Мортон залпом проглотил виски. Довольно с него. Деньги ему пригодились бы, но не такого сорта. Лучше убираться отсюда подобру-поздорову да пойти рассказать все Морри Блекуэллу и Перси Лэмберту.
— Дело нешуточное, — сказал он. — Мне нужно подумать.
Ренфри начал было его уговаривать, но под конец сказал:
— Ну, ладно, даю тебе сроку до завтра. Давай встретимся у ратуши в Керрингбуше в десять вечера. Я принесу пятьдесят фунтов и бумагу, которую ты подпишешь.
Мортон постоял немного, глядя вслед удалявшейся машине, затем поспешил в другую сторону и вошел в кафе. Он жадно проглотил пирожок, бросая завистливые взгляды на бифштекс по-гамбургски, который уплетала толстуха, сидевшая напротив него. Выйдя из кафе, он направился в магазин театрального реквизита, где Перси Лэмберт служил приказчиком.
Дождавшись ухода покупателя, Мортон подошел к прилавку. — Можно тебя на минутку, Перси?
Лэмберт увел Мортона в заднюю комнату и там выслушал его рассказ. Когда Мортон кончил, Лэмберт тихо свистнул, вышел в магазин и позвонил по телефону.
Перси Лэмберт мало изменился, только пополнел немного да в поредевших волосах появилась седина. Он все еще пользовался большим влиянием в коммунистической партии и, работая в Совете профсоюзов, тесно сотрудничал с Мортоном.
— Морри сейчас придет.
— Отлично. Что же нам делать, как ты думаешь? — спросил Мортон.
— Я думаю, тебе следует пойти завтра в условленное место и еще немного поволынить. Мне кажется, это нам поможет не только добиться переизбрания Морри, но и дискредитировать, а может быть, и выгнать Ренфри. Встреться с Ренфри и притворись, будто готов сделать, что он просит, но протяни еще несколько дней. Тогда мы поближе к выборам выпустим листовку, разоблачающую Ренфри и Уэста, и опубликуем всю эту историю. Дотянем до последней минуты, чтобы не дать им времени ответить.
Только теперь Джим Мортон понял, что ввязался в рискованное дело. Перспектива столкнуться с шайкой Тэннера ему очень не нравилась. На душе стало тревожно.
— Недурен план, Перси. Посмотрим, что скажет Морри.
Лэмберт загорелся. — Ведь такой случай может подвернуться раз в жизни! Мы выведем Ренфри и всю банду Уэста на чистую воду и крепко ударим по ней. Они разлагают рабочее движение. Вот случай подорвать их политическое влияние. После этого подавляющее большинство рабочих и даже кое-кто из лейбористов, попавших в лапы Уэсту, поддержат Морри. Ренфри, кажется, сказал, что собирается использовать банду Тэннера? Тогда нам, пожалуй, надо иметь при себе оружие. У тебя есть разрешение?
— Нет.
— Все равно, захвати револьвер.
— Пустяки.
— Нет, не пустяки. Дело будет жаркое.
В магазине послышались шаги.
Лэмберт выглянул за дверь. — A-а, Морри, заходи.
Морис Блекуэлл вошел в комнату, снял шляпу и сел на стул, принесенный Лэмбертом. Блекуэлл был среднего роста, не худ и не толст, с круглым добродушным лицом; на широкий лоб его свисала кудрявая прядь волос. Одет он был просто — в черный, очень старомодный костюм. Наружностью он походил на степенного семьянина из среды интеллигентов, каковым и был на самом деле, но люди, близко стоявшие к нему, знали, что он обладает недюжинной энергией, мужеством и всегда твердо отстаивает свои убеждения. Он примыкал к левому крылу лейбористской партии и вел ожесточенную борьбу против влияния Джона Уэста и архиепископа Мэлона. На недавнем съезде он приложил все усилия, чтобы помешать исключению коммунистов из лейбористской партии.
— Что случилось, Перси? — спросил Блекуэлл.
Он молча выслушал Мортона и Лэмберта.
— Да, мы будем бороться с ними, Перси. Не могу сказать, чтобы я целиком одобрял такой способ дурачить Ренфри: это опасный человек. От него можно всего ожидать. Я предпочел бы бороться с ним и Уэстом только политическим оружием. Но все же, по-моему, план может удасться, и я не буду вам мешать. — Затем Блекуэлл обратился к Мортону: — Ты, я думаю, понимаешь, Джим, как это опасно.
— Понимаю, Морри, но мне кажется, план Перси неплох, — подтвердил Мортон, впрочем, несколько нерешительно.
— И ты готов выполнить его? Ведь больше всех рискуешь ты сам.
— Думаю, что справлюсь. Во всяком случае, завтра вечером я должен встретиться с Ренфри.
Блекуэлл поднялся.
— Советую тебе обзавестись револьвером, — с улыбкой сказал ему Лэмберт.
— Нет, я не признаю насилия, ты же знаешь. Я буду бороться с ними по-своему.
На другой день Джим Мортон стоял перед ратушей Керрингбуша. Он невольно вздрогнул, когда большие часы на башне начали бить десять. Чувствовал он себя прескверно.
Не успел отзвучать последний удар, как подъехала машина и из нее вышел Ренфри. Он оглянулся по сторонам, потом подошел к Мортону.
— Идем, поговорим в машине, — сказал он.
Мортон помедлил немного, прежде чем последовать за Ренфри. Они сели на переднее сиденье. Мортон заметил, что сзади сидят еще двое. Несмотря на полумрак, он узнал сына Ренфри, коренастого парня с широким тупым лицом. Он обернулся и взглянул на второго седока. У того шляпа была низко надвинута на лоб, так что виднелись одни белые усы; руки он спрятал в карманы пиджака. Мортон не знал, что это Артур Уэст. Револьвер, который тот держал в кармане, был направлен в спину Мортона.
Мортон струхнул не на шутку. Как-то он выпутается из этой истории?
— Ну, ты надумал? — спросил его Ренфри.
— Да, но… — охрипшим от волнения голосом проговорил Мортон.
— Тянешь, чтобы содрать побольше?
— Грязное это дело.
— Что же здесь грязного? Твой Блекуэлл ни черта не стоит. Ты окажешь услугу рабочим, если поможешь избавиться от него.
Мортона возмутили эти слова, но он сдержался. — Во всяком случае, — сказал он, — я хочу получить за это побольше, никак не меньше сотни.
Мортон услышал, как человек с белыми усами пошевелился за его спиной. Бог знает, на что способны эти люди, если он будет слишком артачиться. Нужно поскорее выбираться отсюда.
Ренфри помолчал немного. — Ладно, — сказал он наконец. — Вот что мы сделаем. Ты не только заявишь, что «Номер девять» — это Блекуэлл, но и подпишешь письмо, в котором будет сказано, что он уже много лет состоит членом коммунистической партии. За это ядам тебе сотню фунтов. Договорились? И нечего больше ломаться, добром говорю тебе. А то — неровен час…
— Хорошо, я согласен, но…
— Вот и молодец! И послушайся меня, развяжись ты со своими красными. Всю жизнь будешь без штанов ходить, если останешься с ними. Встретимся завтра вечером, и я все приготовлю.
— Нет, завтра я не могу. У меня собрание. Давайте в пятницу вечером.
Ренфри сказал Мортону, где его ждать, и машина уехала, а сильно встревоженный Джим Мортон поплелся в город.
На следующий день после свидания Джима Мортона у ратуши Керрингбуша Мортон и Блекуэлл посетили председателя лейбористской партии штата Виктория.
Мортон заверил его, что «Номер девять» вовсе не Блекуэлл и что Блекуэлл никогда не состоял в коммунистической партии. Председатель, со своей стороны, заявил, что не допустит, чтобы Ренфри протащил кандидатуру ставленника Уэста. Было решено, что Мортон пойдет на свидание с Ренфри, и Лэмберт будет выполнять роль свидетеля, а если понадобится, то и защитника.
Перси Лэмберт стоял в темном углу, прижавшись к стене, и наблюдал за Джимом Мортоном, ожидавшим Ренфри под фонарем на противоположной стороне улицы. Лэмберт нащупал в кармане револьвер. Мортона страшило предстоящее свидание — и недаром: место, назначенное Ренфри для встреч, оказалось кондитерским магазином — одним из тайных притонов шайки Тэннера.
На узенькой уличке показались огни автомобильных фар. Ренфри вышел из машины, заговорил с Мортоном и вместе с ним свернул в переулок, на углу которого находилась лавка. Лэмберт пересек улицу и прошел мимо переулка, сжимая в кармане рукоять револьвера; Мортон, Ренфри и еще двое мужчин разговаривали на пороге открытой двери.
Лэмберт услышал голос Мортона: — Я не подпишу до тех пор, пока не получу деньги. — И ответ Ренфри: — Значит, не доверяешь мне?
Лэмберт снова прошел мимо переулка и остановился, напряженно прислушиваясь. Мортон, Ренфри и еще кто-то третий громко спорили. Лэмберт не знал, вмешаться ему или нет. Все что угодно может случиться. Наконец он услышал шаги по переулку и бегом бросился обратно через улицу. Из переулка вышел Мортон и, обогнав лавку, направился в сторону города. Как было условлено, Лэмберт повернул за противоположный угол и пошел Мортону навстречу.
Когда они сошлись, Мортон сказал: — Ну, с меня довольно, Перси. Их было трое. У всех револьверы в кармане. Один из них, по-моему, сам Пройдоха Тэннер.
— О чем вы договорились?
— Я договорился встретиться с Ренфри у станции Клифтон-Хилл в пять часов дня в воскресенье. Я сказал, что мне нужно еще подумать. Признаюсь, я здорово перетрусил.
— У нас уже есть все, что нужно. Ты больше не показывайся им, Джим. Я пойду сам и приведу с собой свидетелей. Посмотрю, кого они пришлют.
Через несколько дней после выборов в округе Фицрой Джон Уэст в бешенстве шагал взад и вперед по музыкальной комнате белого особняка. Возле рояля сидел перепуганный Ренфри.
— Я говорил тебе, будь осторожен, — отчитывал его Джон Уэст. — Я говорил тебе, не доверяй Мортону. А ты что наделал? Оставил ему копию письма! Да еще наболтал лишнее.
— Да нет же, Джек. Ничего я ему не говорил. Честное слово, ничего, — оправдывался Ренфри. — Я ему не доверял, как ты и велел мне.
— Как же не доверял! — Джон Уэст круто остановился перед Ренфри. — Откуда же им все это известно? — Он начал читать листовку, которую держал в руке:
«Лейбористский Таммани-холл. Станет ли лейбористская партия орудием бандитов? „Черная рука“ в Фицрое. Победа Блекуэлла на дополнительных выборах в Фицрое — это не только победа над якобы „независимым“ кандидатом, это победа над бандой „Черной руки“, орудующей в политической жизни штата Виктория.
Подпав под власть этой преступной банды, человек становится ее послушным орудием. Попробуйте только выступить против нее, пойти наперекор ее желаниям, и каждый знает, что вы счастливец, если у вас есть разрешение носить при себе оружие. Морис Блекуэлл выиграл историческую битву против этих бандитов…»
— Историческая битва! Я им покажу историческую битву!
— Плюнь ты на все это, Джек. Ведь все это было напечатано в коммунистической газете «Рабочий». Все это враки, и ничего такого я не говорил Мортону, — убеждал Ренфри, прибегая к уловке, получившей широкое распространение в последующие годы, особенно среди политических деятелей: нападать на коммунистов в надежде прикрыть этим свои злодеяния.
Но это объяснение не успокоило Джона Уэста.
— Если все это вранье, то откуда это взялось: «Во время одного разговора с Мортоном Ренфри сказал, что к его услугам шайка Пройдохи Тэннера, исполняющая определенные поручения в избирательных кампаниях…?» А что ты скажешь на это: «Упомянутая преступная организация вмешивается более или менее успешно вдело выдвижения кандидатов в лейбористской партии и возглавляет ее пресловутый букмекер Ренфри, за которым стоит зловещая, скрывающаяся в тени фигура — всем известный мельбурнский миллионер, в течение многих лет широко финансирующий политические кампании…»?
— Это про тебя, Джек.
— Да, про меня, — з арычал Джек Уэст, — а вот это про тебя: «Хвастливый пустозвон, тщеславный, самодовольный болтун». На счет тебя-то они правы. Они только забыли написать, что ты еще и набитый дурак!
— Брось, Джек!
— Нет, это ты брось. Тут пишут, что тебя выгонят из лейбористской партии. А я говорю тебе — не выгонят.
— Правда? Ты это уладишь, Джек?
— И не подумаю! Ты пойдешь и сам подашь в отставку. А потом, перед выборами в муниципалитет, я устрою, чтобы тебя приняли обратно, и ты выставишь свою кандидатуру. И впредь ты будешь работать только в Керрингбуше. Это было мое последнее серьезное поручение тебе.
— Ты уж больно строг, Джек.
— Ничего я не строг. Ты нажил на мне целое состояние — и, уж наверно, порастряс его, — и еще не было дела, которого ты не испортил бы.
— Ну, уж это ты преувеличиваешь, Джек.
— Вместо того чтобы провалить Блекуэлла, ты помог ему победить. Сообщения в газетах о ходе предвыборной кампании сильно повредили мне — и все это твоя вина. А теперь еще эта листовка! Я предупреждал тебя после твоей первой встречи с Мортоном, что здесь может быть ловушка, а ты дал ему одурачить себя. Вот послушай. — Он снова со злобой начал читать листовку: — «Не следует забывать, что многие члены этой банды состоят в организациях лейбористской партии и что в густо населенных районах, прилегающих к Керрингбушу, их слово — закон». А дальше еще хуже: «Один оратор за другим, один политический деятель за другим, которых хвастливый букмекер объявил своими приспешниками, поддерживали кандидатуру Блекуэлла. Разоблачению попытки подкупить Джима Мортона было уделено видное место в двух последних предвыборных речах Блекуэлла. Возмущенные мошенническими уловками бандитов, сторонники лейбористской партии теснее сплотились вокруг Мориса Блекуэлла. Тамманизм потерпел крах».
Хотя Джон Уэст прочел все уничтожающим тоном, но гнев его уже улегся. Он не мог долго злиться на Ренфри, к которому относился с презрительным снисхождением.
Разумеется, давно пора было перестать пользоваться услугами Ренфри в важных делах. Больше этого не повторится!
— Все равно, Мортону это не сойдет с рук, — продолжал Джон Уэст. — Мы предложили помочь ему, если он поможет нам. Впредь мы будем знать, как верить коммунистам. Это угроза для общества. Мы покажем Мортону, как обманывать нас. Нет, нет, Ренфри, я поговорю о нем с Фрэнком Лэмменсом.
— Я сам это сделаю, Джек. Мне нужно расквитаться с ним.
— Нет, Ренфри, предоставь это Фрэнку. А сам пока держись в тени.
* * *
Марджори Уэст стояла у рояля и играла на скрипке. Она играла «Муки любви». Тоска была в звуках скрипки, тоска щемила сердце.
Слеза скатилась по щеке Марджори и упала на скрипку. В комнату вошла Мэри и села у высокого окна, освещенного последними лучами заката, вытянув стройные ноги.
Она пришла прямо с теннисной площадки. Короткая белая юбка едва доходила до колен. Пряди огненно-рыжих волос выбились из высокой прически.
Когда скрипка всхлипнула в последний раз и умолкла, Мэри, не замечая слез Марджори, воскликнула: — Ну что это за жизнь! Теннис, обед, танцы, сон, завтрак, опять теннис, или церковь, или благотворительный базар. Боже мой!
Марджори, стараясь подавить волнение, ничего не ответила.
— Что за жизнь, — повторила Мэри с наигранно скучающим видом. — Если тебе надоест теннис, можешь поехать верхом — и в знак протеста сидеть в седле по-мужски. Теннис, верховая езда, танцы. Все это так же нудно, как охота, стрельба, рыбная ловля. Вот проклятье родиться среди праздных богачей. Еще куда ни шло, если твой отец почтенный банкир или еще что-нибудь в этом роде. Нужно видеть, как эти старые ханжи смотрят на тебя. — Мэри встала и заговорила в нос, мимикой и голосом подражая «старым ханжам»: «Да, она недурна, но ведь ее отец разбогател на тотализаторе, подумайте только, милочка, на тотализаторе!» Если бы только я могла заняться чем-нибудь полезным, работать в конторе или на фабрике. Воображаю, что сказал бы отец! — Она выпрямилась и довольно удачно изобразила Джона Уэста: «Мэри, я знаю, что для тебя лучше. Если ты не послушаешь меня, я оставлю тебя без гроша. Тебе только надо быть красивой и чтобы все говорили: „Это дочь Джона Уэста. Посмотрите, какая она хорошенькая“». Боже мой, что за жизнь!
Мэри бросилась на кушетку, стоявшую у стены, потом села, обхватив руками колени, и задумалась; Марджори все так же молча сидела, прислонившись к роялю.
Вошла Нелли Уэст. Не считаясь с модой, она по старинке носила длинные платья. Ей было уже под пятьдесят, и с ее все еще красивого лица не сходило выражение угрюмой скорби.
Все утро она пролежала в постели, жалуясь на боль в пояснице. Она все еще носилась со своей болезнью, хотя никто в доме не принимал этого всерьез.
— Ради бога, Мэри, сколько раз я просила тебя не сидеть, задрав ноги. Ты уже взрослая девушка, а не школьница.
— Ну ладно, мама, — ответила Мэри, меняя позу.
Нелли пришла, чтобы поговорить с Марджори, рассчитывая застать ее одну. Она знала, что Марджори очень подавлена решительным отказом Джона Уэста «выдать дочь за немца». Решив не говорить о сердечных делах Марджори в присутствии Мэри, она только сказала: «Пора бы вам переодеться к обеду», — и вышла.
Нелли очень огорчало, что Марджори до сих пор не поделилась с ней своим горем. Она чувствовала, что ей так и не удалось вернуть доверие дочерей.
Мэри наконец заметила, что сестра расстроена до слез.
— Не унывай, Марго, — сказала она. — Разве дело уж так плохо?
— Очень плохо, — ответила Марджори и жалобно всхлипнула.
Мэри подошла к сестре и ласково обняла ее за плечи.
— Ты все горюешь, Марго. Не ешь и не спишь совсем. Почему бы нам с тобой не поговорить по душам? Пойдем сядем сюда.
Марджори покорно последовала за сестрой, и в сгущающихся сумерках они рядом сели на кушетку.
Долго сдерживаемая душевная боль Марджори прорвалась наружу в судорожных рыданиях. — Ах, что мне делать, Мэри?
Мэри крепко обняла сестру и дала ей выплакаться. Когда рыдания Марджори немного утихли, Мэри достала из кармана крохотный платочек и подала сестре. — На, возьми, Марго, вытри нос. Пореветь немножко — это очень помогает.
— Ничто мне уже не поможет, Мэри. Мне остается только умереть.
— Брось, Марго, что за мрачные мысли! — воскликнула Мэри, испуганная тоном сестры. — Неужели так плохо дело?
Марджори выпрямилась, делая отчаянные усилия овладеть собой.
— Скажи мне, Мэри, ты веришь, что это очень тяжкий грех, если любишь человека, любишь от души, по-настоящему — отдаться ему, хотя он тебе не муж? — Проговорив это, Марджори опустила глаза, избегая взгляда сестры, и спрятала голову у нее на плече.
— Нет, Марго, не верю. Наша религия иногда кажется мне слишком суровой. Я знаю, что, когда мне встретится человек, которого я полюблю, я буду… ну, я буду любить его. Не мучай себя. Только твое сердце может сказать тебе, настоящая ли это любовь, а настоящая любовь не может быть грехом.
— Я люблю его, я очень люблю его, и мне все равно, что говорит церковь. Но Мэри… Как мне сказать тебе? Мэри, у меня будет ребенок!
— Ах, бедная ты моя! А ты уверена?
— Да. Что же теперь будет со мной, Мэри? Во всем виноват отец. Я противилась Паулю до тех пор, пока папа не запретил мне выходить за него.
Мэри потрясло признание сестры, но она тотчас взяла себя в руки: Марго сейчас особенно нужна твердая опора. Мэри прижала к себе сестру еще крепче и сказала:
— Все это не так страшно, как тебе кажется. Ты любишь его и не сделала ничего дурного. Ты можешь сейчас же выйти за него замуж и вернуться в Европу. Там никто ни о чем знать не будет. Если он хочет жениться на тебе, — значит, он тоже любит тебя.
— Так говорит он, но папа уверен, что ему нужны только мои деньги.
— Ах, не слушай ты папу. Деньги — его кумир. Он думает, что все гоняются за его деньгами. — Мэри сама не вполне верила в бескорыстие Андреаса, но сейчас не решалась высказывать свои сомнения. Пауль должен вызволить Марго из беды, в которую она попала по его милости.
— А Пауль знает, что ты ждешь ребенка? — спросила Мэри.
— Да, я ему вчера сказала. Мэри, ты думаешь, он любит меня?
— Ну, конечно, дорогая. Только не говори папе, пока не говори. Напишешь ему после, из Европы.
— Я думаю, не поговорить ли мне с мамой.
— А я лучше придумала. Мы сегодня же скажем бабушке. Она поймет и поможет тебе. Бедная моя Марго, как тебе, должно быть, тяжело было держать это про себя. Все в конце концов уладится, вот увидишь. Сегодня же вечером пойдем и скажем бабушке.
Марджори немного успокоилась, хотя на душе у нее было смутно. Она вытерла глаза, и сестры, обнявшись, пошли наверх.
Накануне отъезда в Европу Марджори Уэст вышла замуж за Пауля Андреаса. Она тайно обвенчалась в ризнице пригородной католической церкви.
Вечером вся семья собралась на веранде.
Светлая летняя ночь дышала покоем, а в душе Марджори царило смятение. Где начались все ее горести? Где они кончатся? Как тягостно, как невыносимо горько и мучительно прошли для нее эти четыре месяца, проведенные дома, которых она ждала с таким нетерпением.
Марджори была глубоко религиозна и всегда мечтала о возвышенной, идеальной любви. Без благословения церкви она не мыслила брака, и никакие обольщения искушенного в любовных делах Андреаса не могли заставить ее изменить своей религии и своим мечтам. Но когда отец запретил ей выходить замуж за Пауля, она не устояла и отдалась страсти, которая овладела всем ее существом.
Будь ее отец более благоразумен, этого не случилось бы. А теперь все испорчено. И все ж она была счастлива, хотя сомнения в искренности Пауля не покидали ее.
Многое в Пауле было ей непонятно. Ведь он мог выбирать среди стольких женщин, а выбрал ее, не спеша и обдуманно. Отец, конечно, не прав, говоря, что Пауль зарится на его деньги! Правда, родители Пауля бедны, но они не всегда были бедными, их разорила война — даже продолжать занятия музыкой Паулю вряд ли удастся.
Версальский договор разорил Германию, говорил Пауль, но Германия вновь воспрянет и сокрушит своих врагов. Когда Марджори сказала Паулю, что вовремя войны и с той и с другой стороны было много лживой пропаганды, он возразил, что лгали только англичане, а немцы всегда говорили правду. Когда она утверждала, что немцы, по ее мнению, такой же хороший народ, как и англичане, он всегда отвечал, что немцы — величайшая нация на земле, нация арийцев. Он рассказал ей про одного человека по имени Гитлер, которого знает отец Пауля, офицер германской армии. Этот Гитлер когда-нибудь вырвет Германию из хаоса и поведет ее к мировому господству. Пауль говорил обо всем этом с таким ожесточением, что ей становилось страшно. Бедность его родины и его семьи, видимо, казалась ему унизительной, и он находил утешение в таких разговорах. Он твердо решил, что Германия во что бы то ни стало должна снова стать богатой. Может быть, он решил, что и семья его должна снова разбогатеть? Так твердо решил, что не погнушался бы жениться на деньгах? Она всегда гнала от себя эту мысль, упрекая себя в предательстве и подлости.
Милый Пауль, она все любила в нем — и его сентиментальные изъяснения в любви, и его неуверенную и не слишком талантливую игру, и его страсть цитировать Ницше и Шпенглера. Она расстроена, только и всего. Отец ее скряга, он воображает, что всякий, кто захочет жениться на ней или на Мэри, только гонится за его деньгами.
Пауль любит ее, иначе и быть не может!
Разве забыть ей, как с каждой неделей в ней крепло страшное подозрение, что она беременна. Первые порывы отчаяния сменились желанием бросить всем вызов: у нее будет ребенок, это — дитя любви. Почему Пауль сначала так бессердечно убеждал ее избавиться от ребенка, а потом с радостью согласился на ее предложение тайно обвенчаться?
Как непохожа была их свадьба на ее мечты! Пауль не был католиком, и поэтому, по правилам католической церкви, они должны были венчаться в ризнице; как убого, как унизительно совершался обряд венчания! Молодой священник, зная или догадываясь, в чем дело, старался проявить чуткость, но в каждом его жесте сквозила обидная снисходительность. Присутствовавшая на венчании мать все время плакала. Джон-младший был шафером и то и дело отпускал шуточки, даже притворился, что потерял кольцо. Джо и Мэри наблюдали спокойно и дружески. Мэри захватила с собой фотоаппарат и сняла новобрачных после венчания. Бабушка тоже была в церкви; деловитая и приветливая, она всеми силами старалась хоть немного поднять настроение.
Марджори Уэст мечтала о пышном обряде венчания в церкви, о торжественной мессе в сопровождении органа, о том, как в присутствии множества родственников и друзей отец поведет ее к алтарю, к Паулю и как за свадебным обедом будут произноситься красивые речи. И вот вместо всего этого ее ждала такая жалкая церемония, такая боль и горечь.
Когда они выходили из церкви, Пауль прошептал ей на ухо: — Не грусти, все обойдется. Жаль только, что у нас нет разрешения твоего отца.
Брачную ночь они проведут не вместе. Она будет здесь, а Пауль в гостинице, но завтра они соединятся на пароходе.
Разговор на веранде не клеился. Миссис Моран и Мэри усердно старались быть веселыми и вывести Марджори из задумчивости. Марджори, заметив, что мать украдкой вытирает глаза, сделала над собой усилие и заговорила с деланным оживлением: — Надеюсь, папа не пригласит этого ужасного Ренфри к ужину. Я уверена, что расхохочусь ему в лицо, если мне еще раз придется сидеть с ним за столом, слушать его пошлые разговоры и смотреть на его дурацкую сигару.
— Я не думаю, что мистер Ренфри потревожит тебя сегодня, — ответила миссис Моран. — Ему, кажется, крепко достается сейчас. Во всяком случае, из музыкальной комнаты доносятся раскаты сердитого голоса. А по-моему, мистер Ренфри очень забавен.
— Ренфри — неплохой парень, — проговорил Джо, думая о чем-то своем. Он сидел, наклонившись к столбу, устремив взор в надвигающиеся сумерки — как бы силясь найти в них разгадку семейной трагедии. — Немного чудаковат, только и всего.
— Милое чудачество, если судить по газетам от прошлой недели. Не понимаю, как папа может иметь с ним дело, — сказала Мэри.
— Ренфри работает у вашего отца еще со времени тотализатора в Керрингбуше. Они, кажется, учились вместе, — ответила миссис Моран. — Сдается мне, ваш отец приглашает его к ужину нарочно, чтобы поставить нас в неловкое положение. Он думает, что это очень смешно.
Вновь наступило молчание. На дорожке послышался хруст гравия под чьими-то осторожными шагами, и из темноты показался Андреас. Он робко подошел к веранде, как бы опасаясь, не случилось бы чего-нибудь в его отсутствие и не ждет ли его враждебный прием. Поздоровавшись со всеми, он сел рядом с Марджори.
Из парадной двери вышел Ренфри, закурил сигару и пошел к воротам, бормоча что-то себе под нос и, видимо, не заметив сидящих на веранде.
Становилось свежо, и миссис Моран предложила перейти в комнаты. В холле они встретили Джона Уэста. — Марджори, — сказал он негромко, — зайди на минутку в музыкальную комнату.
Все пошли в гостиную, а Марджори с сильно бьющимся сердцем последовала за отцом. Выдержит ли она его беспощадный допрос, очевидно предстоящий ей?
Джон Уэст включил свет, сел за круглый стол посреди комнаты и отодвинул в сторону вазу с цветами.
— Садись, Марджори.
Она поспешно пододвинула стул и села напротив него. Стыдясь своей беременности, она очень боялась, как бы кто-нибудь не обратил внимания на почти неприметную округлость ее фигуры.
— Марджори, вот тебе немного денег на дорогу, — сказал он, передавая ей небольшую пачку десятифунтовых бумажек.
Она молча взяла деньги.
— Почему ты такая грустная?
Она ответила не сразу. Нужно было солгать, как она никогда в жизни не лгала — искусно и убедительно. — Я хочу выйти замуж за Пауля, папа. Вот почему я грустная.
Трудно было выдержать его испытующий взгляд. — Ты уверена, что ты уже не вышла за него?
— Не понимаю, что ты этим хочешь сказать.
— Я хочу сказать, что в моем доме что-то затевают, о чем мне не докладывают, и это касается тебя и… и Андреаса.
Марджори не нашлась что ответить. Отец наклонился к ней. — Если ты ослушаешься меня, ты пожалеешь об этом. Я хочу оградить твои интересы, твою карьеру, твое счастье от этого немца, этого голоштанника, которому нужны только твои деньги. Забудь его. Когда вернешься домой и начнешь давать концерты, тогда и найдешь себе хорошего мужа, богатого, с положением.
— Ты придаешь слишком большое значение богатству и положению, папа, — сказала она. Потом пододвинулась к отцу и заговорила просительно: — Папа, разве ты не видишь? Я люблю Пауля и должна выйти за него замуж. Происхождение, религия и богатство — это еще не все. Будь благоразумен, прошу тебя.
— Я очень благоразумен. Я твой отец и знаю, что для тебя лучше. Пока я жив, ты не выйдешь за этого человека.
Нелепость этого разговора была так очевидна, что она чуть не расхохоталась и не выложила ему всей правды, но вовремя сдержалась. — Я поступлю так, как мне подскажет сердце, папа.
Джон Уэст встал, ухватившись обеими руками за край стола, Марджори выдержала его взгляд. Она смотрела на отца, на его подтянутую фигуру, седеющие волосы — он казался бы почти добродушным, если бы не глаза и рост. Одно мгновенье ей хотелось крикнуть: «Папа, ведь я же твоя дочь! Мне нужна твоя помощь. Я все расскажу, и ты поможешь мне», — но она знала, что это бесполезно.
Джон Уэст разделял участь всех деспотов: его безжалостная жестокость нередко вынуждала окружающих к обману. В начале разговора он хотел обойтись с Марджори ласково, по-отечески, но она противилась его воле — значит, он должен запугать ее, пригрозить суровой карой. Он наклонился к ней и сказал с расстановкой, подчеркивая каждое слово: — Здесь что-то затевается! В моем собственном доме уже целый месяц все в заговоре против меня. Я отлично вижу это по твоей матери и Мэри и по твоей бабке. Здесь что-то творится, и я этого не потерплю. Если ты ослушаешься меня или уже ослушалась, я оставлю тебя без гроша, и ты больше не переступишь порог этого дома!
Непреклонность, прозвучавшая в его словах, заставила сердце Марджори сжаться. Завтра она уезжает и, может быть, больше никогда не увидит своего отца, родной дом, свою семью. О боже, разве это ее вина? Пауль, Пауль, ты должен любить меня, ты должен быть добр ко мне!
* * *
Доктор Дженнер сидел в холле нового отеля «Атлантик» в приморском городке Кэрнсе штата Куинсленд. Стоял сезон дождей. Ночь была душная и тихая. Хотя Дженнер и привык к жаркому климату и благоразумно облачился в белую рубашку и брюки, духота угнетала его и лишала бодрости.
Он больше не состоял на службе у правительства штата Куинсленд и в Кэрнс приехал по поручению частной горнопромышленной компании. Его отказ капитулировать перед посулами и угрозами премьера Тэргуда стоил ему должности.
Доктора Дженнера только что посетил секретарь местного профсоюза горняков, приходивший просить его выступить перед отъездом на собрании рабочих. Секретарь рассказал и о делах, творившихся в Чиррабу. По его словам, Тэргуд, Рэнд и Мак-Коркелл жили под постоянным страхом разоблачения и были готовы на все, лишь бы пресечь нападки, которым они подвергались все чаще и чаще. Особенно настойчиво боролись против аферистов три человека. Один был уже мертв, второй сидел в сумасшедшем доме, а третьим был сам доктор Дженнер.
— Ваша жизнь в опасности, — прощаясь, предостерег горняк, — не выходите один по вечерам.
Не прошло и года после того памятного разговора с Тедом Тэргудом, как доктора Дженнера заменили другим геологом, который не только дал благоприятное заключение на ходатайство Рэнда, но впоследствии даже рекомендовал правительству приобрести шахты «Леди Джоан» и «Джилоуэлл» за сорок фунтов стерлингов и эксплуатировать их наряду с заводом в Чиррабу.
После того как шахты стали собственностью штата Куинсленд, управляющим завода назначили, как узнал сейчас доктор Дженнер, некоего Гаррарди, старого друга премьера Тэргуда.
Тэргуд и Мак-Коркелл, видимо, получили по солидному пакету акций богатейших рудников в Маунт-Айсе за то, что провели туда железнодорожную ветку за счет правительства, а позже, на средства Джона Уэста, приобрели и другие рудники в Маунт-Айсе. Руда потекла из Маунт-Айсы на завод в Чиррабу, где вся она, независимо от качества, оплачивалась по самой высокой цене. Гаррарди оказывал услуги также и Джорджу Рэнду. Рэнд собирал бедную руду, прогоревший кирпич из старых домен и разный другой хлам и сбывал его Гаррарди.
Заводу нужен был лес, и Гаррарди предложил правительству учредить компанию, которая поставляла бы лес исключительно из близлежащего правительственного заповедника. Премьер Тэргуд посовещался с казначеем Мак-Коркеллом, и компания была создана. На этот раз акции получил Данкен, который по-прежнему не в меру пил и слишком много работал.
Доктор Дженнер невольно жалел Данкена. Он глубоко уважал этого человека за его способности и долголетнюю безупречную службу, пока тот не попал в лапы к мошенникам в Чиррабу. Однажды Дженнер навестил Данкена и стал убеждать его, пока не поздно, развязаться с аферистами, но тот лишь уныло ответил: — Поздно, доктор. Мне тяжело терять чувство собственного достоинства и ваше уважение, но я человек конченный. Катастрофа неизбежна, и в этом виновато пьянство.
Гаррарди затеял еще одну аферу с участием Тэргуда, Мак-Коркелла и Рэнда. Он назначил своего брата заведующим заводской лавкой в Чиррабу, которая снабжала товарами горняков. Вскоре там начали появляться вещи, ранее в Чиррабу невиданные: дорогая посуда, столовые приборы и скатерти, нарядная мебель и декоративные вазы. Эти товары были не по вкусу и не по карману горнякам и залеживались на складе. Гаррарди, сообщив премьеру, что в заводской лавке скопилось огромное количество товаров, не находящих сбыта, просил разрешения продать их с аукциона. Разрешение тотчас же было дано.
Оказалось, что и этот отель «Атлантик» выстроен Рэндом, Гаррарди и Мак-Коркеллом, однако имена владельцев хранились в строгой тайне. Лес, цемент, сталь и другие материалы для постройки доставлялись с завода в Чиррабу, из управления лесным заповедником и управления железных дорог. Товары были распроданы по дешевке и каким-то путем, известным лишь самому Гаррарди, попали в «Атлантик», который скоро приобрел известность «самого шикарного отеля на Севере».
Но отель «Атлантик» пользовался успехом только среди пьяниц и картежников. Туристы и другие приезжие предпочитали останавливаться в таких местах, где по ночам их не тревожили пьяные крики и ссоры за картами.
Судя по шуму, доносившемуся из соседней комнаты и откуда-то сверху, доктор Дженнер мог заключить, что его гость отнюдь не преувеличивал. Это была его первая поездка в Кэрнс, с тех пор как был построен отель. Ему понравился его ультрасовременный вид, но теперь он решил, что в следующий приезд остановится в своей старой гостинице. И не только потому, что здесь было слишком шумно. Секретарь союза горняков, между прочим, рассказал также и о том, что всего несколько месяцев назад здесь убили одного человека, — по всей видимости, за то, что он осведомлял политических деятелей и прессу о злоупотреблениях в Мэлгарской горнорудной компании и на заводе в Чиррабу.
Этот человек когда-то служил бухгалтером на заводе. Когда Гаррарди вышвырнул его на улицу, он стал разоблачать аферистов. Последнее время он жил в отеле «Атлантик» и был завсегдатаем игорного зала. Однажды утром его труп нашли на тропинке под балконом. Никто не знал, что с ним приключилось. Может быть, была драка и он свалился с балкона.
Мгновенно возникли слухи, что его прикончили за то, что он болтал о скандальных делах в Чиррабу. Профсоюз горняков потребовал вмешательства полиции, но следователь дал заключение, что причиной смерти явился несчастный случай, и дело замяли.
Доктор Дженнер рано поднялся в свой номер, запер дверь и лег на кровать, защищенную от москитов сеткой. Но сон не шел к нему. Тревожные мысли не давали ему покоя.
Тэргуд со своей бандой искалечили его жизнь. Собирание улик против них превратилось для него в манию. Его до глубины души возмущали подлые аферы, из-за которых богатейшие месторождения руды в Австралии превращались в груды мусора и залитые водой ямы. Когда-то он верил, что лейбористская партия приведет Австралию к социализму, но это оказалось пустой мечтой. Его карьера ученого погибла. Теперь он работал на спекулянтов, искавших только быстрой наживы.
Из лейбористской партии его исключили. А ведь он, как никто другой, вправе был рассчитывать на избрание в федеральный парламент. В 1919 году он выставил свою кандидатуру в парламент штата Куинсленд, а в 1925 году при лейбористском правительстве был членом сената. Он собрал много голосов. Друзья предрекали ему, что он пройдет в федеральный парламент, но у Красного Теда были свои планы. Полгода тому назад ему представился случай осуществить их: был поставлен вопрос об исключении коммунистов из лейбористской партии. Доктор Дженнер отказался поддержать это предложение и заявил, что коммунисты — такая же социалистическая группа, как и лейбористы, и что все социалисты должны объединиться.
Никогда не забыть ему выражения злобного торжества на лице Тэргуда, когда съезд лейбористов по его предложению постановил исключить доктора Дженнера из партии.
Дженнер регулярно печатал статьи в еженедельниках, издаваемых лейбористской партией и влиятельным Союзом австралийских рабочих. Редакции этих журналов немедленно закрыли перед ним свои двери. Две брисбэнские газеты, всегда охотно помещавшие его научные статьи, отказались от его сотрудничества. Дженнер считал этот факт весьма знаменательным: одна из газет принадлежала Джону Уэсту. Связь Уэста с куинслендскими аферистами нелегко было установить, однако Дженнер сказал, что Уэст недавно нажил состояние, продав рудники в Маунт-Айсе английской компании за огромные деньги.
Трагична была и судьба другого члена лейбористской партии, которого объявили сумасшедшим. Говорили, что он придерживался «странного образа мыслей» и настаивал на расследовании связей некоторых лейбористских деятелей с Мэлгарской компанией и заводом в Чиррабу. Кончилось тем, что его посадили в сумасшедший дом.
Доктор Дженнер мучительно силился разгадать, какие тайные пружины действуют в горнорудной промышленности штата Куинсленд. Тревожные мысли, шум океана, крики, смех, топот ног в отеле — все это не давало ему уснуть до самого рассвета, когда он наконец забылся тяжелым сном.
Наутро он уложил чемодан и спустился в бар, где оказался первым посетителем.
— Хороший отель у вас, — сказал он буфетчице.
— Очень рада, что он вам понравился. Роскошный, ничего не скажешь. Говорят, самый шикарный на Севере. Мебель, гардины, посуда — все здесь первого сорта.
— Его владельцы, видно, предприимчивые люди. Кому он принадлежит?
— Не могу сказать вам… не знаю.
— Ну, вы-то, старшая буфетчица, должны бы знать, у кого работаете. Впрочем, это неважно.
Буфетчица огляделась вокруг и наклонилась к нему через стойку.
— Скажу вам по секрету: отель принадлежит Мэлгарской компании.
— Но ведь этой компании больше не существует. Она перешла к правительству штата.
Буфетчица искоса посмотрела на него. — Вы, видимо, славный человек, — сказала она, — но напрасно вы задаете так много вопросов. — Она кокетливо улыбнулась. — Много будете знать, скоро состаритесь. Понятно? — добавила она.
Она пристально посмотрела ему в лицо. Дженнер с самым равнодушным видом потягивал виски.
— Меня, в сущности, это вовсе не интересует. Просто захотелось поболтать с приятной дамой, — ответил доктор, делая малоудачную попытку полюбезничать.
Дженнер был высокий, видный мужчина, и буфетчица явно была польщена комплиментом.
— Вы знаете, кому раньше принадлежали мэлгарские рудники?
— Понятия не имею.
— Ну, за то, что вы такой милый, я вам скажу, чей это отель. Те самые люди, которым раньше принадлежали мэлгарские рудники, теперь владеют этим отелем, но я советую вам забыть об этом.
* * *
Когда Джон Уэст садился в трамвай, часы на здании почтамта пробили полночь. Так поздно он никогда не возвращался домой, даже по субботам. Сегодня он не поехал на стадион — ему не терпелось узнать результаты выборов в парламент штата Виктория. Он был в приподнятом настроении. Победили лейбористы, они получили абсолютное большинство, оставив позади национальную и аграрную партии.
Значит, Нед Хоран будет премьером, Том Трамблуорд — главным секретарем, Боб Джолли и другие «свои люди» — членами кабинета. Джон Уэст знал, что теперь его многочисленные предприятия будут под надежной защитой и развернутся вовсю.
Трамблуорд непременно должен стать главным секретарем кабинета. Несмотря на свою радикальную болтовню, Том самый податливый из всех. Он просто создан для этого поста и пользуется популярностью среди сторонников лейбористской партии. А этот пост — самый важный. Главный секретарь дает разрешение на устройство конноспортивных состязаний, в его ведении полиция, уголовное законодательство, тюрьмы. Если бы в те далекие времена он мог назначать министров, его тотализатор существовал бы и по сей день, а Скаковой клуб штата Виктория не вытеснил бы его теперь. Теперь все пойдет иначе, когда на месте ханжи Гиббона будет сидеть Том Трамблуорд.
Джон Уэст никогда не забывал прошлых обид или поражений. Скаковой клуб пожизненно лишил его права пускать своих лошадей на скачках! Правда, после войны клуб отменил это запрещение и открыл ему доступ на флемингтонские и другие скачки. Но его все еще не принимали в число постоянных членов. Его презирают за то, что он разбогател на тайном тотализаторе, и потому, что он устраивает состязания пони. Ну, теперь они у него попляшут! Скоро, скоро он будет орудовать на скачках не хуже их. Он им покажет, как пожизненно исключать его!
Трамвай, громыхая, приближался к Керрингбушу. Почти на всех линиях старая система была заменена новой, но по этому маршруту еще ходили те же самые вагоны, которые перевозили клиентов его тотализатора в девяностых годах.
Ночь была теплая, и Джон Уэст сел на открытой площадке.
В Виктории положение обеспечено. Теперь нужно удвоить усилия — добиться победы лейбористов на федеральных выборах, которые состоятся в будущем году, и протащить надежных людей в кабинет. Федеральный парламент скоро переедет из Мельбурна в Канберру, тогда труднее будет распоряжаться в нем, но если ввести побольше своих людей, все будет в порядке. Нужно добиться места в федеральном парламенте для Теда Тэргуда. Теперь, когда Рил умер, премьер-министром должен стать Тэргуд.
Хорошо, что в Виктории победили лейбористы. Поговаривают о недовольстве среди беговых наездников — бунтуют против частных ипподромов. Среди боксеров дело обстоит не лучше. Они требуют назначения правительственной комиссии. Пусть-ка теперь поговорят! Теперь Джек Уэст хозяин!
В трамвай вошел Ренфри. Он только что отпраздновал победу лейбористов. Увидев Джона Уэста, Ренфри нетвердыми шагами стал пробираться к нему через весь вагон.
— Хэлло, Джек, — закричал он, — слыхал результаты? Победа, черт возьми!
Сигара выскочила у него изо рта и, пытаясь поднять ее, он чуть не вывалился из вагона, но Джон Уэст успел схватить его за полу.
— Да, большая победа, Боб. Я же говорил тебе, что мы победим, — ответил снисходительным тоном Джон Уэст.
Ренфри вынул другую сигару и с трудом раскурил ее. Вдруг лицо его омрачилось, и он проворчал:
— Блекуэлл-то прошел, мерзавец!
Джон Уэст ничего не ответил. Он вновь безуспешно пытался свалить Блекуэлла на предварительных выборах, а затем выставил против него независимого кандидата. Ренфри со своей бандой головорезов усиленно поддерживали его. Они распространяли листовки, запугивали избирателей и где только можно было голосовали за отсутствующих, больных и даже покойников. Несколько членов профсоюза рабочих лесной промышленности, проводившего упорную борьбу против снижения заработной платы, помогали Блекуэллу в избирательной кампании. Ренфри приказал бандитам Пройдохи Тэннера «проучить мерзавцев». Бандиты напали на трех рабочих, когда те расклеивали предвыборные заявления Блекуэлла. Одного из них схватили и втолкнули в ожидавшую поблизости машину; двое других бросились к проходившему мимо трамваю, но их настигли, повалили наземь и тоже затащили в машину.
Всех троих повезли в дом Ренфри и там жестоко избили, а потом их связали и пригрозили, что не освободят до тех пор, пока они не дадут обязательства прекратить помощь Блекуэллу и убедить своих товарищей последовать их примеру.
Когда о похищении трех рабочих стало известно в профсоюзе, на выручку были посланы двое из самых бесстрашных профсоюзных организаторов. Розыски привели их в Керрингбуш.
Подойдя к дому Ренфри, они громко постучались.
Не успел Ренфри отворить дверь, как один из них, здоровенный детина, поставил ногу в щель и громко закричал: — А ну, Ренфри, говори, где рабочие!
— Рабочие? Здесь нет никаких рабочих.
— А вот мы сейчас посмотрим.
Ренфри попытался было сопротивляться. Его ударили по лицу револьвером, и он грохнулся на пол.
Они освободили своих товарищей, которые лежали связанные с кляпами во рту, и ушли. Ренфри не произнес ни звука, он сидел на крыльце, держась за распухшую щеку.
Происшествие попало в газеты, и это еще больше укрепило Джона Уэста в решении ограничить деятельность Ренфри Керрингбушем.
Джон Уэст и Ренфри еще немного поговорили о результатах выборов, затем Уэст спросил: — Этот коммунист Мортон тоже помогал Блекуэллу?
— Нет, Джек. Он уехал. Я же говорил тебе. О нем уже давно не слышно.
Джим Мортон действительно уехал. Через несколько недель после первой победы Блекуэлла над кликой Уэста местная полиция предупредила Мортона, что его жизнь в опасности. Кроме того, ему намекнули, что поскольку полиция тоже недолюбливает коммунистов, то не переменит ли он местожительство.
Джим Мортон скоро убедился, что его пугали не зря.
На следующий же день, зайдя после митинга в кафе, он заметил, что напротив него уселись четыре субъекта с бандитскими физиономиями и исподтишка следят за ним. В одном из них он узнал члена шайки Тэннера. Итак, ему грозят побои или даже смерть за то, что он осмелился выступать против Ренфри и Джона Уэста!
Его охватил страх. Только не выдать себя! Может быть, ему еще удастся провести их. Вероятно, они увяжутся за ним, когда он выйдет из кафе, и нападут на него в каком-нибудь укромном местечке.
Хозяин, старый грек, подошел принять у него заказ. Прикидываясь пьяным, Джим Мортон спросил его заплетающимся языком: «Где у вас уборная, Ник? Проводите меня».
Он поднялся и нетвердыми шагами вышел вслед за греком через кухню на задний двор. Там он сказал: «Послушай, Ник, мне кажется, эти парни до меня добираются. Нельзя ли мне улизнуть другим ходом?»
— Можно, если сумеешь влезть по этой стене, а там — по крыше и в переулок.
По водосточной трубе Мортон торопливо вскарабкался на крышу и спрыгнул с высоты тридцати футов в переулок, растянув связки на ноге. Прихрамывая, он еле добрался до берега Ярры, переночевал под открытым небом, а на следующий день вскочил на ходу в проходящий сиднейский поезд.
— А черт, проехал свою остановку! — вдруг спохватился Ренфри. Он на мгновение повис на поручнях, потом спрыгнул и, перевернувшись в воздухе, кубарем покатился в канаву.
Оставшись один, Джон Уэст снова предался мечтам о своем будущем могуществе. Ни одно из многообразных человеческих чувств не могло бы дать ему такого наслаждения. Ни ликование игрока, сорвавшего банк, ни восторг любовника, обнимающего трепещущее тело прекрасной женщины, — ничто для Джона Уэста не могло сравниться с сознанием своего могущества и власти.
Трамвай шел теперь по Джексон-стрит. Вот и номер 136. Как необъятно выросла власть Уэста, с тех пор как он здесь подкупил констебля Брогана! И как изменились методы, которыми он действовал! Тогда у него был единственный источник дохода — тотализатор. Он мог обеспечить себе власть лишь подкупом нескольких полицейских. А теперь у него миллионы и он может держать в руках всю полицию штата Виктория через главного секретаря кабинета. Тогда его защитниками были несколько головорезов вроде Борова, Гориллы и Одноглазого Томми. Теперь его будут защищать все власти штата.
Впредь он может обойтись без помощи преступного мира. Брэдли и Арти, Пройдоха Тэннер и вся его шайка уже не нужны ему, более того — они стали обузой. У него до сих пор уходит пропасть денег на содержание Брэдли. Арти, видно, не особенно привязан к жене и дочери, а без Брэдли жить не может. Арти вновь пришлось прибегнуть к дорогому и опасному средству — подкупу сыщиков. Вот дурацкое положение! Он должен выбрасывать деньги на сыщиков сейчас, когда может повлиять на них через главного секретаря и начальника полиции, и для чего? Для того лишь, чтобы спасти убийцу, который не приносит и больше не может принести ему никакой пользы.
Новый начальник полиции был назначен с согласия Джона Уэста. Когда-то он был офицером и слыл дамским угодником и вымогателем. Ходили слухи, что он организовал весьма доходное дело, шантажируя публичные дома и страховые компании.
Что бы ни случилось с Брэдли, Джон Уэст больше никогда не воспользуется услугами Тэннера, если только в этом не будет крайней нужды. Ему нравились и смелость и ум Тэннера, но Тэннер обманул его, и с ним теперь покончено. Крах Тэннера был результатом одной из его неудачных спекуляций, связанных с отправкой в Америку контрабандного спирта, принадлежавшего Джону Уэсту. Не довольствуясь верным доходом, который он вместе со своей шайкой извлекал из этого дела, Пройдоха решил немного подработать на стороне. Он ограбил несколько складов спиртных напитков и отправил добычу в США. В конце концов полиция поймала его. Он не явился на суд, пожертвовав залогом, и некоторое время жил в подвале городского театра, а затем разъезжал по Австралии, переодевшись женщиной. Своими трюками он прославился на всю страну. Однажды он даже написал в газеты, сообщив о своем маршруте. Но его все же выследили и приговорили к двум годам тюрьмы. Через год его должны были выпустить, но Джек Уэст решил, что с Тэннером покончено. Торговля контрабандным спиртом стала невыгодной, она требовала больших расходов, и было много конкурентов, находившихся ближе к Америке, да и в ней самой. К тому же были и другие возможности связаться с преступным миром.
Джон Уэст вышел из трамвая на конечной остановке, миновал мост и бодрым шагом стал подниматься в гору к своему особняку.
Он реорганизует свою империю. Теперь его ничто не остановит. Если он правильно поведет игру, то скоро он приберет к рукам правительство всей Австралии. День его торжества уже недалек!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Лейбористская партия Австралии выродилась в машину для захвата политической власти, а завоевав эту власть, она сумела использовать ее только на благо отдельным лицам.
Ближайшие месяцы принесли Джону Уэсту много труда и хлопот. Среди наездников каждую минуту мог вспыхнуть бунт. По всему штату Виктория все настойчивее раздавалось требование создать правительственный комитет по боксу. Осуществляя свой план с помощью лейбористов завладеть федеральным парламентом, Джон Уэст купил для Теда Тэргуда место в палате за восемь тысяч фунтов и нажил себе этим кучу неприятностей.
Как ни был Джон Уэст поглощен этими заботами, положение в собственной семье немало тревожило его. Теперь он уже не сомневался, что Марджори вопреки его запрету вышла замуж за Андреаса. Обнаружив, что Нелли переписывается с дочерью и посылает ей деньги, он лишил жену всяких средств. Кроме того, он отправился к своему поверенному и изменил завещание, выполнив угрозу оставить Марджори без гроша. Но и этого ему показалось мало. Непослушание дочери терзало его. Дело не было доведено до конца, а он не любил незавершенных дел. Поэтому Джон Уэст заявил Нелли, что раз она и другие члены семьи переписываются с Марджори, пусть они сообщат ей, что он лишил ее наследства и не пустит ее на порог до тех пор, пока она не уйдет от Андреаса.
Тревожила его и Мэри. Она увлеклась театром и якшалась с какими-то актерами-любителями. Он видел два спектакля с ее участием. Играла Мэри с подлинным талантом, но она попала в дурную компанию, поздно ложилась, стала выпивать и чуть ли не каждую неделю меняла поклонников. К тому же он слышал, что она пренебрегает своими религиозными обязанностями, а он считал, что религия полезна, особенно для женщин.
Как-то раз она пришла домой очень поздно, и, судя по шуму, который поднялся внизу на веранде, было ясно, что и она и ее кавалер были пьяны. Разбуженный Джон Уэст в бешенстве схватил револьвер, лежавший под подушкой, и выстрелил с балкона в воздух. Кавалер Мэри поспешил убраться, но она после этого стала еще взбалмошней и еще сумрачнее глядела на отца.
Старший сын тоже не радовал Джона Уэста. Он, видимо, вовсе не готовился к тому, чтобы управлять империей Уэстов после смерти отца. Джон служил в конторе одного из маклеров Уэста, но особенных успехов не делал. Джо-младший, которого отец отдал на выучку своему поверенному, видимо, был вполне доволен тем, что жалованье достается ему при минимальной затрате труда. Как и его дядюшка, он считал само собой разумеющимся, что может беспечно существовать за счет империи Джона Уэста, ровно ничего для нее не делая.
Отношения с женой тоже не изменились. Нелли по-прежнему жила с Ксавье в своей комнате. Супруги встречались лишь за столом, еле обмениваясь двумя-тремя словами.
Тем не менее в доме теперь постоянно царило оживление. Дети приглашали своих друзей и знакомых, которых особенно много было у Мэри, и в воскресные дни, а также в будни по вечерам в белом особняке собиралась молодежь. К их услугам был теннисный корт, недавно устроенный в саду, новехонький бильярд, верховые лошади, бассейн для плаванья, рояль. Джон Уэст не мешал своим детям веселиться и даже испытывал удовольствие, садясь за воскресный обед вместе с многочисленными гостями.
Миссис Моран заметно стала сдавать. Ей исполнилось семьдесят семь лет, и годы наконец взяли свое: она совсем поседела, и все лицо было в морщинах. Однако она по-прежнему играла немалую роль в семье. Джон Уэст нередко удивлялся тому, как она еще энергична и бодра и как почитают ее Нелли и дети.
Джон Уэст охотно окунулся бы в эту новую для него атмосферу непринужденного веселья, но он давно отвык от дружеского общения с людьми и был слишком поглощен делами. Хотя ему было уже под шестьдесят, он даже в молодые годы не работал так усердно, как сейчас. Если он не успевал закончить все текущие дела в конторе, где засиживался до позднего вечера, то работа продолжалась дома. Джон Уэст знал, для чего он трудится: недалек час, когда он станет самым могущественным человеком в Австралии.
* * *
Весной 1928 года у Джона Уэста состоялись три знаменательные беседы.
Первая происходила в его кабинете с Тедом Тэргудом, только что приехавшим из Сиднея.
Лицо Тэргуда выражало крайнее беспокойство — и недаром: ему предстояло фигурировать в качестве одного из главных действующих лиц в работе комиссии, назначенной метрополией для расследования весьма серьезного обвинения. Речь шла о том, что один из лейбористских деятелей за взятку уступил свое место в парламенте Тэргуду.
— Вы должны помочь мне выпутаться из этой истории, — сказал Тэргуд, потрясая перед Джоном Уэстом сиднейской газетой. — Небось читали?
Джон Уэст молчал, разглядывая лицо своего собеседника: толстые губы, которые тот поминутно облизывал, орлиный нос, изогнутые брови, седеющие виски, мешки под колючими, холодными глазами. Но сейчас Джон Уэст видел, что в этих глазах притаился страх. Боится, подумал он, это хорошо. Тэргуд будет премьером, и покладистым премьером, ибо он способен испытывать страх.
Теда Тэргуда страшило не обвинение в подкупе члена парламента (он был уверен, что сумеет опровергнуть его), но он опасался, как бы расследование не раскрыло аферу с мэлгарскими рудниками в Куинсленде.
По требованию Джона Уэста, Тэргуд ушел в отставку с поста премьер-министра штата Куинсленд и стал домогаться места в федеральном парламенте. Случай скоро представился ему. Умер член парламента — лейборист, и Тэргуд добился выдвижения своей кандидатуры. Но в парламент он не прошел. Рабочие не поддержали его, выразив этим свое недоверие, что весьма уязвило самолюбие Тэргуда.
Тэргуд давно вышел бы на арену федеральной политики, но, подобно клерку, присвоившему казенные деньги и знающему, что бегство разоблачит его, он рассудил, что разумнее остаться на месте и быть начеку.
После своего поражения Тэргуд с женой и уже взрослыми детьми перебрался в Сидней, где завоевал большую популярность, выступив против демагога Лейна, лидера лейбористской партии штата Новый Южный Уэлс. Второй раз на протяжении его карьеры люди стали склоняться к мысли, что Красный Тед своим прозвищем обязан не только цвету своих волос, но и своим политическим убеждениям. Он добился видного положения в левом крыле лейбористской партии, но продолжал поджидать удобного случая занять место в федеральном парламенте.
Прошло почти два года, прежде чем такой случай подвернулся. Места в парламенте — это ценная собственность. Ими редко торгуют, поэтому и цена на них стоит высокая. Консерватор, уступивший место другому кандидату, угодному капиталистам, частенько вдруг оказывается директором какого-нибудь крупного предприятия. Лейбористы обычно предпочитают наличные. Так было и с тем членом парламента, который уступил свое место Тэргуду и получил за это от Джона Уэста восемь тысяч франков. Часть денег он истратил на покупку гостиницы, а остальные спрятал у себя в доме.
Джон Уэст все еще изучал лицо Тэргуда. Наконец он заговорил: — Должно быть, кто-нибудь сообщил об этом, раз все всплыло наружу.
— Да, наверное, один из тех, с кем мы пытались договориться в прошлом году и кто не прошел на последних выборах. Скверная история! Вам придется подумать.
— Не волнуйтесь, я вас не брошу. Меня самого тоже вызывают.
— Да неужели! — воскликнул Тэргуд, словно не веря, чтобы премьер-министр, даже принадлежавший к национальной партии, осмелился вызвать Джона Уэста в правительственную комиссию.
— Да, и меня и Эштона. Там, видно, пронюхали, что и к нему обращались с таким же предложением. Мы должны сделать так, чтобы из этого не вышло ничего серьезного. Правда, покойный Гарсайд, бывало, говорил, что комиссии по расследованию для того и назначаются, чтобы выгораживать людей.
— Он был недалек от истины. Но на этот раз может случиться иначе. Могут сунуть нос в мои дела. А эго всегда очень вредит лейбористу. Рабочие, видимо, считают, что лейборист должен всю жизнь оставаться нищим.
На сумрачном лице Джона Уэста мелькнуло слабое подобие улыбки. — Другими словами, вас тревожит ваша связь с Мэлгарской компанией?
— Но ведь вы к ней тоже причастны.
— Мое имя нигде не упоминается. Не я продавал рудники правительству.
— Ну, хорошо. Но вы понимаете, что эта история в Куинсленде грозит скандалом? Дженнер все еще не угомонился. В парламенте запросы. Может всплыть и Маунт-Айса, а там вы сорвали изрядный куш.
— Мак-Коркелл — премьер. Он для того и сидит там, чтобы нам не могли ничего сделать. Пусть болтают в Куинсленде — вы же теперь в Новом Южном Уэлсе.
— Если со мной что-нибудь стрясется, то и вам несдобровать, — не унимался Тэргуд.
— Моя-то власть не зависит от избирателей, — веско проговорил Джон Уэст. — И, кроме того, обо мне мало кому что-нибудь известно.
— В Куинсленде уже знают кое-что и о вас, — ответил Тэргуд, уязвленный явным равнодушием Джона Уэста. — Там выходит еженедельная спортивная газета «Зеркало». Она поместила карикатуры и статьи на тему о том, как вы завладели одной крупнейшей газетой, как вы и Леви наживаетесь на бегах и…
— Все это мне известно… — сухо перебил его Джон Уэст.
— Ну и что же вы собираетесь делать? На очереди Мэлгара, а после Мэлгары — Маунт-Айса.
— Я уже прикрыл «Зеркало» и дал двум ее владельцам работу в моей газете. Не забывайте, любого человека можно купить. Я уже говорил вам о покойном Гарсайде. Он всегда утверждал, что плохо только тому обвиняемому, у которого мало денег. Раз человек не имеет средств подкупить или запугать судью, присяжных или самых опасных свидетелей, то поделом ему, если его засудят. Был бы только хороший защитник да денег вволю, и мы непременно окажемся правы.
— Это все штучки националистов, — сказал Тэргуд. — Они стараются очернить меня накануне прихода лейбористов к власти. Они знают о моих грандиозных планах, знают, что я хочу улучшить положение рабочих. Потому-то они и пытаются заранее провалить меня. Но это им не удастся, я тоже молчать не буду.
— Я посоветовался со своими адвокатами и уже нашел выход, — сказал Джон Уэст. — Скажите этому типу, у которого вы купили место, этому Мэлони, или как его там зовут, пусть он говорит, что выиграл деньги на скачках. Пусть скажет, что выиграл давно, чтобы нельзя было проверить у букмекера. Он приезжал в прошлом году на розыгрыш кубка Мельбурна. Тогда-то я ему и заплатил деньги. Пусть скажет, что ставил на Спирфелта. Такие случаи бывали. Я знал человека, который пришел ко мне на бега с одним фунтом в кармане, а ушел с тысячью. Я расскажу об этом случае в комиссии. Даже если не поверят, они не смогут доказать, что я вру. А это главное.
Тэргуд подумал с минуту и вдруг громко расхохотался.
— Что же тут смешного? — с досадой спросил Джон Уэст.
— Подумать только! Мэлони — и вдруг выиграл восемь тысяч фунтов на бегах! — ответил Тэргуд, с трудом сдерживаясь от смеха. — Да он не побьется об заклад и на шиллинг, что завтра солнце взойдет.
— Ну и что же? Объясните ему, как и что он должен говорить.
— А Эштон? Что он, по-вашему, скажет?
— Я уже говорил с Эштоном. Все будет в порядке. Он откажется сообщить, кто именно обращался к нему с предложением взять отступного. Скажет, что торговля мандатами — довольно обычное дело и что в национальной партии она практикуется чаще, чем в лейбористской. Он же теперь член правления одного из моих золотых приисков.
— Фрэнк Эштон? Как это случилось?
— Прежде чем просить его уступить вам место, я передал ему пакет акций. У него было туго с деньгами, и он взял их. Ведь вы знаете его. Он живет не по средствам, сорит деньгами, пьет, играет.
— И у него еще хватило наглости отказать вам!
— Это теперь не имеет значения. Вы же получили место. Я очень уважаю Эштона. Я вытащил его из грязи и сделал ему карьеру. Он лучший оратор в Австралии и, заметьте — самоучка.
— Почему бы вам тогда не сделать его премьером?
— Сейчас он очень болен. К тому же у него слишком крайние взгляды. Я уже вам сказал, что сделаю вас премьером, и я выполню это обещание, если только вам удастся переплюнуть Саммерса.
— Это будет трудно. Его поддерживают католики.
— Почему бы вам не пустить слух, что вы приняли католичество?
Тед Тэргуд уже пустил такой слух. Жена и дети Тэргуда были католиками. Жена давно пыталась обратить и его в католическую веру, но он упорно отказывался, заявляя, что его дед был патриархом греческой православной церкви в Румынии и что он должен уважать волю своих предков. А когда Тэргуд объявил о своем намерении принять католичество, его жена очень обрадовалась, не подозревая истинной причины его «обращения». Красному Теду нужна была поддержка католиков-лейбористов и помощь Джона Уэста. Он знал, что Уэст слыл «ярым католиком», хотя его никогда не видели в церкви. К тому же у Тэргуда с женой уже много лет были натянутые отношения из-за супружеской неверности. Красный Тед был хорошо сложен, красив, любил хорошо одеться и пользовался большим успехом у женщин. Ему нравились хорошенькие женщины, но он был достаточно умен и остерегался впутаться в какую-либо историю, которая могла бы погубить его карьеру.
— Я не люблю играть на религиозных предрассудках, — солгал Тэргуд.
— При чем это тут? Католики должны держаться друг за дружку — вот как масоны.
— Это верно. Я просто не люблю играть на этом. Вот и все.
«Как бы не так», — подумал Джон Уэст. Он и уважал Тэргуда и вместе с тем недолюбливал его. Из всех политических деятелей, на которых распространилось его влияние, Тэргуд был для него, пожалуй, самым подходящим. Он слыл лучшим политическим организатором в Австралии, способным оратором и полемистом. Был очень расчетлив и хитер, чрезвычайно скрытен и крайне неразборчив в средствах. Да, Тэргуд будет идеальным премьер-министром. Конечно, архиепископ предпочел бы Саммерса, потому что тот прежде всего католик, а потом уже лейборист, но Саммерс тем плох, что его подкупить нельзя.
— Так вот — относительно комиссии, — сказал Джон Уэст. — Эштона предоставьте мне. А вы займитесь Мэлони и другими свидетелями в Сиднее. Как объявят имя судьи, посмотрите, нельзя ли что-нибудь сделать. Мы выиграем дело, а потом я покажу этим националистам, как вызывать меня в правительственную комиссию.
После этого они вместе позавтракали. Джон Уэст удовольствовался стаканом апельсинового сока. Говорили они о том, как лучше распределить министерские портфели, если лейбористы одержат победу на выборах в будущем году.
Вторая встреча состоялась через несколько дней: Годфри Дуайр, вызванный к Джону Уэсту, явился точно в назначенное время, минута в минуту.
Капитан Дуайр, исполняя должность секретаря конноспортивного клуба, принадлежащего Джону Уэсту, чувствовал себя как ярый трезвенник, вынужденный заведовать низкопробным кабаком. Он управлял клубом строго, по-военному, держал отчетность в идеальном порядке, но дела на ипподроме шли из рук вон плохо.
Хозяйничание Джона Уэста привело в полный упадок рысистые испытания — и с чисто спортивной и с коммерческой стороны. Клуб так беззастенчиво съедал все прибыли, что выдачи стали мизерно малы, класс лошадей ухудшился и сборы резко упали.
Годфри Дуайра, человека военного, лишенного всякого воображения и изворотливости, окружали люди, которые только и стремились честно или нечестно нажиться на этом виде спорта.
Джон Уэст, обеспокоенный сокращением прибылей, приказал Дуайру «навести порядок», но это оказалось почти невозможно.
Не успевал Дуайр устранить одно злоупотребление, как открывалось другое. Справиться с положением ему было не по плечу. Дело еще осложнялось тем, что в Ассоциации владельцев беговых лошадей должность секретаря занимал Фрэнк Лэмменс, хозяйничавший там по своему усмотрению. Ассоциация теоретически мыслилась как орган, через который наездники могли бы предъявлять свои требования, но на практике это было отнюдь не так. Все попытки сменить секретаря или членов комитета на ежегодных выборах срывались при помощи тех же махинаций, к которым избирательная машина Уэста прибегала во время парламентских выборов.
Бега не были привилегией крупных коннозаводчиков и владельцев конюшен, как в скаковом спорте. Большинство участников бегов держало одну-две лошади среднего класса, соединяя в одном лице и владельца, и тренера, и наездника. Ставки были мизерные, мошенничество процветало, и владельцам лошадей оставалось так мало, что даже в случае выигрыша денег еле хватало на прокорм победителя. Хотя наездники обычно искренне увлекались состязаниями, но кое-кто поддался соблазну и не прочь был при случае жульничать.
— Сегодня все будут ставить на твою лошадь, — скажет, бывало, букмекер. — Даю тебе пятьдесят фунтов отступного и несколько билетов, будто ты сам ставил. Тогда никто не придерется.
Или один наездник скажет другому: — Сегодня на твою лошадь будут высокие ставки, моя будет фаворитом. Может, сговоримся?
Не на последнем месте в смысле всяких махинаций стоял председатель Ассоциации и главный распорядитель Беннет, в свободное время отправлявший должность лидера лейбористской партии в верхней палате парламента штата Виктория. Создавалось нетерпимое положение. Вор-джентльмен, как и его хозяин Джон Уэст, держал своих лошадей, но они заносились на имя известного тренера, и Годфри Дуайр очень скоро убедился в том, что этому человеку все сходит с рук.
Как истый служака, Дуайр беспрекословно повиновался приказам Джона Уэста. Он производил расследования, которые чаще всего не давали никаких результатов, ибо большинство служащих, за исключением нескольких ставленников Бенджамена Леви, явно задались целью срывать все его усилия. Дуайр продолжал с терпеливым упрямством налагать штрафы. Было несколько случаев, когда лошадь, показавшую хорошую резвость, записывали как новую под вымышленным именем. Дуайр, в ожидании расследования, отправил одну из таких лошадей в полицейские конюшни, но лошадь в ту же ночь исчезла, и больше о ней не было ни слуху ни духу.
Пробовал он и лишать права участия в бегах, обычно па короткие сроки. На первое время это возымело плодотворное действие, но вскоре опять начались мошенничества, и бега приходили все больше и больше в упадок.
Отчаявшись, Дуайр решил примерно наказать кого-нибудь. Он пожизненно лишил права участвовать в бегах некоего Макдоналда и запретил ему продавать своих лошадей или вывозить их за границу. Джон Уэст был зол на Макдоналда, потому что тот принимал деятельное участие в кампании за изъятие клуба из-под контроля Джона Уэста.
Макдоналд тотчас же принялся сколачивать новую конноспортивную лигу, которая теперь грозила самому существованию клуба Джона Уэста. Успеху Макдоналда способствовало всеобщее недовольство хозяйничанием Джона Уэста.
Дело дошло до того, что наездники объявили забастовку! К великому удивлению и досаде Джона Уэста, забастовка лишила его возможности проводить рысистые испытания. В один из понедельников в бегах приняло участие всего пятнадцать лошадей.
Особенно злобился Макдоналд на Беннета. Как назло, подошли выборы в верхнюю палату. Макдоналд повел против Беннета ожесточенную кампанию. С помощью комитета, в который вошли наездники и ветераны войны, он засыпал избирателей листовками, в которых было перепечатано сообщение, опубликованное в 1903 году новозеландской газетой о том, как брат Беннета пустил кобылу «Нелли У» под вымышленным именем. Сторонники Макдоналда на митингах обрушивались на растерявшегося Беннета, не знавшего, что ответить на их нападки. Однажды он даже расплакался на трибуне. В конце концов, не решаясь предстать перед своими мучителями, Беннет отменил три последних предвыборных митинга. В довершение всех бед, место в парламенте он потерял.
Забастовка длилась уже целый месяц, и запись лошадей почти прекратилась; и хотя кое-кто из бастующих начал колебаться, все же желающих участвовать в бегах было слишком мало, чтобы устраивать состязания. Не добившись разрешения проводить рысистые испытания в Мельбурне, новая лига сняла на один день провинциальный ипподром за тысячу франков. Члены лиги обратились со своими жалобами к главному секретарю кабинета. Том Трамблуорд вежливо выслушал их, но ничего не сделал и даже не обещал. Тогда они направили депутацию к мэру Мельбурна с просьбой разрешить им провести испытания с благотворительной целью. Мэр отказал, заявив при этом, что им не одержать верх над Джоном Уэстом, ибо главный секретарь и другие должностные лица «у него в кармане», а премьер Хоран и лидер лейбористов в верхней палате Беннет — члены правления его фиктивного конноспортивного клуба.
Вначале Джон Уэст не придавал всей этой истории особого значения. Он был уверен, что наездники не смогут обойтись без него и скоро сами убедятся, с кем выгоднее иметь дело. Но теперь он был не на шутку встревожен и решил во что бы то ни стало подавить забастовку.
— Я же, кажется, просил вас унять Макдоналда, — сердито сказал он, когда Годфри Дуайр уселся напротив него.
Дуайр в замешательстве развел руками. — Но, мистер Уэст, его можно унять, только отменив запрещение участвовать в бегах. А это было бы непоправимой ошибкой. Укрепить дисциплину мы можем, только проявляя твердость. Сейчас мы не можем уступить.
— Если мы сейчас заткнем рот Макдоналду, то вся их затея рухнет. Беда с вами, военными, вы боитесь хоть на шаг отойти от устава. Вы не хотели согласиться с тем, что Макдоналд опасен, и мы потеряли из-за этого сотни фунтов. Беннета вышибли из парламента. Ипподром пустует. Служащим платят за то, что они бездельничают. Если лейбористы провалятся на выборах в парламент штата в будущем месяце, наш контроль над бегами и состязаниями пони будет поставлен под угрозу. Так порядка не наведешь. Отмените запрещение, наложенное на Макдоналда, и следующий раз для примерного наказания возьмите кого-нибудь другого: выберите человека, который будет меньше скандалить!
Дуайр все же попытался возразить своему хозяину. Он привык действовать не мудрствуя лукаво, и ему претили всяческие уловки и интриги.
— Мистер Уэст, разрешите мне наводить порядок по-своему, позвольте мне наказывать тех, кто нарушает правила, беспристрастно, невзирая на лица. В противном случае я должен буду просить вас принять мою отставку.
Дуайр уже много раз собирался произнести эту маленькую речь, с тех пор как началась забастовка, но его удерживала боязнь лишиться жалованья, власти и влияния. Теперь, когда он наконец высказался, он склонил голову набок, точно испуганная птица, вид у него был такой, как будто он ожидал, что Джон Уэст сейчас схватит револьвер и пристрелит его на месте.
Джон Уэст наклонился вперед, положив руки на стол, и насмешливо разглядывал Дуайра, словно не веря своим ушам.
И без того расстроенные нервы Дуайра не выдержали наступившего молчания. — Иначе ничего не выйдет, мистер Уэст, — сказал он, — ничего не выйдет. Закон и порядок можно поддерживать только строжайшей дисциплиной. У меня должны быть развязаны руки, чтобы я мог выполнять правила клуба без страха и без снисхождения.
Джон Уэст все еще молчал. Он был недоволен, но не показывал этого. Дуайр занимал видное место в его планах развития спортивного бизнеса. Ему нужно было время, чтобы хорошенько обдумать решение Дуайра и, кстати, проверить, насколько оно серьезно.
К великому облегчению Дуайра, Джон Уэст наконец заговорил примирительным тоном: — Вы утомились, капитан. Этот месяц был для вас трудным. Вам нужно отдохнуть. Как только мы покончим с этим делом, возьмите отпуск на недельку-другую.
Польщенный тем, что Джон Уэст впервые обратился к нему, употребив столь любезное его сердцу военное звание, Дуайр ответил: — Я старался исполнять ваши желания, но не смогу делать это впредь, если не буду иметь возможности добиваться абсолютного соблюдения правил.
— Вы не можете прыгнуть выше головы, капитан. Наездники — хитрые, изворотливые люди. Они найдут лазейки, как бы строги вы ни были. Вы не должны забывать, капитан, что наш клуб это только средство для достижения цели. Меня больше не интересуют ни бега, ни состязания пони, но я должен сохранить свои ипподромы, разрешение на устройство бегов и штат служащих, потому что в один прекрасный день я займусь скачками. Вот где золотое дно, капитан! Мне нужно свести счеты со Скаковым клубом штата Виктория. Я поставлю все эту братию на колени. Я буду устраивать скачки в Флемингтоне, вот увидите. Этот день уже недалек. А моя победа будет и вашей победой. Вы возвыситесь вместе со мной. Вы станете самым влиятельным человеком в мире конного спорта. Подумайте об этом!
Годфри Дуайр уже давно пришел к выводу, что для Джона Уэста нет ничего невозможного. Он живо представил себе, как будет восседать в кабинете главного распорядителя в Флемингтоне, но вдруг вспомнил о своей просьбе об отставке. «Нужно отступить с честью», — подумал он.
Дуайр беспокойно вертел в руках трость.
— Я понимаю, мистер Уэст, что у вас обширные планы и что ваши надежды на их осуществление возрастают с каждым днем. Но я все же считаю…
— Вы понимаете, капитан, что скоро я стану самым могущественным человеком в Австралии? — прервал его Джон Уэст, пристально глядя Дуайру в глаза. Он весь наклонился вперед и постукивал пальцами по столу. — Вы понимаете, что ни одно правительство не решится идти мне наперекор? А я своих друзей не забываю. Взять хотя бы вас. Вы были ранены, сражаясь за родину. Вы председатель Общества ветеранов войны, и настанет день, когда вы станете самым влиятельным человеком в мире конного спорта. А как вы думаете, правительство пожалует вам титул?
Ошеломленный Годфри Дуайр сумел только пролепетать — Не знаю, стою ли я титула. Такую честь король оказывает только видным общественным деятелям. Должен сознаться, я никогда об этом не думал… Но, конечно, если вы считаете, я…
— Сами они не дадут вам никакого титула, но я позабочусь об этом. Даю вам слово.
Джон Уэст нисколько не шутил. Если он может влиять на политику правительства, то почему бы ему не повлиять и на ежегодное представление к правительственным наградам!
— Благодарю вас, мистер Уэст, — пробормотал Дуайр. — Я вам весьма признателен. Но я все же должен сказать…
Джон Уэст заговорил так, как будто Дуайр вовсе и не угрожал ему своей отставкой. — Нужно покончить, с этим делом. Беннета я проведу в парламент от другого округа. Я не могу терять ни одного голоса ни в лейбористской партии, ни в верхней палате. Кроме того, о клубе идет слишком дурная слава. Надо что-то предпринять. Фрэнк Лэмменс уже поговорил со многими нашими сторонниками, и они считают, что если нам удастся заткнуть рот Макдоналду, забастовка потерпит крах. Наездники начинают понимать, что против Джона Уэста нельзя идти безнаказанно. Чем были их бега до меня? А теперь это настоящие рысистые испытания. Я мог бы взять их ипподром, но я хочу покончить с этой историей как можно скорее. Мы должны научиться отступать, чтобы после захватить побольше. Я рекомендую вам вызвать Макдоналда и предложить ему подать заявление. На этот раз поддержите его просьбу. Тогда Фрэнк Лэмменс убедит недовольных передать свои требования министру. А от Тома Трамблуорда они ничего не добьются.
— Все это так, мистер Уэст, но я все-таки просил бы вас разрешить мне навести порядок. Вы же сами предложили мне это сделать. И мы должны удовлетворить хотя бы некоторые требования наездников, когда возобновятся состязания.
— Наведите порядок лишь настолько, чтобы увеличить сборы. Многие жалуются на систему гандикапа в состязаниях на резвость. Говорят, что если лошадь хоть раз покажет хорошую резвость, гандикап так велик, что она уже больше ни одного приза взять не может. Пожалуй, это верно, нужно изменить систему гандикапа. Скажем, двенадцать ярдов за каждый выигрыш, как это было раньше. Говорят, ставки очень низкие. Хорошо, повысьте их немного. Говорят, что букмекеры темнят лошадей. Отберите кое у кого лицензии на букмекерство. Говорят, Пройдоха Тэннер со своей шайкой подговаривает игроков, ссужает деньгами жуликов. Хорошо, лишите пожизненно Тэннера и его шайку…
— Но я думал…
— Неважно, что вы думали. Я не стану за него заступаться. Выгоните его и всю его шайку.
Третья встреча произошла недели две спустя. Американский борец Тед Тинн и Джон Уэст беседовали в гостиной, поджидая Ричарда Лэма и спортивного обозревателя Паркера.
— Видите ли, у нас, в Соединенных Штатах, спортивные обозреватели не наводят критику, — говорит Тинн. — Они все у нас на жалованье.
Тинн был здоровенный малый свирепого вида с изуродованными ушами. На нем был серый костюм в широкую полоску, желтые с белым туфли, в кричащем галстуке поблескивала золотая булавка, на пальцах — два золотых кольца, во рту торчала толстая сигара.
— Знаю, знаю, Тед, — нетерпеливо ответил Джон Уэст, — и у нас они все на жалованье, кроме Паркера. Это увертливый парень. Если бы ему было так легко заткнуть рот, как вы думаете, мы давно уже это сделали бы. Повторяю вам, зря вы устроили это свидание. Газету, в которой он пишет, скоро купит трест Маркетта, а Маркетт мой компаньон по брисбэнской «Почте».
— Зачем ходить кругом да около, Джон Уэст, — сказал Тинн с нарочитой фамильярностью. — Договоритесь с ним. Мы, американцы, любим называть вещи своими именами. Я житель Чикаго, а там народ отчаянный.
Джон Уэст пристально посмотрел на своего гостя. «Мяса много, ума мало, — подумал он. — Не наделал бы глупостей».
Тинн и Джон Уэст были партнерами в гигантском спортивном предприятии: они устраивали встречи борцов по всей Австралии, Новой Зеландии и на Филиппинах. В виде побочного источника доходов они при помощи Тэннера и Артура Уэста одно время переправляли контрабандный спирт из Австралии в Америку; но это занятие очень скоро стало и слишком рискованным и недостаточно прибыльным.
Тинн умел класть на обе лопатки, но еще лучше умел делать дела. Благодаря изворотливости, с детства развивающейся у обитателей чикагских трущоб, он ухитрился сколотить небольшой капиталец. Борьбой он стал заниматься еще в ранней юности и скоро убедился, что деньги плывут к импрессарио и предпринимателям, а простакам на ринге достаются одни тумаки. И как только Тинн завоевал себе имя, он сам занялся предпринимательством. Теперь у него на жалованье состояла целая команда борцов. Он был глубоко убежден, что искусство борьбы — это искусство рекламы. Публике не нужно мастерство, ей нужны кровь и мордобой. Следовательно, надо ее убедить, что именно эго ей и преподносится.
Тинн привез с собой в Австралию все трюки американского спортивного бизнеса. Он знал, что прежде всего должны быть «паиньки» и «бяки», то есть ловкие и умелые борцы хрупкого сложения и здоровенные детины, обладающие лишь грубой силой, без всякого мастерства. Победитель каждой встречи намечался заранее, в зависимости от того, кому из борцов нужно было создать рекламу, чтобы увеличить сборы. Когда на ринге сходились «паинька» и «бяка», то «паинька» пускал в ход все свое искусство, а «бяка» кусал его за уши, тыкал пальцем ему в глаза, дубасил по лицу, выбрасывал за ринг и вообще обходился с ним самым зверским образом. Когда встречались два «бяки», они старались превзойти друг друга в грубости, словно состязаясь в том, кто вызовет сильнейшее отвращение у зрителей. Для разнообразия иногда один из них набрасывался на судью, разрывал на нем рубашку и сбрасывал его с ринга. Но при всей этой мнимой, хотя и красочной жестокости никому не выкалывали глаз, не откусывали ушей и не ломали костей.
Все борцы в команде Тинна были американцы, но в Австралию они приезжали под разными экзотическими именами. Одного из них называли Главарем индейских апашей — он выходил на ринг, украшенный перьями, в мокасинах, издавая пронзительный боевой клич. Другой именовался чемпионом Уэлса, хотя был родом из Теннесси и в Уэлсе никогда в жизни не бывал. Уроженца Нью-Йорка рекламировали как чемпиона Британской империи; был даже чикагец, которого представляли озадаченной публике как графа Согольского, чемпиона России, и один бородач, которого называли мормоном. Тех, кто не мог похвастать иностранным происхождением, в виде компенсации награждали всевозможными свирепыми кличками вроде «Душегуб», или «Король убийц», либо приписывали им изобретение нового приема борьбы, при помощи которого легко сломать противнику ногу или шею.
Сам Тинн выступал под маркой чемпиона мира в тяжелом весе, а борец по имени Чемпэн величал себя чемпионом в полутяжелом весе. Дурачить австралийскую публику Теду Тинну помогал Джон Уэст, пользуясь своим влиянием на спортивных обозревателей и радиокомментаторов, которые вели передачи с ринга.
Сначала все шло хорошо. Народ валом валил на стадион Джона Уэста, чтобы поглазеть, как его атлеты калечат друг друга, и десятки тысяч людей следили за состязаниями по радио. Только одна мельбурнская газета, в которой спортивным обозревателем работал молодой журналист по имени Клайв Паркер, открыто писала о том, что все это сплошной фарс и шарлатанство. Паркер иронически описывал отдельные схватки, зло высмеивал клички борцов, остроумно издевался над инсценировкой членовредительства.
Сборы поднялись до рекордного уровня, но тут в Викторию приехал новый борец, некий Сэндоу. Паркер сообщил, что Сэндоу — чемпион мира в полутяжелом и тяжелом весе. Это более или менее соответствовало истине, хотя Сэндоу был признан чемпионом только в нескольких штатах Америки; что же касается Теда Тинна и Чемпэна, то, кроме Джона Уэста и Ричарда Лэма, никто их чемпионами не признавал. Паркер приветствовал приезд Сэндоу, умело разрекламировал его. Вскоре в Мельбурн приехало еще несколько борцов и, в пику Джону Уэсту, были устроены состязания борцов на территории Выставки. Эти состязания проходили на высоком спортивном уровне, и зрители стали постепенно изменять балагану Тинна, предпочитая посещать территорию Выставки.
Сэндоу оказался достойным своего звания чемпиона. Тинн и Чепмэн упорно отклоняли все предложения помериться с ним силами и молча сносили его презрение и насмешки Паркера.
Наконец Сэндоу вызвался выступить в один и тот же вечер и против Тинна и против Чепмэна, но и этот вызов остался без ответа. Из-за плохих сборов матчи по понедельникам пришлось отменить, а по субботам, для привлечения публики, до начала состязаний ставили водевиль. Но, несмотря на все ухищрения, публика раз от раза заметно редела.
Взбешенный Джон Уэст потребовал, чтобы Тинн или кто-нибудь из членов его команды принял вызов Сэндоу. Тинн без всякого стеснения ответил: — Послушайте, Джон, он же положит и меня, и Чепмэна, и еще трех-четырех моих ребят в один вечер. Он первоклассный борец. Ведь он только балуется здесь, ему не с кем потягаться.
Все же Тинн согласился устроить встречу между двумя лучшими своими борцами, с тем чтобы победитель принял вызов Сэндоу. Но оба противника так упорно стремились избежать встречи с Сэндоу, что за пятнадцать раундов ни один из них не одолел другого, и судья, как было условлено заранее, объявил ничейный результат. Паркер написал об этом матче сатирический отчет, над которым потешался весь Мельбурн.
Джон Уэст выходил из себя, но в последние годы он уже не с таким рвением, как прежде, карал своих врагов. Теперь он не мог позволить себе действовать очертя голову. Тед Тинн, сущий разбойник по натуре, стоял за расправу над Паркером, но Джон Уэст благоразумно умерял его пыл. И вот Тинн устроил свидание Джона Уэста с Паркером.
— Вы слишком потворствуете этому проходимцу, Джон, — сказал Тинн. — Если он не сдастся сегодня, я расправлюсь с ним по-чикагски.
Между тем Лэм и Паркер подъехали на такси к дому Уэста. Так как они друг друга терпеть не могли, они всю дорогу молчали. Джон Уэст сам открыл дверь и провел их в гостиную.
По наружности Паркер ничем не отличался от тех репортеров, которых обычно показывают в голливудских фильмах. На нем был серый костюм хорошего покроя и, как полагается, сдвинутая на затылок мягкая шляпа.
«Пусть разговор начинают они», — думал он, усаживаясь. Он окинул гостиную наметанным взглядом репортера. Паркетный пол, дорогие ковры, старомодная мебель и салфеточки на спинках кресел. Все очень безвкусно. На стенах фотографии. Это, наверно, его мать, а вот он сам и оба брата. Несчастная женщина, ну и троицу она произвела на свет!
Паркер снял шляпу, закурил сигарету и обвел глазами присутствующих. Тинн — здоровенный, задиристый, сразу видно, что головорез. Лэм — плотный мужчина среднего роста; жестокие глаза, тонкие губы, квадратный подбородок. И сам Джон Уэст, ненасытный паук, уставился холодными серыми глазами. Так и кажется, что он твои мысли читает.
Первым заговорил Тинн, тут же придумавший для Паркера кличку: — Сколько вы получаете, Чистая душа?
— Семь фунтов, но скоро буду получать восемь, когда «Чемпион» перейдет к Маркетту.
— Не жирно для такого бойкого писаки. Я думаю, вы не откажетесь получать на несколько фунтов больше?
— За что?
Тинн нерешительно посмотрел на Джона Уэста. Но тот даже не взглянул на него. Джон Уэст, не отрываясь, смотрел на Паркера, пытаясь определить, чем его можно взять.
Лэм наклонился вперед. — За то, чтобы вы прекратили нападки на борцов, — сказал он.
— Ну нет. Это меня очень забавляет. Я только что написал статью, которая называется «Сэм, где ты?» — о том, как Чепмэн улепетывает от Сэндоу.
— Не будьте дураком, Чистая душа. У нас, в Штатах, все спортивные обозреватели получают плату от импрессарио. В этом нет ничего зазорного, просто хороший бизнес.
— А если я предпочитаю быть дураком, честным дураком, который говорит публике правду?
Тут заговорил Джон Уэст. Все обернулись к нему.
— Вы говорите, что скоро будете работать у Маркетта. А знаете ли вы, что Маркетт и я — компаньоны в брисбэнской «Почте» и у меня есть акции его газет в Мельбурне? Он не допустит, чтобы на предприятие его компаньона нападали так, как вы нападаете на мой стадион.
— Я уже навел справки. Может быть, в Брисбэне вы и компаньон Маркетта, но в Мельбурне у вас мало акций. Маркетт сказал, что я могу критиковать ваших борцов, только предупредил, чтобы я не пересаливал.
— Он заговорит иначе, после того как я повидаюсь с ним.
— Ну что ж, я буду продолжать в том же духе, пока не получу от него новых указаний.
Тинн язвительно расхохотался. — Человек принципов, подумаешь! Не будьте дураком, Паркер. Вся ваша братия у нас на жалованье. И те, кто пишет о боксе и кто о борьбе. А радиокомментатор, тот получает восемь фунтов в неделю. И большинство спортивных обозревателей и редакторов газет — все пользуются. Вам представляется случай разбогатеть, разбогатеть по-настоящему. Знаете что: мы положим вам три фунта в неделю, а если заслужите, дадим вдвое больше.
Паркер достал сигарету, прикурил от своего окурка, быстро подошел к камину, бросил в него окурок и повернулся лицом к присутствующим: — Вот что я вам скажу, господа хорошие: вы втираете публике очки, и вам это сходит с рук, потому что вы подкупаете людей, которые должны бы вывести вас на чистую воду. Так вот, перед вами чудак, которого вам не удастся купить. — Паркер постучал пальцем себе в грудь, сжал губы и метнул гневный взор на Тинна. — Я выгоню Тинна и его клоунов из Австралии! А потом займусь боксом. Скоро будет назначена комиссия по боксу, тогда берегитесь!
Джон Уэст хотел было прервать его, но Паркер продолжал, указывая на него шляпой: — За какой только вид спорта вы не беретесь, вы всюду вносите разложение. Бега, велогонки, борьба и особенно бокс.
Тинн угрожающе наклонился вперед. — Послушан, ты, умник. Мы помочь тебе хотели, а ты упираешься. Ну ладно же. Если ты вдруг захвораешь, пеняй на себя.
— Если моим телохранителем будет Сэндоу, ты и близко ко мне не подойдешь!
Тинн в бешенстве вскочил со стула. Лэм безуспешно пытался усадить его на место.
— Сядьте, Тед, — проговорил Джон Уэст. — Он вас просто дразнит.
Тинн угрюмо повиновался.
Паркер надел шляпу и твердыми шагами пошел к выходу. Джон Уэст поднялся и последовал за ним. Открывая перед ним дверь, Джон Уэст сказал: — Вы поступаете очень глупо. Эти янки — отчаянные люди. Плетью обуха не перешибешь, Паркер. Вам все равно придется отступить, когда я поговорю с Маркеттом.
— Ну, это мы еще посмотрим, — ответил Клайв Паркер. Проходя по дорожке, ведущей к воротам, он заметил две фигуры, прятавшиеся в кустах.
— И чего вы не дали мне съездить этого умника по морде, — проворчал Тинн, когда Джон Уэст вернулся в гостиную.
— Еще успеете, — ответил Джон Уэст. — Дайте мне сначала поговорить с Маркеттом.
Проводив Тинна и Лэма до двери, Джон Уэст постоял на веранде, пока они не вышли за ворота, потом тихонько окликнул людей, скрывавшихся в саду.
Из-за кустов вынырнул Артур Уэст и подошел к брату Они о чем-то пошептались, после чего Джон Уэст вернулся в гостиную, вынул из кармана револьвер и осмотрел его.
Во время разговора с Паркером он был не в своей тарелке, не то он поговорил бы с ним иначе. Вот уже два дня как Джон Уэст ходил сам не свой.
Ему был объявлен смертный приговор: Пройдоха Тэннер грозился убить его.
Когда Годфри Дуайр по распоряжению Джона Уэста отстранил Тэннера и его шайку от участия в бегах, Тэннер ворвался в контору Джона Уэста и потребовал отменить запрещение. Тэннер был пьян и вел себя буйно. Джон Уэст пригрозил позвать полицию.
— A-а, всемогущий Джон Уэст позовет полицию! Зови! Только она не спасет тебя. Или отмени запрещение, или жив не будешь!
Бледный от ярости и гнева, Джон Уэст все же повторил: — Не отменю! А теперь убирайся вон!
На следующий день Фрэнку Лэмменсу донесли, что Пройдоха Тэннер запил и повсюду кричит, что убьет Джона Уэста.
Подстрекаемый насмешками своих достойных коллег, чувствуя, что теряет власть над ними, Тэннер совсем распоясался. Джон Уэст отлично знал Тэннера и людей, подобных ему. Тэннер будет петушиться до тех пор, пока не заставит себя выполнить свою угрозу. Тэннер трус, но любит порисоваться. С глазу на глаз он задрожит от первого окрика, но перед шайкой своих приверженцев он способен на безрассудство. Отстранение от участия в бегах означало для Тэннера не только материальный ущерб. Это означало потерю престижа, означало презрение к нему всей его банды. Чтобы восстановить свою власть, Тэннеру, может быть, волей-неволей придется привести угрозу в исполнение.
Два дня и две ночи Арти и еще один телохранитель ни на шаг не отходили от Джона Уэста.
Сведения, поступающие к Фрэнку Лэмменсу из уголовного мира, становились все более зловещими. Тэннера поддерживали его ближайшие помощники. Видимо, они что-то замышляли.
— Джек Уэст не доживет до конца недели, — хвастался Тэннер.
Даже Фрэнк Лэмменс, обычно скептически относившийся к угрозам хулиганов, был убежден, что Тэннер взбеленился и неизвестно, что он может выкинуть.
Лэмменс отправил Артура Уэста поговорить с Тэннером, но Тэннер скрылся. — Он спятил, — сказал Артур Уэст брату. — Гонор задело. Теперь он на все готов. Опереди его, Джек, опереди его!
Джон Уэст с минуту сидел в раздумье, поглаживая револьвер. Потом встал, подошел к окну и плотнее задернул занавески.
«Под таким углом можно убить выстрелом в окно», — подумал он и передвинул свое кресло в глубь комнаты.
Посидев еще немного, он поднялся наверх, разделся и лег в постель, положив револьвер под подушку.
Целый час он лежал без сна.
Что, если Тэннеру или кому-нибудь из его бандитов удастся проскользнуть мимо Арти и его помощников? Он может взобраться на сосну! «А вдруг он уже сидит там и высматривает меня в темноте. Ждет! Ждет случая, чтобы убить!»
Надо взять себя в руки. Чего он дрожит? Ему ли, Джеку Уэсту, самому могущественному человеку в Австралии, бояться этого сифилитика Тэннера? Арти прав. Его надо опередить. Убить Тэннера — и это будет наука им всем. Джон Уэст — сила! Тэннер ему больше не нужен. Тэннер зарвался.
Джон Уэст начал спокойнее обдумывать положение. Он отверг всякую мысль «договориться» с Тэннером. Нетрудно найти людей, которые за сто фунтов пристрелят Тэннера. Его нужно убить и похоронить вместе со всеми уликами, которые могли бы доказать, что он когда-либо работал на Джона Уэста. Арти охотно расправился бы с Тэннером, но это не годится. Тэннер слишком хитер для Арти и слишком проворен. У Тэннера есть враги — люди, которых он выдал и которые уже давно прикончили бы его, если бы не страх перед ним.
А если заявить в полицию? Сыщикам уголовного розыска Тэннер и без того уже стал поперек горла. Вдруг начальник полиции объявит Тэннера вне закона? Это идея! Чистенькое дельце, и все шито-крыто.
План созрел в голове Джона Уэста. Он встал с постели, спустился в холл и позвонил по телефону Фрэнку Лэмменсу.
— Это вы, Фрэнк? Приезжайте сейчас же. Я скажу Арти, чтобы он вас пропустил.
* * *
Клайв Паркер стоял под навесом невзрачной лавчонки на глухой окраинной уличке и курил сигарету за сигаретой. Воротник его пальто был поднят, шляпа низко надвинута на лоб. Он стоял здесь уже почти два часа. В доме напротив лежал больной «Полосатый Каттинг», прозванный так потому, что все лицо его было зверски исполосовано бритвой. Сегодня в половине третьего сюда должны приехать на машине два субъекта и войти в этот дом. Они уже опаздывали на целый час. Одного из них, Тэннера, должны были убить здесь. Каким образом и кто — Паркер не знал.
Клайв Паркер был женат на внучке Роналда Ласситера. Старик гордился своим внучатым зятем и не раз снабжал его сенсациями из профсоюзных, уголовных или спортивных кругов. Но это будет самая громкая сенсация из всех, если только дело выгорит. Подумать только, быть первым очевидцем смерти Пройдохи Тэннера!
Тэннера, вероятно, убьют там-то, тогда-то, сообщил старик и больше не прибавил ни слова.
Когда Паркер сказал об этом своему редактору, тот ответил, что нужно сообщить полиции. Паркер не согласился — ведь полиции, надо думать, все уже известно и она только рада будет избавиться от Тэннера: он всегда хватал через край и к тому же слишком много знал о беззакониях начальника полиции и сыщиков.
Ну и сенсация! Какая жалость, что она появится только в вечернем выпуске «Чемпиона».
Из-за угла показалось желтое такси. Паркер вздрогнул и попятился к двери лавки. Машина остановилась перед домом Каттинга, из нее вышли двое мужчин. «Этот маленький щеголь с усиками, как у Чарли Чаплина, и есть сам Тэннер», — подумал Паркер. Другой мужчина был ему незнаком. Паркер услышал, как Тэннер пьяным голосом приказал шоферу подождать.
Тэннер и его спутник вошли в ворота. Проходя по двору, они пригнулись, словно опасаясь, как бы не увидели из окна. Паркер, затаив дыхание, следил за ними глазами и прислушивался. Шофер такси подозрительно поглядывал на него. Тогда Паркер прислонился к витрине и с независимым видом закурил сигарету.
Вдруг раздался выстрел, гулко отдавшийся по всей улице. За ним последовал второй и третий. Пустынная улица мгновенно ожила; со всех сторон сбежались люди, озираясь, жестикулируя, спрашивая, что случилось. Потом один за другим раздались еще три выстрела.
Паркер отошел от витрины и помахал рукой фотографу «Чемпиона», стоявшему в сотне метров от него. Фотограф благоразумно отказался подойти ближе, пока не закончится стрельба. В ответ на сигнал Паркера он тоже помахал рукой, но не тронулся с места.
Но вот входная дверь дома Каттинга стала медленно отворяться и на пороге показался Тэннер. Он громко стонал, перегнувшись пополам и обеими руками держась за живот. С трудом, еле переставляя ноги, он поплелся к такси, а за ним по тротуару тянулся кровавый след. Он был бледен как полотно, из угла рта бежали струйки крови, глаза остекленели. Он сплюнул на землю, в лужу крови, стекавшей по его ногам, и привалился к задку машины.
Шофер такси, с выражением ужаса на лице смотревший на Тэннера, вдруг словно очнулся и включил мотор, — видимо, намереваясь сбежать, оставив своего раненого седока на улице. Шум мотора вывел Тэннера из забытья. Огромным усилием воли он принудил себя действовать. Он выпрямился, вытащил из кармана револьвер и, шатаясь, добрался до шофера как раз в ту секунду, когда машина тронулась. Он наставил на шофера револьвер.
— Не бросай меня, негодяй! — прохрипел он, захлебываясь и брызгая кровью в лицо шофера. — Не бросай меня, или я размозжу тебе череп!
Машина остановилась. Паркер застыл на месте. Все держались на почтительном расстоянии. Никто не знал, что делать, а если кто и знал, то не решался действовать.
— В городскую больницу, — пробормотал Тэннер.
Он покачивался, каждое мгновение готовый упасть в лужу собственной крови. С трудом добравшись до дверцы машины, он ухватился за ручку. У него вырвался крик боли, когда он сделал усилие, чтобы открыть дверь. Шофер, онемев от страха, следил за его движениями, не будучи в состоянии ни помочь, ни помешать раненому.
Собрав последние силы, Тэннер открыл дверцу и упал на пол машины. Шофер дал газ, и такси умчалось. Дверца так и осталась открытой, из нее торчали ноги Тэннера.
Стряхнув с себя оцепенение, Паркер перебежал улицу. На залитом кровью тротуаре толпился народ.
— Дайте дорогу, — сказал Паркер. — Полиция!
Он вошел в дом через открытую настежь дверь и осторожно двинулся по полутемному коридору. Вдруг нога его на что-то наткнулась, и он чуть не упал. Нагнувшись, он увидел, что на полу лежит старуха, — видимо, без памяти. Она застонала, открыла глаза и что-то пробормотала, но он не мог разобрать слов.
Перешагнув через нее, Паркер сделал еще несколько осторожных шагов и подошел к открытой двери, выходившей в коридор. Он боязливо заглянул в комнату. В дальнем углу ее стояла кровать. На ней лежал мужчина с размозженной головой. Паркер узнал Каттинга — одна сторона его лица уцелела, и на ней виднелись страшные рубцы. Правая рука Каттинга с зажатым в ней револьвером безжизненно свисала с кровати. Постель была вся в крови.
Весь дрожа от волнения и страха, Паркер огляделся вокруг. Комната была почти пустая, на стене по обе стороны кровати висели зеркала. В одном из них был виден коридор, в другом отражалось все, что делалось во дворе. Каттннг, видимо, ждал гостей. «Вот почему они пригнулись, проходя мимо окна», — подумал Паркер.
На стене висели две фотографии в рамках: молодая женщина с ребенком на руках и молодой человек, в котором можно было узнать Каттинга в молодости — до того, как его исполосовали бритвой. Тут же висело цветное изображение Христа в терновом венце.
«Недурной материал», — подумал Паркер, снимая обе фотографии со стены и засовывая их в карман. Он хотел было снять также изображение Христа, но передумал и оставил его на стене. Обернувшись, он увидел старуху, прислонившуюся к косяку двери. Не обращая внимания на Паркера, она смотрела на распростертое окровавленное тело.
Внезапно она кинулась к кровати.
— Сын мой, — закричала она. — Они убили моего сына. Да разразит их господь и пресвятая матерь его!
Она опустилась на колени и, горько рыдая, обхватила своими слабыми руками безжизненное тело.
Паркер смотрел на старуху, не зная, на что решиться. Ему было жаль ее, но вместе с тем его так и подмывало бросить ее и бежать в редакцию со своей сенсационной новостью. Он подошел к старухе и положил ей руку на плечо.
Старуха взглянула на него снизу вверх. Ее лицо было покрыто густой сетью морщин и мокро от слез и крови.
— Позовите священника, — закричала она, не спрашивая Паркера, как он здесь очутился. — Позовите священника и доктора, позовите священника! Мой сын уже много лет не был в церкви. Он не должен умереть без причастия.
— Кто убил вашего сына? — спросил Паркер. — Тот низенький, Тэннер?
— Нет, высокий. Он застрелил их обоих. Я бросилась на него, но он сшиб меня с ног. Он убежал черным ходом, — сказала она и снова зарыдала.
Паркер выбежал на крыльцо. У ворот собралась большая толпа. Паркер увидел во дворе фотографа и позвал его. — Чего же ты ждешь, иди и снимай.
Фотограф нерешительно вошел в дом с аппаратом в руках.
Паркер направился к воротам. — Дайте дорогу, дайте дорогу, полиция! — говорил он повелительным тоном.
Вдруг из дома донесся крик, какая-то возня, грохот, и в дверях показался фотограф. Лицо его было исцарапано, одежда в беспорядке, фотоаппарат исковеркан.
— Старая ведьма взбеленилась, — сказал он Паркеру, — чуть не выцарапала мне глаза, и я выронил аппарат.
— Дурак, — проворчал Паркер. — Идем скорей. Пора смываться отсюда.
Они протолкались сквозь взволнованную, осаждавшую их вопросами толпу. Выбравшись на улицу, Паркер побежал бегом. — Иди скорей в редакцию и достань другой аппарат. Я позвоню в полицию. Приходи как можно скорей в приемный покой городской больницы. Я буду ждать тебя там. Ну ступай, живо.
Паркер помчался к телефонной будке, но в уличку уже въезжала полицейская машина. «Значит, кто-то уже предупредил полицию, — подумал он, — а может быть, полиция заранее знала день и час!»
Замысел Джона Уэста удался как нельзя лучше: Тэннер скончался еще по дороге в больницу.
По желанию Фрэнка Лэмменса, услужливые сыщики через своих подручных распространили весть, что Тэннера можно убить безнаказанно. Один сиднейский бандит, которого Тэннер выдал пять лет назад, за пятьсот фунтов завершил дело.
Он привез Тэннера в этот дом якобы для того, чтобы убить Полосатого Каттинга, грозившегося перерезать Тэннеру горло.
Полиция опровергла появившееся в последнем выпуске «Утренней звезды» сообщение Паркера о том, что при двойном убийстве присутствовало третье лицо. Следствие установило, что Тэннер и Каттинг застрелили друг друга.
Через неделю происшествие было забыто. Смерть Пройдохи Тэннера никого не огорчила, а Каттинга оплакивала только старуха мать.
* * *
В конце 1928 года Джон Уэст торжествовал новую победу над своими врагами.
Бунт на ипподроме окончился для бастующих неудачей. Среди них все еще бродило глухое недовольство, но все же Джон Уэст показал им, кто хозяин. Расследование обстоятельств, при которых Тэргуд был избран в федеральный парламент, проводившееся правительственной комиссией, не повлекло за собой никаких последствий.
Вызванный в комиссию Мэлони показал под присягой, что он выиграл деньги на скачках, поставив на «непобедимого Спирфелта». Тэргуд заявил, что не имеет ни малейшего представления о том, каким образом Мэлони достались восемь тысяч фунтов.
На вопрос, не мистер ли Джон Уэст, проживающий в Мельбурне, купил для него место в парламенте, Тэргуд ответил: — Не знаю, с какой стати мистер Уэст стал бы хлопотать обо мне. Я встречался с ним всего раза два и то по делам.
Красный Тед наотрез отказался говорить о своих коммерческих делах. — Мое финансовое положение слишком часто используется против меня моими политическими противниками. Предполагается, что лейборист должен обходиться без денег, — пояснил он. В конце концов он разрешил судье негласно ознакомиться с его банковскими счетами.
Джон Уэст, вызванный в качестве свидетеля, начал с заявления, что избрание Тэргуда в парламент ни в малейшей степени не интересовало его. — Откровенно говоря, — добавил он, — я очень далек от политики.
Когда он сказал, что не имеет никакого отношения к деньгам, полученным Мэлони, его спросили: — Каким же образом, по-вашему, в руки Мэлони попала сразу такая большая сумма!
— Да он же сам говорит, что выиграл их на скачках, — ответил Джон Уэст. — У меня нет оснований не верить ему.
— Но это очень удивительно, — вмешался один из членов комиссии, — чтобы такой воздержанный человек, как мистер Мэлони, выиграл несколько тысяч фунтов на скачках.
Тут-то Джон Уэст и рассказал, как однажды на его ипподром пришел человек с одним фунтом в кармане, а ушел с тысячью. Этот ответ, видимо, удовлетворил члена комиссии.
Поведение Фрэнка Эштона на следствии смутило Джона Уэста. Эштон сильно осунулся и весь скорчился, словно его мучил ревматизм. Он не отрицал, что ему предлагали уступить место Тэргуду, и даже добавил, что тот же человек предлагал ему уступить место Рилу в 1919 году.
«Неужели он выдаст меня после всего, что я для него сделал», — подумал Джон Уэст. Но затем Эштон заявил, что обещал держать это в тайне и комиссия не может заставить его нарушить слово. Когда Эштона еще раз вызвали, он продолжал стоять на своем. А потом он произнес пламенную речь. Торговля местами в парламенте — обычное дело, заявил он. Националисты — непревзойденные мастера в искусстве подкупа. Люди, изменившие своим товарищам и предавшие рабочее движение, неизменно получают денежное вознаграждение от националистов. Вот, например, Хьюз получил двадцать пять тысяч фунтов за то, что предал рабочих. Здесь он пророчески воскликнул: — Есть и еще предатели среди лейбористов, они когда-нибудь продадут и нас!
Эштон сказал, что ему неизвестно, заплатил ли Мэлони за то, что он уступил свое место Тэргуду, а если и так, то по крайней мере он продал свое место лейбористу. Националисты, представители крупного капитала, своей продажностью развратили все австралийское общество. И они еще смеют говорить о подкупе и взятках. Здесь Эштон не выдержал и разрыдался.
Джон Уэст с удивлением и любопытством наблюдал, как неутешно плачет этот больной, седовласый человек. Прикидывается он, что ли? Как будто нет; какого же черта он плачет? Видно, правда, болен. Отдохнуть ему надо. Нужно будет спросить его жену, есть ли у него на это деньги.
Джону Уэсту и в голову не пришло, что страстная речь Эштона вызвана стыдом — стыдом за свою слабость.
Разбирательство тянулось много недель. Судья, видимо, был в затруднении, однако же явно не желал вдаваться в существо дела. Все же он докопался до того, что Мэлони ушел в отставку под предлогом расстроенного здоровья, хотя на вид был здоров как бык.
Результаты следствия были предопределены заранее. Подытоживая все данные, судья торжественно объявил, что Мэлони было заплачено за отказ от места в парламенте каким-то лицом (или лицами); имена установить не удалось.
Беседуя после этого с Джоном Уэстом, Тэргуд сказал, что лейбористы наверняка победят на федеральных выборах, которые должны были состояться в конце 1929 года. Недавнее поражение лейбористского правительства в штате Виктория было большим ударом для Джона Уэста. Неужели рушатся его надежды? Он считался с мнением Тэргуда, а Тэргуд утверждал, что провал лейбористов в штате Виктория был следствием ухудшения экономического положения. Безработица все росла.
Проходя по Джексон-стрит, Уэст стал замечать, что его опять чаще останавливают, называя по имени как старого знакомого, чего не бывало уже много лет. Долгое время он думал, что теперь, когда его империя так разрослась, мало кто из жителей Керрингбуша знает его в лицо. Однако очень скоро он понял, что просто люди стали опять сильно нуждаться в помощи. Сплошь и рядом на улице к нему подходили бедно одетые мужчины или женщины и напрямик или обиняками просили денег. Однажды какая-то старуха, совсем как в былые времена, показала ему неоплаченный счет за квартиру. Видимо, для Керрингбуша снова наступали черные дни.
Эта мысль тревожила Джона Уэста, но отнюдь не вызывала у него прежних чувств. Когда в его памяти вставали картины нужды и лишений, перенесенных им в молодости, он тотчас отгонял их. Прежней щедрости и желания помочь безработному как не бывало. Все попрошайки — лодыри, они все равно пропьют его деньги! Сейчас только такие и нуждаются. Кто не имеет работы — просто не хочет работать!
— Мы победим на федеральных выборах, — повторил Тэргуд. — Недовольство растет, и ни в одном штате нынешнее правительство не удержится, какую бы партию оно ни представляло. Надо ждать кризиса. На выборах этого года будут сменены правительства во всех штатах.
Время показало, что Тэргуд был прав.
— Так, значит, в Куинсленде провалится Мак-Коркелл, — сказал Джон Уэст.
— Да, — ответил Тэргуд, — это меня и тревожит.
— Если Мак-Коркелл потерпит поражение и националисты привлекут вас к суду, я вас выручу, даю вам слово.
Получив такое заверение, Тэргуд уже спокойнее начал строить планы на будущее. — Саммерс останется лидером лейбористской фракции, — сказал он. — До сих пор ему все время везло, но я еще свалю его.
— Продолжайте действовать, — сказал Джон Уэст. — Вчера вечером я беседовал с архиепископом. Он уверен в победе. Саммерс сказал архиепископу, что вы будете казначеем.
— Ну что ж, и это неплохо, — ответил Тэргуд. — Если настанет кризис, а я в этом не сомневаюсь, у меня есть финансовый план, который спасет страну.
Тогда Джон Уэст впервые упомянул о проекте, сулившем ему миллион.
— Политика Саммерса опирается на протекционистскую систему. Он хочет увеличить пошлины на импортные товары, чтобы содействовать развитию австралийской промышленности. А у меня крупнейшее в Австралии винно-водочное дело. За последнее время моя фирма поглотила почти все мелкие компании. Я хочу, чтобы вы добились высоких пошлин на импортное вино, виски и джин.
— Это можно будет устроить, — согласился Тэргуд.
Лейбористское правительство в штате Виктория пало.
Его сменило националистское правительство, пришедшее к власти при поддержке группы Алфреда Дэвисона, отколовшейся от аграрной партии и провозгласившей программу, благоприятствовавшую мелким фермерам.
Поражение Хорана открыло Джону Уэсту одно любопытное обстоятельство — а именно, что он может оказывать большое влияние на парламент штата Виктория не только через лейбористов, если так называемая прогрессивная аграрная партия Дэвисона придет к власти или добьется решающих позиций в парламенте.
На посту главного секретаря кабинета Тома Трамблуорда сменил член группы Алфреда Дэвисона. Дэвисон дал ему указание помогать Джону Уэсту, а затем и сам встретился с Уэстом. Он не проронил ни звука о взятках, не просил об одолжениях, просто сообщил о том, что сделано, и намекнул, что хочет стать премьером. Его цель — коалиция с лейбористами. Не поможет ли ему мистер Уэст заручиться поддержкой лейбористов?
Джон Уэст обещал. Если лейбористы впредь не добьются абсолютного большинства, они смогут управлять при поддержке Дэвисона. А без него, возможно, националисты не смогут управлять. Дэвисон теперь стал крупной политической фигурой в штате Виктория, гораздо более важной для Джона Уэста, чем любой лейборист.
* * *
Между тем Джон Уэст не отказался от мысли заткнуть рот Клайву Паркеру. Вскоре после неудачной попытки подкупить Паркера Джон Уэст явился к Кеннету Маркетту, самому могущественному газетному магнату в Австралии.
Джон Уэст чувствовал, что преимущество не на его стороне. Трудно тягаться с этим человеком. Не прибегая к своим обычным уловкам, он напрямик объяснил цель своего прихода и замолчал, хмуро глядя на Маркетта.
Маркетту было за сорок. Он держался учтиво, но самоуверенно, и разговаривал с Джоном Уэстом снисходительно, за что тот сразу же возненавидел его.
— Мои репортеры должны сообщать читателям о всех событиях правдиво, точно и объективно. Паркер, кажется, нападал на ваших борцов в «Утренней звезде», Я дал понять этому молодому человеку, мистер Уэст, что ему не следует делать личных выпадов или принимать чью-либо сторону на страницах моей газеты, — он должен освещать состязания по борьбе с полным беспристрастием. Я предупредил, что не потерплю злобного тона, который он позволяет себе в некоторых своих статьях. Но я разрешил ему писать о том, что Сэндоу сильнее ваших борцов, если таково его мнение.
Джон Уэст мгновенно представил себе образ мыслей Маркетта: он так долго провозглашал беспристрастность своих газет, что сам поверил этой выдумке.
У Джона Уэста на кончике языка вертелось несколько доводов. «Почему бы не уволить Паркера?» Маркетт не захочет этого сделать, потому что Паркер — блестящий Журналист. Он наверняка скажет, что увольняет своих сотрудников только за проступки по службе. «Но я же ваш совладелец в Куинсленде. Маркетт ответит на это, что он не может менять политику газеты в угоду своему партнеру. Конечно, главная причина в том, что Джон Уэст надул его, когда вступал с ним в компанию. Каждый из них должен был назначить равное число членов правления и иметь поровну акций, причем сам Маркетт должен был стать председателем правления. Но Джон Уэст перехитрил его, дав взятку одному из будущих членов правления, поставленных Маркеттом, а тот впоследствии продал свой пакет акций Джону Уэсту. Этого Маркетт ему так и не простил.
Джон Уэст знал, что ему столь же бесполезно напоминать и о своем участии в мельбурнских компаниях Маркетта: у него мало акций, а приобрести больше он не может — их нет в продаже. Маркетт заправлял мельбурнскими газетами в интересах более почтенных миллионеров, чем Джек Уэст. Не стоит упоминать и о том, что он постоянно помещает объявления в газетах Маркетта, — тот ответит, что его газеты пишут правду, не считаясь с коммерческими соображениями. Экое вранье.
Маркетт был типичным „почтенным“ богачом, а Джон Уэст ненавидел, презирал „почтенных“ богачей и завидовал им. Они не допускали в свой круг ни его самого, ни его семью. Он не был почтенным человеком. Ведь он разбогател на тайном тотализаторе. Он слыхал, как Нелли развлекала детей рассказами о глупом снобизме и лицемерном самодовольстве женщин этого круга. Ничуть не лучше были и мужчины. Они никогда не приглашали Джона Уэста на приемы в здании парламента (хотя он все равно не пошел бы туда). Они не допускали его в свои почтенные клубы (хотя он все равно не стал бы их членом). Они гордились, что нажили свои капиталы не на „изнанке жизни“. Ну что же, они все равно нажили миллионы! А какая разница, как они их нажили?
Джон Уэст ничего этого не сказал. Он произнес только: — Паркер подбивает создать комиссию по боксу. Вы по крайней мере можете запретить ему вмешиваться в дела частных предприятий.
Маркетт проводил Джона Уэста до двери с обезоруживающей любезностью. — Заверяю вас, мистер Уэст, что я не разрешу Паркеру создать комиссию по боксу и делать личные выпады и вообще поступать несправедливо. Я его слегка осажу. Поверьте, все уладится.
Как же, уладится! Уже ничем не восполнить ущерб, причиненный Паркером. Чепмэн уехал из Австралии и перед отъездом сообщил Паркеру, что он вовсе не англичанин и никогда не был чемпионом мира в полутяжелом весе.
Спортивный сезон закончился раньше срока, и сам Тинн тоже уехал. На прощанье он сказал Джону Уэсту: „Если я когда-нибудь вернусь, Джон Уэст, а я вернусь, если дела пойдут лучше, я укокошу этого Паркера!“
Тинн действительно вернулся вместе со своей командой. На этот раз Паркер его встретил хотя и непочтительно, но более сдержанно, чем в начале предыдущего сезона. Сборы были неплохие; Паркер не мог помешать публике ходить на состязания.
Но тут Тинн и Лэм допустили большую оплошность.
Джон Уэст был взбешен. Он вызвал обоих к себе в кабинет.
— Кто дал Паркеру этот чек? — спросил он.
— Я дал. Он сказал, что решил сотрудничать с нами в этом сезоне, — начал было оправдываться Лэм.
— Ах, вы дали! — набросился на него Джон Уэст, а затем повернулся к Теду Тинну: — А вы, конечно, одобрили!
— Ну да, Джек. Теперь конец всем нашим неприятностям. Этот тип больше не будет сидеть у нас на шее, и мы заработаем уйму денег.
— Уйму денег, как бы не так. Шутки шутите. Да вы знаете, что Паркер положил этот чек редактору на стол?
— Что? — воскликнул Лэм.
— Я укокошу этого выродка, — зарычал Тинн, вскочив и воинственно раскачиваясь, как будто выходил на ринг навстречу Паркеру.
— Надо же было так попасться! — продолжал Джон Уэст. — Такая явная ловушка! А теперь он хочет напечатать об этом в завтрашнем номере и поместить фотографию чека.
— Если он это сделает, мы можем закрывать лавочку, — сказал Тинн. — Откуда вы все это знаете?
— Успокойтесь, этого не будет. Я все уладил. Но мне теперь трудно будет заткнуть рот Паркеру. Не дай ты ему этот чек, я мог бы убедить Маркетта, что Паркер злобствует без причины. А теперь Паркер доказал и своему редактору, и Маркетту, что мы подкупаем репортеров. Вы должны признать, его статьи стали не такими зловредными, с тех пор как он работает у Маркетта. Но дела у нас пойдут не лучше, чем в прошлом сезоне, если мы окончательно не заткнем рот. Вам пора научиться правильно оценивать силы противника!
— Я укокошу этого выродка, — повторил Тинн, шагая взад и вперед по комнате. Вдруг он остановился. — Как это мне не пришло в голову в прошлом сезоне! Послушайте, у Теда Тинна блестящая идея, как разделаться с этим умником. Что, если в первый же день мой противник выбросит меня с ринга на стол прессы, где сидит Паркер. И вдруг я невзначай заеду ему в морду. Мы в Штатах частенько это делаем.
— Правильно, бывали такие случаи, — сказал Джон Уэст. Он засмеялся и добавил: — Но имейте в виду, я ничего не знаю.
В вечер первого выступления Теда Тинна на ринге в сезоне 1929 года Клайв Паркер сидел на своем обычном месте за столом прессы.
Днем Паркер был на футбольном матче и долго просидел в баре, поэтому он чувствовал себя несколько усталым; все же он с удовлетворением отметил, что стадион наполовину пуст.
Мельбурнский стадион, вмещающий десять тысяч человек, напоминал огромный сарай. Помещение было очень запущенное, но удобное: со всех сторон квадратной площадки крутым амфитеатром подымались к высокой стене деревянные трибуны.
Последнее время Клайв Паркер был недоволен ходом своей войны с Джоном Уэстом. Когда Джон Уэст говорил о своем влиянии на Маркетта, он не так уж преувеличивал. Это подтвердила история с чеком. У Паркера требовали доказательств, и он достал их. Но эту улику не захотели пустить в ход, редактор уродовал чуть ли не каждую его статью, а Маркетт приказал ему и не помышлять о создании комиссии по боксу. Да уж, как видно, Уэст потолковал с Маркеттом!
Клайв Паркер был зол на Маркетта. „Владельцы стадиона помещают много объявлений… Борьба — это развлечение… Публика не должна принимать ее всерьез… А бокс всегда был грубым видом спорта, и никакая комиссия этого не изменит“. Не изменит! Он мог бы предложить кое-что, будьте покойны! Например, повысить плату борцам, передать медицинское наблюдение независимым врачам, а не штатному врачу стадиона, который и калеку признает годным, если этого пожелает Дик Лэм. Выплачивать пенсию искалеченным борцам, не оказывать предпочтения отдельным импрессарио и боксерам, не преследовать боксеров, которые настаивают на своих правах. Каждый год на собрании акционеров Маркетт распинается о свободе печати, с горечью думал Паркер. Вот уж поистине язык без костей!
Но все же он разок-другой поддел борцов Джона Уэста и в этом сезоне. Паркер усмехнулся, вспомнив о своей первой статье. „Балаган снова здесь, — писал он. — Пусть только Сэндоу проведает об этом. А если он приедет в Мельбурн, я знаю одного „чемпиона мира“, который на следующем же пароходе улизнет обратно в страну господа бога“. Его размышления были прерваны ревом пятитысячной толпы. Зрители вскочили на ноги, вопили и мяукали. К рингу вразвалку шел Тед Тинн.
После событий прошлого сезона такая встреча не удивила Тинна. Но его было не так-то легко смутить. Пускай орут — лишь бы ходили на состязания. И он держался под стать публике: погрозил кулаком и перескочил через канат, свирепо глянув на Клайва Паркера; тот в ответ вызывающе усмехнулся.
Когда на ринге появился противник Тинна, никому не известный борец по имени Уайли, раздался взрыв аплодисментов и приветственных криков.
— Наверно, еще один англичанин из Нью-Йорка, — сказал Паркер репортеру, сидевшему рядом с ним.
— Ну, не знаю, — ответил тот, вспомнив, что в кармане у него лежит чек, подписанный Ричардом Лэмом.
Женщин среди публики было не меньше, чем мужчин. „Удивительно, — думал Паркер, — с каким удовольствием некоторые женщины смотрят на борющихся мужчин“.
В многоголосом шуме выделялись выкрики продавцов напитков и сладостей. Они расхаживали среди публики с подносами, зарабатывая шиллинги для Джона Уэста и малую толику для себя. Слышались возгласы зрителей, заключавших пари.
— Три против одного за Тинна!
— Три против Уайли!
На ринг вышел радиокомментатор и объявил имена борцов.
Имя Тинна было встречено свистом и криками: „Спасайся, Тед, Сэндоу идет!“ — а имя его низкорослого противника — шумными приветствиями. Тинн пригрозил кулаком и зарычал. Уайли поднялся и вежливо раскланялся.
Удар гонга. Уайли пошел на Тинна и ловко схватил его в ножницы. Тинн вывертывался, гримасничал, молотил ногами и тащил своего противника к краю ринга. Толпа неистовствовала.
— Тинн опять жульничает! — крикнул Паркер.
— Ну, не думаю, — ответил его сосед, снова вспомнив о чеке. — Говорят, Уайли здорово работает ногами.
Все репортеры застучали на машинках или застрочили в длинных блокнотах, а Паркер все сидел, сложив руки, и размышлял.
Так вот в чем главный трюк сегодня. Англичанин здорово работает ногами. А бедняге Тинну приходится спешно уползать с ринга, хотя он во много раз сильнее своего противника. У англичанина действительно здорово получается захват ног. Но у него не хватит силенок одолеть Тинна.
Вновь и вновь Тинн сползал с ринга, избегая захватов ноги. До конца раунда осталось всего несколько секунд. Тинн вернулся на ринг под возмущенные крики и свистки. Уайли схватил его и бросил на мат. В мгновение ока Тинн снова очутился в ножницах. Судья, лежа на животе рядом с ним, начал считать:
— Раз! Два! Три!
Толпа была вне себя от восторга: ненавистного Тинна проучили.
Паркер с отвращением покачал головой. Он прекрасно разбирался в этом виде спорта. Каков бы ни был Тинн, он был могучим и напористым борцом. Ему недоставало мастерства, но он был силен как бык. Клайв Паркер отлично знал, что Тинну ничего не стоило вывернуться из этой тщедушной хватки и ответить одним из своих сокрушительных приемов. „Сущий балаган, — подумал Паркер. — И Тинн отлично играет свою роль“.
Ставки на Тинна упали. Теперь игроки ставили на обоих борцов поровну. Вот когда можно поживиться! Паркер заметил, что Джон Уэст, сидевший в первом ряду напротив, поставил на Тинна пятьдесят фунтов. Ненасытный паук! Все ясно.
— Ставлю пять фунтов на Тинна, — кричал Паркер репортерам, но никто не отозвался. Нет уж, все это им слишком хорошо знакомо. Довольно с них и того, что приходится всерьез писать об этом фарсе. Не проигрывать же еще и деньги.
Борцы вышли на ринг для второй схватки. Толпа опять вскочила на ноги и воплями приветствовала Уайли. Клайв Паркер сидел, подперев голову руками. „Тинн, наверно, скоро сквитается с англичанином, — размышлял он, — протянет еще несколько раундов и положит конец этой комедии“.
А радиокомментатор надрывался: „Уайли взял Тинна на ключ. Он не может вырваться! Ему приходится туго. Он корчится и вывертывается. Но он не может вырваться. Он не может вырваться!“
По всему штату люди слушали передачу и волновались: „Вырвется или нет?“ Как и большинство присутствующих на стадионе, они были убеждены, что Тинну действительно приходится туго.
„Этот ловкий маленький англичанин здорово всыпал сегодня чемпиону, — продолжал комментатор. — Тинн тащит его к канату. Зрители возмущены. Тинн снова пытается выбраться с ринга. Он не может выбраться. Он пытается сбросить Уайли с ринга. Он не может выбраться. Но вот он выбрался. Он сбросил Уайли с ринга, они падают на стол прессы!“
Клайв Паркер поднял голову и увидел, что на стол перед ним рухнули два тела. В следующее мгновение к нему вплотную придвинулось грязное, потное лицо Тинна. Губы Тинна зашевелились, он сказал свистящим шепотом: „Получай, выродок!“ И могучий кулак Теда Тинна обрушился на лицо Клайва Паркера.
Негодующие крики не умолкали. Уайли стоял на столе прессы, взывая к судье, а тот, перегнувшись через канат, уговаривал борцов вернуться на ринг.
У Клайва Паркера из глаз посыпались искры, все завертелось перед ним и погрузилось в темноту. Но он еще чувствовал, как его стащили на пол и на него навалилось что-то тяжелое. Служители, которые обычно сразу же решительно вмешиваются во всякую потасовку, сейчас почему-то мешкали. Тинн всей своей тяжестью придавил бесчувственное тело Клайва Паркера и бил его головой об пол.
Джон Уэст сидел с непроницаемым видом. Все это произошло в одно мгновение. Репортеры и служители столпились вокруг Тинна, когда он поднимался обратно на ринг. А внизу лежало распростертое тело Клайва Паркера. Его лицо было смертельно бледно, и из угла рта стекала струйка крови.
* * *
В дверь тихо постучали, и послышался голос миссис Моран: „Мэри, ты проснулась?“ Мэри Уэст с трудом открыла глаза, словно они были засыпаны песком. Она огляделась вокруг, облизывая губы и морщась от горечи во рту. В голове стоял туман. Неяркое осеннее солнце было уже высоко. Она потянулась за часами на туалетном столике. Часы остановились. Наверное, уже очень поздно.
— Ты проснулась, Мэри? — услышала она снова голос миссис Моран.
— Да, бабушка, — сказала она устало, — заходи.
Миссис Моран вошла с подносом в руках и поставила его на туалетный столик. Мэри приподнялась, зевнула и, морщась, запустила пальцы в рыжие кудри. Миссис Моран взяла с подноса стакан, бросила туда щепотку соды и лимонной кислоты и подала внучке зашипевшее питье.
— На выпей. Легче станет. Я уж вижу, тебе это нужно. И надень что-нибудь, чего ты сидишь в одной рубашке.
Мэри выпила воду, набросила на плечи пижаму и устало откинулась на подушку.
— Голова раскалывается, — простонала она.
— Не могу сказать, чтобы я сочувствовала тебе, но все же там на подносе вода и таблетки. Прими.
— Спасибо.
Пока Мэри глотала таблетки, миссис Моран распахнула окно, ворча, что в комнате пахнет, как в кабаке. Потом она села на стул у кровати. Волосы ее были совершенно белы, лицо покрыто мельчайшей сетью морщин, плечи ссутулились, а пальцы распухли в суставах. Но она все еще сохраняла былую живость и энергию.
Мэри взяла чашку горячего чая и ломтик поджаренного хлеба и нехотя стала жевать.
— Который час? — спросила она, подавляя зевок.
— Первый, но тебе лучше не спускаться вниз к завтраку. Ты похожа на ведьму. Мама собирается поговорить с тобой по душам. Мы слышали, как ты пришла вчера вечером, вернее — сегодня утром. Мама очень недовольна тобой, и она права.
— Знаю, что права. Но я не могу больше разговаривать с мамой по душам. Уж во всяком случае не сегодня.
— Я сказала маме, что сама поговорю с тобой. И ты, милая моя, изволь меня выслушать. Как по-твоему, чем это кончится?
— Ничего со мной не случится. Да и не все ли равно, бабушка? — рассеянно ответила Мэри, прихлебывая чай.
— Все равно или не все равно, а я тебе советую: поостерегись. А то узнает отец, как ты себя ведешь. Хорошо, что у него крепкий сон, а то опять начал бы палить из револьвера.
— Меня не интересует, что папа скажет. О нем я меньше всего думаю.
— Бог с тобой, девочка. Как ты можешь так говорить!
— Может быть, потому, что я дочь своего отца. Да и ему до меня дела нет, лишь бы я красовалась на балах и приемах, чтобы он мог говорить: „Хороша у меня дочка?“ Если бы ты знала, бабушка, до чего мне надоело быть каким-то паразитом. Я не так уж глупа, а мне не позволяют ничего делать. Почему я не могу поступить на работу? Да разве отец когда-нибудь позволит!
— Верно, не позволит. Но ты должна взять себя в руки, Мэри. У тебя есть все, о чем только мечтает большинство молодых девушек: деньги, родной дом, досуг, наряды…
— Это не все, бабушка.
— Я это знаю не хуже тебя. Но надо помнить о будущей жизни, Мэри. Все мы рано или поздно должны предстать перед лицом создателя.
Мэри искоса посмотрела на старушку.
— Скажи мне, Мэри, давно ты не была на исповеди?
— Давно, бабушка, даже и не помню когда, — ответила Мэри, грызя поджаренный хлеб с джемом.
— Уж, наверно, второй год пошел, а церковь требует, чтобы мы приобщались святых тайн по крайней мере раз в год. И к обедне ты ходишь только тогда, когда уж никак нельзя отвертеться. Видит бог, я не ханжа какая-нибудь и не святоша, но ты действительно должна взять себя в руки, девочка. — Она погладила Мэри по плечу. — Гуляй, веселись, но не забывай о религии. Она поможет тебе переносить невзгоды в этом мире.
— Может быть, это и верно, бабушка. Но ты ведь уже старая. Ты еще будешь долго-долго жить, но ты уже думаешь о будущей жизни. А когда молода, о религии как-то не вспоминаешь. Я по крайней мере не вспоминаю.
— Но ты же веруешь…
— Не знаю, во что я верую, бабушка. Жизнь такая пустая и бессмысленная. Когда-то я верила всему, чему учит нас церковь. А теперь — не знаю. Исповедь пугает меня. А все остальное… не знаю.
— Исповедь пугает тебя потому, что ты давно не исповедовалась. Вот в чем вся беда.
— Довольно на сегодня, бабушка. Голова у меня совсем не работает.
— Я говорю для твоей же пользы, сударыня. И вот еще что: вчера вечером у отца был архиепископ. Когда он уходил, мама отвела его в сторону. Я не расслышала, о чем они говорили, но думаю, что о тебе. Мама очень расстроилась.
— Ну еще бы! Как же без архиепископа! Мама на меньшее не согласится!
Миссис Моран невольно улыбнулась.
— Если мама думает, что я собираюсь обсуждать свои личные дела с архиепископом, то она ошибается. Он славный старик, но…
— Меня беспокоит, Мэри, что архиепископ Мэлон может заговорить об этом с твоим отцом. Ты же знаешь, какие они друзья.
— Ну что же, помешать я им не могу, пускай разговаривают, — сказала Мэри с напускным безразличием, но в глубине души она очень боялась столкновения с отцом.
Миссис Моран поднялась и взяла внучку за руку. — Мэри, — горячо сказала она, — если отец будет говорить с тобой, не перечь ему. Ради всего святого, не перечь.
Не ожидая ответа, миссис Моран вышла, оставив Мэри наедине с ее мыслями. Понемногу ею овладело смутное чувство вины. Уже года два, как это тягостное чувство мучило ее. Обычно она отгоняла его скептическими рассуждениями или напускной бесшабашностью. Но сейчас она не могла отделаться от него.
Конечно, у нее много грехов. Ей случается в пятницу есть мясо, когда она обедает у своих друзей-протестантов. На вечеринках она иногда напивается вот как вчера, рассказывает неприличные анекдоты… Ну, и романы у нее были. Сначала дело не шло дальше поцелуев и объятий в автомобиле, но потом… Она стала встречаться с актером-любителем, игравшим главную роль в пьесе, в которой участвовала и она. Сначала она убеждала себя, что любит его, но скоро ей пришлось признаться, что это не так. После него были и другие, и она нередко упрекала себя в распущенности.
Мэри встала с постели, сунула ноги в домашние туфли и подошла к зеркалу. — Ну и вид! Просто старая ведьма!
Расчесывая длинные золотистые волосы, она продолжала размышлять, перебирая в уме все нерешенные вопросы, вдумываясь в них глубже, чем делала это до сих пор. Почему она больше не может верить в религиозные догмы, как верила когда-то? Должно быть, потому, что исповедь внушает ей страх. Невозможно рассказывать о своих грехах даже незнакомому патеру в темной исповедальне. Раз она даже пошла в церковь, готовая к исповеди. Она, как полагается, начала перебирать в памяти все свои грехи, но когда подошла ее очередь, она, вместо того чтобы войти в исповедальню, убежала из церкви. Отчего она убежала? Оттого, что ей было стыдно? Или она утратила веру в то, что человек, сидящий в темной каморке, — представитель бога, наделенный властью отпускать грехи?
Раньше она твердо верила в исповедь. Удивлялась легкомыслию своих знакомых, которые грешили напропалую всю неделю, а в субботу вечером отправлялись на исповедь очищать душу. Разве исповедь для этого существует?
Одолевали ее и другие сомнения. Уж очень церковь жадна на деньги. Взять хотя бы отца. Он уже много лет не был в церкви, а архиепископ уважает его, приходит к нему в дом, чтобы поговорить о церковных делах и о политике.
Архиепископ не ходит к бедным в Керрингбуш, по ту сторону реки. Почему? Потому что у них нет денег, а отец — миллионер, он щедро жертвует на церковь и дает архиепископу советы относительно церковной собственности и финансов.
„Блаженны нищие“, — говорит церковь, но сама-то она богата. Еще не так давно богатые могли покупать индульгенции; деньги избавляли их от божьего гнева, И сейчас так. Хотя церковь теперь и говорит, что отпущения грехов нельзя купить, но богатые могут за деньги заказывать службы о здравии живых и за упокой умерших и этим замаливать свои грехи. Церковь запрещает развод, а богатые добиваются развода, делая пожертвования церкви.
Даже погрузившись в приятную теплоту ванны, Мэри продолжала предаваться невеселым мыслям. Может быть, ее маловерие происходит от собственной безнравственности? Или в самом деле католическая религия — ложь и пустая комедия? Уж не поддалась ли она влиянию своих друзей-протестантов, которые оспаривали непорочное зачатие, претворение хлеба и вина в тело и кровь Христовы? Нужно как следует подумать об этом и как можно скорей принять решение!
Конечно, все ее беды в немалой мере объясняются праздностью. Танцы, теннис, верховая езда, любительские спектакли — этот однообразный круговорот ее жизни нагонял на нее скуку и убеждал в том, что она не что иное, как паразит на теле общества. Кому она нужна? Какая от нее польза? Нет у нее ни призвания, ни хотя бы работы. Она недурно рисует, музыкальна, „божественно танцует“, „играет, как Сибила Торндайк“, — и все же она паразит.
Жизнь пуста и бесполезна. Ее мучили угрызения совести, но вины своей она понять не могла.
За всем, что омрачало жизнь Мэри, маячила зловещая фигура ее отца. Многих из ее знакомых, и католиков и протестантов, предостерегали от посещения дома Уэстов из-за сомнительной репутации хозяина. Нельзя сказать, чтобы это очень ее огорчало; до последнего времени ей и так было весело, и друзья, которые хоть раз попадали к ним в дом, становились частыми гостями. Но все же отец был окружен какой-то тайной, и в семье постоянно чувствовался разлад.
Кое-что ей было известно о причине отчужденности между родителями, и она смутно подозревала, что Ксавье — ребенок не ее отца. Отец ненавидел Ксавье. Он даже никогда не говорил с ним, ни о нем. Иногда она замечала, что он исподтишка наблюдает за мальчиком, и пугалась его злобного взгляда.
А как он рассердился из-за рояля! Ксавье учился музыке в школе. У него оказались способности, но дома не было инструмента, потому что Джон Уэст продал рояль, чтобы наказать Марджори за ослушание. Боясь обратиться с такой просьбой к отцу, Мэри сама купила рояль в рассрочку.
Как-то вечером, неделю спустя после покупки рояля, когда Мэри и Ксавье играли в четыре руки, в комнату вошел Джон Уэст. Они сразу почувствовали его присутствие, прервали игру и быстро обернулись.
Под свирепым взглядом отца оба невольно съежились.
— Откуда здесь рояль?
— Я купила его у Майера, — ответила Мэри. — Я плачу за него из своих карманных денег.
— Завтра же он будет отправлен обратно.
И он действительно отправил рояль обратно. Нет никаких сомнений, что это было сделано из-за Ксавье.
Он не был похож на других отцов. Ни разу на ее памяти никто из детей не обратился к нему за отеческим советом, ни разу он сам не пытался дать кому-нибудь совет. Мать живет отдельно от него, в своей комнате, и они разговаривают друг с другом, только когда этого нельзя избежать. Он разбил жизнь матери. Может быть, она и согрешила, но почему же тогда отец не порвал с ней или не простил ее?
Мэри догадывалась, что отец намеренно, в наказание, создал матери такую мучительную жизнь. Надо сказать, мать не без странностей. Боли, на которые она вечно жалуется и из-за которых часто остается в постели, видимо, воображаемые. Эти жалобы явно направлены против отца. Она чаще всего говорила о боли в спине в его присутствии, как бы стараясь уязвить его. Что скрывается за этим? И что скрывается за таинственными беседами, которые отец ведет по вечерам с подозрительными посетителями? Нужно ли верить слухам о том, что ее отец — тайный главарь уголовников и однажды даже велел бросить бомбу в дом начальника полиции. И так уже плохо быть праздной дочерью миллионера, а еще хуже, когда о твоем отце идет дурная слава. Архиепископу, конечно, известна репутация отца. Почему же он тогда знается с ним? Ясное дело — деньги!
Одевшись, Мэри спустилась в музыкальную комнату и села с книжкой у окна. Но она никак не могла сосредоточиться и опять погрузилась в раздумье. Что же ей делать? Ее своевольный нрав подсказывал ей один ответ — идти наперекор. Ну их всех к черту, не станет она слушать ни мать, ни отца, ни старикашку Мэлона. Она пойдет им всем наперекор. Но, конечно, это не выход.
Если бы только она могла излить кому-нибудь душу! К матери идти нет смысла — отец окончательно поработил ее. К Джо идти тоже бесполезно — он все обратит в шутку. Не помогут ни бабушка, ни Джон — они посочувствуют ей, но они оба верующие и всегда возмущаются, когда она без должного уважения относится к религии. А к отцу и вовсе незачем идти.
Ссоры с отцом не избежать. Бабушка, вероятно, слышала из разговора между матерью и архиепископом больше, чем сообщила ей. Кроме того, у бабушки безошибочное чутье в таких делах. А уж архиепископ наверняка расскажет отцу. Жди беды, Мэри Уэст!
Она твердо решила, что пойдет наперекор отцу. Он может запугать мать, и Джона, и всех кого угодно, но не ее, Мэри.
Мэри растянулась на кушетке и снова взялась за книгу. Но скоро усталость одолела ее. Рука, державшая книгу, медленно опустилась, книга упала на пол, и Мэри, закрыв глаза, крепко заснула.
Солнце стояло уже совсем низко, когда мать разбудила ее.
Нелли Уэст очень постарела. Ей не было еще шестидесяти лет, но она выглядела не многим моложе своей матери. Теперь это была женщина с расстроенной нервной системой, страдающая мнимым недугом, болезненно благочестивая и неуравновешенная.
Она с силой потрясла дочь за плечо.
— Проснись, Мэри, проснись!
Мэри пошевелилась, потом села, протирая сонные глаза.
— Который час? Я, кажется, уснула.
— Если бы вы, сударыня, возвращались домой, когда полагается, вы не уснули бы. Через полчаса будет обед. Но раньше я хочу поговорить с тобой.
Мэри притворно зевнула.
— Ну вот, мама, опять!
— Ты можешь сколько угодно надувать губы и говорить „мама опять“. Видит бог, я не люблю ссориться, но впредь я намерена держать тебя построже.
— Брось, мама, прошу тебя.
— Если ты не хочешь слушать меня, то, может быть, послушаешься кого-нибудь другого, — сказала Нелли, многозначительно подчеркнув последние слова. Затем, видимо полагая, что моральная победа за ней, Нелли вышла.
В борьбе, длившейся между Джоном и Нелли Уэст уже двенадцать лет, ни он, ни она не добились победы. Джону Уэсту не удалось сломить сопротивление Нелли, а Нелли не сумела вернуть себе любовь и доверие своих детей. Только Ксавье был по-настоящему привязан к ней. Остальные держались принужденно, хотя внешне и дружелюбно. Что именно детям известно о Билле Эвансе и рождении Ксавье — она могла лишь догадываться. Но они, конечно, знали достаточно, чтобы питать к ней невольную неприязнь.
Для Нелли ее роман с Биллом Эвансом отошел в область воспоминаний, не оставив ничего, кроме сожаления. О нем самом не было ни слуху ни духу с тех самых пор, как он уехал из Мельбурна, и годы залечили сердечные раны. Только Ксавье и натянутые отношения в семье напоминали ей о том, что она некогда согрешила перед богом и своим мужем. Она сдержала свою угрозу — возненавидеть Джона Уэста, но сейчас эта ненависть превратилась в тлеющий костер без пламени.
Джон Уэст растоптал мечты Нелли о любви, но наступила старость, и источник любви иссяк в ее сердце. Она пыталась мстить ему, притворяясь искалеченной, но добилась лишь того, что превратилась в мнимую больную. Мало-помалу Джону Уэсту пришлось вновь нанять слуг, но машину он так и не купил. Его запрещение Нелли выходить из дому тоже постепенно забылось, и она довольно часто посещала церковь и благотворительные вечера. Вопрос об отдельной комнате для Ксавье никогда не подымался супругами, чтобы не бередить гнойную рану. Миссис Моран однажды попыталась заговорить об этом с Джоном Уэстом, но, как после рассказывала Нелли, „он так взглянул на меня, что слова застряли у меня в горле“.
Нелли Уэст была глубоко встревожена поведением Мэри, но помочь дочери ничем не могла. Когда она с отчаяния попросила архиепископа поговорить с Мэри, она тотчас же поняла, что архиепископ, вероятно, все расскажет ее мужу. Одному богу известно, что теперь будет!
После того как мать вышла из комнаты, Мэри поднялась к себе. Через несколько минут в дверь постучал ее брат Джон и спросил:
— Ты здесь, Рыжик? — Джон часто так называл сестру.
— Входи, Джон.
Он распахнул дверь и торопливо вошел в комнату. Джон очень напоминал отца, но был выше и шире его. Тот же грушевидный череп, низко посаженные уши, непокорный вихор. Только ноги у него не были кривые, и он унаследовал не серые непроницаемые глаза Джона Уэста, а глаза матери.
— Ты влипла, Рыжик. Архиепископ разговаривает с отцом у калитки, и я слышал, как они поминали тебя. Бабушка же сказала мне сегодня, что она этого ждет, а она никогда не ошибается.
Мэри, пудрившаяся над туалетным столиком, быстро обернулась.
— Ты не пугайся, но я решил все-таки предупредить тебя.
— Спасибо, Джон, — сказала Мэри, подавляя страх. — Не беспокойся, я умею постоять за себя.
— Только не наговори лишнего, Мэри. Ты ведь знаешь отца. Не говори и не делай ничего такого, что может еще больше испортить дело. Не калечь свою жизнь!
— Есть о чем беспокоиться! Она и так уже искалечена!
Джон подошел к ней сзади и обнял ее за плечи.
— Зачем ты так говоришь, Мэри. Вообще, что с тобой творится в последнее время.
— Я не боюсь отца и не стану слушаться его. Ты сам поступаешь ему наперекор, но только потихоньку, у тебя не хватает мужества сделать это открыто.
Его руки соскользнули с ее плеч, и она увидела в зеркале, как он закусил губу, отвернулся и понурил голову. Мэри подошла к брату.
— Прости меня, Джон, я не хотела тебя обидеть.
— Ты права, я трус. Планы, которые строит отец относительно меня, мне не по душе, и все же я знаю, что подчинюсь ему. Я не хочу управлять его кровавой империей. Мне лучше известна его жизнь, его способы наживать деньги, чем тебе. Он жестокий и злой человек. Да простит мне бог, что я так говорю о своем отце! — Джон стоял перед туалетным столиком, заложив руки за спину. — Я не рассказывал тебе о моем разговоре с ним в музыкальной комнате позавчера вечером?
— Нет.
— Ну так вот, у него новый план — отправить меня в поездку по всей Австралии, чтобы я поочередно заведовал всеми его предприятиями, и таким образом подготовился занять когда-нибудь его место.
— И что же ты ответил на это?
— Ничего. Я сказал, что душа у меня к этому не лежит, но если он очень хочет… — Джон резко повернулся и схватил Мэри за плечи. — Я знаю, что у меня нет воли, Мэри. Я ненавижу бизнес, в особенности такой бизнес, как у него. Не нужно мне никаких его денег. Я просто хочу иметь работу и немного счастья, вот и все. Не выйдет из меня финансовый король. Каждый раз я собираюсь сказать ему это прямо, но у него слишком твердый характер. В тот вечер он сначала требовал, потом начал упрашивать. Он даже заговорил почти дружелюбно, отечески. Я не мог устоять. Я другого такого властного человека в жизни не видел. Я просто боюсь его.
Джон был прав — Мэри действительно „влипла“.
Джона Уэста подвез к дому его новый компаньон Патрик Кори. Кори оспаривал у Фрэнка Лэмменса почетное положение „правой руки Джона Уэста“. Покойный отец Кори был партнером Джона Уэста в его винно-водочных предприятиях. Патрик унаследовал отцовский пай и очень скоро доказал Джону Уэсту, что его не обведешь вокруг пальца, как когда-то можно было обвести старика Кори. В битве с владельцами мелких виноградников и винокуренных заводов, которые Джон Уэст либо скупал, либо объединял со своими, Пат оказался достойным союзником.
До того как к Пату Кори перешло дело его отца, он был маклером и бухгалтером. Он до тонкости знал механику современного бизнеса. К тому же был жесток, хитер, оборотист. Всеми своими помыслами стремясь к наживе, он отнюдь не заботился о том, наносит он другим ущерб или нет. Джон Уэст ценил его. Вместе они прибрали к рукам австралийскую винокуренную промышленность и, по предложению Кори, создали акционерную компанию, которая уже начала протягивать свои щупальца к самым разнообразным предприятиям по всей стране.
Последнее время Джон Уэст стал замечать, что к концу дня сильно устает и ему трудно добираться до дому пешком. Поэтому теперь Кори обычно отвозил его домой на своей машине. Сегодня, когда они, подъехав к особняку Уэста, еще продолжали разговаривать в машине, с ними поравнялся архиепископ Мэлон. Как всегда, он возвращался пешком из собора. Он подошел к машине и обратился с вопросом о каком-то деле к Пату Кори, которого хорошо знал как богатого покровителя церкви.
Немного погодя Кори сказал своим густым ирландским басом:
— Ну, ваше преосвященство и мистер Уэст, мне пора. Моя хозяйка очень не любит, когда я опаздываю к обеду.
Джон Уэст вышел из машины, и Кори отъехал, весело помахав на прощанье рукой. Архиепископ Мэлон медлил уходить и завел разговор о разных пустяках. Его густые брови и венчик пушистых волос, видневшийся из-под шляпы, были белы, как снег, но, несмотря на свои шестьдесят лет, Мэлон держался по-прежнему очень прямо.
— Я хотел бы, если позволите, поговорить с вами об одном деле, мистер Уэст. Речь идет о вашей дочери Мэри. Не подумайте, что я порицаю ее. Я не хочу сказать о ней ничего дурного, но я слышал, что она выпивает, поздно является домой и вращается в дурном обществе. И, что хуже всего, она пренебрегает своими религиозными обязанностями.
Джон Уэст внимательно посмотрел в лицо архиепископу, но ничего не ответил.
— Надеюсь, что вы не поймете меня превратно. Я очень близко принимаю к сердцу все, что касается Мэри. Когда-то я частенько держал ее на коленях. На моих глазах она росла и превратилась в прелестную девушку. Как и вы, я горжусь ее талантами. Но ею нужно руководить. Должен сказать, что вселяющие тревогу слухи доходили до меня и раньше. А вчера ваша супруга заговорила со мной об этом. Я думаю, мистер Уэст, вам следует поговорить с Мэри.
— Конечно, ваше преосвященство. Я и сам беспокоюсь… Но я так занят последнее время… — Джон Уэст был смущен и очень зол на Мэри.
— Мне кажется, будет лучше, если не я, а вы сами поговорите с дочерью. Не нужно только быть с ней слишком суровым, она немного своевольна, только и всего, — сказал архиепископ, прощаясь с Джоном Уэстом.
Пройдя несколько шагов, архиепископ обернулся и сказал: — И помните, мистер Уэст, самое главное — заставить ее регулярно посещать церковь и приобщаться святых тайн. А в этом деле лучше всего действовать личным примером.
Джон Уэст круто повернулся, но высокая фигура Мэлона уже скрылась в наступивших сумерках.
Ужин прошел в молчании. Всем, видимо, было не по себе. Вставая из-за стола, Джон Уэст сказал: — Мэри, мне нужно поговорить с тобой.
Мэри послушно последовала за отцом в музыкальную комнату. Он включил свет, сел за стол и указал ей на стул напротив.
— Я слышал, что ты неаккуратно посещаешь церковь, — начал он, устремив на нее немигающий взгляд.
Мэри упрямо вскинула голову. — А тебе какая забота? Ты сам не был в церкви уже много лет.
Он невольно залюбовался ею. Вот уж правда — вся в отца. И какая высокая, особенно сейчас, когда она так вызывающе смотрит на него. Но ради ее же блага он должен быть строг.
— Как ты смеешь так разговаривать со мной?
Она не ответила.
— Ты пренебрегаешь религией, ты выпиваешь, поздно являешься домой, и дошло до того, что сам архиепископ уже говорит о твоем поведении. Что это значит?
— Ты не поймешь.
— Неужели? Изволь прекратить это безобразие!
— Ты меня не запугаешь, папа, — сказала она почти шепотом. Губы ее дрожали.
— Ах, вот как? Ты сделаешь так, как я велю! Ты сейчас же пойдешь на исповедь и к причастию. Я позабочусь об этом. И впредь ты будешь ходить в церковь каждое воскресенье.
„Ах, отец, — думала она, — если бы я могла поделиться с тобой своими горестями и сомненьями! Если бы я могла сесть к тебе на колени, гладить твои седые волосы и попросить у тебя совета!“ Она представила себе, что произошло бы, если бы в самом деле так сделала, и чуть не разразилась истерическим хохотом при одной этой мысли.
„Пойми, девочка, — думал он, — ведь я знаю, что для тебя лучше. Нельзя так вести себя, нужно ходить в церковь“. Джон Уэст почти жалел, что не может поговорить с ней ласково, сказать ей, что души в ней не чает, что думает только о ее благе. Но уж такой у него нрав, что даже с любимой дочерью он не способен был обойтись по-дружески.
— Ну, так как? — спросил он.
— А если я не хочу?
— Нет, ты захочешь! С какой стати тебе не хотеть? Ты же знаешь, я говорю для твоего же блага. Я дал тебе все, что можно пожелать: чудесный дом, прекрасное образование, вдоволь карманных денег. Зачем же ты станешь навлекать позор на свою семью?
Лицемерие этих слов возмутило ее. — Не говори со мной так, папа. Я очень несчастлива по многим причинам, но я не желаю, чтобы ты обращался со мной, как с ребенком. Я уже взрослая и могу жить по-своему.
Он вскочил и наклонился к ней через стол. — Жить по-своему! Ты ведешь себя, как пьяная шлюха. Я не допущу, чтобы моя дочь так вела себя! Ты сделаешь так, как я велю, или уйдешь из моего дома!
Мэри заплакала, и горькие слезы покатились по ее щекам.
Он смотрел на нее, чувствуя, как глубоко его жестокие слова обидели ее. Он чуть было не взял их обратно, но тут же спохватился: тогда она опять заупрямится. Поэтому он продолжал так же грозно, хотя и более спокойным тоном:
— Ты сделаешь так, как я велю. Ты больше не будешь шататься по ночам. В двенадцать часов изволь быть дома. И не будешь водиться с актерами. Это тебе не компания.
Мэри вытерла слезы. Пока она не может покинуть этот дом навсегда, нужно подчиниться этому человеку.
— Хорошо, папа. Пусть будет по-твоему. Но придет день — тогда увидим!
Она выбежала в холл, бегом поднялась к себе в комнату и, рыдая, бросилась на кровать. Плакала она долго и так заснула в слезах.
Джон Уэст остался стоять посреди комнаты словно истукан, лицо его напоминало застывшую восковую маску. Почему он не может дать понять Мэри, что любит ее и хочет, чтобы она была счастлива?
Мэри проснулась глубокой ночью, вся окоченев от холода. Она разделась и легла под одеяло, но уже не могла заснуть до утра, когда в окне забрезжил унылый осенний рассвет.
На следующий день, в субботу, Мэри пошла вечером в церковь, решив убедиться окончательно, может ли исповедь принести ей утешение и верит ли она во власть священника отпускать грехи.
Увы! У Мэри не осталось никаких сомнений — в исповеди она уже не видела ничего, кроме недостойного фарса. Священник ей попался очень молодой — зеленый юнец без всякого знания жизни. Чем он мог помочь ей? Как она ни старалась найти утешение в религии и укрепить свою пошатнувшуюся веру, ей это не удалось. На следующее утро она пошла к причастию. Но и это не принесло ей душевного покоя. Как она ни силилась, она никак не могла уверовать, что вино и облатка, которые дал ей проглотить священник, — это кровь и тело Христовы.
Мэри Уэст утратила веру. Она чувствовала, что Должна найти ей замену, найти опору, чтобы спастись от пугающей пустоты своей жизни.
* * *
Наутро после встречи борцов Клайв Паркер пришел в себя в палате мельбурнской больницы. Челюсти разжать он не мог. Вся голова была забинтована и так болела, что казалось, вот-вот расколется пополам.
Врачи нашли у него сотрясение мозга и перелом нижней челюсти. Он пролежал в больнице шесть недель. Сначала его навещала только жена, но после того как ему вправили челюсть и последствия сотрясения исчезли, ему разрешили принимать и других посетителей. Одним из первых явился Рон Ласситер, но он воздержался от каких-либо комментариев, сказав только, что спортсмены — люди отчаянные. „Да, Уэст неплохо дрессирует своих подручных“, — подумал Паркер. Между тем машина Уэста работала полным ходом, дабы замять скандал.
Ассоциация журналистов начала расследование, но оно ни к чему не привело, так как репортеры, присутствовавшие при инциденте, отказались подтвердить, что Паркер был избит преднамеренно. Они говорили, что это могло произойти и случайно.
Паркер все же не хотел отказываться от борьбы с Джоном Уэстом. Он решил было привлечь Тинна и Уэста к суду, но адвокат, приглашенный к нему в больницу, выразил сомнение в том, сможет ли Паркер привести доказательства, подтверждающие выдвинутое им обвинение. Наконец Паркера выписали из больницы, и, отдохнув несколько дней, он вернулся к прежней работе. Почти тотчас же его вызвал Маркетт. Было ясно, что Маркетт идет на попятный.
— Помните, что вы работаете у меня, — сказал он в заключение. — Вы слишком ценный работник, чтобы рисковать головой из-за таких пустяков. Можете время от времени прохаживаться на их счет, но особенно не увлекайтесь.
Паркер смолчал. Что толку возражать?
Настроение у него было подавленное. Особенно мучил его тик, от которого непрерывно дергалась левая щека и от которого он тщетно пытался избавиться, то и дело вскидывая голову.
В тот же день он получил записку от Ричарда Лэма: не придет ли он в бар такого-то отеля в три часа дня? Паркера разбирало любопытство, и он явился на свидание. Как только он вошел в бар, к нему подскочил Тед Тинн и схватил его за руку. Вспыхнула лампа фотографа: его засняли пожимающим руку Тинна!
Паркер бросился на фотографа, но Тинн и Лэм удержали его.
— Брось, Чистая душа, — сказал Тинн, ухмыляясь. — Через два дня этот снимок появится в газетах.
По возвращении в редакцию он снова был приглашен к Маркетту.
— Нет, нет, Паркер, — отговаривал его Маркетт, — лучше бросить это дело. Мы платили вам жалованье во время вашей болезни, мы оплатили и ваши расходы на лечение. Послушайтесь моего совета, бросьте свою затею. Иначе это вам грозит и новыми расходами, и новыми увечьями.
Полчаса спустя Паркеру принесли записку от Джона Уэста с просьбой зайти к нему. Паркер отправился немедля.
— Вот видите, Паркер, — сказал Джон Уэст покровительственным тоном, — я же предупреждал вас, что эти янки — отчаянные ребята, но вы меня не послушали. Я к этому делу не имею никакого отношения, но мне хочется помочь вам. Вот пятьсот франков на лечение и другие расходы.
Паркер поднялся. Он чувствовал себя глубоко униженным и на мгновение совсем упал духом. На глаза его навернулись слезы, но он смахнул их и, выхватив из рук Джона Уэста чек, в бешенстве разорвал его на клочки.
— Меня нельзя купить, Уэст, — сказал он. — Я еще доберусь до вас!
Джон Уэст снисходительно улыбнулся, словно он предвидел, что Паркеру суждено провести всю жизнь в бесплодных попытках разоблачить закулисную историю империи Уэста и в тщетных поисках газеты, которая разрешила бы ему нападать на спортивные предприятия Джона Уэста.
* * *
В один из октябрьских дней 1929 года огромная толпа заполнила железнодорожный вокзал на Спенсер-стрит. Провожали достопочтенного Джеймса Саммерса, премьер-министра Австралии. В толпе был и Джон Уэст.
Лейбористы одержали самую сенсационную победу на выборах за всю историю существования Австралийского союза. Политический маятник качнулся так резко, что сам националистский премьер-министр лишился места в парламенте.
Для Джеймса Саммерса это было величайшим событием в его жизни. Он займет самое высокое положение в стране! Шутка сказать, достопочтенный Джеймс Саммерс — премьер-министр Австралии! Много лет назад, когда он, разорившись дотла, бросил свою лавчонку в провинции и, приехав в столицу, примкнул к лейбористскому движению, — снилось ли ему, что в один прекрасный день он займет должность премьер-министра. Это венец его карьеры. Судьба предназначала его для великих деяний — он выведет Австралию из кризиса.
На грязном, всегда безлюдном вокзале сейчас бурлила жизнь. Этим же поездом ехал генерал-губернатор. Но не ради него собралась огромная толпа. Все пришли проводить Джимми Саммерса.
Здесь были люди, впервые в жизни голосовавшие за лейбористов, — крупные и мелкие дельцы, которые видели в Саммерсе единственную надежду поправить расстроенные дела. Но больше всего собралось членов лейбористской партии и рабочих, веривших, что лейбористы будут отстаивать их интересы. Джимми Саммерс был их кумиром. Он занял пост премьера — как же не радоваться? Он уничтожит безработицу, повысит заработную плату, расширит социальное страхование. Будьте спокойны, Джимми Саммерс больше не позволит крупным воротилам заправлять всеми делами.
Когда Саммерс вышел из машины и начал пробираться сквозь толпу, ветхое здание вокзала огласилось восторженными криками. Затем рабочие громко запели старую профсоюзную песню „В единении наша сила“.
В толпе были люди, которые никогда не слыхали этой песни и не понимали, какое отношение она имеет к проводам премьера. Джон Уэст слышал ее в последний раз, когда выступал на митинге перед зданием парламента после высылки отца Джеспера. Сейчас он негодующе повернулся к рабочим, словно хотел сказать: „Не пойте эту песню! Только красные поют ее!“
Саммерс, маленький седеющий человек лет шестидесяти, приветливо улыбался и махал рукой провожающим. С трудом пробравшись сквозь густую толпу, он поднялся на площадку вагона, кланяясь на все стороны, а пение и крики стали еще громче.
Саммерс был благочестивым католиком и примерным семьянином; слыл пламенным оратором в годы, когда красноречие еще играло большую роль в политике. Стоя на площадке вагона, он махал рукой приветствующей его толпе, и на глаза его навертывались слезы. Все они верят в него, и он оправдает их надежды.
Темным облаком спустились сумерки. Раздался свист, поезд тронулся. Саммерс, усталый, сел на свое место, прислушиваясь к замиравшим вдали крикам и пению.
Торжественные проводы очень подняли его в собственных глазах. И в самом деле, кто, как не он, достоин того глубокого доверия, которое ему оказывают? Разве он с юношеских лет не сражался в рядах лейбористской партии? Разве мало усилий приложил он, чтобы провалить закон о всеобщей воинской повинности? Разве не боролся он за спасение водных коммуникаций Австралии? Разве не выступал в последней предвыборной кампании за систему арбитража? Не он ли в 1922 году поставил вопрос о социализации?
Социализация! Как давно это было! Рабочие не созрели для социализации. Да и конституцией она не предусмотрена. Сенат не пропустит ни одного мероприятия, направленного к социализации.
Да и не нужна она вовсе. Поднять пошлины на импорт и остановить приток дешевой рабочей силы из-за океана — вот все, что требуется для ликвидации безработицы, и тогда снова наступит процветание. Коммунисты проповедуют социализм, а социализм идет гораздо дальше социализации — вот они и не прошли в парламент. Они — паникеры, носятся по всей стране и кричат, что мы накануне такого страшного экономического кризиса, какого еще мир не видел. Никакого кризиса не будет, уж Джимми Саммерс позаботится об этом. Хорошо коммунистам говорить о социализме и угрозе кризиса — не они управляют страной. Да и рабочие показали, какого они мнения об ораторе, который выступал в мельбурнском порту. Его освистали, в него бросали гнилыми овощами и кричали ему, что рабочие голосуют за Джимми Саммерса, чтобы он позаботился о них.
Нет, если бы он ратовал за социализацию, не сидел бы он сейчас в этом поезде. А что сталось бы с рабочими, если бы у власти все еще были националисты?
Мысли проносились неудержимым потоком в его утомленном мозгу, виски ломило, горло распухло от сотни предвыборных речей. Голова его опустилась на грудь, и он забылся беспокойным сном. Ему снилось, что ликующие толпы возносят его на высокий мраморный престол.
В Олбери Саммерса разбудили новые овации. Голова все еще болела, руки и ноги затекли. С трудом пробравшись сквозь ликующую толпу, он пересел на другой поезд, занял отведенное для него отдельное купе и проспал всю ночь.
Утром он прибыл в Канберру, новую столицу Австралии. Город стоял вдали от моря, вдали от крупных промышленных центров — уединенная обитель политических деятелей и чиновников. Тихий, аккуратный, словно бутафорский городок. И здесь нового премьер-министра тоже ожидала большая толпа. Народу собралось так много, что генерал-губернатор не мог добраться до своей кареты, а Джимми Саммерсу понадобилось десять минут, чтобы дойти до машины. Остановился он в отеле „Канберра“. Джимми Саммерс, премьер-министр, избранный рабочими, не захотел жить в роскошной резиденции премьер-министра.
Едва он вошел в отель, как секретарь сообщил ему о первом крахе на нью-йоркской бирже. Саммерс встревожился. Неужели ему придется иметь дело не с временной полосой безработицы, а с таким же страшным кризисом, как в девяностых годах? Неужели ему суждено управлять страной, экономика которой находится накануне катастрофы?
Он принял ванну и улегся в удобную постель, но уснул не скоро. Его мучил страх, как бы паника на Уолл-стрите не явилась дурным предзнаменованием. А если мир будет ввергнут в опасность, если австралийских рабочих ждет голод и отчаяние, сумеет ли он, Джимми Саммерс, предотвратить это?
* * *
Впоследствии Джон Уэст не раз говорил, что поставить у власти правительство Саммерса обошлось ему в двадцать пять тысяч. Конечно, лейбористы победили бы на выборах и без него, но, как все люди, одержимые жаждой власти, он приписывал своему влиянию события, которые так или иначе произошли бы.
Целых три дня Джон Уэст не мог заниматься делами. Три ночи он не спал. Вот она, вершина его власти. Он ходил как в чаду, словно курильщик опиума. Перед ним носились видения, одновременно и явственные и сумбурные.
Итак, он — самый могущественный человек в Австралии. Воображение рисовало ему заманчивые картины, но им явно не хватало конкретности, и это смущало Джона Уэста. Прошло несколько дней, прежде чем он понял причину своего смутного беспокойства: теперь, когда он наконец достиг власти, к которой стремился всю жизнь, он, в сущности, не знал, что с ней делать. Он может осуществить свой план — поднять таможенный тариф на импортные спиртные напитки и нажить на этом миллион. Может укрепить и расширить свою империю. Ну, а дальше что?
До сих пор его мало интересовало, какую политику проводит тот или иной деятель, то или иное правительство, лишь бы они исполняли его желания во всем, что затрагивало его интересы. Может быть, теперь ему следует обзавестись определенными политическими взглядами, тогда он будет осуществлять свою власть в полной мере. Во всяком случае, решил он, нужно позаботиться, чтобы правительство Саммерса проводило политику, которая положила бы конец застою в делах. На всех его предприятиях прибыли нужно поднять до прежнего уровня. Вот тут-то опять пригодится Тед Тэргуд. Эта мысль успокоила его.
Когда он заговорил о своих планах с архиепископом Мэлоном, оказалось, что и Мэлон весьма озабочен застоем в делах, но больше всего опасается, как бы всеобщее недовольство и забастовка горняков в Новом Южном Уэлсе не привели к революции. К его удивлению, архиепископ радовался тому, что в сенате большинство имеют консерваторы, а не лейбористы и, таким образом, сенат будет оказывать сдерживающее влияние на кабинет, если экстремисты, вроде Эштона, будут настаивать на проведении в жизнь, хотя бы частично, пункта лейбористской программы, касающегося социализации. „Сильно поправел старик за последние годы, — подумал Джон Уэст. — Но он прав. Нельзя допускать никаких посягательств на священный принцип частной собственности“.
Несколько дней спустя Тед Тэргуд приехал в Мельбурн повидаться с Джоном Уэстом. Тэргуд был поглощен своим планом спасения отечества. Из его слов Джон Уэст понял, что речь идет о том, чтобы для оживления экономики страны выпустить через Австралииский банк на шестьдесят миллионов фунтов стерлингов новых бумажных денег. Тэргуд с таким увлечением излагал свой план Джону Уэсту, что тот полностью уверовал в его целесообразность, но пока что он больше был озабочен своим собственным планом — выжать еще один миллион из законопроекта о пошлинах на импорт, который Саммерс должен был внести до рождества.
Джон Уэст вызвал по телефону Кори, и тот немедленно приехал. Джон Уэст познакомил его с Тэргудом, и они втроем занялись обсуждением деталей.
— Как вам известно, — начал Джон Уэст, обращаясь к Тэргуду, — мой план развития австралийской винокуренной промышленности, в соответствии с политикой лейбористской партии, должен стать законом. Я говорил о нем Саммерсу еще до выборов, и он отнесся к нему благоприятно. Он сказал, что хочет таким путем развить все отрасли австралийской промышленности.
Пока Джон Уэст разговаривал с Тэргудом, Патрик Кори молчал и, казалось, слушал довольно невнимательно. Он снял очки и задумчиво потирал переносицу указательным и большим пальцами. Лицо у него было худое, скуластое, губы тонкие, по обе стороны рта — глубокие складки. Кори безмолвствовал в течение всей беседы и лишь время от времени в нужный момент вставлял несколько веских слов.
— Импорт шотландского виски наносит ущерб австралийской промышленности, — объяснял Джон Уэст Тэргуду. — Если резко повысить таможенные тарифы, то импортные товары станут недоступны. В результате немедленно расширится отечественное производство и уменьшится безработица. Но у меня есть еще одно предложение.
— Ха-ха-ха, — расхохотался Тэргуд. Кори поднял голову и неодобрительно посмотрел на него.
— Прошу прощения, господа, — сказал Тэргуд, — но Канберра кишмя кишит лоббистами[1], требующими защитительных тарифов — если не на вино и не на спирт, то на лезвия для бритв, или шелковые чулки, или бог знает еще на что. Мы их называем „тарифные толкачи“. Надо сказать, что обычно они добиваются своего.
— У нас очень глупо смотрят на лоббистов, — прервал его Джон Уэст. — Я только что прочел статью о лоббизме в Америке. Там лоббисты зарегистрированы и они совершенно официально беседуют с политическими деятелями, излагают им точку зрения деловых кругов. Вот так это и должно быть.
— Может быть, вы и правы. Видите ли, мистер Уэст, Саммерс и некоторые другие возлагают все надежды на этот законопроект о тарифах. Я же считаю, что только добавочный выпуск бумажных денег может спасти страну…
— Мистер Тэргуд, — негромко заговорил Кори, надевая очки, — наш план сейчас более обширен, чем в то время, когда мистер Уэст говорил вам о нем. Не кажется ли вам, что австралийская промышленность выгадала бы, если бы в законопроект была включена статья, вынуждающая шотландскую компанию сбывать некоторый процент нашей — я имею в виду австралийской — продукции наряду со своей?
— Да, пожалуй, — сказал Тэргуд, несколько смущенный, — но я не совсем понимаю…
— Затем, предположим, что в законопроект будет включена статья, увеличивающая срок, в течение которого спиртные напитки должны выдерживаться, — скажем, до десяти лет.
— Почему бы и нет, но я все же не понимаю…
— Видите ли, у нас имеются большие запасы выдержанного виски, а шотландцы лишь недавно открыли винокуренный завод в Южной Австралии и только что начали работать.
— Ха-ха-ха, ну и план! Теперь я понимаю, почему вы с мистером Уэстом так хорошо сработались. Думаю, что это не трудно будет устроить. Только министру, в ведении которого находится таможня, и его помощнику, пожалуй, нужен будет… ну, скажем, какой-то стимул.
— Это будет сделано, — сказал Джон Уэст. — А как насчет Саммерса?
— Советую вам держаться подальше от Саммерса. Джимми такими делами не занимается. Вы лучше подумайте насчет Теда Тэргуда. Это будет вернее. Ха-ха-ха!
— Стойте за меня — миллионером будете, — пророчески изрек Джон Уэст.
— Не сообщить ли нам мистеру Тэргуду о нашем плане слияния, мистер Уэст? — спросил Кори столь торжественно, что его слова прозвучали почти насмешкой.
— Пожалуй.
— Так вот, мистер Тэргуд…
— Мое имя. Все зовут меня Тед. Красный Тед. Ха-ха-ха.
— Так вот, Тед. После того как законопроект пройдет в палате, я предложу шотландцам создать объединенную компанию по производству и ввозу спиртных напитков в рамках нового закона. Я думаю, они согласятся, хотя мы и намерены потребовать в придачу пакет акций их компании в Шотландии.
— А что же им останется, как не согласиться! — воскликнул Тэргуд. — Этот план стоит миллиона!
— Если не больше, — сказал Джон Уэст. — В конечном счете — безусловно больше миллиона, и я не забуду тех, кто поможет мне провести этот план.
Кори ушел, и Джон Уэст, оставшись наедине с Тэргудом, начал расспрашивать его о политическом положений в штате Куинсленд. Предсказания Тэргуда оправдались: правительство Мак-Коркелла потерпело поражение на выборах, и националисты вновь пришли к власти после четырнадцати лет пребывания в оппозиции.
Тэргуд сказал Джону Уэсту, что, по его мнению, националисты едва ли станут интересоваться рудниками в Чиррабу. Дженнер замолчал, — видимо, не желая давать в руки националистам оружие против правительства Саммерса. Власти штата Куинсленд тоже подозрительно молчат.
— Они либо забыли об этой истории, либо выжидают, когда я внесу законопроект о выпуске денег. Тогда они назначат правительственную следственную комиссию. У них нет никаких улик против меня, мистер Уэст, но они могут очернить меня в критический момент. Тогда мне понадобится ваше влияние, чтобы предотвратить политический крах.
— Я обещал защищать вас, а я человек слова, — заверил его Джон Уэст, хотя и не предполагал, что ему придется выполнить свое обещание.
Через несколько дней Джон Уэст встретил на улице Фрэнка Эштона и поздравил его с победой лейбористов. Эштон выглядел бодрее, чем во время следствия по делу Мэлони, но, к удивлению Джона Уэста, на поздравление ответил холодно.
— Да, лейбористы одержали победу, но тысячи людей не имеют работы. Мы срочно должны что-то сделать для них. Положение требует решительных мер, а мы не можем провести их через сенат. Завтра я возвращаюсь в Канберру и начинаю кампанию за роспуск обеих палат и немедленное назначение новых выборов. Мы добьемся большинства в обеих палатах и сможем провести в жизнь нашу программу.
— Неужели так необходимы новые выборы? — спросил Джон Уэст.
— Мы должны добиться немедленных выборов, мистер Уэст, иного выхода нет. Процветание не наступит с минуты на минуту, как кричат газеты и как думает Саммерс и некоторые другие. Кризис будет все усиливаться, если мы не завладеем сенатом.
— А что вы скажете о плане Тэргуда?
— Никакая финансовая реформа, помимо национализации банков, не поможет.
— Национализация банков? Но ведь это та же социализация!
— Совершенно верно, мистер Уэст. Видимо, вы, так же как и многие лейбористские деятели, забыли, что социализация — это основной пункт программы лейбористов.
С этими словами он ушел, прежде чем Джон Уэст успел сообщить ему, что горнорудная компания, акции которой имелись у Эштона, скоро объявят первую выплату дивидендов.
На следующий день лидер лейбористской партии штата Виктория Нед Хоран вместе с Бобом Скоттом и Томом Трамблуордом пришли поговорить с Джоном Уэстом и Лэмменсом. Лейбористы настояли на проведении выборов в парламент штата Виктория, и на этот раз они были уверены в успехе.
— Я объясню вам, почему такое происходит, мистер Уэст, — сказал Нед Хоран. — Наступили тяжелые времена, и народ недоволен, поэтому и здесь националисты полетят вслед за националистами в Канберре и лейбористами в Куинсленде.
Джон Уэст распорядился, чтобы Фрэнк Лэмменс, как всегда, предоставил машины и средства для проведения предвыборной кампании и ознакомился с кандидатами, выдвинутыми в различных избирательных округах».
К концу года, когда законопроект о таможенных тарифах был принят со всеми статьями, которых требовал Джон Уэст, а Нед Хоран снова занял пост премьера в штате Виктория, в Австралии насчитывалось свыше трехсот тысяч безработных, и даже рождественские праздники не принесли оживления в делах.
Наступал 1930 год — самый страшный год в истории Австралии, сулившей такую нищету и разорение, что даже в душу миллионера Джона Уэста закрадывался смутный страх перед будущим.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Австралийская рабочая партия даже и на словах не является социалистической партией. На деле это — либерально-буржуазная партия, а так называемые австралийские либералы, это — консерваторы.
В январе Джон Уэст объявил своим домочадцам, что в следующее воскресенье он ждет к себе премьер-министра и архиепископа Мэлона. Нелли и миссис Моран собрались было готовить изысканный обед, но Джон Уэст настоял, чтобы был подан лишь скромный чай.
Архиепископ пришел первым, и Нелли провела его в гостиную, где Джон Уэст ожидал гостей.
Когда Нелли вышла, оставив их наедине, архиепископ заговорил о политике: — Как я уже говорил вам, мистер Уэст, очень важно, чтобы Саммерс воспротивился экстремистским тенденциям в лейбористской партии и отказался назначить новые выборы. Нам нужен оппозиционный сенат, который помешает Эштону и Тэргуду зайти слишком далеко в своих планах социализации и в подстрекательстве рабочих к мятежу.
— Ну, Тэргуд не опасен, ваше преосвященство. Он лает, но не кусает.
— Вероятно, вы правы, мистер Уэст. Носился же он по всей стране в предвыборную кампанию и повторял, как попугай, что пусть только лейбористы придут к власти, и он в две недели откроет шахты. А между тем забастовка, или локаут, — или как это там называется, — продолжается и по сей день. Я повторяю, мистер Уэст, — стране грозят большие бедствия, может быть, даже восстание, если в Канберре не восторжествует здравый смысл.
— Совершенно верно, ваше преосвященство. В делах царит застой и…
Джона Уэста прервал приход премьер-министра. Лицо Саммерса было одутловато и бледно. Волосы, в которых несколько месяцев назад была лишь проседь, теперь совсем побелели. Ему явно было не по себе, словно он ожидал неприятных инструкций, которые, однако же, придется выполнить. Присутствие архиепископа, видимо, вызывало в нем благоговейный трепет, и он смотрел на него с немым восхищением, словно ребенок, прильнувший к витрине магазина игрушек.
За чаем, который разливала сама хозяйка, разговор шел о пустяках. Когда Нелли и горничная вышли, в гостиной воцарилось неловкое молчание. Особенно стесненно чувствовал себя Саммерс. Он отлично знал, что его пригласили в гости неспроста. Видимо, Джон Уэст чего-то добивается. Хватит с него, поживился на таможенных тарифах; больше он ничего не получит. Скорее всего у его преосвященства что-нибудь на уме. Но в таком случае при чем тут Джон Уэст? Неподходящая компания для архиепископа, хотя Джон Уэст и весьма Щедрый покровитель церкви.
— Скажите, мистер Саммерс, каково положение в Канберре? — спросил Мэлон. — Есть ли какие-нибудь основания для слухов о роспуске обеих палат?
— Многие члены лейбористской фракции, и главным образом Эштон, настойчиво добиваются новых выборов.
— А разрешите узнать, как вы к этому относитесь?
— Я еще не составил себе окончательного мнения, ваше преосвященство. Я считаю, что мы сумеем преодолеть возникшие затруднения вопреки националистскому сенату. Я возлагаю надежды на таможенные рогатки и финансовую реформу. Но я должен признать, что финансовую реформу было бы легче провести, будь сенат на нашей стороне.
— Я полагаю, что новые тарифы сделают свое дело, — вмешался Джон Уэст. — Возьмите хотя бы винокуренную промышленность. Повышение подготовило почву для контакта между местными винокуренными заводами и шотландскими. А это в свою очередь сократит безработицу.
— Всего лишь на несколько сот человек, мистер Уэст, а уже сейчас не имеют работы десятки тысяч людей, и с каждым днем их становится больше.
— Но если то же самое произойдет и в других отраслях промышленности, — не сдавался Джон Уэст, — это позволит в значительной мере разрешить проблему безработицы.
— Будем надеяться, мистер Уэст, — со вздохом сказал Саммерс. — Об этом я ежедневно молю господа бога.
— А пока что, — чуть насмешливо проговорил архиепископ, — положение все ухудшается. Опять произошли столкновения между горняками и полицией. Повсюду заметны тревожные признаки. Вам придется проявить твердость и христианское здравомыслие, мистер Саммерс. Да поможет вам господь и пресвятая матерь его. Можете вы положить конец беспорядкам на рудниках? Самая большая опасность безусловно кроется именно там.
Да, это ужасно, ваше преосвященство. Рабочие поступают неразумно — забастовками кризису не поможешь. Сначала докеры, а теперь строители. Они были в крайне тяжелом положении до того, как мы пришли к власти. Горняки бастуют уже почти год. Тэргуд ведет переговоры с владельцами шахт, но они и слышать ничего не хотят. Конституция не дает нам права принимать меры ни против них, ни против бастующих. Мы можем лишь настоять на передаче конфликта в арбитражный суд, и мы надеемся скоро это сделать. Горняки голодают, они доведены до отчаяния. Ими руководят люди крайних взглядов, а коммунисты на шахтах подстрекают их, стараются восстановить горняков против моего правительства. Но это не удастся. Я надеюсь, что конфликт скоро закончится и вновь наступит процветание.
Саммерс говорил без всякой уверенности, как человек, перед которым стоит непосильная задача и который вопреки здравому смыслу надеется, что она как-нибудь решится сама собой.
— Какие финансовые реформы вы имеете в виду? — резко спросил Мэлон. Руки его были сложены на коленях, длинное лицо бесстрастно.
Саммерс тяжело вздохнул. — Существует много планов. Эштон и его сторонники требуют национализации банков. Тэргуд предлагает добавочный выпуск бумажных денег. Я против плана Эштона, и если таможенный барьер не поможет, я поддержу Тэргуда. Но в таком случае нам нужен будет сенат. Кроме того, правление Австралийского банка предложило нам с Тэргудом пригласить из Англии сэра Отто Нимейера, чтобы тот помог нам разработать план сокращения бюджета. Но если мы это сделаем, среди лейбористов и в профсоюзах поднимется шум. Нимейер, несомненно, предложит урезать пенсии и заработную плату.
— Возможно, что сокращение расходов — единственный выход из кризиса, — ответил Мэлон. — А если Нимейер приедет, то никому нет нужды знать, что именно вы пригласили его.
Для Джона Уэста этот разговор был мало понятен. Кроме того, его клонило ко сну — накануне он поздно засиделся на стадионе.
— Вы говорите, что Эштон добивается новых выборов. Пройдет это? — спросил Мэлон.
— Трудно сказать. Вопрос, видимо, решится на заседании фракции, на будущей неделе. Я занимаю нейтральную позицию.
— Если Эштон добьется своего, это будет означать, что он пользуется достаточным влиянием, чтобы добиться, скажем, национализации банков. Не так ли, мистер Саммерс?
— Отчасти, ваше преосвященство.
— Все это я, разумеется, говорю неофициально. Политика — не дело церкви. Но церковь осуждает социализм в любой форме, ибо социализм ополчается против христианского принципа неприкосновенности частной собственности. Если Эштон восторжествует, то за этим последует социализация, и рабочие забудут о смирении и молитве ради поисков материальных благ.
Джон Уэст с удовлетворением отметил, что у Мэлона, по-видимому, не осталось и следа тех радикальных взглядов, которых он придерживался в дни ирландского восстания и борьбы против всеобщей воинской повинности.
Внезапно Мэлон вытащил из кармана брошюру. Она, вероятно, была очень старая, потому что бумага сильно пожелтела. Архиепископ обращался с ней бережно, словно со священной реликвией.
— В такие времена, как сейчас, мы, католики, должны черпать силы в поучениях святейшего престола. Кое-кто из нас забыл об энциклике его святейшества папы Льва Тринадцатого. Каюсь, я и сам забыл о ней в бурные годы войны. Она называется «Рерум новарум» и излагает отношение церкви к социализму, бедности и частной собственности. Видит бог, это святое и мудрое наставление.
Он начал читать нараспев, как священник читает евангелие, выбирая отрывки, — видимо, отмеченные заранее. Джон Уэст мирно дремал, до его сознания доходили только отдельные слова; зато Саммерс слушал с благоговейным вниманием.
«…Невозможно низвести общество до единого неизменного уровня. Социалисты могут прилагать все усилия к этому, но всякая борьба против природы тщетна…
…Последствия греха тяжки и горестны, им положено тяготеть над людьми, пока длится жизнь. Посему страдать и терпеть — удел человечества…
…Ничто не может быть более полезным, чем видеть мир таким, каков он есть, и вместе с тем искать вне его утешения…
…Природа повелела этим двум классам жить в мире и согласии… Они нуждаются друг в друге. Капитал не может обойтись без труда, а труд — без капитала. Религия учит рабочего и ремесленника честно исполнять все справедливые договоры, заключенные по доброй воле, никогда не наносить ущерба собственности и не посягать на особу работодателя, никогда, отстаивая свои права, не прибегать к насилию, не участвовать в бунтах и беспорядках…»
Время от времени Мэлон возводил очи горе, словно призывая всевышнего подтвердить все сказанное в брошюре.
«…и не иметь дела с людьми дурных убеждений, ибо они мутят народ посулами великих благ, вселяют в них праздные надежды, что обычно приводит к бесплодным сожалениям и горестным утратам…»
— Самое знаменательное место в этом послании, — сказал в заключение Мэлон, — особенно в наши дни — следующее: «Первейшим и основным принципом, которым следует руководствоваться каждому, кто пожелает облегчить положение народных масс, должен быть принцип неприкосновенности частной собственности». Мы должны помнить, что эта энциклика была написана в 1891 году во время сильнейшего кризиса и она вполне применима к современным условиям. Австралийское высшее духовенство крайне обеспокоено положением, создавшимся в Европе. Нельзя забывать, что сейчас в России господствует самая безбожная форма социализма — коммунизм — и что она распространяется по всей Европе и даже здесь, в Австралии. У нас есть сведения, что по этому поводу святой отец готовит новую энциклику. Может быть, Эштон и не коммунист, но он социалист и неверующий, и политика, которую он проводит на руку коммунистам.
— Эштон требует только национализации банков, — возразил Саммерс. — Должно быть, он понимает, что наша конституция не допускает ничего большего, если вообще допускает и это.
— Конституция не должна быть нарушена, — сказал Мэлон. — Я отнюдь не хочу вмешиваться в политику, но мое глубочайшее убеждение — и его разделяют другие архиепископы и представитель Ватикана, — что все католики в Канберре должны воспротивиться роспуску обеих палат.
— Я вижу, что вы правы, ваше преосвященство, — смиренно признал Саммерс. Цитаты из папской энциклики, видимо, произвели на него сильное впечатление. — Я немного запутался. Ведь и я однажды забыл о послании святого отца. Именно я внес предложение включить пункт о социализации в двадцать втором году. С тех пор мои взгляды изменились. Впрочем, принятие моего предложения в известном смысле сыграло положительную роль, ваше преосвященство.
— В каком же это смысле, позвольте вас спросить?
— Это выбило почву из-под ног коммунистов. В то время они пользовались значительным влиянием: ведь революция в России способствовала распространению среди рабочих социалистических идей. А внесенная мною резолюция помогла удержать австралийских рабочих в наших рядах.
— А вы не думаете, что это был весьма опасный способ сохранить свое влияние? — сказал Мэлон с улыбкой. — Но я должен согласиться, что ваше доброе имя среди всех слоев рабочих сослужит вам хорошую службу в час испытаний.
— Я полагаю, что пользуюсь поддержкой подавляющего большинства рабочих, — с гордостью ответил Саммерс. — Я думаю, что сумею провалить предложение Эштона. Пока я возглавляю фракцию, у нас будет царить здравый смысл, а не социализм. Тэргуд не социалист, хотя многие, вероятно, считают его социалистом из-за его радикальных речей. Вы же знаете, он был против моей резолюции в двадцать втором году. Я почти уверен, что сумею убедить его выступить против Эштона. А Лайонс, как вам известно, ваше преосвященство, католик, человек уравновешенный и честный. Он тоже выступит против Эштона.
Мэлон и Саммерс продолжали обсуждать положение в Канберре. Джон Уэст переводил взгляд с одного на другого. Ему трудно было следить за их разговором, и его слегка обижало, что архиепископ Мэлон, а не он, так говорит с премьером.
Наконец Мэлон взглянул на часы. — Боже мой, уже пятый час. Мне пора, мистер Уэст. Не беспокойте миссис Уэст, я сам найду дорогу. — Обратившись затем к Саммерсу, он добавил: — Да будет с вами благословение божие в вашем трудном деле, мистер Саммерс. Я буду возносить за вас молитвы всевышнему. До свидания.
— Я тоже должен идти, — сказал Саммерс, — меня ждут к обеду. До свидания, мистер Уэст, благодарю вас.
Неделю спустя перед заседанием лейбористской фракции Фрэнк Эштон потягивал виски с содой в баре парламента. На душе у него было тревожно. Еще несколько дней назад он побился бы об заклад, что его предложение будет принято, а теперь он сильно в этом сомневался.
Весть о победе лейбористов на октябрьских выборах принесла Фрэнку Эштону больше горечи, чем радости. Она не вдохнула бодрости в его больное тело. Он потерял не только физические силы, но утратил политическое чутье. Как и многие другие, он слепо поверил в мнимую прочность периода процветания.
Два года назад тяжкий недуг на много месяцев приковал его к постели. До сих пор еще все суставы мучительно ныли. Ему даже трудно было одеться, и он еле передвигал ноги. По совету одного из врачей Эштон прибег к весьма оригинальному способу лечения; врач сказал, что укусы малярийных комаров могут исцелить его. Он решил поехать на острова. Такая возможность неожиданно представилась ему. Его навестил Джон Уэст, будто бы лишь для того, чтобы справиться о его здоровье. Когда Эштон рассказал ему о совете врача, Уэст ответил: — Я дам вам пакет акций одной из моих горнорудных компаний, и вы можете за счет компании обследовать шахты, когда поправитесь.
Фрэнк Эштон принял предложение. Он был по уши в долгах.
Перед уходом Джон Уэст спросил: — А вы не думаете из-за вашей болезни уйти с поста заместителя лидера?
Так вот что нужно было Уэсту! Эштон и сам собирался подавать в отставку. Он месяцами не бывал в Канберре. Здоровье больше не позволяло ему занимать такой ответственный пост. В этом не было ничего бесчестного, он никому не продался. Его здоровье настолько подорвано, что он вообще намеревался уйти от политики. Однако не будь он так тяжело болен последние два года и не приди к нему Уэст в этот злосчастный день, сейчас он, вероятно, был бы премьер-министром Австралии.
Фрэнк Эштон был недоволен создавшимся положением. Лейбористская партия только формально пришла к власти. Она имела большинство голосов только в палате представителей. Консервативный сенат мог тормозить все прогрессивные мероприятия. За последний год безработица катастрофически возросла; благотворительные учреждения оказывали скудную помощь. Саммерс простодушно надеется на высокие пошлины и на прекращение иммиграции из южно-европейских стран.
А Тэргуд носится со своим планом дополнительного выпуска бумажных денег. «Тэргуд — его коллега в правлении горнорудной компании», — с горечью подумал Эштон. Тэргуд — правая рука Джона Уэста, этот взяточник, который лез из кожи, чтобы провалить резолюцию о социализации в 1922 году, а позже опозорил лейбористскую партию штата Куинсленд. Когда Фрэнк Эштон, встретив Тэргуда в Сиднее перед выборами, спросил, поддержит ли он национализацию банков, Тэргуд уклонился от ответа.
И этот Лайонс из Тасмании — такой же лейборист, как любой член оппозиции, ограниченный обыватель с честолюбивой женой, ищущий славы и власти для своего Джо. Потом группа Рейна из Нового Южного Уэлса, готовая в любую минуту вызвать раскол. И ветераны кампании против всеобщей воинской повинности, в большинстве своем католики из штата Виктория, группирующиеся вокруг Саммерса. Кто же составит левое крыло? Один Фрэнк Эштон? Фрэнк Эштон, паралитик, член правления золотопромышленной компании, где применяется рабский труд? Он своими глазами видел, как чернокожие надрываются в шахтах, и пожаловался Уэсту на тяжелые условия их труда. «Сейчас им лучше, чем было раньше», — ответил ему Уэст.
Для того ли он более тридцати лет боролся в рядах лейбористского движения, чтобы так кончить?
В последние годы он стал «почтенным» человеком. Его пребывание на посту заместителя лидера партии в течение шести лет после 1922 года совпало с периодом бума, и он палец о палец не ударил, чтобы подготовить рабочих к предстоящему кризису. Он знал, что нечего надеяться на то, что лейбористская фракция будет бороться за социализм, но он считал насущно необходимым хотя бы изъять Австралийский банк из-под контроля крупных капиталистов. А этого можно было добиться, лишь располагая большинством в сенате. Во что бы то ни стало нужны были новые выборы.
Золотопромышленная компания выплатила первые дивиденды. Впервые за десять лет он мог смело глядеть в лицо своим кредиторам, но не мог заглушить голос своей совести. Единственное средство восстановить уважение к себе — это заставить лейбористов назначить новые выборы и получить от народа полномочия на проведение национализации банков.
Какой парадокс эта лейбористская партия! Она возвещает, что цель ее — социализм, а между тем большинство ее членов не социалисты. Основной пункт ее программы — социализация производства и распределения; конституция не допускает социализации, но лейбористы и не заикаются о пересмотре конституции. Может быть, коммунисты правы, и лейбористы в самом деле замаскированная агентура крупного капитала? И все-таки эта партия может облегчить рабочим бремя нищеты, если бы только ему удалось сегодня одержать победу. Он должен ее одержать!
С Мартой совсем сладу нет: она становится просто невменяемой — а все оттого, что отчаянно ревнует его к Гарриет и во что бы то ни стало хочет разбогатеть. Бедная Марта! Как он старался убедить ее, что он защищает рабочее дело и не должен богатеть, а обязан посвятить рабочим всю жизнь, чтобы облегчить их участь. Какой насмешкой звучат сейчас эти слова! Хорош защитник рабочего дела, нечего сказать!
Марта немного успокоилась, после того как он получил акции от Уэста. Ну и пусть. Он отказался от Гарриет, чтобы не изменить своему долгу. Сыновья получают хорошее образование, долги уплачены, он верен жене. Чего же ей еще? А ей все мало. Она вечно жалуется. Она воображает, что больна, а когда врач отрицает это, она заявляет, что он сумасшедший и хочет, чтобы она умерла. Последнее время она всем твердит, что ничего нет хуже, как быть женой политического деятеля, и что ей осточертели попрошайки, которые часто осаждают их дом. Ее муж теперь член правления золотого прииска, и она надеется, что он бросит политику. Он старался повлиять на нее и положить конец таким разговорам. Что скажут его избиратели, если так будет продолжаться? Он не хотел, чтобы стало известно, что у него есть эти акции. А она ответила: «Если ты стыдишься этих акций, зачем же ты брал их? Довольно я от тебя натерпелась, потерпи и ты от меня!»
Уж не сошла ли она с ума? Он мягко посоветовал ей пойти к невропатологу. «Ты хочешь сказать — к психиатру, — закричала она. — Скотина! Ты хочешь отделаться от меня и уйти к своей красотке! Хочешь упрятать меня в сумасшедший дом!»
С тех пор он был особенно ласков с ней, но она не успокаивалась. Может быть, он и не прав, но ему кажется, что она восстанавливает против него сыновей.
Временами его мучила мысль, что до такого состояния Марту довели его отношения с Гарриет. Но разве он мог не любить Гарриет? Разве его любовь к ней не единственное светлое и чистое, что было в его жизни? И порой он думал, что давно следовало бы расстаться с Мартой и уйти к Гарриет. Пожалуй, так было бы лучше для всех.
Как бескорыстно любит его Гарриет! Когда он сказал ей, что они больше не должны любить друг друга, что они могут быть только друзьями, на глаза ее навернулись слезы, но она тотчас же взяла себя в руки и заставила себя улыбнуться.
С тех пор прошло уже четыре года, и они больше не заговаривали об этом. Они часто встречались на собраниях и митингах, и каждый раз в предвыборную кампанию Гарриет неутомимо помогала ему, и, как ни странно, они еще больше привязались друг к другу. Он объяснял это тем, что к их отношениям не примешивалась более физическая страсть.
За время болезни он не виделся с нею. Но, вернувшись после выздоровления в парламент, он нашел несколько писем от нее. Он ответил ей и назначил свидание в Мельбурне, в их любимом китайском ресторане.
Они встретились у входа. В сорок пять лет Гарриет все еще была изящна и привлекательна. Увидев, как он идет, прихрамывая, тяжело опираясь на трость, она подбежала к нему и воскликнула: — Ох, Фрэнк, я вижу, ты был очень болен. Дай я помогу тебе. Ты так осунулся. За тобой плохо смотрят.
— Ничего, я чувствую себя не так плохо, — ответил он. — Марта очень заботится обо мне, а иногда приходит сиделка. У меня ведь артрит, и я старею. Поседел весь, — он приподнял шляпу. — К вашему сведению, сударыня, мне уже пятьдесят семь лет.
После этой встречи он виделся с ней только на собраниях и во время последней предвыборной кампании, и все же он знал, что она сдержит свое слово — никогда не выйдет замуж, никого не полюбит, кроме него. Она жила с родителями и служила в какой-то конторе. Все свободное время она отдавала работе в лейбористской организации его избирательного округа и благотворительной деятельности в больничных и других комиссиях. Он всегда чувствовал, что она где-то рядом, что он дорог ей, — и знал, что она понимает это.
После поездки в Новую Гвинею здоровье его заметно поправилось. О болезни напоминали лишь распухшие суставы, которые ныли при перемене погоды. Он мог свободно двигаться и сохранил былую живость ума.
Но сейчас все личные дела надо отодвинуть на задний план. Ему предстоит борьба, и впервые за много лет у него есть желание бороться.
Бар начал заполняться корреспондентами и членами лейбористской фракции. Эштон переходил от группы к группе, заговаривая то с одним, то с другим, стараясь прощупать настроение. Многие уклонялись от прямого ответа, поспешно меняли тему разговора и отходили к стойке. Люди, всего несколько дней назад обещавшие поддержать его, теперь отмалчивались. Что-то неладно! Он заметил, как вошел Тед Тэргуд, но быстро повернул обратно.
Когда собрание началось, Эштон попросил слова. Атмосфера была напряженная, как будто здесь собрались враги, а не члены одной партии.
Чтобы добиться победы, он призвал на помощь все свое красноречие. Временами ему казалось, что большинство на его стороне.
— Пока мы здесь совещаемся, почти четыреста тысяч австралийских рабочих бродят в поисках работы. С каждым днем положение рабочих ухудшается. Тем, кто работает, урезают заработок. В стране царят нищета и отчаяние. Рабочие поставили нас у власти, чтобы мы избавили их от бедствий. Неужели мы предадим их?
Так он начал и говорил долго, пламенно, страстно. Одни слушали его внимательно, другие беспокойно двигались на своих местах, словно им было не по себе.
— Политика лейбористов безрассудна, — убеждал Фрэнк Эштон. — Одних таможенных рогаток мало. Не прошло и нескольких недель, и миф о спасительности новых тарифов рассеялся как дым.
— Наша цель — социализация, а мы стыдимся ее. Наша программа требует национализировать банки, вырвать из рук капиталистов власть над финансами страны, организовать кредит и вывести Австралию из нынешнего страшного кризиса. Враждебный нам сенат, отстаивая интересы крупного капитала, будет отвергать все наши важнейшие законопроекты. Сломим же власть капитала в сенате! Назначим новые выборы, и народ даст нам большинство в обеих палатах. Мы победим! Наша победа на выборах в штате Виктория в прошлом месяце ясно показала, что рабочие по-прежнему идут за нами.
— Политика — это война, — воскликнул он. — И на войне нужно захватить инициативу и удержать ее. Инициатива в наших руках. Давайте сокрушим шаткую сторону противника. Сейчас мы можем завоевать большинство в сенате. Может быть, позже мы не сумеем этого сделать, ибо, видя, что мы бессильны помочь ему, народ может отвернуться от нас.
Так он доказывал и убеждал с горячностью человека, знающего, что если ему не поверят, наступит катастрофа.
— Судьба рабочего движения в Австралии, и благополучие рабочих зависят от решения, которое вы примете сегодня, — сказал он в заключение. — Товарищи, я призываю каждого из вас забыть свои личные интересы, думать только о трудящихся нашей страны. Из глубины нищеты и отчаяния они обращают свои взоры к нам в надежде, что мы не предадим их. Тени первых борцов за рабочее дело взывают к нам сейчас. Труженики в замасленных комбинезонах, женщины с бледными, измученными лицами ждут нашего слова. Сегодня здесь решается наша судьба. Исполним же свой долг!
Он сел, и в зале наступила тягостная тишина. Никто не аплодировал, никто не проронил ни слова, не кашлянул и даже не закурил.
Эштон отбросил седые кудри со лба и ждал — выпрямившись, упрямо выставив подбородок, сложив руки на коленях.
Наконец председатель пришел в себя. — Прошу желающих высказаться.
Все выступавшие обходили существо вопроса, приводили различные отговорки и под конец в более или менее замаскированной форме возражали против проведения новых выборов. Один из новых членов парламента заявил, что истратил все до последнего шиллинга на предыдущую избирательную кампанию и так скоро не сможет проводить новую. Другой оратор сказал, что, оставшись у власти, лейбористы смогут по крайней мере положить конец сокращению заработной платы.
Фрэнк Эштон слушал, и в душе его поднимались гнев и презрение. Почему молчат Саммерс, Тэргуд и другие министры? Они выставили вперед фигуры помельче, но все это — их рук дело.
Не иначе как тут поработали католики. Все католики против него. Ясное дело, Мэлон или какой-нибудь другой архиепископ побывал у Саммерса. Для Джимми церковь превыше всего, Эштону это давно известно. Однажды он спросил Саммерса: — Если бы вам пришлось выбирать между верностью партии и церкви, как бы вы решили?
— Я надеюсь, что мне никогда не придется делать такой выбор, — ответил Саммерс. «Ну, так ты его теперь сделал, Джим, — думал Эштон, — ты предал партию!»
Но Фрэнк Эштон знал — это предательство объясняется не только тем, что католическое духовенство настроено против социализации. Он был вынужден признать, что причиной была слабость, продажность и отсутствие единой политики в лейбористской партии. Эти люди — не социалисты. Они просто политиканы, многие из них впервые купаются в лучах славы и власти и смотрят на политику как на средство сделать карьеру. Они твердо решили не рисковать своим положением и не проводить досрочных выборов.
Лицо Эштона выражало презрение и насмешку. И ораторы старались избегать его взгляда; наконец один из новых членов парламента сказал напрямик:
— Хорошо Эштону говорить о новых выборах. У него надежный округ. А я отвоевал трудное место у националистов всего несколькими голосами. Много лет я был лейбористским кандидатом в округе, который все считали безнадежным. Я вылечу на следующих же выборах и не думаю, что было бы справедливо заставлять меня отказаться от своего места, едва я добился его. Каждый раз, как какая-нибудь партия одерживает на выборах блестящую победу, в парламент попадают кандидаты и от сомнительных округов. А впоследствии она эти места теряет. Так будет и сейчас. Не я один, многие лишатся мандата. За время, прошедшее после выборов, положение ухудшилось, и в этом народ будет винить нас. Поэтому не будем рисковать. Даже если сенат против нас, мы можем достичь многого. На новых выборах мы можем потерпеть поражение, к власти придут националисты — и что тогда будет с рабочими?
«Что будет с рабочими? — с горечью повторил про себя Эштон. — А что же будет с ними теперь, после того как они поверили этим трусам и предателям! Все эти люди только что одержали победы над националистами, банкирами и капиталистами, потому что рабочие отдали им свои голоса. Рабочие на своих плечах подняли их к власти, а теперь они предают и продают рабочих! И им это сойдет с рук, а националистам не сошло бы».
Кэртен поддержал его. Хорошо говорит молодой Кэртен, он стоит их всех вместе взятых. Жаль только, что пьет.
На профсоюзных лидеров тоже надежды мало. «Лучше плохое лейбористское правительство, чем любое националистское», — говорят они. Им тоже перепадает кое-что от славы, доставшейся на долю лейбористских парламентариев, которым они препоручают заботы о сохранении заработной платы на прежнем уровне, в надежде, что рабочие этим удовлетворятся.
«А сам-то ты много ли сделал?» — с горечью попрекнул себя Эштон.
Наконец приступили к голосованию. Скорее бы все кончилось! Хорошо, если его поддержат человека четыре-пять.
— Предложение отклоняется тридцатью восемью голосами против трех!
Третьим был сторонник Лейна из Нового Южного Уэлса. Малоприятная компания! Эштон не слишком доверял Лейну. Лейн честолюбив. Он хочет стать во главе лейбористской партии и ради этого способен пойти на раскол.
Едва были объявлены результаты голосования, Эштон вскочил.
— Предатели, — крикнул он. — Предатели! Когда-нибудь рабочие поймут, что их предали.
Он быстро вышел, хлопнув дверью.
В кулуарах ему встретился один из членов оппозиции.
— Слыхали новость? — спросил он. — В Ротбери полицейские застрелили горняка. Какой крик поднялся бы, случись это при нас!
Эштон разыскал Тэргуда.
— Саммерс тут ни при чем. Виновато националистское правительство Нового Южного Уэлса, — только и ответил Тэргуд.
* * *
Однажды зимой 1930 года в сиднейской квартире достопочтенного Эдварда Тэргуда, министра финансов Австралии, раздался телефонный звонок. Звонил репортер одной из газет и спрашивал, не пожелает ли мистер Тэргуд сделать какое-либо заявление в связи с тем, что правительственная комиссия по «расследованию положения дел в Мэлгарской компании, рудниках Чиррабу и т. д.» признала его и других ответчиков виновными в «обмане и мошенничестве».
Да, мистер Тэргуд желает сделать заявление.
— Это пример подлой, узкой партийной политики врагов лейбористской партии, — сказал он, — рассчитанной на то, чтобы опорочить меня. Я отвергаю эти гнусные обвинения. Я отказался явиться в назначенную националистами комиссию, зная, что она предубеждена против меня. Но сейчас я требую суда присяжных, чтобы восстановить свое доброе имя.
В вечерней газете Тэргуд увидел кричащий заголовок: «Министр финансов виновен в мошенничестве!» Он быстро пробежал статью. Его, Мак-Коркелла, Рэнда и Гаррарди признали виновными!
С тех пор как несколько недель назад была негласно назначена правительственная комиссия, он со страхом ожидал результатов расследования. Но хоть он и предвидел, чем это может кончиться, от этого ему не было легче. Скверно, что и говорить! Но он еще поборется. У него могущественные друзья.
Телефон звонил с утра до ночи. Тэргуд всем репортерам и друзьям повторял одно и то же с некоторыми вариациями. Лицо его было сурово, широкие челюсти сжаты, но время от времени губы его кривила презрительная усмешка.
Позвонил премьер-министр.
— Это ужасно, да еще сейчас, когда я собираюсь за границу. Вы все еще уверяете, что обвинения необоснованны?
— Уверяю? Ха-ха-ха. Вот это мило. Даже мой собственный лидер поддался националистской пропаганде.
Затем Тэргуд повторил свои объяснения, но, видимо, не убедил Саммерса.
— Все равно, — сказал Саммерс, — нужно сейчас же собрать фракцию. Вам, пожалуй, придется уйти в отставку и подождать, пока с вас снимут обвинения.
Позвонил старший сын Тэргуда из Мельбурна и с готовностью принял объяснения отца. Жена его хранила молчание. Он давно уже потерял к ней всякий интерес. Она очень растолстела и подурнела. Прислушиваясь к его разговорам по телефону, она иронически усмехалась. Тэргуд избегал ее взгляда. Теперь он понял, почему они так далеки друг от друга, почему он злится на нее, а временами даже ненавидит. Только она одна знает его. Она видит его насквозь и издевается над его героической позой.
За ужином миссис Тэргуд сказала: — Ну что же, Тел, хорошо, что у тебя есть капиталец. Видно, твоя политическая карьера кончилась.
— Не говори глупостей. Это заговор, они хотят меня погубить, потому что боятся меня. Капиталисты пытаются от меня избавиться.
— Зачем им от тебя избавляться? Ты же для них свой человек. Теперь ты и сам капиталист не из последних. В этом ничего дурного нет. Но к чему обманывать самого себя?
— Вот это мило. Даже собственная жена пала жертвой националистской пропаганды.
— Нет, я не пала жертвой пропаганды, Тед. Дело скверное, и ты это знаешь. Ты делаешь вид, что ничего не произошло, а на самом деле ты очень встревожен. Но я буду с тобой, что бы ни случилось, об этом не беспокойся.
Он подошел к ней. — Спасибо, — сказал он. — Я знаю, все это может обернуться очень скверно, но я буду воевать с ними, я буду воевать до конца.
— Ну конечно, Тед. — Она положила пухлую руку ему на плечо.
— Я стал бы премьером еще до конца года, — сказал он. — Саммерсу это не по плечу. Я замещал бы Саммерса в его отсутствие. Я спихнул бы его, если б не эта история. Я всегда говорил, что когда-нибудь стану премьер-министром.
— Знаю, Тед. Какую же глупость ты сделал! Еще в Чиррабу, когда мы с тобой только познакомились, я не понимала, как ты мог бороться за интересы горняков и в то же время держать игорный притон и отбирать у них деньги. С тех пор я изо дня в день наблюдаю, как в тебе борются король орлянки и защитник обездоленных. Король орлянки одержал верх.
Тэргуда передернуло. Он отошел от нее, сел на свое место, и ужин закончился в молчании.
Когда миссис Тэргуд убрала со стола, раздался звонок.
Это был Мак-Коркелл, который примчался из Брисбэна на самолете.
Кто бы поверил, глядя сейчас на Большого Билла, что это и есть тот самый добродушный весельчак, рубаха-парень, каким он слыл всю свою жизнь! В кресле напротив Тэргуда сидел, нервно теребя шляпу, насмерть перепуганный человек; круглое лицо его осунулось, глаза покраснели от бессонной ночи. Это был просто вор, которого поймали с поличным.
Миссис Тэргуд взяла у него из рук шляпу, негромко поздоровалась и вышла из комнаты, прикрыв за собой Дверь. Он даже не взглянул на нее.
— Ну, что ты скажешь, Тед? Что же теперь будет?
Тэргуд неестественно засмеялся.
— Неужели Большой Билл струсил? Это политический выпад против меня, так к этому и будем относиться.
— Черт с ней, с политикой. А вот что будет со мной, Рэндом и Гаррарди? Нас ведь тоже потянут, сам знаешь. Я думаю уехать за границу, и как можно скорее.
— Куда же ты уедешь?
— Куда-нибудь. Куда угодно. У меня есть деньги. Может быть, даже в Россию.
— Ха-ха-ха. Большевики, конечно, встретят тебя с распростертыми объятиями, ты же сорвал в свое время забастовку железнодорожников! Лучше отправляйся в Англию. Там тебе будет спокойнее!
Наступило молчание. Мак-Коркелл сидел ссутулившись, уставясь в пол выпученными глазами, казавшимися еще больше за толстыми стеклами очков. Он совсем пал духом, но Тэргуд бодрился.
— Как бы мы ни заметали следы, националисты все равно обвинили бы нас. Но в суде будет иначе, вот увидишь.
— Хорошо, кабы так. У тебя нечего выпить?
Тэргуд налил два стакана виски, чуть-чуть разбавив его содовой водой. Мак-Коркелл выпил залпом. Тэргуд ходил взад и вперед по комнате, задумчиво потягивая из стакана.
— Пожалуй, и правда уезжай. А я отправлюсь в Брисбэн повидаться с премьером. Может быть, я и уговорю его. А кстати постараюсь заткнуть кое-кому рот.
Мак-Коркелл стиснул руки. — Нас могут обвинить в убийстве! Боже мой! И чего мы связались с этими рудниками?
— Какое убийство? Я не говорил в Кэрнсе, чтобы этого парня сбросили с балкона, слышишь, Мак? Я только сказал, чтобы ему заткнули рот. Помни, нам об этом ничего не известно. Возьми себя в руки, черт тебя дери! Это просто политический выпад. Между прочим, ты, кажется, говорил, что Дженнер не хочет давать показания, чтобы его слова не использовали в политических целях.
— Да, он так заявил комиссии. Но я видел его вчера, и он сказал, что получил повестку в суд. И еще сказал — надо было раньше думать о том, что может повредить лейбористам.
Тэргуд рассвирепел. — Дженнер хочет отомстить мне за то, что я выбросил его из партии как коммуниста. Он такой же враг лейбористов, как и националисты. — Затем, понизив голос, как бы про себя, он сказал: — Опять лезете в драку, доктор Дженнер? Пожалуйста! Можем и еще раз намять бока!
Тэргуд сел, упершись локтями в колени и держа обеими руками наполовину пустой стакан. Мак-Коркелл дрожащими руками налил себе виски, выпил стоя и налил еще.
Минут десять они молчали, и в комнате было так тихо, что тиканье часов на камине казалось Мак-Коркеллу гулкими ударами колокола.
Он сидел, уставившись на Тэргуда, который в старое доброе время был его кумиром, а в последние годы — его руководителем и совратителем. Даже теперь, попав в беду и видя, что Тэргуд думает только о себе, Мак-Коркелл не мог не восхищаться этим человеком и не подумать о скрытых в нем возможностях добра. Он все смотрел на Тэргуда и на книжные полки позади него. Здесь были потрепанные книги о борьбе рабочего класса, давным-давно не читанные, более новые книги, стихи и пьесы, в том числе драмы Шекспира, и совсем новенькие, ни разу не открытые классические романы. Мак-Коркеллу казалось, что Тэргуд представляет собой странное сочетание добра и зла, что он гений, которому неведомы прямые пути.
Вдруг Тэргуд заговорил трагическим тоном: — Ты хочешь бежать, Билл! Ну что ж, беги. А Красный Тед останется, чтобы бороться… «чтобы восстать на море бед»…
— Стихи тут не помогут, — прервал его Мак-Коркелл. — Я еду за границу, а тебе придется помочь Рэнду и Гаррарди.
— Пускай Рэнд, Гаррарди и Данкен сами заботятся о себе. Будь они поумнее, этого не случилось бы. Самое важное — что будет со мной. Не потому, что я уж так дорожу собой, а потому, что мне нужно исполнить свой долг — помочь рабочим. Я знаю средство покончить с кризисом. Националисты заварили эту кашу, чтобы я не мог осуществить свой план, но у них ничего не выйдет, Красного Теда не запугаешь.
Мак-Коркелл налил себе еще виски. — Мне негде остановиться, — сказал он, — можно переночевать у тебя?
— Милости просим, но если тебя здесь увидят, тебе, пожалуй, не выбраться. Лучше ступай в какую-нибудь гостиницу и запишись там под чужим именем. И уезжай отсюда поскорее.
— Ты прав, Тед. Принеси мою шляпу, я пойду.
Тэргуд вернулся со шляпой, Большой Билл надел ее и взял старого друга за руку.
— Желаю удачи, Тед. Желаю удачи, старина. Вот до чего мы с тобой дожили.
Голос Мак-Коркелла сорвался, он чуть не плакал.
— Ха-ха-ха. Не унывай, Билл. Вернешься, когда все уладится. Мы еще посмотрим, кто кого! Я съезжу в Мельбурн к Джеку Уэсту. Он нажил состояние на этих рудниках. Он обещал помочь мне. Он сдержит слово.
Тэргуд дружелюбно похлопал Мак-Коркелла по плечу.
— Как у тебя с деньгами?
— Не так уж плохо, Тед. Я захватил с собой всю наличность.
— Подожди минутку.
Тэргуд вышел в соседнюю комнату и возвратился с пачкой десятифунтовых бумажек, стянутых резинкой.
— На, возьми. Я выиграл это в субботу на скачках. Все это твое, Билл, в память о старых временах. Тот, кто друзей своих забудет…
— Спасибо, Тед, ты всегда был верным другом. Надеюсь, ты не сердишься, что я тебя бросаю одного.
— Глупости, Билл, я бы и сам сбежал, но я должен думать о рабочих! Я не могу покинуть их.
— Ты прав, ты прав, Тед. Желаю удачи.
Мак-Коркелл совсем расчувствовался, из-под его очков скатилась слеза. Он направился к выходу.
На следующий день в Канберре Тэргуд предстал перед фракцией, где к нему отнеслись холодно и враждебно. А еще через день предстал перед парламентом, встреченный настороженным молчанием. Места для прессы и публики были забиты до отказа. Тэргуд встал и звучным, гибким голосом, который дрожал и от подлинного и от притворного волнения, попросил у спикера слово для заявления.
— Все предъявленные мне обвинения — ложь и клевета. Правительственная комиссия подтасовала факты. Ко мне не отнеслись с традиционным британским беспристрастием. Не только от своего имени, но и от имени этого достопочтенного собрания я заявляю, что если хоть в малой доле эти обвинения справедливы, я недостоин быть членом парламента. Если же я невиновен, я вправе очистить свое имя от каких бы то ни было обвинений. Я подаю в отставку. Моя партия дала мне два месяца сроку, чтобы реабилитировать свое доброе имя. Дайте и вы мне возможность снять с себя эти обвинения, продиктованные политической враждой.
Когда он кончил, в зале не раздалось ни хлопка, ни свиста, ни выкрика — все молчали, в недоумении поглядывая друг на друга. Даже кое-кто из националистов, которые помогли правительству штата Куинсленд воспользоваться прошлым Тэргуда, чтобы подорвать и без того шаткое положение лейбористов, усомнился в виновности Красного Теда.
На следующий день Тэргуд отправился в Брисбэн к премьер-министру. Тэргуду было сказано, что если он поддержит сэра Отто Нимейера, которого ожидали в ближайшее время, то правительство не будет принимать против него никаких мер, разве только через суд потребует возврата некоторых сумм.
Когда Тед Тэргуд выходил из кабинета премьера, на его толстых губах играла довольная и презрительная усмешка.
* * *
В небольшой кухоньке у плиты сидели двое мужчин. Один из них — седой, сутулый человек небольшого роста — расположился в деревянном кресле. Он то и дело беспокойно поглаживал свои моржовые усы. Это был Артур Уэст. Другой — Ричард Брэдли — читал толстую книгу. Поверх потрепанных темных брюк и шерстяной куртки на нем был халат, на босых ногах — шлепанцы. За годы, в течение которых ему приходилось скрываться, Брэдли растолстел, лицо его стало одутловатым и дряблым, тяжелые челюсти отвисли. Седая борода скрывала шрам на шее. Но ничего не могло скрыть холодного, безжизненного выражения его глаз.
Кухонька была безупречно чистой, уютной и опрятной. Узорчатая клеенка покрывала каминную полочку и стол; полки с посудой были задернуты кружевными занавесками. На стене висели фотографии Неда Келли и киноактера Рамона Новарро. Пара шерстяных носков сушилась на приоткрытой дверце плиты. И оттого что за окнами уединенного коттеджа в непроглядной тьме бушевал ветер, эта теплая комната казалась еще более уютной.
Как всегда, когда приходил Артур (а это бывало три-четыре раза в неделю), приятели долго сидели молча. Они не испытывали потребности разговаривать. Какова бы ни была молва об этих людях, их связывала глубокая дружба, которую не нужно было приукрашивать словами. Это была странная дружба: ее эмблемой были рубцы на спине.
Артур Уэст сунул в огонь полено.
— Что ты читаешь? — спросил он.
— Это книга по древней истории маори. Очень интересно.
— Сроду не читал никаких книг, — ответил Артур Уэст, — не могу сосредоточиться на чтении.
— Я сам не читал, пока не пришлось залечь. Начал от нечего делать. Люблю исторические книжки.
Брэдли читал жадно. Круг его чтения составляли почти исключительно труды по древней истории Австралии и Новой Зеландии, туземный фольклор и немногие книги по древней европейской истории. Читая все это, он словно старался погрузиться в мир прошлого, который существовал до нынешнего времени, до того, как его подвергли порке.
— А где же Пат? — спросил Артур Уэст.
— Пошла в кино.
— В кино? Это же рискованно, Дик! Ты очень неосторожен последнее время, тогда как легавые всерьез ищут тебя, поверь моим словам. Следят за мной, старым Роном и Пэдли. Пошла в кино! Подумать только!
— Скучает девочка. Знаешь, она совсем выросла. Ей семнадцать лет уже, и хорошенькая она, как картинка. От скуки места себе не находит. Втюрилась в этого Новарро, вырезала его фотографию из газеты. Она славная, Арти, очень славная. Можно подумать, что она мне дочка, а не племянница.
— Тебе придется убраться отсюда, Дик, — взволнованно сказал Артур Уэст. — У меня есть на примете одно местечко, преотличное. — Он наклонился к Брэдли и положил руку ему на плечо. — Они сцапают тебя здесь, если ты будешь так неосторожен.
Брэдли снова принялся за книжку, ничего не ответив, и они опять некоторое время сидели молча.
— Как у тебя с деньгами? — прервал молчание Артур Уэст.
— Неважно.
— А куда ты дел пятерку, что я тебе принес в прошлую пятницу?
— Отдал Пат купить себе что-нибудь на платье.
— С деньгами становится туго. Многие уже перестали помогать нам. Только старый Рон и молодой Ласситер да Джек еще кое-что подбрасывают. Хорошо еще, что легавые не пронюхали, где ты находишься, а то у нас нечем было бы откупиться от них.
— Да, случись им снова найти нас, мне несдобровать. По газетам видно, что сейчас много кричат о продажности полиции. А если эти мошенники сцапают меня, они смогут пустить пыль в глаза легковерному дурачью.
Когда Брэдли заговорил о полиции, в его голосе снова зазвучали прежние злобные нотки. — Эта чертова полиция насквозь прогнила, особенно сыщики. Если покопаться хорошенько, так добрую половину этой швали с Рассел-стрит надо упрятать в тюрьму.
— Ты слишком беспечен, Дик. Тебе нужно переехать отсюда, слишком ты здесь засиделся.
— Мне надоело все время носиться с места на место. Я больше никуда не тронусь. Поймают так поймают. Почитай книжку про Неда Келли. Когда ему надоело скрываться, он устроил перепалку в Гленровене.
Брэдли опять принялся за книгу. Вновь наступило молчание, нарушавшееся только тиканьем старомодных часов на камине. Вдруг раздался громкий стук в дверь — пять медленных четких ударов. Оба выпрямились, Артур Уэст выхватил револьвер из кармана.
— Я пойду открою, — сказал Брэдли, кладя книгу на стол. — Не волнуйся. Это условный стук.
— А почем ты знаешь, что легавые не пронюхали, как нужно стучать. Где твой револьвер?
— В спальне.
— Подумать только!
Брэдли вышел в темный коридорчик. Он заметно прихрамывал. Это было следствием стычки с полицией в Совете профсоюзов. Артур Уэст слышал, как щелкнул выключатель в спальне, а затем раздался звук взведенного курка. Он стоял, направив револьвер на дверь, напряженно прислушиваясь. Наконец он услыхал, как Брэдли открыл дверь.
— Привет, Дик, старина, — ясно различил он голос с ирландским акцентом. — Убери эту игрушку и дай человеку погреться у огня. От такого ветра все кишки насквозь промерзли.
Артур Уэст облегченно вздохнул, положил револьвер в карман и снова уселся в кресло.
Вскоре вернулся Брэдли. За ним шел краснолицый кривоногий человек по имени Пэдди Райан. Пэдди отличался густым ирландским басом и чувством юмора. В молодости он служил у Джона Уэста, был одним из лучших жокеев и одержал для него не одну победу. Про Пэдди, смеясь, говорили, что даже в постели он не может лежать вытянувшись. Его любили за нагловатый характер и веселый нрав. Когда он отяжелел и уже не мог принимать участия в скачках, он исчез на несколько лет, появившись затем без гроша в кармане лишь для того, чтобы попросить у Джона Уэста помощи. В память о прошлых временах ему положили жалованье в десять фунтов в неделю, поручив работу курьера и уход за одной из беговых лошадей. Говорили, что Пэдди больше кормил себя (главным образом потягивая из бутылки), чем лошадь, которая за тот год, что находилась на его попечении, не выиграла ни одного приза.
Пэдди пододвинул стул и уселся перед огнем между Артуром Уэстом и Брэдли.
— Ну, ребята, — сказал он, — я принес кое-что существенное с приветом от старины Джона.
— Сколько? — спросил Артур Уэст.
— Двадцать.
— Двадцать всего-навсего? Можно подумать, что он выкроил их из собственного тела.
— Вы же знаете, дела сейчас идут плохо, — вступился за Уэста Пэдди. — У Джона Уэста большие убытки.
— Должно быть, ни пенса не осталось из последних трех миллионов, — проворчал Брэдли с невеселой усмешкой.
Райан передал конверт Брэдли, но тот небрежно бросил его на камин и снова начал читать. Артур Уэст мрачно смотрел на огонь.
— Почему ты не носишь свой револьвер в кармане? — спросил Артур Уэст у Брэдли. — Если они нагрянут, ты не успеешь расправиться с ними.
— Когда у тебя в кармане револьвер, чувствуешь себя, как на краю пропасти; когда ты кладешь его под подушку, то просыпаешься при каждом шорохе. Вот я и держу его в комоде. Всегда успею достать, чтобы пристрелить двух-трех негодяев, если они заявятся.
Через некоторое время Пэдди спросил: — А как насчет чаю?
— Чайник на плите, а остальное вы знаете, где взять. Займитесь этим сами, — резко сказал Артур Уэст. Он не любил редких визитов Райана, нарушавших его мирные вечера с Брэдли; не по душе ему было и то, что этот ирландец старается хитростью занять его лакейскую должность у Джона Уэста.
Пэдди Райан приготовил чай, и они поужинали. Он болтал без умолку, а остальные молчали. Вскоре после ужина Артур Уэст и Райан ушли, оставив Брэдли в полном одиночестве. Он убрал со стола, помыл посуду и снова улегся читать.
Не прошло и полчаса, как Брэдли вдруг насторожился и стал прислушиваться. Ветер утих, и до слуха Брэдли донеслись приглушенные голоса. Он тихонько прокрался в спальню, взял револьвер и подошел к окну. Приподняв занавеску, он увидел на веранде девушку и молодого человека. Они целовались. Это была Пат, его племянница. Противоречивые чувства охватили его. Пат стала уже взрослой женщиной, и естественно, что ей хочется встречаться с молодыми людьми. Однако его свобода находится под угрозой. Арти прав!
Он возвратился в кухню, но больше уже не брался за книгу. Он глубоко задумался. Поведение Пат грозило навлечь на него беду. Но она славная девушка. Живя с ней в Керрингбуше, а затем здесь, Дик Брэдли обнаружил в себе чувства, до сих пор не знакомые ему. Если Пат останется здесь, из-за нее могут напасть на его след. В последнее время она повадилась часто уходить из дома. Несколько раз она даже ходила в город. А однажды вечером, не спросив его разрешения, привела в дом девушку, с которой подружилась. Он с удовольствием поболтал с ними, но после того как девушка ушла, выбранил Пат. Та заплакала и сказала: «Прости меня, дядя. Я знаю, что мне не следовало этого делать, но мне иногда так тоскливо».
Впервые в жизни он чуть не прослезился. Бедняжка Пат, такая жизнь не по ней. Ради ее же блага и ради себя самого ему следовало бы отправить ее к матери, но он не мог себе представить, как проживет без нее оставшиеся годы. Он уже стар, ему под семьдесят, и та суровая сила, благодаря которой он приобрел в мельбурнском преступном мире славу угрюмого одинокого волка, была им уже утрачена. Он нуждался в Арти, а больше всех ему нужна была Пат.
Он снова поднялся и подошел к наружной двери. Не открывая ее, он сказал: — Тебе пора домой, Пат, уже поздно.
— Хорошо, дядя Дик, открой дверь.
Он открыл дверь, и девушка вошла. Он последовал за ней на кухню и сел у плиты.
Пат была темноволосая девушка, обаятельная в своей простоте. Она сняла пальто и осталась в нарядном пестром платье, красиво облегавшем ее стройную фигурку. Она молча наблюдала за дядей, пока тот сидел ссутулившись и смотрел на огонь.
— Ты сердишься на меня, дядя Дик?
— Нет, Пат, — сказал он мягко, — я не сержусь на тебя. Я на себя сержусь за то, что удерживаю тебя здесь. Такая жизнь не для тебя, Пат.
Первые несколько месяцев, после того как Пат согласилась присматривать за дядей при условии, что банда будет заботиться о ее матери, она боялась этого молчаливого, задумчивого человека, но постепенно ей начало казаться, что он становится добрее. Мало-помалу она полюбила его. Их привязанность друг к другу росла и крепла в этом уютном домике, и хотя Пат не сознавала этого, она полюбила дядю так, как любила бы своего отца, умершего, когда она была еще ребенком.
— Не говори так, дядя Дик, — возразила она ему.
Пат подошла к нему, обняла его и горячо прошептала: — Я люблю тебя. Мне все равно, что ты сделал и что говорят о тебе. Я останусь и буду ухаживать за тобой.
Брэдли погладил ее по руке. — Ты славная девочка, Пат, очень славная. — Затем, смахнув слезу со щеки, сказал: — А теперь иди спать, дитя мое, скоро полночь.
Она задержалась у двери. — Дядя Дик, я знаю, что мне не следовало бы разрешать Джиму провожать меня до ворот. Я больше не буду делать этого. Джим в самом деле очень хороший. Мы с Мэри познакомились с ним несколько недель назад. Но я больше не разрешу ему провожать меня до дому.
— Ну посмотрим, девочка, посмотрим. Утром мы поговорим об этом.
Пат улыбнулась, успокоенная, снова подошла к дяде и поцеловала его в лоб.
— Спокойной ночи, девочка. А сейчас я пойду погуляю немного.
— Спокойной ночи, дядя Дик.
Скоро она была уже в постели. В домике царила тишина. Только ветер за окнами снова поднялся и завыл с прежней силой.
Некоторое время Брэдли сидел задумавшись, затем стряхнул с себя оцепенение. Он снял носки, сушившиеся на открытой дверце плиты, и, войдя в свою спальню, переобулся. Потом он надел пальто и шляпу и положил в карман револьвер. Подойдя к двери, расположенной напротив его комнаты, он прислушался. До него донеслось ровное дыхание спящей девушки. Тогда он осторожно вышел на улицу.
У ворот Брэдли остановился и оглянулся по сторонам. Ночь была темная. За воротами на него налетел порыв ветра, чуть не сорвав с него шляпу. Брэдли решался выходить на улицу только поздно ночью перед сном. Последнее время он с нетерпением ожидал этих прогулок, утратив всякий страх, что его узнают на улице. Но сегодня он был встревожен. Его не покидала мысль о Пат и ее приятеле. Он не думал о той опасности, с которой была сопряжена их дружба для него, но по-отечески тревожился о благополучии Пат. Ему следовало бы поговорить с ней. Эта бедная девочка совсем не знает жизни. Она так чиста и невинна, так отзывчива, а молодые люди теперь искушены во всем.
Он готов был посмеяться над своей сентиментальностью. Убийца Дик Брэдли, самая отпетая голова в австралийском преступном мире, утративший всякие чувства, «железный» человек, трижды без «визга» выдержавший пытку «мясорубкой» на Рассел-стрит, сейчас так трогательно заботится о девчонке. Тот самый Дик Брэдли, у которого двое незаконнорожденных детей и который с самого их появления на свет не видал их и ни разу не подумал ни о них, ни об их матерях.
На протяжении всей необычайно продолжительной на этот раз прогулки мысли о Пат не выходили у него из головы. Вполне естественно, что этот парень увлекся Пат. Брэдли твердо решил поговорить утром с племянницей, и предстоящий разговор не на шутку тревожил его. До сих пор ему никогда не приходилось заниматься столь деликатным делом.
Вернувшись домой, Брэдли снял пальто, шляпу и ботинки, подбросил еще полено в плиту на кухне и стал думать о том, что он скажет завтра Пат. Он просидел довольно долго, пока часы не пробили два. Затем начал клевать носом и задремал.
Он проспал около часу. Его разбудил громкий стук в парадную дверь. Брэдли вскочил на ноги, мгновенно проснувшись, как солдат, задремавший на посту. Итак, за ним пришли! Через восемь лет они наконец нашли его. В мгновение ока добродушный старичок Брэдли исчез и на его месте появился прежний Брэдли — затравленный зверь, отчаянно отбивающийся от своих преследователей.
С поразительной для его лет ловкостью Брэдли бросился в противоположную сторону комнаты, выключил свет и быстро прокрался в коридор. Они уже взломали дверь, и их силуэты четко выделялись на фоне открытой двери. Будь у него в руках револьвер, он перестрелял бы их всех до единого!
Из комнаты Пат послышался возглас: — Дядя Дик, они пришли!
Они двигались вперед осторожно, зная, что Дик Брэдли, этот отчаянный человек, стрелявший без промаха, притаился где-то здесь, в темноте. Теперь они уже стояли между ним и дверью в спальню, устрашенные его невидимым присутствием, не решаясь зажечь свет.
Он должен во что бы то ни стало пробраться в спальню!
— Назад, грязные, подлые псы, или я размозжу ваши дурацкие головы! — крикнул Брэдли.
Он бесшумно проскользнул мимо них. Раздался выстрел, затем еще три. Они стреляли на звук его голоса и промахнулись. Невольно они попятились.
Освоившись с темнотой и находясь в более выгодном положении, так как все они стояли на фоне открытой двери, Брэдли мимо одного из них пробрался к входу в спальню.
Вдруг чей-то дрожащий голос проговорил: — Вот он. Он безоружен — хватайте его!
Кто-то зажег фонарь, и три здоровенных сыщика набросились на Брэдли.
Пат выбежала из своей комнаты. — Оставьте его. Он добрый. Он мой дядя, и я люблю его!
Брэдли отчаянно отбивался, почувствовав невероятный прилив сил. Он вырвался и бросился обратно в кухню, но там его схватили еще три сыщика, проникшие туда через черный ход. Видя, что его положение безнадежно, Брэдли медленно поднял руки, и на него надели наручники.
— Наконец-то ты нам попался, Брэдли, — самодовольно сказал здоровенный детина, главный из десяти сыщиков. — Долго же мы тебя искали!
Он умолчал о том, что полиции удалось поймать Брэдли только при помощи платного доносчика и его донос стоил им пятисот фунтов.
— Будь при мне револьвер, я бы всех вас перестрелял, — рявкнул Брэдли.
Он смотрел на наручники на своих руках, как бы не веря, что произошло. Его лицо снова стало жестоким и злым. Пат вошла в комнату, дрожа от холода и страха. Она подошла к Брэдли и обняла его, жалобно плача. Но он даже не взглянул на нее.
— Мать девочки живет в Керрингбуше, на Купер-стрит, тридцать один. Отвезите ее туда, — сказал он резко.
Один из сыщиков осторожно повел Пат к двери. Она повернула свое заплаканное лицо. — До свиданья, дядя Дик.
— До свиданья, девочка, — сухо ответил Брэдли, и когда она отвернулась, ее покрасневшие глаза выражали страх и удивление.
Все случившееся заняло несколько минут, но за эти мгновения Ричард Брэдли стал совершенно иным человеком. Он вспомнил о славе, которой он пользовался в преступном мире, и пожалел, что не держал револьвера под рукой и не перестрелял этих подлых собак или не дал им убить себя.
Когда они повели его по коридору, он вспомнил о своем потрепанном костюме. Дик Брэдли привык хорошо одеваться. На Рассел-стрит, возможно, уже собралась толпа. Кроме того, в полицейском участке могут быть посетители, адвокаты.
— Я не могу идти в таком виде, дайте мне переодеться.
— Ну нет, Брэдли. Знаем мы твои штучки. Тебе приготовили отличный костюм.
Под усиленным конвоем Брэдли повели к одной из стоявших невдалеке машин. Вокруг собралась толпа. Почти все соседи выскочили в пижамах, поспешно накинув на них пальто или халаты. Собравшиеся взволнованно переговаривались, недоумевая, за что этот тихий старик, скромно живший со своей племянницей, вдруг арестован среди ночи. Кто же он такой? Неужели правда, что это Ричард Брэдли.
Брэдли предъявили обвинение в убийстве управляющего банком, за которое Мартин был повешен. Известие об аресте Брэдли привело Артура Уэста в бешенство.
Почти две недели печать на все лады раздувала эту историю, помещая самые фантастические вымыслы о том, как сыщики поймали Брэдли. Читателям рассказывали, что сыскная полиция дважды нападала на горячий след Брэдли, совершив налеты на его убежища, что последнее время два сыщика, один из которых был переодет женщиной, проникли в притоны преступного мира и там им наконец удалось узнать о местопребывании Брэдли. Читатели поверили этим россказням и на время забыли о скандальных слухах, ходивших о полиции штата Виктория, но в преступном мире к ним отнеслись скептически и подозревали здесь участие доносчика.
Ричарда Брэдли скоро судили. В защитники к нему пригласили лучшего специалиста по уголовным делам, а расходы взяли на себя несколько друзей обвиняемого, в первую очередь — Джон Уэст. Брэдли приговорили к смертной казни, но она была заменена пожизненным заключением.
Ричарда Брэдли вскоре забыли все, кроме его бедной племянницы и Артура Уэста.
* * *
Однажды, весенним днем 1930 года Джон Уэст сидел у себя в конторе и читал первую и единственную книжку, когда-либо купленную им. Она называлась очень странно — «Культура желудка». Автор ее стремился доказать, что, соблюдая научно разработанный режим питания, можно добиться идеального здоровья и долголетия. Джон Уэст позволял себе роскошь почитать эту книгу в своем кабинете, когда выдавалась свободная минутка.
Однако чтение его было прервано осторожным стуком в дверь. На пороге появилась высокая, тощая фигура Фрэнка Лэмменса.
— Мистер Уэст, вас хочет видеть мисс Уэст.
Годы мало изменили Лэмменса. Он лишь немного ссутулился да в волосах показалась седина. Он служил у Джона Уэста уже почти четверть века, но тот почти не знал его. Лэмменс был женат, имел семью, но Джон Уэст никогда не видел ни его жены, ни детей. Лэмменс иногда играл на скачках и бегах, но никогда не говорил, выиграл он или проиграл. У Лэмменса были свои дела за пределами империи Уэста, но об этом он никому не рассказывал. Лэмменс был настолько сдержан и непроницаем, что его хозяину и в голову не приходило предложить ему отказаться от официального обращения «мистер Уэст».
— Пусть войдет сюда.
Мэри была хороша по-прежнему, но пришла она в строгом, хоть и изящном костюме, гладко причесанная, Да и выражение лица стало более суровым.
— Это письмо пришло с утренней почтой. Видимо, от Джона. Бабушка велела принести его сюда. Может быть, что-нибудь важное.
— Садись, — сказал он приветливо, намереваясь поговорить с ней в более дружелюбном тоне, чем обычно. Последние два года они разговаривали друг с другом редко и очень сухо.
Мэри села и стала ждать, пока Джон Уэст прочтет письмо.
Мэри Уэст воздвигла стену между собой и отцом, не давая ему повода ни бранить ее, ни проявлять дружелюбие, она с полным равнодушием выполняла свои религиозные обязанности, возвращалась домой вовремя и вообще вела себя так, как он хотел, твердо решив, что больше у него не будет случая оскорбить ее.
Сидя против отца, Мэри внимательно разглядывала его. Коротко остриженные, уже совсем белые волосы, всегда нахмуренные брови, грушевидный череп и большие, низко посаженные уши. Что скрывалось за этой непроницаемой маской? Вправду ли ее отец такой плохой человек, каким его рисуют слухи и сплетни? Был ли он когда-нибудь добр и способен любить? Иногда ей казалось, что такое время было и что в иные минуты, вот хотя бы сейчас, он не прочь отнестись помягче к ней и к окружающим.
Вдруг она заметила, что лицо его исказилось злобной гримасой. Он отшвырнул письмо и постучал пальцами по столу, потом снова взял его в руки.
— Что-нибудь случилось? — спросила Мэри.
— Нет, — ответил он. — Ты иди, я очень занят.
Когда она вышла, он снова перечитал письмо:
«Милостивый государь! Довожу до Вашего сведения, что одна из Ваших жертв сообщила мне, каким путем Вы завладели предприятием, которым я заведую в настоящее время.
Ввиду того что я больше не желаю занимать то незавидное положение, в силу которого являюсь соучастником грабежа, прошу как можно скорее освободить меня от моих обязанностей.
Письмо привело Джона Уэста в ярость. Как же! Освобожу я тебя, щенок неблагодарный!
Джон-младший уступил воле отца и согласился заведовать крупным зрелищным предприятием в Сиднее, недавно приобретенным Джоном Уэстом. Джон взялся за это дело явно без всякой охоты, и это злило его отца. Ну и сыночков ему бог послал! Джо на все наплевать, с этим легкомысленным беспечным мальчишкой ничего не сделаешь. Весь в своего никудышного дядюшку Джо. Но у Джона есть способности. Ему предоставлены такие возможности, ради которых многие молодые люди отдали бы все на свете, а он еще упрямится, не желает ими пользоваться. Но сколько тот ни упрямится, он заставит сына подчиниться! Мало того что при каждом удобном и неудобном случае просит освободить его — письма вздумал писать, да какие! Это уж переходит все границы. «Одна из ваших жертв» — скажите пожалуйста!
Джон Уэст особенно гордился этой своей сделкой. Когда начался кризис, оба брата, владевшие этим предприятием, обанкротились, и он взял на себя их долговые обязательства и устроил их на работу. Не его вина, что они не сумели извлечь прибыли из своего предприятия. Не его вина, что у них не хватило смекалки спасти свою фирму от краха, а у него хватило.
Джон Уэст гордился своим ловким маневром, и поэтому сочувствие сына к бывшим владельцам особенно раздражало его. Полгода тому назад братья предложили ему принять у них дело. Джон Уэст согласился. Вскоре после этого, к великой его удаче, Лейн, новый лейбористский премьер Нового Южного Уэлса, внес в парламент законопроект о моратории якобы для защиты мелких домовладельцев от банков и строительных компаний.
Фирма, перешедшая в руки Джона Уэста, владела двумя зданиями, купленными в рассрочку, но не в состоянии была вносить ежемесячные платежи. И продать здания нельзя было, не потерпев убытка, потому что половина помещений в Сиднее пустовала и дома резко упали в цене.
Джон Уэст пользовался некоторым влиянием в лейбористских кругах Сиднея. Он обратился через подставное лицо к Лейну, и за пять тысяч фунтов премьер-министр на заседании, длившемся до утра, провел поправку, предусматривающую распространение моратория и на более крупные здания.
Джону Уэсту больше не нужно было выплачивать проценты и вносить платежи за оба дома, и при умелом управлении его сына предприятие начало приносить доход. И этот гениальный ход родной сын называет грабежом!
Джон Уэст вызвал машинистку и продиктовал ответ на письмо.
«Милостивый государь! Письмо Ваше получил. Вас, видимо, неправильно информировали. Вашей отставки не принимаю. Завтра буду в Сиднее, и тогда мы обсудим Ваше дерзкое письмо.
Отпустив машинистку, он погрузился в горькие размышления. Видимо, его семейство только и думает, как бы все делать ему назло. И каждый нашел средство держаться от него на расстоянии. Нелли избегает ссор с ним, и живется ей совсем неплохо. Стоит посмотреть на нее, когда все сидят за семейным обедом, — она снова хозяйка в своем доме. Дети и их друзья восхищаются ее умом, ее изысканными манерами. Он часто слышит через стену, как она разговаривает со своим сынком. Слов разобрать нельзя, но в голосе звучит радость, ласка, любовь, ни следа горя или страха. Миссис Моран, глубокая старуха, но еще необычайно деятельная, незаметно сумела сплотить всех домочадцев для сопротивления его воле. Если ему удавалось прорвать семейную линию обороны, она тут же парировала удар и заделывала брешь.
Чем больше он думал, тем сильнее становилась его ярость. Он им покажет. Он заставил Нелли выполнять свои обязанности. Он отпустил Марджори без гроша, он вынудил Мэри исправиться. Теперь и остальные увидят, кто здесь хозяин! Так или иначе Джон подчинится его воле. Наглый мальчишка!
Никогда еще власть его не была так велика, а между тем он не испытывал радости. Кризис усиливался. Его бухгалтеры подсчитали, что он потерял почти полмиллиона фунтов, и его убытки были бы вдвое больше, если бы не успех его плана, который он сумел осуществить благодаря закону о пошлинах на ввоз. В делах был полный застой, но с каждым днем положение ухудшалось. Многие мелкие торговцы, которых он ссужал деньгами, снова и снова просили о помощи, и не было никакой гарантии, что они когда-нибудь возвратят долг. Он уже кое-кому отказал. На Джекс-стрит и на других улицах проходу не было от просящих подаяние. Как он ни старался убедить себя, что все попрошайки — обманщики и лодыри, он не мог не видеть, что в стране царит ужасающая нищета.
Из Канберры шли упорные слухи, что английский банкир сэр Отто Нимейер едет в Австралию для того, чтобы навести экономию и в первую очередь резко снизить ассигнования на оплату труда и социальное страхование. Чем скорее он приедет, тем лучше, если он в силах вернуть процветание. Теперь, когда Тед Тэргуд вышел из состава кабинета, едва ли можно ожидать, что правительство Саммерса предпримет какие-либо решительные шаги.
Скандал с мэлгарскими рудниками не повредил Тэргуду и в глазах Джона Уэста. Напротив, он стал еще больше уважать его, глядя, как Тэргуд стойко отрицает все предъявленные ему обвинения. Тэргуд просил о помощи на случай судебного процесса, и, разумеется, помощь будет ему оказана.
Понимая, что отсутствие определенных политических взглядов ослабляет его власть в законодательных собраниях страны, Джон Уэст решил заняться изучением политики. Изучение это ограничивалось чтением брошюр «Общества католической истины» и беседами о политике и социальных проблемах с архиепископом Мэлоном и видными католиками из мирян. Все это привело к тому, что он стал ярым поклонником Муссолини и созданного в Италии «корпоративного государства». Он любил сказать при случае: «Австралии нужен благожелательный диктатор, и для этой роли как нельзя лучше подходит Тэргуд». Но эта надежда теперь рухнула.
Банкиры и монополисты тяжелой промышленности имели гораздо большее влияние на Саммерса, чем Уэст, хотя их партия сейчас занимала скамьи оппозиции. А еще более влиятельными были англичане, держатели ценных бумаг. Они не терпели убытков, а он, вопреки совместным усилиям Фрэнка Лэмменса, Пата Кори, Дика Лэма и всех его управляющих и бухгалтеров, ежедневно терпел урон. Доходы с его ипподромов и стадионов сократились наполовину. Политические связи почти ничего не приносили ему. Его влияние в парламенте штата Виктория через Неда Хорана, Алфи Дэвисона, Тома Трамблуорда и других и его неограниченная власть в некоторых пригородных муниципалитетах служили только средством сохранить свою империю. Для расширения ее требовалось больше.
Но они еще увидят, какая сила в руках у Джона Уэста и что он умеет применить ее. Он спасет Тэргуда и восстановит его в должности министра; мало того, он сделает его премьером.
Выйдя из конторы отца, Мэри пошла по Коллинз-стрит с намерением зайти в свое любимое кафе. По дороге она думала о том, что в письме Джона могло так рассердить отца? Вдруг до нее донеслось громкое нестройное пение, и она с изумлением увидела, что по улице, пересекавшей Коллинз-стрит, движется большая колонна людей. Они шли по четыре в ряд, и колонна, словно огромный безглавый дракон, растянулась во всю длину улицы и направлялась, извиваясь, в сторону Дома профсоюзов. Демонстранты несли красные флаги и плакаты, Мэри прочла надписи: «Долой систему пайков!», «Мы требуем работы, а не милостыни!»
Мэри внезапно почувствовала волнение. Когда демонстрация свернула на Коллинз-стрит, двое полицейских, стоявших на перекрестке, заметались, не зная, что предпринять.
Из нарядного магазина вышли две дамы, остановились возле Мэри, с ужасом глядя на демонстрантов.
— Бездельники, — сказала одна из них, — бездельники, которых водят за нос коммунисты.
Мэри с удивлением поймала себя на том, что ей хочется им ответить, но ответа не нашла. Она подошла к самому краю тротуара и со смешанным чувством страха, волнения и жалости, как завороженная, смотрела на идущих мимо людей. Возле нее появились мужчина и женщина, оба в потрепанной одежде.
— Это та демонстрация, о которой объявили на митинге безработных. Помнишь, Лиз, я говорил тебе, — сказал мужчина. — Надо мне присоединиться к ней.
— Ох, и не знаю, Тед. Добром это не кончится. В прошлый раз полиция напала на них. Лучше бы поискали работы.
— Какая там работа? Я-то разве не ищу работы? Видишь вон плакат. Они требуют положить конец системе пайков. Ты ведь тоже против нее? Маргарин вместо масла, дрянной чай, одна свечка, и все самое дешевое. И за это шесть шиллингов в неделю. За кого они нас принимают?
Один из демонстрантов, шедший с краю, крикнул: «Идем с нами, товарищ!» — и мужчина, увлекая за собой женщину, сказал: «Пойдем, пойдем, Лиз».
Они вышли на мостовую и влились в ряды демонстрантов. Женщина шла нехотя и словно стыдясь; она, видимо, была очень измученная и голодная. Мужчина шел бодрым шагом и даже пытался петь, но он явно не знал слов песни. Мэри заметила, что поет только половина демонстрантов и что многие держатся робко и неуверенно, очевидно впервые участвуя в демонстрации. Кое-где поющим подыгрывала губная гармоника.
Вдруг пение оборвалось. Все смолкло, и слышался только топот не в ногу идущих людей. Но вот впереди запели другую песню, и ее подхватывали ряд за рядом, пока наконец не запела вся колонна, из конца в конец.
Мэри не могла разобрать слов, кроме постоянно повторяющегося припева: «В единении наша сила». Эту песню, видимо, знали многие, и пение зазвучало громче, более внушительно и грозно.
Глядя на демонстрацию, Мэри начала понимать, почему с недавнего времени ее стало томить какое-то неясное беспокойство, безотчетный страх. Теперь она видела воочию, как бедняки отвечают на несправедливость, на пренебрежение к их нуждам.
О безработице Мэри Уэст до сих пор знала только то, что кратко сообщали газеты. Но однажды вечером, несколько месяцев тому назад, она стала свидетельницей сцены, вызвавшей в ней брезгливую жалость. С компанией друзей она вышла из дорогого кафе и направилась к театру. Проходя переулком позади кафе, она увидела человек десять оборванных мужчин, столпившихся у двери кухни около помоек. «Ждут, как бедный Лазарь, крох с господского стола», — подумала Мэри. Вопреки очевидности, ей трудно было поверить, что люди могут быть доведены до такого состояния, и она подошла ближе.
В эту минуту дверь кухни отворилась: на пороге показался человек в белом халате и вывалил отбросы в один из ящиков, стоявших по обе стороны двери, делая вид, что не замечает голодных людей.
Свет, просочившийся из раскрытой двери, осветил содержимое ящика. Здесь были листья салата, фруктовые очистки, всякого рода объедки. Это представляло собой какое-то отвратительное месиво, но люди, окружившие мусорный ящик, толкая друг друга, стали рыться в отбросах.
Словно загипнотизированная этим страшным зрелищем, Мэри подходила все ближе и ближе. Вдруг какой-то мужчина в длинном пальто без единой пуговицы, стоявший позади всех, повернулся к Мэри. Из-под низко надвинутой на лоб потрепанной шляпы на нее сверкнули гневные глаза, и хриплый голос произнес: «Ты чего тут смотришь?»
В этих лихорадочно горящих глазах она прочла стыд, безнадежность, отчаяние и превыше всего ненависть. Он ненавидел ее за то, что на ней дорогое платье и ценные меха, а он — в лохмотьях. Он не знал ее, но ненавидел за то, что она богата и только что съела сытный ужин, а он беден и ждет своей очереди порыться в отбросах.
Она повернулась и бросилась бежать, а ей навстречу уже шли ее спутники, удивленные, куда это она вдруг исчезла.
Всю ночь ей снились люди у мусорного ящика, и самый страшный сон был про человека с безумными глазами: в грязной лачуге он кормил голодных детей отвратительными объедками. И все время он не сводил с нее глаз.
После этого она много слышала и читала о том, что десятки тысяч людей терпят крайнюю нужду. В газетах писали о семьях, выброшенных на улицу и живущих в палатках или ночующих в железнодорожных вагонах на сортировочной станции; о людях, бредущих пешком или колесящих на расхлябанных машинах по всей стране в поисках заработка; они заходили поесть в трактир, а потом заявляли официанту, что у них денег нет — пусть он посадит их в тюрьму, а еще лучше пусть идет к премьеру Хорану и заставит его заплатить по счету. Мэри прочла о том, как безработный бросил кирпич в витрину магазина и спокойно попросил полицейского отправить его в тюрьму, потому что там его будут кормить, а о жене и ребенке пусть позаботится государство. Мэри стала ходить в город пешком через Керрингбуш, терзая себя зрелищем нищеты и страданий. Очереди за даровым супом, изможденные женщины, исхудалые мужчины, рахитичные, дрожащие от холода дети. Многие дома пустовали — а люди спали под открытым небом; фабрики закрывались — а люди сидели без работы; продовольствие выбрасывалось — а люди голодали!
И все время в этой накаленной атмосфере чудилась какая-то скрытая угроза. И вот они идут, бедняки, обездоленные, и поют песни возмущения и гнева!
Среди демонстрантов мелькали и женщины; как и мужчины, все они были в поношенной одежде. Мэри почти с радостью смотрела на эту армию, поднявшуюся со дна жизни, потому что до сих пор она не раз спрашивала себя: «Почему они мирятся с такими страданиями?»
Колонна остановилась в конце улицы, и демонстранты окружили здание казначейства; но все еще подходили новые и новые ряды оборванных людей; теперь они шли молча, слышался лишь гул голосов и топот ног по мостовой. На тротуарах стояли безмолвные толпы зрителей. Трамваи остановились, и водители тщетно давали звонок за звонком.
Мэри стала медленно пробираться к казначейству. Но толпа на тротуаре была слишком густа. Мэри сошла на мостовую и, придерживая шляпу, побежала к демонстрантам, плотной стеной с трех сторон окружавшим серое двухэтажное здание.
Повсюду были расставлены отряды полицейских, но они пока сохраняли спокойствие.
Мэри привстала на носки и увидела, что четыре человека под громкие приветственные крики подымаются по широкой каменной лестнице.
— Куда они идут? — спросила она.
— К Трамблуорду, — ответил ей один из демонстрантов.
— Зачем?
— Потребовать работы вместо милостыни и положить конец системе пайков.
— Системе пайков?
— Ну да, системе пайков, — нетерпеливо ответил он, удивляясь ее невежеству. — Мы хотим сами решать, на что расходовать свои жалкие гроши, мы не хотим, чтобы нам швыряли пайки со всякой дрянью. Но от разговора с Трамблуордом все равно толку не будет. В прошлый раз он двинул против нас полицию. Он угождает только Джону Уэсту и таким, как он. А еще называет себя лейбористом!
Трамблуорд. Да, это один из ставленников ее отца. Он несколько раз был у них в доме. Неужели у отца все помощники такие, как Трамблуорд?
Внезапно ее мысли были прерваны возникшей поблизости стычкой. Раздался возмущенный ропот. Мэри протиснулась поближе. Один из демонстрантов, рослый оборванный мужчина, крикнул полицейскому: «…Не советую особенно расходиться сегодня и размахивать дубинками. На этот раз — суньтесь только, мы вас в клочья разорвем».
Он оттолкнул полицейского, мешавшего ему пройти. К ним подошел другой полицейский и поднял дубинку, готовясь ударить. В толпе произошло движение: одни старались пробраться поближе, другие, напротив, отойти подальше. Дубинка уже была готова обрушиться на голову высокого мужчины, но протиснувшийся сквозь толпу сержант выбил дубинку из рук полицейского.
— С ума сошел?! — услыхала Мэри его крик. — Хочешь, чтобы нас всех растерзали?
На высокий выступ окна взобрался оратор. Демонстранты приветствовали его громкими криками. Оглядывая все густеющую толпу, Мэри подумала, что здесь, вероятно, собралось не менее десяти тысяч. Она стояла далеко от оратора, и до ее слуха доносились лишь обрывки фраз:
— …система пайков…
— …сила наша в единстве…
— …лейбористы предали нас.
Демонстранты, столпившиеся вокруг оратора, отвечали одобрительными возгласами.
Какой-то мужчина, стоявший рядом с Мэри, сказал:
— Коммунист… Слишком левый на мой вкус.
Кто-то возразил ему, и сразу разгорелся ожесточенный спор, грозивший перейти в драку.
Почти час Мэри Уэст ждала возвращения депутации, но она не появлялась. Толпа понемногу редела. То тут, то там слышалось пение, вспыхивали споры, а иногда даже потасовка. Наконец все стихло. Люди были слишком истощены и подавлены нуждой, чтобы сохранить надолго боевое настроение.
Мэри медленно побрела к трамвайной остановке. Она очень устала, ноги болели, но идти в кафе ей уже не хотелось. Ее трясло как в лихорадке, нервы ходили ходуном, мысли путались.
В тот же вечер дома за обедом она рассказала все, что видела, объяснила несправедливость системы пайков, заступалась за безработных. Нелли сказала, что ей очень жаль этих несчастных людей. Она слыхала, что в больнице святого Винсента одно время ежедневно выдавали более ста завтраков, но туда стало стекаться столько народу, что выдачу пришлось прекратить.
— Однако из беспорядка тоже ничего хорошего не выйдет, — заключила она.
Мэри хотела ответить, но Джон Уэст перебил ее:
— Их подстрекают коммунисты. Красные хотят революции. Нужно заставить всех работать. Добрая половина их так давно бездельничает, что они ни за что не станут работать, пока их кормят даром. Красных надо посадить в тюрьму, а остальных заставить работать.
— Но, папа, ты же сам говорил, что у тебя работает теперь на пятьсот человек меньше, чем обычно. А если и у других предпринимателей так, то где же людям найти работу?
— Оплата труда слишком высока, она не окупается. Нужно снизить ставки. Конечно, я против снижения заработной платы. Но мы должны вернуть страну к процветанию, иначе она будет разорена. А работу людям дать нужно. Пусть роют ямы и снова засыпают их.
— Но, папа, ведь они просят только, чтобы им немного увеличили пособие и…
— Если увеличить пособие, никто не захочет работать. И во всяком случае я не желаю, чтобы за моим столом моя родная дочь произносила коммунистические речи. Ты-то на что можешь пожаловаться? У тебя есть все, чего только можно пожелать. И не вздумай помогать бедным. Им только покажи дорогу — оберут до нитки. Я знаю, что говорю.
— Ах, папа, ты такой же, как и все богачи: ты не можешь понять, почему бедные жалуются, — горячо сказала Мэри.
Миссис Моран поспешила переменить тему, заговорив о предстоящем футбольном сезоне, и Джон Уэст стал рассказывать, что он видел тренировочную игру в Керрингбуше, что в тамошней команде появилось несколько способных молодых игроков и, по-видимому, она имеет шансы завоевать первенство.
Мэри больше ничего не говорила. Всю ночь она не сомкнула глаз, размышляя о том, что видела. А через две недели она прочла в газетах, что система пайков отменена и пособие увеличено на два шиллинга в неделю для семейных и пять пенсов за каждого ребенка. Мэри охватило радостное волнение. Ведь и она в какой-то степени принимала участие в демонстрации, вынудившей правительство принять срочные меры.
* * *
События, разыгравшиеся в первой половине 1931 года, еще усилили замешательство Джона Уэста.
Он уже не мог совершать ловкие финансовые операции, приносившие ему молниеносную наживу, которыми он всегда славился. Оставалось только, не давая передышки своим служащим во всех штатах, предотвращать крупные убытки и стараться изо всех сил, чтобы ущерб, причиненный ему кризисом, не превышал миллиона. У него даже вошло в привычку звонить своим служащим среди ночи, если ему в голову приходил какой-нибудь новый план.
Дома он стал придирчив, назойливо вмешивался во все семейные дела. Победа над сыном отчасти вознаградила его за неудачи в других областях. Разговор с сыном в Сиднее доставил Джону Уэсту почти садистскую радость. Джон-младший начал, как лев, а кончил, как ягненок. «Так, значит, сыну не нравится мой способ ведения дел, — рассуждал Джон Уэст, — он считает, что бывшие владельцы фирмы обмануты, он предпочел бы, чтобы его освободили от его обязанностей и разрешили жить по-своему? Ну, что же, я освобожу его от этих обязанностей, отправлю заведовать молочными в Брисбэйне. Самая подходящая для него работа». Только под самый конец, как водится, Джон Уэст подсластил пилюлю, ведь это для его же блага. С жиру бесится, как и остальные, — все досталось готовенькое.
Пока Джон Уэст прилагал отчаянные усилия к тому, чтобы положить предел убыткам, просьбы о помощи не прекращались. Он уже мнил себя всеобщим благодетелем, у которого выкачивают деньги все, кому не лень. Политические деятели, церковь, благотворительные общества теперь начали замечать, что у него труднее стало поживиться. Дошло даже до того, что он стал выходить из дому без мелких денег. Если к нему подходили на улице и просили подаяния, он говорил своему спутнику: «Дайте ему два шиллинга, у меня нет мелочи». Некоторое время эта уловка действовала успешно, но в конце концов Ричарду Лэму и другим надоело поддерживать популярность Джона Уэста за свой счет, и они в таких случаях стали отвечать: «У меня тоже нет мелочи».
В это лето родился так называемый «план премьера». Во время предварительных обсуждений и различных махинаций, закончившихся принятием его, Джон Уэст усердно следил за ходом событий и пытался влиять на них.
В январе премьер-министр вернулся из Англии. Архиепископ Мэлон и Джон Уэст тотчас же встретились с ним. Из слов Саммерса они поняли, что в Англии всячески старались польстить его тщеславию. Король сказал то, держатели ценных бумаг сказали это, английский премьер-министр — то-то и то-то. Когда архиепископ навел разговор на события, готовящиеся в Австралии, Саммерс заявил, что поддерживает предложения Нимейера и намерен созвать премьеров штатов для разработки общего плана экономии с целью сбалансировать бюджеты. Такая мера потребует жертв. Лейбористы подымут шум, но бывают времена, когда прежде всего нужно считаться с интересами государства, а не с интересами отдельного класса или партии. Архиепископ полностью с этим согласился и предложил во избежание неурядиц убрать из кабинета таких людей, как Эштон.
Джон Уэст тоже поддержал предложение Саммерса. Однако он был недоволен. Распоряжались держатели ценных бумаг, члены Правления Австралийского банка, за которыми стояли финансисты и магнаты тяжелой промышленности; до некоторой степени распоряжался и архиепископ, а он, Джон Уэст, которому лейбористская партия обязана своим нынешним положением, остался в стороне! Обозлившись, он потребовал, чтобы Саммерс вернул Тэргуду портфель, поскольку было очевидно, что правительство Куинсленда не намерено привлекать его к ответственности на основании раздутых обвинений правительственной комиссии. К его удивлению, Саммерс согласился. Премьер сказал, что верит в невиновность Тэргуда и нуждается в его помощи в предстоящем трудном деле. Тэргуда считают радикалом, и поэтому он может ослабить недовольство планом премьера внутри лейбористской партии.
Джон Уэст твердо решил поддержать Тэргуда и его проект добавочного выпуска бумажных денег. Он еще сделает Тэргуда премьер-министром!
В ближайшие месяцы, предшествовавшие принятию плана, премьеры штатов несколько раз совещались с Тэргудом и Саммерсом. Тем временем Джон Уэст заметил, что Тэргуд охладел к своему проекту. Он внес его в парламент, но сенат отверг его; то же сделала и конференция премьер-министров. В последнюю минуту, перед тем как был принят план премьера, Тэргуд представил проект правлению банка, но и там его отвергли. Тэргуд, казалось, вздохнул с облегчением. Почему?
Джон Уэст следил за развитием политических событий со все возрастающим недоумением.
Совещаниям премьеров, казалось, конца не будет. Премьеры-националисты охотно поддержали резкое снижение заработной платы, но премьер-лейбористы, а также Саммерс и Тэргуд держались уклончиво. Тэргуд и Саммерс делали вид, что у них нет никакого плана, затем Тэргуд посоветовался с комитетом экспертов при правлении банка и представил план, являвшийся по существу планом Нимейера. Исполняя обещание, данное Джону Уэсту, Тэргуд снова поднял вопрос о выпуске денег. Его поддержал Лейн, премьер Нового Южного Уэлса. Затем, когда Тэргуд пошел на попятный, тог внес свой план — «план Лейна», предусматривавший отказ от выплаты задолженности держателям ценных бумаг в Англии. План Лейна был отвергнут — видимо, Лейн представил его в расчете создать иллюзию, что он друг трудящихся. Кстати сказать, эта иллюзия сохранялась в течение многих лет, ибо Лейн упорно отрицал, что он голосовал за предложения Нимейера, в конце концов принятые премьерами штатов. На самом деле он деятельно поддержал этот план, который по сути дела в корне противоречил его собственному.
Когда согласованный план премьеров получил силу закона, в лейбористской партии произошел раскол. Рабочие были возмущены. Лейборист Хоран, премьер штата Виктория, проводил по всей стране через парламент новый закон, точно так же как националистские премьеры других штатов. Лейн попытался было для вида выступить со своим планом в Новом Южном Уэлсе, но был вскоре отрешен от должности губернатором штата.
Не успел Тэргуд провести новый закон через федеральный парламент, как ему и его соучастникам был предъявлен иск о возвращении денежных сумм, мошенническим путем полученных Мэлгарской компанией от правительства штата Куинсленд.
Тэргуд был потрясен, возмущен, напуган, но преисполнен решимости сопротивляться. Когда он открыл дверь Биллу Мак-Коркеллу, явившемуся к нему в Сидней, лицо его выражало непреклонную волю. Мак-Коркелл был бледен как мел и не скрывал своего страха. Он возвратился в Австралию полгода назад в надежде, что опасность миновала. Он совершил чудесное путешествие, побывал даже в России, и по возвращении прочел несколько лекций — и просоветских и антисоветских, в зависимости от состава слушателей. Когда один из его бывших коллег указал ему на такое явное противоречие, Большой Билл ответил: «Надо учитывать аудиторию, друг мой».
Тэргуд считал себя обманутым. Разве он не сделал все, чего от него требовали? Ясно — больше года они придерживали это дело, чтобы заставить его протащить план Нимейера! Жаль, что он не дрался более энергично за свой план выпуска денег, как обещал Джону Уэсту. Уэст никогда не предал бы его.
Была минута, когда Тэргуд чуть не взбунтовался. Представляя свой проект парламенту и затем конференции премьер-министров, он лишь втирал очки Джону Уэсту, но в последний раз, когда он обсуждал его с Джибсоном, председателем правления Австралийского банка, в нем взяли верх последние крохи его лейбористских принципов. И тут Джибсон, непреклонный и властный, сказал ему:
— Я думал, мистер Тэргуд, что такому человеку, как вы, которого я назвал лучшим финансистом Австралии, должна быть ясна несостоятельность этого плана.
Тэргуд долго смотрел на него, невесело рассмеялся и сказал: «Знаете ли, я должен хотя бы для вида поддерживать этот план ради своих сторонников».
Сначала собственные слова испугали Тэргуда. Но очень скоро он понял, что его будущее — в лагере богачей, что медленно, но верно он утратил все признаки левого деятеля.
— Я покажу этим негодяям, как предавать Красного Теда, — сказал Тэргуд Мак-Коркеллу, когда они сели.
Мак-Коркелл заговорил было о том, как бы ему снова скрыться, но Тэргуд разубедил его.
— Я сам хотел уехать, Мак, когда ты был в отъезде. Я начал уже переводить деньги в Америку, но председатель компании «Брокен-Хилл» сказал мне, что я могу не беспокоиться. Могу не беспокоиться! Нельзя верить этим мерзавцам, если только ты не такой же могущественный и богатый, как они. Но настанет день, когда и я буду таким. Вот увидишь. А помогать рабочим — за это никто тебе спасибо не скажет.
Весь вечер Мак-Коркелл выпивал по три стакана виски на каждый стакан, выпитый Тэргудом, он больше слушал, а сам почти ничего не говорил.
Вошла миссис Тэргуд и приготовила им ужин.
— Ну вот, Мэри, — сказал Мак-Коркелл слегка пьяным голосом, — большой путь мы прошли после Чиррабу, а к чему пришли?
— Да, Билл, и думается мне, мы тогда были счастливее.
Мак-Коркелл только собрался расчувствоваться, но Тэргуд перебил его:
— Как бы не так! Я принес себя в жертву ради лейбористской партии, а лейбористам плевать на это. Вздыхать о прошлом? Не поможет. Нужно драться! Завтра утром я лечу в Мельбурн — повидаться с Джоном Уэстом. Он обещал помочь мне, и я поймаю его на слове.
На следующий день Тэргуд имел беседу с Джоном Уэстом.
Джон Уэст уже давно убедился, что помощь людям, попавшим в беду, будь то преступники, бизнесмены, члены парламента или просто люди, ищущие работу, всегда окупается. Люди, обязанные ему, тем самым были в его власти. Но, прикинув, как дорого обойдется спасение Тэргуда, Джон Уэст сказал: — Я уже приводил вам слова покойного Дэви Гарсайда. Ну так вот, вас могут оправдать, если у вас хватит денег.
Тэргуд поспешил перебить его: — У меня есть немного денег, но если я все их ухлопаю на это дело, что станется со мной потом? Ведь я помог вам нажить не одно состояние. Вы сорвали изрядный куш на Чиррабу и Маунт-Айсе. А о Маунт-Айсе могут упомянуть. Нельзя предвидеть, что может всплыть в ходе разбирательства. А я всегда защищал ваши интересы в Куинсленде, и Мак-Коркелл тоже. Потом этот закон о таможенных тарифах. Думаю, что вы…
Вдруг Тэргуд обратил внимание на лицо Джона Уэста. Оно не выражало решительно ничего. Даже обычная злость, казалось, исчезла на мгновение. В течение нескольких секунд оба они не проронили ни слова.
— Послушайте! — заговорил Джон Уэст, почти не разжимая губ. — Мне надоело, что из меня вечно выкачивают деньги. За прошлый год я потерял почти миллион фунтов, и тем не менее все снова ждут от меня подачек. Не пугайте меня Маунт-Айсой. Это дело я беру на себя. Деньги у вас есть, и гораздо больше, чем вы признаете. Вы заплатите половину, в противном случае я не пошевелю и пальцем. Я собираюсь в Брисбэн. У меня там дело — националистское правительство хотело прикрыть мои бега, издав закон, запрещающий устройство рысистых испытаний в коммерческих целях, но я создал некоммерческую организацию, так же как я это сделал в Виктории. В Брисбэне я похлопочу за вас и Мак-Коркелла, но вам придется выложить половину необходимой суммы. А это может стоить многих тысяч. Мне лично наплевать, упрячут ли Гаррарди и Рэнда в тюрьму на всю жизнь или нет. Будь они осторожнее, этого не случилось бы!
— У Мак-Коркелла есть немного денег, но все они вложены в ценные бумаги — бережет про черный день. Все наличные деньги он израсходовал на свою поездку. Я сам оплачу половину.
Через неделю начался процесс. Первые несколько дней Джон Уэст провел в Брисбэне. Один из его подручных «поладил с присяжными» настолько успешно, что даже сам Дэвид Гарсайд был бы доволен. Действовали наверняка. Присяжные были тщательно подобраны. На ночь им разрешали возвращаться по домам. Старшине присяжных, которого Тед Тэргуд знал лично, было уплачено пятьсот фунтов, а каждому из присяжных по сто за решительный вердикт «невиновны».
Судья — дородный, общительный весельчак, большой любитель выпить, женившийся на официантке, которая уверила его, что ждет от него ребенка, — весьма легкомысленно относился к жизни и к правосудию. Уговорить его оказалось так же легко, как и старшину присяжных. Судья тоже хорошо знал Тэргуда — ему он был обязан своим назначением на эту должность.
Хотя Тэргуд и говорил, что судья проявит «благоразумие», Джон Уэст все же сомневался в этом. Он считал, что судьи редко берут взятки наличными, предпочитая беспристрастно применять пристрастные законы. Но все же он нанес судье визит.
Судья сказал, что он рад бы помочь, но доказательства, представленные правительственной комиссией, весьма неблагоприятны для обвиняемых и влиять на судебное разбирательство с целью добиться оправдания было бы крайне рискованно.
— Они невиновны. Это политический процесс, — убежденно заявил Джон Уэст, — и если они будут оправданы, даю вам слово, что вы будете назначены членом верховного суда.
— Это очень любезно с вашей стороны, мистер Уэст, — ответил судья. Но поскольку он слышал, что Тэргуд готов купить оправдание за любую цену, он хотел за свои услуги получить более существенную награду. — Видите ли, если защитникам и обвиняемым не удастся опровергнуть все многочисленные улики, собранные против них…
— У них лучшие защитники, каких только можно достать за деньги. — Джон Уэст не отрывал глаз от лица судьи, пытаясь прочесть его мысли, точно так же как в те далекие времена, когда он бросил золотой констеблю Брогану. Вдруг он быстро вытащил из кармана толстый конверт. — Впрочем, я пришел к вам не для того, чтобы обсуждать предстоящий процесс.
Джон Уэст положил конверт на стол. — Я давно собирался, лично от себя, преподнести вам скромный подарок в три тысячи фунтов в знак благодарности за то высокое сознание гражданского долга, которое вы неизменно проявляете при исполнении ваших обязанностей.
Судья отвел глаза.
— До свиданья, ваша честь. Да, еще один маленький пункт. Я не хочу, чтобы на суде упоминались рудники Маунт-Айса или то обстоятельство, что я интересовался Мельбурнской компанией, которая задержала выплату арендной платы.
— Понятно, мистер Уэст. Передайте Тэргуду, чтобы его адвокат зашел ко мне завтра вечером. Это трудное дело, очень трудное.
Когда Джон Уэст ушел, судья налил себе шотландского виски, выпил, налил еще и только после этого вскрыл конверт; он дважды пересчитал бумажки, бережно и любовно касаясь их пальцами.
Доктор Дженнер готовился к судебному процессу с более спокойным сердцем, чем к расследованию правительственной комиссии. Тогда он не хотел стать в руках крупных капиталистов орудием, которое они могли бы использовать против лейбористского правительства. Теперь ему было безразлично, приведет ли это к падению правительства или нет. Он не видел ничего хорошего в дальнейшем пребывании Саммерса у власти. Саммерс сделал все, чего требовали от него отечественные монополии и английские держатели ценных бумаг. И все это сошло ему с рук, тогда как аналогичные меры, проведенные националистами, привели бы чуть ли не к революции.
Но и на суде, так же как и в правительственной комиссии, Дженнер решил говорить только о мошенничестве. Он считал, что было бы недостойно упоминать о слухах, которые доходили до него в Кэрнсе и других местах.
По мере того как шло судебное разбирательство, Дженнер начал подозревать заговор. Уж очень судья старался проявлять беспристрастие по пустякам, как это всегда делают пристрастные судьи. Кроме того, чувствовалось, что ему заранее известна тактика защиты. Факты, которые год тому назад привели к убийственному заключению, сейчас представлялись в несравненно более невинном свете.
Папки с материалами о налогообложении мэлгарского синдиката, служившие важными уликами во время работы правительственной комиссии, исчезли. Один из докладов самого доктора Дженнера, копии которого у него не сохранилось, тоже исчез.
Тэргуд и Мак-Коркелл отказались дать устные показания на суде. По правилам судебной процедуры это было дозволено. В письменных показаниях Мак-Коркелл признал, что владеет акциями рудников, и отметил, что никогда не отрицал этого.
Тэргуд признал, что получал чеки на крупные суммы от Мак-Коркелла, но отказался сообщить, для чего они предназначались. Рэнд заявил, что передавал акции Гаррарди и Мак-Коркеллу «по дружбе», но ему не было известно о каком-либо отношении Тэргуда к рудникам.
После одного из заседаний суда Тэргуд подошел к Дженнеру и сказал ему с насмешкой: — Ну вот, Дженнер, вы пытались погубить меня за то, что я выгнал вас из партии. Вы встали на сторону националистов, как я и ожидал. Но ни вы, ни ваши националисты не добьетесь своего.
— Какой же вы наглец, — ответил доктор Дженнер. — Это вы работали на крупный капитал последние два года.
Когда вызванный в качестве свидетеля доктор Дженнер начал отвечать на вопросы и ссылаться на свои доклады правительству, он с досадой заметил, что его словам уделяют мало внимания. Он сообщил о предложении Рэнда выделить ему четвертый пай и о том, что Тэргуд пытался заставить его переделать свой доклад, а потом уволил с должности.
Доктор Дженнер до конца жизни не забыл перекрестного допроса, которому его подверг адвокат Тэргуда. Отмахнувшись от утверждения Дженнера, что аренда и субсидии были получены мошенническим путем, адвокат начал задавать доктору вопросы о ценности рудников. Доктор Дженнер заявил, что в тот момент, когда Рэнд сбывал их, ценность рудников была лишь потенциальной и что суть дела заключается в том, каким образом правительство было обмануто Рэндом, его партнерами и Гаррарди, который управлял заводом в Чиррабу.
— Но ведь рудники стоили сорок тысяч франков. Согласно одному из ваших собственных докладов, они содержали на триста тысяч фунтов стерлингов цинка.
— Да, но, во-первых, синдикат завладел чужими участками, а во-вторых, уже получил субсидию в тринадцать тысяч фунтов, в которых ему нечем было отчитаться. Правительству пришлось бы выкачивать воду из шахт и переоборудовать их…
— Я хотел бы знать, — вмешался судья, — можете ли вы помочь мне и присяжным, сообщив нам, какова была ценность этих рудников? Если бы вы рекомендовали правительству приобрести эти рудники, сколько вы предложили бы ему заплатить за них?
— Я не рекомендовал правительству приобрести их.
Следующий вопрос задал опять защитник Тэргуда. — Вы рекомендовали конфискацию вместо покупки?
— Совершенно верно.
— Конфискация! Это же испытанная советская система! Значит, вы явились ярым сторонником советской системы контроля над рудниками.
— Тогда она не была известна как советская. В то время у нас еще мало что было известно о советской системе.
— В девятнадцатом году вы проповедовали кооперативную, или советскую, систему горного дела.
— Я высказался за передачу управления в руки самих рабочих.
— Это и есть советская система.
— Да.
— Я полагаю, что в то время вы глубоко верили в растущую мощь советской системы в России?
— Да, я верил и верю до сих пор.
— Вы член коммунистической партии?
— Нет, но я сочувствую ее целям. Однако я не вижу, какое отношение…
— Хорошо. Вы понимали в то время, что восстановление завода в Чиррабу создаст возможность для разработки обширных свинцовых месторождений в северной части штата Куинсленд.
— Да, таково было мое мнение. Я и сейчас его придерживаюсь.
— …и что руда на завод в Чиррабу должна доставляться главным образом с мэлгарских рудников.
— Да, но…
— Свидетель, будьте любезны ограничиться ответами на вопросы, — перебил его судья.
— И вы считали, что если правительство возьмет в свои руки рудники, то оно сможет с выгодой эксплуатировать их?
— Да.
— Больше вопросов не имею, ваша честь.
Процесс длился еще несколько дней. В конце концов присяжным был представлен список в двадцать пять вопросов. Присяжные ответили на все вопросы в пользу обвиняемых. В записи прихода мэлгарских рудников прибавилась новая статья — восемнадцать тысяч фунтов судебных издержек, оплаченных налогоплательщиками штата Куинсленд. Завод бездействовал, рудники напоминали два огромных колодца, наполненных водой, оборудование и механизмы ржавели под тропическими ливнями северных районов. Так продолжалось почти десять лет, пока Джордж Рэнд не извлек из них пользу для себя, разобрав металлическое оборудование и отправив его в качестве железного лома в Японию. В конце концов очередное лейбористское правительство штата Куинсленд с большим убытком для себя продало рудники дочерней компании мощного концерна «Брокен-Хилл».
Высокую, сгорбленную фигуру седого как лунь доктора Дженнера нередко можно было видеть на улицах Брисбэна или в различных пунктах его любимого Севера, но теперь это был человек без цели в жизни. Даже его дети, при всей их любви и уважении к нему, начали поговаривать: «Наш старик со странностями — смертельно ненавидит Тэргуда и только и говорит что о Чиррабу, жемчужине Севера».
* * *
Джон Уэст не удивился, когда в конце года правительство Саммерса пало. Уже несколько месяцев назад оно раскололось на отдельные группировки. Лайонс со своими сторонниками вышел из лейбористской партии и основал лигу «Все для Австралии». Группа Лейна создала свою фракцию в палате представителей. Эта фракция и вызвала министерский кризис. На заседании палаты один из членов парламента внес предложение прервать сессию и обсудить обвинение против Тэргуда, вновь восстановленного на посту министра финансов.
Видимо, опасаясь, что партийная машина Лейна в штате Новый Южный Уэлс нанесет ему поражение на выборах, Тэргуд постарался обеспечить себе избрание обычным для него способом. Он направил в избирательный округ своих агентов, которые обещали за счет двухсот пятидесяти тысяч фунтов, ассигнованных федеральным парламентом, устроить на общественные работы всех, кто поддержит Тэргуда на выборах. Член парламента, внесший предложение, представил данные под присягой письменные показания избирателей, к которым обращались агенты Тэргуда.
Члены правительства, уже привыкшие к нападкам группы Лейна, не придали делу особого значения. «Новый трюк Лейна», — говорили они.
Предложение было поставлено на голосование. Парламентский организатор оппозиции носился по коридорам, созывая националистов. Предложение было принято тридцатью семью голосами против тридцати двух.
В тот же вечер Джеймс Саммерс, с таким триумфом вступивший в Канберру два года назад, получил у генерал-губернатора согласие на роспуск парламента и стал ожидать выборов, уже не сомневаясь, что они неизбежно приведут к сокрушительному поражению.
Джон Уэст слышал, что накануне выборов Лайонс совещался с представителями деловых кругов в здании газетного концерна Маркетта. Лайонс поставил им жесткие условия: положение лидера в новой «Объединенной партии Австралии». Жалованье пять тысяч фунтов. В случае его смерти — солидная пенсия от государства для вдовы. Условия были приняты, и Лайонс вслед за Хьюзом переметнулся к консерваторам. Консервативная партия еще раз переменила название и, одержав победу на выборах под маркой «Объединенная партия Австралии», пришла к власти.
* * *
После того как результаты выборов были объявлены, Фрэнк Эштон выступил с краткой речью.
— В условиях сокрушительного поражения лейбористов, — сказал он, — я горжусь тем, что прошел голосами избирателей, оказавших мне предпочтение.
Выйдя из зала, Эштон медленно побрел по улице — седой, сгорбленный, шаркающий ногами старик.
Его догнал молодой парень, член местной лейбористской организации. Они прошли шагов сто по залитой солнцем улице, прежде чем Фрэнк Эштон заметил его присутствие.
— Нет, друг мой, нас высекли — и по заслугам.
— Я бы не сказал, что по заслугам. А теперь рабочие будут выданы на милость хозяевам.
— Так было и в последние два года. Никто не знает этого лучше, чем я.
— Но…
— Никаких но, Лес. Вот скажи мне: почему ты в лейбористской партии?
— Ну, потому… чтобы добиться социализма для рабочих.
— Чтобы добиться социализма для рабочих? Ну так слушай, я расскажу тебе одну историю. Когда лейбористская партия только образовалась, ее зачинателей преследовали обе другие партии, либеральная и консервативная, называя их опасными агитаторами. Не так ли?
— Так.
— Ну, так вот. Тогда консерваторы были реакционерами, а либеральная партия — прогрессивная. Затем либералы стали реакционерами, а лейбористы — прогрессивными. Правильно?
— Да.
— Слушай дальше. Теперь, и очень скоро, — может быть, я еще доживу до этого, — лейбористы станут реакционной партией, а коммунисты прогрессивной. Вот почему я собираюсь отойти от политики, и как можно скорее.
Спутник Фрэнка Эштона молчал, словно не желая отказываться от последних остатков веры в лейбористскую партию.
— Ты цепляешься за иллюзии, — продолжал Эштон. — Не делай этого. Я сам слишком долго за них цеплялся и только понапрасну растратил свою жизнь. В период нашей борьбы против плана премьера и против запрета, наложенного лейбористской партией на так называемые прокоммунистические организации, я выступал за создание объединенной организации рабочих, куда вошли бы профсоюзы, социалисты, ИРМ, коммунисты и лейбористы. Ну так вот, это была моя последняя иллюзия. Больше их у меня нет.
— Но коммунисты не пользуются поддержкой.
— Было время, когда и лейбористы не пользовались поддержкой.
Они остановились на перекрестке, еще немного поговорили, и спутник Эштона сказал: — Мне на ту сторону.
— Желаю удач, — сказал Эштон, пожимая ему руку, — и помни, что я тебе сказал. Если ты стремишься к социализму, а не к парламентскому креслу, то ты избрал не ту партию. Лучше иди к коммунистам. Будь здоров. Я здесь сяду на трамвай.
— Я и так работаю с коммунистами. Вот и сейчас иду в клуб. Там будет собрание безработных.
— Вот как? Мне бы хотелось сказать им несколько слов и поблагодарить их за мое избрание.
— Пожалуй, я мог бы это устроить. Но там будет много коммунистов, а ведь коммунисты официально не выдвигали вас. Они предоставили это решать избирателям.
— Ну и что же, я получил большинство их голосов, а это главное. Я бы хотел поблагодарить их и выразить им свое сочувствие. Сказать им, что я всегда был с ними.
— Хорошо, — нерешительно ответил Лес. — Я посмотрю, что можно будет сделать.
Они пересекли улицу и вошли в небольшое ветхое здание. Эштон последовал за своим спутником в большую комнату, где стоял стол, несколько стульев и деревянные скамьи. По стенам висели плакаты с лозунгами и фотографиями, среди них портрет Ленина. Позади комнаты находилась кухня; там раздавали обеды безработным. Это было местное отделение организации безработных, ставившей себе целью оказывать помощь безработным, объединять их и бороться против выселения за невзнос квартирной платы.
Около пятидесяти бедно одетых людей разместились на скамьях перед столом, за которым сидели двое мужчин.
Один из сидящих за столом сказал:
— Мы не начинали, Лес, тебя ждем.
— Простите, что опоздал.
Он подошел к столу и посовещался с обоими мужчинами. Они, видимо, колебались; но вот один из них поднялся и сказал:
— Товарищи, мистер Эштон, член парламента от нашего избирательного округа, хотел бы выступить перед нами до того, как мы начнем. Пройдите, пожалуйста, сюда, мистер Эштон.
В комнате поднялся приглушенный шум голосов. Фрэнк Эштон подошел к столу, положил на него шляпу и приготовился говорить.
Вдруг он заметил, что дрожит. Давно уже он не волновался перед выступлением.
— Товарищи, я попросил разрешения сказать вам несколько слов, потому что душой я с вами. Я горжусь тем, что одержал победу благодаря голосам коммунистов, потому что я верю в то, что коммунизм…
Эштон говорил и в то же время с ужасом замечал, что не встречает отклика в слушателях, что они настроены враждебно.
— …лейбористы потерпели поражение, потому что не оправдали надежд рабочих. Но какой смысл для рабочих в том, что они прыгнули из огня да в полымя, поставив у власти националистов?
Вдруг один из слушателей в заднем ряду, высокий изможденный мужчина, крикнул:
— Теперь мы по крайней мере знаем, что имеем дело с мерзавцами.
Богатый ораторский опыт Фрэнка Эштона изменил ему. Он смешался и чувствовал себя беспомощным, словно новичок. Он смотрел на прервавшего его, не зная, что ответить.
— Но, мой друг, — наконец пробормотал он. — Я не… то есть, я хочу сказать, что рабочие должны…
— Какое вам-то дело до рабочих! — не унимался тот же голос.
Лес был смущен и расстроен тем, что подверг свой кумир такому унижению. Председатель тоже растерялся. Он надеялся, что Эштона выслушают по меньшей мере вежливо. Враждебные выкрики безработного разожгли гнев рабочих, до сих пор слушавших с молчаливым недоверием.
— Да! — закричал другой, вскакивая на ноги. — Вы эксплуататор дешевого колониального труда.
— …и приятель миллионера Джона Уэста. Поезжайте лучше обратно на Новую Гвинею, — пронзительно закричала одна из немногих присутствовавших женщин.
Эти люди были настроены далеко не примирительно: Эштон — лейборист, а лейбористы предали их. И со всех сторон на него обрушились враждебные выкрики. Председатель стоял с поднятой рукой, безуспешно призывая собрание не шуметь и дать оратору высказаться.
На Фрэнка Эштона жалко было смотреть.
— Вы должны выслушать меня, — сказал он. — Я знаю, что слишком часто шёл на компромисс, и впредь это будет мне уроком. В душе я всегда был верен своим социалистическим принципам. А теперь я…
— Расскажи об этом Джону Уэсту!
— Поезжай обратно на Новую Гвинею, на свои прииски.
— Я поехал на Новую Гвинею только для того, чтобы поправить свое здоровье, — с жаром воскликнул он.
В ответ раздался взрыв смеха. Вдруг кто-то запел «Интернационал», и почти все подхватили гимн:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный…
После безуспешных попыток перекричать их Фрэнк Эштон неверными шагами направился к двери. Лес также попытался обратиться к собравшимся. Председатель взял шляпу Эштона и побежал за ним.
— Вы забыли шляпу, — сказал он смущенно. — Не принимайте этого слишком близко к сердцу. Большинство этих людей не члены коммунистической партии. Они много выстрадали…
Фрэнк Эштон схватил свою шляпу и выбежал на улицу, ничего не видя перед собой. Если бы только они могли понять, думал он. Но все бесполезно. Для них ничего невозможно сделать. Конец! Он пожертвовал лучшими годами своей жизни ради иллюзии; теперь по крайней мере он немного отдохнет!
Он брел к дому, не разбирая дороги. Его освистали — его, Фрэнка Эштона, который почти один боролся против предательства Саммерса и Тэргуда, который внес предложение о роспуске парламента, для того чтобы завоевать большинство в сенате; его вышвырнули из кабинета за то, что он оставался там единственным левым министром и всеми силами боролся против плана премьера. Освистали его, а не Саммерса.
Правление Австралийского банка распоряжалось правительством в интересах крупных капиталистов. Рука Нимейера дергала за ниточки, на которых плясали предатели-марионетки. Саммерс, тщеславный, благочестивый, неумный, был словно воск в их руках. Другое дело Тэргуд: он все понимал, но обманщик в нем всегда брал верх. Хорошо хоть то, что рабочие вышвырнули Тэргуда и провели одного из группы Лейна.
Демагог Лейн нанес последний удар, но какой в этом был смысл? Какой смысл стрелять в полусгнивший труп? Поддерживать Лейна случалось и Фрэнку Эштону. Ну что же, он был только один из тысяч обманутых. План Лейна. План Тэргуда. Такой план, этакий план… Любой — лишь бы он не предусматривал никаких действий со стороны рабочих. Рабочих! Это все равно несбыточно. Целых два года он наблюдал, как рабочие сносили любые издевательства. Их обманули, предали, а они безропотно терпели. Презрение Фрэнка Эштона к правительству Саммерса обратилось сначала против него самого и наконец против рабочих.
Он шел как слепой, натыкаясь на людей. Слезы застилали ему глаза.
Его освистали, оскорбили. Это конец!
Придя домой, он сел за стол в своем кабинете, взял перо и бумагу. Он напишет Гарриет. Перо быстро забегало по бумаге.
«Дорогая моя Гарриет!
Ну вот нас и прогнали в шею. Это следовало ожидать. Путь лейбористов — это путь правых. Так о чем же горевать? Сегодня между лейбористской партией и ее противниками разница лишь в ярлыке.
Если мне суждено еще пожить на свете, я изложу на бумаге те свои мысли, которые я не дерзал высказывать в последние годы. А сейчас я хочу только покоя. Я буду жить тихо, так тихо, что люди, быть может, подумают, что я уже умер, — им будет все равно.
Я стар и болен. На закате жизни я лишился надежд. Марта все такая же, а сыновья по-прежнему холодны ко мне.
Тоска и скорбь — вот все, что у меня осталось… если не считать того, „что могло быть с тобой“.
Прощай, дорогая Гарриет.
Тебе я могу сказать: „Фрэнк Эштон стыдится самого себя“».
Эштон отбросил перо, написал адрес, заклеил конверт и сунул его в карман, чтобы вечером отправить.
Он подошел к дивану, стоявшему у окна, и тяжело опустился на него. Здесь, в этой комнате, он беседовал с Перси Лэмбертом и с Джоном Уэстом. Тот день решил его судьбу. Фрэнк Эштон, всегда сидевший между двух стульев, отказал им обоим.
Здесь же он написал свою «Красную Европу». Эштон поднялся, достал книгу с полки и стал медленно перелистывать ее.
Перевернув последнюю страницу, он прочел конец:
«Капитализм, трепеща от страха, прислушивается к барабанному бою армий Революции. Звуки барабанов становятся все громче и громче, армии подходят все ближе и ближе».
Мысли его снова обратились к собранию безработных. Они бросили ему в лицо слова «Интернационала», чтобы выразить ему свое презрение.
Лицо его исказилось от боли, и он заплакал. Вдруг он вскочил, резким движением бросил книгу в угол, и плач его сменился истерическим смехом.
Приоткрывшая дверь Марта увидела, что он стоит посреди комнаты и смеется как помешанный.
Изможденная, сгорбленная, вся в морщинах, она смотрела на него с удивлением и злостью.
— Что с тобой? Опять стал пить?
Он перестал смеяться и повернулся к ней. Его взгляд испугал ее, и она попятилась к двери.
— Нет! — крикнул он. — Я бросаю политику. Я собираюсь стать капиталистом, и это смешит меня. Я стану паразитом и наживу кучу денег. Кучу денег, слышишь? Я стар и болен, я продаюсь, чтобы нажить кучу денег! И это меня смешит.
Она глядела на него во все глаза, ничего не понимая, потом вышла, прикрыв за собой дверь.
Он схватился за голову, бросился на диван и разрыдался.
Дверь снова отворилась, и в комнату заглянул его старший сын.
— Что с тобой?
Фрэнк Эштон поднял глаза.
— Ничего, сынок, — сказал он, успокаиваясь. — Просто я уже стар и больше не могу бороться.
Сын пожал плечами и притворил дверь.
* * *
Поражение лейбористов повергло Джона Уэста в состояние какой-то смутной подавленности. Он занимался делами по инерции, не видя перед собой никакой цели.
Однажды утром, вскоре после выборов, Джон Уэст, без особого интереса разобрав почту и продиктовав несколько писем, послал за своим братом Джо. Тот, как всегда, запоздал.
Джо выглядел гораздо старше его. Хотя Джону Уэсту исполнилось уже шестьдесят два года, он был опрятным и подтянутым. Долгие годы уверенности в своих силах помогли ему сохраниться. А Джо стал ленив и опустился. Он ссутулился и сильно постарел; лицо обрюзгло и покраснело, нос распух.
— Когда я говорю десять часов, я имею в виду десять часов, — а не двадцать минут одиннадцатого, — резко сказал Джон Уэст.
Джо ничего не ответил и спокойно уселся в кресло. Он смотрел на своего могущественного брата с насмешливым удивлением, словно ему не верилось, что мальчишка, с которым он когда-то играл на задворках Кэррингбуша, превратился в человека, внушавшего всем уважение и трепет. Отношения братьев были самые холодные, и семьи их не общались между собой. Ричард Лэм говорил, что Джо единственный человек, который видит своего брата насквозь. Джон Уэст сам себе удивлялся, почему он терпит Джо, хотя тот не проявляет ни способностей, ни интереса к работе. А теперь еще Годфри Дуайр пожаловался, что Джо сильно пьет и совсем забросил работу на ипподроме.
— Пусть постарается поменьше пить и займется делом. Джон Уэст заявил Джо, что недоволен им-Из того, что ты мой брат, еще не следует, что ты можешь получать деньги и ничего не делать.
Джо все еще улыбался.
— Как-никак я помог тебе сколотить первый миллион, — сказал он.
— Ты свое получил.
— Да получил, и дальше буду получать.
— Не будешь работать — ничего не получишь.
— Не ломайся, Джек, я слишком хорошо тебя знаю. Никогда ты не допустишь, чтобы про тебя говорили, что ты уволил родного брата.
— Не испытывай мое терпение.
— Да брось ты, не запугаешь.
Нарочитая невозмутимость Джо обозлила Джона Уэста.
— Слушай! Ты бездельник и пьяница! Ты не работаешь, а я содержу и тебя, и твою семью. Так вот мое последнее слово: или бросай пить и принимайся за работу, или убирайся вон!
Улыбка сбежала с лица Джо.
— Что ты, Джон? Ведь я старик.
— Ты моложе меня. Просто ты слишком много пьешь. Брось пить и займись делом. Если я еще раз услышу, что ты пьешь или плохо работаешь, выгоню в два счета, понятно?
Джо медленно поднялся. С Джона станется уволить его. А что он тогда будет делать? Ничего он не умеет. Джо повернулся и пошел к двери.
— Хорошо, — сказал он.
Джон Уэст не испытывал никакого удовлетворения от своей победы над братом. Он чуть было не вернул его, но тут же раздумал. Никогда нельзя признавать, что ты неправ! А в сущности, что за беда, если бы старина Джо продолжал лентяйничать?
В тот же день у Джона Уэста состоялось весьма любопытное свидание. Некий Бейнтон, отпрыск одного из самых влиятельных семейств в Австралии, позвонил Джону Уэсту и попросил принять его. Что ему нужно?
Бейнтон оказался чрезвычайно элегантным молодым человеком.
— Я уверен, мистер Уэст, — сказал он весело, — что вы очень удивлены моим визитом.
Джон Уэст холодно посмотрел на него и ничего не ответил.
— Ничего, если я закурю? Спасибо. Разрешите вам сказать, мистер Уэст, что я до некоторой степени паршивая овца в нашем семействе. Кризис крепко стукнул меня, и, откровенно говоря, мне нужны наличные деньги. Сто тысяч фунтов.
Джон Уэст выслушал посетителя молча, ничем не выдавая своего изумления.
Наступила длительная пауза, и Бейнтон несколько утратил самоуверенность. Затем Джон Уэст заговорил:
— Сто тысяч — большие деньги, мистер Бейнтон. Но я не сомневаюсь, что ваш банкир может предоставить вам эту сумму.
— Вы же знаете, каково сейчас положение банков.
— А ваши родные? Ваш отец, дядья, братья? Неужели они вам не помогут?
— Я не хочу, чтобы они знали о моих стесненных обстоятельствах, пока в этом нет крайней необходимости. Я предпочел бы обойтись без них. Мне страшно даже подумать, что они скажут, если узнают, что я пришел к вам.
Бейнтон прикусил язык, но было поздно.
— А чем же я нехорош? — рассердился Джон Уэст. — Мои деньги чистые, и у меня несколько миллионов. Я знаю, меня не пустили бы в ваши клубы или на официальный прием, но у меня больше власти, чем у них всех вместе взятых.
— Вы ошибаетесь, мистер Уэст. Вы один из самых богатых и влиятельных людей в Австралии — вы лично. Но подлинной властью обладают лишь крупные финансовые концерны. Поверьте мне, я знаю.
— Я провожу своих людей в парламент, и они делают то, что я велю, — настаивал Джон Уэст с видом упрямого ребенка. — Лейбористская партия в моих руках.
— Они тоже проводят своих Людей в парламент, мистер Уэст, и всегда распоряжаются той партией, которая находится у власти. Последние два года доказали это. Они контролируют банки и тяжелую промышленность. Они хозяева страны.
— Банки контролируют евреи!
— Не верьте этому, мистер Уэст. Самые могущественные люди в нашей стране — почтенные пресвитерианцы. А евреев они не принимают даже в Мельбурнский клуб.
Заметив, что Джон Уэст хмурится все сильнее, Бейнтон поспешил изменить тон.
— Но все это лишь досужие размышления, мистер Уэст. Во всяком случае, можете мне поверить, о вас очень много говорят. Таинственный Джон Уэст. Человек, который начал с тотализатора в Керрингбуше и кончил крупным бизнесом.
Против обыкновения, Джон Уэст поддался на лесть.
— Человек, проделавший тяжелый путь, всегда отзывчивей других, — сказал он. — Каковы ваши условия?
Сговорившись быстро, Джон Уэст вызвал бухгалтера, и сделка тут же была заключена. Деньги верные — Бейнтон обладал миллионным состоянием.
Джон Уэст был удивлен, что эта встреча не оставила в нем удовлетворения. Да и то сказать, Бейнтон с легкостью погасит долг, когда его дела поправятся.
К концу дня Джон Уэст почувствовал утомление. Он позвонил Кори и попросил подвезти его до дому. Последнее время ему стало тяжело ходить пешком. Сказывались последние два года. Он ни разу не отдыхал за те тридцать лет, которые прошли со времени его свадебной поездки. Кори посоветовал ему совершить путешествие вокруг света, но Джон Уэст ответил: «Если я уеду отсюда и брошу все дела, то не буду знать, куда девать себя».
В этот вечер Джон Уэст, наспех пообедав, ушел в гостиную — он ждал гостей.
Он развернул вечернюю газету. Изнасилование. Убийство. Самоубийство. Волнения безработных. Кто-то пишет, что процветание вот-вот наступит. Все возлагают надежды на нового премьер-министра.
Джон Уэст начал читать спортивную хронику, но тут у парадной двери раздался звонок.
Явился Роберт Ренфри — новый мэр Керрингбуша. Ренфри невероятно гордился своим положением, не понимая, до какой степени он смешон, и не видя, что все над ним потешаются. Но Джон Уэст отлично умел использовать его жадность и природное чувство интриговать.
Ренфри закурил сигару и сказал:
— Я зашел обсудить кое-какие дела, Джек. В будущем месяце в Северном Уорде предстоят выборы.
Джон Уэст выслушал его без особого интереса и дал несколько советов.
После этого Джон Уэст провел своего гостя в музыкальную комнату, где собрались Нелли, миссис Моран, Мэри и Джон. Джон Уэст любил иногда вводить Ренфри и других посетителей того же сорта в круг своего семейства. Его забавляла мысль, что присутствие таких людей шокирует его добропорядочных домочадцев. Но что касается Ренфри, то Джон и миссис Моран находили его только забавным.
Сегодня Джону вдруг захотелось вспомнить старую шутку, которую Мак О’Коннелл в былые времена разыгрывал с Ренфри. Кстати сказать, это была единственная шутка, которую Джон Уэст позволил себе за всю жизнь. Когда-то, много лет назад, он повторил ее при детях, и они хохотали до упаду.
— У тебя кривые очки, Ренфри, — довольно вяло проговорил Джон Уэст.
Ренфри, доверчивый, как ребенок, снял очки и ответил:
— Нет, Джек, просто они так сделаны…
На этот раз шутка успеха не имела — один только Джо засмеялся.
Джон Уэст нахмурился и ушел в гостиную.
Он пытался снова заняться газетой, но почувствовал себя усталым. Его не столько тревожило положение лейбористского правительства, сколько его собственная неспособность влиять на него. Правительство Саммерса раскрыло ему глаза на то, что его власть далеко не безгранична. Подумать только — Саммерс давно назначил генерал-губернатором Айзекса, того самого Айзекса, который подготовил первый законопроект, направленный против его тотализатора! А план премьера? Теперь он сам верил, что этот план выведет страну из кризиса, но ведь утвердили его другие люди, более могущественные, чем он.
Он откинулся на спинку кресла. Усталость, казалось, проникла во все поры его тела. В нем зародилось незнакомое ему до сих пор чувство жалости к себе. Куда привел его путь, которым он так долго шел? Неужели его власть — только иллюзия? Всю жизнь он оберегал себя от сомнений, не разрешая себе углубляться в прошлое. А теперь — хотя он и боялся признаться себе в этом, — теперь, когда власть его уже в зените, его охватили сомнения, был ли во всем этом какой-нибудь смысл.
Он мечтал о власти большей, чем власть капиталистов. Достичь такой власти оказалось невозможно. Не добившись контроля над такими отраслями тяжелой промышленности, как металлургическая и каменноугольная, над судоходством, банками и печатью, он не смог проникнуть в замкнутый круг тех нескольких семейств, которые были подлинными хозяевами Австралии.
Он выбирал себе помощников среди отбросов общества и возводил их на высокие посты. Он добился власти над многими людьми, уже занимавшими высокое положение. Он был могуществен, но «почтенные» миллионеры были могущественней. Они прямо или косвенно распоряжались правительствами любого состава и всем государством.
Джон Уэст задался целью стать самым могущественным человеком в Австралии, а в итоге стал паршивой овцой в семье миллионеров.
Стоит ли идти дальше? Куда приведет его эта бесконечная борьба?
Он богат, власти у него много, почему же он не чувствует себя счастливым? Или потому, что он слишком жесток и непримирим.
Впервые в жизни он ощутил потребность в более близких и теплых отношениях с людьми. Он взглянул на портрет матери, на фотографию трех ее сыновей — он сам, Джо и Арти. Если бы мать была жива, что она подумала бы о нем? Джо презирает его, Арти — помешанный. Между ними тремя не осталось и следа братской привязанности. Среди его помощников не было ни одного человека, которого он мог бы назвать своим другом.
Джон встал с кресла и поднялся к себе в спальню.
Здесь, под одной крышей с ним, живет его семья — люди, которым следовало бы любить его. Но Джо, видимо, и дела нет до отца. Мэри избегает его, а мать Нелли настраивает всех против него. Джон живет в Куинсленде, озлобленный тем, что его заставили идти по стопам отца, а Марджори, отвергнутая им, растит немецких детей в Германии.
Джон Уэст включил свет в будуаре и начал раздеваться. Он услышал в соседней комнате шаги Нелли. Жгучая ненависть вспыхнула в нем. Почему Нелли так поступила с ним? Почему семья берет от него все, а в обмен не дает ему ни тепла, ни привязанности.
Надев пижаму и вынув револьвер из ящика туалетного стола, он направился в свою одинокую спальню. Он положил револьвер под подушку, лег в широкую двуспальную кровать и погасил свет.
Спать ему не хотелось. На душе у него было неспокойно. Он снова включил свет и взял с ночного столика брошюру. Это была последняя энциклика папы «Квадрагезимо анно», которую недавно принес ему архиепископ Мэлон. Он несколько раз принимался за нее и снова откладывал — смысл не доходил до него.
Он стал читать, пробегая страницу за страницей.
«Хотя современное общество не лишено пороков, но социализм не излечит их…» Совершенно верно.
«…Нельзя быть истинным католиком и в то же время социалистом… Мы с прискорбием взираем, как некоторые из наших чад… покидают лоно церкви и переходят в стан социализма». Он прав! Коммунизм распространяется с быстротой пожара и здесь, в Мельбурне. Даже моя собственная дочь, кажется, сочувствует ему, если судить по ее разговорам.
Джон Уэст не мог сосредоточиться, глаза его скользили по строчкам.
«…Вероотступничество многих рабочих… Мы должны собрать и выпестовать… новое воинство церкви, людей не колеблющихся, твердых. Это будут первые и ближайшие апостолы тружеников, которые сами должны быть тружениками, а апостолы промышленного и торгового мира сами должны быть предпринимателями и торговцами». Вот об этом всегда говорит архиепископ: организовать группы мирян, чтобы они боролись за Христа и церковь, а главное — против коммунизма. «…Возрождение групп Католического действия[2] во всем мире».
Он отложил книгу и выключил свет.
Ночь была теплая и тихая. В просветах между елями мерцали звезды. Невеселые мысли опять стали одолевать Джона Уэста. Часы внизу пробили полночь. Он досадливо поморщился и стал думать о будущем.
Поскольку все вопросы, в которых он заинтересован, решаются парламентами отдельных штатов, с него хватит и власти в этих парламентах. Нужно, конечно, сохранить и некоторое влияние в федеральной организации лейбористской партии, но важнее всего теперь штаты, в особенности штат Виктория. Там у него положение трудное. Лейбористов того и гляди опять вышвырнут. Неда Хорана и еще кое-кого могут выставить из партии за то, что они поддержали план премьера.
У власти — националисты, теперь они называются «Объединенная партия Австралии», но перевес сил зависит от группы Дэвисона, и, пожалуй, можно будет устроить так, чтобы новое правительство не посягало на империю Джона Уэста. К тому же Дэвисон и Нед Хоран договорились между собой и будут добиваться союза между лейбористами и аграриями.
Дела все еще идут из рук вон плохо, но он сумел удержаться: хотя многие его предприятия и терпят убыток, однако общая прибыль теперь уже превышает потери. Скоро дела пойдут лучше, и тогда он добьется всего, чего еще не успел достигнуть в коммерции, спорте и политике.
Всевозможные планы, старые и новые, проносились в его голове. Наконец он заснул беспокойным сном.
Ему снилось, что он очутился один в беспредельной пустыне. Вдруг появилась его мать, братья, жена и дети и стали манить его. Он бросился к ним, но они исчезли.
На следующее утро он в обычный час уже сидел у себя в кабинете и с обычной энергией занимался делами.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ВЛАСТЬ НА УЩЕРБЕ
(1935–1950)
Власть, которой можно беззаконно бросать вызов, близится к своему концу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Где тот человек, который остановился бы в погоне за богатством и властью?

Материальный ущерб, причиненный Джону Уэсту экономическим кризисом, к 1935 году был возмещен с лихвой, но об ущербе, нанесенном его власти падением правительства Саммерса, он долго не мог забыть.
Богачам делать деньги легко, и, как только кризис начал ослабевать, Джон Уэст покрыл все убытки и добавил к своему капиталу еще один миллион.
Многие помогли ему в этом. Во-первых — повезло Теду Тэргуду: к нему явился старатель, который напал на богатую золотоносную жилу в Фиджи, но не имел средств для разработки ее. Тед немедленно создал акционерную компанию, в которой главными пайщиками были он сам, Джон Уэст и Патрик Корн, произвел разведывательные работы и оказался совладельцем богатейших залежей золота в Южном полушарии. Новый прииск уже принес компании миллион фунтов.
Во-вторых, Фрэнк Лэмменс, Патрик Кори и другие приспешники Джона Уэста тоже не дремали: Фрэнк Лэмменс, например, сберег своему патрону сразу пятьдесят тысяч, организовав изъятие кое-каких документов из налогового управления.
Немалую помощь оказали и члены парламента штата Виктория, в особенности Алфред Дэвисон. Не только большинство в палате зависело от голосов его фракции, но отдельные члены ее делили с консерваторами министерские портфели. Усилиями Дэвисона, «своих людей» в лейбористской партии и кое-кого из сговорчивых консерваторов Джон Уэст добился победы над Скаковым клубом штата Виктория. Для вида было назначено расследование порядков в конном спорте, после чего вышел закон, запрещающий состязания пони, которыми усердно промышлял Джон Уэст; два ипподрома пришлось закрыть. Но эти ипподромы вовсе не принадлежали Джону Уэсту — он арендовал их у местного муниципального совета на пару с Бенджаменом Леви, и они давно уже стали ему не нужны: для скачек они были тесноваты, и, кроме того, состязания пони не пользовались любовью публики, ибо в этом спорте ее обманывали еще с большим бесстыдством, чем на бегах, устраиваемых Джоном Уэстом, или на скачках, устраиваемых Скаковым клубом. Но зато Джон Уэст получил разрешение на устройство скачек и сверх того — сто тысяч фунтов в виде компенсации.
Итак, на оставленном Джону Уэсту ипподроме двенадцать раз в году происходили скачки и девятнадцать раз — бега. Открылся еще и новый клуб — Мельбурнское скаковое и беговое общество, где секретарем состоял Годфри Дуайр, президентом — Беннет, а все члены правления во главе с Хораном были ставленниками Джона Уэста.
Большие прибыли приносило ему и овцеводство. Еще в двадцатых годах Тед Тэргуд посоветовал Джону Уэсту купить в Куинсленде участок земли по соседству со скотоводческой фермой, принадлежащей этому штату. План, придуманный Тедом, был чрезвычайно прост: загонять к себе правительственный скот и ставить на нем свое клеймо. С тех пор Джон Уэст стал награждать своих приспешников паями скотоводческих предприятий. Его партнером по разведению овец на Северной территории был архиепископ Мэлон, который утверждал, что принял пай во имя святой церкви. Тэргуд, Алфред Дэвисон и еще многие другие — все они, по милости Джона Уэста, стали скотопромышленниками. Скотоводство оказалось делом прибыльным, однако случались и заминки. Труднее всего было найти хороших управляющих; один из них чуть было не угодил в тюрьму за то, что высек батрака-туземца. Джон Уэст, само собой, заступился за управляющего и избавил его от наказания — не терять же нужного человека, при котором ферма давала отличный доход!
Безработных по-прежнему было множество, но после нескольких забастовок плату за общественные работы повысили. Деловая жизнь медленно пробуждалась от застоя, и кое-кто из рабочих устраивался на заводы и фабрики. Скачки, бега, состязания по боксу и борьбе снова стали собирать публику. Увеличились доходы Джона Уэста и с других предприятий, куда были вложены его деньги. Кроме того, он опять начал усиленно скупать акции, казавшиеся ему надежным помещением капитала.
Даже заботы о собственном здоровье и те способствовали обогащению Джона Уэста. Вычитав из книги «Культура желудка», что полезно вводить в организм грубую пищу, он начал приобретать акции предприятий, где изготовлялись соответствующие продукты, сам питался ими и заставлял своих домочадцев есть их. Его настольный медицинский справочник горячо рекомендовал дрожжи, и Джон Уэст не только ел их, но и скупил несколько дрожжевых фабрик.
Свои политические интриги он плел вокруг парламентов отдельных штатов, преимущественно штата Виктория. В Канберре лейбористы потеряли свои позиции и, по всей видимости, надолго. В лейбористской партии штата Виктория Джон Уэст все еще пользовался большим влиянием, но теперь он поддерживал не только лейбористов. Когда к власти пришли консерваторы, Дэвисон оказал ему неоценимые услуги. В парламенте штата Виктория образовалась неофициальная четвертая партия — партия Джона Уэста, в которую входили члены парламента из всех остальных фракций.
На выборах в марте 1935 года аграрная и лейбористская партии завоевали несколько лишних мест, и Джон Уэст снова вернулся к своим старым планам: создать коалиционное правительство во главе с Дэвисоном.
Но, несмотря на богатство и власть, Джон Уэст в глубине души не был доволен своей судьбой. Он чувствовал себя неудовлетворенным, одиноким. Он смутно понимал причины своего дурного настроения: во-первых, цель его — стать всемогущим — оказалась недостижимой, а во-вторых, семья его распадалась на глазах. И все же он продолжал добиваться богатства и власти и не мог остановиться; все его помыслы были направлены только на это. По-прежнему он не допускал и мысли, что может ошибаться, и не терпел противодействия ни в политике, ни в делах, ни в семейной жизни.
А признаков противодействия было немало. Камерон, который заведовал у Джона Уэста велосипедным спортом, ушел от него и открыл собственное дело на территории Выставки. При этом он увел с собой самых лучших гонщиков. Устраивал он и состязания по боксу, и публика к нему валом валила. Когда однажды Джон Уэст услышал по радио репортаж об организованной Камероном встрече между австралийским чемпионом и боксером, приехавшим из Америки, он затопал ногами и со злостью выключил приемник.
Противодействие оказывал и муниципалитет города Ролстон, который свыше тридцати лет был оплотом власти Джона Уэста. Дело дошло до того, что Джон Уэст отдал приказ провалить выдвинутого лейбористами на пост мэра Колина Ласситера, сына старого Рона, и выгнать его из муниципального совета.
Вскоре после своего поражения на выборах Колин Ласситер посетил Джона Уэста. Бывший мэр Ролстона был весьма представительный мужчина — высокий, безукоризненно одетый; но как только он открывал рот, казалось, говорит не он, а спрятанный поблизости чревовещатель. Вопреки своей наружности преуспевающего бизнесмена, он разговаривал, как керрингбушский хулиган.
Колин Ласситер был человек крайностей: карьеру свою он начал в иезуитском монастыре, но, пробыв там три года, вынужден был уйти, потому что его поведение не нравилось святым отцам. Покинув тихую обитель, он незамедлительно вступил в шайку Тэннера, одновременно состоя членом Католического юношеского общества, где его терпели до тех пор, пока он на благотворительном балу, устроенном церковью, не потушил все огни меткими выстрелами из револьвера. Когда Тэннер умер, Колин записался в лейбористскую партию, надеясь стяжать славу на политическом поприще. После чистосердечного покаяния на исповеди у архиепископа Мэлона Ласситер был снова принят в лоно церкви и прошел в муниципалитет города Ролстон по лейбористскому списку.
Колин Ласситер сидел напротив Джона Уэста в большой гостиной и рассеянно играл своей щегольской шляпой; его глаза, прикрытые стеклами пенсне, избегали взгляда собеседника. Ласситер был благообразен, даже недурен собой; портила его только верхняя губа, которая выступала над нижней так, что рот походил на клюв хищной птицы. Он отличался остроумием, хотя и грубоватым, иногда удивлял друзей великодушным поступком, но чаще проявлял полное пренебрежение к нравственным правилам.
— Говорят, вы заявили на уличном митинге, будто я командую ролстонским муниципалитетом, и чтобы добиться чего-нибудь в Ролстоне, нужно обращаться к Джеку Уэсту?
— А что? Скажете — неправда?
— Я не люблю людей, которые не умеют держать язык за зубами.
— Я помалкивал, Джек, пока вы меня не выкурили.
— Вы зарвались. Это могло повредить моему положению.
— Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Перед кем вы корчите праведника?
— Никого я не корчу! Я не вмешиваюсь в дела моих людей, пока они держатся в границах. Я закрывал глаза на то, что вы кое-что кладете себе в карман, — чем вы хуже других? Но ролстонский муниципалитет стал притчей во языцех. А там творились вещи похуже, о которых люди и не знали. Кто сжигал документы, уличающие преступников? Мне все известно, не беспокойтесь.
— Пусть меня изберут в члены муниципалитета, и я буду молчать.
— Прошу меня не шантажировать, не то я с вами разделаюсь, — негромко, но с угрозой сказал Джон Уэст.
Ролстонский муниципалитет всегда был гнездом взяточников. Заявки на подряды подделывались, выборы фальсифицировались, деньги присваивались. Но никогда в Ролстоне лихоимство так не процветало, как при Ласситере; и в довершение всего Джону Уэсту почти ничего не перепадало.
Однако Ласситер был человек опасный; у него хватило бы дерзости выложить все, что ему известно; он даже, при случае, убить не побоялся бы. Поэтому Джон Уэст хоть и делал вид, что не страшится своего гостя, все же прикидывал про себя, как бы умиротворить его.
— Вы так давно помыкаете людьми, Джек, что, по-вашему, если уж человек попал к вам в лапы, то это до самой смерти. Но я не таковский. Возьмите меня обратно, не то я кое-что порасскажу. Хоть вы и большую силу забрали, а темные делишки и за вами водятся. Понятно?
— Вы сами виноваты, надо меру знать. И не пугайте меня. Видали и почище вас.
— Да и я не маленький. И не из тех, кто желает вам смерти, да замахнуться не смеет. От меня не отвертитесь. Лучше соглашайтесь, у вас и так хватает врагов. Зря, что ли, вы носите в кармане револьвер, а ночью под подушку кладете. Понятно?
Джон Уэст подозревал, что Ласситер просто храбрится, но все же решил пойти на мировую.
— Послушайте, Колин, вы человек умный, не без способностей. Вот что мы сделаем: я скажу там, в ратуше, чтобы вас устроили на какое-нибудь место, на такое, чтобы ничего не делать.
— Вот это другой разговор, Джек. Согласен. Дайте мне такое место, чтобы на всю жизнь, и десять фунтов в неделю.
— Ладно, Колин. Я и сам уже решил вас устроить. Пора бы знать, что Джон Уэст никогда не забывает своих друзей.
Ласситер усмехнулся:
— Я только хотел немножко расшевелить вашу память. Кто вас знает? Дурной пример заразителен.
— Вы, кажется, незнакомы с моей семьей? — сказал Джон Уэст, пропуская мимо ушей последние слова Ласситера. — Оставайтесь, поужинаете с нами.
Ласситер, с шляпой в руке, последовал за хозяином. Тот думал про себя: лучше поостеречься этого субъекта.
Мэри уже легла спать, но Нелли, миссис Моран и Джо сидели в музыкальной комнате возле рояля. Джон Уэст подчеркнуто церемонно представил им гостя.
Джо сказал:
— Здравствуйте.
Миссис Моран сказала:
— Садитесь, мистер Ласситер, дайте сюда вашу шляпу.
Нелли смотрела на Ласситера с опаской, словно ждала, что он сейчас выхватит револьвер и начнет стрелять по лампочкам.
Ласситер приветствовал домочадцев Джона Уэста с такой изысканной вежливостью, что ее можно было принять только за насмешку. Он чинно раскланялся перед дамами и торжественно пожал руку Джо.
— Вот я и познакомился с семьей знаменитого Уэста, — сказал он, подмигивая и ухмыляясь во весь рот.
Догадавшись, что Джон Уэст нарочно привел его, чтобы позлить свое семейство, Ласситер так виртуозно сыграл свою роль, что Джон Уэст сам вздохнул с облегчением, когда гость наконец удалился.
В доме Уэстов за последние годы не произошло никаких перемен, за исключением одной: маленький Ксавье умер.
Случилось это в 1933 году. Ребенок заболел воспалением легких. Нелли, вне себя от тревоги, вызвала врача. Джону Уэсту о болезни Ксавье сообщила миссис Моран.
Всю ночь ребенок задыхался, и мать с бабушкой не отходили от него. Не спал и Джон Уэст. Хоть бы умер поскорей и кончилась эта ужасная история! Почему он сразу не отправил его в приют? С какой стати он кормит и поит приблудного сына какого-то каменщика? И какое ему дело, здоров он или болен, жив или умер?
Но ведь все думают, что это его ребенок. Как-никак этот мальчик в некотором роде член семьи. А если Ксавье умрет? Раз его считают отцом, ему следует попытаться спасти ребенка.
Утром, после целой ночи колебаний, он встал очень рано и спросил миссис Моран о состоянии здоровья Ксавье. Она ответила, что улучшения нет, кризис не миновал и что доктор придет в восемь часов.
— Может быть, этот доктор ничего не понимает. Я сейчас позвоню Девлину, чтобы он немедленно приехал. И наймите сиделку. Нельзя же всю ночь не ложиться.
Заметив благодарный взгляд миссис Моран, он обозлился и проворчал:
— По мне — пусть хоть сию минуту умирает!
Несмотря на искусство и усердие доктора Девлина, к вечеру следующего дня ребенок умер.
У Джона Уэста словно гора свалилась с плеч. Милостью судьбы его дом очистился от этого позорного пятна!
Вся семья горько оплакивала маленького Ксавье; Нелли несколько месяцев почти не выходила из своей комнаты. Ни разу в разговоре с Джоном Уэстом она не упомянула о сыне, но ребенок оставил неизгладимый след в их доме. Смерть его ничего не изменила. Напротив, она вырыла между супругами Уэст пропасть еще более глубокую и непроходимую, чем его рождение.
В ту пору Джону Уэсту все чаще и чаще приходилось подавлять в себе желание хоть немного сблизиться с женой и детьми. Но он устоял перед искушением и, чтобы избавиться от мучительного чувства одиночества, подружился с Вероникой Мэгайр.
Это была замужняя женщина, уже немолодая, но хорошо сохранившаяся, страстная любительница спорта. О футболе, боксе, скачках и бегах она рассуждала с искренним увлечением и солидным знанием дела.
Джон Уэст познакомился с ней два года назад и с первого взгляда пленился ею. Вот на такой женщине ему нужно было жениться! Она понимала его, ценила по достоинству. Никогда еще ни с кем не чувствовал он себя так легко и свободно.
В глазах Вероники Джон Уэст был человек сильный, властный, очень замкнутый. С самого начала она решила проникнуть сквозь броню внешней сдержанности и добраться до истинного нутра этой загадочной личности. Ей нравилось подшучивать над ним — на что никто другой не осмелился бы, — и это забавляло его. Она слепо верила всем россказням о его щедрости, мужестве, проницательности и несокрушимой воле; восхищалась его легендарным восхождением от нищеты к богатству.
Сначала они встречались только в присутствии ее мужа или на людях. Но очень скоро Джон Уэст дружески посоветовал ей обзавестись собственной машиной, помимо автомобиля мужа. Разумеется, автомобиль подарил ей Джон Уэст, и она часто возила его в город и обратно.
Говорили они преимущественно о спорте. Встречи с ней неизменно доставляли ему удовольствие, и он всегда с нетерпением ждал предстоящего свидания. Несмотря на возраст, он не прочь был поухаживать за Вероникой. Как-то вечером, когда машина остановилась у дверей его дома, он потянулся поцеловать ее. Но она ласково отстранила его и сказала:
— Бесстыдник! Таким старикам, как мы, это уже не к лицу.
Джон Уэст однажды предложил ей вместе поехать на стадион. Она согласилась и с тех пор сопровождала его туда каждую субботу. Иногда к ним присоединялся муж Вероники. Он не возражал против странной дружбы между женой и Джоном Уэстом. Он знал, что Вероника никогда не перейдет границ.
Нелли Уэст в конце концов заподозрила неладное. Из окна своей комнаты она часто видела, как они остаются сидеть в подъехавшей к дому машине и несколько минут оживленно разговаривают между собой. Ревность кольнула ей в сердце, но она тут же отмахнулась от этой мысли. Какое ей дело? Муж для нее — ничто. Она ни слова не сказала ни ему, ни кому бы то ни было и перестала думать об этом.
Джон Уэст видел в Веронике своего единственного искреннего друга. Часы, проведенные с ней, дарили отдых и отраду. Он даже стал посвящать ее в свои дела, и она оказалась внимательной и толковой наперсницей.
Вероника Мэгайр твердо знала, какого рода дружба с Джоном Уэстом ей нужна. Она пресекала все его попытки изменить характер их отношений, и Джон Уэст наконец покорился.
* * *
Хотя власть Джона Уэста заметно шла на убыль в других сферах его деятельности, свое влияние на парламент штата Виктория он сохранял полностью.
Однажды, вскоре после выборов 1935 года, несколько политических деятелей, один за другим, явились к нему в контору.
Первым пришел Нед Хоран.
Пышная шевелюра Неда поседела и, казалось, стала еще гуще; поседели и усы. Несмотря на худобу, которую подчеркивал его высокий рост, вид у него был цветущий и преуспевающий.
В 1932 году Хорана исключили из лейбористской партии за участие в плане премьера, но он сумел удержать свой мандат в качестве независимого депутата, а затем примкнул к аграрной партии. — Это неплохо, Джек, — говорил он Джону Уэсту. — Ведь мой округ — сельский. Как лейбористского кандидата меня могут провалить. Для меня гораздо лучше состоять в аграрной партии.
Поздоровавшись с Джоном Уэстом, Нед Хоран сразу приступил к делу: нужно замолвить за него словечко Дэвисону; он просил премьера дать ему портфель главного секретаря кабинета, но тот отказался.
— Очень сожалею, Нед, — ответил Джон Уэст, — но главным секретарем будет Том Трамблуорд.
Джон Уэст произнес эти слова бесстрастно, почти скучающим тоном. Он привык к тому, что может по своей прихоти раздавать министерские портфели, и сознание власти больше не опьяняло его.
Теперь у Джона Уэста волосы были такого же тусклого стального цвета, как глаза и костюм. Он отказался от борьбы с непокорной прядью и стриг волосы коротко, точно прусский офицер. Выражение угрюмой злобы не сходило с его лица, но взгляд по-прежнему был проницательный и хитрый; и хотя ему уже стукнуло шестьдесят пять лет, ему нельзя было дать больше пятидесяти.
Хоран смущенно пробормотал:
— Ну что ж, не взыщите, я ведь только спросил, — и откланялся.
Затем явился невысокий брюнет лет сорока, с энергичным подбородком и узким удлиненным черепом — Пэдди Келлэер, секретарь лейбористской партии штата Виктория.
— Т-так в-вот, мистер Уэст, — заикаясь, начал Келлэер, — мы опять у власти. Хотя, конечно, нам придется подыгрывать Алфи Дэвисону.
Заикание мешало Пэдди Келлэеру выступать на собраниях и митингах, но он занимал прочное место в верхней палате и пользовался большим весом среди лейбористов.
Когда в 1928 году Келлэер уехал из Мельбурна в поисках работы, он был всего-навсего рядовым членом лейбористской партии, но пять лет спустя Джон Уэст дал ему должность секретаря лейбористской организации. Обосновавшись в Йаллурне, он стал усердно орудовать среди рабочих-электротехников в качестве профсоюзного деятеля, секретаря местной лейбористской организации и казначея футбольного клуба. Правда, ходили кое-какие слухи о слишком вольном обращении Пэдди Келлэер а с фондами клуба, но никто не мог отрицать его заслуг перед лейбористской партией.
Знакомство его с Джоном Уэстом произошло не совсем обычно. Однажды у Келлэер а тяжело заболел ребенок. Келлэер вызвал Джона Уэста по междугородному телефону и попросил устроить ребенка в бесплатную католическую больницу; чем черт не шутит — может быть, Джон Уэст даст ему какой-нибудь пост повыше! Келлэер получил и больничную койку для ребенка, и разрешение посетить Джона Уэста.
Джон Уэст и раньше слышал о Келлэере, а при личном свидании сразу разглядел в своем заикающемся собеседнике хитрого и дальновидного политикана. По заведенному порядку, Джон Уэст прежде всего подверг Келлэера испытанию: как он относится к законам об азартных играх и продаже спиртных напитков? Отвечая на этот вопрос, Келлэер постарался угодить Джону Уэсту.
Решив поддержать Келлэера, Джон Уэст лишний раз доказал свое безошибочное чутье при выборе нужных людей. Келлэер быстро постиг науку предвыборных махинаций и проявил в этом деле даже бóльшую сноровку, чем сам Фрэнк Лэмменс. Он умело комбинировал переплетающиеся интересы лейбористской партии, Джона Уэста, виноторговцев, католической церкви, всех и вся, кому он считал нужным услужить. Словно искусный конькобежец, удерживал он равновесие на тонком льду между левым крылом Блекуэлла и центром лейбористской партии, с одной стороны, и партией Джона Уэста и католической фракцией, отчасти совпадающими, — с другой. Он прекрасно умел пользоваться тем, что при выдвижении кандидатур многие лейбористы голосовали дважды — как члены лейбористской партии и как члены профсоюза. Подавали голос и не члены партии, а также отсутствующие и даже покойники. Не меньшую ловкость проявлял Келлэер в подготовке ежегодного съезда лейбористской партии: делегатами почти неизменно оказывались «подходящие» люди. Для пущей верности на съезд иногда являлись делегаты от несуществующих местных организаций. «Гибкость» Келлэера была необычайна: он мог сегодня сотрудничать с коммунистами, а завтра — с католиками. Лейбористы, знавшие о методах, которыми действовал Келлэер, только пожимали плечами: конечно, Пат — жулик, но он славный малый, и нет сомнений, что он вдохнул жизнь в их организацию.
Теперь Келлэер пришел к Джону Уэсту, чтобы обсудить с ним деликатнейший вопрос о коалиционном правительстве. Он объяснил, что многие лейбористы будут против коалиции с аграрной партией, но им можно заткнуть рот двумя пунктами программы Дэвисона: повышение оплаты общественных работ и мораторий на долги фермеров.
Джон Уэст терпеливо слушал, не подсказывая Келлэер у слова, когда тот начинал заикаться, — пусть помучается. Они наметили тактику лейбористской партии и распределение портфелей, а затем Джон Уэст внес обещанную сумму в партийный фонд. Фондами распоряжался Пэдди. Лепту он собирал со всех без разбору, подчас оставляя малую толику себе — иногда с разрешения жертвователя, а то и самочинно, без ведома своих коллег. Он уже приобрел три доходных дома и легковой автомобиль, и на текущем счету у него лежала вполне приличная сумма.
К концу разговора Джон Уэст спросил Келлэера, считает ли он возможным на заседании фракции провалить кандидатуру Карра, лидера лейбористской партии. Келлэер уклончиво ответил, что надо бы раньше подыскать подходящего соперника.
— Что вы скажете о Томе Трамблуорде или Билле Брэди?
— Бросьте, приятель, — возразил Келлэер, нечаянно называя Джона Уэста «приятелем», как он привык называть всех своих собеседников — и друзей и врагов. — Кто же ставит на лошадь, у которой нет никаких шансов? Трамблуорд был уже лидером и не удержался, а Брэди не пользуется популярностью.
— Все равно, я хочу свалить Карра.
— Зачем убивать курочку, которая несет золотые яички, мистер Уэст? Если сейчас выступить против Карра, может получиться раскол в партии.
Келлэер продался Джону Уэсту не целиком и полностью; где-то в глубине души, прикрытая плотной завесой цинизма, еще тлела искра прежней веры в лейбористское движение; кроме того, он делал ставку не на одного Джона Уэста. Келлэер считал, что Карр — единственный человек, способный держать в руках пестрое скопище людей, составляющих лейбористскую партию. Бывший член социалистической партии Тома Манна, Карр, едва пройдя в парламент, заметно поправел, и теперь этот ловкий политикан имел сторонников во всех лейбористских группировках. Хоть он и угождал всемогущему Джону Уэсту, но все же не хотел терять своей самостоятельности, и поэтому Джон Уэст решил убрать его.
По тону Келлэера Джон Уэст понял, что тот виляет. Пришлось отложить падение Карра. Досадно, но что же делать?
Келлэер распрощался и ушел, а на смену ему явился другой деятель лейбористской партии — Уильям Брэди, хулиган и сквернослов, лишенный не только чувства юмора, но и вообще всяких чувств. Он был хорошо одет и держал себя прилично, но вороватые глаза и плотно сжатые злые губы выдавали его истинную натуру. Как и Келлэер, Брэди был католик.
Брэди прошел в парламент на недавних дополнительных выборах, состоявшихся по случаю смерти Боба Скотта. В последние годы своей жизни Боб Скотт окончательно спился и впал в старческий маразм. Джону Уэсту он уже не приносил никакой пользы — это был один голос за него в парламенте, и только.
И опять, выбрав Уильяма Брэди в преемники Скотту, Джон Уэст проявил обычную проницательность. Для Брэди политика была вопросом карьеры, а не убеждений. Пока еще новичок в парламенте, он уже зарился на все блага, которые сулила успешная политическая карьера, и он был твердо уверен, что никто не мог содействовать его успеху больше, чем Джон Уэст.
К политике Брэди пришел через профсоюзное движение. В бытность свою секретарем союза табачников он ораторствовал, как лев, но поступал, как хитрая лиса, во всех случаях, когда члены союза принимали неугодное ему решение; однажды он даже сжег протокол заседания, чтобы не выполнять постановление союза.
Получив мандат, Брэди добился назначения на должность мирового судьи, — не потому, что хотел вершить правосудие, а для того, чтобы иметь право проверять присылаемые по почте избирательные бюллетени.
Сегодня Джон Уэст вызвал к себе Брэди по серьезному делу: надлежало пресечь деятельность Джека Камерона, устроителя велосипедных и боксерских состязаний. Уже много месяцев Джон Уэст искал средства изгнать Камерона с территории Выставки. Когда Брэди собрал подписи под жалобой окрестных жителей на то, что шум моторов нарушает их покой, Камерон отменил мотоциклетные гонки. По наущению Джона Уэста, Брэди уговаривал администрацию соседней католической больницы тоже подать жалобу, но пока что Камерон по-прежнему устраивал состязания и отбивал публику у Джона Уэста.
— Ну как? Придумали что-нибудь? — с места в карьер спросил Джон Уэст.
— Нет, мистер Уэст. Но я стараюсь.
— А я придумал. Прочтите вот это.
Брэди протер очки носовым платком и внимательно прочел отпечатанный на машинке листок.
— Гм… Какое же это имеет отношение к Камерону?
— Очень большое: запрещается огораживать общественный парк для устройства ипподрома или стадиона.
— Верно. Но ведь закон-то издан в 1875 году!
— Так что же? Мой адвокат говорит, что закон все еще действует. Когда соберется палата, вы внесете запрос. Тогда Камерону крышка. Вы потребуете, чтобы правительство заставило правление Выставки запретить Камерону пользоваться ее территорией. Я попрошу Дэвисона назначить вас членом правления, и вы будете следить, чтобы там больше не устраивали спортивных соревнований. Дэвисона я жду с минуты на минуту, так что вам лучше уйти.
Через четверть часа премьер-министр Алфред Дэвисон собственной персоной сидел в кресле напротив Джона Уэста.
Дэвисон был маленький, толстенький и добродушный; лицо его так и просилось на карикатуру: нос пятачком, пухлые щеки, большие заостренные кверху уши, лысина во всю макушку — ни дать ни взять жизнерадостная свинка.
Но сейчас ему явно было не по себе. Впервые он очутился в кабинете пресловутого Джона Уэста. Не нравилось ему это; он предпочитал, чтобы закулисные воротилы сами приходили к нему. Подумать только, какое нахальство: Лэмменс позвонил ему по телефону и прехладнокровно сказал: «Мистер Уэст желал бы поговорить с вами». Кто же из них премьер — он или Джон Уэст? И наконец не только Джон Уэст держит в руках власть. Надо считаться и с другими силами — металлургический концерн «Брокен-Хилл», транспортные корпорации, пивоваренные компании; но, увы, все эти группы тяготеют к консерваторам. Ничего не поделаешь. Хочешь не хочешь, а заигрывай с Джоном Уэстом, потому что только он может обеспечить коалиционному правительству поддержку лейбористов. К тому же Джон Уэст — человек щедрый, этого у него не отнимешь.
Джон Уэст сразу понял, что Дэвисон, не в пример другим политическим деятелям, перебывавшим в его кабинете, не станет лебезить и угодничать. Чтобы ублажить премьера, он начал с того, что поздравил его с победой. Но Дэвисон только отмахнулся. Он не страдал излишним тщеславием, и лестью его купить было нельзя. Дэвисон полагался только на свой здравый смысл и проницательность. Он любил хвастать тем, что за всю свою жизнь не прочел ни одной книги. Для него политика была игрой. Парламентские интрига и махинации, обработка избирателей, азартная борьба за влияние и власть — все это увлекало его. А кроме того, политика — солидная карьера и выгодный бизнес. В политике не нужны ни цели, ни стремления — достаточно здравого смысла и могущественных покровителей.
Отец Дэвисона держал лавочку в провинциальном городишке. Алфред решил заняться сельским хозяйством, но очень скоро понял, что мелкому фермеру не выбиться из нужды, и решил попытать счастья в политике; основной пункт его программы касался положения мелких арендаторов, разоряемых закладными.
В 1919 году, когда он выступил соперником Трамблуорда, до него дошли слухи, что таинственная сила, именуемая Джон Уэст, недовольна Трамблуордом. Дэвисон обратился к Джону Уэсту, и тот благословил его на борьбу. Потом целых десять лет Джон Уэст почта не замечал его, пока не обнаружил, что Дэвисон прибирает к рукам парламент штата Виктория; в обмен на положение лидера он привел обратно в ряды аграрной партии отколовшуюся от нее группу. С тех пор Джон Уэст строил все свои планы с расчетом на Дэвисона. А тот отлично знал это — недаром его звали Ловкач Алфи. Ну что ж, пускай, но только в лапы Джону Уэсту он не дастся.
Джон Уэст и премьер занялись распределением портфелей. Дэвисон упирался. Нет, Трамблуорд не будет главным секретарем кабинета. На этот пост Дэвисон наметил члена аграрной партии, которого выкинули из лейбористской партии вместе с Хораном.
Переубедить его не удалось.
— Ну, ладно, — сказал Джон Уэст. — В таком случае я хочу, чтобы Годфри Дуайр получил личное дворянство и был назначен начальником полиции вместо Блейра. Говорят, Блейр подаст в отставку после заключения правительственной комиссии.
— Дворянство Дуайру я постараюсь добыть, ко вряд ли он получит должность начальника полиции. Я уже написал в Лондон, чтобы нам прислали кого-нибудь из Скоттленд-ярда.
Джон Уэст нахмурился. Дорого обходилась ему власть, которую он приобрел через Дэвисона. Дэвисон знал, что он незаменим. Джону Уэсту очень хотелось стукнуть кулаком по столу и заговорить тоном хозяина, но он вовремя удержался.
— Вы могли бы еще изменить это…
— Боюсь, что нет, мистер Уэст. После правления Блейра все хотят основательной чистки. Работник Скотленд-ярда восстановит доверие к полиции.
— Но Дуайр — человек безупречной честности, я…
— Очень сожалею, мистер Уэст, — не сдавался Дэвисон. — Не забудьте: я только в том случае могу быть вам полезен, если буду делать свое дело хорошо и если останусь у власти. Правительства из одних лейбористов у нас теперь долго не будет. Я был избран как поборник увеличения оплаты общественных работ и моратория для фермеров. Эту программу я проведу. Я должен это сделать. А кроме того, я должен добросовестно управлять штатом.
Дэвисон взял со стола свою серую мягкую шляпу.
— Мне пора, мистер Уэст. У меня очень много дел.
С этими словами он удалился.
Джон Уэст немного посидел в одиночестве, раздумывая о своем протеже. Дэвисона надо обломать. Это будет нелегко, но ведь вся карьера Дэвисона зависит от него, Джона Уэста. Как-нибудь он с ним справится.
Внезапно он вспомнил об утреннем разговоре со своей дочерью Мэри. Он нажал кнопку звонка, и через минуту в кабинет вошла молодая секретарша.
— Позовите мистера Лэма, — сказал Джон Уэст.
— Послушайте, Дик, — начал он, когда Лэм явился, — сегодня утром приходила моя дочь Мэри. Просила уступить спортивный зал на вторник для митинга в защиту мира. Я позволил. По ее словам, вы отказали ей. Я вам звонил, но вас не было на месте. В чем тут дело?
— Видите ли, мистер Уэст, это организация красных: движение против войны и фашизма или что-то в этом роде. Киш, которому хотели запретить высадку, и Гриффин из Новой Зеландии — они оба здесь. Этот митинг устраивают красные. Вы были в Сиднее. Я решил отказать в помещении.
У Джона Уэста чуть не сорвалось с языка: «И хорошо сделали: моя дочь обманула меня». Вместо этого он сказал:
— Так вот, я дал разрешение. Во вторник зал свободен. На спортивные состязания приходят самые разные люди. Надо со всеми жить в мире.
Когда Лэм вышел, Джон Уэст позвонил Фрэнку Лэмменсу.
— Фрэнк? Вот что: моя дочь Мэри путается с какой-то организацией, что-то вроде движения против войны и фашизма. Этот Киш будет выступать на митинге. По-видимому, тут замешаны красные. Я хочу, чтобы за ней последили. Вы можете это устроить?
— Конечно, мистер Уэст. Может быть, Пэдди Райан возьмется.
— Отлично. И не теряйте времени. Держите меня в курсе дела.
Джон Уэст не ошибся, говоря, что его дочь «путается» с движением против войны и фашизма: Мэри была членом исполнительного комитета и от его имени просила отца предоставить помещение для митинга.
Со времени демонстрации безработных Мэри Уэст стала больше интересоваться политикой, причем все сильнее проникалась левыми убеждениями. Как это произошло, она и сама не сумела бы толком объяснить.
Все началось, пожалуй, с памятника в Сент-Килдарод. Когда начали возводить памятник, Мэри сразу окрестила его «бездонной бочкой». Почему в память погибших героев нужно ставить бесполезный монумент? Почему не больницу? Или школу? Потом коммунисты сказали в точности то, что она думала. Но они сказали больше: почему вернувшиеся с фронта солдаты должны возводить памятник своим павшим товарищам за нищенскую оплату, установленную для общественных работ? Коммунисты возглавили забастовку и добились более высокой оплаты. Они говорили: если уж ставить памятник, то пусть платят строителям сколько полагается, а не как безработным, получающим пособие.
Это было в 1933 году. А в начале 1935 года Мэри участвовала в спектакле, который давал Рабочий драматический кружок, и познакомилась с Беном Уортом.
Роль, которую исполнял Бен Уорт, была второстепенная, и актерским талантом он явно не отличался, но Мэри сразу заметила, каким уважением и любовью его окружают. По-видимому, он был чем-то вроде политического руководителя кружка.
Бен понравился Мэри. Он был широкоплечий, складный, лицо смугловатое, с правильными чертами. Одевался он хорошо, но умел носить вещи небрежно, что никогда не ускользает от внимания женщин; пышные черные волосы красиво падали на лоб. Держался он спокойно и уверенно.
Мэри, уже несколько лет никем не увлекавшаяся, очень скоро поняла, что по уши влюбилась в Бена. Она узнала, что он был простым рабочим на текстильной фабрике в Сиднее; потом он вступил в лейбористскую партию, а после переезда в Мельбурн — в коммунистическую. Революционер! Как это романтично! А женат ли он? Она навела справки: нет, не женат, но неприступен.
Репетиции подходили к концу, и Мэри с тоской думала о том, что их знакомство скоро оборвется. После спектакля обнаружилось, что Бен думает о том же. Он подошел к ней: не хочет ли она поужинать с ним? Конечно, хочет!
Они зашли в кафе и сели за столик друг против друга. Бен казался смущенным и долго мялся, но наконец изложил Мэри суть дела: создается движение против войны, и он — один из его организаторов. Сейчас борьба против войны — самый насущный вопрос. Муссолини и Гитлер — фашистские диктаторы, ставленники миллионеров. Они хотят развязать войну. У них есть сторонники в Англии, Японии, Франции, Соединенных Штатах и даже в Австралии. Передовые люди всего мира мобилизуют свои силы для борьбы против фашизма и войны. Он как коммунист активно участвует в этой борьбе. В нее включаются люди разных общественных групп — священники, писатели, ученые, профсоюзные деятели — всех их объединяет стремление сохранить мир.
— Я хочу, чтобы вы тоже боролись против войны и фашизма, — сказал он в заключение. — Согласны, Мэри?
Разумеется, согласна; она будет бороться всеми силами. Если ее отец — Джон Уэст, это вовсе не значит, что она на стороне миллионеров. Ей уже давно опостылела ее бессмысленная, пустая жизнь. И она всегда считала, что правы бедные, а не богатые. Теперь наконец у нее будет дело, которому стоит посвятить себя. Может ли быть более высокая цель, чем бороться против войны?
Они стояли на трамвайной остановке, и Мэри вся трепетала от радости. Она обрела смысл жизни, и рядом с ней был человек, которого она могла полюбить по-настоящему. Мэри не отделяла одно от другого — она готова была отдать жизнь и за него и за дело, которому он служил.
Подошел трамвай, и Бен помог Мэри сесть в вагон; от прикосновения его теплой, сильной руки у нее сладко заныло сердце.
— Спокойной ночи, Мэри, — оказал он ласково. — Надеюсь, вы никогда не пожалеете о том, что приняли такое решение.
— Никогда не пожалею, я в этом уверена. Спокойной ночи, Бен.
Всю ночь Мэри не спала и думала о новой жизни, которая открывалась перед ней. В пьесе она играла роль девушки из рабочей семьи. Она вжилась в роль и, хотя спектакль был поставлен наспех, по-любительски, все же чувствовала какое-то внутреннее родство с людьми, действовавшими на сцене.
А теперь у нее есть дело, есть цель жизни. О фашизме она знала мало, но необходимость бороться против войны очевидна и не требует объяснений.
Но больше всего Мэри думала о Бене Уорте. Наконец-то она полюбила! Она мечтала о нем страстно, самозабвенно. Она отдаст ему всю свою любовь, всю себя, самую жизнь, она будет для него возлюбленной, матерью, товарищем. Он живет только для других, никогда не заботится о себе. И он одинок. Ему нужна женщина, которая любила бы его, боролась бок о бок с ним. Этой женщиной будет она, Мэри Уэст.
Мэри с увлечением принялась за дело. Она даже поступила на службу в один из комитетов, отказавшись от жалованья; она сказала, что считает за честь предложить свои услуги безвозмездно. Впервые в жизни она чувствовала себя полезным членом общества. Она выполняла канцелярскую работу, устраивала митинги, выпускала листовки, принимала деятельное участие в организации антивоенной конференции, на которую ждали делегата Чехословакии — писателя Эгона Киша.
Когда свыше двухсот человек поднялись на борт судна, где Киш был интернирован, вместе с ними поднялась и Мэри и так же, как и все, кричала: «Требуем Киша! Пусть Киш сойдет на берег!»
Встав на носки, вытянув шею, Мэри старалась разглядеть приезжего через головы окружавших его людей. Наконец она увидела его смуглое обветренное лицо, дышавшее мужеством. Мэри подумала, что его острый, чуть насмешливый взгляд все и вся видит насквозь.
Толпу заставили уйти с парохода, но на пристани к ней присоединились новые сотни людей, и все дружно подхватили крик: «Требуем Киша!» Никогда еще Мэри не испытывала такого волнения, такого глубокого негодования.
На другой день она опять стояла на пристани среди тысячной толпы. Судно уходило, увозя Киша в Сидней. Когда отдали концы, Киш появился на палубе. Все глаза устремились на него. Раздались крики «ура»; даже матросы на английских военных кораблях, прибывших по случаю столетней годовщины Мельбурна, приветствовали Киша.
Вдруг толпа ахнула: Киш стоял на поручнях.
— О, господи! — простонал кто-то. — Что же он делает!
И тут Киш прыгнул. Он пролетел двадцать футов, ударился о камни пристани и остался лежать. Убился! Убился насмерть! Полицейские проворно окружили его, подняли и понесли обратно под гневные крики толпы. Оказалось, что Киш сломал ногу. Судно ушло в Сидней с искалеченным пленником на борту.
Потом состоялся митинг под лозунгом; «Киша — на берег!»
Ричард Лэм отказал комитету защиты Киша, когда к нему обратились с просьбой сдать помещение Мельбурнского стадиона.
— Помещение Выставки нам тоже не дают, — сказал Бен Уорт. — А других подходящих помещений нет, остальные слишком малы. Как вы думаете, не поговорить ли вам с вашим отцом?
Как это просто: поговорить с отцом! Только ее восхищение Кишем и вера в борьбу за мир помогли ей преодолеть страх и обратиться с просьбой к Джону Уэсту.
Митинг наконец состоялся. Мэри, вместе с другими организаторами, пришла задолго до начала. Но уже через несколько минут людской поток, все ширясь и ширясь, хлынул в огромный спортивный зал и заполнил его до отказа.
Этот митинг навсегда остался в памяти Мэри. Первым выступил с речью Морис Блекуэлл; когда он кончил, председатель поднялся и громко спросил:
— Джералд Гриффин здесь?
Наступила мертвая тишина. Как мог Гриффин, новозеландский делегат, очутиться в этом зале? Ведь ему тоже не разрешили сойти на берег. Правда, говорят, что он тайно перешел границу и вчера выступал в Сиднее; но все-таки…
Высокий худощавый человек в черном пальто и черной шляпе быстрыми шагами подходил к трибуне.
— Я — Джералд Гриффин.
Репортеры только рты разинули. Полицейские растерялись и словно приросли к полу. Толпа восторженно кричала и хлопала. Гриффин сказал несколько слов и исчез в толпе, прежде чем полиция опомнилась.
Потом, несколько дней спустя, состоялось незабываемое факельное шествие. Тысячи людей, и среди них Мэри Уэст, высоко подняв пылающие факелы, прошли через весь Мельбурн на берег Ярры, провожаемые любопытными взорами прохожих.
Киш будет выступать! Он подал апелляцию на приговор суда, объявившего его иммигрантом, не имеющим разрешения на въезд в Австралию. Приговор был отменен, но этим мытарства Киша не кончились. Когда он покинул судно на носилках, с ногой в гипсе, его арестовали и поместили в тюремную больницу. Позже он был подвергнут экзамену по гэльскому языку (один из немногих европейских языков, которых Киш не знал); и все же ему удалось вырваться.
Огромная толпа собралась на берегу Ярры, чтобы послушать Киша. Никогда Мэри не забудет этого митинга! В вечерней прохладе, при свете факелов, они пели и слушали речи ораторов. Появление Киша на костылях вызвало бурю восторга.
— В газетах пишут, — начал он, — что я говорю на ломаном английском языке. Да, я ломаю английский язык, и я сломал себе ногу, но дух мой не сломлен, ибо я могу выполнить возложенное на меня поручение и предстать вестником мира перед австралийским народом.
Его слушали затаив дыхание. Он испытал на себе ужасы гитлеровских застенков и теперь рассказывал о беспримерном мужестве, с каким немцы-антифашисты борются против фашистского варварства. Он предупреждал об опасности политической пассивности, называл имена немецких ученых и писателей, которые из ложно понятого гуманизма оставались нейтральными, пока сами не попали в руки палачей. Он предостерегал австралийцев, что в любой капиталистической стране может произойти то же, что в Германии. Он призывал их не преуменьшать опасность, которую несут человечеству фашизм и война.
— Уничтожайте эту опасность в зародыше, товарищи, боритесь против нее всеми силами!
Бен Уорт, сидя на траве рядом с Мэри, смотрел то на нее, то на Киша. В неверном свете факелов ее взволнованное лицо казалось ему необычайно красивым; она не сводила широко открытых блестящих глаз с оратора. Бен тронул ее за руку. Она медленно повернула к нему голову, улыбнулась и снова устремила взгляд на Киша.
Киш кончил свою речь и поднял сжатый кулак.
Долго простоял он так, и толпа в торжественном молчании не сводила с него глаз. Потом кто-то всхлипнул, кто-то глубоко перевел дух, раздались шумные аплодисменты, громкие приветственные крики. Мэри Уэст была в числе тех, кто плакал, — она плакала от безотчетной радости, переполнившей ее сердце.
Невысказанное чувство, соединившее Мэри и Бена Уорта, становилось все глубже и сильнее. Они виделись каждый день, часто обедали вместе, иногда ходили в театр. Мэри и без слов понимала, что Бен любит ее, как всякая женщина узнает, что она любима, по едва уловимым приметам: заботливость, чуткое внимание, ласка в голосе и жестах, ответная улыбка, теплое прикосновение руки.
Когда наконец Бен заговорил о своей любви, он сделал это так просто, как Мэри и ожидала. Однажды, в субботу вечером, она позвала Бена к себе. Отец, по обыкновению, был на стадионе; миссис Моран, теперь дряхлая старушка, рано ложилась спать, а мать вместе с Джо ушла на церковное собрание. Мэри и Бен сидели в маленькой гостиной. Мэри играла на рояле, а Бен напевал, потом они пили пиво, разговаривали о политике, о литературе, обсуждали свою работу в движении за мир; и все время Мэри ждала, что он заговорит о них самих, об их взаимной любви.
Наконец Бен сел рядом с ней на диван, зарылся лицом в ее золотистые волосы и прошептал: — Мэри, я горжусь тобой. Ты просто необыкновенная девушка. Я люблю тебя. Люблю, Мэри.
Она повернула к нему голову, румяный влажный рот приоткрылся, глаза сияли. — Бен, милый, я тоже люблю тебя. Я всю жизнь буду тебя любить!
Он крепко прижал ее к себе и поцеловал в нежные податливые губы. Потом взял ее лицо в обе ладони и серьезно посмотрел ей прямо в глаза.
— Мэри, может быть, сейчас не надо бы об этом говорить, но, видишь ли — я коммунист. Ты знаешь, что это значит: все мое время, все мои силы, самая жизнь принадлежат партии. И быть коммунистом далеко не безопасно. Не жди спокойной семейной жизни. Но если ты вступишь в партию, мы будем вместе…
— Бен, я многое узнала, многое поняла. Ты же знаешь. Я верю в коммунизм. Теперь жизнь моя полна, и я счастлива. Если ты считаешь меня достойной, я вступлю в партию.
— Считаю достойной? Конечно, дорогая!
— Ах, Бен, как переменилась моя жизнь! А все ты. Теперь у меня есть цель, за которую я хочу бороться, и есть друг, который будет со мной в этой борьбе. — Но вдруг Мэри спохватилась: — Ой, как поздно! Бен, ты замечательный, но нельзя, чтобы тебя здесь застали. Мои родители и так сердятся на меня за то, что я участвую в антивоенной кампании, особенно отец. Они верят всему, что пишут про большевиков. Если они увидят, что я сижу на диване и целуюсь с коммунистом, они свезут меня в сумасшедший дом. Иди, милый, право же, пора.
После продолжительного поцелуя Бен наконец ушел. Мэри убрала стаканы и пустые бутылки из-под пива и едва успела подняться к себе, как вернулись домой ее мать и брат.
Потом Мэри услышала, как у подъезда остановилась машина и через минуту отъехала. Захлопали двери — Джон Уэст приехал с очередного спортивного состязания.
Мэри думала о Бене и улыбалась от счастья, но вместе с тем ее терзала мысль, что возврата нет. Она сожгла все мосты, и окончательный разрыв с отцом неизбежен.
* * *
Джон Уэст был не в духе. Повсюду он натыкался на непокорность и день ото дня становился сварливее.
Немало злила его и Мэри. Что она задумала? Фрэнк Лэмменс ничего не узнал, кроме того, что она много времени отдает движению против войны и фашизма.
Как-то в воскресный день он позвал ее в гостиную. И прямо, без обиняков, сказал ей, что она его обманула, когда просила помещение для митинга. Все это устраивают коммунисты. Он не допустит, чтобы его дочь работала на них. Мэри возразила, что движение против войны и фашизма — не коммунистическая организация; что цель его — научить людей бороться против угрозы новой мировой войны, показать им, какую опасность таит в себе фашизм, победивший в Германии, Италии и Японии.
— Муссолини нам не страшен, — сказал Джон Уэст. — Не мешало бы и нам завести такого. Это хороший диктатор. Вот у меня книжечка — там написано, сколько добра он сделал в Абиссинии.
Он вытащил из кармана брошюру и бросил ее на стол.
Мэри, не взглянув на брошюру, продолжала: — Муссолини хочет войны. Он превратил Италию в тюрьму по приказу миллионеров и Ватикана. — Не успела она произнести эти слова, как почувствовала, что наступает развязка.
— Ах, вот как! Значит, ты против миллионеров и католической религии? Я жизнь положил на то, чтобы выбраться из нищеты и стать миллионером. А Ватикан — колыбель нашей религии. Ясно — ты работаешь с красными. Но ты это бросишь!
— Нет, папа, не брошу.
— Бросишь! Ты участвовала в демонстрации за мир, а вот в крестном ходе я тебя что-то не видел! Ты сделаешь так, как я велю, или уйдешь из моего дома!
— Хорошо, папа, хоть сейчас.
Джон Уэст растерялся. Он же любит свою дочь, она не смеет покинуть его! Почему она хочет делать то, чего он не может ей позволить?
— Ты останешься здесь, это твой дом, — неуверенно пробормотал он, глядя в пол. Когда он поднял голову, Мэри уже не было в комнате.
Сыновья Уэста, Джон и Джо, тоже бунтовали. Джо весьма легкомысленно относился к своей работе и на все требования отца остепениться отвечал беспечной улыбкой. Джон вернулся на старое место в Сидней, после того как наладил молочное дело в Брисбэне, но нисколько не интересовался своей службой. К тому же он стал пить. Когда Джон Уэст навещал сына в Сиднее, он не мог не замечать, что от Джона так и разит перегаром, а тот, под влиянием винных паров, держал себя вызывающе и строптиво. Он прямо заявил отцу, что не желает здесь работать и что два брата, которые ведут дела Джона Уэста в Сиднее, грабят его в четыре руки; однако сообщить подробности отказывался. В конце концов он соглашался не бросать работу — ладно, пусть грабят нас обоих.
Нелли по-прежнему переписывалась с Марджори и посылала ей деньги. Джон Уэст обшарил комод в ее спальне, нашел письма дочери и грубо потребовал Нелли к ответу. Но тут вмешалась миссис Моран: — Вы что, хотите, чтобы ваша дочь голодала? Уж нельзя и написать бедной девочке и послать немного денег? Да и деньги эти сэкономлены на расходах по хозяйству.
И опять Джон Уэст растерялся. Как можно, чтобы его дочь голодала?
Вот он и оказался прав. Не может ее Андреас прокормить жену и детей. Ну ладно, пусть посылает ей немного денег, но уж после его смерти ни она, ни этот немец гроша ломаного не получат!
В конце концов Джон Уэст выместил накопившуюся злобу на теще.
Миссис Моран, которой было уже за восемьдесят, быстро теряла силы, но отказывалась лежать, пока не оступилась на лестнице и не сломала ногу. Кость не срасталась, и старушка оставалась прикованной к постели. Пришлось для ухода за больной нанять постоянную сиделку. И вот Джон Уэст решил отправить тещу в больницу.
С тех самых пор, как разыгрался скандал из-за измены Нелли, миссис Моран играла роль буфера между зятем и всей остальной семьей, стараясь по мере сил смягчать его наскоки. В глубине души Джон Уэст ненавидел старушку. Теперь настала сладостная минута, когда он может с лихвой отплатить ей за все обиды. Пусть умирает в богадельне! Он не обязан держать ее у себя и тратиться на врачей и сиделок. И так уж он кормил ее почти двадцать лет. Она старая, ей умирать пора. Вот и пусть помирает в приюте для престарелых.
О своем решении он оповестил семью, когда все сидели за обедом, и добавил, что миссис Моран в богадельне будет отлично и все члены семьи могут навещать ее сколько душе угодно.
Нелли заплакала. Мэри стукнула кулаком по столу. Это бессердечно, жестоко! Она сама будет ухаживать за бабушкой, если отец не хочет платить сиделке. Богадельня — это тот же морг для несчастных нищих стариков. Даже ко всему равнодушный Джо изъявил готовность отдавать часть своего жалованья на покрытие расходов.
Но Джон Уэст уперся. Он сказал, что отправит старуху в богадельню, — значит, так и будет.
Приехала санитарная карета и увезла миссис Моран. Старушка старалась казаться веселой; но очень скоро всем стало ясно, что в богадельне она чувствует себя плохо.
Эту богадельню для умирающих Джон Уэст когда-то подарил церкви. Она помещалась рядом с особняком архиепископа, в сером, угрюмом здании. Архиепископ Мэлон говорил в свое время Джону Уэсту, что цель этого богоугодного заведения — дать приют престарелым и неизлечимым, дабы они могли с удобствами провести свои последние дни на земле. Было решено принимать не только католиков, но и приверженцев других религий в расчете, что кое-кто из них будет обращен в истинную веру. Джон Уэст не преминул сговориться с начальницей богадельни, чтобы всех покойников, по возможности, предавало земле похоронное бюро, пайщиком которого он состоял. Хоть часть денег, истраченных на покупку дома, вернется в его карман!
Но Джон Уэст натыкался на сопротивление не только в домашнем кругу. Правда, Билл Брэди, опираясь на допотопный закон, добился в палате изгнания Камерона с территории Выставки. Это положило конец боксерским предприятиям Камерона; но он и не подумал сдаться, а открыл трек в одном из северных пригородов столицы и прочно удерживал в своих руках велоспорт.
А Джону Уэсту не разрешали устраивать вечерние бега. В Перте и Аделаиде бега все больше и больше вытесняли скачки. Если бы добиться разрешения и устраивать вечерние рысистые испытания в Эпсоме, бега опять стали бы приносить доход. Вот озлятся его враги из Скакового клуба! Но Дэвисон тянет и тянет и только кормит его обещаниями.
Потеряв терпение, Джон Уэст велел Беннету внести от своего имени законопроект о вечерних бегах в верхнюю палату. Законопроект был отклонен большинством одного голоса, хотя на подкуп членов палаты ушло две тысячи фунтов.
В 1936 году на съезде лейбористской партии Келлэер нехотя выдвинул кандидатуру Трамблуорда против Карра, но на заседании фракции Карр с легкостью победил Трамблуорда и занял положение лидера.
Досада и злость все сильнее овладевали Джоном Уэстом. В конторе он начинал терять обычную энергию и деловую сметку; дома, чувствуя затаенное недовольство всей семьи, не простившей ему отправки миссис Моран в богадельню, он стал еще сварливее и жестче.
* * *
В декабре 1936 года в кабинет Фрэнка Лэмменса явился Пэдди Райан.
— Ну, друг дорогой, наконец-то небезызвестный сыщик Райан разгадал таинственную рыжую красотку.
Пэдди выслеживал Мэри Уэст уже много месяцев, впрочем, без особого усердия, ибо уход за скаковой лошадью отнимал у него почти все время, да и выпивка мешала работать. О том, что Пэдди — пьяница, знали все, кроме Джона Уэста: стоило Пэдди хоть издали увидеть хозяина, как он совал в рот таблетку, отбивающую запах перегара.
Райан вручил Лэмменсу пригласительный билет с красивым узором. Тот бросил взгляд на билет и тотчас отправился в кабинет Джона Уэста.
Лэмменс положил пригласительный билет на стол. Джон Уэст прочитал надпись: «В честь возвращения Ралфа Гибсона».
Под этим было извещение о дне и часе, когда должен был состояться завтрак, сопровождаемый исполнением музыкальных номеров. В конце стояла подпись: мисс Мэри Уэст.
— Я подумал, что не мешает показать вам это, мистер Уэст. Гибсон — видный коммунист. Он сидел в тюрьме за политическую деятельность. Нет сомнений, что это — собрание коммунистов. А если она… если мисс Уэст устраивает его — значит, она член коммунистической партии.
Джон Уэст ничего не ответил. Зрачки его расширились, ноздри раздулись, дыханье вырывалось со свистом. Лэмменс поспешил ретироваться — он знал бешеный нрав своего хозяина.
В тот вечер Мэри не пришла домой к ужину. Джон Уэст твердо решив безотлагательно поговорить с дочерью, усталый и злой, дожидался ее, подремывая в кресле. Наконец, в двенадцатом часу, он услышал, как хлопнула входная дверь.
Он выглянул в холл и, увидев, что Мэри подымается по лестнице, сказал негромко и сдержанно: — Мэри, мне нужно поговорить с тобой.
Она круто остановилась, подняла голову и посмотрела на стоявшего в дверях столовой отца: — Папа? Почему ты не спишь? Что-нибудь случилось?
— Зайди сюда, — сказал он, отступая в глубь комнаты.
Когда дочь вошла, Джон Уэст внимательно оглядел ее. Лицо усталое, подумал он, и одета небрежно. Мэри вдруг чем-то напомнила ему его покойную мать.
— Что это за билет?
Мэри вздрогнула, взяла в руки билет и стала молча разглядывать его, словно впервые видела.
— Ну!
— Папа, я делаю только то, что считаю правильным.
— Ты член коммунистической партии?
Она помедлила, лотом подняла голову и смело взглянула ему в лицо.
— Да.
— Я не потерплю, чтоб моя дочь была коммунисткой! Ты порвешь с этими людьми или уйдешь из моего дома!
— Мне очень жаль, папа, но я не могу изменить своим убеждениям.
— Убеждения! — крикнул он, ударив кулаком по столу. — Какие это убеждения? Всех коммунистов надо посадить в тюрьму. Для них нет ничего святого. Они хотят все перевернуть вверх дном. Они разрушат наш образ жизни!
— Да, и вместо него создадут другой, лучший.
— Не смей спорить со мной! Ты сама не понимаешь, что говоришь. Я все это до тонкости изучил. Если бы ты прочла, что пишет наша церковь о коммунистах, ты бы не стала защищать их. Одно из двух — или ты порвешь с ними, или я выгоню тебя из дому без гроша в кармане!
— Меня нельзя купить, папа. И не трудись выгонять меня, я сама уйду завтра утром.
Джон Уэст себя не помнил от ярости. Он замахнулся на дочь и чуть не ударил ее. Потом кулак его разжался, голова опустилась — он молча стоял перед Мэри, жалкий, беспомощный.
Когда Мэри прошла мимо него к двери, он заметил у нее на глазах слезы. Он бросился в кресло и добрый час сидел не двигаясь, прежде чем подняться к себе.
Ни он, ни Мэри не опали в эту ночь.
Наутро Мэри не вставала с постели, пока отец не ушел. После завтрака она собрала кое-что из своих вещей и уложила чемодан. В комнату вошла Нелли.
— Что ты делаешь? Из-за чего вы ссорились с папой вчера вечером?
— Это неважно, мама. Долго рассказывать. Папа выгнал меня из дому, и я ухожу. С тобой и с братьями я буду видеться.
Нелли села на край кровати и заплакала.
— Это невозможно, Мэри! Может быть, он просто так сказал. Не может он этого сделать. За что он тебя выгнал? Ах, господи, хоть бы бабушка была здесь!
— Но бабушки нет, а если бы и была, на этот раз и она не сумела бы помирить меня с лапой. — Мэри подошла к матери и ласково обняла ее за плечи. — Не плачь, мама, не плачь. Этим должно было кончиться. Ничего не поделаешь. Видишь ли, я стала коммунисткой, и папа очень рассердился.
— Мэри? Ты — коммунистка? Брось, брось это! Ах, боже мой, боже мой, этого только не хватало! Мало я настрадалась, что ли!
Мэри попыталась, как могла, утешить мать, закрыла чемодан и покинула дом. На душе у нее было тяжело. Дойдя до ворот, она оглянулась. Несмотря ни на что, она знала и счастливые дни в этом доме. Но времена меняются, и жизнь не стоит на месте.
Весь день Джон Уэст, сидя в своем кабинете, тщетно пытался сосредоточиться. Одна мысль неотступно преследовала его: уйдет Мэри или не уйдет? Вечером, когда Нелли, бледная, заплаканная, холодно сообщила ему об уходе дочери, он испытал смешанное чувство: он был обижен, огорчен, но в то время исполнен решимости не уступать.
На другое утро он вызвал Фрэнка Лэмменса и сказал ему: — Я выгнал свою дочь из дому. Она образумится и бросит эту опасную игру. Но я должен проучить ее. Узнайте, где она живет. У нее очень мало денег. Если она устроится на работу, сообщите мне об этом немедленно.
* * *
Покинув родительский дом, Мэри Уэст очутилась в тяжелом положении. Когда она, встретясь с Беном за обедом, сообщила ему о случившемся, он очень огорчился и сочувственно погладил ее по руке.
— Конечно, Мэри, это очень грустно. Но с другой стороны, рано или поздно это должно было случиться. Я уже давно беспокоюсь о том, что с тобой будет. Не слишком ли многого я от тебя потребовал? Что же ты думаешь делать? Деньги у тебя есть?
— Очень мало. Но ведь я могу работать. Я сниму комнату и подыщу какое-нибудь место. Стану совсем другая. — Она храбро улыбнулась, но он видел, что ей хочется заплакать.
Вечером, после партийного собрания, они пошли в парк и, погуляв немного, сели отдохнуть на траву.
— Послушай, Мэри, — вдруг сказал Бен. — Знаешь, что я подумал? Говорят, вдвоем жить ничуть не дороже, чем врозь. Почему…
— Бен!
— Если бы речь шла только о нас двоих, я сию минуту стал бы перед тобой на колени и просил быть моей женой. Но коммунисту надо о многом подумать, прежде чем заводить семью. Посмотрим, дорогая, как все сложится. Время беспокойное: война в Испании, в Китае… Пожалуй, лучше подождать немного.
— Ну конечно, Бен. Лишь бы нам быть вместе, больше мне ничего не нужно.
Она обняла его и заплакала. Он ласково утешал ее. Потом Мэри вытерла слезы и растянулась на траве, положив голову ему на колени.
— Когда смотришь вот так на звезды, Бен, — сказала она задумчиво, — просто не верится, что мир полон не любви, а ненависти. Что есть люди, которые голодают среди изобилия. Что кто-то хочет войны.
— Да, но мы знаем, отчего все это происходит, и мы должны помочь людям. Мы — а нас миллионы — надежда человечества на лучшую жизнь, без нищеты, без войн. Для этого нужно победить капитализм. Подумай только, что делается в Испании! Фашисты уже занесли нож над испанским народом. Иногда я думаю, что мы здесь в Австралии стоим в стороне от генерального сражения.
Мэри быстро взглянула на него.
— Бен, милый, иногда мне становится страшно. Я так люблю тебя!
Он обнял ее. Так они просидели до рассвета, и только утренний холодок заставил их разойтись по домам.
Мэри Уэст сняла за сходную цену довольно приличную комнату. Но с непривычки ей показалось неуютно и даже жутковато жить совсем одной.
Очень скоро она нашла службу в книжной лавке. Много сил и времени она отдавала партийной работе. Поэтому ни скучать, ни предаваться сожалениям ей было некогда, да и любовь Бена Уорта поддерживала в ней бодрость.
Мэри была членом низовой организации компартии в одном из рабочих поселков. Сначала она чувствовала себя чужой на собраниях; ей трудно было называть всех присутствующих «товарищи»; но когда она привыкла к этому слову, оно стало для нее особенно дорого. Остальные члены организации были рабочие и работницы. На первых порах они немного стеснялись ее, а она побаивалась их и восхищалась ими. Ей казалось просто невероятным, что эти простые люди способны так усердно учиться, самоотверженно работать в партии, мужественно бороться.
Она принимала деятельное участие в организации многих кампаний: поддержка испанских республиканцев, бойкот японских товаров из солидарности с китайским народом, помощь безработным. Охотнее всего она расклеивала прокламации и опускала листовки в почтовые ящики. Это надо было делать ночью, крадучись, и Мэри казалось, что она участвует в романтическом приключении.
Недели через две после ухода из дому она навестила своих; был субботний вечер, и она знала, что не рискует встретиться с отцом. Нелли плакала; Джо советовал сестре бросить «красные бредни» и вернуться в семью.
Она написала Джону в Сидней и сообщила ему о разрыве с отцом, Джон ответил сочувственным негодующим посланием: «Наш отец — самый беспардонный человек на свете. Желаю удачи, сестренка. Хотел бы я быть таким же храбрым, как ты. Но коммунизм противоречит моим религиозным верованиям, — продолжал Джон. — Я не коммунист, а просто опустившийся пьяница; но пора уже коммунистам или еще кому-нибудь обуздать жуликов, вроде нашего милейшего папаши и его подручных, потому что они ведут страну к гибели. Скоро я приеду на несколько дней в Мельбурн и тогда разыщу тебя непременно».
Мэри написала и сестре в Германию. Потом пошла навестить бабушку. В богадельне стоял запах разлагающейся человеческой плоти — запах смерти.
Одна из монахинь повела Мэри в палату, где лежала миссис Моран. По дороге она сказала: — Старушка очень слаба. Не утомляйте ее. Не жилица она на этом свете. Может быть, и ночи не переживет, упокой господи ее душу. Я уже послала за миссис Уэст.
Миссис Моран читала молитву, перебирая четки костлявыми, скрюченными пальцами. Мэри поразила перемена, происшедшая в наружности больной. Лицо ссохлось, кожа сморщилась, нос посинел и заострился, глаза, щеки и рот ввалились.
— Это ты, Мэри? — еле слышно произнесла умирающая. — Правда, что ты ушла из дому? Боже мой, сколько горя видал этот белый особняк! Я знала, когда уходила оттуда, что стрясется беда. — Речь ее стала бессвязной. — Сорок лет прошло, как он явился. Он и его тотализатор. Господи, смилуйся над ним и над моей бедной Нелли. Вас, детей, я любила, как свою плоть и кровь. Я старалась, чтобы все было по-хорошему. Пресвятая богородица, не оставь нас. Да простит тебя бог, Мэри. Коммунизм — это великий грех, но ты добрая девочка, хорошая. Я это знаю, знаю. Матерь божия, тебе поручаю ее.
Мэри держала морщинистые руки бабушки в своих и плакала навзрыд. Дверь отворилась, и, неслышно ступая, вошла Нелли Уэст.
Нелли, Нелли, — прошептала умирающая. Нелли нагнулась и поцеловала ее в лоб.
— Я помолюсь за всех вас. Да будет над нами милость господня. Священник уже приходил ко мне. Я готова.
Исхудалое, высохшее тело вытянулось, глаза закатились.
Подошла монахиня, посмотрела и медленно кивнула головой. Миссис Моран не стало.
Джон Уэст с женой и сыном присутствовал на похоронах. Когда кончилось отпевание и гроб опустили в могилу, он почувствовал слабый намек на сожаление и раскаяние. В памяти встала их первая встреча, много-много лет назад, на благотворительном базаре. Она тогда была приветлива с ним, шутила. Но… Он пожал плечами.
Еще до начала панихиды он заметил Мэри; она стояла далеко от него, в углу церкви, и плакала. Он хотел теперь подойти к ней, но она уже ушла с кладбища.
В тот день, когда миссис Моран скончалась, Фрэнк Лэмменс узнал и домашний адрес Мэри, и место ее работы. После похорон Джон Уэст отправился в город, зашел к владельцу книжной лавки и потребовал, чтобы тот уволил Мэри. — Это для ее же пользы. Но не говорите ей, что я приходил к вам. — На том и сошлись.
Прошло три месяца. Джон Уэст не видел своей дочери, но каждый раз, как Фрэнк Лэмменс со слов Пэдди Райана докладывал, что Мэри нашла работу, Джон Уэст наведывался к ее хозяину и добивался увольнения. А иногда и добиваться не приходилось: бывали случаи, когда Джон Уэст сам был совладельцем фирмы, где служила Мэри, чего она, разумеется, не знала.
Мэри очень удивилась, когда ее уволили из книжной лавки. Работа ей нравилась, и она была уверена, что хозяин ею доволен. Он отказал ей от места вежливо, но решительно. Вместе с тем он дал ей превосходную рекомендацию.
После того как ей пришлось оставить еще три места, Бен Уорт предположил, что эти увольнения не случайны. Она согласилась с ним, и вскоре их догадка подтвердилась. Заведующий конторой, где Мэри проработала всего несколько дней, вызвал ее и весьма любезно сообщил, что он очень доволен ею, но что Джон Уэст, один из крупнейших пайщиков компании, велел ему уволить ее со службы. Что же ей теперь делать?
— Вопрос решен, — сказал Бен. — Считай, что я сделал тебе предложение.
Они тихо и скромно сочетались гражданским браком. Двое товарищей коммунистов были свидетелями. Мэри, уже после выполнения формальностей, немного всплакнула. Ни родных, ни подвенечного наряда, ни музыки, ни цветов. Только дешевое колечко и брачное свидетельство. Но Бен был подле нее, остальное не имело значения.
Поздравить молодых пришли несколько подруг Мэри, старые и новые, католички и коммунистки. Пришли друзья Бена и его мать. Это была поблекшая, рано постаревшая женщина; она взяла Мэри за руки и плача сказала: — Он странный, упрямый мальчик, но он хороший. Я рада, что мой Бен женился на такой славной девушке.
На свадьбе присутствовал и Джон, приехавший из Сиднея. Мэри ужаснулась, увидев, как он опустился. В мэрию он опоздал; пришел к самому концу церемонии; веки у него были красные, припухшие, под глазами мешки, кожа бледная, дряблая. Джон ничего не ел, но пил очень много — вино и водку вперемежку. Он усиленно старался показать свое дружелюбие, но вел себя глупо и бестактно.
— Я не большой поклонник коммунистов, — говорил он, обращаясь к Мэри так громко, что все слышали. — Но я — ик! — завидую твоей храбрости. Хотел бы я осадить нашего папашу! Мой отец — сволочь! — вдруг заорал он; потом повалился на диван и тут же заснул.
Медовый месяц, проведенный в горах, принес Мэри и Бену безоблачное, хоть и мимолетное счастье. Они во всем подходили друг другу, и любовь их крепла с каждым днем.
Вернувшись в город, они сняли маленькую квартирку; Мэри уютно обставила ее, купив дешевую мебель в рассрочку, и они зажили мирно и счастливо. По вечерам, когда ни у него, ни у нее не было собрания, к ним приходили друзья — преимущественно молодежь из средних и высших слоев, примкнувшая к левому движению. Мэри чувствовала, что Бэну эти гости не совсем по душе — он предпочитал общество рабочих.
У Бена оказался старый граммофон и коллекция хороших пластинок, которые он собирал годами, экономя на куреве и даже на еде; больше всего им нравилось посидеть вечером наедине, слушая граммофон, — оба очень любили музыку.
У них была довольно большая библиотека — любовь к хорошим книгам тоже роднила их. Мэри просто поражалась тому, что Бен, рабочий, не получивший образования, обладал такими глубокими знаниями и так тонко разбирался в литературе и музыке.
Мэри преклонялась перед своим мужем. Она восхищалась его проницательным и трезвым умом, чувством юмора, спокойствием, глубокой верой в безусловную победу коммунизма. В минуты уныния его любовь вселяла в нее бодрость и чувство безопасности.
Последние полтора-два года Мэри жила так, что каждый раз приходила в смятение, когда задумывалась над своей судьбой; но теперь она могла забыть прошлое: она начнет новую жизнь с Беном; она любит его, она будет достойна своего мужа. Ей ничего не страшно; пусть им живется трудно, пусть у нее нет нарядных платьев и она отвергнута своей семьей — она готова все перенести, лишь бы с нею был Бен.
Она жила только ради Бена, а его жизнь была отдана борьбе. Для нее Бен и борьба сливались воедино.
Мэри понимала, что Бен опасается, как бы «буржуазное происхождение» — по его терминологии — не сбило ее с верного пути. Иногда он добродушно поддразнивал ее, но она очень скоро убедила его в том, что его опасения напрасны.
Она поступила на службу в один из комитетов антивоенного движения; ей платили три фунта в неделю. Бен в качестве партийного организатора получал два фунта в неделю; на эти деньги молодые супруги жили хоть и скромно, но безбедно.
Война в Испании сильно волновала Бена; он объяснял Мэри, что это состязание в силе между фашистами и борцами за свободу.
— Фашисты пробуют свои клыки и когти, — говорил он. — Если они победят в Испании, они набросятся на Советский Союз. Только разгромив Франко, можно предотвратить новую мировую войну. На Австралию нападет Япония. Во всех странах мира коммунистическому движению будет нанесен удар, погибнут тысячи наших товарищей, в Австралию вторгнутся враги.
Мэри тоже очень волновали испанские события, хотя и не так глубоко, как Бена. Тревога мужа за судьбу Испании подчас пугала ее. Он жадно накидывался на газеты и взволнованно обсуждал военные сводки. На собраниях и митингах он особенно горячо говорил об испанских событиях. Когда один из товарищей, побывавший в Испании, вернулся в Мельбурн, Бен зазвал его к себе и продержал до рассвета, задавая все новые и новые вопросы. Мэри слушала, не сводя глаз с взволнованного лица Бена, и смутный страх закрадывался ей в душу.
Гость их привез из Испании стихи и песни, сложенные бойцами-республиканцами. Бен и Мэри принялись разучивать песни. Они втроем прихлебывали вино и пели. Бену особенно пришлась по душе песня о погибшем немецком коммунисте. Он сразу запомнил ее, и когда, проводив гостя, они улеглись в постель, Бен еще раз, громко, с воодушевлением повторил ее. Последние строки он пропел так проникновенно, что у Мэри больно сжалось сердце.
Клянусь душой и телом,
Пока ружье в моих руках,
Врагам не дать пощады,
Прославить подвиг твой в веках,
Ганс Беймлер, наш комиссар,
Ганс Беймлер, наш комиссар.
День ото дня волнение Бена усиливалось. Мэри чувствовала, что каждую рану, нанесенную бойцу республиканской армии, Бен ощущает, как свою. Мысленно он праздновал каждую победу, скорбел о каждом поражении. Всеми своими помыслами он был в Испании. Мало-помалу Мэри стала относиться к войне в Испании с ревнивым чувством, как к счастливой сопернице.
Наконец однажды вечером, когда они сидели в кафе за ужином, Мэри заметила, что Бен необычайно рассеян и молчалив. Он почти ничего не ел; мысли его, видимо, витали где-то далеко; Мэри несколько раз пыталась заговорить с ним, но он не отвечал ни слова.
— О чем ты думаешь, Бен? Что-нибудь случилось?
— Не знаю, как тебе сказать, Мэри. Мне тяжело огорчать тебя. Первый раз в жизни я принял серьезное решение, не зная точно, прав ли я.
— Бен, что ты сделал?
Он потянулся к ней через стол и взял ее за руку.
— Я записался в Интернациональную бригаду. Уезжаю в Испанию. Пароход отправляется через неделю.
Уже много месяцев Мэри не могла отогнать от себя мысль о том, что Бен может уехать в Испанию, и все же известие поразило ее, точно внезапный удар. Она откинулась на спинку стула, глаза наполнились слезами, губы дрожали. С ужасом видела она, как рушится ее новый, счастливый мир.
— Нет, нет, Бен! Не покидай меня! У меня никого нет, только ты один! — Она схватила Бена за руку, впилась ногтями в его ладонь. — Ты не можешь бросить меня, Бен. Это нечестно!
— Мэри, — сказал он тихо. — Надо быть стойкой. В наше время нельзя думать только о себе. Неужели ты веришь, что я хочу уехать от тебя! Ты лучше всех на свете, и ты моя жена, и я счастлив с тобой. Но если бы это остановило меня, я был бы последним эгоистом.
Они вышли из кафе, сели в трамвай и доехали до дому, не обменявшись ни словом.
Как только дверь захлопнулась за ними, он обнял ее и крепко прижал к себе. Она горько плакала, и он целовал ее мокрые от слез глаза.
— Мэри, дорогая моя! Я вернусь, вернусь непременно, но я должен ехать. Ты не знаешь, как я рвусь в Испанию! Я больше не могу оставаться здесь!
Самые противоречивые чувства владели Мэри, но сильней всех была обида и жалость к себе.
— Партия не должна отпускать тебя, Бен, — говорила она, стискивая его руки, — ты нужен здесь. И если бы ты любил меня по-настоящему, ты не бросил бы меня здесь одну.
Он взял ее за подбородок и, приподняв ей голову, глубоко заглянул в глаза. — Никогда не сомневайся в моей любви, Мэри. Ты самая красивая, самая замечательная женщина в мире. Но борьба идет не на жизнь, а на смерть. Я должен быть в первых рядах. Я обсудил мое решение с товарищами, и они в конце концов дали согласие.
Мэри лихорадочно искала доводов, которые могли бы переубедить Бена и заставить его отказаться or своего намерения. — Это неправильно, Бен! Испанские рабочие сами должны вести свою борьбу; мы можем помогать им любым способом, но только не посылать солдат в их армию. Да и война кончится раньше, чем ты доберешься до Испании.
— Дорогая, прошу тебя, пойми! Я все время боялся, что ты будешь так рассуждать, потому и не говорил тебе ничего.
Он стал перед ней на колени и продолжал, сжимая ее руки в своих: — Мэри, пожалуйста, не надо, мне и так тяжело. Ты не права. Испанские рабочие сражаются героически, но эта война касается не только Испании. Там решается судьба мирового пролетариата, и поэтому война в Испании — дело рабочих всех стран. Только боеспособные интернациональные бригады могут дать нам перевес. — Он говорил горячо, почти просительно. — Мэри, дорогая, я знаю, что против моего решения можно спорить, но я не могу иначе. Прошу тебя, не горюй. Мы разгромим фашистов. Я вернусь, вот увидишь, вернусь, и мы заживем по-прежнему.
Он поднялся с колен и зашагал из угла в угол.
— Английские и американские миллионеры финансируют военные приготовления фашистских стран. Наемники Франко, Гитлера и Муссолини хорошо вооружены, их вымуштровали как роботов, но у них нет боевого духа, им не сломать стену, которую рабочий класс всего мира воздвигает против них в Испании. Блокада, установленная Чемберленом, нас не удержит. Дай мне только добраться до этих мерзавцев. Я умею стрелять из винтовки. И очень скоро научусь обращаться с более сложным оружием.
Он остановился и, напрягая все мышцы своего сильного, ловкого тела, сделал стремительное движение, словно мысленно уже шел в штыковую атаку.
Глядя на него, Мэри впервые поняла всю глубину его преданности делу коммунизма, всю силу его ненависти к фашистам. Она почувствовала, что эту ненависть не утолит ничто, кроме кровавой схватки с врагом лицом к лицу. Таков был тот, кого она выбрала себе в мужья.
— Я умею руководить людьми. Я изучу военную тактику и стратегию. Я целый батальон поведу в бой с фашистской сволочью… — говорил Бен.
С ним она соединила свою судьбу — на радость и на горе. В другие, более мирные времена они, быть может, узнали бы безмятежное счастье; сейчас они будут счастливы, только если она не уступит ему в самоотверженном мужестве, в беззаветной преданности общему делу.
Внезапно Мери вскочила, бросилась к мужу и обвила его шею руками.
— Бен, Бен, — сказала она, — забудь о том, что я говорила. Я люблю тебя и горжусь тем, что мой муж — боец Интернациональной бригады.
— Вот теперь я узнаю мою Мэри! Потерпи немножко, мы скоро выгоним их из Испании, а потом я вернусь и буду бороться здесь, вместе с тобой. И мы никогда не будем разлучаться, никогда.
* * *
Когда Пэдди Райан обнаружил, что Мэри вышла замуж, он доложил об этом Фрэнку Лэмменсу. — Думается мне, сыщик Райан получит повышение по службе и прибавку жалованья, — сказал он весело. — Вот обрадуется Джек Уэст! Шутка ли — любимая дочь зарегистрировалась вчера с коммунистом!
Джон Уэст, услышав новость, рассвирепел. Только этого не хватало! Он даже никому не сказал о постигшем его несчастье. Пока он занимался тем, что не давал Мэри работать, он чувствовал себя, как кошка, играющая с мышью. Он был уверен, что это послужит ей уроком, что в конце концов он заставит ее бросить глупые и опасные бредни и она прибежит к нему обратно. Но теперь это не выйдет: Джон Уэст отлично знал, что движение против войны и фашизма не подвластно ему и оттуда Мэри не выгонят. Она восстала против него, и он бессилен покорить ее. Но зато он может лишить ее наследства. Он вызвал своих поверенных и соответственно изменил свое завещание, однако это не утолило его жажды мести. В то же время он любил свою дочь — в той степени, в какой он вообще был способен любить; дом опустел после ухода Мэри, и Джон Уэст хотел, чтобы она вернулась и была счастлива в своей семье. Раздираемый противоречивыми чувствами, он не знал, на что решиться. Искать примирения с Мэри? Ни в коем случае: Джон Уэст и мысли не допускал, что он может быть не прав.
Не улучшили его настроение и заметки в «желтой» прессе:
«Златокудрая красотка Мэри Уэст, дочь миллионера Джека Уэста, стала коммунисткой. Говорят, что щеки счастливого отца рдеют ярче, чем волосы и политические убеждения дочери».
Нелли время от времени пыталась заговорить о Мэри, но Джон Уэст резко обрывал все ее просьбы забыть прошлое и помириться с дочерью. Мэри отреклась от своей веры, говорил он; хуже того — стала коммунисткой; пока она не образумится, с ней надо обращаться, как с отверженной. Нелли ненавидела, или вернее — боялась коммунистов; она верила всем басням, которые распространяли о них церковь и газеты. Она соглашалась с мужем, что Мэри поступила дурно.
Когда Джон приехал из Сиднея на каникулы, он горячо вступился за Мэри перед отцом. Но тот сразу осадил его: — Пожалуйста, не суйся не в свое дело. Мэри нужно проучить. И советую тебе бросить пить и приналечь на работу, не то я тебя тоже выставлю без гроша на улицу.
Испытывая потребность поговорить с кем-нибудь без утайки, он рассказал обо всем Веронике Мэгайр. Она посочувствовала ему, но, к великой его обиде, заявила, что восхищается храбростью Мэри, и посоветовала пойти на уступки. Молодежь, сказала она, часто увлекается революционными идеями. Если он проявит благоразумие, Мэри одумается. Но Джон Уэст не в силах был уступить. Иногда его охватывало жгучее чувство раскаяния, но он быстро преодолевал его. Мэри сама виновата. Он действовал только ради ее же пользы, а она посмела не подчиниться ему. А теперь, когда она стала женой коммуниста и так тесно связалась с этими людьми, что работает на них точно обыкновенная конторщица, он не видел для себя иного выхода, кроме как покарать ее за глупость и ослушание.
Раз как-то он встретил Мэри на улице. Она была одна и собиралась сесть в трамвай. Ему показалось, что она сильно похудела, да и одета была победнее. Какая же она глупая! На мгновение ему стало очень грустно. Не подойти ли к ней, не заговорить ли ласково? Он в нерешимости стоял на тротуаре, пока трамвай не тронулся и не увез Мэри.
Потом Пэдди Райан донес, что муж Мэри уехал в Испанию. Ну конечно, все коммунисты такие, думал Джон Уэст. Погубил ее, исковеркал ей жизнь и бросил.
В ту ночь Джон Уэст не спал и обдумывал, что ему предпринять. Теперь Мэри станет податливее; он пошлет к ней кого-нибудь с приглашением прийти и повидаться с ним.
* * *
После отъезда Бена в Испанию жизнь Мэри сразу потускнела. Хотя ее новые друзья были очень внимательны к ней, она чувствовала себя одинокой и несчастной. Работа потеряла для нее всякую прелесть. На людях она старалась держать себя, как подобает жене героя, которая продолжает бороться, пока ее муж в открытом бою сражается с врагом, но по ночам, оставшись одна, она горько плакала и не знала, куда деваться от тоски по Бену.
Однажды на улице к ней подошел Пэдди Райан и вручил ей записку от Джона Уэста. Она прочла: «Для твоей же пользы советую тебе прийти поговорить со мной».
— Ответ будет, мисс? — спросил Райан.
Мэри чуть было не поддалась искушению — слишком сильно угнетало ее одиночество. Но, поколебавшись с минуту, она выпрямилась и холодно ответила: — Да, ответ будет. Передайте отцу — передайте мистеру Уэсту, что мне не о чем говорить с ним.
Райан отошел от нее, и она крикнула ему вслед: — И попрошу вас прекратить слежку за мной.
Она получила письмо от Марго — очень странное письмо, написанное так, словно автор его боялся высказывать свои мысли о чем бы то ни было; но в каждом слове чувствовалась тоска, одиночество, глубокая привязанность к сестре. Пришло письмо и от Бена, полное любви и энтузиазма. Она читала его, обливаясь слезами, повсюду носила с собой, ложась спать, клала под подушку. Потом приходили еще письма. Бен писал, что добрался до Англии и рассчитывает через несколько дней поехать в Испанию через Францию.
После того как Мэри прочла стихи Уильяма Морриса, ее начало мучить предчувствие, что Бен не вернется.
Слушай то, что предрекает
Нам судьба в суровый год:
Жизнь одним она вручает,
А другим погибель шлет!
Почему-то эти слова: «А другим погибель шлет!» — неотступно преследовали ее.
Потом письма от Бена перестали приходить, и вскоре Мэри получила извещение о его смерти. Он пал в бою под Мадридом.
Вместе с Беном что-то умерло в душе Мэри и осталось похороненным в далеком, залитом кровью городе. Друзья бессильны были утешить ее, помочь ей преодолеть отчаяние. Ни они, ни собственный разум не могли убедить Мэри, что у нее осталось хоть что-нибудь, ради чего стоило бы жить. Она верила в коммунизм и в борьбу за мир; но без Бена жизнь казалась ей ненужной и бессмысленной. Ей говорили, что во имя Бена она должна быть стойкой и продолжать его дело; она и сама это знала, но не могла себе представить борьбу без него. Одна мысль гвоздем засела у нее в мозгу: почему ее счастье принесено в жертву идее?
Она утратила интерес к работе, к самой жизни. Почти ничего не ела, одевалась небрежно; волосы кое-как закручивала узлом на затылке. Ей хотелось уехать куда-нибудь, хотя бы в Англию. Но денег на поездку не было. Она не знала никого, к кому она могла бы обратиться с просьбой о деньгах. Но она должна уехать — уехать от людей и мест, которые мучительно напоминают ей о Бене, не принося утешения.
Наконец она решилась на отчаянный шаг. Однажды вечером она вошла в телефонную будку и позвонила отцу.
Ей ответил голос Джо.
— Мистер Джон Уэст дома? — спросила она спокойно, хотя сердце неистово билось и она дрожала всем телом.
— Это ты, Мэри? — радостно сказал Джо. — Вот хорошо — возвращение блудной дочери. Плюнь на то, что было. Дом без тебя — просто гроб. Я думаю, папаша не очень будет ломаться.
— Позови отца, — резко сказала Мэри.
Немного погодя в трубке послышался голос Джона Уэста: — Хелло.
— Мне нужно поговорить с тобой, отец. Можно прийти сейчас?
— Да.
— Я буду через полчаса.
Джон Уэст ждал ее в гостиной. Он был сильно взволнован, не знал, радоваться ему или злиться. Значит, все-таки он сломил ее волю, и скоро ее присутствие оживит унылый белый особняк.
Джон Уэст сам отворил дверь и повел дочь в гостиную. Он не без смущения заметил, что Мэри осунулась и плохо одета. На ней был коричневый костюм, такие же туфли и светло-зеленый джемпер; в руках она держала потертую коричневую сумочку. Как она похудела! Уж не больна ли?
Он пододвинул ей стул. Она села, а он занял место напротив. Мэри сидела очень прямо, в напряженной позе. Гордая, подумал он. Не хочет сознаться, что моя взяла.
Уже одно ее присутствие в этой комнате воскрешало для Джона Уэста былое оживление, когда-то царившее здесь. В этой комнате Мэри и Марджори проводили целые дни, и отсюда всегда доносились звуки музыки, взрывы смеха, дружеские возгласы. Марджори уехала, должно быть, навсегда. Но Мэри вернулась, и теперь опять в доме будет весело, шумно, и Джон Уэст по-прежнему будет гордиться красотой любимой дочери.
— Что тебе нужно? — спросил он и сам поразился резкости своего вопроса.
— Я хочу уехать в Англию, и мне нужно на это тысячу фунтов, — ответила она, еще выше подняв голову.
Джон Уэст тоже выпрямился, сердито хмуря брови.
— Не болтай вздора!
— Это не вздор, отец. Мне нужна тысяча фунтов, и ты мне дашь ее.
— И не подумаю! Хватает же у тебя нахальства просить у меня денег после всего, что ты натворила!
— Я требую эти деньги, отец, и я их получу.
Ярость охватила Джона Уэста. Он не сдержался и ударил кулаком по столу.
— Я не потерплю такого тона! Очевидно, твои дружки коммунисты подослали тебя ко мне, чтобы выудить деньги. Ничего ты не получишь! И если это все, что ты хотела мне сказать, то можешь уходить и больше не показываться!
Он заметил, что глаза Мэри наполнились слезами и что она нервно кусает губы. Но она справилась с собой и ответила ровным голосом: — Не беспокойся, я сейчас уйду, и больше ты меня не увидишь. Но сначала ты дашь мне чек на тысячу фунтов.
— Вот как? — Он встал и, подняв руку, показал на дверь. — Ступай вон! Денег ты от меня не получишь ни сейчас, ни когда бы то ни было. Я уже вычеркнул тебя из своего завещания.
Мэри вынула из сумочки сложенный лист бумаги большого формата и, встав со стула, протянула его Джону Уэсту.
— Прочти это. А потом садись и выпиши мне чек, — сказала она тихим, дрожащим голосом, но с отчаянной решимостью.
Джон Уэст взял из ее рук бумагу, пробежал ее. — Что это значит? — спросил он.
— Это значит, что мне принадлежит львиная доля акций разных твоих предприятий — на сумму двести десять тысяч.
— Где ты взяла этот список?
— Получила в Торговой палате. Я заплатила за справку об акциях тех компаний, в которых, насколько мне известно, ты имеешь долю.
Джон Уэст, огорошенный, молча смотрел на Мэри.
— Много лет ты давал мне подписывать документы, прикрывая их промокательной бумагой. Я догадывалась, что ты переводил акции на мое имя, чтобы платить меньше налогов. Если ты не выдашь мне чек на тысячу фунтов, я потребую весь контрольный пакет.
— Ничего у тебя не выйдет.
Джон Уэст снова сел, торопливо соображая; список акций был верен, хотя далеко не полон; вздумай Мэри продолжать свои розыски, она обнаружит, что имеет право требовать свыше полмиллиона.
— Никто тебе этих денег не присудит, — сказал он неуверенно.
— Ты думаешь? Я советовалась со сведущими людьми.
— С кем это?
— С мистером Кори. Он сказал, что по закону акции принадлежат мне.
— Ах вот как? Так и сказал?
Джон Уэст помолчал, не зная, на что решиться. Деньги не маленькие! А вдруг она их получит по суду? Да и судиться с дочерью неудобно.
— Послушай, Мэри. Сядь, поговорим спокойно. Не стоит ссориться из-за тысячи фунтов. Да и акции я отдал бы тебе, если бы ты не сбежала к коммунистам.
— Акции можешь мне не давать. Мне нужно только тысячу фунтов.
— Не глупи, Мэри! Послушай меня. Возвращайся домой, брось всю эту дурацкую политику, и я дам тебе две тысячи фунтов, можешь делать с ними что хочешь, и… и акции останутся на твое имя. После моей смерти ты получишь их вместе с процентами.
— Не нужны мне акции. И домой я тоже не вернусь.
— Почему ты так ведешь себя?
— Потому что я злая и черствая, потому что я твоя дочь!
— А на что ты будешь теперь жить, когда твой красный муженек тебя бросил?
— Мой муж умер. Он погиб в Испании, сражаясь против Гитлера и твоего любимца Муссолини. Я горжусь тем, что была его женой. Он отдал жизнь за человечество.
— Так ему и надо, — проворчал Джон Уэст. — И чем скорее еще несколько тысяч коммунистов будут убиты, тем лучше.
Мэри перегнулась через стол, сжала маленький кулак и ударила Джона Уэста по щеке. Потом отступила на шаг; в лице ее не было ни кровинки.
— Я попрошу тебя выписать мне чек, — сдержанно сказала она, — или завтра утром я потребую свои акции.
Джон Уэст осторожно потрогал багровый след на щеке. — Чего же еще ждать от коммунистки!
Он выхватил из кармана вечное перо и чековую книжку; дрожащей от бешенства рукой он заполнил бланк, подписался и, вырвав чек из книжки, протянул его Мэри.
— На, — сказал он. — А теперь убирайся! И если ты вздумаешь вернуться в Австралию, я позабочусь о том, чтобы ты здесь не осталась.
— Будь покоен, я не вернусь.
Джон Уэст провожал ее глазами, пока она не скрылась в темном коридоре.
Он долго стоял, опершись на стол. Что он сказал? Что он сделал? Как могла Мэри так поступить с ним?
Мэри вернулась в свою пустую квартиру. Она взяла в руки фотографию Бена и посмотрела на его лицо. Что бы он теперь подумал о своей Мэри?
Всю ночь она не сомкнула глаз. Перед ее мысленным взором прошла вся ее сознательная жизнь. Бурный поток событий стремительно уносил ее и теперь выбросил на берег отчаянья. Бен, радость моя, почему ты оставил меня одну? Я буду бороться и без тебя, но это трудно, ах, как трудно!
Она купила место на пароходе — место третьего класса — и уведомила партийную организацию и комитет, в котором работала, что уезжает в Англию и там примкнет к коммунистическому движению. Все отнеслись к ней с большой чуткостью. Говорили, что понимают ее. Боже мой! Как будто кто-нибудь мог понять, что с нею сделала жизнь!
Она зашла к матери проститься. Нелли со слезами просила ее не уезжать, вернуться в лоно церкви и семьи.
— Нет, мама, не останусь. Я так решила. Я буду писать тебе и, быть может, когда-нибудь вернусь домой.
— Да простит меня бог, — сказала Нелли, — но отец твой великий грешник. Он будет гореть в аду!
В ее голосе звучала такая лютая ненависть, что Мэри содрогнулась. — Бедная ты, бедная, сколько ты выстрадала!
Они вместе поплакали, потом Мэри поцеловала мать и ушла. В передней она столкнулась с братом Джо и сказала, что едет в Англию.
— Не уезжай, Рыжик, — воскликнул Джо, — не уезжай!
Во все время поединка Мэри с отцом Джо только посмеивался. Но теперь она видела, что он искренне огорчен.
— Рыжик, Мэри, не уезжай. Поистине отцу за многое придется ответить перед богом! — Он нежно поцеловал ее. — Подумай хорошенько. И не уезжай, не повидавшись со мной.
Поднявшись на холм, Мэри остановилась и посмотрела через плечо на внушительный белый особняк. Сколько горя, сколько семейных драм он видел, и все же как весело и беззаботно здесь иногда жилось детям. Зловещий дом Джона Уэста!
На другой день Мэри вылетела в Сидней — попрощаться с Джоном. В конторе она не застала брата. Его, пьяного, привели из кабака. Они зашли в кафе позавтракать. Крепкий кофе несколько отрезвил Джона. Мэри рассказала ему все о себе.
— О господи, Рыжик! Какой жестокий и беспощадный человек наш отец! Он расшвырял нас, точно пук соломы пустил по ветру!
Провожать Мэри пришли только товарищи. Они настойчиво просили ее продолжать работу в Англии, почаще писать и поскорее вернуться домой.
На борту она узнала, что, по распоряжению Джона Уэста, ей отвели место не в третьем классе, а в одной из лучших кают на верхней палубе.
Почему он это сделал? Мэри недоумевала. Может быть, в глубине его черствой души таилась любовь к ней? Или он не хотел, чтобы люди видели, что дочь его путешествует в третьем классе вместе с простыми смертными?
Джон Уэст и сам не мог бы ответить на этот вопрос.
* * *
После последнего свидания с дочерью Джон Уэст долго просидел в музыкальной комнате, терзаемый противоречивыми чувствами, охваченный глубоким волнением. Он всегда гордился Мэри, любил ее, баловал — почему она так жестоко обошлась с ним! Вновь и вновь он опрашивал себя: был ли он слишком суров к ней? Нет, решил он наконец, Мэри не права; коммунисты испортили ее.
Когда Джо Уэст поплелся в свою спальню, он уже был весь во власти бессильной злобы: Мэри не подчинилась ему, но это сошло ей с рук, и она путем вымогательства даже заставила его помочь ей.
Утром, придя в контору, он позвонил Патрику Кори и выбранил его за то, что он подучил Мэри требовать акции. Кори оправдывался, говоря, будто не думал, что Мэри в самом деле будет их требовать. Как всегда, ярость Джона Уэста нисколько не смутила Кори.
— Молодец баба! — сказал он.
Джон Уэст сообщил Пату Кори, Ричарду Лэму и Фрэнку Лэмменсу, что отправил Мэри за океан, чтобы «она немного образумилась».
Все утро Джона Уэста обуревало желание позвонить в банк и приостановить выплату денег по чеку, выданному Мэри. Но почему-то он не мог заставить себя снять трубку. Днем он велел Лэмменсу обзвонить все пароходства и доискаться, когда Мэри едет. Узнав, что она взяла билет третьего класса, он купил ей другое место.
В течение нескольких недель после отъезда Мэри Джон Уэст чувствовал себя удрученным, пока однажды вечером Пэдди Келлэер и Билл Брэди не явились с известием, которое дало его мыслям другое направление.
Когда посетителей провели в гостиную белого особняка, Келлэер выхватил из кармана газету и помахал ею перед носом Джона Уэста.
— В-в-вы читали, мистер Уэст? — Келлэер явно волновался и, как всегда в минуты волнения, заикался пуще обычного.
— «Истина» опубликовала заметку о молочном законе, — перебил его Брэди. — Не миновать скандала.
Джон Уэст взял в руки газету.
«Если говорят деньги, заговорит и „Истина“», — вещал огромный заголовок. Джон Уэст опустился в кресло и начал читать. В заметке было сказано, что в парламенте штата Виктория уже давно говорят деньги. Всем известно, что этот голос принадлежит людям, наживающимся на театрах, спортивных состязаниях, на виноторговле, ростовщичестве и иных видах большого бизнеса. Настала пора для «Истины» сказать во весь голос о том, что, по слухам, некоторые члены парламента за взятку выступали против молочного закона.
— Интересно, как они докопались до этого? — сказал Джон Уэст, дочитав до конца.
— Э-э… — начал было Келлэер.
— Коммунистическая газета «Страж» уже давно подпускает намеки, — сказал Брэди, — но на эту прессу никто не обращает внимания. Скорей всего в «Истину» сообщил Нед Хоран.
— А чего ради?
— Потому что на ближайших выборах против него выдвинут лейборист. Он просто в бешенстве — знает, что провалится.
— Я же говорил, чтобы никого не выдвигать против Хорана! Мы с ним так условились. — Джон Уэст повернулся к Келлэеру: — Вы же должны были это устроить.
— Совершенно верно, мистер Уэст, но я не мог этого сделать. Карр твердо решил провалить Неда. Он думает, что лейбористская партия не должна делить власть с аграриями, а, напротив, должна отвоевывать у них мандаты.
— Наплевать на то, что говорит Карр! Нед Хоран должен пройти.
— Я делал что мог, но большинство в исполнительном комитете и низовых организациях лейбористской партии поддерживает Карра в этом вопросе. И они, знаете ли, правы. А если я открыто пойду наперекор, меня выгонят.
Джон Уэст глянул на Келлэера подозрительно. В последнее время Келлэер явно избегал его. Келлэер вел двойную, а то и тройную игру и все чаще держал руку Карра.
— Так! Значит, вы не можете делать то, что я вам велю, но при малейшей неприятности вы бежите ко мне.
Брэди поспешил перейти к делу; по лицу его видно было, что он смертельно перепуган.
— Это не такая уж малость, Джек. Дэвисон уже поговаривает о правительственной комиссии.
— Дэвисон поговаривает! — фыркнул Джон Уэст. — Это мы еще увидим!
Он вышел в коридор, включил свет и вызвал по телефону Дэвисона.
— Что это за разговоры о правительственной комиссии по поводу заметки в «Истине»?
— А что же мне делать? Слишком много толков.
— Я говорил вам — не лезть вперед с молочным законом.
— Нельзя было иначе. Ведь считается, что я представляю интересы фермеров, в том числе и владельцев коров. Мы же об этом уже сколько раз говорили, мистер Уэст. Эта история может привести к отставке кабинета. Аграрная партия требует расследования. Я решил назначить правительственную комиссию. Если я этого не сделаю, могут раскрыться вещи похуже. Очень сожалею, мистер Уэст, но вашим людям следовало бы действовать поаккуратней. Во всяком Случае, я позабочусь о том, чтобы ваше имя не упоминалось. Да и вообще — вы же знаете, что такое правительственная комиссия: никогда ничего из этого не выходит.
Затем Джон Уэст позвонил Неду Хорану.
— Вы дали материал в «Истину»? — спросил он без предисловий.
В трубке послышался неуверенный голос Хорана: — Нет, нет, что вы, мистер Уэст! Разве я мог бы это сделать? Да ни за что, вы же сами знаете.
— Неужели? — сказал Джон Уэст и сердито бросил трубку.
Вернувшись в гостиную, он сказал:
— Это Хорам. Он не сознается, но ясно, что это он. Выкиньте его. Провалите его к черту на выборах.
— Н-н-но… — начал Келлэер.
— Об этом не беспокойтесь, — злорадно сказал Брэди. — Провалить мы эту сволочь провалим, но что с нами-то будет?
— Я полагаю, что во всяком случае вы оба и Трамблуорд достаточно поживились из фондов молочников, — сказал Джон Уэст.
— Я получил лишь несчастную с-сотню фунтов. Лучше бы мне не прикасаться к ней.
Брэди поостерегся делать признания. Совершенно лишнее сообщать кому бы то ни было о том, что он за двести фунтов голосовал против законопроекта.
— Кто еще замешан? — устало спросил Джон Уэст.
Брэди отвел глаза. Он пришел сюда за помощью, а не для того, чтобы сознаваться в соучастии.
— Т-том Трамблуорд, — запинаясь, проговорил Келлэер.
— Ну, еще бы, — сказал Джон Уэст. — Что за балаган без Петрушки! Еще кто?
— Больше никого нет.
Джон Уэст тяжело вздохнул. — Ладно, видно, придется мне вас вытаскивать. Не унывайте. Я завтра дам вам знать.
Дело нешуточное, подумал Джон Уэст, когда посетители ушли. Настроение у него было отнюдь не боевое, и он не испытывал ни малейшего желания ввязываться в драку. В свое время, когда Ассоциация торговцев молоком решила собрать денежный фонд для борьбы против нового закона, он пожертвовал двести фунтов, но ходом борьбы не интересовался. По-видимому, та тысяча с лишним фунтов, которую удалось собрать, пошла главным образом на подкуп членов парламента; а по той причине, что он сам не проследил за этим делом, взятки получили люди, которые и даром выполнили бы приказание Джона Уэста.
Дэвисон, обычно беспрекословно подчинявшийся Джону Уэсту, все же внес законопроект о торговле молоком. Новый закон должен был обеспечить повышение оптовой цены, выплачиваемой фермерам, при сохранении розничных цен на прежнем уровне, предотвратить фальсификацию молока и разбавление его водой, а также приостановить засилье монополий в молочной промышленности.
Как и во всех других отраслях промышленности, почти вся розничная торговля молоком была сосредоточена в руках нескольких могущественных монополистов, Дэвисон очень скоро обнаружил, что Джон Уэст является тайным владельцем многих крупных ферм; однако премьер не внял требованию Джона Уэста и не отказался от законопроекта.
Дэвисон был хитрый и дальновидный политик; он рассчитывал, что новый закон привлечет на его сторону фермеров и домашних хозяек, а недавно проведенное повышение заработной платы возчикам молока расположит к нему рабочих. Дэвисон нуждался в поддержке. Он лез из кожи вон, чтобы заручиться сотрудничеством лейбористской партии. Новый закон понравится избирателям-лейбористам.
Джон Уэст просидел в кресле до одиннадцати часов, предаваясь невеселым мыслям. Он чувствовал себя утомленным и очень старым. Где его былые мечты о власти?
Он невольно задумался над тем, чего он достиг в жизни. Семья его распалась. Нет сомнения, что его политическое влияние идет на убыль, даже в штате Виктория. В профсоюзном движении коммунисты одерживают победу за победой на выборах, и кто знает, сколько еще сможет продержаться Рон Ласситер, последний прямой ставленник Джона Уэста, на должности секретаря профсоюза строителей. Джон Уэст, как и все миллионеры, ненавидел и смертельно боялся коммунистов; но, придя к выводу, что влияние в профсоюзах не существенно для его планов, он палец о палец не ударил, чтобы изменить положение. Только муниципалитеты Керрингбуша и Ролстона полностью оставались в его власти; но так как его ипподромы в этих округах были закрыты, то практического значения эта власть не имела.
Куда ни повернись, он натыкался на неподчинение; и стоило ему хоть раз не покарать виновных, как число непокорных увеличивалось. Правда, он богател не по дням, а по часам. Капитал его уже равнялся пяти миллионам фунтов. Но одного богатства Джону Уэсту было мало; жажда власти по-прежнему обуревала его. Никогда он не устанет гнаться за ней.
Не в первый раз его одолевали неприятные мысли и даже что-то похожее на угрызения совести, что, правда, случалось редко; и, как всегда, чтобы заглушить их, он с удвоенной решимостью начал готовиться к предстоящей схватке.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Богатство устраняет только одно из жизненных зол — бедность.
Джон Уэст, поднимаясь по лестнице Католической больницы, с одинаковой тревогой думал о правительственной комиссии по расследованию положения в молочной промышленности и об угрозе новой войны. Он не сомневался, что Польша послужит поводом к войне, однако не мог разобраться в своем отношении к событиям. Мысли его обращались к бурным годам первой мировой войны, но он не находил в себе прежних чувств. Ему казалось, что эта война будет какая-то другая, и он ждал ее без всякого подъема, даже с легким сожалением, что ее нельзя избежать.
— Вы желаете видеть мистера Трамблуорда, мистер Уэст? — вывел его из задумчивости голос полной, суетливой сестры.
— Да. Как его здоровье? — спросил Джон Уэст, несколько смущенный тем, что сестра знает, кто он.
— Ничего серьезного. Просто годы сказываются. Сердце немного сдает.
Накануне, вызванный в комиссию и припертый к стене перекрестным допросом, Трамблуорд вдруг схватился руками за сердце и упал. — Позаботьтесь, чтобы моей жене не пришлось идти в прачки, — воскликнул он, когда его выносили из комнаты. У Тома иногда бывали перебои, и он воспользовался этим, чтобы не выдать себя собственными ответами.
Джона Уэста провели в отдельную палату, где Том Трамблуорд со вкусом потягивал белое вино своей любимой марки.
— Вы что, с ума сошли? — нахмурился Джон Уэст.
Трамблуорд поднял стакан и, таинственно улыбнувшись, словно заговорщик, который мысленно провозглашает запретный тост, залпом выпил вино. — Только для аппетита, Джек.
Джон Уэст молча открыл тумбочку и достал оттуда бутылку. — На донышке осталось. Можете допить ее, но больше нельзя.
Вошла сиделка с подносом, уставленным кушаньями, от которых шел пар.
— Простите, сестра, — обратился к ней Джон Уэст, — но мистер Трамблуорд говорит, что чувствует себя плохо и сейчас есть не в состоянии.
Сиделка помедлила, недоверчиво поглядывая на больного, потом повернулась и вышла.
— Да бросьте, Джек. Вы же знаете, что я здоров, — сказал Трамблуорд, надув губы, словно наказанный школьник.
— Вы здоровы, но вам придется заболеть, если комиссия пришлет врача осмотреть вас. Поэтому ешьте как можно меньше или вообще воздержитесь от еды, тогда вы заболеете от недостатка пищи. Я вижу, вы не понимаете, что вам грозит. Вас посадят за решетку, если вы не придумаете ничего умнее того, что плели вчера.
Трамблуорд с тяжелым вздохом поставил стакан на тумбочку и откинулся на подушки, вытянув руки на одеяле. Долгие годы безоговорочного подчинения Джону Уэсту превратили его в послушного, глуповатого циника. Выполняя волю своего патрона, он отрекся от былых идеалов и принципов под предлогом, что не стоит и пытаться помочь рабочим, ибо они всего-навсего несознательный сброд. В деятельности лейбористской партии он почти не принимал участия, а в свой избирательный округ ездил только перед выборами, чтобы на крайне малолюдных собраниях вещать рабочим о счастливой поре социализма, которая наступит когда-нибудь в отдаленном будущем.
— Вам нельзя являться в комиссию раньше, чем они заслушают показания Келлэера и Брэди. Я посоветуюсь с юристами, что-нибудь придумаем, — продолжал Джон Уэст.
— Вы говорили с архиепископом Мэлоном?
— Он сказал, что хотя судья и католик, но влияния он на него не имеет. Отец судьи будто бы из тех католиков, которые называли Мэлона изменником во время кампании против всеобщей воинской повинности.
— Кампания против всеобщей воинской повинности! — воскликнул Трамблуорд. — Вот было дело! Помню, однажды вечером…
Он явно собирался рассказать увлекательную историю «о добром старом времени, когда рабочие еще готовы были бороться», чем всегда старался оправдать свое собственное бездействие и никчемность, но Джон Уэст резко оборвал его: — Вы лучше забудьте про это. Мы накануне новой войны. На сей раз я не позволю вам никаких кампаний против воинской повинности. Архиепископ послал своего друга, патера из иезуитов, к судье, но, по его мнению, дело ваше дрянь, если вы не сумеете оправдаться. Я кое-что надумал.
— Что именно, Джек? Я так и знал, что вы найдете выход.
— Я поговорю с Уотти и заставлю его взять вину на себя. Думаю, за деньги он согласится.
Джон Уэст вызвал Джима Уотти в свою контору на другой же день. Уотти, секретарь Ассоциации торговцев молоком, собственноручно давал взятки, которые и были предметом расследования правительственной комиссии.
Это был высокий франтоватый молодой человек с довольно смазливым, но невыразительным лицом. Когда-то он занимал должность секретаря союза рабочих консервной промышленности, но потом открыто перешел на службу к хозяевам.
Когда Уотти вошел в кабинет Джона Уэста и положил шляпу на стол, тот сразу заметил, что его обычной дерзкой самоуверенности как не бывало.
— Что вы скажете о ходе расследования? — спросил Джон Уэст, следуя своему испытанному приему начинать разговор с вопроса.
— Дело дрянь, мистер Уэст, — уныло ответил Уотти. — Кому-нибудь, видно, придется посидеть.
— Никто не будет сидеть, если вы сделаете по-моему. Хотите заработать пятьсот фунтов?
— Возражений не имею, мистер Уэст. Но все зависит от того, за что я их получу.
— За то, что вы отречетесь от своих показаний. Я хочу, чтобы вы заявили о том, что никогда не давали денег Гилберту для передачи Трамблуорду и остальным.
— Но я уже сказал, что отдал ему деньги, только не знал, как он с ними поступил. Кто бы ни сел в тюрьму, я-то не сяду!
— Конечно, не сядете. Если вас притянут к суду, я договорюсь с присяжными. Да еще не было случая, чтобы правительственная комиссия кого-нибудь засадила в тюрьму.
И Джон Уэст изложил теорию покойного Дэвида Гарсайда о правительственных комиссиях и о том, как правосудие постоянно приносится в жертву интересам богачей. Но все это мало подействовало на Уотти. Как ни велика была его вера в могущество и власть Джона Уэста, все же добрых полчаса ушло на уговоры и обещания, и только когда Джон Уэст удвоил сумму вознаграждения, Уотти наконец согласился на роль козла отпущения.
После этого Джон Уэст подробно объяснил Уотти, что тот должен говорить на допросе: он скажет, что в Ассоциации имелся секретный фонд, что он подъезжал к Трамблуорду и Келлэеру, но они отказались помочь ему и посоветовали обратиться к аграрной или консервативной партии.
Покончив с этим, они заговорили о том, что служило предметом споров и обсуждений во всем мире: будет ли война? Объявит ли Англия войну Германии из-за Польши? Уотти выразил мнение, что если Чемберлен и Гитлер будут воевать, то не иначе как вместе и против России. Англия восстановила Германию для разгрома России. Чемберлен уступил Гитлеру Австрию и Чехословакию, для того чтобы Гитлер тем самым продвинулся на восток, к России. Чемберлен и Польшу отдаст по этой же причине. Джон Уэст выразил сомнения на этот счет. Англия сильно ошибается, если думает, что Гитлер ограничится только одной Россией. Немцам нельзя доверять. С Гитлером надо начинать войну, пока не поздно, не то он кинется на Англию. В конце концов оба пришли к выводу, что лучше всего, если Германия и Россия будут драться друг против друга до полного истощения.
В ближайшее воскресенье Джон Уэст вместе со всеми людьми, населяющими страны английского языка, слушал голос Чемберлена, возвещавшего о том, что Англия находится в состоянии войны с Германией.
Новость не произвела на Джона Уэста особого впечатления. Не было и намека на воинственный пыл, обуявший его в начале первой мировой войны. И возраст сказывался, и события, повлекшие за собой новую войну, были слишком сложны и запутанны для его разумения. Правда, он все еще ненавидел немцев за их зверскую жестокость, о которой столько кричали в первую мировую войну, и за то, что его старшая дочь ослушалась его и вышла за немца; но он понимал, что Гитлер представляет интересы людей, мало чем отличающихся от него, Джона Уэста, а Советскую Россию он ненавидел и боялся как огня.
Однако мало-помалу военная горячка захватила и его: он спорил, обсуждал события, подолгу сидел над газетами.
Из-за войны правительственная комиссия отступила на второй план и в мыслях Джона Уэста и на страницах газет штата Виктория.
Уотти показал, как ему было велено, чем вызвал немалое смятение. Юрист, назначенный в помощь комиссии, воскликнул: — Вы что, мистер Уотти, приносите себя в жертву? Хотите стать мучеником?
На это Уотти ответил дрожащим голосом: — Нет, вовсе нет.
Комиссия продолжала расследование и даже посетила Трамблуорда в больничной палате, чтобы выслушать его показания и подвергнуть перекрестному допросу.
* * *
Трудно было узнать в сгорбленном седом старике, тяжелой походкой приближавшемся к открытой могиле, некогда прославленного оратора, бывшего министра Фрэнка Эштона. С непокрытой головой, прижав шляпу к груди, смотрел он, как под монотонное чтение заупокойных молитв гроб опускают в землю. Пальто на нем было поношенное, башмаки стоптаны, шея небрежно обмотана выцветшим шарфом.
Два дня назад смерть сжалилась наконец над его женой Мартой, которая последние три года провела в психиатрической больнице близ Сиднея. Рядом с Фрэнком Эштоном у могилы Марты стояли оба его сына с женами и двое внуков. Никто не плакал, хотя лица у всех были печальные. Душевная болезнь убила в Марте все человеческое еще прежде, чем пришла смерть, и даже самые близкие люди не чувствовали к ней былой привязанности.
Марта была безумна, а теперь она умерла; так лучше для нее: смерть избавила ее от помешательства, от частых буйных припадков. Такими мыслями утешал себя Фрэнк Эштон, глядя, как последние комья земли падают на могильный холм; скоро здесь ляжет надгробный камень, будут посажены цветы, вырастет сорная трава… Но, покинув кладбище, он невольно поддался печали, и раскаяние овладело им. Разве шел бы он так радостно к алтарю сорок лет назад, если б мог заглянуть в будущее? Разве, если б он мог предвидеть одиночество, разочарование, упреки совести, мучившие его в последние годы, он не остался бы в Англии, вместо того чтоб приехать сюда в погоне за славой? Тогда не пришлось бы ответить «нет!» на извечный вопрос: стоила ли игра свеч?
В тот же вечер сыновья с женами и детьми уехали домой в Мельбурн, оставив Эштона одного в двухкомнатной квартире на окраине Сиднея, в районе порта. Дом, в котором он жил, принадлежал ему; сдавая внаем квартиры, он скопил немного денег. А построил он этот дом на дивиденды, которые принесли ему акции золотых приисков, когда-то подаренные ему Джоном Уэстом. В Мельбурне он теперь бывал лишь изредка и поэтому почти не виделся с Джоном Уэстом, однако при случайных встречах они разговаривали довольно дружелюбно.
Он поселился здесь еще до того, как Марту взяли в больницу. Он так уговаривал жену тихо и мирно доживать с ним свой век, однако характер ее портился все больше — злоба и неуживчивость перешли в буйное помешательство. Он терпел до последней возможности, но в конце концов пришлось обратиться к врачам. После этого он решил еще строже держаться слова, которое дал самому себе: забиться в свою конуру. Но был на свете человек, который не забывал его, — Гарриет. Она писала ему из Мельбурна уже после того, как Марту поместили в сумасшедший дом; но он не отвечал на письма, и Гарриет под конец перестала писать.
С тех пор как Эштон уединился в этой квартире на краю города, он почти безвыходно сидел дома и писал свои мемуары — «марал бумагу», по его выражению. Он рассказал о детстве, проведенном в Англии, о морских плаваниях, о своей политической деятельности вплоть до возвращения из России. Его снова потянуло в море; к тому же им владело сильное желание еще раз посетить Советский Союз. Недолго думая он приобрел небольшое судно, собрал команду и отплыл на север. Посетил он Новую Гвинею, Китай и в заключение — Владивосток. Он вернулся в Австралию, убедившись своими глазами, что не ошибался, когда много лет назад предсказывал успех и процветание молодому социалистическому государству. Убедился он и в том, что надвигается опасность войны. Принявшись снова за свои мемуары, он много места отвел образованию так называемой «оси» — антикоммунистическому пакту, заключенному между Германией, Италией и Японией, — и развязыванию новой мировой войны. Особенно тревожило его предательство Франции и Англии по отношению к Чехословакии и усиливающийся милитаризм Японии.
За полгода до смерти Марты его здоровье, много лет не причинявшее ему особых хлопот, резко ухудшилось. Артрит обострился, а на боку появилась злокачественная опухоль. Он спешил закончить свои мемуары: ему хотелось раскрыть подоплеку так называемого «плана премьера», разоблачить Тэргуда, Саммерса и всю их клику, доказать тлетворное влияние Джона Уэста и католической церкви на лейбористскую партию. Но зрение его с каждым днем слабело, мысль работала вяло, и писал он без былого огня и блеска.
В вечер после похорон, сидя в одиночестве за своим письменным столом, Фрэнк Эштон думал о Гарриет. Память о ней никогда не покидала его, но во время болезни жены он не решался даже писать Гарриет, а теперь — одинокий, удрученный, он вправе уйти к ней, если она еще не забыла его. Вправе ли? Старый, больной — ему нужна сиделка, а не возлюбленная. Ведь ему под семьдесят. А Гарриет? Да ей, наверно, за пятьдесят! Странные шутки шутит жизнь. Почему он не ушел к Гарриет давным-давно? Смелости не хватало. Фрэнк невольно говорил себе, что поступил неправильно и что, если бы он ушел в свое время к любимой женщине, это было бы лучше для всех, в том числе и для бедной Марты. Да, вся жизнь его — позорный провал. Он не умел решительно отстаивать свои убеждения не только в политике, но и в своих отношениях к обеим любившим его женщинам. Он добился только того, что сделал несчастными и ту и другую. А теперь, на склоне лет, когда смерть Марты вернула ему свободу, он придет к Гарриет, если она примет его, — придет с разбитым сердцем и немощным телом.
Три недели он колебался, потом вдруг принял решение и самолетом отправился в Мельбурн. Прямо с аэродрома он на такси поехал в свой бывший избирательный округ, где в маленьком доме жила Гарриет вместе с замужней сестрой.
Он подошел к калитке, тяжело опираясь на палку.
Дверь отворила Гарриет. Сначала она не узнала его, потом ахнула и торопливо заговорила: — Фрэнк, ты? Заходи, заходи, пожалуйста.
Она помогла ему дойти до маленькой гостиной и села рядом с ним на диван. Он заметил, что в волосах ее мелькает седина, но выглядела она молодо, на все еще миловидном лице почти не было морщин.
— Гарриет, — начал он, — я не мог заставить себя написать. — Марта… она…
— Знаю, Фрэнк. Я встретила твоего сына. Из того, что он мне рассказал, я все поняла…
— Я подумал… может быть… Ты видишь, я болен, одинок… я…
Она положила ладонь на его руку. — В этом доме есть отдельная квартирка. Хорошая солнечная спальня и маленький кабинет с камином. После смерти матери там осталась вся мебель, и я всегда держала комнаты в чистоте и порядке. Я думаю, тебе здесь будет удобно, а я с радостью стану ухаживать за тобой.
Она силилась улыбнуться, но он видел, что ее глаза полны слез.
* * *
Ни мысли о войне, ни перипетии скандала в молочной промышленности не могли разогнать чувств одиночества и тоски, все сильнее томивших Джона Уэста.
Единственным его утешением по-прежнему была Вероника Мэгайр. Она часто отвозила его в контору и обратно домой, каждую субботу ездила с ним на стадион. Иногда они ходили в кинотеатр, принадлежавший Джону Уэсту. Однажды вечером, через месяц после назначения правительственной комиссии, Джон Уэст, сидя с Вероникой в ее машине, всю дорогу до дома молчал.
Веронике уже было за пятьдесят, но она очень следила за собой и казалась на добрых десять лет моложе. Темный костюм, светлая кружевная блузка, элегантная шляпа на красивых седых волосах — весь ее облик чрезвычайно привлекал Джона Уэста.
У ворот особняка Вероника сказала: — Не унывайте, Джон, они выпутаются.
— Выпутаются? — резко спросил он. — Кто? Я не имею никакого отношения к этой комиссии.
Она положила руку на его плечо. — Ручаюсь, что без вас дело не обойдется. Хотя бы потому, что вы захотите спасти Трамблуорда и компанию. Но вам следовало бы предупредить их, чтобы они были поосторожнее. — Она говорила весело и беззаботно, стараясь успокоить его страхи, в которых — она знала это — он ни за что не признается.
— Они действовали, не спросясь меня, — сказал он и вдруг, к собственному удивлению, подробно и без обиняков рассказал ей все.
Своим сочувствием она сумела расплавить стальную броню, в которую он замкнулся. Это не то что Нелли! Если бы она всегда была рядом с ним, быть может, вся его жизнь сложилась бы по-иному. — Зачем вам все эти тревоги, Джон? — спросила она. — Почему бы вам не жить спокойно и счастливо?
Выходя из машины, он коснулся ее руки. — Слишком поздно, — сказал он. — По-другому я жить не умею.
Она смотрела ему вслед, пока его немного сутулая кривоногая фигура не скрылась за поворотом усыпанной гравием дорожки, ведущей к веранде нарядного белого особняка, потом пожала плечами и уехала.
В столовой Джон Уэст застал одного только Джо.
— Где мать? — спросил он сына, не поднимая головы от тарелки с салатом.
— У себя. Она очень расстроена. Она получила письмо от Мэри.
— А что в письме?
— Не знаю. Наверно, плохие новости. Мама сказала, что скоро сойдет вниз. Я хотел ее успокоить, спрашивал, что случилось, но ты же знаешь маму.
Джон Уэст вышел из-за стола и быстрыми шагами направился к лестнице. Навстречу ему спускалась Нелли с конвертом в руке. Лицо у нее было измученное, глаза покраснели от слез.
С тех пор как началась война, Нелли больше всего тревожилась о Марджори. После смерти Ксавье она тяжелее, чем прежде, переносила разлуку с дочерьми и теперь очень беспокоилась о них, особенно о старшей. За последнее время она не раз говорила мужу, что боится за Марджори, хотя после смерти своей матери почти не разговаривала с ним, только временами жаловалась на боли в спине.
Накануне вечером она сказала: — Бедная Марджори, что-то с ней будет? Вдруг немцы бросят ее в какой-нибудь свой ужасный лагерь?
— Чего ради? — возразил Джон Уэст. — Она теперь немка, так же как ее муж и дети.
Джон Уэст и Нелли сошлись у лестницы. — Письмо от Мэри? — спросил он. — Что случилось?
Нелли прислонилась к перилам, схватившись рукой за поясницу. Она протянула ему письмо и всхлипнула.
— Она пишет про Марго. Это ужасно! И меня уже опять мучает боль в спине.
— Боль в спине! И когда ты поймешь, что никакой болезни у тебя нет! — с досадой сказал Джон Уэст.
Письмо было от Мэри и адресовано Нелли. Он развернул его и поспешно пробежал глазами.
«…за месяц до того, как разразилась война, я отправилась самолетом в Германию повидать нашу Марго. Мне удалось убедить ее, что война неизбежна, и увезти с собой в Англию».
Вот молодец! — гордясь дочерью, подумал Джон Уэст, но тотчас подавил это чувство.
«…нам пришлось уехать, ни слова не сказав ее мужу, Паулю — он член нацистской партии, отвратительный пьяница и фашист. Мы не могли увезти детей.
Бедная Марго рассказывала ужасные вещи. Она до смерти боится мужа и вообще нацистов. С тех пор как она не получает денег из дому, муж совсем знать ее не хочет».
Говорил же я ей! — подумал Джон Уэст.
«Марджори провела в Англии всего несколько дней. По-английски она говорит с заметным немецким акцентом, а главное, она очень беспокоилась о детях. Она вернулась в Германию. Она сказала, что теперь она немка и не может бросить своих детей. Я не могла удержать ее. Теперь, когда началась война, один бог знает, что с ней будет. Может быть, мы ее никогда больше не увидим…»
Джон Уэст бегло просмотрел письмо до конца.
— Что же нам делать? — причитала Нелли. — Бедная моя Марджори! Зачем ты обошелся так жестоко с нею!
— Жестоко! В чем я виноват? Я хотел помешать ей выйти за этого Андреаса. А вы все сговорились и помогли ей удрать в Германию.
— Да, но ты выгнал ее. Ты лишил ее наследства!
— Не сваливай все на меня! Она сама виновата — пусть пожинает, что посеяла.
Джон Уэст вернул жене письмо и, не кончив обеда, прошел в гостиную. Он долго сидел там, стараясь заглушить укоры совести. На другой день он не удержался и сказал Пату Кори, что очень беспокоится о своей дочери Марджори — она в Германии и, вероятно, в концентрационном лагере.
Работа правительственной комиссии продолжала привлекать всеобщее внимание, несмотря на интерес, возбуждаемый известиями о ходе войны. Англичане сбрасывали на Берлин листовки. Газеты продолжали шуметь по поводу пакта о ненападении между Россией и Германией; заголовки кричали о продвижении немцев в глубь Польши.
Том Трамблуорд категорически отрицал свою вину. Верно, некий субъект по имени Гилберт обращался к нему, но он, Трамблуорд, сказал, что ничем помочь не может. А все, что Гилберт говорит, — просто вранье! На вопрос, откуда взялись двести фунтов, внесенные на его текущий счет как раз в то время, когда должно было состояться предполагаемое вручение взятки, Трамблуорд ответил, что он снял было сто фунтов, чтобы послать жену на курорт, а она не поехала; вторая же сотня — долг, уплаченный ему зятем. То обстоятельство, что по текущему счету зятя не видно было, чтобы он снимал в те дни такую сумму, нисколько, видимо, не смущало Трамблуорда.
Пэдди Келлэер опроверг возведенные на него обвинения со всей энергией, на которую оказался способен его неповоротливый язык.
Биллу Брэди тоже задали вопрос о двухстах фунтах, внесенных на его текущий счет. Ответ Брэди, если и не соответствовал истине, был несравненно находчивее, чем объяснение Трамблуорда: он, мол, получил эти деньги за вечернюю секретную работу. Его жена, вызванная в качестве свидетельницы, подтвердила это заявление. Муж ее, сказала она, не доверяет банкам и держал деньги дома, пока не собралась сумма в двести фунтов. Говорила она убедительно, без тени колебаний.
Когда Брэди спросили, кто оплачивал его вечернюю работу, он отказался назвать имя. По его словам, он проработал восемь с половиной месяцев, получая по двадцати фунтов в неделю. Председатель комиссии предложил Брэди написать имя на бумажке, что тот и исполнил, без особой, правда, охоты. У Джона Уэста, присутствовавшего на заседании, екнуло сердце. Нетрудно было догадаться, чье имя написал Брэди.
— Гм, — задумчиво произнес председатель, — теперь мне понятна ваша уклончивость. Я, разумеется, не стану вызывать этого джентльмена, поскольку не может быть и речи о каких-либо подозрениях в отношении его.
В первые месяцы войны Джон Уэст имел несколько бесед с архиепископом Мэлоном. Архиепископ отнюдь не питал к Гитлеру враждебных чувств. Он объяснил Джону Уэсту, что западные державы должны объединиться с Германией против большевистской России, которая и есть самый опасный враг христианского мира. Одобрил намерение Чемберлена послать экспедиционный корпус в помощь Финляндии. Джон Уэст в общем соглашался с архиепископом, но Гитлеру не доверял.
— Конечно, — сказал он Мэлону, — Гитлер когда-нибудь нападет на Россию, но он хочет завоевать весь мир и, вероятно, сначала бросится на Францию и Англию. Если Англия пошлет войска в Финляндию, — значит, будет война между Англией и Россией, а потом Гитлер нападет на победителя.
Мэлон возразил, что если Англия пошлет свои войска в Финляндию, то можно будет заключить союз с Гитлером против СССР, и, по-видимому, именно этого и хочет Чемберлен. Но Джон Уэст все же сомневался: Германия уже раз пыталась покорить мир и, наверно, опять попытается это сделать.
Когда наконец правительственная комиссия огласила результаты расследования, Джон Уэст впервые за много лет почувствовал ликование победителя. Обвинение во взяточничестве было снято со всех соучастников. О Трамблуорде председатель комиссии сказал так: — С одной стороны, мы имеем показания Гилберта, более или менее подтвержденные его последующим поведением; с другой — достаточно решительное отрицание своей вины Трамблуордом. Обвинение, предъявленное ему, настолько тяжко, что любой деятель, который не сумел бы опровергнуть его, был бы, по настоянию своих сограждан, навсегда исключен из общественной жизни; поэтому мы должны требовать столь же неопровержимых доказательств вины, как если бы дело слушалось в уголовном суде. А поскольку мы не располагаем такими доказательствами, я считаю возможным решить дело в пользу мистера Трамблуорда.
* * *
Недели три спустя к Джону Уэсту явился Тед Тэргуд. Они поговорили о ходе войны, о делах, но Уэст скоро почуял, что у Тэргуда что-то на уме.
С тех пор как Тэргуд бросил политику, он головокружительно преуспел, Он сказал Джону Уэсту, что мечта его сбылась: он теперь миллионер. Годы не разрушили его здоровья, и он был по-прежнему напорист и хитер. В рыжих волосах его появилась седина, но одет он был франтом и в шестьдесят с лишком лет выглядел не старше пятидесяти. Сразу было видно, что это глава процветающей фирмы.
— Вот что, Джек, надо попридержать Фрэнка Эштона. Он что-то затеял.
— Эштон? Как он поживает? Давно я его не видел. Как-то я ему дал билеты на стадион, но он не пришел.
— Он болен. Удивительно, что он давно не помер. У него рак и артрит. Живет с этой своей старой любовью.
— Да, знаю. Чем же он вас так беспокоит?
— Вы тоже забеспокоитесь, когда узнаете, в чем дело. Он пишет мемуары; и я слышал, что в них достается и вам и мне.
— Вот как? Ну и нахал же он! И это после всего, что я для него сделал? А как же его придержать?
— Я хочу съездить к нему. Говорят, он очень одинок. Почти не выходит из дому. В политических кругах он со всеми рассорился — и с левыми, и с правыми, и с центром. У него никого нет — только эта женщина, и ей or него мало толку. Ха-ха-ха!
— А чем это поможет, если вы к нему поедете?
— Проявлю дружеские чувства. А потом заведу речь о мемуарах и попрошу не очень нападать на нас.
— Неплохо придумано. Надо бы и мне повидать его. Он, бедняга, может помереть каждую минуту.
На другой день — это была суббота — Фрэнк Эштон в халате сидел у камина, когда к нему заглянула Гарриет и сказала, что пришел мистер Тэргуд.
Фрэнк Эштон попытался встать ему навстречу.
— Сидите, сидите, Фрэнк, дружище!
Тэргуд крепко стиснул руку Эштона. Тот весь сморщился от жгучей боли.
— Осторожней, Тед. Мне теперь не под силу такие дружеские рукопожатия, — и, вытянув руку, он показал свои вспухшие, искривленные пальцы.
— Извините, Фрэнк. Я не подумал. Я так рад вас видеть.
Эштон познакомил Тэргуда с Гарриет, и она вышла из комнаты.
Тэргуд сел по другую сторону камина, и завязалась оживленная беседа.
Эта комната была самая маленькая во всей тесной трехкомнатной квартирке. На стене против камина висел большой портрет Ленина.
Красный Тед пустил в ход все свое обаяние. Фрэнк Эштон даже повеселел немного. Они погрузились в воспоминания. Тэргуд, искусно направляя разговор, касался событий далекого прошлого, наиболее дорогих сердцу Эштона, воскрешал в памяти дни его торжества.
Потом Гарриет принесла чай; чаепитие сопровождалось все той же дружеской болтовней и смехом. Фрэнк Эштон всегда очень ценил политические таланты Тэргуда, да и лично он ему нравился. В своих мемуарах он беспощадно разоблачил предательство Тэргуда в 1930 году, но, рисуя его портрет в ряду других выдающихся политических деятелей, он отметил обаяние и энергию Красного Теда и высказал сожаление, что Тэргуд не стал тем, чем мог бы стать.
Тэргуд уехал, пообещав снова навестить старого друга, когда опять попадет в Мельбурн, а Эштона толпою обступили воспоминания — яркие воспоминания о лучших делах его жизни, которые обычно подавляла тяжесть раскаяния и разочарования. Он вдруг в полной мере ощутил, как одинока его старость. Он сам хотел этого одиночества; а ведь он — человек и нуждается в общении с людьми, ему нужны друзья, много друзей. Месяцы, проведенные с Гарриет, притупили в нем чувство одиночества, но теперь оно вспыхнуло с новой силой.
С тех пор как он переехал сюда, обстановка для работы над мемуарами была самая благоприятная, но зрение и силы изменяли ему, дело подвигалось медленно и не приносило удовлетворения. Перечитывая написанное за восемь лет, он убедился, что рукопись год от году становится все более отрывочной и неясной, а последние главы показались ему совсем плохими. Перед отъездом из Сиднея он, не завершив своих воспоминаний, перешел к историческим зарисовкам, посвященным главным образом политической борьбе папства с королевской властью в средние века и эпоху Возрождения. Эта тема привлекала его еще в юности, в пору, когда он учился в школе для рабочих, и он возвращался к ней, когда — что бывало нередко — собственные воспоминания начинали ему казаться незначительными и скучными.
К «странной войне» он относился с отвращением, хотя и с интересом. Он жадно читал утренние и вечерние газеты. Крокодиловы слезы, проливаемые прессой по поводу страданий «храброй маленькой Финляндии», вызывали у него омерзение. Кто же не знает, что Финляндия Маннергейма — лишь плацдарм Германии или Англии, а то и обеих вместе для нападения на Россию. Русские явно решили устранить угрозу, которую представляла для Ленинграда линия Маннергейма. Как видно, выводы относительно Финляндии, изложенные им в «Красной Европе», оказались правильными, и русские отлично понимали положение.
Время от времени Фрэнк Эштон возвращался к мысли о том, как в конце концов странно, что жизнь соединила его с Гарриет. Она нежно и заботливо ухаживала за ним. Казалось, она счастлива. Они редко говорили о прошлом, и если речь нечаянно заходила об этом, они, словно по молчаливому согласию, заговаривали о другом. Гарриет говорила своей сестре, мужу сестры и всем, кто об этом спрашивал, что Фрэнк Эштон снимает у нее комнату, и это была правда — он платил за квартиру и стол.
Через час после ухода Тэргуда явился врач, ежедневно навещавший Фрэнка Эштона. По временам Фрэнк Эштон спрашивал себя, не следует ли ему посоветоваться со специалистом хотя бы относительно опухоли, которая разрасталась и все больше беспокоила его, но это казалось ему слишком хлопотливым делом.
Доктор выбранил его за то, что он позволил себе поволноваться. — Помимо всех других ваших болезней, вы должны получше следить за своим сердцем, мистер Эштон. И берегитесь удара.
На следующей неделе, к удивлению Фрэнка Эштона, его посетил Джон Уэст.
— Тед Теэргуд сказал мне, — объяснил он, — что вы почти не выходите из дому. Вот я и заехал поболтать с вами.
Эштон отнюдь не представлял себе деятельности Джона Уэста во всем ее объеме и не питал к нему неприязни. Ему даже нравился этот сильный, неугомонный характер. В своих мемуарах он нападал на машину Уэста и на католическую церковь с чисто политических позиций. Эштон даже вынужден был признать, что, если бы не Уэст, он умер бы нищим. Но разговор у них не клеился. Между ними не было ничего общего.
Глядя на Джона Уэста, совсем седого, но хорошо сохранившегося для своих лет, Фрэнк Эштон невольно подумал: какой странный человек! Он понятия не имеет о литературе, о музыке, об искусстве, у него нет никаких интересов и пристрастий, помимо его коммерческой и политической империи. Джон Уэст — это лишь сумма всего, что он должен был знать и делать в жизни, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы.
На прощанье Джон Уэст сказал, что договорился с доктором Девлином — он посмотрит Эштона и поставит диагноз, а может быть, согласится и лечить его.
— Вам это ничего не будет стоить, — сказал Джон Уэст. — Девлин — гений. Он поставит вас на ноги.
Девлин действительно приехал и осмотрел Эштона, но, уходя, сказал, что к нему обратились слишком поздно. Год назад он удалил бы опухоль, а теперь процесс зашел слишком далеко.
На другое утро снова явился Джон Уэст, а днем больного навестил архиепископ Мэлон.
Фрэнк Эштон был озадачен.
— Меня смущает дружеское внимание моих политических противников, — сказал он потом Гарриет.
Оказалось, что Гарриет очень не прочь принимать у себя людей, пользующихся известностью. Она сказала: — Очень мило с их стороны, что они навещают тебя, Фрэнк. Ведь вот твои старые друзья из левых совсем тебе изменили.
— Вернее, я изменил им.
— Ну, не знаю, Фрэнк. А ты не думаешь, что тебе следует… все-таки, может быть, и существует жизнь за гробом… Я никогда не была атеисткой, Фрэнк, и, право же, тебе…
— A-а, вот что! Стало быть, архиепископ старается вернуть меня в лоно церкви?
— Н-нет, но… мистер Уэст говорит, что любая религия лучше, чем безбожие. Сегодня утром, когда он уходил от нас, он сказал, что просил архиепископа заехать, потому что ему не хотелось бы, чтоб ты умер, как дикие звери, у которых нет ни души, ни бога.
— Я так и думал, что ты становишься набожной. Но я в бога не верю. И этому принципу я никогда не изменю. Религия — опиум для народа, она учит людей покоряться эксплуататорам. Я рационалист, я не верю ни в бога, ни в рай, ни в ад — даже теперь не верю, хоть и знаю, что мне недолго осталось жить. «Твори добро, ибо хорошо творить добро; не поддавайся, когда тебя соблазняют раем и устрашают адом», — с улыбкой процитировал Эштон. — Вот как думают рационалисты. И уж кто-кто, а Уэст помалкивал бы. Он каждый день нарушает все десять заповедей. У самого, наверно, совесть заговорила на старости лет. А все-таки, признаюсь, очень приятно, когда к тебе заглянет гость — хотя бы даже и архиепископ.
После этого у Эштона не было недостатка в гостях: еще дважды его навестил Джон Уэст, один раз — Фрэнк Лэмменс и Тед Тэргуд, которого дела опять привели на десять дней в Мельбурн, бывал у него чуть ли не ежедневно.
Наконец Тэргуд заговорил о мемуарах Эштона. — Надеюсь, вы не слишком браните своих старых друзей, Фрэнк. Да и что хорошего — грязь разгребать!
Тэргуд удивительно ловко завел этот разговор — Эштон ни на миг не заподозрил, что за всем этим неожиданным дружеским вниманием кроется какая-то тайная цель.
— Ну, мое маранье не много значит. Это все очень отрывочно. Не уверен, что после моей смерти кто-нибудь станет это печатать. Но кое-кому, боюсь, все-таки досталось. Может быть, я еще смягчу это, если хватит сил пересмотреть рукопись.
Видя, что Эштон не рассердился, Тэргуд в этот день не стал добиваться большего, но в следующий раз снова заговорил о том же.
В субботу Гарриет пошла навестить заболевшую приятельницу, а вернувшись от нее, застала Фрэнка Эштона на заднем дворе — он жег в мусоросжигалке какие-то бумаги. Когда она уходила из дому, он дружески беседовал с Тэргудом.
— Что ты делаешь, Фрэнк? — спросила Гарриет.
— Жгу часть своего маранья.
— Но почему? Ты вложил в это столько труда…
Он не ответил.
— Но послушай, Фрэнк, ты ведь всегда говорил, чтобы я напечатала это после…
— Вот что, Гарриет. Я жгу те главы, в которых речь идет о Тэргуде и Уэсте. В конце концов им, особенно Уэсту, я обязан тем, что я не нищий. И если они могут по-дружески относиться ко мне, когда я болен и стар, так и я могу избавить их от моих разоблачений.
Гарриет застыла в недоумении, а Эштон бросил в огонь последнюю пачку бумаг и смотрел, как они горят, время от времени помешивая их палкой, чтобы все сгорело дотла.
Порыв ветра подхватил последнюю горящую страницу и унес через забор. Оба видели, как она взлетела высоко в воздух и рассыпалась пеплом.
— Вот и исчезли последние остатки моего мужества, — сказал Фрэнк Эштон, и Гарриет заметила, что у него слезы на глазах.
Она вздохнула. Он отшвырнул палку и взял с земли трость. Неверной походкой, опираясь на руку Гарриет, он направился к дому.
* * *
Фрэнк Эштон, радостно взволнованный, попрощался с Гарриет и вместе с Морисом Блекуэллом поехал на собрание в Икс-клуб. Несколько дней назад они случайно встретились на улице, и Блекуэлл предложил старому приятелю поехать с ним на собрание.
До отъезда в Сидней Эштон состоял членом Икс-клуба. Каждый месяц там происходили собрания. Эштон окрестил его «обществом давно отвергнутых социалистических идей». Многие члены клуба когда-то поддерживали социалистическую партию Тома Манна и теперь, «выйдя в люди», выступали на собраниях клуба с крамольными речами, отлично зная, что они нигде не будут напечатаны. Но когда Фрэнк Эштон шел к трамвайной остановке, опираясь на трость и на руку Блекуэлла, он обо всем этом забыл. Впервые за много месяцев ему предстояло провести вечер вне дома. Сделал он это, разумеется, в нарушение запрета врача, но Фрэнк подумал, что лучше смерть, чем полный отказ от общения с людьми.
К Блекуэллу он относился дружески и считал его одним из немногих честных деятелей, сохранившихся в лейбористской партии. Блекуэлл по-прежнему занимал в парламенте место, освободившееся после ухода Эштона. Эштон ни разу не пожалел о том, что после своей отставки содействовал победе Блекуэлла над католиками на выборах депутатов в парламент.
В трамвае Эштон много говорил, как всегда, когда бывал взволнован. В клубе старые друзья встретили его с распростертыми объятиями. Все столпились вокруг него; он чувствовал, что не забыт.
Незнакомый Эштону докладчик говорил о войне в Европе. Почти с первых же слов он начал нападать на Советский Союз за только что закончившуюся войну в Финляндии. Об угрозе германского фашизма он сказал очень мало, о японском милитаризме даже не упомянул, зато клеветал на СССР и отстаивал союз с Гитлером для вторжения в Россию.
Фрэнк Эштон слушал оратора, и его радостное возбуждение постепенно сменялось мрачным унынием. Потом его охватило негодование, и ответы на выпады докладчика так и просились у него на язык.
Доклад кончился под жидкие хлопки, и председатель открыл прения. Он спрашивал по очереди всех присутствующих — их собралось около двадцати — не желает ли кто-нибудь взять слово. Эштон был третий, к кому он обратился. Фрэнк чувствовал, что находится в том состоянии величайшего нервного подъема, который всю жизнь служил ему залогом удачного выступления. Он уже хотел подняться с места, но вдруг вспомнил предостережение, так настойчиво повторяемое доктором: «Никаких волнений. Если вы слишком разволнуетесь, вам грозит сердечный припадок или удар. Никаких волнений».
Эштон отрицательно покачал головой. — Нет, благодарю вас. Я не буду выступать.
Кто-нибудь да ответит же этому субъекту, думал он. Сердце отчаянно колотится. Нечего в мои годы лезть на трибуну.
Несколько человек выступили с краткими речами. Большинство ораторов обходило основную тему доклада; кое-кто, в том числе и Блекуэлл, нерешительно вступился за Россию. Фрэнк Эштон еле сдерживал гнев и возмущение. Он знал совершенно точно, что нужно сказать, чтобы разоблачить клеветника, ему достаточно было привести выдержки из «Красной Европы» и рассказать о фактах, с которыми он познакомился в последнее время.
Прения кончились. Председатель уже собирался поблагодарить присутствующих и закрыть собрание.
Фрэнк Эштон с трудом поднялся на ноги. Никаких волнений!
— Господин председатель, можно мне сказать несколько слов?
— Разумеется, прошу вас.
Все, кто был в зале, почувствовали, что этот сгорбленный старик, плохо одетый, с потрепанным шарфом, обмотанным вокруг шеи, еще силен и молод душой.
— Господин председатель, — начал Фрэнк Эштон. — Неужели наш клуб так низко пал, что мы позволяем в его стенах произносить речи вроде той, которую мы сегодня слышали? Все мы — социалисты, по крайней мере когда-то были социалистами. Я всегда считал, что тот, кто называет себя социалистом и в то же время не является сторонником и другом страны социализма, либо дурак, либо подлец.
Эштон, как бывало в старину, обеими руками отбросил со лба волосы. Слушатели уже ловили каждое слово оратора, подчиняясь обаянию его испытанного красноречия.
— За время моей многолетней деятельности в рядах лейбористской партии я подчас ошибался, подчас проявлял слабость — самое крепкое дерево иногда гнется под натиском бури, — но в одном вопросе не колебался никогда. В России рабочий класс строит социалистическое общество. Я всегда сочувствовал этому великому опыту и с жадностью изучал его. Я дважды побывал в России; второй раз — всего три года назад. То, что я видел, убедило меня, что защита Советской России — величайшая задача, стоящая перед прогрессивным человечеством. Финская кампания, господа, была проведена ради защиты Советской России. Линия Маннергейма была возведена не для защиты, а для нападения. Она была возведена на деньги Англии и Германии как плацдарм для вторжения в Россию. Маннергейм — это тот самый пресловутый «мясник», о котором я столько слышал во время моего путешествия по Европе. Позвольте мне посоветовать вам, всем и каждому, перечесть мой скромный труд «Красная Европа». Там вы узнаете правду о Финляндии и ее фашистском правителе — Маннергейме. Там вы увидите, как далеко заходил капиталистический мир в своих первых отчаянных усилиях задушить Советскую Россию.
Эштон весь дрожал от возбуждения. Сердце бешено стучало, но мысль работала четко, с прежней силой.
— Англия и Франция объявили войну Германии; в этой войне противники еще не обменялись ни единым выстрелом. Но месяц назад, до капитуляции Финляндии, английский военный совет постановил послать экспедиционный корпус, численностью не меньше ста тысяч человек, через Швецию и Финляндию. Предполагалось также напасть на нефтяные промыслы в Баку, как это было сделано во время интервенции, когда вооруженные силы всего мира тщетно пытались сломить мощь рабочего государства. Теперь Чемберлен признает, что в Финляндию были посланы пушки и самолеты. Не безумие ли это? Англия сама плохо вооружена, а посылает вооружение в Финляндию. Для этого может быть только одно объяснение: Чемберлен и сейчас рад бы заключить с Гитлером союз против России. Оглянитесь на события, приведшие к войне! Не верьте прессе миллионеров, которая подняла вой, оттого что Советский Союз заключил с Германией пакт о ненападении. При той политике, которую проводили Англия и Франция, у СССР не было иного выбора для защиты рабочего государства.
Эштон провел рукой по волосам. Пока он говорил, отчетливо рисуя перед своими слушателями ход событий, приведших к войне, его сгорбленное тело распрямилось и лицо густо покраснело.
— Я видел войну, и я ненавижу войну. Я ценю человеческую жизнь, но я не могу проливать слезы над «бедными, слабыми финнами», — я оплакиваю жертвы фашизма. И если когда-нибудь мне на ум придут молитвы, я на коленях возблагодарю бога, что у вождей Советской России достало дальновидности и мужества отодвинуть от своей границы линию Маннергейма, и буду молиться о том, чтобы простые люди западного мира потребовали союза с СССР для борьбы против фашистской чумы. Это жизненно важно для Австралии, ибо Япония — одна из стран антикоммунистической оси, и она готовится к нападению на нас. Поверьте мне, я был на Востоке, я знаю что говорю.
Фрэнк Эштон упал на стул, держась за сердце и судорожно глотая воздух. С минуту стояла мертвая тишина, потом раздались восторженные аплодисменты.
Докладчик был явно смущен. Председатель закрыл собрание, и все, по обычаю, отправились ужинать в соседнее кафе. Эштон был весь в поту, его била дрожь. Есть он не мог.
На обратном пути, в трамвае, Блекуэлл сказал:
— Замечательно вы говорили, Фрэнк, это одна из ваших лучших речей.
Фрэнк не ответил. Они молча доехали до остановки, где Эштону нужно было сходить.
— Мне кажется, вам нехорошо, Фрэнк, — сказал Блекуэлл. — Слишком переволновались. Я провожу вас.
— Нет, Морри, не нужно, спасибо. Я дойду сам.
Он вышел и медленно заковылял по переулку. Когда до дому оставалось шагов сто, он вдруг остановился, тяжело опершись на трость, и схватился за сердце.
Четверть часа спустя Гарриет, поджидавшая Фрэнка, услышала громкий стук. Отворив дверь, она увидела двух незнакомых мужчин; они под руки поддерживали задыхающегося Фрэнка.
— Мы нашли его у шлагбаума.
Они помогли Гарриет уложить его в постель, потом пошли за врачом.
С Фрэнком Эштоном был удар. Он умер через две недели. Его последняя воля — гражданская панихида и кремация — была выполнена. Провожали покойника его два сына с женами, Гарриет, Блекуэлл, Джон Уэст и Фрэнк Лэмменс. Плакала одна только Гарриет.
Гарриет хотела отдать рукописи Фрэнка Эштона его старшему сыну, но тот отказался наотрез, после того как его жена, набожная католичка, прочла антиклерикальные статьи Эштона. Гарриет отправилась к Фрэнку Лэмменсу и предложила ему издать рукописи, но он сказал, что на такие коммунистические сочинения нет спроса. Тогда она отнесла рукописи в лейбористскую организацию. Там заинтересовались ими, обещали напечатать. Гарриет обрадовалась. Через неделю ее вызвали и сообщили, что так как рукописи, к сожалению, пестрят нападками на лейбористскую партию, то они напечатаны не будут.
Отчаявшись, Гарриет аккуратно сложила рукописи и убрала их в старый сундук. В последующие годы она время от времени безуспешно пыталась найти для них издателя.
* * *
После смерти Фрэнка Эштона Джон Уэст часто похвалялся: — Это я продвинул Эштона в политику. Он был самым талантливым из лейбористов; другого такого оратора в Австралии вообще не бывало.
Хотя его скаковая конюшня сильно уменьшилась за последние годы, он все же через Пэдди Райана приобрел однолетку и назвал ее «Эштон». Этой лошади не суждено было взять ни одного приза за все время, пока она принадлежала Джону Уэсту.
По мере того как развертывались бурные события 1940 года, Джон Уэст все сильнее проникался верой в непобедимость гитлеровских армий. Голландия! Дания! Норвегия! Франция! Британские войска сброшены в море у Дюнкерка! Бомбардировка Англии! Хорошо еще, что Черчилль сменил Чемберлена!
Когда Муссолини объявил войну разгромленной Франции, Джон Уэст несколько смутился. По своему образу мыслей он сам был ярый фашист, но ненависть ко всему немецкому сделала его противником Гитлера; однако, будучи горячим поклонником режима Муссолини, он не знал теперь, какую ему занять позицию.
Как-то, повстречавшись с архиепископом, он высказал ему свои сомнения. Тот ответил: — Я согласен с маршалом Петэном — лучше Гитлер, чем коммунисты.
— По-моему, Муссолини не следовало бы вступать в войну на стороне Гитлера, — возразил Джон Уэст. — Если немцы победят, наши семьи, наши домашние очаги будут под ударом.
— Муссолини не дурак. Он, должно быть, уверен, что Гитлер победит, и, ей-богу, он, кажется, прав, — настаивал архиепископ.
Джон Уэст обрадовался, когда после падения Парижа правительство Мензиса запретило австралийскую Коммунистическую партию. Он вспомнил о дочери. На его вопрос Нелли ответила, что около месяца назад получила от Мэри письмо. Мэри сообщала, что вторично вышла замуж. От старшей сестры она известий не имела.
— Бедная Марго, может быть, уже умерла или мучается в концлагере, а Мэри не сегодня-завтра убьет бомбой, — причитала Нелли.
Если Джона Уэста и тревожила судьба дочерей, он все равно не сознался бы в этом. Они сами виноваты, вот теперь и расплачиваются за свое упрямство.
В белом особняке было уныло и пусто. В сорока комнатах жили только Джон Уэст, Нелли и Джо да трое слуг. Джон и Нелли почти не разговаривали друг с другом. Джо относился к отцу, как к постороннему человеку, и только смеялся, когда тот советовал ему вступить в армию. Старший сын редко приезжал из Сиднея и во время своих коротких посещений часто выпивал, был угрюм и молчалив, а чтобы не встречаться с отцом, вставал поздно и возвращался домой уже после семейного обеда.
В начале 1941 года Джон, не посоветовавшись с отцом, вступил в армию рядовым. Сперва Джон Уэст рассердился, потом в нем зашевелились патриотические чувства, и он стал гордиться мундиром сына. Приехав в отпуск, Джон сказал матери, что играет на корнете в полковом оркестре. Джон Уэст расщедрился и, купив полный набор духовых инструментов, пожертвовал их воинской части, в которой служил его сын. Однако, к великой досаде Джона Уэста, Джона вскоре демобилизовали, признав его негодным для военной службы по состоянию здоровья — рядовой Уэст так дурно вел себя, что начальство радо было избавиться от него.
Джон Уэст видел, что война благоприятствует бизнесу: безработица исчезла, обороты увеличились; многие фирмы, где он состоял пайщиком, получили выгодные военные заказы. Никогда еще Джон Уэст не богател так стремительно, но это не радовало его — им часто овладевал какой-то смутный гнетущий страх — страх перед будущим. Ход войны беспокоил его. Он отлично знал, что его власть и богатство неразрывно связаны с английским и австралийским крупным бизнесом: мало-помалу он начал ненавидеть и бояться немцев не меньше, чем в первую мировую войну.
Как и в прошлую войну, политическая власть его уменьшилась, а конца войне не видно, да и победа сомнительна. Премьер Дэвисон хоть и нуждался в поддержке лейбористов, оплачиваемых Джоном Уэстом, однако не прочь был послужить и другим сильным мира сего, помимо Джона Уэста. В лейбористской партии прямое влияние Джона Уэста теперь ограничивалось штатом Виктория; правда, и в других штатах, особенно в Куинсленде, он все еще вносил щедрую лепту в фонд лейбористской партии, что и обеспечивало ему невмешательство судебных властей в его спортивные предприятия. Внутри лейбористской партии зашевелились группы Католического действия. Джон Уэст поддерживал эти группы в их крестовом походе против коммунизма и против пункта о социализации в программе их собственной партии; но это были не его подручные, а пособники папы; они пускались на любые махинации, чтобы продвинуть своих кандидатов на выборах, и в некоторых округах они могли рассчитывать на победу над кандидатами Джона Уэста. План, впервые пришедший ему на ум во время ирландского восстания 1920–1921 годов, — объединить в личных целях свою испытанную политическую машину с новым поколением лейбористов-католиков — грозил обернуться против него. К тому же после вступления в войну России в лейбористской партии чувствовалось явное полевение, что отнюдь не радовало Джона Уэста. В довершение всего среди его собственных агентов появились признаки бунта.
В это время в правительстве штата Виктория назревал кризис. Ловкач Алфи Дэвисон сумел предотвратить падение кабинета, но кризис отразился на кампании по выдвижению кандидатов от лейбористской партии. Результаты баллотировки расстроили Джона Уэста. Прошло несколько представителей левого крыла, правда, в тех округах, в которых он не имел влияния. Но прошли и кандидаты Католического действия, и хотя кое-кто из них держал руку Джона Уэста, все же большинство заботилось только о процветании церкви и о своем собственном благе. А хуже всего было то, что в районе Керрингбуша, в самом сердце империи Джона Уэста, Рон Ласситер и его сын Колин провели своего кандидата, одержав победу над Коттоном, ставленником Джона Уэста, уже четверть века переизбиравшемся в этом округе. Это был явный бунт со стороны Ласситеров, и отца и сына. Дело в том, что на последних выборах в профсоюзе строителей кандидаты левого крыла одержали победу над стариком Ласситером и его кликой, несмотря на то что баллотировка была подтасована по испытанной системе Джона Уэста. Рон Ласситер, который, невзирая на свои семьдесят лет, по-прежнему швырял деньгами, очутился на мели; когда он обратился за помощью к Джону Уэсту, тот отказал наотрез, а Колин Ласситер, хоть и «работал» еще в ролстонском муниципалитете, так и не простил Джону Уэсту, что тот не оставил его на посту мэра. И вот отец и сын решили в отместку соорудить собственную избирательную машину, и притом в самой вотчине Джона Уэста.
Вечером после выборов Пэдди Келлэер явился в белый особняк и, заикаясь пуще обычного, доложил:
— С-сукин сын Л-ласситер со своей сволочью провалили К-коттона!
— Как же так? Почему вы не пустили в ход профсоюзные билеты?
— П-пустили, н… н… но у них билетов оказалось еще больше, чем у меня.
— Тогда свезите урну в комитет, как всегда. А там уж ваше дело.
Келлэер засмеялся. — Б-больше бюллетеней совать нельзя, не то их окажется больше, чем жителей в Ролстоне. Н-но если бы я добрался до урны, я бы устроил, чтобы Коттон прошел большинством одного голоса.
— Ну и забирайте урну.
— Пробовал. Н-не дают. Ее увезли в городской клуб.
— Ступайте и заберите ее.
Недолго думая, преисполненный отваги, Келлэер один отправился в клуб, где торговали спиртным после положенного часа. В баре он застал Колина Ласситера, его брата Джима, старика Рона и их приятелей за выпивкой в честь одержанной победы.
Урна лежала на диване; Пэдди ринулся к ней, подхватил ее одной рукой и пустился наутек, успев, однако, крикнуть: — И не стыдно оставлять урну в з-злачном месте!
Выбегая в коридор, он услышал голос Колина Ласситера: — Не пожалею пяти фунтов, лишь бы получить урну обратно!
Келлэер выскочил на улицу и бросился к своей машине; урну он поставил на сиденье рядом с собой. Но тут он услышал за спиной топот ног, а когда машина тронулась, грузный мужчина прыгнул на заднее сиденье и захлопнул дверцу.
Келлэер сказал не оборачиваясь: — П-прошу без глупостей!
— А ты лучше отдай урну, Пат. На этот раз мы тебя перехитрили.
Когда Келлэер, увидев красный свет, остановил машину, он почувствовал на затылке холодное прикосновение револьверного дула.
— Отдай урну, Пат, — сказал угрожающий голос, — или я выпущу тебе мозги.
— Б-брось дурить… — начал было возражать Келлэер, нажимая на стартер, так как красный свет сменился зеленым.
— Так на ж тебе! — сказал человек на заднем сиденье. Келлэер почувствовал удар по черепу, и из глаз его посыпались искры. Непрошеный седок, пользуясь тем, что оглушенный ударом Келлэер не проявлял признаков жизни, схватился за руль, не без труда подвел машину к тротуару и вышел. Потом он спрятал револьвер, взял урну под мышку и бросился бежать через парк.
На другое утро об этом случае кричали все газеты. Келлэер заявил, что урна украдена неизвестным лицом и что баллотировку кандидатов нужно признать недействительной. Розыски полиции не дали ничего. Джон Уэст вызвал Колина Ласситера и пригрозил, что выкинет его из ролстонского муниципалитета, если он еще раз сунется. Назначили новые выборы кандидатов, и Коттон с легкостью одержал победу благодаря несравненному искусству Келлэера подтасовывать бюллетени.
В том же году лейбористы пришли к власти в федеральном парламенте; пост премьера занял Джон Кэртен. Джон Уэст остался доволен; он считал, что для военного времени лучшего лидера не подберешь, но он не связывал с новым премьером грандиозных планов, как в 1929 году, когда эту должность занял Саммерс. Его влияние в федеральном правительстве было невелико: он мог опираться только на горсточку людей, преимущественно депутатов от штата Виктория; он знал, что федеральный парламент будет защищать интересы миллионеров, а значит, и его, Джона Уэста, интересы; большего он не ждал.
Война, естественно, по-прежнему занимала его мысли, и он, сидя в удобном кресле, внимательно следил за положением на фронтах.
Когда Гитлер вторгся в Россию, Джон Уэст присоединился к тем, кто предсказывал, что Россия продержится только шесть недель; а когда Россия продержалась не шесть недель, а уже шесть месяцев и погнала гитлеровцев обратно на запад, он начал восхищаться Советской Армией и, к великому негодованию архиепископа Мэлона, заявил однажды: — Видно, русские довольны своим режимом; они хорошо защищают его.
Ответ Мэлона, что, если они не пойдут в бой, их расстреляют, не разубедил его.
Джон Уэст относился к Советскому Союзу, как утопающий, которого спасает ненавистный враг: он был благодарен России, восхищался доблестью ее воинов, но можно было не сомневаться, что, как только из его легких выкачают всю воду, он тотчас же преисполнится прежней враждой и злобой.
В лейбористской партии раздавалось все больше голосов, протестующих против коалиции с Дэвисоном и аграрной партией, и в 1942 году конференция лейбористов вынесла решение: отказать Дэвисону в поддержке. Ставленники Уэста — прежде всего Брэди, Трамблуорд и Беннет — по требованию Джона Уэста не подчинились решению конференции, но им не долго удалось продержаться. Позднее премьер-министром, всего на одну неделю, стал лидер лейбористов Карр, а затем Объединенная партия Австралии поддержала Дэвисона, и он снова занял пост премьера.
Внимание Джона Уэста отвлекло от этих событий продвижение японцев на юг после нападения на Пирл Харбор.
— Теперь важно только одно — выиграть войну! — с жаром сказал он Фрэнку Лэмменсу.
Неудачи на Тихом океане уравновешивались победами, одерживаемыми на других фронтах. Английские войска, включавшие и 9-ю австралийскую дивизию, разбили немцев у Эль-Аламейна. У Сталинграда, защитники которого сковывали здесь силы противника, русские армии окружили немецких захватчиков и готовились уничтожить их.
В Мельбурне лихорадочно рыли бомбоубежища, объявляли учебные воздушные тревоги, обкладывали нижние этажи зданий мешками с песком — все это были зловещие признаки: война могла подойти и к австралийским берегам. Здание, где помещалась контора Джона Уэста, тоже было обложено мешками с песком, в подвале его было оборудовано бомбоубежище, в подвале белого особняка — другое. А потом — налет японцев на город Дарвин! Слухи о вторжении в Куинсленд и на Северную территорию! У Джона Уэста сердце замирало от страха. Потом японцев наконец задержали на Новой Гвинее и в Коралловом море, и он вздохнул с облегчением.
Политические соображения, выдвинутые архиепископом и другими знакомыми ему католическими деятелями, не поколебали уверенности Джона Уэста в том, что, пока идет война, нужно сотрудничать с Россией.
— Потом, может быть, мы будем воевать против России, но пока мы должны воевать с нею заодно, — говорил он.
Он даже выступал как сторонник открытия второго фронта в Европе. Фрэнк Лэмменс и Дик Лэм, усомнившись в его искренности, отказались предоставить стадион Обществу австралийско-советской дружбы. Узнав об этом, Джон Уэст сказал спокойно: — Пустите их на стадион. Пустите бесплатно. Я сам напишу им письмо. Сейчас не время отказывать им, это плохо для бизнеса.
Когда второй фронт открылся, Джон Уэст решил, что окончательная победа — лишь вопрос времени. Но он уже не мог, как в 1918 году, с радостью ждать конца войны, рассчитывая достигнуть еще большей власти. Ему было за семьдесят, и он чувствовал, что стареет; он устал и уже не надеялся расширить границы своей империи.
Джон Уэст всегда жил в расчете на будущее — теперь он начал понимать, что у него нет ничего впереди; и он не мог, как другие старики, обратиться мыслями к прошлому, потому что боялся укоров совести.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Я предаю душу свою в руки Спасителя моего с твердой верой, что обновленная и омытая его бесценной кровью, она незапятнанной предстанет пред небесным отцом моим… благословенный догмат о полном искуплении грехов через кровь Иисуса Христа…
Мы должны объединить свои силы для борьбы с коммунизмом. Мы должны уберечь рабочего от красного коварства. Мы должны позаботиться о том, чтобы он оставался внутренне здоровым.
Рано утром первого января 1946 года Джона Уэста разбудил настойчивый телефонный звонок. Он медленно приподнялся. Да, звонит телефон! Кто это может звонить в такую рань?
Он зажег лампочку у изголовья, откинул одеяло и встал с кровати. Надев домашние туфли, он прошел в соседнюю комнату, включил там свет и выглянул в коридор. Потом он медленно спустился по полутемной лестнице, и ему вдруг вспомнилась та ночь, когда Одноглазый Томми прибежал сюда чуть свет и сообщил ему, что О’Флаэрти захватил тотализатор.
Сердце у него сильно билось — слишком сильно. Врач сказал ему: «Берегите сердце, мистер Уэст. Пока ничего серьезного нет. Но помните — не сердиться, не уставать, не беспокоиться и не волноваться».
Телефон все еще пронзительно названивал. Кто это может быть? Что случилось?
Джон Уэст нащупал выключатель и вздохнул с облегчением, когда вспыхнул свет. Дрожащей рукой он снял трубку. — Хэлло!
Ответил управляющий из Сиднея: — Простите, мистер Уэст, что беспокою вас в такое неурочное время, но я счел своим долгом уведомить вас. Дело в том, что ваш сын Джон…
— Что он? Уж опять что-нибудь натворил?
— Час тому назад он упал с балкона своей квартиры. Разбился насмерть!
Джон Уэст не ответил. Мучительная боль сдавила ему грудь; его бросило в пот, и в то же время он весь дрожал. Он не мог пошевельнуться, а если бы и мог, поостерегся из страха, что сердце перестанет биться.
Вот о такой боли предупреждал его Девлин. Это все астма! Потрясение, которое он испытал, услышав о смерти сына, уже прошло — осталась только пугающая боль в сердце и чувство обреченности.
— Хэлло! Вы меня слушаете, мистер Уэст? Хэлло!
Боль прошла так же внезапно, как появилась.
— Да, я вас слушаю.
— Мне очень жаль, мистер Уэст, но я думал, что мой долг…
— Ничего, ничего. Распорядитесь насчет похорон. Я прилечу самолетом.
— И еще, мистер Уэст… Не знаю, как сказать вам, но кто-нибудь должен же поставить вас в известность. Имеются сомнения относительно того, упал ли он… ваш сын… или бросился.
Положив трубку, Джон Уэст медленно начал подниматься по лестнице. Сверху послышался голос Нелли: — Кто это звонил? Что-нибудь случилось?
Дойдя до верхней ступеньки, он так же медленно направился к жене, стоявшей в дверях своей спальни. Его знобило, на лбу выступил холодный пот, ладони были липкие.
— Что случилось? — вскрикнула Нелли, вглядевшись в него.
На ней был халат, второпях накинутый поверх ночной рубашки, седые волосы растрепались и в беспорядке висели вдоль морщинистых щек. Точно страшная старая ведьма, мелькнуло в уме Джона Уэста.
— С Джоном несчастье. Он умер. Подозревают самоубийство, — сказал он с беспощадной краткостью, не оставляя Нелли сомнений в том, что сын покончил с собой.
Она пошатнулась, зарыдала и, еле передвигая ноги, потащилась к кровати. Он хотел было подойти к ней, но тут же передумал. Он ни разу не входил в эту комнату с тех пор, как… И не войдет никогда!
— Мы утром вылетим в Сидней, — сказал он, потом вернулся к себе и лег в постель.
Главное место в его мыслях занимала сильная боль, только что испытанная им. Может быть, вызвать доктора? Он решил подождать до утра. Он долго лежал неподвижно, прислушиваясь к биению сердца. Потом мысли его обратились к Джону. Покончил ли он с собой? Пьянство — вот что погубило его. Он, конечно, был плохим сыном; но ведь не так давно он сказал Кори: «Отец стал помягче, мы с ним теперь ладим».
С тех пор как у Джона Уэста открылась болезнь сердца, он стал бояться смерти — и теперь этот страх терзал его. Смерть была вокруг, повсюду.
Год назад умерла Вероника Мэгайр — погибла при автомобильной катастрофе. Когда Джон Уэст узнал об этом, он заплакал. Только теперь он понял, что Вероника была для него якорем спасения, надежной защитой от одиночества, страха смерти и угрызений совести.
Умер Арти, За несколько часов до смерти Артур Уэст выразил желание повидаться с братом; Джон Уэст был у постели умирающего. Сначала Арти говорил отрывочно, невнятно, но под конец сказал просительно и настойчиво:
— Вызволи Дика Брэдли из тюрьмы, Джек. Ты должен это сделать. А пока пусть Пэдди Райан передает ему сигареты и всякое такое. Я уж говорил Пэдди. Обещай, что ты вызволишь его!
— Но Брэдли осудили пожизненно, — возразил Джон Уэст. — Как я могу вызволить его?
— Он очень болен, у него рак. Долго не протянет, Пат, его племянница, опять берется ухаживать за ним. Поговори с комендантом тюрьмы и с министром, они тебя послушают. Обещай мне вызволить Брэдли.
Артур Уэст успел еще услышать, как его брат промямлил довольно неопределенное обещание исполнить его просьбу.
А потом пришло известие, что Марджори Уэст умерла во время войны в немецком концентрационном лагере. Нелли, убитая горем, слегла и несколько месяцев не вставала с постели, непрерывно жалуясь на боли в спине. По ее настоянию, Джо просил отца попытаться вывезти из Германии детей Марджори, но Джон Уэст отказался это сделать.
Сначала, узнав о смерти дочери, он только еще больше обозлился на зятя, Пауля Андреаса, но в последние месяцы он все чаще перебирал в памяти обстоятельства, при которых дочь его вышла замуж. Может быть, он был не прав в своих действиях и до и после этого брака? Он не мог отделаться от чувства вины и жалости к самому себе: ведь у него нет других внуков, кроме детей Марджори, а отец их — немец. И сейчас они, вероятно, все еще на его попечении.
Джон Уэст сунул руку под подушку и нащупал четки, лежавшие там вместе с револьвером. Он вытащил их и начал перебирать, молясь про себя: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое…»
Вот уже больше года Джон Уэст, охваченный страхом смерти, стал усердным, богомольным католиком. Когда доктор Девлин нашел у него болезнь сердца, Джон Уэст впервые задумался над догмами католической религии, над вероятностью загробной жизни и наказания за грехи в геенне огненной. Он обратился за разъяснениями к архиепископу Мэлону и по его совету начал изучать вопросы религии. Он прочел «Апологетику» Джексона и еще много разных книг и брошюр, включая послание папы о коммунизме. Потом он исповедался у архиепископа, покаявшись сразу в грехах всей своей жизни. Правда, покаяние вышло неполное и неглубокое — самых тяжких грехов Джона Уэста оно не коснулось, но все же заставило его оглянуться на прошлое.
Однажды Джон Уэст поведал Дэниелу Мэлону, что его беспокоят слова Иисуса о верблюде, которому легче пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царство небесное. Архиепископ весело засмеялся и ответил, что это изречение не следует понимать буквально: если богатый человек щедро одаривает церковь, жертвует на бедных и в смирении души соблюдает все религиозные обряды, то он может войти в царство небесное с такой же легкостью, как всякий другой. Успокоенный, Джон Уэст вступил в Братство святого сердца. Церковь обещала очистить его от грехов и избавить от вечной кары на том свете — ради этого он стал исповедоваться и причащаться каждую неделю.
Но так же как болезнь сердца породила страх смерти, частые исповеди породили угрызения совести. Страх и раскаяние разрушили стены, которыми он окружил себя, и уже не переставали терзать его до самой смерти.
* * *
Через год с небольшим Нелли Уэст, теперь сгорбленная, увядшая старуха, ввела в гостиную белого особняка архиепископа Мэлона и двух незнакомых мужчин.
Мэлону было восемьдесят лет; глаза, окруженные черной тенью, ввалились, губы стали тоньше, седые волосы и брови поредели, плечи ссутулились; он очень похудел, под морщинистой кожей обозначились кости лица и рук; но держался он по-прежнему с достоинством, двигался энергично и почти не утратил проницательности и сметки.
Трое посетителей поклонились хозяину и уселись полукругом перед его креслом. Семидесятисемилетний Джон Уэст уже не казался моложе своих лет, и во всей его позе чувствовалось крайнее утомление.
Когда Нелли вышла из комнаты, архиепископ отрекомендовал своих спутников.
— Мистер Уэст, это мистер Парелли, секретарь Католического действия.
Парелли приветствовал Джона Уэста с явно подчеркнутой теплотой; это был стройный, несколько женоподобный человек; маленькие беспокойные глазки и тонкие злые губы изобличали в нем религиозного изувера, который не остановился бы ни перед чем ради блага своей церкви.
— Мистера Кригана вы, конечно, знаете, мистер Уэст.
Джон Уэст отлично знал Кригана. В течение нескольких лет Джон Уэст старался выдвинуть его на пост лидера лейбористской фракции в парламенте штата Виктория. Из всех молодых членов Католического действия Криган пользовался наибольшим расположением Джона Уэста, потому что с равным усердием служил и католической вере, и своему покровителю.
Неопрятный черный костюм чуть не лопался на нем. Он сложил на толстых коленях пухлые, словно бескостные руки — точь-в-точь карикатура на попа-иезуита в каком-нибудь протестантском журнале.
— Да, мы с мистером Уэстом знакомы, — сказал он, причмокивая толстыми, чувственными губами.
— Как я уже говорил вам, мистер Уэст, — начал архиепископ, — я привел своих друзей, чтобы обсудить с вами работу Католического действия внутри лейбористской партии. Суть дела изложит мистер Парелли — он это сумеет лучше меня.
Джон Уэст не ответил. Он догадывался, что гости явились за денежной поддержкой Католическому действию, уже ставшему угрозой для его политической империи: недавно один из членов этой группы, некий Майкл Кили, при выдвижении кандидатов от Ролстона побил ставленника Джона Уэста.
Состязались три соперника: Коттон, поддерживаемый Джоном Уэстом, Джим Ласситер (брат Колина), которого выдвигала клика старика. Ласситера, и Кили — кандидат Католического действия. Из пяти лейбористских организаций округа Кили распоряжался двумя, подручные Джона Уэста тоже двумя, а Ласситер с сыном — одной. До войны все пять были подвластны Джону Уэсту; но ссора с Ласситерами и усиление Католического действия привели к тому, что он потерял свои позиции.
Жульничали все три кандидата, неудачнее всех — старая развалина Коттон. Голосовали отсутствующие, голосовали покойники; поддельные профсоюзные билеты широко использовались всеми соперниками. За час до конца баллотировки предварительный подсчет голосов показал, что впереди идет Джим Ласситер, нагоняет его Коттон, а Кили остался далеко позади. Но за пять минут до конца на туристских машинах примчались триста избирателей Кили. Это были юнцы из Католического действия, из Общества святого имени и Союза детей богоматери. При проверке документов выяснилось, что они уже несколько месяцев назад были тайно завербованы в лейбористские организации, которыми заправлял Кили.
Двум другим кандидатам не оставалось времени для контрудара. Кили с легкостью выиграл скачку. Коттон пришел последним. Джон Уэст, в бешенстве, поклялся отомстить.
— Так вот, мистер Уэст, — начал Парелли, вынимая из портфеля толстую пачку бумаг, — здесь у меня имеется последний отчет организации «Движение», которая, как вам известно, является рукой Католического действия в профессиональных союзах.
Джон Уэст рассеянно кивнул, Парелли начал цитировать отдельные места отчета.
«…По очевидным причинам мы не можем работать открыто в качестве членов организации Католического действия, но, прикрываясь названием „Движение“, мы выполняем высокую миссию Католического действия».
Парелли обрисовал деятельность Движения в борьбе против коммунизма, стачек и прогрессивных идей среди членов профсоюзов. Он напомнил о послании папы, в котором тот призывал организовать рабочих-католиков для пропаганды католических взглядов среди рабочих и для борьбы против социализма и коммунизма.
— B каждой епархии или приходе, — продолжал Парелли, — мы открываем ячейки Движения, и такие же группы мы организуем на многих заводах и в профсоюзах. Мы составляем списки некоммунистов, и особенно антикоммунистов, которые не принадлежат к католической церкви, с целью вовлечь их в Движение или, по меньшей мере, склонить к сотрудничеству с нами. На профсоюзных выборах мы выставляем своих кандидатов против коммунистических и прогрессивных деятелей. Мы уже добились кое-каких успехов и ожидаем больших, если сумеем продержаться.
Да, да, сердито думал Джон Уэст, и проваливаете моих людей при выдвижении кандидатов-лейбористов. Но об этом вы помалкиваете. Еще бы!
Почувствовав, видимо, враждебность Джона Уэста, Парелли сказал: — Я хочу, чтобы вы поняли, мистер Уэст, что цель нашей борьбы — защита частной собственности от нечестивого коммунизма. Мы помогаем промышленникам устранять коммунистов и прогрессивных лидеров, искоренять социалистические идеи среди рабочих. Мы, разумеется, не можем открыто выступать против повышения заработной платы, но мы пропагандируем положение о том, что вместе с ростом заработной платы растут и цены. Коммунисты, пользуясь своим влиянием в профсоюзах, объединяют рабочих для борьбы за высокую заработную плату и в конечном счете за социализм, который отвратит рабочих от христианства. А мы с вами, мистер Уэст, знаем, как это опасно, не правда ли?
Парелли говорил о рабочих, ничего не зная о них. Сам он никогда не работал: отец его разбогател на торговле католическими молитвенниками, статуэтками святых, четками и тому подобным товаром. Парелли сначала вступил в Ассоциацию националистской молодежи; затем, решив заняться политикой в интересах католической церкви, он сблизился с лейбористской партией и вступил в ее ряды. Состоял он и членом союза конторских служащих.
— Как вам известно, мистер Уэст, в прошлом месяце конференция лейбористской партии постановила организовать по всей Австралии лейбористские группы на промышленных предприятиях. Это постановление скоро будет утверждено федеральным исполнительным комитетом, и тогда наше Движение под прикрытием лейбористской партии сможет действовать по всей стране.
Парелли сделал паузу, чтобы вставить сигарету в розовый мундштук. Курил он не спеша, жеманно отставив согнутый мизинец.
Криган хранил невозмутимое молчание. Он решил не лезть вперед, пока не узнает мнения Джона Уэста.
Вот сейчас заговорит о деньгах, — думал Джон Уэст. — Ни гроша они от меня не получат!
— Члены Католического действия, — продолжал Парелли, — составят ядро промышленных групп. Мы и теперь уже пользуемся большим влиянием во многих лейбористских организациях, а в будущем году, к созыву конференции, в наших руках будет вся лейбористская партия штата Виктория.
Джон Уэст, который до сих пор слушал полузакрыв глаза, пошевелился в кресле и свирепо воззрился на Парелли. Лейбористская партия — в их руках! Вот оно что! Ну, это мы еще посмотрим!
— Вы хотите прибрать к рукам лейбористскую партию? — крикнул он. — Посмотрим! Я…
— Вы не так выразились, мистер Парелли, — вмешался Мэлон. — Вы хотите сказать, что сумеете сделать так, чтобы лейбористская партия вслед за Католическим действием проводила политику, направленную против коммунизма, социализма, национализации банков, бесплатной медицинской помощи и так далее.
— Совершенно верно, ваше преосвященство, — согласился Парелли. — Мы неоднократно обращались к федеральному лейбористскому правительству с требованием принять меры против коммунистов, но безуспешно. Даже многие лейбористы-католики не хотят открыто выступать за запрещение коммунистической партии или поддерживать Движение. Как сказано в отчете: «До тех пор, пока Движение не окрепнет настолько, что с ним будут считаться, и пока его члены не получат возможность разъяснять рабочим-католикам, какая опасность таится в безраздельной преданности в отношении какой-либо политической партии, до тех пор мы не можем ждать никаких изменений в политике федерального лейбористского правительства». Видите ли, мистер Уэст, большинство католиков в Австралии — рабочие, и они поддерживают лейбористов. Они приветствуют законопроект Чифли о национализации банков и бесплатной медицинской помощи. Это чрезвычайно пагубно для Движения, мистер Уэст, — закончил Парелли, обиженно поджимая губы.
— А почему бы вам не образовать самостоятельную католическую партию, по типу партий центра в странах Европы? — спросил Джон Уэст.
Трудно обломать старика, подумал Парелли.
— Я и сам стою за это, но его преосвященство…
— Это весьма желательно, мистер Уэст, — вмешался Мэлон, — но, к сожалению, невозможно, по крайней мере в настоящий момент. Среди наших католиков очень сильны лейбористские традиции. Образовав свою партию, мы тем самым оттолкнули бы от себя многих наших же людей. То же произошло бы с самостоятельными католическими профсоюзами. Такие существуют в Европе, но большинство австралийских католиков остались бы в своих профсоюзах.
Криган раскрыл свои рыбьи глаза и проговорил: — В прошлом году, вопреки моему желанию, было образовано два таких профсоюза и мы потеряли много сторонников. Нам нужно работать внутри существующих союзов.
Но Джон Уэст не сдавался. — А вот архиепископ О’Коннор говорит, что лейбористы-католики должны выступать против законопроекта о национализации банков, а потом, когда их исключат из лейбористской партии, образовать партию католическую.
Мэлон тихонько рассмеялся. — Ну, мистер Уэст, архиепископ О’Коннор известный чудак. Он даже стоял за всеобщую воинскую повинность.
Спохватившись, архиепископ судорожно глотнул воздух, как будто хотел вернуть нечаянно вырвавшиеся слова. — Могу заверить вас, мистер Уэст, — продолжал он, — что остальные архиепископы и представитель Ватикана не одобряют этого предложения. Сейчас мы должны направить все свои силы на то, чтобы провести наших людей в Канберру и убедить лейбористов-католиков старшего поколения более решительно выступать против коммунизма.
Я тоже не желаю образования католической партии, признался себе Джон Уэст. Наших людей в Канберру! Это значит их людей, а не моих!
Между тем Парелли заговорил снова: — Как сказано в отчете, мы должны разъяснять положение католикам. В этом смысле публичные заявления его преосвященства, осуждающие коммунизм, законопроект о национализации банков и о бесплатной медицинской помощи следует признать неоценимыми. Но, как указал мне его преосвященство, подобные речи могут навлечь на него обвинение в том, что он вмешивается в политические дела мирян. Социалистически настроенные католики уже говорят об этом. Такие нарекания можно пресечь лишь в том случае, если Движение окажется настолько сильным, чтобы навязать свою политику лейбористской партии и профсоюзам и убедить католиков, что безоговорочная преданность лейбористской партии — неправильный путь. Например…
Куда он клонит? — устало подумал Джон Уэст.
— …например, мистер Уэст, вы, несомненно, читали в газетах, что его преосвященство созвал трамвайщиков-католиков на завтрак за несколько часов до митинга и предостерег их, чтобы они не голосовали за предложение исполнительного комитета профсоюза, где хозяйничают коммунисты; вы ведь знаете, они предлагали объявить забастовку в знак солидарности с бастующими металлистами. Если бы Католическое действие имело в профсоюзе трамвайщиков более крепкое ядро, его преосвященство был бы избавлен от необходимости делать такие щекотливые заявления.
Джон Уэст пристально посмотрел на Парелли. Зачем он мне все это рассказывает? Какая-то загвоздка тут есть.
— Мы не забываем и о молодежи, — ораторствовал Парелли. — Нам уже удалось завербовать три тысячи человек из Ассоциации католической рабочей молодежи. Мы открыли несколько школ, где они проходят специальное обучение. Это они придумали доносить хозяевам о коммунистах. Если какой-нибудь коммунист проявляет активность и пользуется влиянием на заводе, они докладывают о нем мастеру или управляющему и добиваются его увольнения. Иногда это удается, но бывает и так, что хозяин, если у него не хватает рабочих рук, отказывается уволить коммуниста, заявляя, что это несправедливо. Мы работаем и в других организациях, кроме лейбористской партии и профсоюзов, а именно в Обществе ветеранов войны; там мы главным образом играем на патриотизме и называем коммунистов агентами России.
Мэлон опять рассмеялся. — Даже я готов кричать «ура» Англии, лишь бы разгромить коммунистов.
— У нас большие затруднения, мистер Уэст. Многие наши католики поддерживают коммунистов и прогрессивных деятелей профсоюзов и голосуют за них на профсоюзных выборах. Вот что сказано об этом в отчете: «Союз сталелитейщиков штата Виктория насчитывает десять тысяч членов, но, несмотря на наши многолетние усилия, среди них имеется только шесть надежных католиков». Такая же картина и в Сиднее; мы убедились на опыте, мистер Уэст, что именно в среде неквалифицированных рабочих наблюдается резкое падение религиозности. Нельзя отрицать того факта, что многие католики возражают против деятельности Движения, но мы надеемся преодолеть недовольство с помощью лейбористских промышленных групп, которые служат нам ширмой. Я оставлю вам копию отчета, мистер Уэст. Там вы найдете сведения о всех профсоюзах. А теперь я подхожу к самому главному: откуда возьмутся деньги?
Джон Уэст поднял голову и уставился на Парелли. Так и есть, подумал он. Расплачиваться должен я!
— До сих пор, если не считать членских взносов, финансовую помощь Движению оказал только его преосвященство, пожертвовав самолично пять тысяч фунтов. На эти деньги мы и открыли нашу газету «Свобода». Но мы уже исчерпали свои средства. Из-за того, что мы не в состоянии держать достаточное число платных работников, наши лидеры совсем выбились из сил. Вот мистер Криган, например, работает день и ночь, и это очень сильно отразилось на его здоровье. За прошлый год, мистер Уэст, нам пришлось по настоянию врачей четверым из самых незаменимых наших деятелей предоставить длительный отпуск. Если так будет продолжаться еще год, Движение прекратит свое существование, оставшись без руководства. В настоящее время основную тяжесть работы в штате Виктория несу я, мистер Криган и Майкл Кили, депутат от Ролстона.
Парелли поспешно прикрыл рот ладонью, словно пытаясь удержать на губах имя Кили.
— Кили! — воскликнул Джон Уэст. — Да ведь это просто жулик! Какой он католик? Он спекулирует религией! Он…
Криган заерзал на стуле, скорчив по адресу Парелли недовольную гримасу. Архиепископ деланно засмеялся: — Мистер Уэст и Майкл Кили не в восторге друг от друга, мистер Парелли. Но вы должны забыть о личных счетах. Суть в том, мистер Уэст, что Движению нужны деньги, большие деньги. Зная, как вы ненавидите коммунистов, и помня вашу давнюю и постоянную щедрость по отношению к нашей церкви, я посоветовал моим друзьям поговорить с вами.
Джон Уэст уже не сердился; его одолевали сомнения: значит, раскошеливаться должен он. И ничего не получит в обмен — власть будет не в его руках. Католическое действие проваливает его кандидатов-лейбористов. Кили и другие члены Движения агитируют против него внутри лейбористской партии. Этот самый Кили — один из лидеров Движения, а они хотят, чтобы он, Джон Уэст, выложил денежки! Но Католическое действие — против коммунизма; коммунисты отняли у него дочь, исковеркали ей жизнь; они — угроза для его религии, для богатства, которого он с таким трудом добился.
Он хмуро посмотрел на собеседников. «Если богатый человек щедро одаривает церковь, он может войти в царство небесное…» — вспомнились ему слова архиепископа.
— Сколько вам нужно? — угрюмо опросил он.
— Много, мистер Уэст, очень много, — ответил Парелли. — Пятьдесят тысяч фунтов.
— Пятьдесят тысяч! Вы что думаете — я Английский банк?
Наступило продолжительное молчание, потом Джон Уэст сказал: — Я дам вам эти деньги — при одном условии. Ваши люди выступают против моих людей, в этом нет ничего хорошего ни для вас, ни для меня. Среди моих кандидатов нет ни одного коммуниста. Если вы обещаете впредь не соперничать с моими людьми при выдвижении кандидатов, я выпишу вам чек.
Архиепископ открыл было рот, но передумал и ничего не сказал.
Криган пошевелился, но тоже предпочел смолчать. Наконец заговорил Парелли: — Боюсь, мистер Уэст, что такого ручательства я дать не могу. Далеко не все среди ваших людей — католики, и даже среди католиков много таких, которые открыто не борются против коммунизма и не помогают Католическому действию. Однако большинство из них нас устраивает, и я заверяю вас, что мы не будем противодействовать тем из них, кто проявит добрую волю; и наши депутаты, если совесть им велит, могут держать вашу руку в парламенте. Главное, мистер Уэст, — это церковь. Католическое действие весьма благодарно вам за то, что вы столь часто использовали свое влияние в парламенте в интересах церкви. Мы согласны с вами, что Дэвисон, хотя он и не католик, — незаменимый человек для церкви в правительстве штата Виктория. Карра и его клику мы недолюбливаем так же, как и вы. Думается мне, что наша деятельность не нарушит ваших планов, мистер Уэст.
Джон Уэст помолчал немного и наконец произнес:
— Ладно, вы получите деньги.
Посетители ушли, а Джон Уэст продолжал сидеть в гостиной, предаваясь размышлениям. Сегодня он отказался от значительной доли своего влияния в лейбористской партии. Больше года он клялся себе, что непременно провалит Кили при очередном выдвижении кандидатов от Ролстона, хотя бы это обошлось ему в миллион — и вот теперь он дал пятьдесят тысяч фунтов организации, которая поможет Кили побить его собственного ставленника Коттона.
Хотя правительство штата Виктория состояло теперь из лейбористов и возглавлял его Карр, ставленники Джона Уэста, предводительствуемые Биллом Брэди и Криганом, имели меньшинство голосов и в кабинете, и в парламентской фракции. Со смертью Мориса Блекуэлла перестало существовать левое крыло лейбористской фракции в парламенте штата Виктория, но как ни старался Фрэнк Лэмменс, от Карра не удалось избавиться. В прошлый раз Джон Уэст выдвинул Кригана в качестве соперника Карра на пост лидера лейбористской партии, а Брэди — на пост заместителя лидера.
Соперником Брэди был молодой католик, который не принадлежал ни к числу людей Уэста, ни к Движению; тысяча фунтов была истрачена на подкуп — и все же ставленники Уэста потерпели поражение. Заместитель лидера заявил на заседании фракции, что в ход пошли деньги и, если он потерпит поражение, он предаст это огласке. После этого кое-кто из подкупленных парламентариев, опасаясь разоблачения, отдали ему свои голоса.
Джон Уэст еще долго сидел в этот вечер, раздумывая о создавшемся положении. Он так много сделал для церкви, а теперь его заставили отвалить столько денег своим политическим противникам. Разве он не сберег церкви сотни тысяч фунтов, заставив Дэвисона провести закон о налоге на церковное имущество? Почему он не догадался напомнить об этом Парелли и архиепископу?
Когда коалиционное правительство Дэвисона зашаталось, Джон Уэст и Дэниел Мэлон заставили премьер- министра провести закон, освобождающий католическую церковь от уплаты налога местным муниципалитетам.
Сначала Дэвисон отказался это сделать; но когда по требованию Джона Уэста Пэдди Келлэер перед дополнительными выборами выдвинул малопопулярного лейбористского кандидата против сторонника Дэвисона, премьер оказал: — Вот что. Я сделаю по-вашему при условии, что от налога будут освобождены все церкви. В противном случае мои коллеги на это не пойдут, большинство из них — протестанты.
Дэвисон протащил закон в парламенте, а его кандидат прошел на дополнительных выборах. Затем, когда парламент был распущен, лейбористы снова вернулись в правительство, получив абсолютное большинство голосов и одержав победу над аграрной партией и Объединенной партией Австралии; но, по мнению Джона Уэста, правительство Карра было худшим из всех, какие приходили к власти в штате Виктория за последние двадцать лет.
Понимая, что власть Джона Уэста идет на убыль и стремясь завоевать для лейбористской партии сельские избирательные округа, группа Карра решила навести порядок в рысистых испытаниях. Среди наездников снова росло возмущение, и Карр намеревался прекратить хозяйничанье Джона Уэста в беговом спорте, а затем разрешить вечерние бега.
Часы в холле уже пробили полночь, когда Джон Уэст тяжело поднялся и медленно направился к лестнице. Он утешал себя мыслью, что его деньги пойдут на борьбу с коммунизмом; красные не упускали случая напомнить в печати о его влиянии в лейбористской партии; теперь он им отплатит.
На середине лестницы он почувствовал сильную боль в сердце. Он застыл на месте, весь в холодном поту, боясь пошевельнуться. Опять нестерпимая боль в сердце, опять чувство обреченности! Он вцепился в перила и стоял, точно окаменев, пока боль не прошла.
* * *
Впервые после 1906 года, когда в парламенте штата Виктория был принят закон о запрещении азартных игр, законодательство штата обратилось против Джона Уэста. Парламент постановил передать в ведение муниципального совета Эпсомский ипподром, где во время войны были расположены воинские части. Затем внесен был законопроект, допускающий устройство вечерних бегов и передающий контроль над беговым спортом правительственному комитету.
Брэди, Трамблуорд, Криган и Келлэер возглавили оппозицию законопроекту; Майкл Кили поддержал его. Пэдди Келлэер заявил депутации от наездников: — Если Джону Уэсту угодно и впредь устраивать рысистые испытания, я ему в этом не помеха. Когда-то у меня заболел малыш, так старик Уэст устроил его в больницу, вызвал лучших врачей и спас ребенку жизнь.
При втором чтении вокруг законопроекта разгорелись бурные дебаты; а Джон Уэст в это время лежал в больнице. Доктор Девлин посоветовал ему решиться на операцию, чтобы избавиться от мучительных астматических болей.
Перед тем как лечь под нож хирурга, Джон Уэст исповедался и причастился. Когда наркоз начал действовать, он чуть не крикнул: «Нет, не надо! Вдруг я умру!» Но он уснул, не успев выговорить ни слова.
Операция прошла удачно, и Джон Уэст почувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние два года. К нему даже отчасти вернулась былая неутомимость, и он поражал всех своей энергией.
— Удивительный старик, — сказал Дик Лэм Фрэнку Лэмменсу, — его и годы не берут!
А Беннет сказал Трамблуорду: — Старик Уэст опять на ногах. Теперь пускай они глядят в оба. Если бы он был здоров, когда заварилась вся эта каша, законопроект не был бы внесен.
Джон Уэст пошел в решительное наступление на своих врагов, предпринимая в последнюю минуту самые хитроумные шаги, чтобы провалить законопроект о бегах.
Против него выступали единым фронтом внушительные силы. Наездники нашли себе нового лидера, по имени Флеминг, — в прошлом журналист, спортивный обозреватель. На первом же собрании Флеминг обозвал Фрэнка Лэмменса «пешкой Джона Уэста», а Мельбурнское конноспортивное общество «тайным притоном», «ширмой для спекулянтов и прежде всего для Уэста, который уже сорок лет выкачивает все соки из бегового спорта».
Когда образовалось новое Объединение наездников с Флемингом на посту секретаря, из двух тысяч членов всего каких-нибудь два десятка высказались против законопроекта. Заработали кулуарные «толкачи». Премьер Карр и главный секретарь кабинета согласились внести проект на рассмотрение парламента. Словно корабль без руля, машина Джона Уэста без самого Уэста не могла справиться с создавшимся положением.
Пройдя незначительным большинством голосов в кабинете министров, законопроект был передан на обсуждение лейбористской фракции. Беннет — Вор-джентльмен — напал на Флеминга, называя его выскочкой, и с жаром отстаивал интересы Джона Уэста. После всего, что Уэст сделал для лейбористской партии, он, без сомнения, имеет право сохранить свои ипподромы и устраивать бега. Беннет даже пустил слезу. «Вспомните, — сказал он, — если бы не Уэст, многие из вас сидели бы в тюрьме». Но и это не помогло.
Затем на заседании фракции выступил премьер Карр, ратуя за единство, и законопроект собрал значительное большинство голосов. После этого главный секретарь внес его в парламент. Том Трамблуорд, дряхлый и больной, поднялся с постели, явился в палату и выступил против своей же партии. Он поговорил с Лэмменсом; потом они с Биллом Брэди принялись вербовать сторонников, но тут выяснилось, что в нижней палате из лейбористов только один Криган согласен пойти против решения фракции.
Они обратились к аграрной партии. Дэвисон обещал поддержать их. Затем Флеминг организовал митинг в избирательном округе Ловкача Алфи. На другой день Дэвисон получил более двухсот телеграмм с требованием, чтобы он и его партия голосовали за новый закон. Зная, что законопроект очень популярен среди сельского населения и боясь за свою политическую карьеру, Дэвисон голосовал за новый закон; он был принят значительным большинством голосов.
В то время как Джон Уэст сам ринулся в бон, проект должен был обсуждаться в верхней палате. Джон Уэст пригласил к себе в контору Келлэера, Беннета, Кригана, Брэди и Трамблуорда. Трамблуорд не смог прийти — он был чуть ли не при смерти, но остальные четверо явились точно в назначенный час.
— Итак, джентльмены, мы все-таки должны провалить этот закон.
— Б-боюсь, что теперь уже поздно, — сказал Келлэер, считавший, что поражение Джона Уэста неизбежно.
— Нет, не поздно! У меня есть план.
Бескровное лицо Джона Уэста было таким же белым, как его седые волосы, но он казался бодрым и оживленным, и взгляд его был почти таким же пронизывающим, как и в прежние времена.
— Достопочтенный мистер Беннет завтра на заседании палаты обратится в святошу, — весело сказал он.
Беннет был озадачен: — То есть как это?
Джон Уэст рассказал о том, как Боб Скотт в 1906 году чуть не одурачил премьер-министра Бента, потом добавил: — Мы будем говорить, что возражаем против этого законопроекта, потому что он поощряет азартные игры. В верхней палате есть несколько святош, и еще кое-кто выступит против законопроекта в интересах Скакового клуба штата Виктория. Если вы с Пэдди тоже выступите против, мы, пожалуй, провалим его.
— Я выступал против проекта на заседании фракции, мистер Уэст, но если мы зайдем слишком далеко, дело кончится расколом.
— Расколом! А партия считается со мной? Слушайте. Я сброшу правительство Карра и избавлюсь от главного секретаря кабинета и заместителя лидера; и я положу конец карьере Кили, хотя бы это обошлось мне в миллион! После всего, что я сделал для лейбористской партии и для бегового спорта, они отнимают у меня это дело! Вечерние бега — это золотое дно. Я добивался разрешения на них еще много лет назад, и уж если мне не дадут их устраивать, так и Флемингу с его шайкой это дело не достанется.
Когда Джон Уэст кончил, наступило неловкое молчание; потом он снова обратился к Беннету: — Прикиньтесь святошей; потом вы с Пэдди внесете несколько поправок. Фрэнк Лэмменс их уже подготовил. Даже если верхняя палата примет закон, часть поправок тоже пройдет. — Он посмотрел на Кригана и Брэди. — Так вот, Билл, когда поправки будут рассматриваться на заседании фракции, вы и Берт потребуете их отвода, потому что вы не желаете принимать никаких поправок.
Криган во все глаза глядел на Джона Уэста. Брэди громко рассмеялся: — Черт подери, а может, это и выйдет! Ловко придумано!
Джон Уэст усмехнулся: — Да, может быть, и выйдет. А вы всеми способами вербуйте сторонников.
Обсудив все подробности, посетители откланялись, Келлэер замешкался и, когда остальные вошли в лифт, вернулся в кабинет Джона Уэста.
— П-прошу прощения, мистер Уэст.
— В чем дело?
— В-видите ли, я не могу сделать по-вашему. Как секретарь, я не могу пойти против решения партии. Но я выступлю против поправок, когда проект поступит к нам вторично. Я помогу вам избавиться от Кили и еще кое-кого. Поймите меня, мистер Уэст. Я понимаю ваши чувства. Ведь, эти собаки кусают руку, которая их кормит. В дальнейшем я сделаю все… я…
Неизвестно, что еще хотел сказать Келлэер — под взглядом Джона Уэста слова замерли у него на губах. Лицо Джона Уэста исказилось бешеной злобой. Келлэер постоял еще минуту, неловко переминаясь с ноги на ногу, потом повернулся и вышел из комнаты.
На следующий день начались прения в верхней палате, и одним из первых выступил Беннет. Он сказал, что новый закон сделает беговой спорт более доступным, а значит, еще тысячи и тысячи рабочих подвергнутся «гибельному влиянию азарта». Видимо, в надежде, что люди забудут о том, как он всю свою жизнь извлекал выгоду из азартных игр, Беннет взывал: — Подумайте о чувствах жены рабочего человека, которая будет знать, что ее муж постоянно посещает вечерние бега и рискует потерять весь свой недельный заработок! Я не считаю нужным оправдываться, выступая по этому вопросу вразрез с решением моей партии, — продолжал он. — За закрытыми дверьми члены кабинета втайне точили нож, чтобы нанести удар в спину конноспортивному обществу, президентом которого я являюсь.
Он говорил еще долго и закончил восхвалением Джона Уэста, который, по его словам, сорок лет тому назад спас беговой спорт от краха. Мельбурнское скаковое и беговое общество, заявил Беннет, отнюдь не является коммерческим предприятием. Его доходы идут на выплату долга мистеру Джону Уэсту и Бенджамену Леви и на арендную плату.
Несмотря на все красноречие Беннета, закон прошел в верхней палате, однако были приняты и три поправки Лэмменса, в том числе одна очень существенная — отменялось право обжаловать решения администрации.
При рассмотрении поправок кабинетом министров Брэди потребовал отклонить их и вернуть законопроект в верхнюю палату.
Карр заподозрил неладное и, отложив заседание палаты, посовещался с Флемингом. Флеминг сказал:
— По-моему, это просто уловка: они хотят затянуть принятие закона до выборов в надежде, что ваше правительство падет. Советую вам принять поправки. Они не меняют сути дела. А после мы, может быть, сумеем изменить закон.
На новом заседании фракции Карр предложил принять поправки к закону, и это было сделано.
Итак, после сорока лет хозяйничанья Джона Уэста в беговом спорте власть была вырвана у него из рук. Он был вне себя. Он свалит это правительство! Сгорая жаждой мести, он отправил Фрэнка Лэмменса к премьеру Карру, чтобы предъявить ему два требования.
Лэмменсу было уже под семьдесят, но, хотя волосы его сильно поседели, он выглядел много моложе своих лет. Входя к премьеру, он скрыл свои истинные чувства под обычной маской непроницаемости.
— Мистер Уэст поручил мне повидаться с вами, Джек, — начал Лэмменс. — Он полагает, что вы уж по меньшей мере должны обеспечить его клубу право и впредь проводить скачки.
Карру было пятьдесят пять лет. Невозмутимый, самоуверенный, в превосходном сером костюме, он был воплощением преуспевающего политического деятеля. Впрочем, на этот раз он немного нервничал, держался миролюбиво, но с твердостью. Он понял, что машина Уэста далеко еще не утратила силу. Впредь он постарается не затрагивать интересы Уэста. Он сказал Лэмменсу, что скачками ведает Скаковой клуб штата Виктория; поскольку он предоставлял клубу Джона Уэста свои ипподромы во время войны, когда Эпсом был занят воинскими частями, нет никаких причин, почему бы такой порядок не мог оставаться в силе и после того, как военное ведомство передаст Эпсом муниципальному совету.
Неожиданно Лэмменс сказал: — Мистер Уэст хотел бы, чтобы Ричарда Брэдли немедленно выпустили из тюрьмы.
Карр раскрыл рот от удивления. — Что такое? Слушайте, Фрэнк, но ведь Брэдли — убийца! Он приговорен к пожизненному заключению. Нет, это невозможно!
— Ничего нет невозможного, Джек. Дело в том, что Брэдли был большим другом брата мистера Уэста, Артура, и Артур на смертном одре просил позаботиться о его освобождении.
Карр растерянно засмеялся, потом призадумался.
Джон Уэст совершенно забыл о существовании Ричарда Брэдли, и только желание отомстить Карру напоминало ему о последней воле брата.
Наконец Карр заговорил: — Но тут просто ничего нельзя сделать, Фрэнк. Поднимется всеобщий вопль. Попытки освободить Брэдли делались и раньше, но это невозможно.
— Мистер Уэст просил передать вам, что, если вы не оставите ему скаковой спорт и не освободите Брэдли, он свалит ваше правительство, хотя бы это обошлось ему в миллион.
Карр пристально посмотрел на бесстрастное лицо Лэмменса. Да, он не шутит. И Пэдди Келлэер предупреждал, что старик Уэст взбешен и жаждет мщения.
Месяц спустя Ричард Брэдли, больной, старый и сгорбленный, еле передвигая ноги, вышел из ворот Пентриджской тюрьмы. Племянница с мужем отвезли его домой в такси.
Джона Уэста эта мелкая победа не удовлетворила. В те дни, когда он чувствовал себя бодрее, он строил планы, мечтал свалить правительство Карра; он предложил Брэди и Девисону предпринять шаги, чтобы возродить коалиционное правительство из аграриев и лейбористов.
* * *
Однажды зимою 1948 года, поздно вечером, когда Джон Уэст уже лег в постель, раздался телефонный звонок. Джон Уэст накинул халат, сунул ноги в ночные туфли и медленно спустился с лестницы, поеживаясь от холода.
— Слушаю.
Звонил какой-то репортер. — Депутат Ролстона в парламенте штата Виктория мистер Кили только что выступил с резкими нападками на вас, мистер Уэст, во время дебатов по законопроекту о реформе конного спорта.
— Кили — мошенник! Что он сказал?
— Он в частности сказал: «Новый клуб, который будет создан после принятия закона, окажется в такой же мере делом рук Уэста, как и конноспортивный клуб штата Виктория. Будут пущены в ход те же приемы. Кого можно купить — тех купят, кого можно запугать — запугают».
— Кили — лжец и обманщик! — крикнул Джон Уэст.
— Он сказал также, что вы помогли свалить правительство Карра; что когда сэр Алфред Дэвисон был премьер-министром, он дневал и ночевал у вас и что вы даете деньги аграрной партии. Он уверял, что вы развратили все виды спорта, с какими только имели дело. Я позвонил вам, чтобы вы могли сейчас же ответить, мистер Уэст.
Джон Уэст был огорошен. Он не сразу нашелся, что ответить. По привычке он обошел существо дела и положился на власть денег. — Напишите, что я пожертвую тысячу фунтов на детскую больницу, если Кили докажет, что я когда-либо давал деньги аграрной партии, и пусть он уплатит сто фунтов, если он не сможет этого доказать. Слышите, я ставлю десять против одного! Напечатайте это, и еще — что Кили бессовестно врет.
Когда репортер дал отбой, Джон Уэст почувствовал, что он весь в холодном поту. Боли не было, но ему казалось, что сердце перестало биться. Он боялся пошевельнуться. И опять, как уже не раз, ему пришло на ум — не зря ли он согласился на операцию. Раньше хоть боль служила предостережением…
За последний год здоровье Джона Уэста заметно ухудшилось. Он старился на глазах. Не было уже прежней ясности ума, спина согнулась, ноги, казалось, стали еще кривее. Серые глаза, когда-то непроницаемые, нагонявшие ужас на окружающих, потеряли былую зоркость, и лихорадочный огонек, мерцавший в них, выдавал его страх и тревогу.
Хотя Девлин не говорил этого прямо, а только настойчиво советовал не волноваться и не утомлять себя, Джон Уэст понимал, что доктор, видимо, недоволен состоянием его сердца.
Страх смерти не покидал Джона Уэста, сколько он ни исповедовался и ни причащался. Правда, он был уверен, что в ад не попадет, но сильно побаивался чистилища. Он то и дело заказывал молебствия и назначил в своем завещании сумму, которая должна пойти на панихиды за упокой его души. А пока что он всеми силами старался перехитрить смерть. Он разрешил Фрэнку Лэмменсу и Пату Кори снять с него ведение почти всех дел. Предписания врача исполнял слово в слово, в положенное время отдыхал, дигиталис принимал точно в назначенные часы и по возможности избегал волнений и усталости.
На футбольных и боксерских состязаниях, на скачках и бегах, где он теперь появлялся лишь изредка, он старался сохранить равнодушное спокойствие. На пути из дому в контору и обратно его постоянно сопровождал Пэдди Райан. Ездили они автобусом, за четыре пенни. Прохожие ежедневно с насмешливой улыбкой наблюдали одну и ту же сцену: Джон Уэст в сопровождении Пэдди направлялся к автобусной остановке, Пэдди покупал вечернюю газету, подсаживал Джона Уэста. Если автобус был переполнен, Пэдди говорил: — Пожалуйста, уступите место старику. — Мало кто из пассажиров знал, что этот сухонький старичок — пресловутый легендарный Джон Уэст.
Он часто теперь думал о прошлом. Больше всего он любил вспоминать свою мать и Мэри. Совесть горько упрекала его, когда в памяти вставал образ матери, и стоило ему подумать о Мэри, как его охватывало желание написать ей, просить ее вернуться домой.
Едва Джон Уэст отошел от телефона, раздался новый звонок: еще один репортер просил его сделать заявление. Повторив свой вызов Кили, Джон Уэст, не вешая трубки, вернулся к себе и лег. Уснуть он не мог и лежал с открытыми глазами, считая удары сердца. Голова плохо работала, и он не мог придумать, как отразить выпад Кили. Надо будет с утра поручить это дело Фрэнку Лэмменсу. Почему его не оставят в покое?
На последних выборах победили либералы — они образовали коалиционное правительство с участием аграрной партии, во главе которой вместо Дэвисона стоял теперь новый лидер. Но Кили все еще оставался депутатом от Ролстона. Несмотря на все старания Пэдди Келлэера, Кили укрепил свое положение. Пэдди, сдерживая обещание, которое он дал Джону Уэсту, да и сам опасаясь возрастающего влияния Католического действия, на предварительном выдвижении кандидатов выставил против Кили известного ролстонского футболиста. Кили прибегнул к хитроумным махинациям, в результате которых его соперник разорился и был исключен из партии. Пэдди еще мог бы уладить дело, но футболисту все это опротивело, и он отказался от политической карьеры.
У Кили остался только один соперник — Джим Ласситер, который согласился воспользоваться поддержкой Джона Уэста. Только нужда заставила Ласситеров работать на Джона Уэста: старик Рон последние годы жил на пенсию и умер почти нищим, Колина уволили из ролстонского муниципалитета. Колин Ласситер не раз грозился разоблачить все мошеннические проделки, без которых не обходились в ролстонском муниципалитете ни продажа недвижимости, ни подряды, ни благотворительные вечера, ни что-либо другое. Мэр не поддался шантажу Ласситера и с разрешения Джона Уэста уволил его.
Местные организации лейбористской партии теперь кишели членами Католического действия: Кили повсюду кричал, что Джон Уэст и Ласситеры своим поведением позорят католическую церковь и без труда одержал верх над Джимом Ласситером.
Больше повезло Джону Уэсту с главным секретарем кабинета и заместителем лидера лейбористской партии: оба они прошли в парламент незначительным большинством голосов. Пэдди Келлэер сказал Джону Уэсту:
— Их можно одолеть только одним способом — провалить на выборах, а на следующих выборах и кандидатуры их выставлять не будем.
То обстоятельство, что лейбористская фракция потеряет при этом два голоса, нимало не заботило Пэдди. Чтобы избавиться от этих двоих, Келлэер стакнулся с руководителями Католического действия — заклятыми врагами главного секретаря, которого они считали левым, и заместителя лидера, потому что он, хотя и был католиком, решительно противился вмешательству Католического действия в политику. В обоих избирательных округах члены Католического действия распускали слухи, что эти два кандидата заодно с красными собираются национализировать банки; было сделано все, чтобы сорвать их предвыборную кампанию. И тот и другой потерпели поражение.
Хотя Джон Уэст и имел кое-какие связи в новом либеральном правительстве, Скаковой клуб штата Виктория обладал большим влиянием и по настоянию его заправил премьер провел закон, гибельный для клуба Джона Уэста.
По указанию Джона Уэста, Годфри Дуайр, Беннет, Лэмменс и Билл Брэди организовали сопротивление. Дуайр устроил слияние клуба Джона Уэста с другим, у которого тоже не было своего ипподрома. Для этого Джон Уэст купил заброшенный ипподром, заявил, что не пожалеет средств на его восстановление и предоставит его в распоряжение нового клуба. B конце концов объединение состоялось, и, хотя Джону Уэсту нечего было надеяться на прибыли от нового клуба, он полагал, что с честью вышел из положения. И вот теперь Кили воспользовался дебатами по законопроекту о реформе конного спорта для нападок на него.
На другое утро контора Джона Уэста гудела, как улей. Джон Уэст и Фрэнк Лэмменс беседовали с парламентариями и корреспондентами газет. По совету Алфреда Дэвисона, Джон Уэст обратился в парламент с письмом, в котором отвергал обвинения Кили. Премьер-либерал очень кстати заболел, и письмо было зачитано исполнявшим обязанности премьера новым лидером аграрной партии; кончив чтение, он заявил:
— Парламент штата Виктория потерял всякий престиж. Надеюсь, мистер Кили представит мне достаточно веские доводы, чтобы я мог назначить комиссию для расследования всех обстоятельств дела.
Поистине, немного было в парламенте штата Виктория людей, которым хотелось бы, чтобы политическая деятельность Джона Уэста подверглась обстоятельному расследованию. Слова исполняющего обязанности премьера вызвали всеобщее смятение. Представители всех партий, а особенно лейбористы, были охвачены паникой. Удалось заключить джентльменское соглашение, и дело замяли. Кили не возражал: своего он достиг.
Томас Трамблуорд, давно уже прикованный к постели и притом немного помешанный, умирал, не сознавая грозившей ему опасности разоблачения. В последние месяцы его часто навещал Пэдди Келлэер, уговаривая больного подать в отставку.
— В вашем округе орудует это окаянное К-католическое действие, — говорил Келлэер. — Если вы не подадите в отставку, Том, пройдет их кандидат.
Но Трамблуорд был непоколебим: в отставку он не подаст!
Келлэер недавно тайно переметнулся к Карру. Он не доверял Католическому действию, зная, что эта организация когда-нибудь постарается устранить его.
За несколько дней до смерти Трамблуорда его жена позвонила по телефону Джону Уэсту. — Простите, что я беспокою вас, мистер Уэст, но мистер Келлэер уговаривает Тома подать в отставку. Он говорит, что вы этого хотите.
— Я не посылал Келлэера к Тому. Скажите Тому, чтоб он и не думал подавать в отставку. Завтра я его навещу.
Джон Уэст поехал к Трамблуорду в такси; он застал больного в бреду, глаза его были вытаращены, бледное лицо в каплях пота.
В бессвязном бормотанье больного Джон Уэст с трудом разобрал отдельные фразы: — Лучшее средство — забастовка… Социализм — вот единственный выход… Я ни в чем не виноват, Гилберт говорит неправду… — Трамблуорд метался в постели и порой судорожно взмахивал руками, словно отражая удар. — Стиральную машину мне подарил Уэст, а с тех пор я на него не работал. Я ни в чем не виноват. Бедняки погибнут, и воронье расклюет их тела. Кампания против воинской повинности — вот была драка! Все это ложь… Человеку есть-пить надо… Вся жизнь — мыльный пузырь… Я не виноват…
Трамблуорд умер на другой день. Согласно завещанию, его кремировали и похоронили без церковных обрядов. Джон Уэст присутствовал на похоронах, предварительно испросив на это разрешение у архиепископа.
При выдвижении кандидатов на место, освободившееся после смерти Трамблуорда, Джон Уэст и Пэдди Келлэер поддерживали лейбориста, члена керрингбушского муниципалитета. Католическое действие также выдвинуло своего кандидата.
В дни предвыборной кампании Джону Уэсту позвонил Парелли и предложил ему поддержать кандидата Католического действия. Решив на этот раз пойти наперекор церковникам, Джон Уэст ответил: — Я держусь в стороне от этой кампании и советую вам сделать то же. Лучше вам не вмешиваться в выбор кандидатов от лейбористской партии, от этого церкви один только вред.
Ставленник Джона Уэста с легкостью одержал победу. Но радость Джона Уэста была недолговечна; вскоре он снова впал в угнетенное состояние, которое еще усилилось, когда через месяц после выборов он узнал, что его брат Джо скоропостижно скончался.
На Джона Уэста нахлынули воспоминания о далеком прошлом, и он от души пожалел, что жизнь разъединила его с Джо. Сквозь туман прожитых лет вспомнилось ему, как они с Джо дружили мальчишками, вспомнилось, что это брат подсказал ему мысль открыть тотализатор, который положил начало его богатству, и что Джо не раз уговаривал его не обижать старуху мать. Но Джон Уэст отмахнулся от упреков совести; ведь он зато до последнего дня платил Джо десять фунтов в неделю, даже когда тот стал совсем стар и уже не мог работать.
Во время заупокойной службы Джон Уэст размышлял о том, сколько осталось жить ему самому. Потом, когда гроб выносили из церкви, он исподлобья поглядел по сторонам. Церковь была полна народу, все больше друзья Джо; но Джон Уэст с досадой увидел и многих своих ставленников и подручных. «Зачем они здесь? Только чтоб подольститься ко мне», — подумал он. Брэди, Дэвисон, Криган и другие парламентарии. А Годфри Дуайр, который вечно жаловался, что Джо не справляется с работой на ипподроме, — он зачем явился? Кори и Лэмменс тоже пришли, только чтобы ему угодить; и тот и другой надеются после его смерти прибрать к рукам империю Джона Уэста. Они уже и сейчас дерутся за наследство!
Внезапно он ощутил величайшее презрение ко всем этим людям. Мошенники! Подхалимы! Что им за дело до Джо? Все вместе взятые они Джо и в подметки не годились.
Когда Джон Уэст садился в ожидавшее его такси, к нему подошел Билл Брэди и начал: — Разрешите выразить вам искреннее соболезнование…
— Зачем? С какой стати? Вы даже не знали Джо.
В эту минуту Джон Уэст ясно понял, что, обладая той властью, какой он добивался всю жизнь и наконец добился, нельзя рассчитывать на искреннюю дружбу: все, что говорят и делают окружающие его люди, подсказано своекорыстием.
* * *
Два месяца спустя, в ясный субботний день, Джон Уэст прохаживался в толпе перед трибунами, отведенными для членов клуба на Флемингтонском ипподроме. Он был здесь впервые после 1905 года, когда его Шелест взял кубок Каулфилда и когда Уэста лишили права пускать лошадей на состязаниях Скакового клуба штата Виктория.
Джон Уэст как будто даже сутулился меньше; вид у него был спокойно-презрительный. Я одержал верх над ними, говорил он себе. Когда-то они выгнали меня, но вот я снова здесь.
Добился он этого своим обычным приемом. В новом клубе, созданном на основании закона о реформе конного спорта, вице-президентом стал У. Беннет, а одним из членов правления — Нед Хоран. Руками этих двоих Джон Уэст и подготовил свое сегодняшнее торжество. Пока недостаток строительных материалов не давал новому клубу возможности оборудовать свой ипподром, ему разрешили устраивать состязания в Флемингтоне. Джон Уэст был членом нового клуба, и его членский билет открыл ему доступ в святая святых ипподрома.
Он старался, чтобы все видели его, любезно раскланивался с несколько смущенными членами правления, заключал пари с букмекерами. Но он скоро устал и, не дождавшись конца, уехал домой. Он сидел, утомленно откинувшись на подушки, и думал, что все это сегодня было ни к чему. Только одним способом он мог бы отплатить Скаковому клубу штата Виктория: забрать в свои руки вечерние бега, которые каждую субботу собирают до тридцати тысяч зрителей, отбивая публику у скачек, бокса и борьбы.
При одной мысли о вечерних бегах Джона Уэста охватывала и злость и жалость к самому себе. Он надеялся, что из этой затеи ничего не выйдет, а между тем строгий контроль над состязаниями и высокие ставки привлекли широкую публику и вызвали подъем в коннозаводстве. Чтобы отвести душу, Джон Уэст стал распускать всякие слухи, заставил спортивных обозревателей печатать неблагоприятные отзывы, подослал в Объединение наездников своих агентов, чтобы посеять в нем раздор и опорочить Флеминга, секретаря Объединения и его представителя в Управлении беговым спортом. И все же бега процветали, хотя и в этом спорте быстро устанавливалось то же положение, что и в скаковом: богатые владельцы конюшен и коннозаводчики вытесняли мелких. Наездники сумели доказать даже Джону Уэсту, что при строгом и действенном контроле они готовы состязаться честно и с большим спортивным подъемом.
— Выиграли, мистер Уэст? — прервал его раздумье голос шофера такси.
— Что? Я? Нет, сегодня неудача. Последнее время я плохо слежу за скачками. Предпочитаю футбол.
В этот вечер Джо привел домой к обеду свою невесту. Это была веселая, добродушная и милая девушка, которая любила спорт и неплохо разбиралась в нем. Она и Джо несколько раз бывали с Джоном Уэстом на состязаниях по боксу и футболу. Она изредка бывала в доме Джона Уэста, и он всегда был ей рад.
За столом разговор шел то о футболе, то о скачках. Джо, который всегда болел за керрингбушскую команду, с торжеством сообщил отцу, что Керрингбуш выиграл со счетом 2:0.
Этот обед напомнил Джону Уэсту давно прошедшие времена, когда за столом собирались все дети, когда дом оглашался смехом и болтовней Мэри, Марджори, Джона и их друзей. Он, кажется, отдал бы все свое богатство, лишь бы вернуть то время. Марджори и Джон умерли, но Мэри… Если бы она была сейчас здесь!
Нелли Уэст не вставала с постели, за ней ходили сиделка и горничная. Хотя она все еще жаловалась на боли в спине, доктор Девлин сказал Джону Уэсту:
— Это просто возраст и больше ничего; ваша жена могла бы чувствовать себя неплохо, но вся беда в том, что она утратила всякий интерес к жизни.
Джон Уэст и Нелли говорили друг с другом только в присутствии посторонних. Глухая ненависть разделяла их. И сейчас, глядя на ее пустой стул, Джон Уэст подумал, что она немало сделала, чтобы разрушить его домашний очаг: если б не ее измена, быть может, он на старости лет был бы окружен семьей.
Сын с невестой ушли в кино, а Джон Уэст уселся в столовой у камина. У входной двери позвонили — мальчик принес спортивную вечернюю газету. Джон Уэст попытался читать, но скоро отложил газету и устало поплелся к себе в спальню.
* * *
Судя по заметке, посвященной Джону Уэсту и появившейся весной 1949 года в отделе смеси одной из столичных газет, мало что было официально известно о его прошлом.
«Хотя Джон Уэст, любитель спорта и крупнейший делец, в последнее время прихварывал, он все еще исполнен энергии. На прошлой неделе он самолетом отправился в Сидней, вернулся на другой же день, затем поехал в Перт. По словам его сотрудников, всегдашняя проницательность и ясность суждений доныне ему не изменяют. В молодости мистер Уэст был классным футболистом и до сих пор остается щедрым покровителем Керрингбушского клуба. Последние годы ему не очень везло на бегах, но в 1905 году его лошадь Шелест взяла кубок Каулфилда, а в 1924 году его Гарбин пришел первым на Донкастерских состязаниях. Мистер Уэст является директором-распорядителем Боксерского клуба и постоянным посетителем всех крупных матчей на своем стадионе. Мистер Уэст славится своей благотворительностью — в течение полувека его имя служит синонимом щедрости».
Джон Уэст прочитал эту заметку, сидя у себя в конторе в кресле с вышитым на спинке гербом. С недавних пор он опять стал искать популярности. Он дал волю старой своей слабости, которую так успешно использовал на пути к власти: быть щедрым, давать деньги даже тогда, когда это не приносит взамен никакой выгоды. Он дарил деньги удачливым игрокам в крикет и футболистам; он жертвовал на церковь и на различные благотворительные заведения. Но все это приносило ему мало радости. Сердце беспокоило его все больше, он очень похудел, руки тряслись, зрение ослабело. Притом он стал обжорлив и с трудом соблюдал диету; случалось, в час завтрака он отправлялся в собственное кафе и ел много и жадно.
Хотя Ричард Лэм и сказал автору статейки, что «старик Уэст проницателен, как и прежде», за глаза он называл своего патрона выжившим из ума ворчуном. Джон Уэст выпустил из рук бразды правления, но не желал признавать это. Он злился на Лэма, Кори и Лэмменса за то, что они уговаривали его передоверить им все дела, поменьше волноваться, беречь сердце. Он стал подозрителен, часто допрашивал, почему они поступили так, а не иначе, придирался и спорил по всякому поводу. Лэмменс и Лэм каждый день вздыхали с облегчением, когда в четыре часа в конторе появлялся Пэдди Райан, чтобы отвезти патрона домой.
Джон Уэст действительно в прошлый понедельник слетал в Сидней. Он решился лететь вместе с Ричардом Лэмом, потому что среди боксеров начались серьезные неурядицы. Полгода назад образовался профсоюз боксеров — и как раз тогда, когда Джон Уэст уже решил, что ему удалось раздавить эту организацию, она вновь ожила благодаря инциденту с Роном Редмондом.
В пору своего расцвета Редмонд, потомок коренных местных жителей, был чемпионом Австралии в среднем и полулегком весе. Он одержал блестящую победу над американцем, который позднее участвовал в состязании тяжелоатлетов на мировое первенство. Боксерский клуб получил девяносто восемь тысяч фунтов чистого дохода с одних только входных билетов на матчи, в которых выступал Редмонд.
Знатоки окрестили Редмонда «величайшим боксером со времен Jly Дарби», но теперь, через десять лет после ухода с ринга, он стал просто жалкой развалиной: он страдал головными болями, потерял память и наполовину ослеп. Говорили, что Редмонд несколько раз подымался из нокдауна, хотя, в сущности, это был уже нокаут, и что, если бы ему тогда не позволили продолжать драться, он не выдохся бы так скоро.
Недавно Редмонд был арестован за бродяжничество. В полиции он заявил, что здоровье не позволяет ему работать; хулиганы колотят его на улице, чтобы похвастать, что победили Рона Редмонда!
Встретясь лицом к лицу с Редмондом в конторе стадиона в Сиднее, Джон Уэст был потрясен. Голова Редмонда тряслась, глаза остекленели и закатывались, брови, когда-то рассеченные и затем сшитые, были в шрамах, все его большое тело ссохлось, плечи согнулись.
Еще до их разговора Ричард Лэм предупредил Джона Уэста: — Редмонд всегда был из недовольных. Растранжирит все деньги — и со злости кидается на всех и каждого.
На Редмонде был новый костюм, накануне купленный для него на средства Боксерского клуба. Он сидел молчаливый, угрюмый, видимо страдая от того, что ему пришлось принять милостыню.
— Куинслендское управление по делам туземцев предложило взять вас на свое попечение, Рон, — оказал Джон Уэст. — А я оплачу ваш проезд до Брисбэна и прочие расходы. Это вас устраивает?
— Пожалуй, мне будет лучше среди моих сородичей, — ответил Редмонд. — Но наш профсоюз считает, что больным боксерам следовало бы выплачивать пенсию. Что вы на это скажете, мистер Уэст?
— Ну, у вас там полно коммунистов, — вмешался Ричард Лэм. — А признайтесь, Рон, вы нажили на ринге неплохие денежки, да только потом все промотали?
— Н-да, я нажился недурно. А вы — еще больше.
Разговор был коротким. Решили, что завтра Редмонд выедет в Брисбэн. Когда он, спотыкаясь, неверной походкой направился к двери, Джон Уэст сказал: — Вот вам на билет и на прочие расходы, Рон.
Редмонд обернулся и взял протянутый конверт; затем Джон Уэст вручил ему чек на сто фунтов. — А это в память нашей старой дружбы.
Редмонд взял чек, внимательно разглядел его и протянул обратно. — Нет, спасибо, мне теперь деньги ни к чему, — сказал он.
В тот же вечер на Сиднейском стадионе чемпион страны в легком весе был нокаутирован своим противником. На другой день он умер. Пошли слухи, что он был болен и его не следовало выпускать на ринг. Встревоженный Джон Уэст объявил подписку в пользу вдовы и ребенка и первым внес чек на тысячу фунтов. Профсоюз боксеров и тренеров возобновил требование реформ, число его членов возрастало, хотя Боксерский клуб Джона Уэста и предупреждал, что не допустит на ринг ни одного члена профсоюза. Перед отъездом из Сиднея Джон Уэст и Ричард Лэм приняли все меры для создания параллельного объединения, куда должны были войти все боксеры и тренеры.
— Это заткнет рот красным агитаторам из боксерского союза, — сказал Лэм.
Но Джон Уэст был расстроен. И прежде бывало много несчастных случаев, но тогда он не задумывался о них, а теперь ему было не по себе. Статья в последнем номере «Свободы», органе Католического действия, несколько утешила его: газета восхваляла его как руководителя Боксерского клуба и призывала всех любителей спорта не обращать внимания на «коммунистических агитаторов», пытавшихся опорочить деятельность клуба.
«…в течение полувека его имя служит синонимом щедрости». Джон Уэст снова перечитал заметку, потом стал лениво листать страницы. Лапки нового пенсне давили ему переносицу; он снял пенсне, протер стекла платком. Потом вернулся к первой странице и начал внимательно читать сообщения о забастовке на угольных шахтах. Газета писала, что на предстоящих митингах выступят сторонники возвращения к работе. Джон Уэст удовлетворенно кивнул. Осуществляется то, о чем говорил архиепископ: Католическое действие помогает покончить с забастовкой изнутри. Благодаря этому известию, немного утих страх перед рабочим классом, преследовавший в последнее время Джона Уэста.
Забастовки не угрожали доходам Джона Уэста так прямо и непосредственно, как доходам других миллионеров — тех, кто владел угольными шахтами, пароходными линиями, сталелитейными заводами, но со времен второй мировой войны он опасался забастовок, потому что рабочие требовали повышения заработной платы, сокращения рабочего дня и политических преобразований. Как и другие миллионеры, он чувствовал, что коммунисты, стоящие во главе профсоюзов, намерены в конечном счете при помощи профсоюзного движения отнять экономическую и политическую власть у крупных капиталистов и передать ее рабочим и мелким фермерам. Хоть он и давал деньги Католическому действию, ставящему своей целью расколоть профсоюзы и нанести поражение коммунистам, он чувствовал, что бой идет без него. Главная роль в этом бою принадлежала Федерации предпринимателей и Торговой палате — он даже не счел нужным вступить ни в одну из этих организаций; и вот не он, а они помогают либералам и лейбористской партии, они используют газеты для влияния на общественное мнение и давления на правительство.
Джона Уэста радовало, что газеты отводят столько места на первой полосе пребыванию в Австралии американского кардинала Спеллмана и его свиты. На церковных празднествах, в заявлениях, сделанных представителями печати или по радио, Спеллман и его ближайший помощник — монсеньер Шин восхваляли «американский образ жизни», призывали австралийцев бороться против «подымающейся волны коммунизма» и весьма прозрачно намекали на необходимость под предлогом «превентивной войны» напасть на Советский Союз.
Джон Уэст познакомился с кардиналом в резиденции архиепископа Мэлона. Спеллман чрезвычайно ему понравился: вот человек, который называет вещи своими именами и ничуть не скрывает своей ненависти к коммунизму и России. — Я приехал сюда не только в качестве кардинала, но и посла, — откровенно сообщил он Джону Уэсту. — Австралия должна быть включена в блок Соединенных Штатов. — Кардинал весьма лестно отозвался об антикоммунистической деятельности Джона Уэста и разъяснил ему, что судьба австралийских миллионеров тесно связана с судьбой крупных американских трестов, что уже менее понравилось Джону Уэсту.
Он еще раз медленно перелистал газету и остановился на заметке о приеме кардинала премьером либерального правительства штата Виктория. Премьер — протестант и масон — заявил, что деятелям католической церкви принадлежат большие заслуги в деле борьбы с коммунистами, что правительство штата Виктория приветствует приезд кардинала и выражает уверенность, что его посещение рассеет странную антипатию, которая наблюдается в Австралии по отношению к США.
Он перешел к известиям из Канберры. Газета сообщала, что состоялось предварительное выдвижение кандидатов от лейбористской партии в федеральный парламент: выборы назначены на декабрь. По словам газеты, предстояли ожесточенные схватки, особенно между Кили и Криганом, за место, освободившееся после того, как бывший премьер-министр Джеймс Саммерс объявил, что уходит в отставку. Только разделение данного избирательного округа на два, в соответствии с законом, принятым при правительстве Чифли, может предотвратить ожесточенные столкновения между двумя враждующими лагерями.
Услышав, что Кили намерен снять свою кандидатуру в Ролстоне и добиваться места Саммерса в федеральном парламенте, Джон Уэст предложил Кригану сделать то же самое. Криган нехотя согласился. Два былых приятеля стали заклятыми врагами. Прежде Кили рыцарски ухаживал за сестрой Кригана, потому что «такие вещи нравятся избирателям», — теперь он перестал с нею встречаться. Криган стал ходить в церкви тех приходов, где было много сторонников Кили; а Кили, наоборот, усердно посещал церкви во владениях Кригана — Уэста. Число членов лейбористской организации в этих округах круто возрастало по мере того как оба соперника «завоевывали симпатии избирателей». Поддерживаемый Джоном Уэстом и Ласситерами, люто ненавидевшими Кили, Криган стал фаворитом в этой скачке.
Отложив газету, Джон Уэст решил позавтракать. Он принял лекарство, потом достал из ящика стола бутылку молока и апельсин. Он без всякого удовольствия съел апельсин, потом позвонил и, когда в комнату вошла машинистка, попросил ее вскипятить молоко.
Джон Уэст смертельно боялся заразиться какой-нибудь болезнью. Узнав от Девлина, что козье молоко реже содержит микробы, чем коровье, он купил козу и каждое утро собственноручно доил ее, а для пущей безопасности пил молоко только свежевскипяченным.
* * *
Две недели спустя Майкл Кили явился к архиепископу в его рабочий кабинет.
Он сообщил Дэниелу Мэлону, что, хотя избирательный округ, где прежде баллотировался Саммерс, и поделен теперь на два, Криган выдвинут кандидатом от того же округа, что и он, Кили. Это дело рук Джона Уэста. Между тем безусловно в интересах церкви, чтобы в парламент прошли и Кили и Криган.
Мэлон раздумывал в нерешительности, а Кили ждал, глядя в сторону. Он никогда не смотрел в глаза собеседнику, и каждое его слово, каждый поступок были продиктованы либо личной корыстью, либо интересами католической церкви. Недавно он внес от своего имени на рассмотрение парламента штата Виктория законопроект, целью которого было подавить всякую критику по адресу католической церкви; либеральное правительство, ищущее поддержки католиков, намеревалось принять этот закон, но вынуждено было отказаться от него, так как эта мера вызвала всеобщее возмущение. Кроме того, Кили внес законопроект о запрещении продажи и распространения противозачаточных средств, но и этот проект был отвергнут.
Колин Ласситер говорил, что Кили следовало бы быть иезуитом. Его религиозный фанатизм граничил с изуверством, он был снедаем честолюбием и превыше всего ненавидел коммунизм. Он мечтал о физическом истреблении всех коммунистов. Он ликовал, читая о пытках, которым подвергали коммунистов в фашистской Испании и гитлеровской Германии, — вот так и надо с ними разделываться!
Мэлон внимательно наблюдал за Кили. Посетитель ему не слишком нравился, но архиепископ ценил его как ревнителя церкви.
— Положение затруднительное, мистер Кили, — сказал он. — Позиция мистера Уэста вполне понятна. Его слово в этих округах долгое время было законом. И в конце концов он всегда щедро жертвовал на церковь, а в последние годы стал ревностным прихожанином.
— Он бесчестит церковь! Ваше преосвященство, я настоятельно прошу, чтобы церковь вмешалась и предложила Кригану баллотироваться в другом округе, тогда мы оба попадем в Канберру. С какой стати мы позволим старому негодяю Уэсту срывать планы Католического действия?
— О, мы не должны быть чересчур суровы, мистер Кили. Прошлое мистера Уэста — дело его совести и нашего создателя. А кто сказал, что вы не побьете Кригана?
— Криган победит, потому что ему помогают Ласситеры и Уэст; но я все равно не отступлюсь. Не сейчас, так позже я одолею его. Однако эта вражда подрывает позиции Католического действия в лейбористской партии. А можно было бы покончить с этой враждой, если бы я и Криган баллотировались в разных округах.
Архиепископ устало вздохнул. — Я вас понимаю, мистер Кили. Я повидаюсь с мистером Уэстом и посмотрю, что тут можно сделать.
— Скажите ему, что, если он согласится, я больше не буду нападать на него публично.
Кили распрощался. Он сел в свой автомобиль и, едва отъехав, усмехнулся, очень довольный: «Старик Дэн вразумит Уэста!»
* * *
B то время как Джон Уэст ждал к себе архиепископа Мэлона, явился Ренфри. Джон Уэст всегда радовался, когда Ренфри заглядывал к нему. Ренфри был последним из тех, с кем он когда-то начинал, и он один остался верен ему. Притом после войны Ренфри, пользуясь своим положением в керрингбушском муниципалитете, нажил немалые деньги для Джона Уэста, а кое-что и для себя; из отчетов муниципалитета он узнавал о недвижимом имуществе, назначенном на торги, покупал его на деньги, взятые у Джона Уэста, а затем перепродавал по более высокой цене.
Ренфри теперь было восемьдесят два года — он был тремя годами старше Джона Уэста. Он почти совсем облысел, глаза его за толстыми стеклами очков ввалились, веки были красные.
Ренфри нацеливался на очередную недвижимость, назначенную на торги, о чем он и сообщил Джону Уэсту. Потом он подробно рассказал, как ему удалось провести своего человека при выдвижении кандидатов от лейбористской партии в керрингбушский муниципалитет.
— Понимаешь, Джек, — сказал он в заключение, — я стоял на одной стороне улицы и заполнял профсоюзные билеты табачников для тех, кто голосовал за нашего кандидата, а Том Смит на другой стороне — билеты дубильщиков для тех, кто голосовал за его соперника. Наш получил на пять голосов больше. Где же Тому за мной угнаться, я всегда писал быстрей его!
И Ренфри захохотал во все горло; Джон Уэст ответил слабой улыбкой. В эту минуту вошла горничная и доложила о приходе Дэниела Мэлона. Едва архиепископ вошел, Ренфри сказал: — Я уже ухожу, ваше преосвященство.
— Пожалуйста, не уходите из-за меня, мистер Ренфри. Лучше расскажите, как дела в Керрингбуше?
— Ого, мы там задаем жару коммунистам! И мы только что отказались предоставить им помещение для их собраний.
Хоть Колин Ласситер и уверял, что Ренфри «не отличит коммуниста от эскимоса», сам Ренфри считал себя грозой австралийских коммунистов.
После ухода Ренфри архиепископ уселся напротив Джона Уэста и прямо приступил к делу. Он сказал, что виделся и с Кили и с Криганом, и оба они считают целесообразным выставить свои кандидатуры в разных округах.
— Должен сказать, мистер Уэст, что я с ними согласен, я понимаю ваши чувства, однако все мы должны превыше всего ставить интересы Католического действия и святой церкви. Быть может, вы обдумаете все это и измените вашу точку зрения?
— Если Криган желает выступить противником Кили, это меня не касается, — уклончиво ответил Джон Уэст.
— Но Криган говорит, что он предпочел бы не делать этого, если бы вы не настаивали.
Джон Уэст немного смутился и не знал, что ответить.
— В конце концов, — устало и монотонно продолжал Мэлон, — Кили — ревностный католик и неутомимый борец против коммунизма. Признаюсь, он мне так же мало симпатичен, как и вам, но мы должны трезво смотреть на вещи. Что за беда, если мы дадим им обоим возможность пройти в федеральный парламент, где они будут наиболее полезны церкви?
Джон Уэст молчал. Он знал, что Мэлон прав, но ему трудно было признаться в этом. Последнее время Джон Уэст подумывал о том, что следует поддержать либеральную партию, потому что только один Мензис действительно хочет круто расправиться с коммунистами. Правда, Чифли засадил в тюрьму руководителей профсоюза горняков во время забастовки, засадил секретаря коммунистической партии Шарки за призыв к мятежу, — но только запрещение компартии успокоило бы страхи Джона Уэста, а Чифли снова и снова отказывался объявить ее вне закона. Но перекинуться теперь к либералам — значило бы для Джона Уэста признать, что почти полвека усилий, направленных на то, чтобы заручиться решающим влиянием в лейбористской партии, потрачены зря.
Истолковав молчание Джона Уэста как знак несогласия, Мэлон продолжал настойчиво: — Католическое действие достигло больших успехов, стремясь осуществить пожелание святого отца, который сказал, что коммунизм должен быть уничтожен. Члены Католического действия составляют списки коммунистов, снабжают тайную полицию именами и адресами — это трудная, но очень важная задача. Руководит этим делом отставной сыщик. В прошлом году по всей Австралии в каждом приходе были составлены списки католиков — членов профсоюзов, потом представители местных организаций Католического действия поговорили с каждым из них в отдельности и предложили аккуратно посещать профсоюзные собрания. Хотя посещаемость собраний от этого и мало увеличилась, но зато мы завербовали несколько новых членов Движения. Большое дело делает и наша газета «Свобода»; мы часто выпускаем антикоммунистические листовки.
Джон Уэст выпрямился. — Да, я часто вижу, как они исправляют коммунистические надписи на стенах и заборах. К примеру, коммунисты написали: «Освободите Шарки!», а они переправили: «Повесьте Шарки!» Остроумно, нечего сказать!
Мэлон усмехнулся: — Таков уж стиль Кили и Парелли.
— Что ж, хорошо, ваше преосвященство, я согласен не вмешиваться больше в борьбу Кили и Кригана, но с одним условием: пусть Кили прекратит нападки на меня. — Джон Уэст говорил с трудом, словно каждое слово жгло ему язык.
— Он, конечно, согласится на это, мистер Уэст.
Они еще немного поговорили о политике. Мэлон оказал, что, по его мнению, на выборах победят либералы, Парелли виделся с Мензисом. Мензис намерен провести свою предвыборную кампанию под лозунгом борьбы с коммунистами. Он поставит компартию вне закона, и коммунистам и всем, кто будет заподозрен в принадлежности к коммунистической партии, запретят занимать руководящие посты в профсоюзах. Парелли согласился на то, чтобы в случае победы либералов Движение рекомендовало лейбористскому сенату не противодействовать антикоммунистическим законам.
— Видите ли, мистер Уэст, Католическое действие наталкивается на значительную оппозицию в профсоюзах, даже со стороны многих католиков. Коммунисты все еще заправляют в большинстве крупнейших профсоюзов. Если Мензис придет к власти и устранит коммунистов из профсоюзов, наши люди захватят многие руководящие посты. Тем временем Католическое действие сделает все, чтобы приблизить лейбористскую партию к европейским католическим партиям центра — помнится, вы подсказали эту мысль мистеру Парелли года два тому назад; и затем, когда лейбористы снова придут к власти, положение будет чрезвычайно благоприятным для церкви. Таков наш план. И я полагаю, мистер Уэст, что вы совершили прекрасный поступок сегодня. Этим вы послужите всемогущему богу и святой церкви.
* * *
В декабре 1949 года либеральная партия победила на федеральных выборах, и Р. Дж. Мензис занял пост премьер-министра. Джон Уэст дал на предвыборную кампанию десять тысяч фунтов либералам и лишь тысячу фунтов лейбористам. Он сказал Фрэнку Лэмменсу, что только Мензис способен отменить контроль над ценами, покончить с карточной системой и разгромить коммунистов.
Однако результаты выборов не радовали Джона Уэста — он был слишком поглощен своим больным сердцем, страхом смерти.
Джо женился и переехал в дом, купленный для него отцом на другом конце города. Теперь Джон Уэст остался один с Нелли, горничной и сиделкой в огромном мрачном доме, стены которого потрескивали и стонали, словно вспоминая все то, чему они были свидетелями на протяжении полувека.
Страх смерти совсем расшатал нервы Джона Уэста. Он все еще каждое утро сам доил свою козу и таскал с собою бутылку козьего молока. Он купил новые патроны для своих револьверов, опасаясь, как бы кто-нибудь из его явных или тайных врагов не покусился на его жизнь. Он ел только то, что было приготовлено у него в доме, потому что боялся, как бы кто-нибудь не отравил его. Когда же страх на время переставал терзать его, он страдал от одиночества, и тогда мысли его обращались к Мэри. Перебирая в памяти прошлое, он иногда упрекал себя. Не виноват ли он отчасти в ее отъезде? Что-то она сейчас делает? Она опять вышла замуж — есть ли у нее дети? Неужели и второй ее муж — коммунист? А может быть, она вышла за состоятельного человека… кажется, он врач. Может быть, она сама теперь отказалась от своих прежних взглядов? Впервые за последний месяц Джон Уэст заговорил с женой — спросил, не получала ли она писем. Нелли холодно ответила, что Мэри изредка пишет ей, но в этих письмах нет для него ничего интересного.
В тот же год умерли Тед Тэргуд, Алфред Дэвисон и Ренфри, и Джон Уэст с ужасом понял, что теперь уж наверно скоро настанет его черед.
Приближалось рождество, и Джон Уэст вспомнил, как шумно и весело оправляли его Мэри и остальные дети. Вот если бы она навестила его на рождестве…
В сочельник сиделка сообщила, что в восемь часов вечера Мэри будет звонить по телефону из Англии. Услышав это, Джон Уэст даже задрожал от волнения. За обедом кусок не шел ему в горло. Он вышел в гостиную и стал дожидаться звонка. И когда телефон зазвонил, он едва удержался, чтоб не подойти первым; но подошла сиделка и передала трубку Нелли, которая все время бродила тут же, кутаясь в халат.
Джон Уэст ждал, задыхаясь от нетерпения, пока Нелли дрожащим и плаксивым голосом разговаривала с дочерью.
Наконец Нелли сказала: — Да, отец тут. Хочешь с ним поговорить?
Он взял у нее трубку; Нелли тихо плакала.
— Хэлло… Мэри… — с трудом заговорил Джон Уэст и сам удивился, услыхав, как ласково прозвучал его голос.
— Хэлло, отец. Как поживаешь?
— Да ничего, помаленьку… А ты?
— Неважно. Иногда тянет на родину.
Наступило молчание. Джон Уэст не находил, что сказать. Потом у него против воли вырвалось: — Мэри, ты… ты все еще коммунистка?
— Да, отец. А что? Неужели ты…
— Ваше время истекло, — прервал равнодушный отчетливый женский голос. — Хотите продлить?
— Я не могу себе этого позволить, отец, — сказала Мэри, словно намекая, что он мог бы сам оплатить этот разговор.
Он задыхался, голову ломило, глаза застлало туманом.
— Простите, — сказала телефонистка, — вам пора кончать.
Джон Уэст наконец перевел дыхание и крикнул: — Нет! Я заплачу, продлите!.. — но линия уже была выключена.
Он кулаком ударил по аппарату. — Я хочу продлить разговор, говорят вам! — Никто не отозвался. Он медленно положил трубку на рычаг.
В первые недели нового, 1950 года Джона Уэста уже не покидали мысли о Мэри. Она, наверно, решила, что он не хотел продлить разговор, а ведь он хотел… просто он не мог ничего сказать, у него был приступ астмы. Однажды он подумал, что надо бы взять у Нелли адрес дочери — тогда он напишет ей и все объяснит и спросит, почему это она сказала, что чувствует себя неважно.
Боязнь одиночества и тоска по дочери пересилили в Джоне Уэсте страх смерти и возмездия и даже ненависть к коммунизму. Наконец однажды в марте он решился. Он узнает адрес Мэри. Он напишет ей, объяснит, почему он не продлил телефонный разговор, попросит ее вернуться домой! Она ведь сказала, что ее тянет на родину. Он напишет, что охотно даст ей денег, чтоб она могла осуществить свое желание. Если хочет, пусть даже мужа привезет с собой.
Весь день в конторе он обдумывал, что напишет, как извинится перед нею. Он скажет Нелли, что Мэри, кажется, одинока и тоскует; скажет архиепископу, что вызывает дочь домой, чтобы попытаться вернуть ее в лоно церкви; скажет Лэмменсу, что Мэри написала ему, прося прощения…
Он вернулся домой в такси и по дороге все снова повторял про себя, что он скажет Нелли.
К обеду Нелли вышла с покрасневшими глазами, все ее худое костлявое тело вздрагивало от сдерживаемых рыданий, слезы текли по морщинистым щекам. Неужели это она — та красивая девушка, которую он когда-то поцеловал в кухне ее матери, когда они были молоды и жизнь была хороша?
— Что с тобой? Ты больна? Зачем же ты сошла к обеду?
— Мэри… — хрипло ответила она. — Телеграмма от ее мужа… Она… она умерла!
Он окаменел, лицо его исказилось, глаза расширились. Потом он кинулся к жене и схватил ее за плечи.
— Ты с ума сошла! С ума сошла!
Она взглядом показала ему на телеграфный бланк, лежащий на столе. Он выпустил ее и взял в руки телеграмму.
«С глубоким прискорбием сообщаю вам, что моя незабвенная жена, а ваша дочь Мэри вчера скончалась от рака. Болезнь продолжалась несколько месяцев».
Джон Уэст смотрел на телеграмму, словно не веря глазам. Потом скомкал ее в руке. И вдруг жестокая боль стиснула ему сердце, он пошатнулся и рухнул на пол.
Нелли слабо вскрикнула. В комнату вбежала сиделка и опустилась на колени подле Джона Уэста.
— Миссис Уэст, велите горничной позвонить доктору Девлину! Пускай придет немедленно!
Когда пришел Девлин, они с трудом перенесли Джона Уэста на кушетку в музыкальной комнате. Горничная затопила камин, и они перетащили кушетку поближе к огню и укрыли больного пледами. Джон Уэст пришел в себя. Врач сделал ему укол, дал лекарство и с полчаса просидел подле него.
Прощаясь, Девлин сказал: — Это был тяжелый приступ, мистер Уэст. Вы должны быть очень осторожны. Полежите пока здесь, потом сиделка поможет вам подняться в спальню и лечь в постель. И несколько дней не вставайте. Завтра с утра я зайду. — Уходя, Девлин прошептал сиделке: — На этот раз он, пожалуй, не выживет. Я не могу остаться, меня ждет тяжелый больной. Если я вам понадоблюсь ночью, непременно позвоните.
Хотя Джон Уэст был очень слаб и задыхался, мысли его прояснились. Не обращая внимания на сиделку, он смотрел на пламя, пляшущее в камине. Мэри умерла, и с ней умерла его последняя слабая надежда обрести душевный покой.
— Может быть, теперь вы подыметесь к себе и ляжете в постель, мистер Уэст? — негромко спросила сиделка.
— Да, — ответил он. — Теперь мне только в постели и место.
Опираясь на ее руку, он медленно поднялся по лестнице. У двери в спальню она спросила: — Как вы себя чувствуете? Может быть, помочь вам раздеться?
— Нет, — слабым голосом ответил он. — Я давно привык раздеваться сам. Не беспокойтесь, сестра.
— Только непременно позвоните, если я вам понадоблюсь ночью. Вы не забыли, что звонок от вас проведен в мою комнату?
— Не забыл, сестра. Но все будет в порядке. Это был просто шок.
— Спокойной ночи, мистер Уэст. Я зажгла газовый камин в будуаре и положила в кровать грелку.
— Спокойной ночи, сестра.
Джон Уэст медленно разделся. Усталость и безразличие овладели им. Что дали ему все его богатство и власть? Он мог приобрести все, что только можно купить за деньги, но желание обладать чем-нибудь и способность пользоваться этим изменили ему; ему хотелось того, что не покупается за деньги, — но все это прошло мимо него или было у него отнято.
Он стоял в пижаме и ночных туфлях; при свете лампы, горевшей у него над головой, его ноги казались еще более кривыми; от него во все стороны расходились уродливые тени. Он посмотрел на платяной шкаф, которым заставлена была дверь в спальню Нелли. Спит ли она? А если не спит — о чем она думает? Ему вдруг захотелось пойти к ней, поговорить, поделиться с нею своим горем. Но он подавил это желание. Ведь она изменила ему, и он поклялся наказать ее… Его хлестнуло воспоминание о той ночи, когда в соседней комнате родился Ксавье. Он вздрогнул, передернул плечами и пошел в свою открытую спальню, где возле его постели уже была зажжена лампа.
Он достал из-под подушки четки и опустился на колени возле кровати. Стоя на коленях, он читал молитвы, перебирая четки, возведя глаза к потолку, беззвучно шевеля губами. Потом он лег, но тотчас снова поднялся. Впервые за последние пятьдесят лет он забыл о револьвере! Он прошел в будуар, достал из ящика револьвер и сунул его под подушку.
Он выключил свет и лежал в темноте, мысль его беспорядочно перескакивала с одного на другое. Сердце билось слабо и неровно. Вдруг он вспомнил о Мэри и ощутил острую жалость к самому себе. Это они отняли у него дочь! Коммунисты! Но Мензис и Католическое действие прикончат их — засадят за решетку, перебьют! Он даст Католическому действию еще пятьдесят тысяч фунтов на борьбу с коммунистами!
Все его тело напряглось, сердце, казалось, перестало биться. Потом наконец он вытянулся в постели, раздавленный бесконечной усталостью.
В полусне ему почудилось, что внизу играют на рояле, потом донесся смех, и голос Мэри окликнул его. Он попытался встать, но не смог.
Наконец он заснул, и ему привиделось, что передним стоит констебль Броган, как когда-то перед «Торговлей чаем П. Каммина». Во сне он кинул Брогану золотой соверен. Броган поймал монету, но протянул ее обратно со словами: — К сожалению, у меня приказ. Я должен обыскать лавку и прикрыть ваше заведение. И ваша матушка будет этому рада.
Потом мать подошла к нему, говоря: — Прошу тебя, Джон… Ради меня, ради твоей матери. — Он протянул руку, но лицо ее стало тускнеть и постепенно растаяло в темноте.
Ночь была безлунная, мерцали яркие звезды. Осенний ветер шумел в ветвях угрюмых елей, которые с двух сторон ограждали открытую спальню. Джон Уэст спал неспокойно. Время от времени он ворочался и вскрикивал во сне.
