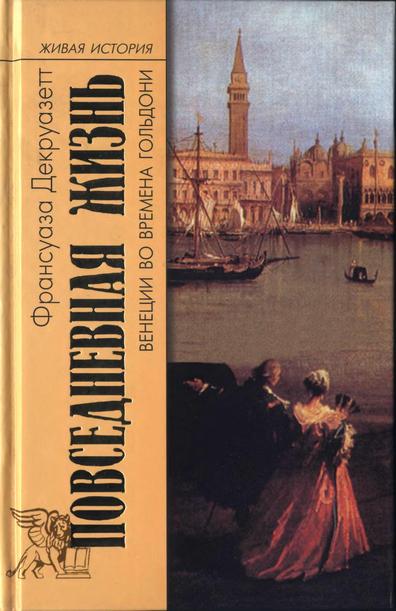
В книге французской исследовательницы Франсуазы Декруазетт на широком историческом материале воссоздана общественная и культурная жизнь Венецианской республики в XVIII веке, время ее расцвета и «упадка».
Карло Гольдони был не просто уроженцем Венеции — для многих он стал Венецианцем с большой буквы, творцом, который перенес на сцену и обессмертил все те проблемы, надежды и чаяния, которыми жили его современники.
Франсуаза Декруазетт
Повседневная жизнь в Венеции во времена Гольдони
Введение
Почему это Венеция маленькая?
Знайте, я Венеция великая!
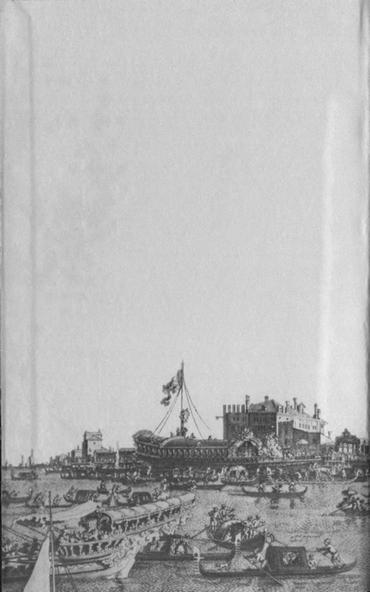

В одной неаполитанской сказке начала XVII в.[2] принц в поисках идеала женской красоты отправляется в долгий и опасный путь, ведущий его сначала к «зеркалу Италии, дворцу добродетельных людей, великой книге чудес искусства и природы», где он получает дозволение следовать дальше в Левант. И зеркало, и дворец, и великая книга чудес — это все Венеция. Спустя два века Ипполит Тэн, удобно устроившись в гондоле и вдыхая «влажный» воздух, разлитый над каналами, взирает на «кружево колоннад, балконов и окон»[3] и восхищенно восклицает: «Воистину, это жемчужина Италии!» Однако уже в 1837 г. для Бальзака Венеция была всего лишь «жалким обшарпанным городом, который с каждым часом неустанно погружается в могилу», городом, где неумолимая вода, словно предвещая скорую его гибель, развешивает на цоколях домов печальную «траурную бахрому»[4]. А в конце XIX в. бескомпромиссный Золя и вовсе не видит никаких перспектив для возрождения «города-безделушки», где нет ни осени, ни весны, ни улиц, ни птиц, а посему его пора помещать под «стеклянный колпак»[5].
В XVIII в. блистающая роскошью и медленно погружающаяся в воды лагуны Венеция, по мнению одних, замерла в ожидании собственной гибели, а по мнению других, напротив, по-прежнему была полна жизни, музыки и удовольствий и радовала своими шумными празднествами. Противоречивый город постоянно является объектом восторгов и вопросов, зачастую совершенно противоположных. О венецианских противоречиях написано немало. Однако, возможно, те, кто писал о них, слишком часто стремились связать их с неожиданным падением Республики — роспуском 12 мая 1797 г. Большого совета, олицетворявшего десять веков ее славной истории; негативно оценивая это событие, они считали его признаком конца, наступления которого следует ожидать в обозримом будущем. Но, скорее всего, Венеция, Владычица, Светлейшая, повелительница средиземноморской торговли, была все та же. И следовало говорить не столько об «упадке» или об объявленной смерти, сколько о переменах, начавшихся, впрочем, задолго до XVIII столетия. В Венеции всегда чутко относились к любым новшествам, к любым переменам, происходившим за пределами Республики. Недавние работы, написанные по результатам архивных поисков и системного анализа документов из многочисленных канцелярий Венеции, показали это достаточно ясно. Статьи, опубликованные в сборнике «Storia della cultura veneta»{1}, исследования по социальной и политической истории Гаэтано Коцци и его коллег, работы Джанни Беллавитиса и Эннио Кончина о городских структурах и их трансформациях, исследование Манлио Брузатин о Венецианской области, труды Пьеро Дель Негро, Джорджио Бузетто, Фолькера Хунеке о политической, экономической и общественной жизни аристократических семейств, об их отношении к браку, книга Матильды Гамбьер о женщинах, а также исследования парижской группы под руководством Алессандро Фонтана, посвященные последним дням Венецианской республики, и анализ депеш, отправленных венецианскими посланниками из Парижа, позволили нам уточнить, пополнить, а в некоторых случаях и изменить наши представления о противоречивом XVIII столетии. Перечисленные выше труды — лишь небольшая часть работ, которые будут упоминаться на этих страницах. В свете этих исследований перед нами предстает город, легко сводящий счеты с прошлым и жадно стремящийся ко всему новому, динамично развивающийся, но постоянно сталкивающийся с проблемой выбора между необходимостью перемен и глубоко укоренившимся доверием к своим многовековым институтам. Поэтому, на наш взгляд, будет весьма полезно обобщить полученные данные. Осталось только решить, как это сделать.
Венеция и Гольдони. Их неразрывное единство очевидно. «Я родился в Венеции, в 1707 году, в красивом большом доме, расположенном между мостами Номболи и Донна Онеста, на углу улицы Ка Чентанни, в приходе церкви Сан-Тома»[6]. Этими строками, взятыми из введения к «Мемуарам», написанным между 1784 и 1787 г. по-французски в Париже, Карло Гольдони скрепил для своих будущих читателей узы, связывающие его с Венецией, став для многих не просто уроженцем этого города, но Венецианцем с большой буквы. Гольдони ходил по улицам Венеции, по ее мостам и папертям не только как любознательный турист, но и как творец, сочиняющий интригу и отыскивающий прототипов своих персонажей. Он сам пишет о том, как всегда любил подмечать забавные подробности из жизни своих соотечественников, различные стороны их поведения, их промахи и проявления страстей, с которыми ему доводилось сталкиваться где-нибудь на calle (улице) или campo (площади). Увидев достойное его внимания зрелище, он тотчас — в форме диалога или сценки — записывал на клочках бумаги свои наблюдения, прибегая, таким образом, к своего рода автоматическому письму, этой своеобразной форме выражения симбиоза человека и города.
Было уже предпоследнее воскресенье карнавала; а у меня не было написано ни одной строки… заключительной пьесы, более того, я даже не знал, о чем буду писать.
В тот самый день я вышел из дому; чтобы погулять по площади Святого Марка и посмотреть, не навеют ли мне какие-либо маски или фигляры сюжет комедии~ Внезапно я встретил под аркадой башенных часов человека, который сразу поразил меня и доставил желанный сюжет.
Это был старый армянин, плохо одетый, ужасно грязный, с длинной бородой, который бродил по улицам Венеции и продавал сухие плоды своей родины, называемые им «абаджиджи». Этого человека можно было встретить повсюду, и я сам встречал его уже много раз; все хорошо знали его и настолько презирали, что, когда хотели посмеяться над какой-нибудь девушкой, стремившейся выйти замуж, ей предлагали в женихи «Абаджиджи».
Большего мне не надо было; я вернулся домой вполне удовлетворенный, заперся у себя в кабинете и стал обдумывать народную комедию под заглавием «I Pettegolezzi»{2}[7].
Венеция отдается страстно, а Гольдони берет решительно, не раздумывая; преодолевая на бумаге не взятый им в реальной жизни барьер отцовства, он пишет, что в результате его тесного общения с городской средой рождаются героини его пьес, чьи поступки при такой манере письма вполне можно рассматривать как «истинную картину нравов и жизни граждан Венеции». Гольдони видит площади, улицы и перекрестки, эти постоянные, традиционные места действия комедии, в «венецианском» ракурсе, изменяя, подобно Каналетто или Гварди, углы наблюдения, и наполняет эти места звуками и живыми людьми — иначе говоря, жизнью.
Вид на Канал Гранде, где плавают гондолы. С одной стороны дощатый навес, прикрывающий вход в театр. С другой стороны — дверь, через которую покидают театр, и окошечко, где продают билеты. Время от времени мальчишка выкрикивает: «Подходите, господа маски, покупайте билеты, десять сольдо с человека, а тому, кто платит за всю компанию, господа маски, тому билет в первые ряды!» На другой стороне улицы стоит скамья, где вполне могут разместиться четверо. Повсюду фонари, как это обычно бывает возле театров… Юный зазывала то и дело выкрикивает: «Подходите, покупайте билеты!..»[8]
Понятно, почему Стендаль в 1817 г. сравнил комедии, называемые обычно «венецианскими» (написанные на венецианском диалекте и повествующие о жизни улиц и перекрестков), с «фламандской живописью, изображающей правду жизни и низменные нравы простонародья».[9]
Однако главное не в этом. В сущности, Гольдони ошибочно называют венецианцем. И сам он охотно поддерживает это заблуждение в умах своих читателей: «Мой род происходил из Модены, но сам я, как и отец, родился в Венеции. Мог ли я воспользоваться привилегией иностранцев? Не думаю»[10]. Однако отец Гольдони — уроженец Модены, сам он учился в Римини и Павии, женился в Генуе (почему он не взял в жены венецианку?), впервые испытал себя на театральном поприще в Милане, в юности много странствовал по всей Венецианской области, некоторое время занимался медициной в Удине, начинал адвокатскую карьеру в Пизе, долго жил в Парме, несколько раз (и все неудачно) пытался поставить свои комедии на сценах Рима, долгое время стремился попасть в Неаполь, восхищался Болоньей, городом, бывшим, по его словам, самым просвещенным во всей Италии, а также местом жительства его близкого друга, маркиза Альбергати Капачелли… Словом, жизнь его и карьера протекали в значительной степени за пределами Венеции. Разумеется, большую часть времени он проводит на севере Италии, неподалеку от города дожей, но все же не в самом городе, отчего его можно сравнить с танцором, исполняющим завораживающий танец вокруг женщины, которую он и боится и обожает одновременно, а главное, никак не может добиться ее расположения. А когда красавица наконец завоевана, восхищение быстро сменяется презрением, за которым следует расставание: в 1762 г. Гольдони уезжает в настоящую столицу — в Париж, город, которым он восторгается уже давно. В Венеции правительство отказывает ему в содержании, публика отрекается от него, враги начинают бешеную травлю[11]. Париж же, напротив, распахивает ему свои объятия: здесь он хорошо известен как либреттист и автор, чьи сочинения охотно переводят на французский язык, дабы оживить итальянскую комедию и создать пока еще не существующую итальянскую оперу[12]. От него ждут театральной реформы, и он решает оправдать ожидания. Два года он проводит вдали от Италии; за это время он выучивается бегло говорить на трех языках, все три культуры становятся ему близки. Жизнь его напоминает калейдоскоп: гостиницы, дороги, сюрпризы судьбы, встречи, смешение культур… В конце концов оказывается, что в общей сложности он проводит в изгнании тридцать лет.
«Голос мой звучит тихо, зато все, о чем я пою, правда»[13]: Гольдони всегда искал в театре истину, искал страстно. «Все в этой пьесе было взято из простонародной среды, но все было проникнуто правдой, известной всему свету», писал он о своей пьесе «Перекресток»[14]. Тем не менее он считает, что его венецианские комедии, созданные на основании подлинных наблюдений за разноликой жизнью маленьких campi, вряд ли будут иметь успех за пределами города. Он презирал ремесло либреттиста, ему представлялось бессмысленным делать из своих пьес оперы, ибо, создавая сюжет для оперы, он попадал в полную зависимость от музыки, сценографии и исполнителей; для своих либретто, которые писал исключительно из финансовых соображений, он сочинял совершенно невероятные истории[15]. По его собственным словам, «книге Жизни» он обязан только половиной своего вдохновения. Другую половину он черпал в «книге Театра», ставшей для него источником всего — и репертуара, и правил, и технических приемов, — одним словом, той иллюзии, что позволяет реальности вести свое призрачное существование на сцене.
Единственная реальность, интересующая Гольдони, та, ради которой он меняет солидное ремесло адвоката на весьма ненадежное ремесло «наемного поэта», — это реальность театра со всеми ее тайнами и крайностями: над этой реальностью все еще властвует авторитет постоянного «репертуара» актеров-импровизаторов с их неизменными монологами, «лацци», жестикуляцией и костюмами. Считая, что такой театр уже не отвечает потребностям общества, Гольдони начинает театральную реформу, затрагивающую и драматургическую, и постановочную часть, и игру актеров. Однако высшей своей целью он ставит не столько театральную реформу, сколько создание в Венеции принципиально нового театра, в котором горожане не только узнавали бы себя, но и понимали, какими им бы следовало быть. Правдоподобие персонажей и положений интересует его с точки зрения назидательности. Исходя из выдвинутого им требования, истину нельзя подавать такой, какая она есть, то есть без прикрас, но тем не менее маска правдоподобия для нее является обязательной. Влюбленных, неистовых и несчастных, выведенных на сцену в комедии «Влюбленные», автор видел «в Риме, был свидетелем их страсти и нежности, порою даже припадков их бешенства и смешных восторгов. Мои любовники несколько утрированы, но от этого не менее правдивы»; однако безумства на сцене являются тем зеркалом, в которое следует смотреться вспыльчивым молодым людям, желающим исправить свое поведение[16]. «По характеру своему герои мои ничем не отличаются от окружающих нас людей, — пишет он, — они совершенно правдоподобны, и, быть может, даже правдивы, ибо я выхватываю своих персонажей из толпы; но если кто-нибудь узнает в них себя, то только совершенно случайно»[17]
Всего в двух десятках (из ста пятидесяти) комедий и либретто действие полностью происходит в Венеции, на ее улицах и перекрестках, в домах знати, буржуа или простых горожан, выступающих в качестве декораций для театрального действа. Тогда почему же Венеция времен Гольдони?
Для открытия сезона 1735/36 г. Гольдони предложил театру Сан-Самуэле маленький музыкальный «дивертисмент» в трех частях под названием «Основание Венеции», совершенно забытый в наши дни. В первой картине Музыка и Комедия в присутствии Гения Адриатики оспаривают друг у друга главенство в венецианских сценах и одновременно симпатии их молодого автора. Затем на сцену выходят несколько рыбаков; рыбаки эти ведут привольную деревенскую жизнь на островах посреди болот: они заняты либо рыбной ловлей, либо незатейливыми любовными романами.
Подплывают две лодки, из них высаживаются рыцари, бегущие от «ужасов Марса»; они предлагают рыбакам свои богатства и свою помощь, дабы те и дальше могли сохранять свою свободу и мирное существование. Заключая символический союз, скрепленный браком молодой рыбачки, «прекрасной, как Венера», и предводителем рыцарей, рыцари обещают, что золотой век, в котором живут рыбаки, продлится вечно, и в знак нерушимости своей клятвы обещают основать чудесный город, править им по закону и справедливости и завоевать для его жителей целую империю. Так молодой новоиспеченный адвокат Гольдони, снедаемый бесом театра, становится скромным историком своего города. По его собственному утверждению, он не претендует на оригинальную трактовку сюжета, известного «как ученым из истории, так и невеждам, внимающим рассказам, передающимся из уст отцов в уста сыновей»[18]. Сам он также унаследовал и историю города, и его традиции и всю жизнь оставался верен им. Однако, занимая позицию «посредине», между «учеными» и «невеждами», между теми, кто делал историю, и теми, кто ее претерпевал, он полагал, что, используя многоголосицу театральной речи, ему удается показывать и тех и других беспристрастно и объективно.
Наблюдения над повседневной жизнью, стремление создать характеры персонажей, исходя из поведения своих современников, являются хорошим поводом обратиться и к истории, и к традиции. Размышления о прошлом приводят Гольдони к мысли о необходимости построения нового будущего, о настоятельной потребности выработать концепцию театральной реформы в духе девиза венецианского XVIII столетия — «новое здание надо сооружать на старом фундаменте»[19]; «реформирование традиции»[20] — одна из удавшихся реформ первой половины интересующего нас века. В этом смысле афористичный, исполненный подтекста театр Гольдони, театр, отражающий выбор — подчас противоречивый, — делаемый Гольдони человеком и актером, живущим и сочиняющим в обществе, занятом поисками своей идентичности, этот театр становится своего рода лабораторией, где ведутся испытания действенности соглашения, заключенного Республикой со всеми общественными сословиями, которые драматург, сознавая взятую на себя ответственность, выводит на сцену[21]. Театр Гольдони побуждал задуматься о будущем Республики, которую в 1737 г. драматург, используя риторику мифа о совершенстве Венецианского государства, называет «славнейшей, могущественнейшей и благоустроеннейшей из Республик», хотя именно вдали от Венеции он «обрел отдых, спокойствие и благосостояние»[22].
Глава I
ПРЕКРАСНЕЙ ГОРОДА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ МИР
Вперед, друзья, на этих невеликих островах
Построим город мы, красивый и богатый,
Прекрасней коего еще не видел мир.
Мы сваи толстые вобьем в болота,
На месте топи чудо сотворим:
Дома построим, улицы проложим,
И вознесутся ввысь Дворец и Храм.
Город, описать который невозможно
Когда в 1784 г. Гольдони приступает к написанию на французском языке своих «Мемуаров», то, вспоминая, как после учебы в Римини он в пятнадцать лет вновь открывает для себя Венецию, он сталкивается с неожиданной для него трудностью. Венеция оказывается городом «столь необычайным, — пишет он, — что невозможно, не видев его, составить себе о нем правильное представление. Карты, планы, модели, описания недостаточно: Венецию нужно видеть…», а в заключение добавляет: «Всякий раз, когда я возвращался в нее после долгого отсутствия, она по-новому поражала меня»[23]. Гольдони-автор никогда не скрывал своего недоверия к образцам, но здесь, возможно, он хочет заранее обезопасить себя от упреков в неточности и убедить будущих читателей в стремлении быть искренним и точным во всем: ведь воспоминания его во многом стерлись от возраста и времени, а сам он вот уже больше двадцати лет живет в Париже. Его нынешнее видение Венеции — это «маленькая Венеция», Венеция в миниатюре, устроенная в Версальском парке на правом берегу Большого канала вокруг двух гондол, подаренных в 1673 г. Людовику XIV дожем Франческо Микьелем. Именно эта Венеция навевает на него ностальгические воспоминания о «домишках, огородиках, садиках» и «симпатичных сладеньких мордашках» венецианских девушек[24]. Когда старик Гольдони утверждает, что ему трудно описать Венецию, не следует воспринимать его слова как кокетство или бессилие, свойственное возрасту. Он всего лишь выражает общее мнение, присущее почти всем политическим наблюдателям и просто путешественникам, когда тем в один прекрасный день приходит в голову мысль описать Венецию. Венецианская пословица гласит: «Венеция, Венеция, кто не видит тебя, тот не может оценить тебя по достоинству». Еще в 1581 г. Никколо Дольони начал свое описание «Вещей наиболее примечательных, что имеются в городе Венеции» с такого вот вымышленного диалога между чужестранцем и жителем Венеции:
Венецианец. Скажите мне, сударь, как вы находите наш город?
Чужестранец. Если я скажу вам правду, вы мне не поверите.
Венецианец. И все же скажите. Говоря правду, мы воздаем хвалу Господу.
Чужестранец. Судя по расположению своему, кое дает ему все, в чему него есть нужда, равно как и по прекрасным своим зданиям и людям, в них проживающим, город этот (как мне кажется) поистине является божественным творением, и теперь я вижу, сколь прав был тот, кто, побывав в нем, на вопрос Папы Римского, каким он нашел Венецию, ответил: «Город сей воистину велик, ибо в нем я увидел невозможное в невозможном»[25].
Построенная на нескольких островах, разбросанных посреди болотистой лагуны, в своеобразном лабиринте, где смешались земля и вода, не имеющая стен и вверившая защиту свою самой свободе, Венеция не похожа ни на один из существующих городов. Она не поддается никакому разумному описанию. Тайна, изначально окружающая город и его имя, чудо, коим вполне можно считать могущество Венеции и небывалые богатства, сконцентрированные венецианцами в столь негостеприимном от природы месте, — все это превращает город на лагуне в источник поэзии. Каких только метафор не удостоилась Венеция! Венеция, новая Венера, вышедшая из волн, — так с точки зрения мифологии объясняют название города. Впрочем, некоторые предпочитают видеть в староитальянском Venetia, ставшем затем Venezia, игру латинских слов venus etiam, «приходи еще», передающих очарование, оказываемое этими местами на путешественников, и их неизменное желание вновь сюда вернуться. В 1493 г. Марино Санудо, один из первых городских хронистов, возводит название города к Венере, иначе говоря, дает его «царственную» трактовку, вдохновлявшую художников и резчиков вплоть до Джамбаттисты Тьеполо: «Покоясь на морских волнах, она, словно королева… повелевает ими»[26]. Некоторые авторы XVII в. предпочитают более мужественные метафоры. Неаполитанец Базилио видел в Венеции зерцало истины, прекрасный дворец, великую книгу. «Солнце планет» — определение в значительной степени эзотерическое; исполненное скрытого смысла, оно послужило заголовком длинного барочного панегирика, который в 1635 г. посвятил Венеции ее беспокойный гражданин Ферранте Паллавичино, весьма известный в кругах либертенов XVII столетия[27]. А на заре XVIII столетия испанец дон Диего Зунига, глядя на город, названный им «возлюбленным Европы», пускается в пространные рассуждения, исполненные замысловатых метафор: «Средоточение чудес», «Прославление Природы и гордость искусства». Однако тут же сам их и опровергает, заявив, что единственно достойной похвалой Венеции является «смятенное молчание».[28] И хотя в XVIII столетии отказались от столь напыщенных определений, тем не менее лирический настрой рассказчиков сохранился. В те времена в Венецию прибывали по суше и по морю. Первой «станцией» на «твердой земле» (Terra Ferma), иначе говоря, на материке, было селение Фузина, расположенное на западе от города. До нее добирались в почтовой карете или на burchiello «очаровательной барже, где в каютах не было нехватки в зеркалах, скульптурах и картинах; в баржу были впряжены две лошади, они шли по берегу и тащили ее за собой, продвигаясь со скоростью не больше мили в час… на барже имелись все удобства, можно было прекрасно поесть и выспаться»; баржа эта ежедневно курсировала между Падуей и Венецией[29]. Затем надо было пересесть на traghetto (паром) и на нем переправиться через лагуну. Также в город можно было попасть с юга, через Местре или Кьоджу, или же с севера через Ла Фоссету. Прибыв в город, вы оказывались в одном из шести городских кварталов, называемых сестьере («одна шестая»), расположенных по обеим сторонам Канала Гранде (Большого канала). Сестьере Сан-Марко, Кастелло и Канареджо именовались кварталами de citra — по эту сторону канала, а Дорсодуро, Сан-Поло и Санта-Кроче — кварталами de ultra — по ту сторону канала.
Итак, как же путешественники описывают свое первое впечатление от встречи с городом, когда въезжают в него со стороны Пьяцетты, иначе говоря, с привилегированной стороны, нередко именуемой «городскими воротами»? Господин де Лаэ Вантеле, бывший в 1680–1701 гг. послом короля Людовика XIV, пишет, что Венеция, подобно сказочному городу из страны фей, возносится над водами лагуны: «Зрелище сего города всегда удивительно; издалека кажется, что он наполовину погружен в воду, однако по мере приближения замечаешь, как из воды вырастают зачарованные дворцы, и ты уже не перестаешь восхищаться великолепием его построек и причудливыми изгибами его каналов, служащих улицами, отчего весь город делается единым водным лабиринтом».[30] У шевалье де Жокура, автора статьи-«Венеция» в «Энциклопедии» Дидро, город всегда вызывает удивление, прибывает ли он туда со стороны моря или же приезжает по суше. С точки зрения шевалье, Венеция не «вырастает из воды», а подобно адмиральскому флагману «качается на волнах», «окруженная множеством лодок и лесом корабельных мачт, сквозь который с трудом различаешь ее главные здания, и в частности дворец на площади Святого Марка…»[31] Через десять лет эту метафору подхватит и разовьет наделенный богатейшей фантазией и критическим складом ума авантюрист Анж Луи Гудар: у него «адмиральским флагманом» станет «огромный каменный корабль, который природа и человеческий гений удерживают на якоре вот уже тринадцать столетий»[32].
Гольдони также отдает дань лиризму. Вид города, открывающийся с канала со стороны Сан-Марко, с самого первого взгляда кажется ему удивительным; правда, не менее удивительной впоследствии ему покажется и Генуя. «Каменный корабль» у Гольдони становится «высящимся над бескрайней морской гладью материком, о берега которого разбиваются волны». Однако точность его определения заметно хромает, и на это имеются свои причины. Адепты «европейского вояжа», любознательные интеллектуалы XVIII столетия, путешествующие с целью созерцания художественных ценностей Европы, в действительности открывают для себя гораздо меньше новых уголков, нежели пытаются затем описать[33]. Большинство из них путешествует с книгой в руке или же просто «по книге», следуя «образцовым» маршрутом, навязанным их предшественниками. Отчет о путешествии является совершенно особым литературным жанром; это своего рода закодированное послание, воспоминания, почерпнутые из книг, основанные на иконографических изображениях и отчасти на собственных впечатлениях, довольно редко отражающих реальную действительность. Венеция, как, впрочем, и вся Европа, упоминается в огромной массе отчетов и описаний; нет недостатка и в иллюстративном материале, прежде всего в городских видах; благодаря обилию самой различной информации Венеция подтверждает свое звание удивительного уголка Европы. И тем не менее описания Жокура, впервые прибывшего в Венецию со стороны Пьяцетты, вполне могут быть продиктованы не его собственными впечатлениями, а представлять описание тех или иных видов Венеции в перспективе, во множестве представленных на гравюрах начала века, например на гравюре Фридриха Б. Вернера, выполненной в 1750 г. На ней изображен покоящийся на волнах величественный город, над которым возносится лес колоколен и стройных мачт, вздымающихся над хмурыми лбами дворцов и жилых домов; этот шумный лес кораблей, гондол, лодок и прочих плавучих средств, теснящихся в водах лагуны, противостоит торжественной неподвижности городских строений.
Гольдони ищет верный образ Венеции, однако он уже стал жителем Парижа (хотя в душе остался коренным венецианцем), он отрезан от непосредственного общения с городом, а потому, описывая его, с трудом обретает вдохновение, но даже когда ему это удается, впечатления и образы оказываются порождением вымысла. Подобно заботливому другу, он приглашает своего читателя в Венецию и настоятельно советует ему въехать в город со стороны собора Святого Марка, дабы проехать «мимо огромного количества всякого рода кораблей, военных и торговых судов, фрегатов, галер, баркасов, катеров, гондол…» Но картина, нарисованная Гольдони, вполне может быть вариантом описания Венеции из «Энциклопедии» Дидро, однако с меньшими подробностями и без соблюдения терминологии речного судоходства, равно как и описанием одной из гравюр, где изображен вид города с птичьего полета.
Венеция глазами иноземцев
Взор путешественника ограничен: он видит в Венеции только то, что город согласен ему показать, и поэтому добраться до истины, читая рассказы тогдашних туристов, крайне сложно. Но последуем за Гольдони:
…Вы видите с одной стороны Палаццо дожей с собором, олицетворяющее великолепие Республики, а с другой стороны площадь Святого Марка, окруженную портиками, построенными по рисункам Палладио и Сансовино.
Затем вы идете по улице Мерчериа до моста Риальто; шагаете по квадратным плитам из истрийского мрамора, которые выщерблены резцом, чтобы ноги по ним не скользили; проходите по местности, представляющей собою постоянную ярмарку, и достигаете моста, перекинутого через Большой канал. Этот мост имеет только одну арку, шириной в девяносто футов, настолько высокую, что это дает возможность пропускать под ней корабли и баркасы даже во время самого большого подъема воды; на нем целых три дорожки для пешеходов, и он поддерживает на своем сгибе двадцать четыре лавочки с жилищами, покрытые свинцовыми крышами.[34]
Желая придать индивидуальность своему описанию, автор напрямую приглашает читателя посетить город, а также вскользь, подобно мазку художника-импрессиониста, упоминает о «постоянной ярмарке» — зеленном рынке (Эрберии) на Риальто, куда каждый день на лодках подвозят фрукты, овощи, мясо, сыры и цветы; название рынка Гольдони не упоминает (не исключено, что он успел забыть его). Однако и обращение к читателю, и выбор точки отсчета, и предложенный маршрут, и упомянутые памятники — словом, все, вплоть до технических деталей и цифр, вполне соответствует картине Венеции официальной, сошедшей со страниц местных путеводителей. В путеводителях обычно нет места личным впечатлениям, поэтому туристам приходится записывать их на полях.
Один из самых знаменитых путеводителей той эпохи носит название «Чужестранец, полностью осведомленный о всяческих вещах, наиболее редкостных и наиболее внимания достойных, старинных и современных, кои имеются в городе Венеции и на островах, его окружающих»[35]. Эта весьма примечательная книга была широко распространена во Франции в переводе. Автор ее, используя в качестве исходного материала рассказы путешественников, выстраивает собранные им сведения в определенном порядке. Уверенный, что приезжему человеку надо рассказать о самом интересном, но при этом чтение путеводителя не должно вызывать у него затруднений (читать его должно быть легко так же, как нынешние «карманные» издания для чтения в поезде), он, по сути, делает сборник старинных преданий и рассказов о Венеции, каждый из которых может сослужить полезную службу для приезжего. По его мнению, город вполне возможно осмотреть за шесть дней, по дню на «сестьере», то есть на каждую его шестую часть. Такой порядок осмотра, предложенный в конце XVI в. Франческо Сансовино[36], был взят за правило, и с тех пор никто от него не отступал. Деление города на сестьере и по сей день ни у кого сомнения не вызывает, но в те времена оно имело еще и важное символическое значение. С конца XII в. главы сестьере стали входить в Совет при доже, состав которого был строго ограничен. Так правительство решило подчеркнуть значимость сестьере, являвшихся главной административной единицей Республики. В топонимике сестьере, загадочной для чужестранца, отразились геологическое происхождение города, его экономическая и политическая история, и потому помещенный в начале путеводителя краткий, сведенный до нескольких строк этимологический экскурс вполне заменяет традиционный рассказ о легендарном происхождении Венеции и сообщает о наиболее важных моментах в ее развитии.
Прежде всего следует знать, что город сей разделен на шесть сестьере; первый сестьере носит имя святого Марка, коему посвящена базилика дожей; второй именуется Кастелло{3} от названия бывшего замка Оливоло, стоящего подле острова Риальто; третий прозван Канале Реджио или Канареджио, он назван так из-за тростника (саппе), прежде произраставшего на этом самом месте; эти три сестьере расположены по одну сторону Канала Гранде; канал делит город на две части, соединенные между собой мостом Риальто. Три других сестьере расположены по другую сторону канала: это Сан-Поло, что включает в себя древний Ривоальто; Ла Кроче, от названия церкви Ла Кроче-ин-Луприо (так прежде назывался этот приход), и Дорсодуро{4}, названный так по форме острова, который, вздымаясь подобно рифу, очертаниями своими напоминал спину[37].
Острова, как именует эти кусочки суши автор, имеют глинистую или болотистую почву, называемую dorsi, tumbe или barene, именно на них в IX в., покинув богатые дичью земли на северной оконечности лагуны, а также Торчелло, Кьоджу, Градо, Езоло, Гераклею, Каорле, где первые поселения возникли еще в V в., поселились первые венецианцы во главе со своим герцогом. Впоследствии эти dorsi оформились в шесть «областей», ставших затем шестью городскими кварталами[38]. Без всякого умысла Гольдони забывает упомянуть о существовании связующего звена между Сан-Марко и Риальто, а именно о Мерчерии. С исторической точки зрения оба места действительно созданы для объединения, ибо взаимно дополняют друг друга. Местность Ривоальто («высокий берег»), расположившаяся в устье одного из речных притоков лагуны, в 810 г. была провозглашена местопребыванием правительства, резиденция которого прежде находилась в Маламокко. Там построили дворец, а затем базилику, чтобы разместить в ней реликвии святого Марка, доставленные в 828 г. двумя купцами из Александрии. Вскоре святой Марк стал более популярен, нежели святой Теодор, первый покровитель города, а площадь Сан-Марко стала более значимой, нежели Ривоальто: затем место это, название которого превратилось в Риальто, вошло в состав сестьере Сан-Поло; теперь словом «Риальто» называли всего лишь мост и рынок. Площадь Сан-Марко стала политическим центром города, Риальто — центром экономическим. Там воцарились ювелиры, торговцы пряностями, мясники, торговцы овощами, фруктами, рыбой, вином, оливковым маслом и апельсинами. Мастерские кожевенников, канатчиков и корзинщиков соседствовали там с конторами контролеров, торговых агентов и нотариусов, конторками чиновников, призванных следить за уплатой пошлин на лес, железо и животный жир. Там же расположились и чиновники, представлявшие интересы Торгового совета, ответственные за дамбу и прочие оборонительные сооружения в лагуне. Начиная с XVI в. на площади Сан-Джакометто, в Фабрике нуове («Новых фабриках»), построенных Сансовино, обосновался «Банко Джиро» (Banco Giro) — государственный банк, гарант финансовой стабильности Венеции.
Деловая атмосфера, царившая в этом квартале, являла собой резкий контраст с атмосферой торжественности, окружавшей Дворец дожей. Однако Венеция — республика купцов, поэтому в обоих кварталах сердца стучали в унисон. Забитая лотками и лавками улица Мерчерия, подобно пуповине, обеспечивала связь между обоими кварталами. Торговля и деловая жизнь выплескивались за пределы Риальто и разливались по всему сестьере Сан-Марко. Между Новыми Прокурациями и лагуной под открытым небом расставили прилавки более шести десятков торговцев; стоя лицом к морю, товар свой предлагали молочники, сыровары, мясники и продавцы рыбы; чуть подальше, к востоку, расположились золотых дел мастера из прихода Сан-Лио, ювелиры из Сан-Маттио, Сан-Дзуане и Элемозинарио, и торговцы пряностями из Сан-Бортоломио и Сан-Сальваторе.[39]
В XVIII столетии сестьере как административная единица во многом утрачивает свою значимость, однако символическое значение его по-прежнему велико. Сестьере тесно связаны с историей города, с мифом о его бессмертии, поэтому когда победитель Республики Бонапарт пожелал вытравить из памяти венецианцев воспоминания о прошлом, то 15 мая 1797 г. после создания Временного муниципалитета он предложил новое административное деление города. Венеция должна была быть поделена на восемь секций согласно роду занятий их жителей. Западный район Канареджио, где были сосредоточены скотобойни, огороды, сады и виноградники, стал секцией Продовольствия. Кварталы вокруг церкви Иезуитов стали Воспитательной секцией; восточный квартал Кастелло, где находился Арсенал, разумеется, стал Морской секцией. Улицы, прилегающие ко Дворцу и площади Сан-Марко, естественным образом стали секцией Законов, а западная часть квартала Сан-Марко, где сосредоточились театры, кафе и трактиры, стала секцией Зрелищ. Западная часть Дорсодуро, где находились таможня, портовая зона и устье Канала Гранде, вместе с Джудеккой превратилась в Торговую секцию, название Риальто было уничтожено, а квартал ремесленников Сан-Поло стал секцией Революции. Наконец, та часть Дорсодуро, где проживали рыбаки, и часть Санта-Кроче были названы секцией Рыболовства[40]. Вековые границы сестьере и их история были сметены с лица земли.
В каждом квартале чужестранцу предлагалось осмотреть художественные ценности, находящиеся в церквях. Посещая их, он знакомился с еще одной важной реалией жизни венецианцев, а именно с приходами, именуемыми parocchie или contrade. В каждом квартале насчитывалось разное количество приходов: в Сан-Марко их было шестнадцать, а в Санта-Кроче — всего восемь. Общее же число приходов в Венеции у разных авторов разное: семьдесят согласно Франческо Сансовино, семьдесят два, если верить Монтескье[41] или Казанове[42], семьдесят три, если принять за основу масштабный план, выполненный Никколо Уги в 1729 г. Согласно последним данным, верным следует считать число семьдесят один. Приход является структурой, обеспечивающей социальную жизнь общества, он организован вокруг более или менее просторной площади (campo), форма которой может быть самой разнообразной. Площадь окружена лавками и жилыми домами, на ней непременно имеются общественный колодец и церковь. Приходские власти осуществляют непосредственное руководство повседневной жизнью населения, для которого приход значит гораздо больше, чем сестьере. «В каждом приходе имеется своя площадь со своими колодцами, общественными пекарнями, винными складами, мастерскими портных, фруктовыми лавками, аптекарями, школьными учителями, продавцами дров, сапожниками и прочими ремесленниками; покинув территорию одного прихода и вступив на территорию другого, можно подумать, что ты покинул один город и приехал в другой», — пишет Сансовино[43].
Приход — это, по сути, самостоятельный городок, во многом напоминающий остров. Своего рода остров на острове, и это положение Гольдони обыгрывает в своей комедии «Il Cafe» («Кофейная» — 1751), действие которой происходит «на маленькой площади или широкой улице, на заднем плане — три лавочки»[44], а также в «Перекрестке», где, согласно ее названию, истинным героем комедии является городской перекресток. Именно с приходами связаны главные события в жизни горожан, торжественные ритуалы и общие праздники, то есть события, являющиеся звеньями, связующими венецианское общество и его историю. Значение приходов велико, хотя путешественник, возможно, не сумеет этого до конца понять, ибо путеводитель ограничивается беглым знакомством с художественными ценностями, хранящимися в соборах, и некоторыми массовыми городскими празднествами.
Проект, предложенный Бонапартом, сокращал число приходов до тридцати двух, по четыре на каждую секцию; гетто, выделенное в отдельный приход, получило название «Единение» — несомненно, чтобы напомнить об изданном некогда указе, изгонявшем евреев из Венеции и повелевавшем им селиться только в строго определенном месте.
Итак, какой же маршрут надо избрать чужестранцу, чтобы не заплутать в сложном переплетении сестьере и приходов? Памятники и виды Венеции гравера Луки Карлевариса[45], обрамляющие план Никколо Уги, отражают основные достопримечательности, включенные в обзорную экскурсию: площадь Сан-Марко, Старые Прокурации, Новые Прокурации, построенные Винченцо Скамоцци, собор Святого Марка, Пьяцетта и две колонны, на которых установлены символы Венеции: крылатый лев святого Марка и статуя святого Теодора, тюрьмы Якопо Сансовино, Монетный двор (Zecca) работы того же Сансовино, таможня Джузеппе Бенони, ворота Арсенала, мост и площадь Риальто, церковь Сан-Джорджио-и-Реденторе работы Андреа Палладио, церковь Санта-Мария делла Салуте работы Бальдассаре Лонгены. По словам Гольдони, все это являло собой «роскошный архитектурный букет», составленный из «цветов», символизировавших «великолепие» Республики, ее политическое, экономическое и культурное могущество.
Путеводитель «Чужестранец» предлагает совместить прогулку по городу со знакомством с его историей. Он подробно рассказывает о роскошных мозаиках собора святого Марка, о золотом алтаре, выполненном в 967 г. в Константинополе, о многочисленных реликвиях святых, о богатствах Сокровищницы, где посетители имеют возможность созерцать «двенадцать королевских корон из чистого золота, королевские нагрудные украшения, королевские драгоценности и жемчужины, сапфиры и рубины, доставленные с Востока», часы, подаренные персидским шахом, и огромный алмаз, подаренный Генрихом III дожу Луиджи Мочениго. Подробно рассказывается о том, как с ипподрома в Константинополе были привезены четыре бронзовых позолоченных коня, помещены в Арсенал на хранение, а затем водружены на фронтон собора.
Дворец дожей, горделиво именуемый «огромным величественным зданием», сооружен в традициях древней архитектуры, фасад его набран из квадратных мраморных плиток белого и розового цвета. Желая подчеркнуть значимость и великолепие этого здания, путеводитель приводит множество технических подробностей и цифр. Например, он сообщает, что основания вытянувшихся в ряд ста пяти пилястров и трех сотен колонн нижнего уровня находятся под землей, ибо площадь пришлось поднимать, дабы предохранить ее от наводнений; дворец имеет восемь входов, два из которых ведут прямо в собор, объединяя, таким образом, оба здания и подчиняя их единой власти.
Описанию внешнего облика дворца и его интерьеров сопутствует рассказ о государственных институтах, кои, разумеется, удостаиваются многочисленных похвал. Поднявшись по монументальной лестнице Гигантов, посетитель имел возможность один за другим осмотреть различные залы заседаний советов Республики и одновременно ознакомиться с основными венецианскими институтами: прихожая Коллегии, или зал Четырех Дверей, зал Коллегии, где дож собирал всех своих советников, зал заседаний Совета Pregadi (букв, «приглашенных»), иначе именуемого Сенатом, зал Статуй и зал Совета десяти, Гербовый зал, где выставлялось оружие, принадлежавшее правящему дожу, зал Большого совета, построенный в 1340 г., зал для голосований.
Путешественнику также предлагается посетить вызывавший восхищение у всех иностранцев старинный сад Брольо (Broglio); в этом расположенном у подножия дворца саду ежедневно собирались нобили, чтобы до начала заседаний советов обсудить свои дела. Путеводитель советует зайти в лавки Монетного двора (Zecca), в XVI в. дополнившего «архитектурно-политический» комплекс Сан-Марко, расхваливает «двор, окруженный двадцатью пятью лавками и мастерскими, где работают мастера по металлу и чеканят монету». О библиотеке, построенной на месте «зверинца, где содержались хищные звери», то есть на месте прежнего личного зоопарка дожей, а также судоверфи и хлебных складов, путеводитель пишет не иначе как о «храме-хранилище» творений великих умов, трудившихся во славу Венеции, что, несомненно, доказывает интеллектуальное превосходство Республики. О колокольне сообщается следующее: «сооружение высотой в 330 футов», которое, по словам путешественников, превосходит своим величием и высотой башни в Болонье, Вене или Ардженте. Колокольня символизирует абсолютное господство Венеции над своими итальянскими и европейскими конкурентами. Господство это имеет под собой твердый фундамент, хотя, как уточняет путеводитель, город и стоит на болотистой почве.
Среди зданий, расположенных вокруг площади Сан-Марко (именуемой также Большой площадью), этого «огромного четырехугольника, имеющего 280 шагов в длину и 110 в ширину»[46], путеводитель обращает внимание приезжего прежде всего на Прокурации, эти «девять дворцов высотой в четыре этажа, украшенные колоннадами трех ордеров: дорического, ионического и коринфского», к которым примыкает маленькая церковь Сан-Джиминиано (позднее она была застроена другими зданиями).
Большинство венецианцев уже успели позабыть, что город их, по сути, начинался с сестьере Кастелло, а первый епископский дворец был построен на островке Оливоло. Зато все прекрасно знают, что именно в Кастелло находится Арсенал, средоточие военной и экономической мощи Венеции, строительство которого, как полагают, началось в XII в., а точнее, в 1104 г., во время правления дожа Оделафо Фальери. Путеводитель называет Арсенал «городом в городе»: там, словно в огромном муравейнике, снуют две тысячи ремесленников, изготовляющих порох и оружие и строящих и ремонтирующих корабли; среди них имеются строители, плетенщики канатов, изготовители парусов, конопатчики. Собственно, рассказ о сестьере Кастелло сводится к пространному и напыщенному описанию Арсенала: это неприступная крепость, на каждом углу которой высятся дозорные башни, где постоянно сменяются часовые, дабы крепостной гарнизон в любую минуту мог выступить на «защиту не только всех территорий Республики, но и всех государств Италии и даже всего христианского мира». Крепость эта вдобавок весьма велика и имеет от двух до трех миль в окружности, тогда как, если верить хронистам, окружность города равна всего семи или восьми милям. Арсенал, по выражению Дольони, является «поистине своим, особым миром». Подробно описано внутреннее устройство Арсенала, хотя вход туда простым чужестранцам заказан: желающим побывать на его территории необходимо получить специальное разрешение инквизиции и уплатить пошлину, сумма которой потом будет поделена между четырьмя состоящими при Арсенале «писцами», теми, кто в начале рабочего дня отмечает входящих на его территорию работников, а в конце ведет учет выходящим.[47]
В Арсенале действительно есть что посмотреть: причалы, где стоят корабли, крытые доки, огромные ангары с крышей в виде буквы «V», где трудятся корабелы, кузницы и литейные мастерские, где изготовляют пушки, ядра и мортиры, красу и гордость оружейных залов; там же стоит и «Буцентавр», огромная двухпалубная галера, на которой каждый год во время праздника Вознесения дож выходит в воды залива, где происходит церемония символического обручения дожа с морем.
В сестьере Сан-Поло внимание путешественника привлекает прежде всего Риальто. Составитель «Чужестранца» описывает не столько лавки и рынок, сколько Немецкое подворье (Фондако Тедеско), но описание и подворья, и моста перегружено техническими подробностями и деталями: характер покрытия, направление и интенсивность движения транспортных средств. Подворье — это «весьма обширная конструкция с просторным двором в центре, окруженным аркадами и колоннадами и имеющим пятьсот двенадцать футов в периметре; двадцать две лавки и две сотни торговых прилавков», расположившихся вокруг двора, свидетельствовали о размахе ведущейся Республикой торговли. Читая описание моста, сразу понимаешь, что речь, несомненно, идет о каменном мосте, сооруженном в 1588 г. на месте деревянного, сгоревшего в 1514 г. Путешественнику предлагается восхищаться белизной мраморного покрытия моста, его единственным пролетом, радиус которого равен двадцати двум футам (около 13,5 м), и трем идущим параллельно улицам, застроенным лавками со свинцовыми крышами. Эти сведения почти в неизмененном виде встречаются во всех описаниях Венеции, в том числе и у Гольдони.
Венеция, какой ее видят «Чужестранец» и чужестранцы, — это идеальный город. Рассказывать о Венеции означает рассказывать историю города. Однако когда приходит время перейти от исторического повествования о городских достопримечательностях к эстетическим оценкам, тональность рассказа постепенно меняется. Говоря о приходах, «Чужестранец» настоятельно рекомендует осмотреть прежде всего живописные и скульптурные богатства венецианских церквей. Рассказывая о семи скуоле гранди (старших школах) — Ла Шарите, Сан-Джиованни Эванджелиста, Санта-Мария ди Вальверде, или Мизерикордиа, Сан-Марко, Сан-Теодоро, Сан-Рокко и Санта-Мария деи Кармини, — светских братствах, занимающихся общественной, благотворительной и культурной деятельностью и управляемых и финансируемых главным образом крупными ремесленными корпорациями, он перечисляет собранные в них в течение веков художественные ценности. Четыре приюта (Ospedali) — Инкурабили («неизлечимые»), Дерелитти («страждущие»), или Оспедалетто («больничка»), Мендиканти («нищие») и Пьета («милосердие») — также утрачивают свое первоначальное значение заведений милосердия, открытых для приема больных, старцев, незаконнорожденных и сирот. Для путешественника приюты представляют интерес прежде всего своими публичными концертами, куда они могут пойти послушать поистине ангельские голоса девочек-пансионерок. Президент{5} бургундского парламента де Бросс, посетивший Венецию в августе 1739 г., усердно навещал приют Пьета и всякий раз восторгался юной воспитанницей «в белом платье, с букетиком цветов граната в волосах»: девушка дирижировала оркестром[48]. Восхищение, «упоительное» и «трогательное», испытывает Жан Жак Руссо, слушая сладостное пение «девушек» из приюта Мендиканти[49], однако в отличие от де Бросса Жан Жак обеспокоен, не нанесет ли столь пленительное пение урон общественным нравам. Впрочем, чужестранцы, для которых Венеция является огромным музеем, где находят усладу все пять чувств, нередко испытывают разочарование: приблизившись к девушкам, почитаемым им за «ангелов красоты», Руссо обнаружил, что они сильно нехороши собой, кривые, с лицами, покрытыми оспинами, и весьма глупы. Но если Руссо не перенес свое разочарование на весь город, то многие чужестранцы, разочаровавшись в чем-то одном, приходили к выводу, что и сам город не заслуживает внимания.
«Прекрасный снаружи, но ветхий изнутри…»
Согласно расхожей метафоре, порожденной гуманистическими теориями, тесное сплетение городских сестьере и приходов, пронизанных многочисленными нитями каналов, улочек и набережных, уподобляется божественному — а посему совершенному — устройству человеческого тела. «Вода в каналах течет по городу подобно тому, как кровь струится в венах тела человека, — пишет Франческо Сансовино в начале своего описания города, — образуя различные островки… созданные частично природою, частично руками людей; островки эти соединены между собой более чем четырьмястами пятьюдесятью мостами из камня, на которых стоят красивые здания и знаменитые дворцы, а также поистине царские храмы»[50].
Однако ощущение божественной гармонии, испытываемое посетителями города, с конца XVII в. начинает постепенно исчезать. Превозносимые путеводителями и прочими описаниями, даже самыми краткими, дома и дворцы теряют былой славный ореол. Свое первое впечатление от Венеции Монтескье определил одним словом «мило». Впервые увидев Пьяцетту, президент де Бросс отнюдь не был изумлен и, видимо, вовсе не счел ее «великолепной». В своих «Письмах» он даже выступает против употребления слова «изумление», слышанного им из уст большинства путешественников, посетивших Венецию, а напротив, утверждает, что ничего необычного этот город собой не представляет, а когда кто-нибудь пытается доказать ему обратное, он просто «умирает со смеху»:
Честно говоря, город сей нисколько меня не поразил, хотя я уже заранее приготовился изумляться. Я увидел обычный город, расположенный на берегу моря; прибытие в него со стороны Большого канала, на мой взгляд, не слишком отличается от въезда по реке в Лион или Париж[51].
Дворец дожей напомнил ему «дурно одетого господина… коренастого, мрачного, увлеченного Средневековьем и наделенного исключительно дурным вкусом», и только внутренний дворик показался ему поистине замечательным. Дворцовые помещения «неудачно расположены, плохо содержатся и довольно мрачные». Базилика дожей (собор Святого Марка) у него восторгов не вызывает, ибо она построена «в греческом стиле, приземистая, в нее не проникает свет, и вообще строители ее отличались дурным вкусом», а «ее девять куполов более напоминают котелки, чем купола». Президент не понимает, отчего «все в восторге» от Риальто, в то время как, по его мнению, «вполне можно ограничиться заявлением, что место это довольно привлекательно. Действительно, мост имеет только один пролет; однако там, где он построен, большего моста и не требуется». Тем не менее ниже он, не меняя своего насмешливого тона, все же удостаивает мост похвалы. Упомянув про Арсенал, он замечает, что тот представляет собой всего лишь «череду огромных ангаров, набитых всяческим ржавым старьем».
Старье и ржавчина. В своих описаниях де Бросс выглядит пристрастным, мелочным шовинистом, неспособным даже на простое любопытство, свойственное путешественнику, попавшему в чужие края. Но в своих впечатлениях он не одинок. Подобное разочарование выказывают и русские путешественники, склонные к преувеличенным восторгам и большие любители описательных штампов. Городом, имеющим «оригинальный вид», называет Венецию в своем «Дневнике» в 1697 г. стольник П. А. Толстой. В 1785 г. Д. И. Фонвизин, изумленный первым впечатлением, произведенным на него Венецией, тем не менее поражен тоскою, которую навевают городские каналы.[52] «Разъезжая по Венеции, представляешь погребение… тем наипаче, что сии гондолы на гроб походят и итальянцы ездят в них лежа», пишет он, предвещая мрачные похоронные эпитеты, ожидающие Венецию в следующем веке. Анж Луи Гудар положил им начало в романе «Китайский шпион», заметив с присущим ему убийственным юмором: «Здесь у каждого на якоре стоит собственный экипаж, однако экипаж сей сильно напоминает черный гроб, в который владелец его регулярно опускает себя на пять-шесть часов в день».
Гондолы действительно черные; говорят, что так их покрасили во время траура, в который облачился город после эпидемии чумы, случившейся в 1630 г.; не исключено также, что такой окраской хотели добиться гармонии тонов между лодками и водой. На гондолах имеются небольшие каютки, именуемые felze или imperiale, где пассажиры пребывают более или менее невидимы, и поездка, как пишет Гольдони, становится более комфортной: теплой зимой и освежающей летом. Венецианцы считают гондолы идеальным видом транспорта. Зачем нужны мосты, — вопрошает один из гондольеров Гольдони, — ежели можно «с удобством плавать в гондоле, одному или в доброй компании?»[53]. Чужестранцы считают гондолу опасной: флорентийский кучер, которому сей гондольер-оптимист предлагает совершить прогулку по каналам, не решается «похоронить себя в этом саркофаге», ибо привык свободно сидеть на удобных козлах экипажей; но отказывается он прежде всего потому, что боится «найти в волнах свой конец». Некоторые полагают, что передвижение в гондолах препятствует общению между людьми[54].
Но не одни гондолы повинны в том, что путешественники, прибывающие в Венецию, испытывают совершенно разные чувства. Сама атмосфера ее способствует этой разноголосице мнений. По традиции в Венеции было принято хвалить воздух, благотворное действие которого способствовало исключительному долголетию ее жителей, особенно дожей. Еще в конце XVIII в. Кристофоро Тентори пишет:
Обычно, когда говорят о болотах или прудах; непременно упоминают о том, что в местах сих воздух нехорош, ибо там редко дуют ветры: ведь хам часто бывает трудно проникнуть в таковую местность по причине ее окруженности горами… Однако причины этой… в венецианском эстуарии не существует. Венеция расположена посреди обширного пруда, над которым свободно веют задорные ветры… Дважды в день море входит в город через несколько ворот единовременно, и, вливая свою воду в каналы, покрывает дно лагуны и держит его под водой почти весь день. Когда же наконец наступает отлив и волны с шумом возвращаются в море теми же каналами, они одновременно чистят их от всяческих наслоений. Высокое качество соленой воды не позволяет ни одному вредному насекомому жить и размножаться в этом краю… Воздух перемещается либо к суше, либо к морю, он постоянно в движении и, следовательно, выметает и уносит подальше от эстуария вредоносные испарения и миазмы.[55]
В действительности же проблема соблюдения баланса, необходимого для сохранения целебных свойств воздуха, давно волнует многие умы. В XVI в. было принято решение вновь возвести по периметру некоторых островков стены, которые якобы станут препятствовать проникновению туда дурного воздуха.[56] С конца XVII в. путешественники в большинстве своем не обходят вниманием качество воздуха. Гольдони в «Мемуарах» уточняет, что матери его лучше дышалось в Кьодже, находящейся в восьми лье от Венеции и вдобавок застроенной домами на сваях.[57] Удушливая атмосфера, в сущности, создается поднимающимися над каналами испарениями, и чужестранцы выражают недовольство отвратительным запахом, царящим на улицах. Один польский путешественник пишет о городе, беспорядочно застроенном и «зловонном». Де Бросс не столь резок в определениях, он скорее склонен посмеяться над этой проблемой, но нельзя сказать, что она не волнует его вовсе: «Каналам, каковы бы они ни были, летом позволено слегка подванивать; однако не хотелось бы, чтобы они злоупотребляли сим дозволением». Лаланд превозносит «удивительную способность каналов облегчать торговлю и передвижение людям состоятельным», и, как до него Монтескье, с интересом наблюдает за постоянно ведущейся очисткой каналов и регулярным вывозом извлеченной со дна грязи на остров Бонданте, расположенный в семи милях от Венеции, что способствует очищению городского воздуха. А еще он отмечает, что в периоды засухи и отливов в мелководных каналах воды совсем не остается, и удивляется, почему это не вызывает эпидемий.
К недостаткам Венеции относится не только запах. Узкие улочки (calli) и неухоженные мосты, по которым приходится передвигаться пешеходам, вызывают беспокойство у путешественников: они считают их опасными для прогулок, тем более для людей, к ним непривычных. Уже в XVI в. флорентиец Донато Джанотти называл улочки Венеции «крайне неудобными», а мосты, несмотря на их обилие — четыреста пятьдесят, по словам Сансовино, — считал совершенно непригодными для беспрепятственного хождения по городу. Постепенно под пером путешественников XVIII столетия уверенность в дурном содержании мостов и улиц Венеции укрепляется. Лаланд замечает, «что хотя улицы и набережные Венеции вымощены мрамором, но и те и другие узкие и вдобавок малочисленные… а некоторые мосты не имеют перил, отчего нередко случается, что люди, в основном иностранцы, падают в воды каналов, а если в это время внизу проходит гондола, каюта которой покрыта железной крышей, то жизнь путешественника подвергается большой опасности». Некоторые, подобно Анжу Гудару, опасаются не столько несчастных случаев, сколько усталости, доставляемой пешеходными прогулками:
Чтобы обойти весь город, требуется проводник; по улицам можно передвигаться только на лодках или, по крайней мере, обладать привилегией известного святого, который, по утверждению христиан, умел шагать по воде. Если вам надо отдать или нанести несколько визитов, необходимо брать с собой компас и заранее справиться о направлении ветра, правда, практически в любой конец Венеции можно пройти пешком по мощеным берегам каналов, этим специально устроенным для пешеходов набережным, но удобством это, прямо скажем, назвать весьма сложно, ибо приходится постоянно взбираться на горбатые мосты.
«Прекрасный снаружи, но ветхий и неудобный изнутри», можно прочесть в бумагах «Налоговых мудрецов» об одном из домов в сестьере Канареджо в 1537 г.[58] Подобную оценку можно было бы дать многим домам Венеции XVIII столетия. «Ветшающая роскошь» — с этим определением согласны не только путешественники, но и многие художники того времени. Габриэле Белла, бесхитростный живописец, исполнивший около 1785 г. по заказу семейства Джустиньяни[59] серию картин, изображающих заседания советов, управляющих Республикой, дворцовые празднества и уличные гулянья, лакирует городские фасады. На его полотнах площади, улицы и набережные выглядят чистыми и обновленными. Однако на картине Каналетто «Площадь Риальто» Венеция изображена без прикрас, такой, какой она была в 1730–1746 гг.: с полуразвалившимися стенами домов, с дырявыми крышами, которые рабочие пытаются залатать. На картине «Площадь Иезуитов», и в еще большей степени на полотне «Церковь и Скуола делла Карита», где рядом с церковными зданиями видны мастерские Сан-Витале, в которых гранят мрамор, художник детально запечатлел дряхлые, словно изъеденные проказой, стены и фасады домов, выстроившихся вдоль каналов. Ощущение обветшания усиливается, когда смотришь на картины художника Франческо Гварди, написанные пятьдесят лет спустя в близкой к импрессионистам манере. Места и памятники, воплотившие в себе величие города, изображены размытыми контурами, туманными и расплывчатыми, а над ними, нависая свинцовой тяжестью, сверкает небо.
Устоявшиеся границы
Искусство всегда разглядит истину, скрываемую официальными донесениями. Согласно Кристофоро Тентори, Венеция является «островом, сделанным из островов». Точнее, как утверждает Сансовино, которому в этом вопросе вполне можно доверять, из ста пятидесяти маленьких островков. Островки эти были разделены водными пространствами, постепенно сведенными на нет: их заполнили, заделали высушенными водорослями, тростником и землей, а затем возвели на них дома и дворцы.
Неуклонное отвоевание земель, пригодных для жизни, у болотистых почв осуществляется по центростремительному принципу, начиная с мелких островков, группирующихся вокруг Ривоальто. Первоначально осушения производятся без лишних споров, по взаимному согласию, по принципу соседства, по плану, разработанному крупными частными собственниками или церковными общинами, или же в зависимости от нужд ремесленников. Затем, по мере увеличения потребности, в 1285 г. была создана специальная магистратура, занимающаяся вопросами осушения территорий (Magistrato del Piovego), в обязанности которой также входило определять размеры обязательного взноса на осушение для каждого прихода.[60] В начале XVI в. к ней присоединились еще одно учреждение, занимающееся вопросами водоустройства (Officio sovra alle acque), и комиссия «мудрецов-водоустроителей» (Savi ed esecutori alle acque), также ведающая вопросами, связанными с водой; члены ее избирались раз в два года и несли ответственность только за водоиспользование, что свидетельствует о большом внимании, уделяемом городом настоящей проблеме. Задачи чиновников комиссии широки, однако вполне определенны: поддержание в порядке насыпей, отделяющих соленую воду от пресной; надзор за всеми источниками пресной воды, имеющимися в лагуне; контроль за соблюдением договоров о найме рабочих, условия которых определял Magistrato del Piovego; надзор за высокими строениями, сооруженными на мелиорированных землях от Маламокко до Тре Порте; контроль над созданием насыпных участков, которым часто злоупотребляли монастыри; выдача лицензий на «вывоз грязи, постройку набережных»; постоянное обновление условий подрядов на укрепление подмываемых и песчаных берегов; выдача специальных разрешений, позволяющих частным лицам осушать земли свыше положенных норм.[61]
Осушение заболоченных земель продолжается до начала XVI в.; затем, согласно новым задачам, поставленным «мудрецами-водоустроителями», положение меняется. Осушение прекращается, начинается интенсивное обустройство того, что было осушено прежде. Владельцам земельных участков предписывается строить вдоль каналов каменные тротуары, именуемые ripa или fondamenta, чтобы зафиксировать береговую линию своих владений. На городском уровне предпринимается строительство таких тротуаров (набережных) вдоль всей лагуны. В период с 1588 по 1590 г. сооружена длинная каменная набережная Фондаменте нуове, а на юге — Фондаменте делле Дзаттере; они формируют границу сестьере Дорсодуро. На юге заканчивают обустройство берега, уже в XIV в. вымощенного камнем: там строят набережную, получившую название набережной Скьявони. Таким образом, процесс расширения территорий, пригодных для постройки жилья, завершается окончательно. На плане начала XVI в. на периферии города еще можно видеть отдельные невозделанные пустыри, покрытые редкой растительностью. В XVIII в. количество участков необработанной земли значительно сократилось. Среди оставшихся следует упомянуть «болото и ил Сант-Антонио» в Кастелло вместе с примыкающим к нему участком, где «желательно соорудить squerro, небольшой док для изготовления гондол и лодок, а также возвести tezzon, ангар для строительства кораблей под открытым небом» (1794 г.).[62] Также сохраняются болота (paludi) в местечке Санта-Марта в Дорсодуро и в восточной оконечности Кастелло; там их осушат только в конце XIX в. и на их месте разобьют сады, где будет проходить художественная выставка, известная под названием Биеннале. Незастроенные участки сохраняются также в районе Сант-Андреа (сегодня место это называется Piazzale Roma): там имеются сады и огороды и даже виноградники. На плане Уги 1729 г. отмечены болота в районе Сант-Антонио. Отсюда, а также от крайней точки сестьере Кастелло город станет расширять свои границы в конце XIX — начале XX в. Однако разрешения на осушение земель более не получает никто. Периметр города, определенный в «семь итальянских миль», с I486 по 1785 г. практически не изменяется, и это не литературная метафора. Между 1580 и 1700 гг. площадь городских кварталов остается неизменной: четыреста пятьдесят гектаров, из которых двести десять пригодны для строительства.[63] Сан-Марко, Санта-Кроче, Сан-Поло — кварталы с наиболее плотной застройкой, Дорсодуро пока застроен мало.
И хотя строительство в Венеции не имеет преград в виде стен или ворот, тем не менее оно приостанавливается. Город становится похож на «корабль на якоре»: метафора Анжа Гудара обрела материальное воплощение. Впрочем, рост городского населения также прекращается. В 1760 г. Венеция со своими 150 тысячами жителей прочно занимает третье место среди городов Италии по численности населения: впереди только Неаполь и Рим. Конечно, до Лондона или Парижа, где уже в конце XVII в. проживало более 500 тысяч человек, ей далеко, однако в Европе не так уж много городов, население которых превосходило бы население Венеции. Несмотря на эпидемию чумы 1630 г., после которой численность населения упала до 100 тысяч человек, то есть до уровня конца XVI в. (в 1582 г. в городе проживало 134 871 человек, а в 1586 г. 148 637 человек), городское население довольно быстро увеличилось вновь. Тем не менее рост его в XVIII столетии практически прекратился. В промежутке между 1760 и 1770 гг. город потерял более 8 тысяч человек, в 1770-м число его жителей было равно 14 100, а к концу 1790-го остановилось на цифре 137603.[64]
Ущерб, наносимый временем
Все без исключения собственники (землевладельцы и домовладельцы) ежегодно были обязаны предъявлять десяти «налоговым мудрецам» собственноручно заполненную декларацию об уплате прямых и непосредственных налогов (condizione di decima); в декларации требовалось указать приход, в котором проживает налогоплательщик, составить подробную опись имущества движимого и недвижимого, местонахождение этого имущества на территории прихода, имя съемщика, если жилье сдавалось внаем, и общую сумму, получаемую владельцем от сдачи внаем. Таким образом власти были в курсе любых значительных реконструкций и строек, ведущихся на островах, а также получали информацию о состоянии жилых зданий. Уже с конца XVI в. содержание деклараций свидетельствует об обветшании городских построек: «старый дом, требующий немедленного ремонта», «древний и ветхий», «старый и печального виду», «старый и изрядно обвалившийся», «очень старый жилой дом» — подобные определения встречаются почти в каждой описи недвижимого имущества. На основании описей можно с большой точностью определить, сколько лет простояли дома: «старый дом, построенный триста лет тому назад», и даже «возможно, самый старый дом в городе, ибо предки мои поселились здесь много сотен лет назад».[65] Немало старых домов шатаются на ветру, рассыпаются, а если и выдерживают порывы ветра, то только благодаря подпоркам, и в трещины просачивается вода. В целом почти все дома требуют укрепления, а многие предпочтительнее разрушить вовсе, чтобы на их месте построить новые. Начиная с XVI в. чиновники, ответственные за одряхлевшие дома, облагают домовладельцев особым налогом, который те обязаны платить им за ремонт пришедшего в негодность дома; те, кто не хочет платить, обязаны ежегодно самостоятельно ремонтировать свои дома. Подобные меры, значительно сокращавшие доходы домовладельцев, вызвали их крайнее недовольство: «Мне постоянно приходится нести большие расходы на ремонт дома и поддержание его в надлежащем состоянии, так что в конце года я не получаю в доход и половины квартирной платы»; или еще: «Я трачу почти всю квартирную плату на содержание дома». Подобные жалобы начались задолго до XVIII столетия; писатель Карло Гоцци, извечный соперник Гольдони, горестно сетует на своих своенравных и малоплатежеспособных жильцов:
Постоянные жалобы жильцов и их требования ремонта объясняются исключительно нежеланием платить за квартиру; споры с каменщиками, столярами, кузнецами, торговцами дровами и ассенизаторами отхожих мест, равно как и их непомерные счета, каждый год лишают меня доброй трети всех моих доходов… а еще приходится оплачивать судебные постановления… не стоит забывать и про злостных неплательщиков, пустующие дама, налоги, выплачиваемые Республике… короче говоря, мне достается всего пятая часть того, что я рассчитывал получить.[66]
Из деклараций можно узнать о ряде несчастных случаев, причиной которых послужили обветшавшие стены, рухнувшие и причинившие телесные повреждения; об этом также повествуют городские хроники — например, благородного Пьетро Градениго, скрупулезно записывавшего все повседневные события, случившиеся в Венеции и окрестностях с 1747 по 1773 г. (праздники, свадьбы, рождения и похороны, прибытия и отплытия кораблей, заседания советов, спектакли, раздавленные собаки, грабежи и нападения, повышения цен и т. п.). Весьма символично крушение театра Сан-Джованни-э-Паоло, расположенного на границе Канареджо и Кастелло, случившееся 29 сентября 1748 г.:
На канале Панада около 19 часов обрушился театр Сан-Джованни-э-Паоло; театр сей вот уже тридцать три года бездействовал, и представлений в нем не давали.[67]
Еще более нелепый, однако весьма примечательный случай произошел в августе 1762 г.:
Року было угодно, чтобы двое мужчин встретились на мосту Сан-Патерниано, что возле Сант-Анджело, и принялись обсуждать свои дела, а так как улица была узкой, то они встали рядом с дверью богатого дома, что стоял на правой стороне. И когда они разговаривали, сверху на них неожиданно упал каменный водосточный желоб, давно уже плохо державшийся и наполовину развалившийся; желоб попал одному из собеседников по затылку, и тот сразу умер, прямо здесь, а не в Кьодже, откуда он был родом.[68]
В той же хронике Арсенал, реставрировать который было решено в 1753 г., называется «наполовину развалившимся», и отмечается, что 16 сентября того же года во время ремонтных работ из-за шаткости зданий Арсенала там произошел несчастный случай. Эпитет «наполовину развалившийся» постоянно фигурирует в описаниях частных домов: полуразвалившийся дом, принадлежащий благородному семейству Фонте в Санта-Тринита, в конце концов был перестроен и даже надстроен.[69]
Де Бросс отмечал: «Бесчисленные улочки такие узкие, что двое, идущие с противоположных концов, не могут разойтись, не задев друг друга локтями; вдобавок все они вымощены гладким камнем, который становится скользким при малейшем дожде».[70] И разумеется, каждый горожанин может назвать улицы приятные и улицы темные, куда никогда не заглядывает солнце. В XVIII столетии домовладельцы настаивают на таком разделении в своих декларациях, где часто можно встретить подобного рода замечания: «улица (calle) узкая, не главная», «calle чрезвычайно мрачная, с очень высокими домами по обеим сторонам, отчего она делается совершенно темная и там никогда не светит солнце».
Ширина улиц различна, однако узкие улицы преобладают: средняя ширина, например, улицы Булочников, которую измерили по случаю перестройки квартала в XVIII в., едва достигала трех с половиной метров. Подъездные набережные более широкие.[71] По мнению Карло Гоцци, узкие улочки способствовали людскому общению; как он шутливо замечает, в Венеции «соседка обычно живет так близко, что, поклонившись ей молча дважды или трижды, вскоре, словно само собой разумеется, начинаешь осведомляться о ее здоровье, беседовать о погоде и интересоваться, хорошо ли ей спалось».[72] Однако самому Гоцци близкое расположение окон не помогло распознать истинную суть очаровательной соседки, скрывавшуюся за девственной внешностью. Для домовладельцев стоимость недвижимости определялась как теснотой улицы, так и местонахождением этой улицы в том или ином районе города.
За поддержанием порядка на улицах велся неустанный надзор. Уже в 1552 г. власти следят за тем, чтобы «улицы, где ходят пешеходы, не загромождались бы, а также не захватывались домовладельцами для строительства домов». Мощеные улицы были не слишком удобны для пешеходов, хотя Гольдони и утверждает обратное. Многие поскальзывались и падали, иногда прямо в канал, и тогда последствия падения бывали весьма серьезны. Избежать падений не удавалось никому. 20 февраля 1748 г. благородный синьор Карло Кантарини «поскользнулся на мосту Анджело и сломал руку, но потом рука совершенно зажила». 10 марта того же года пьяный разносчик поскользнулся, свалился в канал и утонул. Трагический случай произошел с одним несчастным фриульцем, прибывшим помолиться Мадонне дель Орто: идя по мосту в ненастную ветреную погоду, он свалился в канал и утонул, оставив сиротами пятерых детей.[73] И Лаланд не без оснований опасается, что, упав в канал, человек имеет крайне мало шансов остаться в живых: ведь утонул же в 1799 г., свалившись в канал, Габриэле Белла! Однако венецианцы относились к таким происшествиям вполне спокойно: если чужестранец, свалившись в канал, выбирался на берег, значит, он получил «крещение» и мог претендовать на звание «венецианца».[74]
Опасны были не только мосты. Столь же часто срывались с открытых террас, расположенных на крышах, или просто с плоских крыш. В XIV в. сооружение подобных террас (altana) было запрещено, однако запрет действовал не слишком долго, и вскоре уже каждый старался заиметь себе подобную отдушину: на такую крышу или террасу можно было, подобно Беттине у Гольдони, выйти и «немного подышать воздухом… вдали от многочисленных сплетников» («Честная девушка»).[75] Таким образом, Беттина предоставляет возможность своему воздыхателю Паскуалино полюбоваться ею, несмотря на возмущение родственников, не желающих, чтобы девушка выставляла себя на всеобщее обозрение. Однако если ей всего лишь приходится терпеть попреки влюбленного, то участь девушки из прихода Сан-Маркуоло, дочери местного подрядчика, и вовсе плачевна: 25 мая 1754 г. она неосторожно свалилась с террасы и разбилась насмерть.[76]
Ущерб, причиняемый временем, особенно велик из-за сурового и переменчивого венецианского климата, который, как бы ни хвалил его Тентори, лучше не становится. Согласно хронике, осенью 1754 г. после обеда подул очень холодный и вредный для здоровья «ветер сирокко; вечером начался дождь, и море в лагуне и в каналах разбушевалось»; причины этого хронист усматривал во влиянии восходящей луны. Зимы были холодные. «Во время того карнавала все дрожали от холода, закрывали носы и зябко кутались в плащи», — пишет в 1758 г. Карло Гоцци. В гостинице «Паломник» «камины топили связками очищенных от коры ветвей, белых и сухих, горевших подобно маленьким факелам».[77] И такая погода не исключение, она бывает часто и может длиться долго. Нередко лагуна превращается в обширный каток: 15 января 1708 г., во время визита в Венецию короля Дании Фредерика IV, лагуна возле Фондаменте нуове замерзла на протяжении пяти миль, и лед стоял целых десять дней. В то время жители Фузины и Маргеры могли беспошлинно ввозить в город продукты питания, ибо, как пишет один из хронистов, все решили, что они очутились в северной Лапонии.[78] Такая же погода повторилась и в 1788 г.: тогда в декабре температура достигла восемнадцати градусов ниже нуля, и по льду лагуны можно было дойти пешком или доехать на коньках до острова Сан-Секондо. В Виченце во время карнавала постоянно устраивались соревнования на санях, а гондольеры, ожидая потепления, заранее огорчались, полагая, что оно будет временным.
По причине контрастного климата в Венеции часто бывают засухи — как зимой, так и летом. Дождя может не быть полгода и более. Тогда начинается нехватка воды. Ибо приходские колодцы, расположенные на площадях (campi), — а в XVIII в. их было сто двадцать четыре, и наполнявшиеся дождевой водой, высыхали, и пресную воду для удовлетворения потребностей населения приходилось возить с материка на лодках. Засуха свирепствовала осенью 1752 г. и зимой 1754/55 гг., и, судя по разговорам служанок у Гольдони, даже приготовление «пасты» становилось поистине проблемой, для решения которой требовалась помощь соседей («Кухарки», 1755):
Ньезе. Дорогая, одолжи мне ведро воды.
Дзанетта. У нас нет ни капли. Вчера, чтобы приготовить пасту; л полностью осушила колодец. А когда торговцы приносят воду, хозяйка ругается, что дорого. Вчера за четыре ведра воды она посулила им всего одно сольдо.
Ньезе. Когда у нас есть вода, мы готовы поделиться ею со всеми; а когда поделишься, сам остаешься с пустым ведрам.
Дзанетта. Иди к матушке Розанье. У нее есть вода, потому что у нее вчера наполнился колодец. Она даст тебе воды.[79]
Понятно недоумение путешественников, которые, подобно Монтескье, удивлялись, что в Венеции не хватает «родниковой воды». Впрочем, бывает и наоборот: идут такие сильные дожди, что даже сенаторы вынуждены сидеть по домам, и кворум, требуемый в Большом совете для принятия решений, не набирается. Иногда приходится отменять традиционные торжества: 5 июня 1749 г. маршрут процессии с Телом Господним был изрядно сокращен, а над дожем несли громадный зонт. Из-за дождя торжества могли проходить под аркадами Дворца дожей: «Так как 3 января 1751 г. стояла отвратительная погода, то процессия двигалась под аркадами внутреннего дворика; в процессии участвовало всего 296 нобилей»[80] В 1739 г. затяжные дожди внушили кавалеру Микеле Морозини мысль о необходимости ввести в обиход зонтик: дамы, как пишет хронист и иллюстратор Гревемброк, теперь не выходили из дому, не убедившись, что у них в гондоле лежит «сей столь важный предмет».[81]
С самого основания в Венеции нередко случались землетрясения.[82] В 1662 г., во время праздника Вознесения, толчки ощущались целых пятнадцать минут, и было это, когда дож возвращался с Лидо. А 17 апреля 1688 г., в Вербное воскресенье, ближе к вечеру случилось вот что: дома затряслись, каминные трубы попадали, а жилой дом, что напротив церкви Карита, рухнул. Церковь Санта-Мария Формоза содрогнулась трижды, и по сводам ее пошли трещины. Заметив это, прихожане толпой бросились к выходу. Едва успели запереть церковь, как часть свода со страшным грохотом обрушилась вниз и разбила изрядное число статуй и надгробий. Сильное землетрясение произошло в Венеции в 1776 г. Кроме землетрясения, другое стихийное бедствие преследует Венецию — наводнение, и это именуется aqua alta. В 1750 г. ужаснейшее наводнение, aqua altissima, разрушило почти все колодцы и склады. Вода добралась до верхних ступеней алтаря церкви Сан-Марко Антонио, а в Арсенале даже не сумели позвонить в колокол, чтобы, как это делали каждое утро, созвать работников на работу в доки и мастерские.
Когда и вода и земля спокойны, начинает гневаться небо: оно посылает молнии, и огонь пожирает лавки и жилища. 23 апреля 1745 г. в 17 часов молния ударила во дворец, когда там шло заседание Сената, и убила трех человек.
Особенно изобилует пожарами XVI век. Немецкое подворье сгорело в январе 1505 г., в 1514-м загорелся Риальто; убытки, нанесенные обоими пожарами, были оценены в миллион золотых дукатов. В 1540 г. загорелся Арсенал, во время пожара погибло сорок человек. В 1569 и 1574 гг. огонь повредил несколько залов заседаний во Дворце дожей.
В городе была организована специальная служба, призванная следить за возникновением пожаров и способствовать скорейшему их тушению, что несколько уменьшило ущерб, наносимый огнем. Около 1737 г. пожарная служба была усилена за счет «надзирателей за огнем» во главе с начальником. Пожарные службы были организованы в каждом сестьере и находились в ведении Арсенала. Работники Арсенала получали специальную плату за несение на его территории пожарной службы.
Едва становилось известно о пожаре, как колокол созывал на подмогу весь трудящийся люд[83] — так была сформирована городская пожарная часть, во главе которой был поставлен «наблюдатель» над гидравлическими машинами, применявшимися при тушении пожаров.[84] Город даже приобрел тридцать пожарных насосов английской системы «gray». И тем не менее с 1718 по 1773 г. пожары возникают почти непрерывно, хотя последствия их теперь в основном не столь тяжки, как прежде.
Виновниками пожаров бывают и небо, и люди. 1748 г., 5 января. В два часа ночи (примерно в восемь вечера[85]) из склада, что возле монастыря капуцинов Санто-Джустиниано, вырвался страшный огонь, полыхавший до начала дня. Кроме этого склада сгорели еще один большой дом и два маленьких домика, принадлежавших Джироламо Морозини. Сгорело более 135 тюков хлопка, ущерб оценивался в 11 тысяч дукатов. Погиб один слуга, задохнувшийся под развалинами дома. Чтобы спасти дорогие вещи, их швыряли прямо в канал. Перепуганные монахи-капуцины даже собрались покинуть насиженное место. В бедствии сем повинна была небрежность некоего молодого человека, остановившегося возле склада выкурить трубку.
1751 г., 9 октября. В два часа ночи в квартале Сан-Поло загорелся расположенный напротив Скуолы Сан-Виченцо Северо богатый дом, принадлежащий Гримани, в котором проживали читтадино Сандзонио и Антонио Джанолла, сын богатого кузнеца. Когда начался пожар, оба жильца были на прогулке и вся дорогая обстановка дома сгорела, а вышло это по причине рассеянности некоего Джио Манарино, торговца колбасами, державшего лавку на первом этаже сего дома.[86]
Большие оружейные ангары Арсенала горели в 1728 и 1733 гг. Построенный в 1755 г. театр Сан-Бенедетто погиб в огне в 1774 г., а театр Фениче, возведенный в 1792 г., стал добычей пламени в 1836 г. 28 ноября 1789 г. сгорел целый приход на юге Канареджо, неподалеку от Сан-Маркуоло и гетто — причиной пожара стал огонь, возникший на одном из складов, где хранилось оливковое масло.
«Самый благоустроенный из всех городов…»
Судя по принимаемым противопожарным и иным мерам, способствовавшим поддержанию городского хозяйства на должном уровне, власти не собирались мириться с наносимым городу ущербом. Об этом свидетельствует наличие множества чиновников, призванных обеспечивать сохранность береговой линии (Piovego) и ремонт ветхих домов. Также существовала специальная «комиссия двух мудрецов», созданная в сентябре 1535 г., в задачу которой входило «украшать город и заниматься его благоустройством». Величественные сооружения XVI в. работы уже упоминавшихся Сансовино, Скамоцци, Палладио полностью соответствовали исполнению сей двойной программы. XVII век также — хотя и в меньшей степени — внес свою лепту в украшение города; в частности, по проекту Лонгены был построен приют Ла Салуте. В XVIII в. задачи городских властей остаются прежними, однако никто уже не хочет превратить Венецию в город, «удивляющий и поражающий», речь идет всего лишь о том, чтобы он стал «самым красивым и самым благоустроенным» из городов, каким его мечтал увидеть архитектор и фантазер XVI в. Кристофоро Саббадино.[87]
Определение «благоустроенный», часто употребляемое путешественниками применительно к Венеции, появляется в XVI в. и, без сомнения, изначально имеет комплексное значение. В первую очередь оно подразумевает укрепление береговой линии лагуны и борьбу с заиливанием каналов, чтобы, как пишет Сансовино, «земля однажды не поглотила Венецию». Меры для предотвращения этого регулярно принимаются начиная с XI в. В 1753 г. практикуется систематическое извлечение ила из каналов в центре города, чтобы устранить зловоние и облегчить движение гондол. За пределами города постоянно осуществляется работа по регулировке сброса рек, впадающих в лагуну. Берега реки Бренты, укрепленные еще во времена Данте, в XVII в. получили свое окончательное оформление (Taglio novissimo). Еще одним крупным достижением в благоустройстве города стало возведение между Пеллестриной и Кьоджей невиданной прежде дамбы (Murazzi): камни для нее, доставленные из Истрии, были скреплены пуццолановым цементом, смесью извести с добавками горных пород вулканического происхождения. Построенная в 1715 г. по приказу Сената, дамба служила защитой от буйства морских волн.
В пределах города работы по благоустройству ведутся в весьма скромных масштабах и практически незаметны, отчего в памяти многих путешественников запечатлевается образ города, пребывающего в упадке. Действительно, в XVIII в. не расширяются площади под застройку, не реализуются масштабные проекты, влияющие на жизнь всего сестьере. В это время город обустраивается, обновляется, но главным образом прихорашивается. Новые постройки уже не нарушают равновесия архитектурного облика Венеции. Сравнительный анализ заявок на строительство новых объектов и на реставрацию старых, поданных проведиторам коммуны (Provveditori di comun) на протяжении двух веков, свидетельствует о кардинальных изменениях, произошедших за это время: с 1539 по 1559 г. построено сто семьдесят пять новых объектов и восемь реставрировано, а с 1754 по 1760 г. новых построек насчитывается всего лишь девятнадцать, в то время как число реставрированных жилых домов увеличивается с одного до двадцати восьми, а лавок — с одной до двухсот семидесяти семи; еще у двадцати одного здания частично отремонтированы стены и каминные трубы.[88]
В начале XVIII в. городские власти то и дело сверяются со старинными законами о реставрации обветшавших частных владений; законы эти были изданы для того, чтобы внешний облик города «не выглядел жалко из-за домов, кои вот-вот развалятся, а также из-за участков, незастроенных и оставленных под паром». Также необходимо было устранить опасность обрушения строений и земли и создать условия, чтобы имущество, принадлежащее всему городу, по-прежнему «приносило доход». Все постановления, направленные на поддержание зданий в хорошем состоянии, обладали первоочередной важностью.[89] В ноябре 1754 г. власти стали призывать горожан жертвовать средства на нужды реставрации, и в частности на «обновление некоторого числа дворцовых помещений… кое осуществлено быть должно в течение последующих пяти лет; в этом же году судейские чиновники начали починку решеток и дверей в кабинециях, где пребывали они на службе».[90] С февраля 1723 г. по июль 1735 г. обновляется каменное покрытие площади Сан-Марко, его новый геометрический рисунок исполнен по эскизам Андреа Тирали. Почти все работы, проводившиеся в церквях, монастырях и дворцах, относились либо к перестройке, либо к декорированию зданий. В XVIII в. в Венеции работали многие знаменитые архитекторы: Андреа Тирали, Антонио Гаспар, Джорджио
Массари и Томмазо Теманца, однако все они внесли свой вклад в обновление уже существующих зданий. Все их проекты, будь то монастырь Санта-Мария делла Фава, церковь Иезуитов, приют Кающихся, дворец Пезаро, знаменитый дворец Редзонико, отличаются точностью проработки деталей, и все имеют целью расширить, пристроить или перестроить.
Несмотря на существующие неудобства передвижения по городу, о которых пишут разочарованные путешественники, несмотря на особый характер городского строительства, власти Венеции, сообразно духу времени, обдумывают, как улучшить функционирование городских структур: обустроить сеть коммуникаций, дать наименования всем улицам и пронумеровать жилые дома, принять необходимые санитарно-гигиенические меры по поддержанию чистоты на улицах, регулировать сброс использованной воды, соразмерить открытие новых лавок, улучшить городское освещение — подобными заботами живут все большие европейские города. Продолжается укрепление берегов и сооружение вдоль них каменных тротуаров, старые мосты постепенно заменяются новыми. И только вдоль Канала Гранде нет тротуара, с сожалением констатирует Лаэ Вантеле, но тут же удовлетворенно замечает: «Перед домами, построенными совсем недавно, имеются мощеные участки улицы, служащие как для красоты, так и для удобства пешеходов, так что в некоторых местах гулять теперь стало и вовсе приятно».[91] Почти век спустя, в 1780 г., набережная Скьявони, еще в XVI в. относившаяся к портовой зоне и служившая причалом для паромов (traghetti), прибывающих с южного направления, была по приказу Сената значительно расширена Томмазо Теманцей. Работы велись на участке от моста Палья до Ка ди Дио, в качестве материала использовались донные осадки, извлекаемые из Канала Гранде. После расширения набережная стала местом массовых гуляний.
До XIV в. мосты в Венеции были практически плоскими и не имели ступенек, поэтому всюду, кроме как вокруг Сан-Марко, можно было проехать верхом. Свой нынешний облик венецианские мосты приобрели в период с XIV по XVI в. Что бы ни говорил Сансовино, в окраинных приходах до сих пор сохраняются деревянные мосты. Не у всех мостов есть перила, и путешественники боятся ходить по ним, не желая поскользнуться и упасть в воду.
В XVIII в. проведиторы коммуны решают придать мостам более «удобную форму»: реконструируются мост Ка ди Дио на набережной Скьявони и мост Каноника, один из самых старых мостов Венеции, построенный около 1172 г. возле церкви Сан-Дзаккариа, чтобы облегчить дожам путь к церкви. Наряду с ремонтом моста организуется паромная переправа: с одного берега Канала Гранде на другой переправляет traghetto — гондола с двумя гребцами, приспособленная для перевозки нескольких пассажиров. Устройство новой переправы, свидетельствующей о заботе властей об удобствах горожан, бесспорно, было необходимо, ибо в те времена через Канал был перекинут только один мост Риальто. В XVIII в. существует двадцать два причала для traghetti; причалы эти расположены с определенной регулярностью на обоих берегах Канала.
В 1752 г. носильщики из Бергамо работают сверхурочно, вечером и ночью, в качестве codega, то есть несущих фонари, чтобы запоздалые путники, выйдя из театра или гостей, могли спокойно попасть домой. Но с 1756 г. начинает разрабатываться обширный план освещения улиц, в реализации которого предстоит принять участие приходам, хотя и не всем сразу, а постепенно, один за одним; городские власти также рассчитывали на содействие жителей. В своих «Мемуарах» Гольдони с восторгом пишет о городском освещении: «Я нашел, что венецианские фонари являются весьма полезным и приятным украшением города, тем более что освещение это нисколько не обременяет жителей, ибо все расходы на него покрываются одним лишним ежегодным тиражом лотереи».[92]
Освещая улицы, власти стремились уменьшить число нападений и грабежей — последние стали весьма частым явлением. И хотя мода на брави — убийц, нанимаемых людьми благородными, о которых писали хронисты XVII в., - осталась в прошлом, тем не менее те, кому доводится рассказывать о 1747–1750 гг., приводят немало фактов, свидетельствующих о нападениях, совершенных не только на улице, но и в церкви, о частых грабежах домов знати и богатых ремесленников в отсутствие хозяев. «Повелители ночи», дозорные, ответственные за ночную безопасность жителей, устраивали облавы на злоумышленников, а изловив вора, на веревке волокли его по улицам на городскую площадь, где подвергали позорному наказанию кнутом; однако меры эти достигали цели лишь частично.
В 1758 г. в городе было тысяча пятьсот пятьдесят фонарей, и каждый вечер их надо было зажигать. Однако эффективность этих светильников сомнительна: известно, например, что январским вечером 1774 г. будущий либреттист Моцарта, Лоренцо Да Понте, бродивший по улицам города в поисках любовных приключений, слугу своего, несмотря на «городские фонари», узнавал только по голосу.[93]
Как мы уже сказали, в XVIII в. строили мало. Тем не менее в городе отмечается интенсивный рост «серийных» жилых домов, где квартиры вполне можно квалифицировать как «социальные», ибо сдаются они за низкую плату или даже вовсе бесплатно — per amor Dei{6}; также увеличивается количество «функциональных» помещений — лавок и складов, служащих «для удобства жителей». С 1661 по 1740 г. соотношение между количеством жилой площади и общей площадью построек постоянно возрастает. В 1582 г. в Венеции имеется 22 600 квартир, в конце XVII в. — 28102, а в 1740 г. — 30472.[94] Принимая во внимание определенную стабильность численности населения, цифра эта может считаться доказательством улучшения условий жизни. Качество жилья для простонародья также улучшается. В конце XVI в. народ живет в основном во времянках — деревянных или глиняных хижинах, где воздух нездоровый, а жилая площадь крайне ограничена; в таких домах зачастую нет ни кухни, ни погреба. Но в XVII и XVIII вв. хижины постепенно исчезают. Количество квартир, сдаваемых внаем, существенно увеличивается, главным образом в периферийных районах: Канареджо, Кастелло, Санта-Кроче. Именно там развивается сеть съестных лавок и лабазов. Согласно Винченцо Коронелли, в конце XVII в. съестные лавки «в городе есть почти повсюду, что весьма удобно для его жителей».[95] Возле Сан-Пьер ди Кастелло можно насчитать по крайней мере десять лавок, торгующих фруктами, столько же торгующих мясом и семь лавок, где продаются пряности. В отдельных районах количество лавок, где торгуют колбасами и курами, увеличилось вдвое; также увеличилось количество лабазов, торгующих оливковым маслом и мукой; в 1740 г. насчитывается тридцать табачных лавок.[96] И все эти лавочки, по словам Гольдони, всегда «открыты до десяти часов вечера, многие из них закрываются только в полночь, а некоторые открыты всю ночь».[97]
Центр и периферия
Резонно задаться вопросом, насколько новая организация жилых районов способствовала благоустройству города, равно как и об экономическом ее значении. Гольдони, например, не видит в ней никаких преимуществ: в «Новой квартире», комедии, написанной в 1761 г. по случаю его собственного переезда на улицу Балотто в приходе Сан-Сальваторе, дом, куда готовится въезжать его герой, юный Андзолетто, не отличается гостеприимством. По словам служанки Лючетты, это «кладбищенский дом, возле которого даже собака не пробегает», а большинство окон его выходят в «мертвый» двор,[98] и нет ни единого балкончика, чтобы подышать воздухом или поболтать с соседками: то есть «общественной» жизни в таком доме нет совсем. Новый дом Андзолетто-Гольдони весьма символичен. С его появлением отходит в прошлое прежний дом-склад (casa-stazio), получивший начало в XII в., - многофункциональный и непосредственно связанный с хозяйственной активностью аристократического сословия. На первом этаже такого дома находились склады, на «промежуточном» (meza) этаже — конторы купцов, а на последнем — жилые помещения; в доме имелось два выхода: один «служебный», — для тех, кто приходил по торговым делам, а другой — для жильцов, выходивший на улицу или площадь. Имелся также внутренний дворик (corte), окруженный строениями, где жили служащие и наемные работники; он служил местом коммерческих операций и местом общения жильцов дома.[99] В XV–XVI вв. сдвиги в экономике повлекли за собой изменения в структуре жилья. Corte утрачивает функцию «места, где происходит действие», и превращается в проходной двор, проход или перестраивается и становится calle. Дом перестает быть складом и конторой одновременно, превращается в собственно жилье и начинает приобретать «представительские» функции, то есть становится богатым жилым домом, палаццо.
Если в период расцвета торговой республики дома строились в непосредственной близости к торговым площадям (Риальто — Сан-Марко) и на Канале Гранде, то теперь они чаще строятся на периферии. Домовладельцы, вынужденные платить специальный налог, доходы от которого идут на поддержание в сохранности городских строений, из экономических соображений превращают первые этажи, прежде занимаемые складами, в лавки и мастерские и сдают их ремесленникам, а на «промежуточных» этажах устраивают квартиры. Увеличение числа квартир, сдающихся внаем, обусловлено главным образом дроблением помещений в домах, принадлежащих дворянам; одной из причин такого дробления, в частности, служит увеличение численности аристократических семейств. Однако расширение жилых площадей никак не связано ни с улучшением условий для жильцов, ни с доходностью домов для домовладельцев.
Благоустройство в каждом сестьере понимается по-разному — в зависимости от социального состава его жителей, который также со временем претерпевает изменения. В XVIII в. население Венеции делится на три сословия: дворяне (как именовал их в начале XVI в. Донато Джанотти), чаще называемые нобилями, патрициями или аристократами, читтадини (букв, «горожане», «граждане») и пополаны (простолюдины).
Дворянами являются те, кого, согласно изменению, внесенному в конституцию в 1297 г., причислили к «сеньорам, коими они отныне будут считаться и в городе, и во всем государстве морском и сухопутном». В конце XVI в. благородные сеньоры составляют 4,5 % всего населения,[100] в 1642 г. — 3,7 %. В 1766 г. процент аристократов снижается до 2,5 и остается на таком уровне вплоть до 1797 г.
Читтадини, которых французские наблюдатели XVI в. часто — и неправильно — называют буржуа, представляют собой ту часть населения, у которой, согласно Джанотти, «отцы или деды родились в этом городе, занимались почетным ремеслом, стяжали известность, определенным образом возвысились и теперь могут именоваться сынами отечества». Читтадино можно было стать также на основании прошения, из чего следует, что это звание было не наследственным, а связывалось с определенными заслугами. Звание «урожденного гражданина» (cittadino originario) и связанные с ним многочисленные права получал тот, у кого за плечами было по меньшей мере два поколения уроженцев Венеции, и при условии, что все они, включая нового обладателя звания, были законнорожденными. Чужестранцы, долго (от десяти до пятнадцати лет) прожившие в Венеции и занимавшиеся благородным ремеслом, не связанным с ручным трудом, за заслуги могли получить звание cittadino de intus и de extra, сближавшее их с cittadini originari. Вместе со званием они получали и некоторые налоговые льготы, а главное, право вести торговлю в статусе венецианца. К 1760 г. читтадини составляли 8 % населения города, но затем число их стремительно сокращается и в 1780 г. составляет только 4 %.[101]
В XVI в. cittadini перестают быть закрытой кастой для пополанов, смешение с которыми началось еще раньше. К пополанам относятся все те, кто «для поддержания жизни занимаются низменными ремеслами и не обладают никакой властью в городе», то есть все оставшееся население — ремесленники, слуги, бедняки, проживающие в приютах, нищие и монахи. В конце XVI в. они составляют 90 % городского населения, во второй половине XVIII в. число их возрастает и в 1797 г. достигнет 94 %.[102]
В Венеции всегда есть хорошие и плохие сестьере, хорошие и дурные приходы. Хорошим приходом считается приход, расположенный «возле площади», этого сердца приходской жизни, где происходят основные коммерческие, политические и культурные события. К примеру, согласно Гольдони, в Сан-Патерниано имеется целый район, где проживают судейские, и когда в 1732 г. он занимался адвокатским ремеслом, ему пришлось квартировать именно там. Начав заниматься театром, он переехал в район, где в период с 1607 по 1677 г. было построено подавляющее большинство театров. И хотя каждый театр носил имя прихода, его построившего, нетрудно заметить, что почти все они располагались вдоль Канала Гранде и торговой оси Сан-Марко — Риальто. Так, помимо театра Сан-Кассиано, сооруженного в 1607 г., были построены театр Сан-Моизе (1620), Сан-Лука (1622), Сант-Аполлинаре (1650) возле Сан-Сильвестро, Сан-Самуэле в устье Канала Гранде (1655) и Сант-Анджело (1676). Также следует назвать маленький театр Сан-Фантин возле Санта-Мария дель Джильо. Сан-Джованни Кризостомо, последнее театральное помещение, построенное в XVII в. в Канареджо, располагалось довольно далеко от Сан-Марко, равно как и театр Сан-Джованни-э-Паоло (1635–1637) и театр Новиссимо (1641), находившиеся возле церкви Сан-Джованни-э-Паоло в сестьере Кастелло. Другие театральные здания были построены в Канареджо возле церкви Санти-Апостоли (неподалеку от Сан-Джоббе) и в Дорсодуро (театр Дзаттере). Однако это маленькие театрики, и в XVIII в. они свое существование прекращают. За исключением периферийного театра Сан-Джованни Кризостомо, выживают только крупные театры в центре города: Сан-Кассиано, Сан-Самуэле, Сант-Анджело, Сан-Моизе, Сан-Лука. После 1750 г. в сестьере Сан-Марко строятся еще два новых театральных зала: Сан-Бенедетто, сооруженный в 1755 г. возле Сан-Лука, на calle Сан-Патерниано, где, в частности, проживает Гольдони, и Ла Фениче, построенный в конце века (1792) в приходе Сан-Фантин, в самом центре квартала Сан-Марко.[103]
В этих «хороших приходах» также сосредоточены лучшие гостиницы и трактиры, которые старый Гольдони вспоминает с восторгом: там, «в полночь, как и в полдень, открыты все съестные лавки, все кабачки, и в каждом трактире, в каждой гостинице вы всегда найдете превосходный ужин…»[104] Действительно, в начале XVIII в. насчитывается восемнадцать постоялых дворов, одиннадцать из которых расположены на Риальто и семь — вокруг Сан-Марко; вывески они имеют самые разнообразные: «У святого Георгия», «У двух мечей», «У порядочной девицы», «У обезьяны», «У башни», «У ангела», «У луны», «У дикаря» — один из самых известных, «У паломника», «У короны». И это не считая роскошных гостиниц, где останавливались знатные путешественники: гостиница «Руаяль» в Сан-Поло, где в 1748 г. под именем графа Гаагского останавливался король Швеции Густав III, или же «Гостиница Английской Королевы», возле моста Фузери, где в 1786 г. жил Гёте.
В периферийных сестьере приходы, напротив, плохие, ибо они расположены далеко от площади и подвержены различным превратностям. В частности, к таковым относятся несколько приходов в Дорсодуро и Канареджо: там есть доки (squerri), обширные площади отведены под склады и мануфактуры (chioveri), где варят мыло, прядут лен, красят ткани, производят красители, восковые свечи, печное оборудование, стеклянную и фарфоровую посуду, сушат табак, дубят кожи, гранят камни; в Канареджо расположены главные городские скотобойни. В приходах, окружающих Арсенал, и в районе Сант-Альвизо, где находятся учебные стрельбища, жители жалуются на шум. Обитатели Сант-Аньезе вынуждены мириться с пылью и паразитами, кишащими вокруг складов зерна, с нежелательным соседством иностранцев (греки в Сан-Джорджио деи Гречи) и проституток (Санта-Маргерита), бедняков-ткачей, большая часть которых проживает на западной оконечности Санта-Кроче, и неплатежеспособных рыбаков, основные поселения которых раскинулись на западной окраине Дорсодуро, в приходе Сан-Николо. Квартиры в этих приходах очень дешевы. Обедневший аристократ Карло Гоцци некоторое время живет в Сан-Джакомо дель Орио, на севере Санта-Кроче. Он называет этот приход «периферийным».[105] Затем он живет возле Санта-Катерина, на севере, подле церкви Иезуитов, где, как он сам объясняет, «плата за квартиру крайне низка по причине удаленности сего района от центра».[106] Да и квартиры, которыми он владеет в Джудекке или в районе Санта-Мария Матер Домини, отнюдь не выглядят роскошными.
В конце XIV в. городские сословия образуют свои компактные поселения. В Сан-Марко наблюдается большая концентрация читтадини — почти 9 % от всего населения квартала, в то время как число аристократов не превышает 5 %. Ремесленники селились в основном в Сан-Поло и Санта-Кроче, где они составляли около 85 % всего населения.[107] Но в Сан-Марко селились и бедные эмигранты из Бергамо: они находили себе работу в семействах нобилей, где исполняли обязанности носильщиков, а также в порту и при таможне. Как ни странно, но среди населения Дорсодуро насчитывается больше нобилей (почти 6 %), чем читтадини — всего лишь 4,5 %. Такое положение объясняется большой концентрацией обедневших дворян, снимавших дешевые квартиры в приходе Сан-Барнаба: эти дворяне получили прозвище «барнаботи». В XVII и XVIII вв. в составе населения некоторых приходов происходят значительные изменения; это относится прежде всего к центральным приходам, где дома, принадлежащие нобилям, ветшают (а таких домов в городе большинство) и постепенно заселяются состоятельными простолюдинами или же недавно разбогатевшими дворянами. Аристократические палаццо перемещаются на периферию, а в Сан-Марко и возле Риальто множатся дешевые квартиры. Увеличивается количество бедняков, желающих поселиться вокруг Арсенала, впрочем, Кастелло является единственным сестьере, население которого увеличилось по сравнению с концом XVI в., в то время как в Сан-Марко численность населения между 1760 и 1784 гг. сократилась на 11 %. Джудекка, привилегированный район, застроенный частными особняками, превращается в излюбленное место поселения рыбаков. Граница между центром и периферией вырисовывается все более четко.
Новые «храмы»
31 августа 1772 г. мост Бареттери предстал перед венецианцами в непривычном обличье. По случаю торжественного въезда Великого канцлера Республики, его светлости Джиролами Дзуккато, на мосту была возведена огромная, блистательно выполненная декорация дворца, создававшая иллюзию подлинной постройки: фасад дворца украшали статуи и барельефы, обрамленные двойным рядом колонн различных ордеров, а огромные въездные ворота, расположенные на первом этаже, были увенчаны гербовым щитом; за воротами простиралась невидимая глазу даль. Ридотто Дандоло, общедоступный игорный дом, открытый в Сан-Моизе в 1638 г. по разрешению Совета десяти, на несколько дней преобразился в триумфальную арку, возведенную в честь именитого чиновника Республики; арка стремилась ввысь, символизируя величие города.
В противоположность утверждениям многочисленных путешественников, в Венеции XVIII в. театры отнюдь не заменяют храмы, хотя по сравнению с другими европейскими городами она действительно занимала первое место по числу зрительных залов. Но по сравнению с концом XVII в. число театров уменьшилось почти наполовину. Характерными заведениями для проведения досуга в Венеции становятся ридотти — игорные дома, и казини — домики для развлечений, нередко загородные, где также велась игра, и кофейни. Число их неуклонно возрастало; многие из них размещались в помещениях театров или же поблизости от последних, так что театр начинал совмещать функции развлекательного заведения и места отдыха. Впрочем, игорные дома снискали популярность отнюдь не в XVIII столетии, а гораздо раньше. В Бассано казини существовали уже в XIII в. В конце XVI в. в зданиях Прокураций насчитывалось уже три ридотти, богато украшенных работами Тинторетто и Веронезе. На площади Сан-Марко, возле небольшой церквушки Сан-Джиминиано, находилось казино, посещавшееся академиками из филармонии, и там по заказам аристократов устраивались концерты, бывать на которых считалось хорошим тоном.[108] В XVIII в. число развлекательных заведений в Венеции достигает максимума: в 1744 г. там насчитывается сто восемнадцать игорных домов и залов, и это не считая просторного общедоступного игорного зала Ридотто. Основная часть этих залов расположена в квартале Сан-Марко, имеются казино возле Фондаменте нуове и возле церкви Санта-Мария Матер Домини в Санта-Кроче. Накануне падения Республики число игорных залов было равно ста тридцати двум, и это несмотря на единодушное осуждение игры и официального закрытия в 1774 г. общедоступного Ридотто. Только в приходе Сан-Моизе в 1755 г. насчитывалось семьдесят три игорных дома, принадлежавших нобилям и просто частным лицам, которые, по утверждению Градениго, содержали их «для личных нужд».[109] В этих случаях речь шла, в сущности, о гостиных, где играли преимущественно знакомые хозяев дома.
Слово «ридотто» означает «место сбора». Казино, уменьшительное от слова casa (дом), подчеркивает малые размеры постройки и ее неприспособленность для повседневной жизни. Казино-домик задумывался как дополнительное место жительства. Приобретая казино, патриции, давно уже переставшие селиться в центре города, получали возможность приблизиться к месту своей деятельности и местам проведения досуга, расположенным в центральных районах. Дома, принадлежавшие богатым аристократам, имели несколько этажей, кухню, гостиные, спальню (иногда даже несколько), залы для игр и музыкальные залы. Убранство залов отличалось роскошью. Некоторые казини представляют собой настоящие маленькие дворцы. Их фасады отличаются изысканными украшениями, внутренний декор часто заказывался известным художникам.[110] Здесь никогда не бывает рабочих кабинетов, это уютное жилище предназначено для общения, но не делового, а, к примеру, дружеского, интеллектуального, возвышенного, и, разумеется, для любовных встреч. В домике для свиданий, где Казанова познал поистине бессмертные мгновения любовной страсти, «пять комнат с изысканнейшей меблировкой» и с поваром английского посланника в придачу сдавались на период с ноября по Пасху за шестьсот цехинов, и «все там было устроено так, что можно было беспрепятственно наслаждаться любовью, хорошей едой и предаваться сладострастным занятиям».[111]
Дружеские компании часто снимали загородные домики, где устраивали банкеты по любому поводу, будь то выборы президента компании, женитьба или получение одним из друзей новой должности. В загородных казини проводили досуг и интеллектуалы: спорили об искусстве, литературе или философии. Почти повсюду играли, нередко по-крупному, и в конце концов игра стала отличительным признаком казино. Однако нельзя полностью отождествлять казино с игорным домом, ибо «маленькие домики» обладали гораздо большими функциями. В Ридотто Дандоло приходили играть, там даже имелись «зал вздохов», куда удалялись несчастные проигравшие, и зал для собраний, куда наведывались прежние игроки, к старости порвавшие со своей страстью. Еще в нем была гостиная, где подавали кофе, шоколад, чай и блюда традиционной кухни: вино, хлеб, сыр, колбасы, фрукты; еду и напитки разносили молодые люди в зеленых ливреях. В этом раю незадачливые авторы могли зализывать раны, нанесенные им непостоянной и требовательной публикой; в Ридотто скрылся Гольдони, услышав, как возмущенная публика освистывает его «Приятного старика» (1753); там он, «надев маску», вынужден был сносить насмешки тех, кто полагал, что с автором этой комедии уже покончено.[112]
Мода на кофейни начинается в Венеции в 1683 г., когда открывается первая кофейня, на вывеске которой красуется слово «Араб», а следом еще несколько. В XVIII в. содержатели венецианских кофеен, похоже, умели приготовлять сей напиток лучше, чем это делали в иных местах. «Кофе, привезенный из Леванта, умеют варить только в Венеции», — утверждают многие героини Гольдони,[113] отдающие предпочтение кофе «арабика», свежеразмолотые зерна которого бережно хранятся в теплом и сухом месте.[114] Некоторые венецианцы предпочитали шоколад — напиток, изначально употреблявшийся с лечебными целями; лучший шоколад, взбитый и пенящийся, без добавления ванили, подавали на калле делле Акве, возле моста Бареттери.[115] Многие горько сожалели о быстро утвердившейся моде на посещение кофеен. «На все мода: иной раз в моде водка, другой раз кофе», — объясняет персонаж комедии Гольдони, владелец кофейни Ридольфо своему слуге Трапполе, в то время как Траппола хихикает за спиной носильщиков, которые, следуя моде, также явились пить кофе.[116]
По традиции горожане приходили поболтать друг с другом в крохотные лавчонки, где продавали напитки (в основном вино) не самого лучшего качества, зато дешевые. Даже Казанова находит больше удовольствия в посещении этих лавчонок, нежели модных кофеен. «В каждом из семидесяти двух приходов города Венеции, — пишет он, — есть большой трактир, именуемый винной лавкой, где торгуют вином в разлив; эти лавки открыты всю ночь, и каждый пожелавший выпить идет туда, потому что цены там ниже, чем во всех прочих городских трактирах, где обычно к выпивке подают еду. Впрочем, в винной лавке также можно поесть, приказав принести себе еду из колбасной лавочки, каковая имеется в каждом приходе и тоже открыта почти всю ночь».[117] Аристократы отправлялись в лавки в поисках приключений. Пожелавшему выпить водки приходилось идти в иные места, например, в Сан-Проволо, в трактир «Греческий мост», где в 1742 г. стояло двенадцать спиртогонных кубов. В кофейнях можно было попробовать марочные вина, а также ароматизированные и иные экзотические напитки: сладковатое кипрское вино, в которое было принято макать бисквиты, крепкий сладкий ликер из цветов роз и апельсинового дерева, ракию, мальвазию. Желающие не только выпить, но и развлечься могли принять участие в игре или беседе. Там же можно было отведать шербетов, и в частности шербетов из ароматизированного молока, хотя, по утверждению Гольдони, в приготовлении этих сладостей Венеция не могла похвастаться новизной; наилучшие, на его взгляд, шербеты подавали в Неаполе.[118] Если в кофейне было дозволено играть, то вскоре заведение, в сущности, превращалось в своеобразный филиал казино или ридотто, с той разницей, что вход туда был доступен каждому. Как и casing кофейни, где велась игра, находились под бдительным надзором городской администрации; в 1759 г. были закрыты многие кофейни, тем не менее число оставшихся весьма внушительно — двести шесть.[119] Вокруг одной только площади Сан-Марко разместилось тридцать четыре кофейни: шестнадцать под аркадами Новых Прокураций, восемь со стороны Монетного двора, десять под аркадами Старых Прокураций.
Вывески этих кофеен, как и гостиничные вывески, ярко свидетельствовали о том, что и венецианцы, и чужестранцы устремлялись в эти заведения в поисках романтического настроения, экзотических ощущений, а также желая приобщиться к славному героическому прошлому. Вот лишь некоторые из этих названий: «У королевы амазонок», «У императрицы Московии», «У великого Тамерлана», «У великого визиря», «Ринальдо-победитель», «У султана». Свою новую кофейню, созданную в 1720 г. в Новых Прокурациях, синьор Флориан Франческони назвал «Торжествующая Венеция». Вывески новых «заведений для досуга» создавали лирический настрой, становились урбанистической реальностью, дерзко вторгавшейся в издавна сложившийся архитектурный облик города, и, не умаляя его великолепия, превращались в своего рода символ общительности его жителей.
Глава II
ОТ РИАЛЬТО ДО ТЕРРАФЕРМЫ
В знак силы нашей
Мы Льва на постамент поставим,
А чтобы путь его вперед был легок,
Наш Лев крылатым будет Львом.
Только в Венеции возделывают море, вместо того чтобы пахать землю.
Игра на двух сценах
Для путешественника XX в. Венеция ограничивается городом в лагуне; наиболее любопытный, возможно, включит в свой маршрут также окружающие ее острова: Кьоджу, Торчелло, Мурано, Бурано, Повельо, Маццорбо, Маламокко и другие крохотные острова, образующие владения дожей. Когда молодой Гольдони в 1725–1735 гг. живет с отцом в Удине, а затем в Фельтре, где исполняет должность коадъютора, когда он посещает Тревизанскую марку и Фриуль, останавливается в Брешии, Креме и Вероне и лишь потом обретает окончательное пристанище в городе дожей, он тем не менее все это время пребывает «в поле венецианского притяжения», то есть на землях, находящихся в зависимости от Венеции. Когда гонимый семейными неприятностями Карло Гоцци в 1737 г., находясь на Маламокко, садится на корабль «Ла Дженерале», отплывающий в Задар, где ему суждено провести три года, он по-прежнему пребывает «в венецианском пространстве». То же самое можно сказать и о Джакомо Казанове, который во время своих странствий в 1745 г. пересек Дарданеллы, прибыл на Корфу, добрался до венецианского квартала Пера в Константинополе и даже проник еще дальше — в сады наслаждений, окружавшие загородные дома знатных турок.
Соглашение об основании города, заключенное между рыбаками и новыми пришельцами с материка, носило двойственный характер: с одной стороны, пришельцы брали на себя обязательство построить чудесный город, а с другой стороны, выполнив обещание, они должны были отправиться на завоевание новых земель, чтобы исконные жители лагуны по-прежнему жили на своих островах свободно и счастливо. Лев сдержал свое слово и расправил крылья. Благодаря ему Венеция стала центром целого ряда территорий, оказавшихся у нее в подчинении, и из просто города превратилась в Повелительницу, Светлейшую, в столицу сразу двух государств. С одной стороны, Венеция являлась столицей государства морского, включающего в себя около 47 тысяч кв. км прибрежных территорий: это земли, последовательно вытянувшиеся вдоль побережья Адриатики и Эгейского моря, Далмации и Истрии, часть Албании, Эпира и Пелопоннес вместе с островами Модон и Корон, этими двумя «главными очами Республики», часть Аттики, Ионические острова, остров Корфу, Занте (Закиндо), Санта-Маура (Левкадия), Кефалония, Кандия (Крит), острова Эгейского моря, европейские берега Мраморного моря и Дарданелл, три восьмых города Константинополя, и истинная жемчужина владений дожей — Кипр. С другой стороны, Венеция являлась главным городом государства сухопутного, имеющего площадь в 33 тысячи кв. км, то есть территорию, значительно превосходящую границы нынешней Венеции. Это государство простиралось от «Ады до Изонцо»[121] и включало Верону, Виченцу, Брешию, Бергамо, Ровиго, Беллуно, Крему, Кремону, Фриуль, Полезине. Говоря языком «завоевателей», в 1462 г. бывшая коммуна стала синьорией, то есть власть в Венеции сосредоточилась в одних руках. Так город-государство Венеция выступает сразу на двух сценах — на суше и на море, и оценивать его выступление только на одной из сцен невозможно, ибо одна неотделима от другой.
Славный город Венеция
В «Далматинке», комедии в стихах, написанной в 1758 г., Гольдони, превознося гуманное правление «венецианского льва» в Далмации, вкладывает в уста рабыни Зандиры, узницы марокканского алькальда, вот такие восторженные строки:
Я родилась в самом сердце Далмации,
Чьи берега ласково омывают волны Адриатики,
Там, где справедливо правит человеколюбивый Лев,
И население под властью его живет счастливо.
Да, этот Лев-властитель могуч и непобедим,
Он мудр и справедлив и милосерд одновременно,
Умеет он вознаграждать заслуги и карать дерзость,
В империи, где правит он, царят мир и процветание[122]
Вряд ли к этому времени все позабыли, сколько трудов пришлось приложить венецианцам, чтобы покорить Задар. В начале XVII в. все еще существует необходимость вести непрерывную войну против пиратов-ускоков, поддерживаемых австрийцами.[123] То и дело восставало против венецианского владычества население Крита, и вплоть до XIV в. ни о какой, даже о культурной, интеграции не могло быть и речи. В конце XV в., во время конфликта между Владычицей и султаном, был осажден остров Корфу. И наоборот, благодаря беглецам с Пелопоннеса Венеция вновь заселяет Кефалонию. Остров Кипр был подарен Венеции королевой Катериной Корнаро, уроженкой Венеции, принадлежавшей к одной из самых знатных патрицианских семей. Приобретение Кипра стало поистине поворотным моментом в отношениях между двумя давними соперницами — Венецией и Генуей, корни вражды которых уходят глубоко в историю. Разумеется, говорить о «конфедерации» под эгидой Венеции, как это делает в начале XVI в. Гаспаро Контарини,[124] не совсем правомерно, однако подобные сравнения побуждают вновь вспомнить миф о Венеции как об образцовом государстве, где царит свобода.[125]
Впрочем, не все владения Владычицы были завоеваны с оружием в руках. Корфу был куплен у неаполитанского короля Карла III в 1402 г. Так же были приобретены Санта-Маура, Итака и Занте. Как утверждают хронисты XVI в., Венеция воюет, чтобы защищаться и защищать весь христианский мир от турецкой угрозы. Ее Арсенал — настоящая крепость, оплот «веры против неверных».[126] Есть основания полагать, что отношения между Венецией и Портой Великолепной строились не на беспричинном антагонизме, а на дипломатической игре, на чередовании конфликтов и переговоров, и не исключено, что в этой игре даже присутствовала определенная интеллектуальная утонченность.[127] Когда несколько европейских государств, объединив свои усилия, вступают в столкновение с Портой, венецианцы, чьи интересы в этом конфликте поставлены на карту, не стремятся примкнуть к собратьям по вере, а всеми силами стараются избежать «всего того, что могло бы воспрепятствовать активности наших коммерсантов в Порте, ибо таковых там множество».[128] Ввязавшись в бой, венецианцы обычно первыми вступают в переговоры.
В пантеоне богов-покровителей Венеции присутствуют Нептун и Меркурий, море и торговля, и оба они соседствуют с Венерой. Венеция — империя, но империя прежде всего торговая. Направляя свою активность на Восток, венецианцы никогда не удаляются от побережья: они захватывают порты, прилегающие к ним земли и создают прибрежные фактории, позволяющие им контролировать судоходство и обеспечивать безопасность своих купцов.[129] Результат известен. Он содержится в итоговом отчете, представленном престарелым дожем Томмазо Мочениго в конце 1423 г. с целью уговорить своих коллег оказать сопротивление воинственным планам Франческо Фоскари, прокуратора Сан-Марко. Именно мир сделал венецианцев «повелителями, бороздящими море и землю», отчеканивает дож, приступая к перечислению выгод, полученных благодаря миру: десять миллионов дукатов имеют хождение «во всем мире… прибыль от ввозимых товаров достигает двух миллионов дукатов и еще два миллиона от импорта… по морям плавает три тысячи купеческих кораблей, семнадцать тысяч моряков, триста мелких судов с восемью тысячами гребцов, сорок пять малых и больших галер, на которых отплывают одиннадцать тысяч моряков ежегодно».[130] Понятно, что любые перемены в морском государстве приведут к катастрофе, поэтому непреложной задачей является его оборона. Благодаря морю Венеция снискала славу Владычицы морей, славу, сложенную из нескольких величин, среди которых воинские доблести присутствуют в единой связке с пригодностью к торговле, предприимчивым умом и материальными богатствами, накопленными благодаря мореплаванию и последующему мудрому распоряжению ими. И, как говорил в 1502 г. в своей речи хронист и купец Джероламо Приули, «если венецианцы потеряют флот и господство на морских просторах, они утратят свою славу, и через несколько лет государство придет в упадок».[131] Венецианцы постоянно ощущали угрозу подобной катастрофы. Члены советов не всегда бывали единодушны в своих решениях, иногда, отстаивая свое мнение, государственные мужи хватались за оружие, но когда речь заходила об угрозе морскому владычеству, все без исключения понимали, что это угроза самому существованию государства.
В начале XVIII в. в традиционной торговле с Левантом произошли изменения: появился конкурент порт Ливорно, владение великого герцога Тосканского, который в конце XVI в. провозгласил его свободным портом. В первой трети XVII в. наблюдается усиление активности английских и голландских купцов. Еще в 1502 г., утратив свои позиции в Эгейском море, венецианцы констатируют, что «все повелители мира сего отныне обладают большим могуществом, нежели мы»,[132] и тотчас приступают к осуществлению военной реформы, проводят проверку всех находящихся в подчинении у государства гарнизонов и обновляют состав управляющих факториями на Леванте.
В XVII в., едва успев оправиться от последствий затяжного конфликта с папой римским и опустошающего нашествия чумы в 1630 г., Венеция с 1645 по 1669 г., а затем с 1684 по 1699 г. ведет долгие ожесточенные войны с турками, чтобы вернуть себе утраченные территории: Кандию, Санта-Мауру, Модон и Корон, а также территории в Морее. Чтобы раздобыть средства для ведения войны, продают все: церковное имущество, земельные участки, принадлежащие коммунам, торговые конторы, займы, налоги, дворянские титулы, каждый из которых приносит казне 100 тысяч дукатов: 4322 тысячи дукатов на военные нужды собрано только за 1668 г. Все идет в ход, чтобы отвоевать территории, составившие репутацию Республики как морской державы.[133] В 1728 г. в своих путевых заметках Монтескье насмешливо отзывается о бездарности ряда венецианских генералов, в частности о Франческо Морозини, потерпевшем поражение на Кандии; венецианцы не сумели сохранить за собой неприступные крепости, и, как указывает французский философ, огромные суммы были растрачены впустую: все попытки сохранить за собой эту провинцию оказались тщетными. Разумеется, в своих оценках Монтескье не щадит ни репутации Республики, ни патриотических чувств ее граждан.
В 1668 г. в Венеции, несмотря на поражение при Негропонте, для поддержания боевого духа были опубликованы «Записки о королевстве Морее, выкупленном с помощью оружия Светлейшей Республикой» отца Коронелли; на титульном листе был изображен лев святого Марка с едва ли не человеческим лицом, пожирающий раненого сарацина, который безуспешно пытается поднять свой стяг.[134] И тем не менее, по условиям Карловицкого мирного договора, заключенного в 1699 г., Морея отошла к Венеции; большую роль в этой дипломатической победе сыграл полномочный посол Республики Карло Руццини.
Глазами веры
Активная, не считавшаяся ни с какими жертвами деятельность, развернутая Венецией в 1714–1718 гг., по выходе из войны за Испанское наследство, для защиты своих территорий в заливе от притязаний турок, принесла свои плоды, но не столько материального, сколько морального характера. Благодаря своим доблестным действиям на Корфу в 1716 г. Андреа Пизани и маршал Шулембург снискали себе место в галерее славных венецианских адмиралов и военачальников. То же самое можно сказать и об Альвизо Мочениго, захватившем турецкую крепость Имоски, отвоевавшем Превезу и Воницу. И если после заключения в 1718 г. Пассаровицкого мира Венеция все еще сохраняет свои самые ранние завоевания: «Истрию, Далмацию и Нижнюю Албанию, Корфу, Занте, Кефалонию и остров Чериго (Китира, к югу от мыса Матапан) в Ионическом море»,[135] — то от Мореи, а также от двух своих факторий на Крите ей приходится отказаться в пользу турок. Теперь морская держава имеет площадь всего лишь 22 тысячи кв. км, из которых 19 тысяч кв. км приходится на земли Далмации. Корфу, по-прежнему принадлежащий Венеции, иногда вводит в заблуждение отдельных иностранных наблюдателей, кто, подобно Лаланду, взирая на этот остров, продолжает приписывать Венеции важное политическое и стратегическое значение, кое она уже утратила:
Остров Корфу… главный оплот христиан против турок… Венецианская республика является Владычицей Адриатического залива, имеющего двести лье в длину и пятьдесят лье в ширину… титул свой она носит совершенно справедливо, и ни одна морская держава не рискует его у нее оспаривать.[136]
Однако другие путешественники более сдержанно отзываются о морском могуществе Венеции. Де Бросс, к примеру, сеет сомнения в реальности существования заморских территорий Венеции и дерзает утверждать, что благодаря оптическим эффектам ему удалось разглядеть их с вершины колокольни Святого Марка, однако они быстро скрылись в тумане.
Я поднялся на высокую башню, с вершины которой легко разглядеть всю территорию, занимаемую Венецией, острова, разбросанные в море, и маленькие городки, что расположились на этих островах, корабли, стоящие в лагунах, весь италийский берег, от Комаккио до Тревизо, Фриуль, Альпы, Каринтию, Триест, Истрию и часть Далмации. Глазами, исполненными веры, я также увидел Эпир, Македонию, Грецию, Архипелаг, Константинополь, фаворитку султана и великого посланника Республики, ведущего с ней весьма вольную беседу.[137]
Действительно, к этому времени турки стали вести себя куда менее дерзко и агрессивно; память о турецкой угрозе стала подобна памяти о предках: турок продолжают бояться, однако скорее по традиции. Подобное мнение складывается и у Гольдони, о чем он и сообщает в своих донесениях 1741–1742 гг. генуэзскому правительству во время войны за Австрийское наследство: в то время он исполнял должность консула при Сенате Республики. Позднее его взгляды по этому вопросу получили свое отражение в комедиях «Персидская невеста» (1753) и «Импресарио из Смирны» (1759). Последняя война между Турцией и Венецией завершилась в 1716 г. Однако венецианский Сенат озабочен стычками между Турцией и Австрией, происходящими «на границах венецианской Далмации»: он считает «сомнительными» мирные заверения сторон и «полагает, что правительство должно быть бдительным».[138] Вмешательство в конфликт Московии в пользу Марии Терезии и «ревность» Франции, подталкивающей турок к «нарушениям границ»,[139] усиливают опасения правительства; далматинские полки приводят в боевую готовность и даже создают особый славянский полк.[140] Однако вскоре опасения проходят. «Балио утверждает, что бояться так называемых шагов Порты больше нечего, что соответствует истине; вылазки турок на суше и на море являются исключительно результатами происков французских министров», пишет Гольдони 24 марта 1742 г. и далее отмечает, что турки, «опечаленные волнениями, происходящими в Азии, не в состоянии начать войну против Европы» (блокада Эрзурума Кули-Каном).[141] «Опечаленный турок» послужил прототипом богатого торговца Али из «Импресарио из Смирны», приехавшего в Венецию продать свои товары и набрать певцов для хора, дабы оживить «культурную жизнь» одного из турецких городов. (В XVIII в. Венеция начинает бороться со Смирной новым идеальным оружием — оперой.) Стычки, в которых в эти годы, будучи на Корфу, участвовал адъютант Казанова, действительно ограничивались волнениями среди крестьян, спускавшихся с гор с ружьями и вилами и получавших «за беспокойство» щедрую мзду. Война шла в основном в альковах и на кухнях:
Жизнь я вел воистину счастливую, ибо и стол у меня был не менее изысканный. Подавали мне упитанных барашков… пил я только вино из Скополо и лучшие мускаты со всех островов Архипелага. Единственным сотрапезником моим был поручик. Никогда не выходил я на прогулку без него и двух своих паликари, что шли за мною для защиты от нескольких сердитых юношей, воображавших, будто из-за меня их оставили возлюбленные белошвейки.[142]
И тем не менее, хотя турки и «опечалены», они продолжают представлять угрозу как для Европы, так и для Венеции, ибо между Портой, с одной стороны, и Австрией и Московией — с другой еще сохраняются напряженные отношения. Поэтому опасения Венеции по-прежнему справедливы. К тому же страх перед турками является своеобразной составляющей былой морской славы Республики. Вот почему на протяжении века, несмотря на благоразумное решение о соблюдении нейтралитета, принятое после заключения мира в Пассаровице, Республика восстанавливает, обновляет и расширяет, не считаясь с затратами, свой Арсенал, хотя все наблюдатели единогласно считают, что он уже стал для нее обузой. Расходы на поддержание Арсенала колеблются от 250 до 300 тысяч дукатов. К тому же управление Арсеналом осуществляется из рук вон плохо: работники, получающие довольно высокое жалованье, проводят время в праздности и «с каждым днем становятся все более леностными», что, по свидетельству одного из французских наблюдателей, «окончательно разрушает сие учреждение и уменьшает могущество Венецианского государства».[143] Тем не менее «запасов оружия у Венеции хватит на десятитысячную армию», каждый день «производится новое оружие, и теперь его уже должно хватить на армию в тридцать тысяч человек; также имеется две тысячи бронзовых пушек и все необходимое для оснастки и корпусов… чтобы построить двенадцать военных судов».
В начале XVIII в. на содержание Арсенала тратилось больше, чем поступало доходов со всех заморских территорий: объявленные расходы в два раза превосходят доход, получаемый с трех оставшихся островов (Корфу, Занте и Кефалония приносят 132 258 дукатов), и в три с половиной раза — доход от провинций Далмации (11448 дукатов) и Истрии (57842 дуката).[144] Поддержание в хорошем состоянии боевых кораблей с полным вооружением и строительство новых военных судов требуют от Венеции больших затрат, и в 1749 г. венецианские суда оказываются вполне эффективными в борьбе с берберскими пиратами.
Пять галер и восемь галеонов охраняют Адриатический залив… два галеаса и восемь галеотов патрулируют между островами Корфу и Занте, фрегат с пятьюдесятью пушками и два сорокапушечных корабля, снаряженных Республикой, в течение четырех месяцев… будут курсировать от Занте и Чериго до устья Босфора… еще один военный корабль, на вооружении которого может находиться от семидесяти до восьмидесяти пушек, под командованием его светлости Марчелло совместно с двумя фрегатами, на каждом из которых находится от пятидесяти до шестидесяти пушек, станут патрулировать… вплоть до Гибралтарского пролива.[145]
Даже Монтескье признает, что в случае необходимости венецианцы смогли бы без труда снарядить двадцать боевых галер, хотя в целом галер у Республики значительно больше. В 1570 г., перед битвой при Лепанто, когда половина союзнического флота приняла решение отступить, Арсенал сумел выставить против турок более ста галер. В 1786 г. галер у Республики не намного меньше, вот почему инструкции, полученные французским посланником в Венеции графом де Шалоном, начинаются следующими словами: «Наблюдать за состоянием дел в государстве, обладающем морскими силами в таком объеме, в каком ими обладают все государи этой части Европы, вместе взятые; помнить, что державе, с которой государство сие будет поддерживать союзнические отношения, союз такой может быть весьма полезен, особенно ежели в этой части Европы вспыхнет война».[146] Победы Анджело Эмо над тунисскими пиратами при Сфаксе, Бизерте и Сусе (1784–1785) — одна из причин подобных инструкций. Но как бы то ни было, Бонапарт поступает с символом Венеции так же, как и с городскими кварталами (сестьере): в октябре 1797 г., после заключения Кампоформийского мира, он переправляет во Францию две тысячи пятьсот артиллерийских орудий, обнаруженных им в Арсенале. Когда Арсенал захватывают австрийцы, они находят там только железный лом.[147]
Куда девались купцы?
Уже в 1502 г. Алевизо Гритти, составляя проект организации снабжения города зерном, включил в него и «колонии» (Корфу, Котор, Далмацию), полагая, что заморские территории не способны прокормить себя, ибо не имеют достаточных посевных площадей. «Содержание двух провинций… обходится государственной казне Светлейшей в гораздо большую сумму, нежели та, что составляет доход, с этих провинций получаемый», — в свою очередь утверждает Карло Гоцци.[148] По его мнению, реформировать сельское хозяйство в этих провинциях невозможно, ибо территории их «большей частью заняты горами, а следовательно, почва там каменистая и неплодородная». Даже если отдельные долины и кажутся приспособленными для земледелия, то местные жители-морлаки, эти надменные варвары, не склонные к возделыванию земли, сделают напрасной любую попытку ввести там культурное земледелие: ревностно преданные своим традициям, морлаки отличаются пассивностью и инертностью, особенно когда речь заходит о новшествах. Описание этих земель у Карло Гоцци достаточно безрадостно. Казанова, по его собственным словам, приятно провел там время, но тем не менее, повествуя об этих краях, и он не избежал унылых красок. Однако даже из рассказов не слишком объективных очевидцев вполне можно понять, что Венеция весьма охотно поддерживала принадлежащие ей заморские земли в неразвитом состоянии, используя их как место ссылки, куда в наказание за проступки, сочтенные аморальными или опасными, Республика отправляла своих подданных. Отсутствие заинтересованности Венеции в своих бывших территориях просматривается также в текстах менее полемических и более конструктивных. В записке о рыбной ловле на островах Леванта, составленной в 1760 г. неким монахом на службе у генерального проведитора моря, говорится, что активность островных жителей осталась в прошлом, а рыба, вылавливаемая рыбаками, не покрывает даже местных нужд, ибо ловля ее производится кустарным способом и не пользуется ни покровительством, ни поддержкой правительства.[149]
Что делает в Задаре Карло Гоцци? Он обучает «основам математики и искусству воинской фортификации»[150] Джованни Паоло Гольдони, брата Карло, «изначально предназначенного для военной службы»[151] и вступившего там в драгунский полк. Казанова пишет об этих краях как о месте ссылки. Все это свидетельствует о том, что Далмация и острова Леванта в те времена представляли собой своего рода военные базы и источник пополнения армии. Будучи торговой республикой, Венеция не имеет ни постоянной сухопутной армии, ни профессиональных офицеров. «Нация не уделяет достаточного внимания воинской службе, поэтому среди народа занятие сие считается низким. Служба на море предоставляет единственную возможность послужить родине с оружием в руках. Венеция имеет всего один сухопутный армейский корпус и нерегулярные отряды ополчения, состоящие из двадцати тысяч человек, которые призываются по необходимости, в основном во время крупных кампаний; ополченцы не имеют постоянных подразделений, не учатся военному делу и не получают содержания от правительства. Ополчение состоит преимущественно из крестьян, несущих службу в гарнизонах, пока регулярные войска участвуют в боевых действиях, однако большая часть этих крестьян гибнет от болезней и неприспособленности, ибо там, где правительство не поддерживает воинский дух, насадить его весьма непросто», — отмечается в «Записке о венецианской политике» от 1754 г.[152] Генеральному вербовщику Республика выплачивает по двадцать дукатов за каждого завербованного здорового мужчину; рекрутов набирают как на материке, так и на морских островах. В Далмации, в частности, формируется специальный корпус солдат, именуемых пандурами (Panduri), которые в качестве ежедневного довольствия получают на один ливр черствого хлеба {pane duro), откуда и пошло их название; также они получают премии — от 4 до 24 цехинов за каждого беглого разбойника или каторжника, которого они доставят властям, живого или мертвого. Корпус этот прекратил свое существование только в 1788 г.
Финансовые отчеты подтверждают оценку Гоцци. Заморские территории обходились Венеции недешево: в начале века только на содержание ополчения на трех островах Леванта пошло 200 тысяч дукатов, и еще почти 32 тысячи дукатов — на роты далматинцев, в то время как все земли в целом, включая Истрию, принесли доход всего лишь в 201 530 дукатов.[153]
Обозреватели более не верят ни в превосходство венецианских купцов, ни в эффективность торговли, осуществляемой Венецианской республикой. «Республика льстит себе… когда утверждает, что способна оживить свою умирающую торговлю», — отмечают во Франции, когда Дольфин, венецианский посланник в Константинополе, в 1727 г. предлагает освободить от вывозных пошлин все шелковые и шитые золотом ткани, производимые в Венеции и отправляемые морем в Левант. И даже обязательство плыть в сопровождении конвойных судов (mude), предоставляемых государством купеческим судам для защиты против пиратов, всегда появляющихся неожиданно, перестает соблюдаться. Обязательство это, по мнению многих, стало всего лишь способом «побуждать купцов продолжать заниматься своим ремеслом, кое им уже наскучило».[154] Это суровое суждение, весьма распространенное в ту эпоху, неоднократно подтверждается в сочинениях Гольдони.
Если мы хотим составить представление о состоянии венецианской торговли с Левантом по намекам, рассыпанным по комедиям Гольдони, оценка явно будет отрицательной. Конечно, есть Левант из «Персидской невесты», однако там мы скорее сталкиваемся с романтической экзотикой и эксплуатацией мифа о султанских гаремах и обычаях турецкой жизни — экзотические наслаждения, процветающие в западных факториях, поистине стали легендарными, — нежели с секретами коммерческих предприятий. Это Левант, каким его представляет де Бросс, а не Левант, — часть славной истории Республики. В «Бабьих сплетнях» есть персонаж по прозвищу Саламина: этот негоциант, уроженец Рима, разбогатевший в Венеции, стал жертвой берберских пиратов; освободившись из плена, он вернулся в Венецию вместе с моряком, носящим символическое имя Пандуро. Но Саламина основал свою торговлю более двадцати лет назад, и истоки его богатства уходят в прошлое.[155] Есть еще левантиец Изидоро, комический персонаж из «Домоседок», владелец мореходной компании, которую должен унаследовать его племянник Тонино. Тонино родился в Венеции, прожил в ней всю жизнь, и когда дядя предлагает ему отправиться на Риальто и начать учиться торговому делу, а затем отплыть в Левант, тот отвечает: «Я боюсь моря, от одного вида воды я делаюсь больным. Я даже не езжу в Местре, потому что боюсь переплывать Канал».[156]
Торговое сообщение с Левантом, похоже, постепенно отходит в область мифического прошлого. Венецианцы забывают о своей священной связи с морем. Потомственные купцы и аристократы, те, кто прежде правил городом, вкладывали значительные средства в строительство кораблей и закупали различные товары, создавая сильные торговые предприятия, уходят из коммерции,[157] и, разумеется, театр не может пройти мимо этого явления, которое многие считают необратимым. С середины XV в. патриции постепенно впитывают в себя дух европейского дворянства и, как следствие, перестают заниматься торговлей, считая это занятие плебейским.[158]
На сцене образ купца воплощает Панталоне деи Бизоньози; в комедии дель арте середины XVI в. Панталоне подхватил эстафету у Старца из классических комедий. Его первое имя — Великолепный, он говорит на венецианском диалекте и носит красно-черное платье цвета советов Республики. На основании этого можно сказать, что персонаж сей родом из благородных обитателей лагуны и олицетворяет связь, существующую между венецианским правительством и коммерческим предпринимательством, между общественными интересами и интересами частными. Однако, кроме этих качеств, Панталоне, как известно, отличается скупостью и сладострастием и вдобавок заядлый домосед, на что указывают его огромные домашние туфли.
Итак, социальные роли распределяются следующим образом: «Аристократ применяет свои интеллектуальные способности либо в литературной сфере, либо занимается делами общественными, либо служит Марсу… читтадино — представитель второго сословия — занимает должность секретаря в городской администрации или полностью посвящает свое время коммерции, простонародье же трудится исключительно в сфере ремесла».[159] Хуже всего, что новый купец-читтадино более не заботится о поддержании былой славы государства и не соблюдает десять заповедей образцового негоцианта, записанные, к примеру, в бумагах купца из Рагузы Бенедетто Котрульи в конце XVI в.: не играть в азартные игры, приравненные к «смертному греху, ибо они ведут к божбе, обману, воровству»; «соблюдать умеренность в еде и питье», чтобы тебя не одолели лень, слабоумие и телесная немощь; избегать ссор, не вступать в разговоры с людьми дурными и бесчестными; не прибегать к помощи чернокнижников, а слушаться разумных советов; не заниматься контрабандой; не обманывать своих партнеров; не водить дружбы с людьми, которые разоряют тебя; избегать мотовства, «порока еще более отвратительного, чем скупость».[160] Короче говоря, торговцу надлежит преследовать одну-единственную цель: приобретение богатства во благо и для процветания государства.
«Добрые правила теперь у купцов не в чести, ибо они пристрастились к роскоши», — пишет в 1741 г. Гольдони в своих письмах[161] о разорении мантуанцев и целой серии «банкротств», связанных со смутным военным временем. Через некоторое время он создает комедию «Банкротство»,[162] где выводит на сцену разорившегося на темных махинациях Панталоне, эгоистичного и бессовестного, готового бросить жену и сына, лишь бы только скрыться от правосудия. Впоследствии драматург, наоборот, станет идеализировать торговца Панталоне и создаст образ венецианского купца, дорожащего честью и былой коммерческой славой Республики. «В своих комедиях характеров я вернул этому персонажу достойную репутацию, и теперь он олицетворяет честного купца из моей Венеции», — пишет драматург в своих «Итальянских мемуарах».[163]
Выводить на сцену положительных героев — изначальный постулат театральной программы Гольдони, его обязательство перед обществом, и во исполнение этого обязательства отцы в его пьесах, эхом вторя заповедям Котрульи, горячо увещевают своих блудных сынов, игроков, ветреников и сладострастников, усиленно подражающих испорченным нравам аристократии, вспомнить о том, что прежде «торговля была занятием почетным, и ею не гнушались благородные кавалеры… и было это полезно для всех, а также много способствовало обмену товарами между народами».[164] Таким образом, Гольдони призывает аристократов возобновить коммерческую деятельность, которой занимались их предки. «Меня упрекали за то, что в своей пьесе я заставил благородного дворянина без особой необходимости заниматься торговлей, но я отвечу:…необходимо всеми силами развивать подобные стремления, дабы постепенно принадлежность к коммерческому сословию стала не менее престижной, чем к дворянскому».[165] И таких взглядов придерживался не он один.
Торговля еще не умерла
И все же Венеция продолжала вести торговлю с Левантом, и предприимчивые купцы в ней еще не перевелись. В 1725 г. торговля солью, осуществлявшаяся через Корфу, принесла три миллиона французских ливров прибыли, иначе говоря, одну шестую всех доходов Республики.[166] Недавние исследования прибыльных торговых операций, осуществленных на территориях, принадлежавших Республике, свидетельствуют о предприимчивости заграничных купцов: удачной была торговля далматинца Джероламо Манфрино, крупного экспортера табака; выдающихся коммерческих успехов добилось семейство греческих негоциантов Перулли. После заключения мира в Пассаровице Перулли сделали состояние на традиционной торговле солью, а также на начинавшей бурно развиваться торговле табаком; в орбиту их коммерческих интересов входили острова Санта-Маура и Корфу. Перулли также активно торговали изюмом, производимым на Занте, и он стал одним из основных источников дохода Владычицы. Члены этого семейства занимали ответственные должности в коммерческих предприятиях Республики, а в 1703 г. купили себе дворянский титул.[167]
Примеры эти наглядно показывают, как нишу, прежде занятую купцами-венецианцами, постепенно занимают купцы заграничные. Как свидетельствуют прошения о присвоении дворянских титулов, в 1686 и 1699 гг. некоторые мелкие торговцы с материка, и в частности из Бергамо, сумели сделать состояние на торговле с Левантом. Например, глава торгового дома Периско смог выложить за дворянский титул требуемые 100 тысяч дукатов, которые он заработал, основав около шестидесяти лет назад коммерческие предприятия «в Венеции и Константинополе, где вел дела к великой выгоде правительства и общественных финансов… оказывая помощь различным балио, присылаемым в Оттоманскую Порту, в сфере управления крупными капиталами». То же самое можно сказать о семействе Челлини, глава которого был уроженцем Бергамо; один из членов этого семейства даже стал консулом Венеции в Амстердаме. Коммерческая активность Челлини охватывала территории от Англии и Фландрии до острова Занте: они выковали настоящую «драгоценную цепь выгодных торговых связей». Примерно такую же карьеру сделал и купец из Бергамо Доменико Бьякка, купивший в 1686 г. дворянский титул: он исполнял роль посредника, торгуя изюмом, полученным на Занте, с голландскими купцами. Нелишне упомянуть и братьев Коттони, получивших дворянство в 1699 г.; в соответствующих документах секретарь Сената назвал их «честными и предприимчивыми греческими негоциантами», начинавшими свою деятельность на службе у Республики простыми посредниками и сумевшими добиться дворянских титулов «благодаря успеху своих коммерческих предприятий», кои с великим умом вели они в «чужих краях».[168]
Таким образом, земли Леванта являются не только военным полигоном и местом вербовки рекрутов: они приносят доход от коммерческой деятельности. Историки говорят даже о начавшемся в конце XVII в. «возрождении» морской торговли в Венеции. После семидесяти лет застоя, обусловленного непрерывными войнами, которые велись в Леванте, в сфере коммерции наступило оживление, о чем свидетельствует открытие в 1721 г. консулатов, закрытых во время военных действий между Мореей и Кипром, а также открытие в 1754 г. представительства в Алеппо. Об оживлении торговли говорит и увеличение числа венецианских торговых судов, совершавших рейсы с 1735 по 1751 г.[169]
Разумный нейтралитет, соблюдаемый Венецией, благоприятствует транзиту товаров из Леванта на предприятия Ульма, Аугусты, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Кельна (сахар, шелк, хлопок).[170] Венеция регулярно снабжает Европу изюмом с Ионических островов и греческими винами, везет из Алеппо шелка, которые затем поступают на мануфактуры Бассано и Виченцы, Франция продолжает импортировать венецианское шитье и венецианское стекло, красную камедь с Корфу и берегов Персидского залива, которая идет транзитом через Венецию. Пессимистические высказывания, содержащиеся в «Записке» 1727 г. одного из французских наблюдателей, в 1753 г. подкрепляются данными о балансе импорта и экспорта Республики и балансе товарооборота, с указанием наименований товаров и цен. Основной вывод, к которому приходит составитель, заключается в том, что «торговля Республики в Леванте осталась на прежнем уровне в части ввозимых туда наименований товаров, однако количество сбываемых ею там товаров уменьшилось». Среди экспортируемых товаров «венецианский штоф двух видов, один с простыми шелковыми цветами, другой с цветами золотошвейными; сукна тонкие и прочные, цвету малинового, именуемые Саия; сукна плотные, цвету такого же, именуемые парангоновыми; сукна, произведенные в Сондрио, такие же, какие производят во Франции; а еще зеркала, стекло, бумага, скобяные товары, холст, нитки и стеклянные изделия всевозможного предназначения».[171]
Республика импортирует «тонковолокнистый египетский хлопок, хлопковую пряжу, кофе, верблюжью шерсть, шерсть, воск, табак, золу, шелк, аптекарские товары, кипрское вино, набивной ситец, кожи (соленые, высушенные и выделанные), изделия из кожи, дубовую кору для дубления кож, кошениль».
В «Записке» не указаны объемы товарооборота, ее составитель оценивает торговлю Республики в целом, во всех факториях, и полагает, что «товарооборот составляет несколько миллионов, с которых Республика имеет чистого доходу 25 % или что-то вроде того», а также, в частности, отмечает, что «венецианский штоф в Порте весьма хорошо расходится».
В то время как Гольдони, получивший в 1741–1742 гг. задание вести учет прибывающих в порт генуэзских кораблей, удивлялся, как мало кораблей прибывало с островов, Пьетро Градениго в своих дневниковых записях отмечает, что в 1747–1749 гг. товары, составившие благосостояние порта, регулярно прибывают и отбывают как на венецианских, так и на иностранных судах. К примеру, только с марта по сентябрь 1748 г., то есть за относительно короткое время, он отмечает прибытие шестидесяти трех купеческих судов; корабли идут из Трапани, Константинополя, Смирны, Занты, Корфу, Салоник, Афин, Задара, а также из Португалии и Испании — Лиссабона, Кадиса, Валенсии, из Италии — Неаполя, Мессины, Ливорно, и даже из Лондона и Марселя и ряда других городов. Среди прибывших судов есть итальянские, а также шведские, английские и голландские, перевозящие разнообразные, хотя и традиционные грузы: оливковое масло с Корфу и Кефалонии, соль, воск, золу, хлопковую пряжу, выделанные козьи шкуры, высушенную кожу акул и скатов, аптекарские товары (опиум, александрийский лист, ревень для изготовления слабительного, сассапарель), душистые смолы, мягкий камень для получения талька и, как обычно, пряности (прежде всего шафран), корицу, какао, кофе, сладости, красители для тканей (индиго, кошениль, куркума для желтых тканей), продукты для дубления кож (поташ), специальные камни для полировки металла и твердых камней и другие различные товары: зубы акулы, сыры, экзотические породы деревьев, например красное дерево.
Отмеченное «возрождение» относительно и не распространяется на весь век целиком. Товарный баланс XVIII столетия не сможет превзойти товарный баланс XIV–XV вв. Тем не менее Венеция умело использует конъюнктуру, к примеру замедление экспансии английского торгового флота во время войны за Австрийское наследство, что позволяет ей сохранять неплохой уровень торговой активности. В некоторых областях Республика даже проявляет инициативу С 1736 г. она пытается решить проблему берберских пиратов, заменив тихоходные и плохо приспособленные для отражения атак конвойные суда на navi atte, «суда боеспособные». Корабли эти имеют более длинный киль, в состав экипажа входят от сорока до шестидесяти моряков, а на борту находятся двадцать четыре орудия, которые можно быстро подготовить к началу боевых действий. Эти меры на какое-то время устрашают пиратов — до 1755 г. Затем берберы становятся более агрессивными, и морской флот венецианцев снова оказывается «в чрезвычайном затруднении», ибо негоцианты снова перестают вкладывать в него деньги, даже в navi atte.[172] Не желая смириться с создавшимся положением, Венеция начинает военные действия. Ряд побед, одержанных одна за другой Анджело Эмо в 1763–1765 гг., соглашения, заключенные с алжирским, тунисским и марокканским беями, позволяют улучшить ситуацию на море и значительно увеличить транзит кораблей — по крайней мере до 1784 г.[173] К мерам военного характера присоединяются усилия по обновлению торгового флота, изрядно устаревшего за XVII столетие, по улучшению портовых причалов и очистке дна фарватеров в лагуне между береговой линией и бассейном Сан-Марко, чтобы в порт могли заходить даже большие корабли.[174]
Заново сотворить купца
Правительство Республики часто обвиняли в оголтелом и слепом протекционизме, ибо оно заставляло иностранные суда платить не только установленные таможенные сборы, но и дополнительные суммы за «превышение установленного объема водоизмещения судна»; деньги, полученные в результате этих платежей, Республика использовала для удовлетворения нужд своих граждан. В Венецию заказан вход торговым кораблям из независимого порта Рагуза — кроме судов, перевозящих зерно. В портах Далмации запрещено строить корабли с большим водоизмещением.
Венеция пребывает «в кольце запретов», читаем мы в «Записке», составленной в 1753 г. одним из французских наблюдателей. Впрочем, все тогдашние наблюдатели отмечали, что подобная протекционистская политика умаляла значение порта, и ему уже было не под силу конкурировать, например, с Ливорно, превратившимся в свободный порт, а тем более с Триестом, который Австрия также стремилась превратить в свободный порт для судов, везущих грузы из Германии — железо и дерево из Штирии и Каринтии — в Италию. Вдобавок Австрия строит в Триесте сахароочистительные заводы, что довольно сильно беспокоит Венецию. В «Записке» французского наблюдателя от 1753 г. утверждается, что коммерческие осложнения Республики имеют причиной излишнее увеличение пошлин и налогов за право входа в гавань, а также «двусмысленные тарифы», устанавливаемые «заинтересованными» патрициями; именно на них ложится ответственность за то, что Триест «перетянул к себе добрую часть коммерческих грузов, которые прежде шли через Венецию». В создавшейся ситуации начал интенсивно развиваться портовый город Анкона.[175]
На деле венецианская государственная система достаточно гибкая, и причины сопротивления либерализации достаточно сложные. Венеция никогда не ставила преград иностранным товарам и часто изыскивала «экономические обоснования» для их ввоза. В 1661 г., на время войны,[176] венецианский порт был объявлен «свободным портом». В 1670-м «пятеро мудрецов по торговым делам» писали: «Полагаем необходимым и чрезвычайно полезным создать условия для свободного перемещения товаров, дабы затем купцы без труда и препятствий могли ими торговать», подтверждая, таким образом, что опасно не дозволять негоциантам «переправлять товары так, как им того хотелось бы, и теми путями, какие они выбирают, ибо торговля — это дитя свободы, а не принуждения».[177] В 1745–1750 гг. вышел ряд указов, смягчающих протекционистские меры, в частности указ о снижении пошлины, взимаемой с иностранных судов. Начиная с 1736 г. стали снижаться таможенные пошлины на импорт и экспорт льна и иные продукты (горную смолу, сурьму, корицу, кошениль, кофе), а в 1749 г. Венеция предпринимает ряд мер по борьбе со своим конкурентом — Триестом. В том же году снижают пошлины на сахаросодержащие культуры, импортируемые венецианцами из Португалии, дабы облегчить продвижение собственных товаров на португальском рынке.
Отнюдь не все встречают эти меры с энтузиазмом, и зачастую правительству вновь приходится идти на уступки сторонникам протекционистской политики. В 1737 г. таможенный чиновник Джанандреа Бон, желая обрисовать причины «упадка венецианской торговли», высказывает свое несогласие со снижением таможенных пошлин, о которых говорилось выше, и утверждает, что они, напротив, наносят существенный ущерб, ибо снижается налог на транзитные товары, например на шерсть из Албании и Испании, в то время как потребление шерсти возрастает, и мануфактуры на материке оказываются поставленными в условия жесткой конкуренции.[178] Многие не согласны с политикой меркантилизма, поощряющей личное обогащение, и считают, что честная коммерция должна развиваться на благо государства.[179] Действительно, результаты предпринятых реформ не стали определяющими. Когда, к примеру, были снижены пошлины на португальский сахар, французы, на которых эти льготы не распространились, тотчас предприняли ответные меры, чтобы защитить свои торговые интересы в этом секторе. «В результате подобной диспропорции может возникнуть угроза полного уничтожения этой отрасли торговли между Францией и Республикой», — говорится в инструкции, полученной господином де Верни, отбывавшим с посольством в Венецию; ему было поручено предпринять соответствующие шаги для восстановления равенства, чтобы «венецианские купцы были вольны выбирать, какой сахар им больше по вкусу: португальский или французский», и даже пригрозить, что «коли венецианцы будут упорствовать, то король, несомненно, повысит пошлины на товары, вывозимые из Франции».[180]
Таким образом, провал мер, предпринятых Венецией в 1740–1745 гг. для оживления торговли, объясняется не только нерешительностью правительства или же незаинтересованностью купцов, но и положением на международной арене, где Венеция, стесненная своим географическим положением и занятой ею позицией нейтралитета, особым влиянием не обладала; поэтому либеральные меры становились практически бесполезными, а иногда и опасными.[181] Зажатая в тиски уверенности в превосходстве собственной системы и одновременно вынужденная констатировать ее кризис, Венеция, поистине, мечется между протекционизмом и либерализмом, не будучи в состоянии изменить систему, приносившую ей баснословные выгоды во времена ее господства на море.
Однако в необходимости развивать торговлю, одновременно перестраивая ее структуру, не сомневался никто. Тем не менее торговля со странами Европы позволяла «новым купцам» получать большие прибыли. Среди прошений о предоставлении дворянского титула за 1698–1699 гг. имеется прошение семейства дель Лино, «очень богатых негоциантов, торгующих аптекарским товаром и содержащих лавку под вывеской „Ангел“ у подножия моста Риальто». Составляя прошение, глава семьи ставил себе в особую заслугу налаживание и поддержание торговых связей с Испанией и Голландией:
Торговля полезным сырьем, из коего получается благороднейшая продукция, была начата нашими предками еще в прошлом веке; традиции, ими заложенные, мы с честью продолжили и продолжаем, поддерживая регулярные торговые связи с Голландией, а также иными странами, где имеется морская торговля. Один из наших племянников имеет нынче свой торговый дом в Испании, откуда торговые суда его добираются до берегов самой Индии, и все это делается к великой выгоде и процветанию Республики.
Среди желающих возвыситься имеется и захиревший благородный род Карминади. Выходцы из Милана, они владели небольшими земельными наделами подле Бергамо, а затем сколотили состояние на торговле с Португалией, поставляя туда стеклянные изделия и искусственный жемчуг. Семейство Редзонико, получившее дворянство в 1678 г., торговало «со всей Италией», в том числе с Генуей. Семейство бывших мясников Курти, получившее дворянство в 1688 г., сделало баснословное состояние на торговле крупным рогатым скотом с Венгрией, где им даже был пожалован баронский титул.
Впрочем, процесс получения купеческими семьями дворянства и последующий уход их из коммерции нельзя назвать безоговорочным, как полагают некоторые. Просматривая налоговые декларации и бухгалтерские книги торговых домов, принадлежавших «богатым негоциантам, не погрязшим в роскоши», можно убедиться в их коммерческой активности и рентабельности основанного ими дела. Так, рассматривая истоки состояния семейства Кверини Стампалиа, убеждаешься в перманентности коммерческой деятельности этой фирмы, которая к концу XVII в. даже повышает свою активность: негоцианты вкладывают деньги в закупку сахара в Лиссабоне, из Франции и Фландрии везут большие партии зерна (риса, пшеницы), в Амстердаме покупают на 5 тысяч дукатов тканей и продают эти ткани в Константинополе.[182] А торговый дом, принадлежавший семье Трон, имел в Венеции склад, где в 1738 г. хранилось слоновьих бивней на 500 дукатов, шерсти на б тысяч дукатов, железных изделий на 1800 дукатов, на 2800 дукатов льна и на такую же сумму шерсти из Апулии.[183]
Являются ли упомянутые нами семейства исключениями? Трудно сказать. Во всяком случае, прежде чем делать какие-либо выводы об упадке венецианской торговли и о вводимых в Республике новшествах, следует все как следует продумать. «Нам не хватает преимуществ, предоставляемых „иностранной“ торговлей, а торговля национальным [продуктом] день ото дня сокращается», пишет граф Перулли, подводя итоги 1755 г. В своей «Записке» он призывает разнообразить товарную номенклатуру и развивать связи с Аликанте, Кадисом, Лиссабоном, Лондоном и Амстердамом, дабы не отстать от конкурентов на европейском рынке. Стремление к открытости породило целый ряд идей, поток которых не прекращался до самого конца века: предлагались различные нововведения в области организации торговли, либерализации и одновременно централизации экономики, и все они имели целью создание современного Купца.
Благодаря прессе новомодные английские и французские экономические теории ни для кого не были секретом. Был знаком с ними и Гольдони. Пытаясь вразумить своих соотечественников, драматург предлагает венецианским купцам образ идеального коммерсанта, созданного по английским и голландским образцам и не являющегося ни дворянином, ни читтадино. «В Лондоне негоцианты пользуются уважением правительства и никогда не допускают, чтобы сильный угнетал слабого», — заявляет миледи Бриндес в комедии «Английский философ»[184] (1754), посвященной английскому консулу Джозефу Смиту — просвещенному меценату, страстному коллекционеру, библиофилу, другу и покровителю Гольдони. Английский моряк Фрипорт в сделанном Гольдони в 1762 г. переложении «Шотландки» Вольтера становится мудрым купцом, исполненным сострадания к несчастным неутомимым труженикам, чуждым разрушительных страстей; он успешно ведет дела на Ямайке и убежден, что будущее за Америкой, «страной, где все создано для того, чтобы делать деньги». Постоянно читая газеты, Фрипорт полагает, что в прессе печатается слишком много новостей военных и слишком мало новостей торговых, хотя торговля, по его мнению, «изливает бальзам на душу публики и является источником всеобщего благосостояния». Совершенно ясно, что в рассуждениях его кроется хвала купцам. Однако самое большое впечатление производят на Гольдони голландцы. В пьесе «Купцы» (1753) голландец Райнемур спасает «венецианского негоцианта» Панкрацио, разорившегося по вине сына, неудачно распорядившегося деньгами, на которые он не имел права. Голландский негоциант Филиберт из «Забавного приключения» (1760) выступает в защиту «добрых голландских купцов», против презрительного отношения к ним со стороны тех, кого называет «финансистами»: люди эти, по его словам, «вышли из грязи и обогатились за счет дешевой популярности у черни», они «признают только одного бога — наживу». Его речь — это протест Гольдони против меркантилизма, явившегося на смену коммерции. Господин Райнемур позволяет одурачить себя собственной дочери, но Гольдони убежден, что этот иностранный негоциант, проживающий вдали от Венеции, а потому не наделенный царящими в ней пороками, обладает необходимыми для негоцианта нравственными устоями, честностью и доверием партнеров, — то есть всем, что, по его мнению, утратили венецианские коммерсанты, как патриции, так и «читтадини»: чтобы стать «полезными людьми, подлинными купцами», им требуется приобретать все эти качества заново.[185]
Следом за Джованни Табакко историк Франко Вентури указал на разнообразие мер для улучшения торговли, предложенных «патроном» Венеции (как его тогда называли) Андреа Троном, сенатором, прокуратором Сан-Марко, консерватором по убеждениям, однако, как и многие консерваторы того времени, вполне готовым к проведению реформ.[186] В 1784 г. в обширном итоговом докладе, сделанном им в Сенате, он со всей страстью обрушился на тех, кто бросил занятие коммерцией. Однако упреки его были достаточно традиционны, равно как и доводы в поддержку торгового дела: он утверждал, что торговля является «одной из главных основ величия, могущества и счастья государства». Желая вернуть господство Венеции над Адриатикой, он вновь призывает венецианских патрициев отбросить смехотворные предрассудки и не слушать тех, кто полагает занятие торговлей оскорбительным и унизительным для благородного патриция и умаляет блеск его рода, в то время как прежде «чем более блистательным был род, тем больше средств вкладывал он в торговлю». И, что еще важнее, он обратился к патрициям с призывом, чтобы те, сообразуясь со своими средствами и наклонностями, принимались строить корабли и «торговать с заграницей, создавая компании и поощряя стремление открыть или же произвести новый продукт…». Будущее, по его мнению, не за теми державами, что прежде делали погоду в Средиземном море, а за иными, «новыми далекими землями, такими, как Россия, Пруссия, Балтия, Причерноморье и… Америка», и с ними надо устанавливать отношения.[187]
Нельзя сказать, что речь эта составлена ретроградом. Ранее, в 1700-е гг., обеспокоенный возрастающим могуществом Триеста и воодушевленный искренним желанием возродить торговлю, Трон поддержал создание торговых компаний по образцу голландских, таких, какие он видел в этой стране, когда бывал там в составе посольств. Ряд инициатив также свидетельствует о том, что речь его не осталась без внимания. В Республике еще существуют изобретательные негоцианты. В 1779 г. в Лиссабоне ремесленник-стеклодув Джорджио Барба высматривает, как американцы подготавливают муку для длительной транспортировки, чтобы она не испортилась в пути, и предлагает перенять этот метод.[188] Промышленный шпионаж существует уже давно, и многие реформаторы охотно пользуются получаемыми сведениями. Принять меры по оживлению экономики, организовать прием чужеземных негоциантов в Венеции подобно тому, как их издавна принимают в торговых центрах Англии, Франции и Голландии, словом, сделать все необходимое для развития торговли потребовал в 1776 г. Габриэле Марчелло, «мудрец по торговым делам».[189] В 1786 г. был опубликован новый венецианский судоходный кодекс, упрощавший надзор за соблюдением всех необходимых условий при строительстве новых судов и за реорганизацией корабельного дела, а также фиксировавший меры, способствовавшие поддержанию бодрости духа у моряков и усиления их ответственности за исполняемое дело. Каждому моряку было позволено брать на борт свой собственный груз, включая два бочонка вина, двести фунтов соленого мяса, четыре головки сыра по пятьдесят фунтов каждая, а также разных товаров на сумму десять дукатов и оливковое масло. Таким образом, моряки также становились заинтересованными в прибыльности предприятия.[190]
В 1783–1797 гг. благодаря дипломатическим контактам были установлены торговые отношения с Соединенными Штатами.[191] Пророчество гольдониевского негоцианта Фрипорта начинало сбываться.
Театры вместо кораблей
«Лучше получать маленькую прибыль, чем не получать ничего и омертвлять имеющиеся у тебя деньги», — заметил в конце XV в. Джероламо Приули, повествуя о венецианских купцах, вернувшихся из заморских плаваний и тотчас вложивших заработанные деньги «в недвижимость». Что же это за «недвижимость», приносящая «маленькую прибыль», но позволяющая аристократу сохранить за собой свой статус предпринимателя? В городе это театры, а за пределами лагуны, на материке, — виллы.
Увеличение числа театров в Венеции в XVII в. и триумф оперы свидетельствуют не столько об эстетических устремлениях или же об усилиях культурной политики правительства, сколько об одной из сторон экономической деятельности аристократических семейств. Общедоступные театры все платные и принадлежат частным лицам. В конце XVIII в. между городскими театрами устанавливается определенное равновесие, и, как подчеркивает архитектор Франческо Милициа, равновесие отрицательное, в коем и следует искать причину их плохого состояния: «Республика так и не удосужилась построить ни одного общедоступного театра. Театры, существующие нынче, были сооружены по случаю, на средства богатых патрицианских семейств; большинство театральных зданий возведено на местах зданий сгоревших или же окончательно развалившихся. Следовательно, они втиснуты между домов и выходят на самые мерзкие и узкие улицы города».[192]
Издавна Венеция была признанной творческой лабораторией театрального искусства. В XVI столетии патриции, организовав любительскую труппу, без колебаний обращались к величайшим инженерам и архитекторам своего времени, как, например, к флорентийцу Вазари или уроженцу Виченцы Палладио, чтобы заказать им сооружение или оформление временного зала, где затем великосветские театралы разыгрывали спектакли или устраивали пышные празднества. Сансовино упоминает о существовании двух таких залов в приходе Сан-Кассиано. Идея постановки театрального дела на профессиональную основу, равно как и использования театра с экономическими целями, зародилась в Венеции. Первая актерская труппа, набранная по контракту, согласно которому каждому из ее членов обеспечивались известная доля от сборов, стабильная занятость и поддержка членов труппы, а взамен требовалось четкое исполнение условий контракта, появляется в Падуе около 1545 г. В этом контракте, несомненно, присутствует коммерческий дух. С него начинается рождение профессионального театра, труппы, во главе которой стоит директор, а каждый из актеров имеет свое постоянное амплуа[193]: Панталоне, доктор (второй старик), влюбленные, двое слуг — Арлекин или Труффальдино, Бригелла или Скапен, капитан, субретка. Унаследовав эту строгую — и одновременно коммерческую — структуру, с заранее оговоренными комическими ситуациями и традиционными приемами актерской игры, Гольдони хочет «очистить ее от пыли» и подарить Венеции живой театр. Театральная реформа идет, так сказать, в ногу с реформой коммерческой.
Патриции, унаследовавшие весь багаж гуманистической культуры, утонченные и подготовленные к театральным экспериментам, быстро сообразили, какие богатства открывает новый театральный жанр — опера, уже стяжавшая лавры при дворах Флоренции и Мантуи, а также в театральных залах Рима; но опера — это не только богатство художественное, это еще и богатство экономическое, и оба они связаны неразрывно. Стремление овладеть обоими богатствами становится двигателем прогресса и побуждает строить новые корабли и театральные залы. В Венеции каждый театр, по сути, имеет два названия: название прихода, где он расположен, и имя семейства, которое его финансирует: Микеле и Трон покровительствуют театру Сан-Кассиано, Джустиньяни — театру Сан-Моизе, семейство Вендрамин (будущие покровители Гольдони) — театру Сан-Лука. Крупными театральными антрепренерами являются представители древнего патрицианского рода Гримани. В XVII столетии Гримани строят не менее трех театров: Сан-Джованни-э-Паоло, Сан-Самуэле (для которого Гольдони работает с 1734 по 1743 г.) и Сан-Джованни Кризостомо. Микеле Гримани, которого Гольдони считал «любезнейшим человеком в мире… патрицием по происхождению и уважаемым за свои таланты»,[194] являлся владельцем театра Сан-Джованни Кризостомо, куда в 1737 г. Гольдони пришел в качестве управляющего. Также по инициативе Гримани основан театр Сан-Бенедетто, разместившийся в доме, купленном Гримани у семьи Венье.
В XVII в. исключение составляют театр Сан-Аполлинаро, построенный по заказу супружеской пары читтадини и сданный внаем некоему либреттисту, и театр Сант-Анджело, организованный по инициативе сценографа Франческо Сантурини незадолго до его отъезда к Венскому двору; однако избранное им строение, «пребывающее в развалинах», сдается двум патрициям, Марчелло и Капелло. Иногда инициаторами создания театра становятся ассоциации патрициев или богатых читтадини: например, в XVII в. ассоциацией был построен театр Новиссимо, а решение о строительстве театра Фениче было принято обществом патрициев, исключенных из управления театром Сан-Бенедетто.
В отличие от князей-меценатов, вкладывавших деньги в театры ради развлечения или же с целью создания собственного политического имиджа, спонсоры, финансирующие театры, стремились прибыльно вложить деньги. Разумеется, у властей новый вид коммерции восторгов не вызывал, ибо его трудно было контролировать. В XVIII в. владелец театра Сан-Лука Франческо Вендрамин, патрон Гольдони, напрямую заключал контракты с актерами и авторами, но его случай является скорее исключением из правил. Обычно собственник театрального зала доверял его управление импресарио, который мог быть выходцем из среды мелкого дворянства, читтадино, или, как это все чаще случалось в XVIII в., артистом — либреттистом, музыкантом или сценографом, — а иногда и вовсе дельцом с темным прошлым. Импресарио занимался подбором либреттистов и музыкантов, набирал певцов, танцоров, хореографов, сценографов, составлял репертуар на сезон, заключал контракты, организовывал репетиции, проводил необходимые работы в здании театра, обновлял декорации, ремонтировал помещения.
Но в Венеции любое публичное зрелище имеет свой денежный эквивалент. Инвестиции не только могут, но и должны стать источником дохода; следовательно, театры — увеселения платные. Изначальные капиталовложения могут быть весьма и весьма значительны. Однако когда речь заходит о затратах, на первый план выступают затраты моральные, ибо получить разрешение на использование земельного участка под застройку можно только в результате долгих и тяжких переговоров. Например, чтобы построить театр Фениче, пришлось долго убеждать власти, которые в 1756 г. решили приостановить в городе строительство театральных зданий. Далее идут затраты финансовые. Постройка театра Сан-Бенедетто потребовала предварительных капиталовложений в размере 26 500 дукатов, 11 тысяч из которых пошли на покупку земельного участка. Стоимость театра Фениче составила 408 377 дукатов, часть из которых была заработана продажей лож. Кроме того, не следует забывать, что театры часто горели; так, ущерб, нанесенный пожаром театру Сан-Бенедетто в 1774 г., был оценен примерно в 81 тысячу дукатов.
Доходы от театров зависели от театральных сезонов, каковых в Венеции было три: первый, довольно короткий, приходился на осень, самый продолжительный совпадал с карнавалом, а последний приходился на празднование Вознесения Богородицы и иногда продолжался целое лето. Продолжительность сезона также зависела от импресарио. Так, например, в 1714–1715 гг. театром Сант-Анджело руководил Антонио Вивальди, чьи успехи на этом поприще были более чем сомнительны. Гольдони встретился с ним в 1735 г.; в ту пору Вивальди из-за рыжего цвета волос называли Красным Священником; драматург считал его «великим скрипачом, прославившимся своими сонатами»,[195] однако подверг критике его протеже, певицу Аннину Жиро, дочь французского парикмахера. Практически все импресарио имели слабость оказывать покровительство молодым певицам, даже таким безголосым, как Жиро; впрочем, сей недостаток был не самым предосудительным. Более серьезным недостатком, по мнению благородного Бенедетто Марчелло, композитора и автора «Модного театра» — злой сатиры на современную оперу, критиковавшей, как говорили, непосредственно Вивальди, было невежество, которое общественное мнение не без основания приписывало многим импресарио, а также их злоупотребление своей властью над артистами и полная беспомощность в качестве управляющих.[196] Ибо даже самые образованные не всегда справлялись с этим непростым занятием, именуемым театральной антрепризой. Гаспаро Гоцци, брат известного драматурга Карло Гоцци, талантливый писатель и переводчик, в 1746–1748 гг. вместе с женой, поэтессой Луизой Бергалли, руководил театром Сант-Анджело и делал это отнюдь не лучшим образом: под его началом театр, не сумевший выработать толковой репертуарной политики, учитывающей вкусы публики, был поставлен на грань банкротства.[197] Результаты деятельности Антонио Медебака, их преемника на посту руководителя труппы, были столь же плачевны. Театр выжил исключительно благодаря безумному пари, заключенному Гольдони: тот пообещал за один только 1750 г. представить на суд публике целых шестнадцать комедий. Выигранное пари стоило автору нервного истощения, зато касса театра изрядно пополнилась.[198] Иногда непосредственный владелец театра управлял своей собственностью с гораздо большей пользой для всей труппы; к таким разумным руководителям принадлежал Франческо Вендрамин. Покинувший в 1753 г. театр Сант-Анджело Гольдони перешел в театр Вендрамина, который во всем его устраивал:
Тут не было директора; актеры делили между собою часть сбора, а владелец театра, получавший только выручку с абонированных лож, назначал им содержание соответственно их заслугам и старшинству. Именно с этим патрицием я и должен был иметь дело; ему я представлял свои пьесы, которые он тут же оплачивал, еще до прочтения их. Гонорар мой почти удвоился; кроме того, я имел полное право печатать свои произведения и не был обязан следовать за труппой во время ее поездок по «твердой земле». Одним словом, положение мое стало несравненно выгоднее и почетнее.[199]
В 1756 г. Гольдони как автор получает 100 дукатов за восемь написанных комедий, к которым добавляется еще 200 дукатов в качестве компенсации за обязательство не писать более ни для какого иного театра.[200] Поэтому он считает Вендрамина любезным и доброжелательным директором. Однако спустя три года полновластие импресарио во всем, что касается набора актеров, авторитарная правка текстов и проволочки с выплатами авторского вознаграждения породили в их отношениях определенное напряжение.[201]
Театры вели между собой настоящую войну. Когда в 1748 г. Гольдони переходит из Сан-Самуэле в Сант-Анджело, в Сан-Самуэле в качестве автора подряжают некоего аббата Кьяри, плодовитого сочинителя стихотворных опусов, предназначенных в основном для женской части общества. Яростное соперничество между Гольдони и Кьяри породило множество интриг и поистине бессчетное количество листовок, так что в спор сей вынуждены были вмешаться государственные инквизиторы, которые, усмотрев в нем подходящий повод, установили театральную цензуру. Война шла на литературном поле; сражались две драматургические концепции (так называемая «слезная» комедия и комедия характеров) и две точки зрения на функцию театра (театр воспитывающий и театр, потакающий нашим чувствам), отчего баталия эта — прежде всего для Гольдони — стала поистине судьбоносной. Впрочем, для тогдашних импресарио качество продукции как для театра в прозе, так и для лирического театра, в сущности, особого значения не имело.[202] Но ярость, с которой противники обрушивались друг на друга, не могла объясняться только эстетическими причинами. На карту было поставлено слишком много политических и экономических интересов.
Жесткая конкуренция, приведшая к сокращению числа театров, заставила выжившие исповедовать принцип жесткой специализации по театральным жанрам — серьезная опера, комические интермедии, опера-буффа или комедия; соответственно у каждого жанра были свои поклонники, число которых определялось посещаемостью театров. Серьезная опера, создавшая славу Республике в XVII в., перестала быть монополией Венеции. Эстафету принял Неаполь: его сиротские дома, ставшие по совместительству консерваториями, готовили для сцены кастратов, чьи ангельские голоса составляли опасную конкуренцию сироткам из Пьета и прочих приютов Венеции. Напротив, после 1740 г. в области музыкальной комической драмы Венеция вводит новшество — так называемые мелодрамы, представленные, в частности, сочинениями Гольдони и Галуппи.
Преда. Портрет Карло Гольдони.

Г. Пробст. Вид на Канал Гранде.

Ф. Гварди. Площадь Святого Марка.

Д. Каналетто. Прием французского посла. (Справа — Дворец дожей)
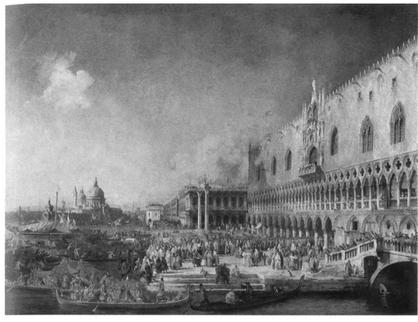
Дворец дожей. Лестница гигантов.

Дворец дожей. Зал Большого совета.

Дворец дожей. Зал Сената.

Н. Назари. Дож Марко Фоскарини

Часовая башня

Д. Каналетто. Перспектива

Ф. Гварди. Канал Джудекка

Ф. Гварди. Городской вид

Б. Белотто. Школа Сан-Марко

Г. Белла. Женская регата.


М. Марьеши. Вид с обелиском.
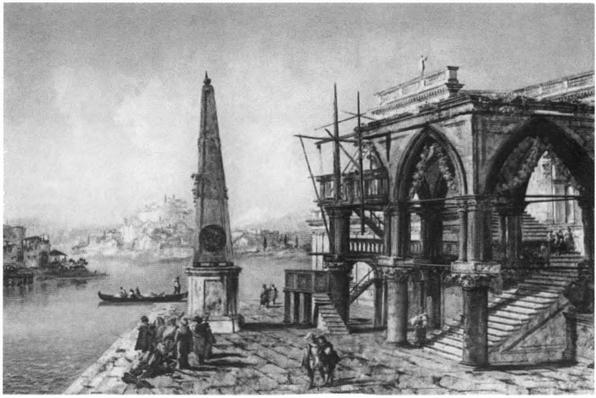
Д. Каналетто. Кампо Сан-Витале.

М. Марьеши. Вид с мостом

Ф. Гварди. Венецианский дворик
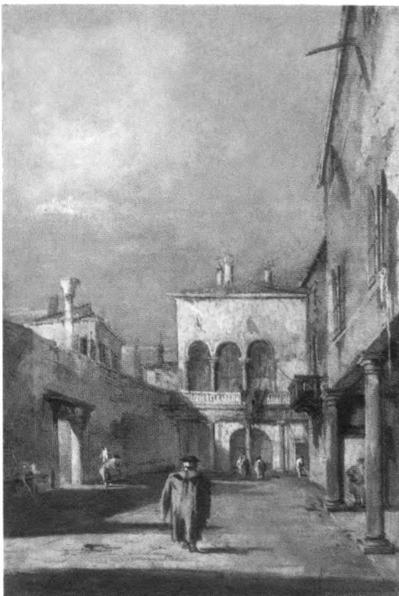
Гревемброк. Народные типы — персонажи комедий Гольдони.

Гревемброк. У ростовщика и у гадалки.

Сцены из комедий Гольдони

Д. Тьеполо. Бродячие акробаты.
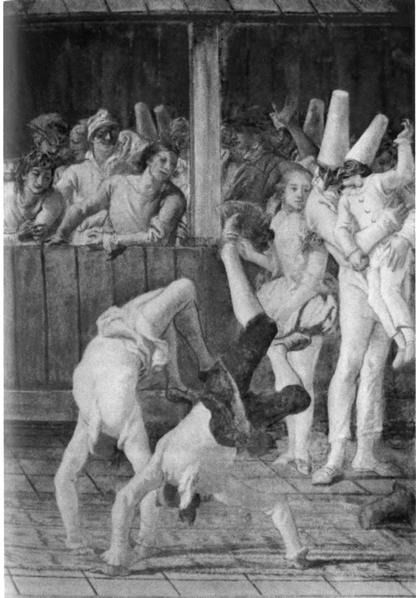
А. Ватто. Любовь во французском театре.

А. Ватто Любовь в итальянском театре.

Театр Сан-Джованни Кризостомо стал патрицианским театром, ставящим в основном серьезную оперу, трагикомедию, сатирическую трагедию и пасторальную драму, в то время как Сан-Моизе делал сборы, давая «мелодраму» (dramma giocoso) и оперу-буффа. Подобно театрам Сан-Лука и Сант-Анджело — двум театрам, где триумфально ставились пьесы Гольдони, — театр Сан-Кассиано также в основном ориентировался на комедию. Сан-Самуэле чередовал серьезную оперу, интермедии и комедии. Публика, посещавшая театры, была самая разная, поэтому стоимость билетов варьировалась от простой цены до удвоенной: четыре лиры (восемьдесят сольдо) в Сан-Джованни Кризостомо, где цены всегда были высоки; две лиры, а в конце столетия две с половиной лиры в Сан-Моизе и три четверти лиры (пятнадцать сольдо) в Сант-Анджело; бенефисы бывали нерегулярно. Число мест в зрительном зале в каждом театре было разное. Сан-Моизе с его восемью сотнями мест считался не слишком доходным, тем более что лирическая драма требовала дорогостоящих декораций, которые приходилось постоянно обновлять.
Кроме того, виртуозы, певцы, чей триумф пришелся на XVIII в., становились все более и более требовательными. В 1730 г. Фаустина Бордони, одна из тогдашних оперных див, получила за сезон, на который приходились праздники по случаю Вознесения Богородицы, 5625 дукатов за выступления в театре Сан-Самуэле. Ее партнер получил 3 тысячи дукатов, тогда как выплаты актеру комедии в конце XVII в. в том же самом театре не превышали 350 дукатов за роли первых любовников, 320 за роль Панталоне и 300 за роль первой красавицы. За другие амплуа тариф идет по убывающей: субретка получала 200 дукатов, второй старик (доктор) — 150 дукатов, оба дзанни (слуги) — от 135 до 195 дукатов.[203] К суммам, выплачиваемым актерам, следовало прибавить накладные расходы, связанные с обеспечением безопасности (жалованье сторожам и охранникам), освещением, наймом скамеечек (для зрителей партера), расходы на приглашение иностранных актеров; например, в 1678 г. в Сан-Самуэле накладные расходы составили 400 дукатов. За короткий весенний сезон 1730 г. во время празднования Вознесения состоялось всего восемнадцать оперных спектаклей, в создании которых участвовали певцы, выступающие как в основной постановке, так и в интермедиях, исполнение которых в антрактах было обязательным, композиторы, исполнители-музыканты, танцовщики и хореографы. Таким образом, бюджет достиг 25 136 дукатов, а так как сборы были невелики, то дефицит составил 2 тысячи дукатов.[204]
Впрочем, если автор обладал гением Гольдони, высокая прибыль обычно была обеспечена. В 1739 г. театр Сан-Лука уже несколько лет влачил жалкое существование. Затем под умелым руководством Вендрамина он буквально возродился: осенний сезон и карнавал 1759/60 г., когда, в частности, были показаны гольдониевские «Влюбленные», «Импресарио из Смирны», «Война и Грубияны», принесли около 15 250 дукатов. Сезон 1761/62 г. после показа последних великих комедий Гольдони «Дачная трилогия», «Кьоджинские перепалки», «Один из последних вечеров карнавала» принес почти 30 тысяч дукатов, в то время как расходы на спектакли снизились.[205]
Однако неумелое, «дефицитное» руководство театрами встречалось гораздо чаще, нежели прибыльное, поэтому в 1784 г. правительство обязало каждого импресарио, и прежде всего импресарио оперных театров, которых становилось все больше, в начале своей постановочной деятельности вносить залог в 3 тысячи дукатов. В следующем году этот же залог увеличился до 4 тысяч дукатов в осенний сезон и сезон карнавала и снизился до 2 тысяч дукатов на Вознесение.[206] Недовольство владельцев заставило законников на короткое время отступить, тем не менее залог как таковой сохранился. Сложности управления театральным хозяйством и постоянный контроль со стороны государства приводят к тому, что на протяжении столетия инвестиции частных лиц в театральное дело неуклонно сокращаются и в конце концов сходят на нет; на первое место выдвигаются инвестиции групповые, как это было при строительстве театра Фениче.
Франческо Вендрамин справедливо оставил за собой право пользоваться доходами с аренды лож. В театрах обычно бывало от четырех (как в Сан-Лука) до шести рядов лож (как в Сан-Кассиано после реконструкции в 1759–1763 гг.), где в среднем размещалось по сто семьдесят отдельных кабинетов. Стоимость аренды ложи изменялась в зависимости от театра и расположения ложи. Например, в 1752 г. во время сезона карнавала французский посланник де Верни заплатил за аренду ложи в театре Сан-Самуэле 50 дукатов (310 лир) и 30 дукатов (186 лир) — в театре Сан-Кассиано.[207] Удачным вложением денег считалась покупка ложи еще до завершения строительства: таким образом покупатель одновременно финансировал сооружение театра. Приведем пример. В 1770 г. семейство Корнер владело несколькими ложами в различных театрах: в Сант-Анджело, Сан-Лука, Сан-Моизе и Сан-Бенедетто; ложи эти располагались в разных местах зрительного зала (в партере, первом, втором и третьем ярусах). Ложа в первом ярусе в Сант-Анджело принесла ему в тот год от 236 до 365 дукатов; ложа в партере в Сан-Моизе — 458 дукатов. Только за сезон карнавала 1770 г. общий доход семейства от владения ложами достиг почти 2 тысяч дукатов,[208] в то время как одна ложа при покупке стоила от 2 тысяч до 3 тысяч дукатов. Спекуляция процветала. Рассказывают, что в 1780 г. благородная патрицианка Чечилия Трон уступила свою ложу за 80 дукатов, за что враги ее сочинили на нее не слишком деликатную эпиграмму: «Браво, Трон! / Тебе за ложи платят / Дороже, чем за „сокровище“ твое». Незамедлительно последовал остроумный ответ; впрочем, иначе и быть не могло, ибо свое «сокровище» она не продавала, а допускала к нему исключительно по согласию.[209] И подобных пикантных эпизодов в «войне лож» было немало. В целом же вопрос торговли ложами был весьма болезненным, и в XVIII в. вокруг него бушевали страсти, шло соревнование кошельков, а инквизиторы метали громы и молнии.
В венецианских архивах хранится множество бухгалтерских и юридических документов вполне серьезного содержания, подтверждающих большую экономическую и политическую роль театральной антрепризы.
Вилла: удовольствия…
Если верить Монтескье, то «нет ничего красивее, чем дорога от Падуи до Вероны. Одно и то же поле дает вам и зерно, и вино, и шелк, и дрова, не говоря уж о фруктах с деревьев».[210] Он мог бы прибавить, что Падуанская равнина — это край виноградников и оливковых рощ, плодородная почва, на которой прекрасно произрастают пшеница и фруктовые деревья, рис, конопля, шелковица, имеются превосходные пастбища для скота, не говоря уже о многочисленных горячих источниках, как, например, источник Абано (Абано-Терме), где принимали ванны желающие успокоить нервы.[211] Плодородные илистые почвы Полезине простерлись вокруг городка Ровиго, а берега озера Гарда, что к югу от Ровиго, прославились своим особым микроклиматом, делавшим их «особенно очаровательными».[212] Он также мог бы сказать, что материк является «экономическими легкими» порта Венеция, однако Венеция плохо вознаграждает свои «легкие» и совершенно их не ценит. Материк поставляет сырье и изделия, питающие торговлю. Там энергично развиваются мануфактуры: в Брешии изготовляют оружие, в Бергамо, Вероне и Брешии производят текстиль, шелк и шерсть. На материке отмечается значительный прирост населения. Там проживает 75 % всего населения Венецианской республики (Владычицы подвластных ей территорий), иначе говоря, 2 210 тысяч жителей (в то время как общая численность населения равна 2 860 тысяч). Процент плотности населения на материке весьма высок.[213] Во всех городах материка, кроме Падуи и Кремы, после 1764 г. наблюдается быстрый рост населения, в то время как Венеция теряет четыре тысячи жителей. Понятно, почему венецианцы, отложив в сторону сухие бухгалтерские отчеты и позабыв о своих делах, в массовом порядке отправляются обустраиваться на этих плодородных землях с целью извлечь из них свою «маленькую прибыль».
Но не тяга к земле толкает венецианцев массово переселяться на материк. Поначалу это переселение, начавшееся в конце XV в., находит объяснение вполне в духе гуманистов: чтобы достичь счастья, человек должен соблюдать равновесие между физической и умственной деятельностью. Деревенская жизнь позволяет ощутить себя творцом и одновременно возвысить свой ум, то есть обрести мудрость. На свежем воздухе среди садов тело здоровеет, и если даже человек, живущий в деревне, продолжает играть, любить застолье и дружеские беседы, развлечения эти не принесут ему вреда. Благородные гуманисты доводят до совершенства «культуру загородных вилл», утонченную, элитарную, нашедшую свое отражение в неоклассических дворцах Палладио, таких, как Ротонда и Мальконтента, построенных вдоль канала Брента. Их владельцы, эти «пионеры переселения», не видят никакого противостояния между Венецией и материком.
Однако в XVIII в. равновесие нарушается. Речь идет уже не о выборе стиля жизни, а о моде. О том свидетельствует нарастание строительства вилл: в XVI в. было построено 252, в XVII в. — 332, а в XVIII в. — 403, из них 150 на территории Вероны и 147 в провинции Виченца.[214] «Местре сейчас, — объясняет персонаж из „Ловкой служанки“, — это маленький Версаль. Там начинается канал Мальгера, он орошает всю местность и течет до самого Тревизо».[215] В XVIII в. конкуренцию берегам Бренты начинает составлять Терральо. По сути, начинается освоение новых территорий, только в районах менее гостеприимных, нежели Падуанская равнина или окрестности Вероны. Так, в Фельтре «значительно холоднее, и там чаще бывают заморозки», объясняет Гольдони, «город лежит в гористой, обрывистой местности. В течение всей зимы он до того заносится снегом, что в узких улицах двери домов совершенно закрыты и жители вынуждены выходить через окна антресолей».[216] Тамошняя земля бедна на природные богатства, зато прекрасная охота и орехи; также там выращивают кукурузу, и она «произрастает прекрасно»; и, разумеется, там нет никакой коммерции, ибо все портовые города далеко. Но там можно «совершать чудесные пешие прогулки».[217]
Некоторые венецианцы-мизантропы, подобно Гаспаро Гоцци, ценят деревню за ее умиротворяющую атмосферу. Свою виллу в Визинале, а точнее, во Фриуле он называет «убежищем». Именно там, в «буколической простоте», он мечтает принимать друзей, ибо деревенская обстановка, по его мнению, способствует поддержанию человеческих отношений:
Когда вы приедете, двенадцать, а может, и пятнадцать соловьев, прячущихся в живой изгороди, встретят вас своей песней… Каплуны, утки и куры составят ваш эскорт, а индюки распустят хвосты, словно павлины… Предводителем их станет молоденькая, прихрамывающая крестьянка добрейшая душа, так любящая своих подопечных, что каждый раз, когда приходит пора свернуть шею одной из куриц, она непременно пустит слезу. Вы будете пить вино цвета рубина, которое быстро протечет по вашему организму, из глотки в мочевой пузырь, а из мочевого пузыря сразу на землю. Хлеб у нас здесь белый, словно первый снег, и от всего этого на сердце царит такая радость, что все время хочется петь, и если ты этого не делаешь, то не потому, что тебе не весело, а потому, что у тебя занят рот.[218]
Подобная любовь к уединению и деревенской жизни не была нормой; старый гольдониевский Панталоне из «Ловкой служанки» считает молодого Флориндо грубым и некультурным только за то, что юноше нравится в одиночестве бродить по лугам, заходить в хлева и делить трапезу со своими крестьянами.[219] Для большинства венецианцев сельская жизнь не является более «невинным развлечением», восстанавливающим силы, она превратилась в «манию, страсть», которая призвана освободить венецианца от принуждений города, но при этом — высшая нелепость! — прихватив с собой «городскую роскошь и суету» и разрушая славное прошлое и коммерцию.[220] Первая комедия Гольдони, написанная на тему «дачного безумия», — это «Момоло на Бренте» (1739), впоследствии переработанная и получившая весьма примечательное название «Расточитель» (1755): автор особенно настаивал на этом названии. Герой комедии, озабоченный только тем, чтобы получше угостить своих друзей, ведет тяжбу, и в случае проигрыша ему грозит потеря ренты и всех своих владений; его собственный управляющий вместе с крестьянами дурачит его, и он спасается только благодаря преданности и проницательности своей невесты. Загородный дом, созданный для «пользы и удобства городских жителей», по мнению Гольдони, превратился в «фетиш, требующий непомерных затрат, порождающий в своем владельце страсть к безудержной роскоши и даже подчиняющий его себе целиком».
Идеальный загородный отдых, ради которого некоторые гольдониевские молодые читтадини готовы освободить излишне строгого дядюшку от его накоплений, выглядит следующим образом:
Мы выехали за город, числом двенадцать человек. Мужчины и женщины, господа и слуги, экипажи и лошади… Прибыв на место, мы нашли превосходную трапезу; после трапезы мы поиграли в фараон. Тут сон начал одолевать некоторых из нас. Мы с братом были увлечены игрой и продолжали играть, в то время как остальные отправились на поиски кроватей и как только таковую отыскивали, тут же на нее падали и мгновенно засыпали; я вынужден был спать на одной кровати с моей горничной, а брат мой — на канапе. На следующее утро одни встали поздно, другие рано. Прогулки, утренний туалет, завтрак: каждый делал, что хотел. К полудню все собрались выпить шоколаду, а потам стали играть и играли до тех пор, пока на стол не подали суп. После трапезы одни отправились гулять, другие продолжили игру, третьи… И так все дни… Поздний отход ко сну, превосходная еда, азартная игра, несколько любовных интрижек во время танцев, несколько прогулок, немного сплетен… это был самый замечательный отдых в мире.[221]
На головы отдыхающих столь «диким» образом сыплются проклятия, ибо они не только «расточительны», но и абсолютно свободны, в том числе и от соблюдения правил городской жизни. Например, мерилом времени для венецианца являются его торговля, его дела. Он не может просто так, совершенно случайно, заснуть на свободной кровати рядом с собственной служанкой или же заняться тем, что подсказывает ему сиюминутное настроение. Свобода, к которой стремятся любители загородного отдыха, несовместима с порядком. Если первоначально торговец уезжал из города, чтобы обратиться в земледельца, то теперь о подобном превращении нет и речи. «Наши предки ездили туда собирать доходы; сейчас же туда ездят растрачивать их», — напоминает Гольдони[222] и тут же подчеркивает, что горожане — владельцы земельных участков относятся к крестьянам надменно и с презрением. В «Феодале», к примеру, маркиза Беатриче открыто насмехается над своими гостьями — женами фермеров и земледельцев, потому что те не имеют понятия о новомодных напитках — кофе и шоколаде.[223] А две крестьянки из «Дачной жизни» (1756), развращенные мелкими подарками, которые делают им праздные аристократы, гости хозяина, только и мечтают, как бы попасть в город и затеряться на его улицах. Надо отметить, что крестьяне вообще чрезвычайно редко появляются в гольдониевских комедиях о жизни на виллах.
Пользуясь своим положением драматурга, Гольдони высказывает публике свое отношение к «дачной» моде, умело соединив осуждение — позицию, можно сказать, официальную, и позицию человека, пожившего в деревне и оценившего прелести тамошней жизни.[224] В самом деле, в деревне Гольдони-человек мог удовлетворить свое пристрастие к игре, к спектаклям, хорошей еде и к conversazione, обмену мыслями между умными людьми. Он любил загородную жизнь и с удовольствием проводил время, например, на вилле своего деда в Тревизанской марке, где нередко «давали комедию и оперу». На вилле графа Лантьери, расположенной в немецкой части Фриуля, в Виппахе, он искал утешения после очередной любовной драмы, отважно атакуя поистине раблезианские пирамиды, где в основании были уложены кусочки баранины, косули или телячьей грудинки, поверх которых «громоздились зайцы и фазаны, покрытые куропатками, бекасами и бекассинами или дроздами, и вся эта пирамида завершалась жаворонками и винноягодниками».[225] Столь же гостеприимная обстановка царит в 1755 г. в Баньоло, на вилле его друга графа Видмана: там Гольдони со страстью предается игре, о чем и рассказывает в одном из своих стихотворений, называя себя «самым порочным» из всех собравшихся. Тем не менее он рад, что наконец может удовлетворить свою страсть, вдобавок с благословения патрициев, чей почти идеальный образ он рисует в том же стихотворении: «Там царит взаимная любовь и безупречная гармония. Исполненные доброты патриции предоставляют всем гостям полную свободу. И все живут как братья».[226]
Попадая за город, многие действительно давали выход своим страстям. Из переписки молодого аристократа Марка Антонио Микьеля с матерью следует, что тот задержится на даче дольше обычных двух «сезонов» (середина июня — середина июля и середина сентября — середина ноября).[227] В письмах Микьеля есть упоминания о пышных спектаклях, трапезах и охотах, которые он организует с не меньшим энтузиазмом и беззаботностью, чем гольдониевский Расточитель. Однако письма эти также свидетельствуют о лицемерном характере лихорадочной активности их автора и о том вреде его психике и чувствам, который она наносит. Например, в октябре 1779 г. Микьель более чем меланхолично рассуждает о гнетущем его глубоком одиночестве:
Мы прекрасно исполняем нашу роль. Но все притворяются, а как может нравиться жизнь, где все — сплошное притворство. Бездна отчаяния отверзается передомной. Один, без друзей, без родных, ненавидимый теми, кто должен был бы меня любить, преданный теми, кто должен был бы благодарить меня…
Спустя пять лет он, пытаясь скрыть отвращение, наблюдает за тем, сколь раскованно ведет себя в деревне его супруга, Джустина Ренье; впрочем, он вскоре расстанется с ней.
У меня все хорошо, я с удовольствием слушаю, как Доменико поет французскую песенку, прославляющую дизентерию. Супруга моя развлекается, изображая ярмарочного торговца: когда наступает ее очередь сдавать карты, она рассыпает их по столу и, освободив живот от корсета, дабы дать свободу дыханию, хорошо поставленным голосом выкрикивает, обращаясь к своим партнерам: «А ну, подходи, налетай!»
На гравюрах, изображающих «наслаждения реки Бренты» или Терральо, представлены великолепные палладианские фасады вилл, украшенные неоклассическими портиками, и внешние лестницы, соединяющие различные уровни эспланад, окруженных французскими садами и павильонами, в число которых мог входить и конный завод. Это настоящие дворцы в миниатюре, с парадными гостиными, над украшением которых трудились лучшие художники (например, в создании интерьеров виллы Вальмарана принимали участие отец и сын Тьеполо), в них есть просторные столовые, кухни, многочисленные гостевые спальни, а иногда даже дамские будуары, где гостьи могли привести себя в порядок. Сохранилась, к примеру, опись мебели виллы Фарсетти; изучив ее, можно убедиться, что на вилле могло разместиться не менее сорока четырех приглашенных, в распоряжении которых было пятнадцать игорных столов со всеми надлежащими удобствами, туалетные комнаты и обогревательные приборы на случай пасмурных осенних дней.[228] Существовали также виллы простые, незатейливые — казини; они были скромных размеров, без дополнительных пристроек, а то и вовсе без прилегающего земельного участка. Обычно такие виллы принадлежали амбициозным читтадини, стремившимся во что бы то ни стало не отстать от знати, или же «прекрасным господам», по уши залезшим в долги. Эти господа, предварительно отпустив всех слуг, удалялись в деревню «дня на два или три», чтобы поститься и каяться, а «потом вновь возвращались в Венецию и продолжали вести привольную жизнь».[229] К таким «прекрасным господам» принадлежали и братья Гоцци.
и заботы
Традиция вкладывать средства в земельную собственность уходит далеко в прошлое. В конце XV в., в период политических и экономических конфликтов с Левантом число приобретаемых земельных участков резко возросло. В XVII в. политические обстоятельства, в частности необходимость финансировать военные действия против Леванта и, как следствие, вынужденная продажа имущества, принадлежавшего коммунам, способствуют развитию этого процесса, равно как и массовая распродажа церковных владений в 1770–1793 гг. В семьях негоциантов определенный процент от прибыли всегда отводится на приобретение земельной собственности за пределами города, даже если немедленной отдачи от этой земли не будет. Некоторые старинные фамилии еще в эпоху Средневековья обзавелись загородными владениями: Корнаро имеют земли в Тревизанской марке и на Падуанской равнине; Кверини с 1255 г. являются феодальными землевладельцами. Исследования истории родовых поместий аристократов показали, что нет оснований говорить о внезапном, «модном» стремлении нобилей вырваться на природу: речь идет об инвестиционной политике, где приоритетными вложениями считаются вложения в земельную собственность, причем приобретения осуществляются не всегда на легальной основе (в ход идут шантаж, угрозы, устрашение мелких землевладельцев и крестьян и даже убийства). Наряду с загородными участками приобретаются городские наследственные владения (дома, лавки и складские помещения, сдаваемые купцам, театры) и вкладываются средства в движимое имущество (финансирование коммерческих грузов, займы купцам или даже попавшим в стесненное положение патрициям, помощь благотворительным заведениям, финансовая помощь в уплате общественного долга).
Среди недвижимости, принадлежавшей в 1740 г. семейству Кверини Стампалиа, имеются лавки и склады по крайней мере в восьми приходах Венеции, а также в Падуе, Колонье и Пальманове,[230] и шестьдесят сельских поместий, в частности вокруг Венеции, Тревизо, Падуи и в Полезине, общей площадью около пятисот десяти гектаров. В 1770 г. они приобретают еще один дом в Падуе и десять казини возле Тревизо. Отметим, что речь идет о вполне среднем родовом состоянии, ибо, если посмотреть, какой недвижимостью владели, например, Контарини из Пьяццолы или Лоредан из Санто Стефано, обнаружится, что в их распоряжении находились сто пятьдесят домов и лавок в Венеции и примерно двести тысяч гектаров земли. Принадлежавшие им поместья были во всех провинциях, подвластных Республике. Последний дож, Лодовико Манин, построил у себя в поместье в Стра настоящий миниатюрный Сан-Суси; всего этому дожу принадлежало почти шесть тысяч гектаров земли. Доходами с таких владений, разумеется, не пренебрегали. До конца жизни Катерина Корнер пользовалась доходами от недвижимости: одна только годовая арендная плата за поместья на материке (в Броло, Пьяченце и Пьомбино) вместе с платой, собираемой с доходных домов в Венеции, Мурано и Маццорбо, доходила до 30 тысяч дукатов.[231] Недвижимость приносит более верный доход, нежели театр, поэтому спрос на нее постоянно растет: в конце XVIII в. Кверини довели площадь принадлежавших им на материке земель до двух тысяч шестисот гектаров, а количество домов и лавок — до ста семидесяти двух.
Число венецианских патрициев, владевших недвижимостью в деревне, значительно превосходило число местных аристократов-землевладельцев. В 1770 г. 30 % земель были приобретены в собственность венецианскими патрициями и только 16 % — патрициями с материка; оставшиеся земли были распределены между представителями различных сословий, образовавшими эмбрион сельской буржуазии.[232] Большинство венецианской знати держит управляющих и сдает свои земли в аренду — в отличие от местных владельцев, что, по сути, свидетельствует о незаинтересованности «городских» собственников в земле. Нередко случается, что управляющий — castaldo — оказывается не слишком честным. Управляющий Траппола из комедии Гольдони «Расточитель», которому хозяин его, Момоло, препоручает все полномочия, использует полученные им деньги, чтобы соблазнить служанку и наполнить собственные амбары хозяйским урожаем.[233] К счастью, так бывало не всегда. С 1780 по 1789 г. Даниеле Дольфин, посол Республики в Париже, а затем в Вене, каждую неделю получал подробный отчет о состоянии своих земель и о выращенном и проданном урожае от своего лакея Джованни Балларини.
Взяв на себя обязанности управляющего, Балларини постоянно был в курсе всех дел и лично следил за работой строительных подрядчиков, фермеров и арендаторов:
Последние три дня я курсировал между Минканой и Падуей, занимаясь вещами, требующими, по крайней мере, двухмесячной работы. Дела не слишком важные, однако их очень много, и они бесконечны… Я заказал двадцать восемь тысяч каштанов… Помимо обнаруженных мною неухоженных земель, начинающихся сразу же за садом и огородам, я также увидел заброшенные и заросшие травой виноградники, где множество лоз погибло от отсутствия ухода, а также вследствие того, что изначально были неправильно посажены на заболоченных участках; и это не говоря уже о прочих нарушениях. И я приступаю к выполнению указаний Вашего превосходительства. В понедельник я поеду в Кавардзере, [затем] в Венецию, дабы получить весточку от Вашей светлости и написать ответ, потом отправлюсь в Падую и в Минкану, 25-го буду в Тратте и в конце концов вернусь в Минкану, чтобы присмотреть за посадками.[234]
Прикидывая, какой доход можно получить от продажи зерна, Балларини то сожалеет, что оно упало в цене, то, наоборот, поздравляет себя с удачной сделкой; он беспокоится за молодые каштановые деревца, посадку которых благодаря его надзору удалось завершить вовремя, и сообщает, сколько ему удалось сэкономить при починке крыши дома и восстановлении настенных росписей интерьеров.
Таким образом, не все землевладельцы были столь беспечны, как волокита-маркиз Монтефоско из пьесы Гольдони «Феодал». Например, члены семейства Пизани, владеющие шестью сотнями полей возле Баньоло, интенсивно выращивают рис. В промежуток между 1759 и 1784 гг. они получили четыре тысячи тонн белого риса и на специальных баржах перевезли его по каналу Брента на свои склады в Венецию. Продажей этого риса они занимались сами. Каждый год им присылали образцы рисовых метелок, чтобы они могли ознакомиться с качеством выращиваемой ими культуры. Пизани проявляли живой интерес ко всяческим новшествам в области выращивания риса (были приобретены специальный гребень для сбора риса и голландские машины для осушения полей) и стремились совершенствовать его производство.[235] И этот пример — не единственный. Землевладельцы начинают применять машины для посева и обмолота зерна, на многих полях устанавливают системы орошения, пробуют выращивать картофель, сеют новые культуры; экспериментируют главным образом на маленьких полях, сдавая их в аренду крестьянам с условием хорошенько ухаживать за опытными посадками; практикуется чередование посадок на одном поле. Владельцы перестраивают хлева, чтобы улучшить содержание крупного рогатого скота, потребность в котором особенно велика.
На вилле Ангвиллара, принадлежащей семейству Тронов, хозяйство ведется превосходно.[236] Глава семьи, Никколо Трон, как только ему удается выкроить время после работы в Совете, встречается со своими управляющими и подробно расспрашивает их о ходе ирригации и мерах по улучшению плодородия засушливых участков: он хочет превратить их в поля для выращивания риса. Его сыновья, Андреа и Винченцо, наследуют его интерес к сельскохозяйственным работам. В противоположность Момоло они постоянно контролируют деятельность своих управляющих, принимают решения относительно приобретений, работ, введения новшеств, распределения доходов, взаимоотношений с крестьянами. В частности, в 1793 г. Винченцо отправляет одному из своих управляющих в Тревизо патерналистское по форме и четкое по содержанию распоряжение предоставить крестьянам возможность получать свою долю прибылей, чтобы таким образом побуждать их трудиться лучше:
Так как крестьяне из лености, по бедности или из ложных предрассудков не склонны к введению новшеств в свой труд, приказываю: приобретите на рынке или в ином месте двенадцать коров горной породы и сделайте так, чтобы паслись они отдельно… Мне хотелось бы, чтобы из молока этих коров сделали масло, продали его и половину выручки отдали бы тому; кому коровы сии были отданы в аренду, дабы тот убедился в выгоде нововведений.
После 1764 г. в «Итальянском журнале», издаваемом Франческо Гризелини, стали печатать множество материалов из европейской прессы, посвященных сельскому хозяйству, что, несомненно, способствовало подогреванию интереса к сей области деятельности.[237] За десять лет было опубликовано более тысячи статей, посвященных злакам, рогатому скоту, фуражному зерну, шелковичным червям, откорму скота, разведению пчел, насекомым-вредителям, свободе торговли зерном, экспорту сельскохозяйственной продукции.[238]
Наряду с возникновением явного интереса к сельскому хозяйству можно также отметить строительство «идеальных» вилл, подобных вилле Пьяццола на Брейте, «оснащенной и снабженной всем, что необходимо для коммерции и жизни гражданина», или же вилле Прато делла Балле, сооруженной в 1767 г. по планам прокуратора Андреа Меммо на месте осушенных болот. В этом поместье, вызвавшем восторги Гёте, жилые и хозяйственные постройки, а также павильоны для коммерческой деятельности были расположены вокруг просторной эспланады, пересеченной двумя перпендикулярными аллеями и служившей торговой площадью.[239]
Глава III
ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
В субботу утром я проводил иностранцев в Совет. Какое восхитительное зрелище! Более восьмисот дворян, собравшихся в одном зале! Нигде более не увидят они такого собрания.
Правительство, единственное в мире
«Неприкосновенное, непорочное, вечное и бесподобное». Такими словами Франческо Сансовино, описав красоты города Венеции, начинает рассказ о венецианском правительстве. В XVIII в. все четыре определения с восторгом повторяют к месту и не к месту. Гольдони восторгается собранием патрициев, представшим взорам нескольких заезжих немцев во время праздника Вознесения 1760 г., когда Совет собрался на свое открытое заседание. И хотя в хвалах его не звучит мысль о вечности правительства, тем не менее уверенность в том, что это собрание не имеет себе равных, что оно единственное и бесподобное, как, впрочем, и город, прославленный его трудами, присутствует в каждой строчке. Говоря языком сложившегося в XVI в. политического мифа,[241] правительство и город находятся в отношениях официальных, но тем не менее прилежно копируют друг друга. Переводчик «Истории правительства Венеции» Амло де ла Уссе, граф делла Торре, будучи посланником, в 1712 г. писал:
Если Республика — это тело, то Синьория[242] является его головой; дож — уста этой головы и ее язык, ибо ему приходится отвечать на вопросы посланников. Советники — это ее глаза и уши, ибо они просматривают письма, адресованные в Сенат, а также все записки и просьбы, представленные в Коллегию. Именно они выслушивают чиновников, прибывающих из других городов, а также иных лиц, выступающих на поприще деятельности общественной. Шеей вышеуказанной головы является Коллегия, она соединяет голову с ее политическим телом, и через нее проходят все дела, поступающие в Сенат. Этот последний может рассматриваться как желудок и чрево, ибо он содержит все благородные органы государства и органы эти питает. Особые чиновники подобны нервам и костям, кои всё поддерживают, а Совет десяти осуществляет связи между всеми частями тела, препятствуя их отделению друг от друга и следя за тем, чтобы резкие движения не сдвинули их со своих естественных мест.[243]
Прекрасно уравновешенная пирамида — своеобразный залог стабильности, счастья и вечности. Впрочем, разве на удивление долгая жизнь правительства в Республике, свободной и никогда не сотрясаемой внутренними катаклизмами, не является гарантией вечности сей Республики?
Ибо можно говорить все, что угодно, но факт остается фактом: Венеция обладает тем преимуществом, что существует гораздо дольше самых знаменитых республик античности. Спарта просуществовала семьсот лет, Афины, Фивы и Родос неоднократно утрачивали свою независимость, Коринф продержался и вовсе недолго. А самая знаменитая Римская республика прожила всего пять столетий.
На чем основано долголетие Венеции? Если бы речь шла только о правительстве, «не имеющем равных», объяснение превратилось бы в сплошную развернутую метафору. Ногаре, посланник Франции в Венеции в 1760 г., в официальной «Записке», адресованной Сенату, настроен на поэтический лад: секрет «бесподобного» правительства Республики в том, что «пружины» ее государственной машины «ведомы только тем, кому само божество назначило править миром».[244] Более рациональный Лаэ Вантеле пытается вычислить «максимы», которыми руководствуются лица, стоящие у власти.[245] Для других, привычных к терминологии мифа, Республика была единственной и неповторимой, потому что «являла собой самый совершенный образец»[246] исключительного, парадоксального сочетания трех возможных типов правления: монархического, аристократического и демократического.
Тень государя
Монархия — это дож, в его лице сосредоточены все прерогативы королевской власти. «Он сидит на троне, убранном воистину по-королевски, и все граждане и сенаторы должны разговаривать с ним стоя и снимать шляпу, как перед государем», — отмечает в XVI в. француз Бельфоре.[247] В официальных документах он именуется Государем, а Светлейшая Республика отождествляется с городом, которым он правит. На его имя направляются дипломатические послания, от его имени издаются законы, в ночь выборов чеканят монеты с его профилем. Его парадное платье «воистину отличается королевской роскошью»[248]: длинный плащ из затканной золотом материи, поверх которого наброшена горностаевая мантия с большими пуговицами по горловине; снизу надето платье из тонкой ткани; на ногах черные туфли, украшенные золотом и пурпуром; красные штаны облегают ноги. В руках у него bacheta, символ власти дожа, напоминающий королевский скипетр. Форма его короны весьма своеобразна, в ней просматриваются византийские мотивы, что, возможно, должно напоминать о политических связях Венеции с Восточной Римской Империей. Вот как описывает эту корону Монтескье: «Это высокий колпак, украшенный крупными жемчужинами и столь же крупными драгоценными камнями». Колпак блестит, ибо изготовлен из златотканой материи, на производстве которой специализировалась Венеция; золото лежит на нем в два слоя: это настоящее сокровище (zogia, как говорят венецианцы). Среди драгоценностей, украшающих золотой головной убор дожа, выделяются семьдесят редчайших сверкающих гемм (рубин, изумруд, алмаз и двадцать четыре жемчужины в форме капель).
Ритуалы и церемонии, проводимые во дворце, чрезвычайно многочисленны — церемониальный устав дворца содержит описания почти тридцати девяти церемоний, устраиваемых ежегодно по случаю побед и празднеств святых, а также трехсот тридцати семи торжественных литургических обрядов. Во время этих мероприятий дож всегда появляется во всем своем великолепии. Например, во время церемонии вступления в должность он предстает перед народом в сооруженной на помосте часовне, а затем вместе с главным комендантом Арсенала садится в паланкин, который специально отряженные для этого люди проносят вокруг площади, в то время как дож с высоты разбрасывает в толпу новые, только что отчеканенные монеты со своим профилем. Похороны дожа также являются церемонией, обставленной с поистине «королевской пышностью».[249] Тело дожа выставляется для обозрения в зале Piovego, возле него постоянно дежурят три инквизитора, а также сенаторы и каноники из собора Святого Марка. После того как тело в последний раз покажут толпе, его переносят в церковь Сан-Джованни-э-Паоло, где обычно хоронят дожей. По дороге тело проносят под аркадами Часовой башни, а затем по Мерчерии — путь этот символизирует прощание дожа с городом.
Каждый год в день Вознесения на воду спускается парадная галера «Буцентавр», где на палубе под красным балдахином устанавливают трон, который может соперничать с королевским. Сидя на этом троне, окруженный сенаторами, посланниками и дамами-патрицианками, дож совершает плавание по лагуне. Возле Сан-Никколо дель Лидо дож бросает в волны кольцо, благословленное патриархом, и, обращаясь к морю, произносит: «Мы обручаемся с тобой в знак истинной и вечной власти», — напоминая, таким образом, о священных и славных узах, скрепляющих Венецию с источником ее величия. Во время andate pubbliche («хождения в народ»), а также посещения монастырей и соборов, — мероприятий, обычно приуроченных к празднованию великих событий в истории Республики, дож появлялся, в зависимости от обстоятельств, в золотом или пурпурном облачении, под зонтиком из расшитого золотом бархата. Например, 25 декабря, на Рождество, дож появлялся в церкви монахинь-августинок в золотом плаще, в окружении сенаторов в парадной одежде из узорчатых тканей, отделанной мехом.[250] А в скоромный четверг, отправляясь в собор Святого Марка на торжественную службу в честь победы над Падуей, одержанной в 1162 г., дож облачался в бордовый шелк, а все окружавшие его сенаторы были в одеждах пунцового цвета.
По традиции дожа повсюду сопровождал кортеж — процессия, число участников которой определялось в зависимости от каждого конкретного случая. Если речь шла о похоронах, то дожа сопровождали патриции в красных одеждах, капитул собора Святого Марка, музыканты из Королевской капеллы, представители Скуоли гранди, светское и черное духовенство, пансионеры четырех больших Приютов (Ospedali), представители корпораций из Арсенала, трое «адвокатов коммуны» (Avogadori di comun), государственные прокураторы, нотариусы и секретари Канцелярии дожа во главе со своим начальником, ведавшим делопроизводством. В иных случаях, например во время праздника святого Стефана, когда дож на больших, ярко освещенных гондолах отправлялся в собор Сан-Джорджо, свита была не столь многочисленной: советники, «мудрецы», главы Кваранций,[251] судьи гражданские и уголовные и сорок один электор.
Присутствие электоров (избирателей дожа) весьма примечательно с точки зрения субординации государя по отношению к тем, кто вознес его на вершину власти. Ибо, являя собой образец хранителя государевых добродетелей, дож тем не менее был всего лишь образцовым Отцом, но отнюдь не Господином.[252] Даже облаченный в поистине царские одежды, он был всего лишь, по заключению Бельфоре, «государем без власти, государевой тенью».
Дож избирался пожизненно; подобного «навечного» избрания в системе венецианских институтов управления удостаивались только прокураторы Сан-Марко и Великий канцлер, руководивший чиновниками. Дожами обычно становились лица не моложе шестидесяти лет и только по воле избирателей. С самого основания Венеция жила в постоянном страхе перед узурпацией власти какой-либо одной личностью и установлением династического режима. «Мы делаем тебя дожем», — гласила формула избрания государя, и в ней шла речь не о «мы» — величествах, а о «мы» — коллективе, о сорока одном электоре, которые с 1249 г. избирали дожа путем чрезвычайно сложной процедуры, соединявшей в себе элементы жеребьевки и выборов. Сначала определяли баллотино — юношу, в обязанность которого входило извлечь из сумки баллоты — маленькие шарики, с помощью которых выбирали первых тридцать электоров, начинавших долгую процедуру избрания дожа. Выбор баллотино доверяли воле божества и случая: процедура избрания происходила в тот же день утром, по выходе из собора Святого Марка, избирателями были самые молодые советники.[253] Дальнейшая чрезвычайно сложная и запутанная процедура избрания дожа изложена в популярной считалочке:
Совет избирает тридцать советников,
Из них дальше выбирать будут девять,
Которые, в свою очередь, выберут сорок;
Затем из них отберут двенадцать тех,
Кто славу стяжал заслуженно;
Те еще двадцать пять назовут, но из них
Останется только девять,
И они, в согласии между собой,
Сорок пять назовут,
Из которых одиннадцать лучших
Выберут сорок и одного,
Тех, кто в зале, плотно закрыв его двери,
Двадцатью пятью голосами — не меньше! —
Выберут светлейшего государя, кто станет править
И издавать уставы, указы и законы.[254]
Процедура эта продолжалась около трех дней. Во время, так сказать, «первого тура», должен был быть избран сорок один электор. На следующем этапе происходили собственно выборы дожа: им становился кандидат, получивший первые двадцать пять голосов; процедура эта могла быть более или менее продолжительной в зависимости от личности претендентов и политических интриг. О смерти прежнего дожа объявляли только после начала выборов — в 1741 г. смерть дожа Луиджи Пизани хранили в секрете целых восемь дней,[255] ибо на время выборов образовался вакуум власти.
Политическая функция дожа сводилась прежде всего к запретам и контролю. В соответствии с ритуалом дож, вступая в должность, произносил торжественную клятву; за соблюдением ритуала наблюдали трое «корректоров». В присутствии своих советников новый дож присягал не превышать пределов вверенной ему власти и разоблачать тех, кто в обмен на свои услуги станет подстрекать его превысить свою власть. Затем шли запреты, цель которых была оградить Республику от любых попыток установления династического правления и укрепить независимость Венецианского государства от иностранных держав. Так, стать членами Сената могли только сын и старший брат дожа (в крайнем случае, его племянник), да и то без права голоса. Родственники дожа не имели права занимать управленческие должности (Reggenze) ни в Венеции, ни тем более за границей. Дож и его семья не имели права поддерживать контакты с деятелями церкви, чтобы не вносить смуту в разделение властей, ибо это разделение составляло одну из основ венецианской конституции. Дожам не дозволялось вступать в контакты с посланниками, все письма свои и прошения эти последние должны были передавать в Коллегию, дож даже не имел права распечатывать эту корреспонденцию, равно как и любые официальные письма, без присутствия своих советников. Также он не имел права лично отправлять письма иностранным дипломатам, принимать и выслушивать в своих личных апартаментах легатов, нунциев, посланников или же чиновников по особым поручениям.[256]
Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы дож обогатился или расширил свои вотчины, воспользовавшись своим «служебным положением». Когда кандидат избирался дожем, предполагалось, что он уже обладает солидным состоянием; последнего венецианского дожа Лодовико Манина, уроженца Фриуля, избрали буквально насильно, против его воли,[257] и исключительно по причине его огромного состояния. Цивильный лист дожа был весьма скромен: государь был занесен в список чиновников, состоящих на жалованье у Республики («госслужащих»), и ему еженедельно, каждую среду, выплачивалось по сто цехинов, иначе говоря, дож получал 14 258 дукатов в год. Роскошные празднества, все эти балы, банкеты и фейерверки, которые ему приходилось устраивать по случаю своего вступления в должность, оплачивались из его личных средств, равно как и поддержание в порядке и обустройство дворца и часовни. Дож своим собственным имуществом отвечал за сбалансированность бюджетной сметы на содержание дворца; он мог взять взаймы определенную сумму на покрытие неотложных расходов, связанных с исполнением должности, однако после его смерти наследники обязаны были в недельный срок вернуть долг в общественную казну: в противном случае они лишались права занимать государственные должности. Хотя дворец именовался Дворцом дожей (Палаццо дожей), он, тем не менее, не являлся собственностью его обитателей. Дворец считался общественным зданием, и дож, согласно особому постановлению, был обязан бесплатно селить в специально отведенных для этого помещениях некоторое количество «бедных ремесленников». Эти дополнительные помещения находились на задворках дворца, ближе к Рио делла Каноника. Собственно дворец был прежде всего зданием, предназначенным для работы правительства, поэтому среди одиннадцати комнат, отведенных лично дожу, большинство являлись приемными. Таким образом, частной жизни у дожа практически не было. Дож — собственность Республики, узник собственного дворца — так отзывались о дожах многие их современники. Начиная с 1355 г. дож уже не имеет права покидать остров Риальто более чем на пять дней, и ему приходится довольствоваться садами и радостями Джудекки. Впрочем, общественная жизнь дожа насыщена до предела. Он председательствует в Большом совете, в Сенате, в Кваранциях. Все приемные дни он вместе с шестью советниками из своего Совета обязан сидеть и выслушивать просьбы и прошения. Каждую среду он посещает местные судебные ведомства, коих в XVIII в. насчитывалось от двухсот пятидесяти до трехсот, и проверяет их работу. Он регулярно созывает дворцовых судей, дабы «приободрить их и побудить работать еще лучше», и следит за тем, чтобы ночные караульные сообщали в Кваранцию по уголовным делам обо всех случившихся убийствах и ограблениях.
Дож являлся гарантом честного проведения выборов на все судебные должности и в советы; также в его обязанности входили наблюдение за финансами и формирование финансовой политики. Каждую неделю дож совещался с чиновниками из налоговой службы, службы водоснабжения и службы фортификаций. Он осуществлял надзор за работой «адвокатов коммуны» и обязан был утверждать все отчеты о расходовании общественной казны. Каждое воскресенье он принимал чиновников из магистратур Риальто и Сан-Марко и, в частности, ответственных за снабжение города зерном. Каждый триместр он был обязан посетить Арсенал с инспекционной проверкой. Ознакомившись даже с частью обязанностей дожей, удивляешься, как столь многосторонней деятельностью могли заниматься лица, в большинстве своем достигшие почтенного возраста. Впрочем, дожи часто дремали в Большом совете, ив 1538 г. было решено украсить кресло дожа золочеными перилами, обитыми малиновым бархатом, дабы его светлость мог на них опереться, ежели начнет дремать.[258] Но в сущности деятельность дожей сводилась главным образом к побуждению, убеждению и надзору. По словам делла Торре, они были устами Республики: отвечали посланникам и вносили устные поправки в решения советов, а их ораторский талант мог направить дискуссию в то или иное русло. Однако о принятии собственных решений речи не было. Дож не имел права голоса в собраниях, где он являлся председателем, включая собрание своего собственного Совета, весьма ограниченного по числу членов; так что если сей Совет принимал решение внести изменения в состав правительства, государь вынужден был с ним соглашаться.
Такая вот «аристо-демократия»
«В те времена под словом „государь“ следовало понимать правительство в целом, иначе говоря, Республику». Таковое значение термину «государь» придавали в своем языке венецианцы.[259] Точнее не скажешь. Изначально управление в Венеции осуществлялось Советами, группировавшимися вокруг дожа. В основании правительственной пирамиды находился Большой совет, в обязанности которого входило обсуждение предложенных законов, в частности тех, что определяли экономическую и финансовую политику, а также выборы в суды и различные канцелярии. Большой совет также избирал сенаторов, именуемых Pregadi, и членов Кваранций. Наконец, он избирал Совет десяти — чрезвычайный трибунал, отвечавший за государственную безопасность и ставший с конца XIV в. постоянно действующим органом.[260] В Сенате было сто двадцать членов, однако в расширенных заседаниях Сената имели право принимать участие члены Кваранций, Совета десяти и Синьории. Вместе с Коллегией, готовившей решения Сената и принимавшей послов, Сенат являлся центром всего, или, говоря словами делла Торре, «желудком, куда все прибывает и откуда все исходит». Сенат решал вопросы войны и мира, перемирия и выбора союзников, определял налоги, ценность монет, утверждал на высшие должности во флоте и сухопутных войсках, принимал решения о временных назначениях, определял, помогать или не помогать союзникам, назначал послов, резидентов и секретарей посольств.
Правительство именовалось аристократическим, ибо с конца XII в. сословие патрициев, из числа которых избирался и дож, окончательно захватило власть в городе. Если еще в 1249 г. совет электоров в количестве сорока одного выборщика, избиравших дожа, составлялся на основе результатов выборов, ежегодно проходивших в День святого Михаила (традиционно считался началом административного года; в XVIII в. эта традиция продолжала соблюдаться) во всех шести сестьере без явного деления на сословия, то уже в 1297 г. прямые выборы в совет выборщиков были аннулированы в рамках реформы Пьетро Градениго, называемой обычно Serrata, или «Закрытием Большого совета». Согласно этой реформе членами Совета автоматически становились только наследники тех семей, представители которых входили в его состав в течение предыдущих четырех лет, то есть, по сути, членство в Большом совете становилось наследственным. В эксклюзивных случаях введение нового члена в Совет могла санкционировать коллегия из двенадцати выборщиков, избранных из членов Кваранций. По поводу Serrata было пролито немало чернил. Для одних эта реформа означала окончательную узурпацию «старыми домами», именовавшимися также трибунами, евангелистами или апостолами,[261] права принимать решения и заседать в Совете, отмену демократических выборов в Совет. Для других речь идет о превращении Совета в открытый орган, ибо теперь участие в нем принимают не четыреста, а более тысячи членов. Тем более что выборы первых советов демократическими можно было считать главным образом по названию. Результаты голосования свидетельствовали о регулярном преобладании среди избранников членов семейств-основателей, которые впоследствии составили оппозицию «новым домам», — семействам, принятым в число правящих в результате Serrata.[262] Однозначной оценки реформы Градениго не существует до сих пор.[263] Но как ни называй ее результаты, «открытостью» или «закрытостью», следует признать, что Serrata подвела под властную пирамиду необычайно широкое основание, иначе говоря, многолюдное собрание: в начале XVI в. в составе Большого совета будет насчитываться до двух тысяч семисот сорока шести членов. Также были определены правила исключения из Совета. Реформа заменила выборы пожизненным, а на деле наследным правом на «депутатское место»; принятие в члены Совета на основании рекомендации коллегии из двенадцати выборщиков существовало только на бумаге.
И тем не менее определение «демократическая» применительно к Венецианской республике сохранялось. Его оправдывал тот простой факт, что состав Большого совета постоянно обновлялся за счет вхождения в него представителей всего дворянского сословия, и таким образом, по мнению многих, этот Совет являл собою «маленькую демократию» в рамках системы, обслуживавшей одно-единственное сословие. «Только нобили, зато все нобили вместе» — таков один из девизов правительства. Девиз сей подсказывает делла Торре прекрасный неологизм, а именно «аристо-демократия». Эта элита, пребывающая в заботах об управлении городом, по утверждению Гольдони, в своем роде уникальна. Ибо в Венеции, в отличие от других государств, нобили больше, чем дворяне. Serrata связала в единый узел знатность и власть. По словам делла Торре, участие в работе Большого совета по достижении двадцатипятилетнего возраста молодые дворяне вполне могли считать своим «вторым рождением», так как, войдя в Совет, «они начинали принимать участие в гражданской жизни и становились членами государства, тогда как прежде они были только членами своих семей». И наоборот, нобилем мог считать себя тот, кто принимал участие в управлении государством.
Сначала идея демократии покоилась на принципе равенства. Благородные венецианцы не афишировали свои феодальные титулы. «Они называли друг друга просто Missier, Messere, magniflco missier, прибавляя это обращение перед именем, данным при крещении, или же Ser, Sier, уменьшительное от missier», — замечает Лаэ Вантеле. Даже к дожу обращаются Missier lo Doge. Единственный титул, общий для всех, отличает людей благородных от остального населения: Nobil Uomo («благородный человек») (N. U. или N. H.) и Nobil Donna («благородная дама») (N. D.) — административный титул, зависящий не столько от давности рода, сколько от официальной записи в регистрационную книгу браков и рождений благородных семейств, находящуюся в ведении «адвокатов коммуны». Запись в эту Золотую книгу «адвокатов», с 1506 г. ставшая обязательной, происходила в присутствии четырех свидетелей и должна была быть сделана в течение одного месяца после соответствующего события (через пять лет уже приходилось получать специальное подтверждение Коллегии — Collegio. Эта запись считалась единственным доказательством законности титула и права на участие в управлении. Согласно особой привилегии семейства, членам которых доверялось представлять дожа перед коронованными особами, могли претендовать на статус кавалеров (Cavalier). Существуют также титулы маркиза и графа, однако их носят феодалы, проживающие на материке — например, графский титул носило семейство Гоцци, — или благородные иностранцы, не сумевшие «особой милостью» подтвердить свое дворянство: их титулы фактически указывают на то, что обладатели их не принадлежат к венецианскому дворянству.
Чтобы дворяне поистине чувствовали себя «равными друг другу» и таким образом сдерживали свой воинственный пыл, порождаемый соперничеством, к единообразию титулатуры добавлялось обязательное ношение одинаковой одежды: заседавшие в Большом совете и Сенате носили длинное черное платье, а советники дожа и девять прокураторов собора Святого Марка — красное, «подбитое мехом белки зимой и мехом горностая летом, с черным поясом шириной четыре дюйма, украшенным серебряными бляшками и кольцами»,[264] и шапочку из черной шерсти (beretta), ставшую неотъемлемой частью костюма Панталоне. Согласно Сансовино, длинная туника заседателей, неприспособленная к «задиристому, пылкому и необузданному темпераменту венецианцев, была своего рода „символом мира и согласия“». Только рукава позволяли определить положение «депутата» внутри правительственной иерархии. Спустя век де Бросс иронизирует по этом поводу: «Чем более выдающимся считается патриций, тем шире у него рукава — а рукав, как известно, вещь весьма полезная, ибо в него можно спрятать добрый кусок говядины из мясной лавки и вдобавок салат в кулечке. А так как дож считается самым выдающимся среди патрициев, то на этом основании рукава его столь широки, что в них вполне скроется корзинка, с которой женщины обычно ходят на рынок за провизией; рукава эти сделаны из сукна и расшиты золотом». Наконец, в помещении советов, а также при составлении официальных текстов благородные венецианцы обязаны были использовать венецианское наречие, дабы, как утверждалось, во время дебатов нобили менее образованные не чувствовали себя ущемленными.
Политическое образование молодого патриция отвечало прагматическим задачам поддержания этой видимости равенства. Молодой патриций, принадлежавший прежде всего к своему сословию, смешивался с толпой старшего поколения и таким образом получал необходимые ему знания преимущественно в устной форме. Да и сама конституция Венеции также существовала в основном в устной форме: закон в Венеции имеет силу не больше недели, утверждала пословица. Лаэ Вантеле пытается найти этому объяснение:
Всегда имеется десятка три избранных нобилей, ведущих за собой остальных…. Эти нобили… получившие образование посредством чтения, разбирающиеся в делах и увлеченные исполнением своей должности, нерушимо соблюдают древние заповеди Республики. Из них за год умирает один или два, а те, кто им наследует, из числа получивших такое же образование, продолжают крепить могущество. государства.[265]
Различные предприятия способствовали преемственности в делах и в занятиях политикой. Молодые патриции входили в состав Большого совета в возрасте двадцати пяти лет. Но каждый год 3 декабря, на святую Варвару, молодые люди благородного происхождения, именуемые по такому случаю Barbarini, тянули жребий согласно сложнейшей процедуре, сравнимой по сложности с процедурой выборов дожа, и на основании этой жеребьевки часть из них получала разрешение присутствовать на заседаниях Большого совета до достижения соответствующего возраста. Посланники брали с собой в посольства сыновей, дабы те приобщались к тайнам дипломатии. Таким образом, карьера молодого дворянина была определена заранее: из Большого совета молодой человек переходил в Сенат, затем в число «мудрецов», в какое-либо учреждение на материке, итальянское или заграничное посольство, в Совет десяти и, наконец, на должность прокуратора — своего рода ступеньку к креслу дожа. К примеру, Марко Фоскарини, один из крупнейших политических деятелей XVIII в., уже в раннем возрасте сопровождал отца ко французскому двору, затем сам стал посланником, в должности коего и побывал в Вене, Риме и Турине, затем заседал в Сенате, а в 1761 г. был избран дожем.
Еще одной частью этого образования — практической его стороны — было посещение Брольо (Broglio), очаровательного уголка у подножия Дворца дожей со стороны Пьяцетты; название уголка восходит к бывшему здесь прежде огороду. Каждый день там собирались нобили, чтобы обменяться мнениями и, как пишет де Бросс, «завязать очередные интриги».[266] Каждому патрицию, достигшему двадцатипятилетнего возраста или же избранному по жребию на святую Варвару в Брольо устраивали торжественную встречу, дабы отпраздновать его вступление в «государственную должность» и ввести в курс дел, облачив в официальный костюм: «надеть тунику», «накинуть плащ» означало, по сути, политическое крещение. Убранство Брольо выполняло функции своеобразной школы воспитания добродетелей: высеченные в камне картины изображали проступки бесчестных патрициев. Особому осуждению подвергались патриции, уличенные в дезертирстве — например, покинувшие осажденную крепость; впрочем, еще более осуждались мздоимцы и растратчики общественной казны.
На службе у Республики
Как писал в 1762 г. Пьетро Франчески, секретарь работавшей в то время комиссии по пересмотру конституции, сама атмосфера в Брольо «воспитывала граждан в республиканском духе и поддерживала в них чувство субординации, необходимое для выживания Республики».[267] Умение контролировать свое поведение, политическая компетентность и понимание выгоды государства, умение смирять свои претензии — все эти таланты необходимы будущему дожу, а каждый могущественный и благородный синьор в принципе мог стать дожем — это основная заповедь Республики. Именно поэтому сроки пребывания на официальных должностях были не слишком продолжительны. Состав Кваранций менялся каждые восемь месяцев, главы Кваранций — каждые два месяца. Совет десяти менялся каждый год, его главы — каждый месяц, а «адвокаты коммуны» — каждые шестнадцать месяцев. Занимавшие высшие правительственные должности работали без всякой корысти, то есть «без зарплаты». Ни Великий канцлер, ни прокураторы Сан-Марко, ни шестьдесят членов Zonta в Сенате, советники из Совета десяти, равно как и ведущие судьи местных магистратур, ни комиссары Счетной палаты, ни трое проведиторов в Официях, занимавшихся соляными податями, налогообложением и взиманием долгов, ни «мудрецы» с Риальто вознаграждения за свою работу не получали. Также бесплатно трудились проведиторы в Санита, адвокаты фиска или чиновники из комиссий по вопросам водоснабжения. Никаких денег не получали «корректоры», надзиравшие над процедурой принесения присяги дожем.[268] Напротив, чтобы, к примеру, стать посланником, требовалось вложить собственные — и немалые — деньги на содержание миссии и представительские функции, связанные с исполнением своих обязанностей. Приносить доход могла должность прокуратора — семейство Дона извлекло из нее 9 тысяч дукатов, позволившие им на одну четверть финансировать строительство собственного дома на набережной Фондаменте нуове. Однако прокуратор должен был располагать средствами для торжественного празднования собственного избрания: в 1775 г. Андреа Трон выложил более 120 тысяч лир (около 5 тысяч дукатов), из которых 44 тысячи пошли на прохладительные напитки, 12 тысяч на свечи, 16 тысяч на хлеб и вино, 6 тысяч на бисквиты, 8 тысяч на стекло и фарфор, и это не считая оркестра, фанфар, обновления мебели во Дворце дожей и мелких монет для подаяния бедным. Когда государству для ведения войны нужно было пополнить свою кассу, чаще всего начинали продавать должности прокураторов — по 25 тысяч дукатов.
Таким образом, те, кто хотел управлять государством, должны были жертвовать ради работы собственным временем, имуществом и отчасти даже интересами. Патриции женились главным образом для того, чтобы обеспечить постоянное присутствие представителей своего рода в правительстве.[269] В завещаниях главы семейств подчеркивают, что сыновья должны брать в жены девиц из «хорошего дома», «хорошего рода», «древнего рода, дабы дети их имели право заседать в Большом совете».[270] Общность экономических и политических интересов играла большую роль. Какие, к примеру, факты из биографии должен был отразить Гольдони, слагая стихи в честь бракосочетания отпрысков двух знатных семейств? «Древность, богатство… число дожей и сенаторов в роду, королевские и княжеские дворы, при которых представители семейств побывали в качестве посланников, кем служили предки на суше и на море во времена мира и во время войны».[271]
«Адвокаты коммуны» легко соглашались на женитьбу сыновей патрициев на дочерях читтадини или даже пополанов, особенно когда невеста была богата, а семейству требовалось поправить пришедшие в упадок финансовые дела — ведь дворянство передавалось по мужской линии. Закон от 1506 г. разрешил неравные браки, и они стали множиться, особенно в XVIII в. Если поведение девушки нареканий не вызывало, а семейство ее никогда не занималось физическим трудом, препятствий для брака с нобилем не было. Из чувства классовой солидарности многие нобили охотно брали в жены незаконных дочерей, рожденных от связи с патрициями, обладавшими хорошей родословной. Но молодые люди, пожелавшие жениться «по сердечной склонности», чаще всего вызывали жестокие нарекания со стороны родных. Примечателен громкий судебный процесс 1789 г., героем которого стал юный Ветторе Пизани, единственный потомок двух ветвей рода Пизани и наследник одного из самых крупных состояний в Республике. Встретив в 1759 г. на одном из праздников богатую, красивую и образованную Терезу Ведова, дочь ювелира, он влюбился в нее, тайно на ней женился, и в 1759 г. она родила ему сына; затем под давлением семьи и инквизиторов он расстался с Терезой. Брак был признан недействительным, молодую женщину заточили в монастырь, где ей было предложено или выйти замуж за человека из ее сословия, или стать монахиней. Сын ее, Пьетро, был увезен из Венеции, а Ветторе женился на знатной наследнице, родившей ему дочь. Только упорство молодой Терезы позволило впоследствии ее сыну, единственному наследнику мужского пола, добиться признания и после долгих проволочек унаследовать, наконец, состояние своего отца.[272] Мятежных сыновей могли изгнать из семьи и лишить отцовского достояния. Когда в 1728 г. молодой Франческо Молино женился на некоей Грациозе Луккини из семейства пополанов (брак, признанный «адвокатами»), отец лишил его наследства, ибо, по его словам, в семействе Молино всегда «женились на благородных венецианских дамах, непременно с одобрения семейства», и никто никогда не помышлял об иных супругах, даже о супругах «из дома или семейства, коему дворянство было пожаловано на основании прошения».[273]
Однако новые дворяне выказывали пылкую приверженность ценностям Республики. Риторика прошений, адресованных ими в Сенат и Большой совет, разумеется, была выспренной и условной. Очевидно, что даже соблюдая ритуалы и используя принятые в таких случаях словесные формулы, они вполне разделяют те убеждения, кои следует исповедовать, чтобы получить дворянство: они готовы трудиться на благо общества, предоставить в распоряжение Республики состояние, нажитое честной торговлей, сыграть свою роль в отстаивании интересов Венеции.
Как и дож в своем дворце, так и патриций в Совете и за его пределами должен был подчиняться строгой дисциплине. В конце XVI в. клятва, приносимая членами советов, была примерно такова:
Клянусь на священных книгах Евангелия, что всегда… буду прославлять честь и богатство Венеции… Я не стану пропускать заседания Совета под предлогом, что не успел кого-то встретить и таким образом нанес кому-либо ущерб, или же из-за того, что мне не хочется быть куда-либо избранным, а в этот день как раз проходят выборы. Явившись на заседание, я останусь сидеть на нем до самого конца, покину его только с разрешения Синьории и не стану просить такового разрешения под предлогом болезни… Когда начнется заседание Совета, двери в зале закроют… В зале заседаний я не буду ни рваться вперед, ни отставать, а займу свое место согласно установленному порядку. Я обязан голосовать за самых достойных и лучше всех знающих законы, за самых компетентных из тех, чьи кандидатуры будут названы, и сделаю это ради общего блага и блага Венеции… Сидя на своем месте, я не должен вертеться ни вправо, ни влево, дабы таким образом не приободрять или, наоборот, не обескураживать кого-либо; когда же дело дойдет до голосования, не стану ни о ком злословить… Я не стану бегать по рядам, вербуя себе голоса, или же настраивать одних против других… Я обязан предъявить свою сумку для шариков для голосования разносчику шаров, а если нечаянно поступлю не по правилам, я сам сообщу об этом «адвокату коммуны» и поклянусь, что ошибся, а не совершил проступок умышленно. Я обязан положить в сумку для голосования только один шарик, и положить его так, чтобы никто не видел… В день заседания Большого совета я не должен стоять ни на лестнице, ни у входа в зал, ни во дворе Дворца, ни где-либо в городе и уговаривать голосовать за себя или за кого-либо другого… И я не имею права подделывать бюллетень или же лист для голосования, а также не имею права попросить или уговорить кого-либо попросить словами, действиями или знаками нарушить правила, а если об этом попросят меня, то я должен об этом сообщить. Из всех решений, которые будут предложены, я честно выберу то, какое покажется мне наиболее разумным. Я не стану говорить лишнего, не стану произносить бранных слов и совершать бесчестные поступки, не стану вынашивать дурных замыслов; также во время заседаний не буду вскакивать со своего места, выкрикивать дурные слова или угрожать кому-либо устно или же действиями, несправедливыми и неправомерными. Я не стану оскорблять, обижать ни прислужников «адвокатов», ни наемных чиновников, состоящих на службе у Совета десяти. Я не стану приводить детей своих и племянников на заседания Совета, ежели они членами его не являются. Я не стану тайным способом проносить в Совет оружие ни для себя, ни для кого-либо иного. Если услышу, как кто-то богохульствует, поминая имя Господа нашего или Пресвятой Девы, я сообщу об этом охраняющим порядок.[274]
Каждая строка этой присяги подвергалась редакции со стороны Совета десяти, члены которого вплоть до XVIII в. время от времени пересматривали ее. Нарушителей ожидали суровые наказания и штрафы. Если кто-то без нужды вскакивал со своего места во время заседания Совета и оставил без внимания сделанное ему первое замечание, он должен был уплатить штраф в 10 гроссо;[275] если же тот, кому уже было сделано замечание, и дальше отказывался «сесть и замолчать», на него налагалось второе взыскание — штраф уже в 20 гроссо. За брань, дурные слова, угрозы или непорядочное поведение налагалось взыскание в 500 лир (более 20 дукатов). За отсутствие на Большом совете штраф налагал «адвокат коммуны»; частые отсутствия могли повлечь за собой штраф в 2 тысячи дукатов, исключение из Совета на долгие годы и даже — самое суровое наказание — запрет занимать любые общественные или государственные должности. Если член Совета десяти или инквизитор отсутствовал более недели, его тотчас отправляли в отставку.
Расписание членов Совета было достаточно напряженным. Большой совет собирался каждое воскресенье и в праздничные дни с апреля и до праздника Всех Святых — по утрам, между тремя часами и полуднем, чтобы воспользоваться утренней прохладой, а зимой — после полудня и до сумерек, в зависимости от продолжительности светового дня, чтобы другие советы, в которых также принимали участие патриции, могли проводить свои заседания среди недели. Сенат собирался по субботам. Коллегия, заседавшая каждое утро в полном составе, посылала командоров к сенаторам домой, дабы предупредить их о заседании. Заседания Большого совета заканчивались в строго установленное время — в «час дожа» (семнадцать часов), когда дож завершал свои аудиенции и закрывались суды. Если обсуждение к этому часу не заканчивалось, его переносили на следующее заседание, но в таком случае количество заседаний увеличивалось. В случае правительственного кризиса и пересмотра институтов (что в Венеции именовалось correzione, иначе говоря, реформой) заседать приходилось каждый день, как это случилось, по словам Градениго, между 7 и 12 марта 1761 г., когда Кваранции вступили в конфликт с Советом десяти. В Сенате, напротив, заседали до последнего, могли заседать всю ночь, и только самым пожилым сенаторам разрешалось покидать такие продолжительные заседания. «В этот вечер ожидаются две очень важные речи, — пишет Гольдони 14 апреля 1742 г., - ибо столкнулись совершенно противоположные интересы двух сенаторов; сейчас одиннадцать часов вечера, а поток красноречия второго сенатора еще не иссяк».[276] Патриций не мог отказываться от исполнения должности, на которую его выбрали, особенно если его выбрали в Совет десяти или инквизитором; занимаемый им к этому времени какой-либо общественно значимый пост причиной для отговорок служить не мог. За отказ его ожидал не только штраф, но и возможное исключение из Большого совета, всех судов и канцелярий. Самые престижные и самые выгодные карьерные должности именуются reggimenti con pena, то есть должности, где нарушения караются прогрессивными штрафами: 1 тысяча дукатов, если не приступил к исполнению своих обязанностей через месяц после избрания, 2 тысячи — через два месяца; а если избранный не приступал к работе через четыре месяца, то ему грозила ссылка на берега Истрии.
Самым тяжким было обвинение сенаторов в сговоре. Совет десяти периодически переиздает декреты против заговорщиков. «Все ходатайства за виновников запрещаются, на ослушников налагается штраф в 200 дукатов, которые выплачиваются осведомителю, или же Арсеналу, если обошлось без осведомителя, или же в общественную казну», — напоминали в 1539 г.[277] Управление собранием, в котором заседали тысяча и более участников, действительно требовало определенной жесткости. Еще более понятны и естественны страхи перед злоупотреблениями, обычно порождаемыми самой системой, в рамках которой важные выборы в «депутатский корпус» были доверены как раз тем, кто мог этим правом злоупотребить. Поэтому понятно, отчего в присяге патриция подчеркивалось, что член советов обязан быть искренним в своих поступках и политических суждениях, полагаться только на собственное разумение и сознательно способствовать трудами своими общественному благу.
Самой важной заповедью Республики, основополагающим принципом ее могущества, экономического и политического одновременно, а также ее свободы было сохранение тайны. В начале заседания главы Совета десяти запирали двери, а в конце заседания сами их отпирали, и действия эти символизировали строгое сохранение тайны. Меры против тех, кто разглашает решения советов и государственные тайны, были особенно строги, вплоть до лишения жизни. После 1580 г., когда Совет десяти получил право «применять пытки, когда ему это покажется уместным… и право обещать прощение и свободу тому, кто поможет раскрыть истину и обнаружить тех, кто нарушил законы, направленные на сохранение государственной тайны», меры по выявлению виновников стали поистине драконовскими. Однако в течение XVII в. Совет десяти доказал эффективность подобных методов, к примеру, задушив в 1618 г. заговор коалиции европейских стран, направленный против Венеции; заговорщиков возглавил испанский посол Бедемар, готовившийся взять город в осаду.[278] Едва член Совета выбирался за пределы города, как наблюдатели тотчас начинали отслеживать, чтобы он ни с кем не вступал в контакты, не «делал никаких намеков — ни письменных, ни устных, касающихся последних решений Совета, не разглашал бы эти решения ни знаками, ни каким-либо иным способом и даже не обсуждал бы их со своими коллегами; в противном случае ему грозила смерть и немедленная конфискация имущества; пыткам членов советов не подвергали».
Также патрициям не рекомендовалось посещать иностранные резиденции и посольства. Каждый посол, как объясняет Лаэ Вантеле, отправляется в Коллегию и там просит назначить ему аудиенцию; в Коллегии его принимают без всяких церемоний, то есть его никто не встречает, и только служитель покрывает скамью возле дверей Коллегии ковром, дабы посол мог на эту скамью сесть и немного отдохнуть в ожидании. Затем перед ним распахиваются двери приемного зала, он входит, становится по правую руку от государя и излагает намерения повелителя, пославшего его, а также оставляет секретарю дожа свою речь в письменном виде. Затем дож и его советники удаляются, а «мудрецы» рассматривают документ и составляют о нем собственное мнение. Если исполнить прошение нетрудно, сенаторы посылают свой ответ послу через секретаря, а если дело требует размышлений, посла приглашают прибыть в Коллегию и выслушать решение Сената.[279]
В городе послов принимают с пышностью и предоставляют в их распоряжение богато изукрашенную гондолу. Ритуал их поведения расписан во всех подробностях, детально разработаны формы их контактов с Дворцом дожей, равно как и принципы общения с послами иных государств. На следующий день после приезда посол Франции, к примеру, посылал своего главного камергера к кавалеру дожа, дабы высказать свое почтение и испросить аудиенции; затем он посылал секретаря посольства с «Запиской» для представления ее в Сенат: в «Записке» излагалась цель его приезда и прилагались копии его верительных грамот.[280]
Nec plus ultra{7}
Неудивительно, что, вынужденные пользоваться выспренной риторикой мифа, комментаторы, описывая административные институты Венеции, неохотно дают им оценки. Некоторые осторожно обходят эти вопросы, другие, напротив, нарочито ими восхищаются — как, например, Ногаре в своей «Записке», представленной Сенату, где он пишет, что пребывает «в восторге от системы управления» и исполнен почтения «к исключительно мудрому устройству венецианского правительства».[281] Напомним, что похожий восторг выказывал Гольдони несколькими месяцами раньше, созерцая уникальное зрелище восьми сотен благородных людей, собравшихся в зале Большого совета в 1760 г. Габриэле Белла, позднее принявшийся изображать на своих полотнах заседания различных советов и собрания, приветствующие дожа, также присоединяется к этим восторгам. Он предлагает зрелище безмятежное и спокойное, внушающее уверенность. Под тяжелым, расписанным арабесками сводом, среди величественных настенных росписей — хотя во времена Беллы их уже не было, так как в 1763 г. стены затянули красной дамасской тканью, на которую падал свет от огромных канделябров, — царят торжественность, величие, серьезность, достоинство, собранность и таинственность, так что собравшиеся в зале дворяне выглядят маленькими, чопорными и церемонными. Одинаково одетые (в черных или красных одеждах и длинных белых париках), они, без сомнения, с почтением относятся к своей должности, добросовестно исполнять которую присягнули. Нет сомнений, что они, храня почтительную тишину, проведут голосование, с достоинством выслушают дожа и его советников и снисходительно отнесутся к промахам тех, кто в беспокойстве толпится перед дверями зала для аудиенций.
Республика старательно заботилась о поддержании своего имиджа. Например, в 1729 г. она поручила Антонио Коррадини представить проект реконструкции «Буцентавра». По конструкции своей галера должна была остаться прежней, как и в предшествующие века, а внешне выглядеть, образно говоря, nec plus ultra из всех существовавших прежде «Буцентавров».[282] На этой огромной галере дож как нигде напоминал монарха. Трон его, поставленный на корме в специально отведенном месте, был защищен особым балдахином; в основании трона размещался бог Пан, поддерживающий Мир, а на самом троне можно было увидеть символические изображения Геркулеса и его подвигов, то есть сцены, которые принято изображать на тронах европейских монархов. Немейский лев, голова гидры — все эти сюжеты были искусно исполнены резчиками по дереву. Длинный навес, натянутый над верхней палубой, был расписан в виде «большой книги», где, в соответствии с месяцами, днями и часами, были изображены все добродетели, воплощением которых вот уже много столетий являлись Венеция и ее дож: там были Истина, Любовь к Родине, Благородство, Отвага, Великодушие, Учение, Бдительность, Честь, Скромность, Набожность, Чистота, Справедливость, Сила, Воздержанность, Вера, Милосердие, рядом с которой нередко появлялись Науки и Искусства, и самая главная — Щедрость, «основа всех прочих добродетелей». На корме крылатые львы святого Марка соседствовали с эмблемами Ремесел, представленных в Арсенале: кузнечного, плотницкого, корабельного — кузнецы, плотники и корабельщики внесли особый вклад в завоевания Империи. На носу, над двумя огромными воинственными рострами помещались аллегорические изображения Правосудия и Мира, символически объединенные с аллегорическими изображениями рек материка Адидже и По, дабы прославить мирное владычество Венеции над подвластными ей территориями. Фигуры были размещены на замысловатом постаменте, украшенном золотом и пурпуром и, согласно хронистам, символизировавшем море, которое заставили пылать огнем, и солнце, которое вынудили погрузиться во тьму:
Вода теряет свой цвет, волна начинает пылать,
Она подобна зеркалу, в котором отражается золотой пожар.
Несчастная, угасни, Солнце хмурится,
Ей чудится, что лик его сделался как у мавра.
Этот удивительный «Буцентавр» будет служить дожам вплоть до падения Республики. В 1795 г. переиздадут подробное его описание, составленное в 1729 г.,[283] а в 1797 г. Бонапарт совершит, так сказать, символический жест: отдаст приказ разрушить галеру.
Венеция никогда не жалела средств на веселье. По случаю коронации дожа Франческо Лоредана весной 1725 г. был устроен такой пышный и веселый праздник, что даже привычные венецианцы были поражены.[284] В мае 1762 г., пишет «Венецианская газета» в своем отчете о торжествах по случаю возведения в должность дожа Марко Фоскарини, «весь город был полон радостными звуками, веселье было всеобщим… но более всего радовались на площади Сан-Марко и во Дворце дожей; всюду звонили колокола, народу раздавали хлеб и вино и разбрасывали мелкие монетки. К вечеру во Дворце начались концерты; повсюду горели большие светильники, так что ночь казалась светлым днем; для людей благородного звания, как венецианцев, так и иностранных гостей, был дан бал». Гвоздем ночных развлечений стала великолепная машина для запусков фейерверков; огни, которые она испускала, были яркими, как солнечный свет; до самого конца, до последнего фейерверка огни эти претерпевали столько необыкновенных и невиданных превращений, что казалось, будто и Сан-Марко, и Пьяцетта залиты дневным светом.
В XVIII в. в Венеции то и дело устраиваются приемы по случаю прибытия иностранных князей и государей;[285] одновременно развивается искусство политического красноречия: в приветственных словах искусно переплетаются хвалы гостям с прославлением гостеприимства города. От праздника к празднику произносится парадная речь, построенная с учетом сценографического решения торжества.
Своеобразным эталоном служат великолепные празднества XVI в., и в частности торжества, состоявшиеся в июле 1574 г. в честь проезда через город Генриха III, короля Франции и Польши, которому по такому случаю присвоили звание венецианского дворянина и приняли в члены Большого совета. Дож предоставил в его распоряжение «Буцентавра», на котором короля доставили в Ка Фоскари, резиденцию, отведенную ему на Канале Гранде. Город и Лидо были украшены с невиданной прежде роскошью: над этим поработали лучшие художники того времени, и в частности Палладио, Тинторетто, Веронезе.
Однако роскошь городского убранства XVIII в. не уступает роскоши ренессансной, во всяком случае, если судить по описаниям и иллюстрациям, которые тогда публиковались при каждой удобной возможности. 13 и 14 июля 1758 г. по случаю празднования избрания папой римским венецианца Карло Редзонико, вступившего на престол святого Петра под именем Климента XIII, город был украшен триумфальными арками, а во время народных гуляний организаторы праздника позаботились устроить невиданную прежде иллюминацию.
13-го и 14-го были устроены фейерверки, а вечером, 15 октября на Сан-Марко был сооружен диковинный павильон, площадь была освещена тремя сотнями факелов, и все выглядело чрезвычайно величественно. Такой же диковинный павильон установили напротив дворца благородного семейства Редзонико; внутри него разместились музыканты со своими инструментами, был устроен настоящий концерт и иллюминация с факелами; весь город был освещен, и это вызывало всеобщий восторг.
Во время княжеских триумфов в качестве средств передвижения использовали «большие гондолы» — пеоты — и «большие парадные гондолы», приводимые в движение восемью или десятью (а иногда и более) гребцами. Такие гондолы нанимали патриции, участвовавшие в торжествах, прославлявших Республику, чтобы таким образом засвидетельствовать свою верность государству и щегольнуть собственным финансовым благополучием.
Торжественным открытием регаты 1686 г., проводимой в лагуне напротив Сан-Марко по случаю визита герцога Брауншвейгского, стало появление поистине фантастического сооружения под названием «Триумф Нептуна». На спине огромного кита, впряженного в большую раковину, высился небывалый храм. Несколько гротов, украшенных кораллами и водорослями, среди которых прятались морские чудовища, окружали крохотные тритончики, ревностные хранители храма. Над гротами восемь других тритонов поддерживали вторую раковину, где помещался необыкновенной красоты дельфин, чья чешуйчатая спина служила фундаментом для вооруженного трезубцем каменного Нептуна. Кит, тритоны и дельфин беспрестанно фонтаном исторгали из себя свежую воду. Сооружение тянули десять морских коньков, которыми управляли тритоны, а эскортом ему служили десять сирен. По обеим сторонам плыли пеоты дожа и патрициев. Причудливое убранство каждой пеоты представляло собой картину из жизни какого-либо божества: Венеры, возглавившей (само собой разумеется) вереницу плавучих живых картин, Марса, Главка, Дианы, Юноны и Минервы. Затем строгий порядок следования нарушался, и перед глазами зрителей возникал целый водоворот плавучих театриков-лодок, декорированных до неузнаваемости, ярко расцвеченных и богато убранных. Спустя два года регата, устроенная в честь визита принца Фердинанда III Тосканского, не вносит ничего принципиально нового в отработанный сценарий, а всего лишь обыгрывает прежние мифологические реминисценции, давая простор для выдумки и буйства роскоши. В центре процессии обычно помещается Нептун, а сцены на плывущих вокруг лодках являют собой замысловатые картины из жизни морских божеств и аллегории добродетелей. Владельцы лодок соревнуются в роскоши и измышляют технические эффекты позамысловатее, но в политических речах, даже когда они написаны специально ради прибывшего гостя, непременно превозносится могущество Республики: это делается для простых зрителей регаты.
«Величие и порывы души нашей приумножают славу родины, коя вызывает восхищение и радость», — заявляет в 1740 г. хронист, описывая регату, устроенную в честь Фредерика Кристиана Польского. В том году в ней приняли участие те же самые водные кареты, украшенные мифологической символикой, где Аполлон соседствовал с Авророй, Флорой, Пегасом, Парнасским холмом и музами Поэзии, Музыки и Живописи; венцом явилась композиция «Триумф мира и царский дворец Нептуна». И только во время последних триумфальных регат 1784 и 1791 гг., устроенных в честь Густава III, короля Швеции, и императора Леопольда II, мифологические мотивы в оформлении лодок стали постепенно уступать место мотивам сельским, навевавшим философические размышления, хотя маршруты следования участников регаты не менялись.
Описание охоты на быков, устроенной на площади Сан-Марко в феврале 1767 г. в честь курфюрста Вюртембергского, свидетельствует о неподражаемой пышности этого праздника — Венеция пожелала произвести впечатление на гостя:
Излишне рассказывать обо всем том удивительном, что можно было увидать в те дни, само удивление вряд ли нашло бы слова, чтобы это описать. Сорок восемь масок, представляющих различные народы: испанцев, венгров, англичан и швейцарцев, — вступили на площадь в роскошных одеждах и, раскланявшись с публикой, дали сигнал к началу охоты, в которой участвовали две сотни быков. Звуки труб и барабанов, мычание животных, лай собак сопровождали сей не слишком организованный, но тем не менее великолепный спектакль.[286]
Принимая графа и графиню Северных, венецианцы превзошли себя. Помимо роскошного обеда и бала, данных прокуратором Пезаро в только что отреставрированном театре Сан-Бенедетто, на площади Сан-Марко в сооруженном специально по этому случаю амфитеатре была устроена охота на быков. Амфитеатр этот отличался «большой триумфальной аркой высотой шестьдесят футов; по форме своей она воспроизводила арку Тита в Риме, напоминая венецианцам о том, что город их был „вторым Римом“».[287]
«Республика несчастна»
Там, где Габриэле Белла видит мудрых и сдержанных нобилей, де Бросс тридцатью годами ранее видел нобилей безалаберных и болтливых, «поднимающих шум несусветный», ибо каждый «обхаживает своего соседа по Совету в надежде получить с этого большую выгоду». Впрочем, де Бросс полагал, что выражается достаточно мягко. Он не согласен с яростными нападками тех, кто, подобно Амло де ла Уссе,[288] в конце XVII в. разоблачал монополизировавшую власть аристократию и тиранические злоупотребления правительства, претендующего на звание «демократического, свободного и совершенного». Однако его едкая сатира имеет под собой основания. Когда он застенчиво пишет о том, что в Брольо патриции изучали «искусство кланяться как можно ниже», когда он, иронически усмехаясь, рассказывает о маневрах прокуратора Тьеполо, пытавшегося вынудить своего противника Эмо принять неблагодарную должность на материке и таким образом убраться подальше от Венеции,[289] он тут же добросовестно приводит критические высказывания современников, коих в те времена можно было услышать немало. Показная роскошь Республики уже не могла никого ввести в заблуждение. Присяга патриция более не в чести. В Брольо, пишет Лаэ Вантеле, патриции «заводят интриги, необходимые для получения желаемых должностей, именно там торжествуют разобщенность и лицемерие». И продолжает: «Они полагают, что встречаются там, дабы крепить союз (и дружбу), но на деле они сеют раздор, помышляют исключительно о собственном благе и обучаются великому искусству скрывать свои чувства». Если же говорить о «тайном голосовании», кое должно быть беспристрастным, ибо участники его «преисполнены почтения друг к другу», то оно уже давно служит для того, «чтобы тайно мстить своим противникам».[290] На основании подобных рассуждений Казанова впоследствии виртуозно разовьет свои обличительные мысли о вреде «равенства»:
Аристократическое правительство может существовать спокойно только в том случае, когда его главным, основополагающим принципом является равенство среди аристократов. Но о равенстве, будь то равенство физическое или моральное, можно судить только по видимости… Если [аристократ] талантлив, он должен скрывать свои таланты; если он честолюбив, он должен делать вид, презирает почести; если он хочет чего-либо добиться, он не должен ничего просить; если у него красивое лицо, он не должен это использовать; ему следует плохо одеваться, вести себя и вовсе дурно, не носить изысканных украшений и высмеивать все заграничное.[291]
Следом за Амло де ла Уссе многие открыто отрицали так называемый смешанный характер системы, разоблачали замаскированный деспотизм правительства, полностью находящегося в руках одной-единственной сословной группы и используемого ею ради своей выгоды, указывали на излишнюю концентрацию власти в одном совете — Сенате — и обличали общественное согласие, основанное на сохранении государственной тайны, доносе, шпионаже и жестоких репрессиях. Более всего нападкам подвергались действия Совета десяти и инквизиторов по обеспечению государственной безопасности. Это «кровавый трибунал, ненавидимый гражданами, наносящий удары исподтишка и в кромешном мраке решающий, кого ждет смерть, а кого — потеря чести», — утверждал Жан Жак Руссо. О «страшном трибунале», перед которым обвиняемый не имеет права на защиту и спасением обязан только милосердию судей, пишет Лаэ Вантеле, возмущенный той «властью над жизнью и смертью патрициев», какую имели инквизиторы, а также инквизиторской манерой изобретать наказания, которые, по его мнению, могли придумать только «варвары-турки, ибо на основании простого подозрения, зачастую плохо обоснованного, они могли приказать расстрелять человека или же бросить его в море без всякого судебного разбирательства».[292] Восторги Гольдони по поводу собравшихся вместе восьмисот нобилей скорее предназначены патрицию — заказчику поэмы. Напротив, в апреле 1742 г., будучи консулом Генуэзской республики, он с меньшей сдержанностью высказывает критические замечания о работе Сената и Совета мудрецов, подчеркивая абсурдность частой ротации чиновников и отсутствие преемственности в политике принятия решений сменяющими друг друга ответственными лицами:
Достопочтенные господа! Каждые полгода мы меняем политическое правительство этого города — «великих мудрецов», которые в основном и руководят им. Именно они по первому своему желанию вносят в повестку дня заседания Сената волнующие их вопросы. «Мудрецы», месяц назад покинувшие свои посты, те, кто в течение полугода держали в своих руках бразды правления, в процессе реформы армии отдали приказ образовать новые полки… и тем самым довели численность ее до таких размеров, что превысили цифры, имеющиеся в первом постановлении о регламентации численности постоянного войска. Теперь же все вновь предстоит менять… потому что новые «мудрецы» не хотят, чтобы численность войска превосходила двадцать четыре тысячи человек… Такое положение вещей дает повод для различных дискуссий в Сенате.
Немного позднее, в 1750 г., Гольдони даже осмелился написать откровенно политическую комедию «Льстец», куда он вложил всю свою ненависть к сеятелям раздора и дурным советчикам. В ней он выводит на сцену бездарного и необразованного губернатора, который занимается тем, что вместе со своим поваром составляет десерты, вместо того чтобы заниматься экономическими проблемами находящихся в ведении его ведомства купцов, и позволяет манипулировать собой своему лицемерному секретарю. Местом действия благоразумно избрана Гаэта близ Неаполя, однако «парадный зал с несколькими дверями» во дворце губернатора, воспроизведенный в декорациях на сцене, никого не обманывает. В конце комедии венецианские патриции слышат, как раскаявшийся губернатор со сцены дает им совет: «Все кончено. Не хочу больше ничего знать. Признаю: я не в состоянии отличить хорошего министра от льстеца, поэтому мне лучше будет удалиться и передать дела тому, кто справится с ними».[293]
Равновесие системы было поколеблено. Подобно Амло, делла Торре одновременно с пышной метафорой о «совершенном теле» пишет, что Венеция вступила в свой четвертый возраст, возраст старости, и начало ее старения было положено неприятностями, причиненными Республике Камбрейской лигой в 1508 г. Это убеждение разделяли многие венецианцы. Когда в 1732 г. сенатор Бернардо Нани писал свои «Беседы об истории», он не строил иллюзий относительно вечности Венецианской республики:
Венецианская республика стара. Она просуществовала долго… Граждане ее погрязли в роскоши и отличаются испорченным и развращенным нравом, иначе говоря, не заботятся более об общественном благе, а если кто-нибудь начнет кого-нибудь убеждать сделать что-либо полезное, слова его ни в ком не найдут отклика, и он предпочтет умолкнуть, хотя прежде в Сенате обсуждалось и принималось немало достойных предложений. Возобладали личные интересы, никто не хочет наживать себе врагов, отстаивая общественное благо, никто не хочет ломать за него копья. Молодежь невежественна, занята игрой и развратом и теряет те качества, кои помогли нашим предкам добиться славы для Республики не войнами, но разумом… Прежде даже малоимущие патриции могли изменять ход вещей… Состояние Республики плачевно: кругом беды, друзей нет, денег нет, славы нет, до общественного блага никому нет дела.[294]
Длительное существование Республики более не считается гарантией ее вечности. «Умереть придется, но хотелось бы сделать это как можно позже — вот главная и единственная заповедь нынешнего правительства», — с мрачным юмором заметил в 1664 г., в период войны с Кандией некий безымянный житель Венеции.[295] Старость и ржавчина разъедают Республику, подобно тому как ветхость и сырость разрушают дома. Можно сколько угодно разыгрывать вечность в пышных декорациях каналов и дворцов, но долголетие Венецианской республики, бывшее некогда ее силой, теперь стало ее слабостью.
Correzioni (букв, «поправки», также «реформы») в деятельность существующих институтов в истории Республики достаточно редки, или, говоря точнее, они сильно разнесены во времени. Три correzioni, одна за другой, происходят во второй половине века — на фоне удушенного в зародыше недовольства, вызревавшего в 1741–1755 гг. против деятельности Коллегии, Сената и Совета десяти. Инициатором correzione номер один в 1761 г. стал Анджело Кверини, «адвокат коммуны», член Кваранции по уголовным делам, выступивший против концентрации власти в руках Совета десяти, забравшего себе часть судебной власти, прежде принадлежавшей Кваранции. В 1761 г. Кверини был арестован и заключен в крепость Сан-Феличе; арест его вызвал волнения в народе. Его сторонники — квиринисты вступили в прямое столкновение с противниками реформ — трибуналистами и сумели в Большом совете блокировать выборы членов Совета десяти и инквизиторов. В 1774 г. сенатор Андреа Трон предложил провести реформу и национализировать почтовые станции в Бергамо; однако когда он заодно предложил конфисковать в пользу государства и имущество четырех бенедиктинских монастырей, это вызвало возмущение семейств, которым было поручено проводить реформу. И вновь Кваранции приходят в волнение; на этот раз возмущенные группируются вокруг молодого энергичного патриция Дзордзи Пизани, которого Лоренцо Да Понте, выходец из скромного семейства и настроенный против «сиятельных Панталоне», «пышных париков, не вызывающих ничего, кроме раздражения», с энтузиазмом называет новым «Гракхом Венеции».[296] Затем новое выступление против «мудрецов» и Сената. Менее чем через шесть лет тот же самый Пизани и его друг Карло Контарини, найдя поддержку у вновь избранного дожа Поло Реньера, человека, близкого к квиринистам, выступают против Андреа Трона и заставляют Большой совет отклонить предложение Сената о строительстве ломбарда. Неслыханная победа!
«Трепещите, неправедные патриции!»
«Роскошь, разврат и испорченные нравы» — пессимизм Нани был обоснован. В Венеции шла крупная игра, и не только в загородных домах. Играли в казини, играли в ридотти. Играли даже на баржах. Так, в юности, плывя на лодке в Феррару, Гольдони сел играть в азартную игру с одним молодым падуанцем, пользовавшимся дурной славой; падуанец быстро обвинил его в мошенничестве и даже направил на него пистолет, дабы очистить его карманы от выигрыша.[297] Играли в фараон, в пикет, в испанскую игру ломбер. Страсть к игре сводила с ума. Карло Гоцци, признаваясь, что всегда играл по маленькой и никогда не поддавался тому, что он — в духе цензоров того времени именует «вредной роскошью», тотчас добавляет, что это произошло исключительно благодаря чуду. Другим подобного самообладания дано не было. Казанова усердно посещал Ридотто.[298] Не миновал его и Лоренцо Да Понте. Первая часть его «Мемуаров» является описанием спуска в ад, начинающегося возле карточного стола, от магического притяжения которого он освобождается только решив покинуть «сию крайне опасную столицу».[299] Под его пером возникает захватывающая картина разорившихся патрициев и «барнаботи», лихорадочно толпящихся у игорных столов и буквально на лету хватающих каждый дукат, словно именно он должен стать для них спасительной соломинкой: «Как только я выложил деньги на стол… в дверь постучали. Это был брат хозяйки. Увидев деньги, он, испустив торжествующий вопль, протянул к ним руку, более похожую на лапу хищной птицы, и они тут же исчезли — более половины у него в карманах, а оставшиеся в двух носовых платках».[300] Сам Да Понте относится к тем, кто, растратив все деньги, находит утешение в забвении, отправляясь спать в «комнате вздохов». Сцена поистине театральная. Без сомнения, Да Понте пытается бросить тень на тех, кого он считает подлинными виновниками своих несчастий, тех, кто в 1779 г. дерзнул осудить его на «семь лет мрачной тюрьмы» за распущенность и святотатство. Однако когда в 1771 г. юный Дзанетто Кверини из Мадрида, где он трудится в составе посольства, пишет своей супруге, Катерине Контарини, что карточные долги его возросли до 56 тысяч дукатов и, учитывая повседневные расходы, предусмотренные его должностью, положение его становится поистине критическим, так что, дабы избежать насмешек людей своего круга, ему остается либо наложить на себя руки, либо прикинуться сумасшедшим, — ни о каком театре здесь и речи нет.[301] Гольдониевский Флориндо из «Игрока», снедаемый такой же плачевной страстью, на самоубийство не покушается, но, желая поправить дела, готов жениться на дряхлой старой деве, однако вовремя раскаивается.[302]
Многочисленные меры, принимаемые по ограничению количества игорных домов и контролю над ними, доносы, что, поощряемые Советом десяти, пишут привратники и гондольеры, пытаясь в каждом собрании усмотреть какое-либо подозрительное или безнравственное сборище,[303] и — венец правительственной активности, направленной против игорных заведений, единогласно принятое в 1774 г. решение Большого совета о закрытии игорного дома Ридотто вполне сравнимы с любыми литературными гиперболами. О посещаемости Ридотто ярче всего свидетельствуют цифры: заведение это приносило Республике более 100 тысяч дукатов в год, не считая ежегодных 600 тысяч лир, поступавших в казну от продажи примерно 30 тысяч баут — масок, которые в обязательном порядке надевали при входе. Многие венецианцы, в том числе и Гольдони, считали закрытие Ридотто важной и мудрой мерой, направленной на оздоровление общественного климата и спасение Республики,[304] однако были и те, кто считал, что подобные меры свидетельствуют не столько о заботе властей о будущем, сколько о широком распространении искомого порока и невозможности поставить под контроль игорные страсти.
Но не только из-за этого патриции перестали проявлять служебное рвение. Уже в 1677 г. правительство запретило ректорам, проведиторам и прочим чиновникам Республики «по той или иной причине не являться на место службы без особого на то разрешения Совета и решения Коллегии и Сената». Вышел указ, гласивший, что Сенат не должен давать нобилям «никаких льгот, помимо тех, что записаны в законе»: Синьория могла освобождать нобилей от службы только в силу возраста или же заслуг, оказанных Республике их отцами или братьями. В случае необходимости Республика имела право продавать должности — как это было в конце XVII в. во время военных действий на Крите; деньги, поступавшие от этих продаж, назывались «запасом Совета». В XVIII в. торговля должностями уже не имела никаких благородных оснований, ибо наблюдается резкое увеличение числа просьб об освобождении от должности; особенно упала популярность мест, где служебные нарушения карались высокими штрафами. Каждый разрабатывал свою особую стратегию увиливания от службы — напоминал, что он уже занимает несколько должностей, жаловался на семейные или финансовые затруднения и обещал выйти на службу сразу же, как только с ними справится. Чаще всего не желавший служить соглашался заплатить штраф, пусть даже значительный, однако все же не столь обременительный, как служебные расходы. Можно было также заключить соглашение с электорами Большого совета, чтобы они не выдвигали соответствующую кандидатуру на нежелательные для нее посты. Нобили из числа электоров могли найти благовидный предлог, чтобы не явиться на заседание и таким образом отложить или отменить вовсе процедуру избрания своего коллеги.[305] В случае отсутствия кворума Большой совет переносил заседание:
Когда Большой совет собрался, чтобы избрать судей и чиновников на ответственные должности, и было установлено, что необходимое число нобилей на собрании не присутствует, то всех, кто пришел, поблагодарили~ и перенесли заседание на 30 января.[306]
Даже ряд налоговых послаблений не остановил массовый отток нобилей с государственной службы, и меры эти тяжким бременем легли на государственный бюджет. Около 1741 г. практика увольнений стала настолько обыденной, что в своих письмах в Геную Гольдони без всяких комментариев фиксирует прошения об отставке, даже когда речь идет о достаточно престижных должностях:
В последний четверг Сенат освободил от должности сухопутного генерала Корнаро. На его место был избран Симеон Контарини, прежде служивший балио в Константинополе.[307]
В свою очередь Симеон Контарини также просит об отставке; Сенат сначала отказывает ему, однако затем отставку принимает.[308] Довольствуясь ролью застенчивого критика, Гольдони с удивлением отмечает, что в конце концов Сенат решил никого не избирать на эту должность, объяснив это тем, что она «совершенно бесполезна, ибо в настоящее время Италия наслаждается миром и покоем».
Упоминая о костюме, который носили адвокаты, заседавшие во Дворце дожей, и который он, вступив в должность в мае 1732 г., также должен теперь носить, Гольдони с явным удовлетворением подробно его описывает: дорогая ткань (тончайшее сукно), черный бархатный пояс, украшенный серебряными бляхами, мех, обрамляющий горловину, а главное, рукава, которые «как зимой, так и летом свисали до земли», напоминая о том, что в Венеции «адвокатское платье было сродни одежде патриция».[309] Тщеславие вполне понятное, свойственное тем, кто только что получил «социальное повышение», став одним из нотаблей, то есть приблизившись к правящей верхушке. Патриции, напротив, в большинстве своем не придавали никакого значения этому костюму. Однако согласно постановлению 1704 г. тот, кто выходил из дому, будь то днем или ночью, без надлежащего костюма, рисковал получить пять лет «тюремной камеры» и уплатить штраф в тысячу дукатов. И все же адвокаты предпочитали носить «запрещенную одежду» — tabarro, широкий плащ из тонкой ткани, не стеснявший движений; в нем они не выделялись в толпе горожан.[310] Некоторые, прежде чем явиться на службу, отправлялись размяться и «поиграть в мяч»: это можно было сделать на калле деи Боттери и Фондаменте нуове; играли обычно в штанах до колен и облегающем полукафтане.[311] Затем наиболее дерзкие в надлежащих одеждах шли в кафе или в лавку и только потом направлялись во Дворец; разумеется, подобное поведение вызывало суровые нарекания.
Нобили умели браво расправляться и со службой, и с надлежащими одеждами. Но их собственная численность неуклонно сокращалась: они редко женились и производили крайне мало потомства. В декабре 1761 г. Градениго, бывший в курсе всех рождений, бракосочетаний и кончин в благородных семействах, отмечает, что все вышеуказанные события имеют тенденцию к уменьшению: последние представители мужского пола родились еще до 1700 г., последующие же не имели мужского потомства или же потомства, имеющего право заседать в Сенате. «В тот же самый год, по случаю реформы, Франчески также отмечал, что вотчины нобилей оказались под угрозой, ибо вопрос о потомстве был весьма проблематичным».[312] Действительно, более двух третей благородных родов угасает где-то между серединой XVII и началом XIX в. Только между 1670 и 1700 гг. умирают последние представители семи знатных семейств. В системе, при которой вся политическая и административная жизнь сосредоточена в руках нобилей, это означает приостановку действия целых институтов, особенно когда известно, что в гражданской, судебной и морской администрации было двести пятьдесят должностей и ответственных постов. В 1620 г. нобилей, имевших право заседать в Большом совете, насчитывалось две тысячи. В 1797 г. их осталось немногим более половины — тысяча девяносто. Поэтому в своих торжественных поэмах, сочинявшихся по случаю бракосочетаний отпрысков патрицианских семейств, Гольдони желал молодым супружеским парам плодовитости и блестящего будущего их потомству. Совет, численность которого постоянно уменьшалась еще и за счет необходимости отправлять ряд его членов «работать» на материк или же за границей, более не являл собой идеальную модель демократии для одного немногочисленного общественного сословия, которой он по идее должен был быть. Об этом неустанно твердили реформаторы, желавшие, чтобы всех подданных Республики благородного происхождения, занятых на службе на материке, призвали обратно, ибо, как правило, занимавшие посты вдали от Венеции исключались из членов Совета.[313]
В 1761 г. Пьетро Франчески утверждает, что причина сокращения численности семейств заключается в том, что «любой мужчина и любая женщина могут получить позволение жить отдельно от семьи в маленьком ridotto, именуемом casino („домик“), где они могут свободно вести приватные беседы на любые темы и где они, освободившись от отеческого или материнского надзора… могут предаваться роскоши, пьянству и всевозможным излишествам». Подобные речи, более или менее схожие, хотя и вязнут в зубах, но тем не менее постоянно звучат в период реформы 1780 г. Впрочем, любой пафос, будь он горестный или хвалебный, всегда сомнителен. Если, согласно законам риторики, одну и ту же жалобу повторить несколько раз, она непременно посеет сомнения у слушателей. Поэтому не следует полностью доверять ни пессимизму Нани, ни апокалипсическим упрекам Франчески.
Прежде всего следует отметить, что уменьшение численности патрицианских семейств в Венеции явилось частью общеевропейского процесса сокращения численности дворянского класса. Впрочем, венецианское правительство всегда исповедовало весьма практичное отношение к «использованию семейных ресурсов»: один сын, если он обладал соответствующими способностями, предназначался для политической карьеры и, как следствие, должен был много учиться и путешествовать, другому надлежало продолжать род и управлять семейным делом; старшинство в данном случае роли не играло.[314] До определенного времени такая практика обеспечивала вполне сносные результаты, поддерживая равновесие между политикой и экономикой. Сокращение численности аристократии, похоже, в основном имело причиною не увеличение смертности среди детей и матерей, а отказ от брачных уз, распад семейных связей и распутный образ жизни. В целом браков заключалось не меньше, чем прежде, однако характер их изменился. Многие браки заключались тайно, без оглашения в Avogaria di comun (один брак из семи).[315] Нередко оглашение делали значительно позже, иногда даже через несколько лет после заключения брака, и только для того, чтобы дети получили право заседать в Сенате. Некоторые вступали в брак, обходя установленные религиозные обряды. Похоже, что и рождаемость также не слишком уменьшилась. Напротив, встречалось множество семей, где было по пятеро и более детей; также не наблюдалось и резкого уменьшения количества отпрысков, желавших связать себя узами брака. Скорее всего, статистика снижения рождаемости была обусловлена нежеланием регистрировать рожденных детей.
Согласно данным статистики, сокращается количество членов советов; однако, несмотря на уменьшение числа заседающих, число голосующих сохраняется прежнее: в 1726 г. процент голосующих — начиная с конца XVI в. — достиг максимума (67 %), а в 1792 г. устойчиво набирается 58 % голосующих.[316] Не исключено, что отцы народа, спеша «отдать последние распоряжения относительно бала, который они устраивали сегодня вечером», забегали в парламент всего на несколько минут, и, как иронически отмечают тогдашние сатирики, даже «с костюмом Арлекина под мышкой»;[317] но все эти «летучие сенаторы» исправно голосовали. Стремление увильнуть от общественных обязанностей во многом обусловлено домашней экономикой. Должностные расходы, связанные прежде всего с поддержанием престижа, никак не способствуют увеличению семейного достояния: такие расходы могут позволить себе только обладатели крупных состояний. Например, семейство Кверини Стампалиа до середины XVIII в. не имело своих представителей среди высокопоставленных чиновников, что позволяло ему регулярно вкладывать средства в недвижимость.
Похоже, также будет преувеличением утверждать, что семья полностью утратила свою ценность. Напротив, нередко бывало, что в случае бездетности молодой пары престарелый отец семейства или дядюшка женились повторно, чтобы не прерывался род. Зато можно с уверенностью сказать, что изменились представления о «службе». Частная переписка нобилей свидетельствует, что долгие разлуки, связанные со службой в посольствах или исполнением различных должностей в колониях, не только не способствовали увеличению потомства, но и, на наш взгляд, порождали множество психологических проблем. Супруга молодого Дзанетто Кверини, снискавшего печальную славу заядлого игрока, в течение четырех лет одна воспитывает детей, сдерживает гнев свекра, направленный против сына-расточителя, и в письмах постоянно умоляет мужа умерить свои расходы:
Постскриптум. Ваш батюшка сердится, что вы слишком тратитесь на бумагу; посылая письма на двойных листах, в то время как сам он пишет вам на половинке листа, дабы сэкономить ваши деньги, и говорит, что вы относитесь к деньгам расточительно. Поэтому постарайтесь быть поэкономнее.[318]
Находись Кверини где-нибудь поближе, возможно, у семейства не возникли бы подобные проблемы. Супруга Андреа Дольфина, бывшего посланником сначала в Париже, а затем в Вене, не так сильна духом, как Катерина, и с трудом переносит разлуку. Когда супруг уезжает в Париж, она начинает терять сознание, ее тошнит, она отказывается от пищи, ее постоянно одолевают приступы беспокойства за детей и мучают женские болезни, вызванные, совершенно очевидно, необходимостью постоянно сопротивляться общественному мнению, относящемуся к ней как к брошенной женщине. Джованни Балларини, камердинер Дольфина, который, как мы знаем, держит своего патрона в курсе всех событий, пишет:
Небольшая лихорадка продолжается, возможно, причиною ее явилось внутреннее расстройство матки. Утомление… заставляет ее оставаться в постели, но ей хочется в точности исполнить указания Вашей светлости, и она ни на шаг не хочет от них отступить… Она строит планы, как бы ей поэкономнее вести хозяйство, однако не хочет ничем поступаться во всем, что касается внешней роскоши, ибо опасается, что люди подумают, что Ваша светлость не оставили ей достаточно средств.[319]
Письма из дома свидетельствуют о большом внимании, уделяемом родителями образованию своих детей, часто посылаемых учиться за пределы Венеции. Когда в 1748 г. Дзанетто Кверини обучается в коллеже в Брешии, отец его заботится обо всем, начиная от здоровья сына и до состояния его рубашек. Чем бы сын ни пожелал заняться, отец на все дает согласие. Дзанетто желает брать уроки игры на мандолине и спрашивает отцовского согласия: разрешение получено. Вскоре мандолина ему наскучила, и он решает заняться танцами, вновь спрашивает дозволения отца и получает его. Затем он решает заняться архитектурой, а потом верховой ездой. И снова никаких препятствий. В конце года намечается поездка на ярмарку за костюмом более ярких цветов, нежели тот, который он носит теперь, «ведь ему скоро исполнится восемнадцать»: и этот вопрос живо обсуждается в письмах отца и сына. Родители проявляют трогательную заботу о детях. Когда сестра Дзанетто, Пизана, внезапно решает выйти замуж, встревоженный отец тем не менее предпринимает все необходимые усилия и к нужному сроку собирает приданое. Когда же Дзанетто — уже со своим собственным сыном — оказывается в Мадриде, он аккуратно докладывает жене о его здоровье и об успехах мальчика: «Андреа чувствует себя прекрасно. Он прыгает, как козочка, ест, как волк, и спит, как сурок».[320] Однако некоторое время спустя он извещает: «Андреа ничего не ест, так как заболел скарлатиной. У него нет лихорадки, но он постоянно кричит от голода. Еще он чешется, сдирает кожу и страшно этим доволен, ибо, по его словам, он сдерет весь загар и кожа его снова станет белой».
Полностью излечившись, мальчик начинает отъедаться:
Андреа счастлив. Вы даже представить себе не можете, чего он только не ест. Постоянно упражняясь в пищеварении, он, пожалуй, вскоре сможет переварить даже железо. Проснувшись, он пьет шоколад, а потом приступает к занятиям с учителями; прежде чем приступить к выполнению самостоятельных заданий, он съедает полкурицы и кусок мяса, а после учебы отправляется завтракать. После завтрака он вновь приступает к учению, после чего перекусывает, отправляется слушать оперу, а потом обедает, и столь плотно, словно он целый день ничего не ел.[321]
Стенания Нани, обвинения в мягкотелости и извращениях, карикатурные образы разорившихся нобилей, праздных, порочных бездельников, презирающих добрых читтадини и развращающих пополанов, — именно так выглядят они в ряде комедий Гольдони, написанных им на заре драматургической карьеры — при ближайшем рассмотрении оказываются не слишком оправданными. Разумеется, нельзя сказать, что среди «исконных дворян» не было и игроков, и бездельников, позабывших о прежней славе Республики, однако нельзя однозначно осуждать всю знать. Знатные семейства по-прежнему активно участвовали в экономической жизни. В среду нобилей постепенно проникали, как их называли некоторые, «буржуазные» идеалы, и в частности стремление спокойно жить в семейном кругу, сосредоточившись исключительно на собственных проблемах. Подобные, отчасти эгоистические настроения, способствуя укреплению семейных уз, противоречили основополагающим принципам Республики.
Три благородных поклонника Мирандолины
Добропорядочный торговец Ансельмо из «Кавалера и дамы» Гольдони назидательным тоном заявляет: «Благородное происхождение видать издалека, человек благородный всегда заслуживает почтения и уважения, а раз дворянин всегда остается дворянином, даже когда он беден, то мы должны кланяться ему, невзирая на то, как отнеслась к нему Фортуна». На это Элеонора, благородная аристократка, едва сводящая концы с концами, ибо муж ее был лишен состояния и отправлен в ссылку за дуэль с министром, отвечает ему: «Не все думают так, как вы, господин Ансельмо, и в большинстве своем богатство сопутствует благородству происхождения».[322] Действительно, далеко не все думали так, как Ансельмо. Красивая легенда об однородности дворянского сословия отошла в прошлое, равенство, которое теоретически должно было бы царить между всеми членами этого сословия, давно кануло в Лету (ежели оно когда-либо существовало вообще). Несмотря на меры, постоянно предпринимаемые Советом десяти с целью уравнять всех нобилей: запрет устраивать торжества без особого на то разрешения (1651 г.), запрет носить парики (1668 г.), запрет одевать в ливреи своих слуг и гондольеров (1671 г.), — иерархия денежного мешка одержала победу. Нобили, обладавшие огромными состояниями, презрев все законы, направленные против роскоши как в публичной, так и в семейной жизни,[323] устраивали пышные банкеты и фейерверки в честь именитых гостей. Семейство Редзонико пышно отпраздновало избрание папой одного из своих членов; в 1755 г. семейство Нани устроило поистине королевский банкет в честь курфюрста Кельнского, в 1782 г. семейство Пезаро арендовало театр Сан-Бенедетто, устроив в нем пиршественный зал. Семейства, подобные семейству Корнер, обеспечивали дочерям богатое приданое в 40 тысяч дукатов, и это не считая «свадебной корзинки», где лежали поистине дары фей: кружева, меха, белые шелковые туфельки с золотым и серебряным шитьем, парчовое платье, расшитое алыми цветами, с лифом, отделанным серебряными кружевами и крохотными разноцветными эмалями, — всего добра на сумму более 21 тысячи дукатов. Были семейства, где, подобно семейству Контарини, жены хранили у себя в шкатулках по 457 восточных жемчужин, 54 изумруда, 192 рубина. В других знатных семьях, например в семье Градениго, в сундуках лежали драгоценности стоимостью более 300 тысяч дукатов.[324] Не станем говорить о богатстве дожей, предпринимавших за свой счет всевозможные перестройки дворцовых покоев, стремясь отделать их еще пышнее, чем это было сделано предшественниками.[325]
«Барнаботи», напротив, становятся все беднее. Часто их единственным богатством является неограниченный досуг, который они проводят, угождая богатым покровителям, дабы иметь возможность бесплатно столоваться; к ночи же они возвращаются к себе в дом, расположенный в каком-нибудь бедном квартале. Именно обедневшие аристократы чаще всего заключают неравные браки, беря в жены дочерей богатых читтадини и даже дочерей состоятельных ремесленников. Пьесы Гольдони изобилуют смешными и высокопарными персонажами из разорившихся дворян, коим чаще всего отводится роль шутов в загородном поместье какого-нибудь богача, или же престарелых чичисбеев, вьющихся вокруг состоятельных вдовушек. Маркиз Форлипополи, ухаживающий за Мирандолиной и использующий в качестве наступательного оружия свой «титул», свое «покровительство» и надменное заявление «Я — это я!», несомненно, являет собой наиболее характерный пример такого дворянина. Он противопоставлен двум другим аристократам — графу из «новых дворян» и женоненавистнику-кавалеру, которого против воли хотят женить на богатой наследнице. Появление этих персонажей в театре обусловлено увеличением их числа в реальной жизни: к концу XVI в. «барнаботи» составляли уже 70 % всего дворянского сословия. Положение их было столь плачевно, что правительство занялось их образованием, дабы по причине полного своего невежества они не попадали впросак и не подвергали себя опасности: в августе 1619 г. на Джудекке была создана Академия для обедневших дворян. Минимальный доход им обеспечивали за счет предоставления низших должностей в государственной системе, и обычно кандидаты без возражений занимали эти должности, а некоторые совмещали несколько должностей сразу или же сидели на местах дольше положенного срока. Обнищавшим аристократам в первую очередь предоставлялись места, предполагавшие получение жалованья, или же должности, не облагаемые штрафами, чаще всего низшие. Конечно, им могли предложить и должности, облагаемые штрафами, но от них кандидаты чаще всего отказывались, ибо платить штрафы им было нечем. Эти чиновники поневоле часто пропускали присутствие и плохо исполняли свои обязанности.[326]
Политика поддержки обнищавших нобилей порождала свои проблемы. Почувствовав уверенность в завтрашнем дне, бедные, но заносчивые аристократы стали посягать на власть, подобно тому как в 1297 г. это сделали нобили, не вошедшие в состав Большого совета, или читтадини, которые в течение всего XVI в. скупали должности нобилей в различных учреждениях огромной государственной бюрократической машины и в администрации Скуоле гранди.[327] Читтадини занимали должности секретарей, нотариусов, переписчиков и заграничных резидентов, консультантов по экономическим и бухгалтерским вопросам и даже секретаря, ведавшего делопроизводством всей Республики, сконцентрировав, таким образом, в своих руках значительную власть. Этими успехами они были обязаны своим знаниям законов и постановлений, в которых зачастую разбирались лучше советников и даже самих сенаторов. Обычно неплохо оплачиваемые, эти государственные должности в отдельных случаях давали право на дворянский титул: если читтадино служил секретарем Совета десяти или Сената, он получал право называться «Ваша осмотрительность» и носить черную тогу; нотариусы дожа именовались «Сверхверными», врачи и адвокаты имели право на обращение «Ваше превосходительство», а Великий канцлер «Господин» или «Хозяин». Так, в XVI и XVII вв. более шестидесяти семей читтадини получили признание своего вклада в экономику Республики — в форме как непосредственных инвестиций, так и духовного потенциала: своей компетентности и образованности, — что практически привело к формированию промежуточного, но весьма почитаемого сословия, способного стать двигателем всяческих перемен. Однако в 1740–1760 гг. количество просьб о принятии в ряды читтадини значительно снизилось, и, как мы уже говорили, в 1780 г. это сословие составляет всего лишь 4 % населения, в то время как в 1633 г. — 9,6 %.[328]
Граф, ухаживающий за Мирандолиной, имеет вполне определенное, как он уверен, преимущество перед маркизом: у него есть деньги. Разумеется, благородное рождение, самоуверенно рассуждает он, кое-что значит в глазах женщины, однако небольшие подарочки гораздо лучше удовлетворяют милые капризы. И если он с помощью этих подарочков сможет завоевать прекрасную трактирщицу, то благородное рождение его совершенно не волнует. В ответ маркиз обливает его презрением: «Графство купленное». Этот надменный ответ — не просто театральная реплика. Такое же откровенное презрение аристократы из старинных родов (включая тех, чьи предки получили дворянство в XIV в.) выражают «новым дворянам».
В бумагах, сопровождающих прошения о присвоении дворянства с 1689 по 1698 г., иногда кратко указывалось, каким образом соответствующий кандидат поднялся по общественной лестнице, особенно если, к примеру, речь идет о члене адвокатского сословия, принадлежать к коему среди нобилей не считалось зазорным. «Происхождения неблагородного, ибо отец его был лавочником, — можно прочесть в записи от 1685 г. об одном из предков семьи Санди, уроженцев города Фельтре, — он отмерял и продавал ткани и холсты под вывеской святого Франциска. Сына своего он сделал солиситором при Дворце дожей, где тот добился всяческих успехов, стал адвокатом и преуспел благодаря своему красноречию. Он снискал себе славу среди собратьев по профессии, а его коммерческая деятельность позволила ему накопить достаточно денег, чтобы стать патрицием». Наибольшую нетерпимость патриции проявляли к мелким авантюристам подозрительного происхождения и зачастую с уголовным прошлым, чье состояние чаще всего было сколочено в результате незаконных торговых операций; аристократы не желали принимать их в свой круг. Например, семейству Челлини не раз напоминали о судимостях его предков, а также об их сомнительных коммерческих сделках: «Достаточно сказать, что Антонио был простым служащим в отделениях торговой компании Доменико Бьякки, негоцианта из Бергамо, который выгнал его и подал на него в суд за совершенные им проступки. Публично осужденный и приговоренный к галерам, Антонио отбыл срок наказания, а затем в поисках средств к существованию отправился в земли Леванта и там служил на кораблях, принимавших участие в войне на Крите».[329] Прошение семейства Семенци Премуда, выражаясь словами сопроводительного документа, «вызывает тошноту», и его удовлетворяют исключительно потому, что Республике «необходимо покрыть текущие расходы, и она смотрит не на того, кто подает прошение, а на наличные деньги».[330] Легко представить себе, как усмехались старейшие сенаторы, слушая патетические заверения будущих собратьев об их стремлении со всем усердием осуществлять благородное служение Республике. Даже когда кандидатура не «вызывает тошноты» (претендент на дворянский титул родом из Венеции и торгует шелком, что считается занятием почтенным), комментатор все же позволяет себе ироническое высказывание в его адрес: «Семья Контенти, в прошлом торговцы шелком; лавка под вывеской „Старый и Новый Свет“ расположена на Мерчерии; они были страшно довольны, когда прямо из-за прилавка им удалось одним прыжком скакнуть на скамьи зала заседаний Большого совета». Презрительное отношение со стороны родовитого дворянства является одной из причин, отчего во время последней кампании по продаже дворянских титулов, пришедшейся на 1775 г., только шесть семейств решили вложить капиталы в покупку титула, хотя «на продажу» было «выставлено» сорок вакансий. Не все хотели рисковать деньгами и следовать примеру главы семейства Рицци, купившего в 1678 г. дворянский титул и тотчас угодившего на скамью подсудимых за долги. Зачем из богатого ювелира становиться бедным патрицием? Дворянский титул уже ничего не решал.
Действительно, к этому времени границы карьерных перспектив были очерчены довольно четко. В XVIII в. благородное сословие разделилось на четыре категории в зависимости от размеров состояния, а отнюдь не древности рода: сенаторы, обладающие знатностью, образованностью и богатством; зажиточные обладатели средних состояний (Редзонико, Валарессо, Видман); «ремесленники», которым есть на что жить; плебеи, не имеющие ни ренты, ни собственности, то есть своего рода ассистенты аристократии.[331]
Таким образом, только состояние позволяет сделать карьеру: получить должность в одном из главных советов, стать дожем, финансировать посольства и всячески поддерживать свое положение. Семьи, представители которых в XVIII столетии избирались дожами, все без исключения принадлежали, по определению де Бросса, к «наибогатейшим» и благополучно пережили кризисы и дробление семейств. К богатым семействам относились Гримани, постоянно делавшие крупные вложения в недвижимость, а также Манин, Корнер и Пизани, капитал которых в 1736 г., по приблизительным подсчетам, составлял шестую часть всех поступлений Республики (738 365 дукатов). Матримониальные союзы чаще всего являлись союзами политическими, направленными на усиление того или иного клана. Процветали тайные сговоры. Де Бросс «зрил в корень»: никого более не волновало соблюдение основного принципа Большого совета. Сам Марко Фоскарини, этот просвещеннейший муж, неустанно заботившийся о величии Республики, был избран дожем con broglio, то есть путем массовой покупки голосов.[332] Представители сорока семи семейств (или пятидесяти, согласно Лаэ Вантеле) в конце концов договорились и поделили между собой ключевые посты в правительстве. Отныне Синьория, Коллегия, Сенат, Совет десяти и трое инквизиторов сосредоточили в своих руках власть, на которую ни «ремесленники», заседавшие в Кваранциях, ни плебеи, ни тем более нобили с материка претендовать уже не могли.
Приходится уступать места…
Все условия, необходимые для осуществления перемен, похоже, наконец налицо. Без сомнения, Гольдони был прав, внушая мысль о том, что некомпетентные нобили должны уступить место тем, кто умел править. Необходимость реформировать существующие институты, как политические, так и коммерческие, была очевидна. Проблема заключалась в том, чтобы понять, кто эти люди, умеющие править, откуда следует ожидать инициативы и в какую форму инициатива эта может вылиться. «Обедневшие аристократы могли бы сделать многое для изменения существующего порядка вещей», — полагал сенатор Нани. Действительно, по сравнению с другими категориями дворянского сословия обедневшие патриции продолжали заключать браки, рожали детей и в конце концов стали составлять большинство в Большом совете. Однако в этом случае речь может идти исключительно о количественной власти. Их положение, зависящее от государственных субсидий, и, возможно, их необразованность не позволяли им начать процесс реформирования государственной машины. Они могли только поддержать движение протеста, инициатором которого станет другая социальная группа. Напротив, «ремесленники», имевшие тесные связи с европейскими реформаторами, и прежде всего те, у которых хватало средств не продаваться стоявшим у власти кланам, могли начать реформы, потребность в которых давно уже ощущали все. Впрочем, именно они, при поддержке многочисленного слоя плебеев, выдвинули три «поправки». Последствия известны.
Робкий призыв Гольдони не был услышан. Всякий раз, когда движение протеста начинало нарастать, правящие кланы тотчас измысливали способ нейтрализовать его, а «поджигателей» приказывали арестовать; к примеру, Анджело Кверини был схвачен рано утром 12 августа 1761 г. в своем домике в Сан-Моизе. Однако осознание необходимости проведения реформ становится все более острым, а в столкновениях рождаются новые идеи. Впрочем, даже «ремесленники» и те, кого вполне можно именовать «прогрессистами», вопрос о проведении подлинных реформ, в сущности, никогда не ставили. Ропщущие хотели прежде всего добиться возвращения прежней полноты власти и независимости судебным учреждениям и «адвокатам коммуны», которые Совет десяти и инквизиторы у них постепенно отобрали. Следовательно, никаких революций, а напротив, возврат к прежнему, идеальному состоянию, к принципам и основным законам Республики, которые по-настоящему никто никогда и не оспаривал. Похоже, что именно ради этих принципов и основных законов, убежденный, что действует во имя спасения населения, и пришпориваемый победоносной кампанией Бонапарта в Венецианской области (март-май), 12 мая 1797 г. Большой совет впервые в истории города «наконец освобождает свое место», голосует за самороспуск и начинает процесс замены правительства на Временный муниципалитет, заявляющий о своем желании провести постепенную «реформу», а не революцию, иначе говоря, последнюю попытку реформы.[333] Политическим девизом XVIII столетия можно считать слова Марко Фоскарини «не изменять, а оставить все как было». Девиз, под которым Гольдони из осторожности или из-за склонности к оппортунизму, а может быть, и по убеждению, в 1762 г. готов подписаться. В предисловии к «Дачной лихорадке» он, явно забыв о своем раздражении и заявлении, сделанном в «Льстеце», утверждает, что «богатые аристократы по положению своему и состоянию обязаны делать больше, чем делают другие».
Глава IV
НАРОД ВЕСЕЛЫЙ И КРОТКИЙ…
Венеция, Дева прекрасная,
Иного такого города в мире нигде не сыщешь,
Имя твое назовешь, и сердце уже ликует.
Так живи же, Венеция, живи в веках,
И правь нами в мире и любви.
Они поют…
В воспоминаниях стареющего Гольдони Венеция предстает веселым городом, населенным добродушными людьми, не знающими ни ненависти, ни страданий; они тонко чувствуют музыку, ибо самому языку их присуще веселье. «Поют на улицах, на площадях и на каналах, — пишет он в своих „Мемуарах“, — торговцы поют, продавая свои товары, рабочие поют, возвращаясь с работы, гондольеры поют в ожидании своих господ. Основой венецианского характера является веселость, а основой венецианского говора — шутливость»[334]. В своей последней «венецианской» пьесе «На каждого лжеца всегда найдется лжец еще больший», написанной в Париже в 1765 г. для труппы театра Сан-Лука, Гольдони возвращается к диалекту и драматургической схеме комедий, создающихся специально для конца карнавала: он вводит в нее шутку, розыгрыш, собирающий действующих лиц пьесы за праздничным столом. Меню трапезы, которую Лиссандро, торговец дешевыми безделушками, устраивает для веселой компании прожигателей жизни в апартаментах маклера Гаспаро, разумеется, без ведома их хозяина, позволяет украдкой бросить взор на стол, накрытый для дружеской пирушки, где в изобилии имеются устрицы, каплуны, «жаренные в благоуханном масле», телячья печенка, копченые говяжьи языки, телячьи мозги, бриоши и море вина из Виченцы. Ибо, как утверждает трактирщик, «мы в Венеции, где ничего не производят, однако найти можно все и в любое время: только мигните, и все к вашим услугам. Заказывайте».[335]
И вновь мы убеждаемся, что память Гольдони подобна памяти путешественника. Всплывают отдельные впечатления, второстепенные подробности, речь уснащена непременными риторическими фигурами, взятыми из лексикона мифа о совершенном государстве, где процветают свобода и равенство, эти гаранты счастья всего населения. В X в. эта древняя идея была выражена следующим образом: «Беднота там живет на равной ноге с богатыми; все подкрепляют силы одной и той же пищей, у всех дома построены по одному образцу, так что никто не ревнует и не завидует соседу и жизнь ведет размеренную».[336] Порядок, гармония, незлобивость, спокойствие, свобода — вот слова, фигурирующие в заметках путешественников, когда те хотят выразить свое впечатление от жителей Венеции. «Лучший в мире народ», — пишет Монтескье, подчеркивая, что в театрах нет специальных охранников, а в городе нигде и никогда не возникает ни стычек, ни потасовок.[337] В 1765 г. Лаланд отмечает, что народ в Венеции «мягкий и покладистый, кроткий, спокойный, и с ним легко договориться»; особенно он настаивает, что «нигде народ не пользуется такой свободой, как в Венеции. Желания его совпадают с его возможностями, а возможности пропорциональны его средствам. Желает же он только то, что делает, а делает он только то, что желает». В 1782 г. цесаревич Павел высказывает те же мысли, только иными словами: «Народ образует единую семью»; по его мнению, все в Венеции «дышит уверенностью, чистотой и радостью».
Однако для Гольдони речь идет не об одних лишь воспоминаниях.[338] Все его «венецианские» комедии полны жизни, которая бурлит на улицах этого города: выкрики юного зазывалы одного из театров, расположенного на набережной Канала Гранде, призывающие маски войти в зал; поток брани, льющийся с уст гондольеров, не желающих уступить сопернику проход в узком канале;[339] оклики выгружающихся на берег рыбаков Кьоджи, призывающих на подмогу приятелей: «Эй, вы там, помогите-ка патрону Виченцо… Послушай, братец! Что, Беппо? Чего тебе?»; — шум потасовки, затеянной на берегу женами и дочерьми рыбаков;[340] веселые выкрики молодого разносчика-жестянщика, расхваливающего перед женщинами перекрестка свой товар. Тут же можно услышать звонкую пощечину, полученную незадачливым жестянщиком от соперника-галантерейщика за то, что юнец дерзнул преподнести букет его невесте, а следом призывные крики галантерейщика, расхваливающего свой товар: «Фландрские иголки! Ленты! Шнурки!»,[341] и распевный голос старьевщика, шествующего по улице среди других масок и интригующего кумушек: «Кто хочет продать старье-тряпье? У кого есть старое барахло? Вот он я, старьевщик, я всегда готов и купить, и продать ваше старье».[342] А в тумане холодного зимнего утра раздается свист мальчишки-булочника, который будит стряпух и напоминает им, что пора за работу — печь хлеб.[343]
К шуму, крикам и топоту, царящим на улицах и площадях, к тем звукам, которые трактирщик с перекрестка называет «адским шумом»[344] и которым с испугом внимает заезжий неаполитанец, Гольдони без колебаний добавляет плеск весел, которые гондольеры с шумом погружают в воду, журчание воды под кормой тартан, доверху груженных рыбой, фруктами и сеном, или просторных пеот, «очень удобных» лодок, «достаточно широких, чтобы перевозить сразу несколько человек, с красными тентами, низкими скамьями и столиком между ними» (они использовались для коротких путешествий и увеселительных прогулок).[345] Из комедии в комедию переходят наиболее характерные для Венеции звуки: треск мачт при столкновении двух лодок, брань разгневанных гондольеров, грубовато-веселые крики шумной компании, высаживающейся на Джудекке, где намечается дружеская пирушка на сто двадцать персон.[346] Царящие на сцене звуки дополняются песнями и музыкой. Застенчивый влюбленный заказывает исполнить серенаду под балконом своей возлюбленной, и музыканты, устроившись в украшенной фонариками пеоте, распевают слова венецианской канцонетты (песенки), сопровождая их оглушительной музыкой: «Кумир моей души, из-за вас я умираю от любви; и знайте же, любимая моя, что каждый день страдания мои становятся все ужаснее».[347]
Высадка на берег веселых приятелей с Джудекки происходит под трели скрипок, рассыпчатые звуки охотничьих рогов и прочих музыкальных инструментов.[348] Шумные тосты и возлияния, совершаемые посетителями на пороге таверны в «Перекрестке», становятся апофеозом всей пьесы, проникнутой искрометным юмором и весельем.[349]
Карнавальное веселье
Театр Гольдони — это театр игры. В нем играют в карты — разумеется, как заведено, в Ридотто или — что более благоразумно — у себя дома, в кругу друзей или родных; играют в сложную игру, в которой могут участвовать сразу шестнадцать игроков: они разбиваются на пары и бросают в тарелочку по одному сольдо. В комедии «Один из последних вечеров карнавала», написанной Гольдони накануне его прощания с Венецией, он усадил за игорный стол компанию венецианских ткачей и ремесленников; в ней в столовой Амэтра Дзамарии громко звучат пари, делаются ставки, а в блюдечки со звоном падают монетки. Есть и уличные игры, в которые играют на площадях, на открытом воздухе например, лото, называемое della venturina («попытай счастья»). Желающий попытать счастья и выиграть несколько оладий засовывал руку в мешок и наугад вытаскивал жетон с цифрой или же с картинкой, изображавшей Смерть, Дьявола, Солнце, Луну или Землю.[350] Столь же популярна была игра под названием «семола» (букв, «отруби»), заключавшаяся в том, что игроки прятали в большой куче муки, перемешанной с отрубями, несколько сольдо, а потом делили кучу на маленькие кучки и пытались угадать, в какой кучке лежит одна или несколько монеток.
Театр Гольдони — это еще и театр еды, где гастрономические пристрастия различных общественных сословий помогают воссоздать реальную обстановку, в которой живут люди определенного социального круга; еда придает комедии яркий колорит, обогащает ее вкусами, запахами и цветами кушаний, звоном бутылок и бренчанием ложек и вилок.[351] О еде говорят и неоднократно выводят ее непосредственно на сцену: там происходят приготовление еды, процесс накрывания стола и церемония расстановки кушаний. В «Перекрестке» участники импровизированного пиршества, устроенного в таверне по случаю обручения героев, заказывают трактирщику «добрый горшок супу, вдоволь телячьей печенки, соленый язык, несколько ломтей жареной ветчины, мозгов из мозговых костей, рис с копченой бараниной, упитанных каплунов и говядину, а еще телячье жаркое». Разумеется, всю эту гору пищи необходимо «спрыснуть добрым и хорошим винцом…» и не забыть принести побольше белого хлеба и бриошей. Лизоблюд дон Кикко, живущий на даче у своего приятеля и вовсю пользующийся его щедростью, добавляет к вышеперечисленному меню, и без того не скудному на мясные блюда, еще и кушанья из дичи — «бекасов, рябчиков и перепелов»:[352] начался сезон охоты и грех не воспользоваться его плодами. В обоих случаях речь идет о парадном меню, куда включены кушанья из всевозможной дичи, паштеты, пироги и десерты, отнюдь не каждый день фигурирующие на столе «честного торговца», умеренного в своих гастрономических пристрастиях. Трапеза мудрого Панталоне из «Ловкой служанки» даже на даче состоит из «супа с рисом или макаронами. Потом вареное мясо и хороший каплун, затем телятина или мелкая дичь. Потом штуфат или фрикадельки и всякие там разности, затем сыр, фрукты. Но у него нет ни паштетов, ни пирогов».[353]
Перед нами типичный венецианский обед. В Венеции коронным блюдом любого обеда является суп (minestra); его едят все, и его приготовление дает наибольший простор фантазии кулинара: суп из рыбы, суп из хлеба {panimbruo), суп из риса, суп из требухи, яичный суп.[354] Суп — как это для нас ни странно — едят в середине трапезы, и Труффальдино напоминает об этом одному из своих господ, уроженцу Турина, который требует, чтобы ему, по французской моде,[355] подали суп первым блюдом. Суп подают к вареному мясу и жаркому, главным образом к жареной свинине, являющейся основным новогодним блюдом. Надо сказать, что свинью съедали целиком, от легкого (fongadina) и до последней капли крови, использовавшейся для приготовления паштетов (sanguinaccio, sanguetto, «кровяные паштеты»). Из баранины готовили традиционное старинное блюдо под названием castradina (копченая баранина), пришедшее в Венецию из Далмации или Албании; также баранину солили и вялили на солнце.[356] Персонажи Гольдони часто едят баранину, этот символ гастрономической традиции; блюда из баранины часто противопоставляют различным местным и заграничным кулинарным новшествам, наводнившим Венецию, которые Гольдони с несвойственной ему грубостью называет свинствами, «испортившими желудки венецианцев». Например, вконец испорчен желудок мадам де Бине, большой любительницы поесть; она с нетерпением ждет трапезы, обещанной хозяином гостиницы, кавалером Джокондой, но ее ожидание напрасно:
Граф. Здесь готовят раз в день и едят вечером.
Мадам. А что, в сей прекрасной стране таков обычай?
Граф. Кавалер обращается с нами так, словно мы французы.
Мадам. Однако я очень голодна и хочу поесть.[357]
После мяса едят овощи. Ими Гольдони обильно приправляет все трапезы: фасоль, лук, горошек, шампиньоны, баклажаны, капуста, оливки, тыква и тыквенные семечки, лук-порей, петрушка, трюфели.[358] В отличие от овощей (к коим причисляются также и грибы), сыры не столь разнообразны: ricotta, мягкий сыр, напоминающий творог, и очень твердый сыр пармезан.[359] Финал трапезы — множество типично венецианских десертов. Театр Гольдони, можно сказать, наводнен десертами: giulebbe напиток из фруктового сиропа, смешанного с розовой водой; нежные buzolai — особый сорт пирожков; fritole — пирожные, в состав которых входят козье молоко, сливочное масло, розовая вода, яйца и шафран;[360] zaletti con zebibo — печенье из кукурузной и пшеничной муки, смешанной с яйцами, сливочным маслом и молоком, с добавлением мелко нарезанной цедры и изюма.[361]
Как это ни странно, но рыбу персонажи Гольдони едят мало, хотя в старинных венецианских поваренных книгах множество рецептов приготовления рыбы. Если верить граверу Гаэтано Дзомпини, рыба в XVIII в. «дешева и доступна самому последнему бедняку». Разумеется, дары моря имеются на столе у промышляющих в лагуне рыбаков из «Основания Венеции», и очень разнообразные (морской язык, угорь, барабулька, а также каракатицы и крабы). Рыбный стол рыбаков из Кьоджи не столь богат: они расхваливают сельдь (cospettone), которую в соленом виде едят в основном бедняки. На столах купцов и ремесленников сельдь встречается редко. Когда почтенные гольдониевские хозяйки слышат, как Анджела заявляет: «Пойду на Рыбный рынок, куплю несколько сардин, быстренько их обжарю и брошу in saor»,[362] — то и они, и зрители прекрасно понимают, о чем идет речь: после того как сардины слегка обжарят, их кладут на двое суток в ароматный маринад, приготовленный из мелко нарезанного лука, смешанного с оливковым маслом и теплым уксусом, куда затем добавляют семена пинии, изюм и мелко нарезанную цедру, а затем полученную смесь прогревают.[363]
Эта шумная, радостная, жующая, благоухающая и музицирующая Венеция, представшая на сцене благодаря таланту Гольдони, в реальной жизни имеет вполне определенные координаты. Звуки и шумы, воссоздаваемые на сцене, действительно раздаются в разных уголках города; к примеру, благодаря привычке перекликаться с малознакомыми людьми Карло Гоцци сумел завести интрижку с соседкой напротив; приходская площадь, центром жизни которой является общественный колодец, служит местом ежедневных встреч, а значит, и разговоров, диалогов и перепалок. Гольдони не может Обойти стороной ни карнавальное веселье, ни кулинарное изобилие.
Комедия и карнавал всегда имели много общего. Ибо время комедии, время сценического действия выстраивается в реальном времени, так же как выстраивается и время карнавала, на который приходится главный театральный сезон. Уподобление комедии карнавалу у Гольдони происходит постоянно, особенно в его «венецианских комедиях», предназначенных для показа в скоромные дни. Однако в них всегда содержится определенный эпизод или намек на его комедии, в которых персонажи живут в мире, вымышленном драматургом, этом своеобразном «иномире», благодаря которому он может вкладывать в уста своих персонажей критику или защиту собственных сочинений. Таким образом, комедия воспроизводит карнавал во всех его составляющих, она впитывает сам дух карнавала. Ежегодная ритуальная пауза, именуемая карнавалом, означает прекращение работы, погружение в мир наоборот, где все, что выходит за рамки привычного, становится возможным: мир преображается, все водят друг друга за нос, все кутят напропалую, дурачатся на словах и на деле, удовлетворяют свои страсти и страстишки. «Во время карнавала все позволено. Но не стоит забывать, что одновременно идет и подготовка к посту».[364]
В Венеции действа и обряды, исполняемые в карнавал и пост, не отступают от традиционной схемы. 2 февраля, на Санта-Мария Формоза, праздновали Сретение. В «жирный вторник» сжигали чучело Карнавала, а затем устраивали его похороны. В отличие от других городов кульминационный момент карнавала в Венеции переносили на «жирный четверг», чтобы как следует, «на всю катушку» отметить последний день перед постом. В эти дни часто устраивали охоту на быков. Одна охота была официальной, ее проводили во дворе Дворца дожей, совмещая карнавальный ритуал и празднование исторического события — победы венецианцев над патриархом Аквилеи Ульрихом. В этот день кузнецы и мясники убивали одного быка, отрубали ему голову, а мясо преподносили сенаторам. Патриции также устраивали охоту на быков в своих приходах (в частности, в приходах Риальто, Санта-Мария Формоза, Сан-Джоббе, а иногда даже на площади Сан-Марко — в честь приема какого-либо официального лица, как это было, например, в 1740 г. по случаю прибытия короля Польши или в 1782 г. по случаю визита графа и графини Северных). В таких случаях на быков, но не на боевых, а на смирных бычков, и без того обреченных на бойню, спускали собак; чтобы быки не могли видеть собак, вцеплявшихся им в уши, их удерживали на веревках двое «тянульщиков».
Праздновали и наступление середины поста — «распиливали старушку». «Старушка» делалась из пакли и гипса, ее наряжали в красивое платье и выставляли на разных площадях: Сан-Лука, Сан-Джованни Кризостомо, Сан-Кассиано, Сан-Филиппо-э-Джакомо. На площади Сан-Лука «старушку» ставили на площади напротив аптеки, именовавшейся, судя по вывеске, «Старушкой», и двое мужчин принимались перепиливать ее пополам, в то время как из каждой половины буквально фонтаном исторгались сухие фрукты, изюм, каштаны, печенье и сладости. Затем останки «старушки» сжигали. По словам Гревемброка, это был один из способов высмеять престарелых красоток, озабоченных поисками мужа. Тогда же на всех площадях устраивались шутовские игры: надо было незаметно украсть сидящую на привязи собаку; взобраться по смазанному салом шесту и достать круг колбасы или фляжку с вином; зубами поймать угря в кадушке с окрашенной в черный цвет водой; обрив голову наголо и не надевая шляпы, вступить в поединок с кошкой и задушить ее; свернуть шею гусю.[365] Над головами горожан летали наполненные ароматическими настойками яйца, которыми ловко швырялись frombolatori, люди в масках и шутовских костюмах, выбиравшие мишенью в основном своих приятелей, молоденьких девушек и уродливых старух, любовавшихся зрелищем со своих балконов.
От обряда к развлечению
Как и везде, в Венеции любили веселье; однако, на наш взгляд, в XVIII в. там его любили больше, чем везде. Во время карнавала веселье и развлечения «били через край», карнавальные обычаи постепенно утрачивали свою значимость, уступая место бесчисленным развлечениям, не отягощенным традициями. Де Бросс, уже посещавший Венецию в августе, уступил настоятельным советам друзей и приехал туда во время карнавала, продолжающегося более шести месяцев — с 5 октября до праздника Вознесения Богородицы. Этот период включает в себя три театральных и праздничных «сезона»: «Первый продолжается с начала октября до 16 ноября, затем… все время карнавала и День святого Марка и потом две недели на Вознесение, и это не считая особых празднеств, как то: выборы дожа, въезд прокураторов и Великого канцлера; однако ни один из этих праздников никогда не приходится на пост».[366] Во время карнавала по городу можно ходить в масках, носить бауту: венецианский карнавальный наряд, состоящий из белой полумаски (прежде ее называли larva, «призрак») с прикрепленным к ней куском черного шелка, закрывавшего нижнюю часть лица, шею и затылок, и широкого черного плаща с черной кружевной пелериной; на голову надевалась треугольная черная шляпа. Также носили мореты (morette) — маленькие круглые черные маски, условно изображавшие лицо. На месте рта у них изнутри был небольшой шпенек, который приходилось зажимать зубами, чтобы маска держалась перед лицом, — по словам Казановы, такие маски делали женщин загадочными, а главное… молчаливыми.
В скоромные дни начинался собственно маскарад. Тогда наряду с баутами, которые хотя и скрывали лицо, но не изменяли полностью всего облика, на улице появлялись люди в маскарадных костюмах. Среди них были персонажи комедии дель арте — Траканьины или Арлекины, Бригеллы, Доктора, старики Панталоне, Пульчинеллы, словом, все те, кто толпится и танцует на фресках и полотнах Джандоменико Тьеполо, та самая толпа, где рядом с нобилями в пудреных париках и дорогих костюмах весело отплясывает самый разный люд, переодетый кто во что горазд: черти с надутыми пузырями, шуты, обвешанные колокольчиками, амазонки, мавры, лихо скачущие вокруг площади Сан-Марко, медведи, которых для пущей убедительности тянут на цепочках, короли со скипетрами, германцы в рогатых шлемах, евреи, оплакивающие карнавал, турки, курящие трубки, и целое созвездие уличных ремесленников: башмачники, птицеловы, кондитеры, старьевщики, трубочисты, цветочницы, продавцы песка, дрессировщики сурков, мусорщики, угольщики, галантерейщики, торговцы полентой, плетельщики стульев. Патриции пользовались карнавальным временем, чтобы безнаказанно подебоширить, а пополаны — чтобы пощеголять в адвокатских мантиях или даже в патрицианских одеждах, баутах, полумасках и роскошных шляпах.[367]
Подобно всем прочим городским карнавалам, венецианский карнавал в конце XVIII в. утратил свой исконный, глубинный смысл. Разумеется, обычаи еще не забыты: по-прежнему устраивают похороны Карнавала. Габриэле Белла запечатлел на своем полотне группу калабрийцев, несущих на плечах гроб, за которым, с молитвенниками в руках, следуют печальные поклонники Карнавала. Калабрийцы-могильщики упоминаются и в 1788 г.: романист и журналист Антонио Пьяцца восторженно описывает похоронную процессию, освещаемую маленькими факелами, прикрепленными к шляпам сопровождающих.[368] По-прежнему устраивают охоты на быков. Габриэле Белла с удовольствием изображает их на своих полотнах. Однако ритуал этих охот значительно упростился. Официальную охоту, устраиваемую, в частности, в «жирный четверг», перестали связывать с празднованием событий, отошедших в далекое прошлое.
Согласно давнему обычаю, во время такой охоты забивали двенадцать свиней и одного быка, которому отрезали голову; когда же члены Синьории возвращались в зал Piovego, где по такому случаю строили деревянный замок, сенаторы, вооруженные щитами, побеждали их. Обычай сей показался Андреа Гритти смешным, и он перестал соблюдать его, сохранив лишь напоминание о нем. Теперь утром «жирного четверга» в соборе Св. Марка музыканты стали исполнять торжественную мессу, именуемую Охотничьей; музыку к сей курьезной мессе сочинил некий капельмейстер, кажется, немец по национальности, и всякий раз толпа ломится ее послушать. После трапезы начинается уличное шествие: впереди идут кузнецы и мясники, за ними чаще всего шествуют евреи с палками и пиками, а также прочим оружием, взятым из залов Арсенала и Совета десяти. Под барабанный бой, развернув знамена и сохраняя строгий порядок, они идут до самой площади Сан-Марко, и там в честь праздника, на глазах у публики и правительства Республики одному или нескольким быкам со всеми надлежащими церемониями отсекают головы.[369]
Зрелищная сторона охоты была усилена: костюмы ее организаторов стали разительно отличаться от костюмов зрителей. С XVI в. охота сопровождается выступлениями акробатов и прочих трюкачей. Незабываемое впечатление производил номер под названием «Полет турка», «смертельный прыжок», во время которого самые храбрые рабочие Арсенала в шутовских костюмах, используя самые фантастические средства передвижения, с риском для жизни взлетали по туго натянутому канату на вершину Дворца дожей. «Один из них взгромоздился на сатира, — рассказывает Гаспаро Гоцци, — другой уселся в ящик с веслами и притворился, что летит по воздуху; третий отправился в путь с двумя пушками, привязав их к ногам и рукам». Иногда игра оканчивалась смертельным исходом: смельчак напарывался на архитектурные украшения, коих на фасаде было множество.[370] Игры под названием «Геркулесова сила» были менее опасны. Речь идет о живых пирамидах, сложных и многоэтажных, которые составляли сами горожане: кастелланцы — от приходов, расположенных вокруг Кастелло, и никколоты от приходов, расположенных вокруг Сан-Никколо в Дорсодуро. Эти физкультурные упражнения привлекали публику на Пьяцетту, где по распоряжению властей сооружали высокую деревянную башню с лоджиями и прилегающим к ней помостом; по форме и раскраске сооружение напоминало многоэтажный торт. Таким образом в «жирный четверг» местом всеобщего притяжения становилась Пьяцетта: там собирались не только простые венецианцы, но и городские власти. Вечером «торт» озарялся огнями фейерверков. Как утверждает Гоцци, в феврале 1761 г. постройка была особенно великолепна, «в три этажа, на каждом из которых после окончания фейерверка зажглись огни; также на этажах разместились оркестры, и каждый играл по нескольку часов подряд и продолжал играть даже после окончания праздника». Неудивительно, что в такие дни город гудел, звенел и полнился теми же криками и возгласами, что мы слышим на сцене, когда играют гольдониевские комедии. «Подобно воде, с шумом вырвавшейся из раскрытых ворот шлюзов, что расположены ближе к Сан-Джиминиано, — пишет Карло Гоцци, — толпа, скопившаяся на Мерчерии и прилегающих улицах, вырвалась на площадь. Масок было числом легион. Выкрики канатных плясунов, волынки паяцев, песни, исполняемые Смуглянкой и Рыжухой, этими малиновками наших подмостков, были поистине оглушительны».[371]
Разумеется, праздники не обходятся без еды, однако трапезы не носят ритуального характера: речь идет о приеме пищи, отвечающей вкусам времени. В 1759 г. Градениго отмечает, что хорошо «идет торговля кофе, а также всевозможной едой, особенно деликатесами и сладостями; не остаются в накладе и торговцы пышками, пирогами, сочными фруктами и лимонами», что толпятся на площади Сан-Марко, и создается впечатление всеобщего изобилия. Лотки торговцев кофе и кондитерскими изделиями соседствуют с подмостками циркачей, устанавливаемых в различных уголках Сан-Марко и Пьяцетты, под аркадами Старых прокураций и даже Колокольни. Нет нехватки и в разного рода шарлатанах, продавцах всевозможных зелий и зубодерах: один из них, Джузеппе Коломбани, прозванный Ломбардским Герольдом, ибо родом он был из Пармы, в течение двадцати четырех лет занимался исцелением возле третьей колонны Брольо, пользуя страдающих водянкой, параличом, подагрой и апоплексией, мочекаменной болезнью и чахоткой… Услышав выкрики зазывал, толпы любопытных устремлялись к подмосткам «мудрейших астрологов», которым «беспрерывно» предлагали решать «неразрешимые загадки», к шатрам (casotti), где показывали дрессированных животных, в том числе «птиц и рыб, живущих в стеклянных шарах», демонстрировавшихся, в частности, в 1760 г., к подмосткам, где выступали канатные плясуньи, или в маленькие театрики марионеток, бывшие в ту пору излюбленным зрелищем простонародья.[372]
С XVI в. разного рода фокусники и скоморохи пользовались повышенным вниманием зрителей; актеры, играющие комедию дель арте, учились у них приемам работы, заимствовали их шуточки. Сам Гольдони многому научился у знаменитого в XVIII в. скомороха Буонафеде Витали.
В моду входит и все необычное и экзотическое. Пристрастием публики к «экзотике» воспользовались хозяева гостиниц: стремясь привлечь побольше посетителей, они стали предоставлять комнаты «монстрам». В 1760 г. в городе распространился слух, что в гостинице Сан-Луиджи, что возле Санта-Мария Формоза, проживает француженка шестнадцати лет, симпатичная и пропорционально сложенная, однако размеров необъятных, коими она уже успела поразить Версаль и Турин; спустя два года в той же гостинице можно было увидеть итальянского великана Бернардо Джилли, такого огромного, что «никто не мог достать головой даже до его руки». В феврале 1777 г. любопытные устремились в «Гостиницу трех королей» в Сан-Бенедетто, где можно было увидеть морское чудовище, существо, напоминающее морскую корову, с «головой тигра, туловищем рыбы, человеческими руками и полосатой шерстью».[373] Зверинцы на площади Сан-Марко множились. В 1750 г. в одном из них выступала укротительница-француженка с львицей, затем в другом зверинце появился носорог, доставленный из Азии капитаном Дэвидом Мотуаном Тощим; в 1751 г. сего носорога обессмертил художник Пьетро Лонги. В январе 1755 г. там же можно было полюбоваться пятнистым гепардом, львом и персидским тигром, а в мае — огромной дикой и свирепой обезьяной, привезенной из Африки неким Андреа, зятем знаменитого шарлатана Гамбакурта. Затем настала очередь дромадера, или «верблюда с горбами», привезенного в 1761 г. Однако кульминацией «звериных зрелищ» стало прибытие в Венецию 31 января 17б2 г. льва, гастролировавшего по дворам европейских монархов от Вены до Баварии; лев этот был столь кроток, столь чистоплотен, столь мил и столь послушен, что хозяин его мог без страха «держать его рукою за язык, садиться на него верхом, пожимать ему лапу и обнимать его».[374] Льва прозвали Дамским Угодником и на протяжении всего карнавала «приглашали в благородные дома и в приемные женских монастырей». Как пишет Градениго, льва повсюду сопровождали «мальтийские псы: одни сидели на нем верхом, другие зарывались в его гриву. Собаки, наряженные солдатами, танцевали вокруг царя зверей английские танцы, и… казалось, развлекали его». Все эти чудеса можно было видеть в казотто на площади Сан-Марко; на своем холсте Лонги запечатлел этого льва «в натуре».
Карнавал, уходящий в прошлое
Как сообщает нам Гольдони, самым знаменитым и самым посещаемым аттракционом был «Новый Свет», специальный аппарат оригинальной конструкции,
Который открывает вашему взору чудеса
Посредством магии оптических стекол,
И вам ни за что не понять, откуда эти чудеса взялись.
Изобретатели поставили на Сан-Марко несколько таких аппаратов,
И народ, словно обезумев, во время карнавала
Толпился вокруг, желая посмотреть…
Всего за одно сольдо вы и посмеетесь, и посмотрите диковины,
Увидите битвы и посольства,
И регаты, и королев, и императоров.[375]
Для приверженцев рационализма XVIII столетия завоевавший Венецию аттракцион «Новый Свет» был всего лишь «волшебным» ящиком со множеством картинок; при помощи специальных приспособлений из картинок получались всевозможные фантастические истории. Ящик этот — символ той иллюзии, в которую, по их собственным свидетельствам, охотно погружаются пополаны, предпочитающие иллюзорное существование реальной жизни. Именно в иллюзии рационалисты видят источник — разумеется, неоднозначный, скорее даже призрачный, — народного веселья. «Сенат благоволит к ремесленникам и мелкому люду, — пишет Лаэ Вантеле, — он постоянно льстит горожанам, к месту и не к месту упоминая о „венецианской свободе“, которая на деле заключается только в том, что пополанам разрешено участвовать в тех же развлечениях, что и патрициям, жить в праздности и предаваться различного рода излишествам; Венецианская республика использует развлечения как приманку, чтобы позабавить народ и привлечь иностранцев». Венецианская свобода — это своего рода «Новый Свет», приглашение к путешествию, но к путешествию иллюзорному, во время которого путешественник всего лишь топчется на месте в запертом помещении. По крайней мере, именно так можно понять послание Джандоменико Тьеполо, зашифрованное в его фресках под названием «Новый Свет», которые он создаст спустя тридцать лет, расписывая виллы на материке — виллу Вальмарана (1757) и виллу в Дзианиго (1791). Действительно, как можно иначе истолковать картину, где изображен народ, толпящийся вокруг одного из сулящих чудеса павильонов, народ, прилепившийся к щелям балагана, спиной к зрителям, коими являемся мы с вами? Только одежда свидетельствует о том, что это сценка не из нашего времени.
Правительство использовало карнавал как своего рода клапан, с помощью которого можно было высвободить энергию народных масс, предоставив им видимость власти. Такова была первая функция карнавала. В Венеции она выражалась в организации двух «армий»: кастелланцы и никколоты; обе «армии» формировались в сестьере, члены их получали определенные роли, соответствовавшие их общественному положению; затем обе группы устраивали жестокие кулачные бои на городских мостах. Организованы эти «армии» были по образцу правительства. Из никколотов избирался «дож», пользовавшийся, по словам Боэрио, весьма существенными правами и преимуществами. Одетый в красный камчатный плащ с широкими рукавами, какие обычно носят патриции и сам дож, он получал привилегию участвовать в церемонии обручения с морем и следовать на лодке в фарватере «Буцентавра». Ему также давалось право взимать налог с рыбачьих лодок в своем приходе и поставить два рыбных прилавка на рынках Сан-Марко и Риальто. Последний «дож» из никколотов, некий Дабала, даже стал членом Временного муниципалитета, организованного в 1 797 г. после отставки Большого совета. Подобная игра «во власть» велась не только в Венеции. Однако в отличие от других городов, таких, как Сиена или Флоренция, где под цветами и знаменами contrade (районов), отвечавших за организацию ежегодных рыцарских турниров, собирались, по сути, партии горожан, в Венеции принадлежность к группе красных беретов и красных поясов (у кастелланцев) или же черных беретов и черных поясов (у никколотов) никогда не означала поддержку тех или иных политических сил. Правительство заботилось о том, чтобы организации горожан оставались игрой, и периодически издавало специальные декреты, запрещавшие им заниматься общественной деятельностью; эти декреты действовали вплоть до 1794 г. Если обычно за основу объединений брался принцип единства сестьере, то в данном случае был взят принцип географический, иначе говоря, расположение на берегах Канала Гранде, главной артерии города. Организации кастелланцев и никколотов, несмотря на их номинальную привязанность к двум зонам проживания простого люда, на деле обладали централизаторской функцией, помогая на практике осуществлять контроль над разобщенными приходами.
Начиная с XIV в. Совет десяти контролирует подготовку и проведение праздников; обязанность эта возлагается на офицеров из организации, надзиравшей над расходованием и поступлением государственных денег и обладавшей правом принимать решения. Проверка ведется скрупулезно и пунктуально: сумма, ежегодно расходуемая государством на проведение празднеств «жирного четверга» — помост на Пьяцетте, оплата ремесленников, актеров, различных помощников, — не должна превышать 100 дукатов. В XVIII в. надзор и система подавления бесчинств, коих во время карнавала, этого периода всеобщей вседозволенности, становится все больше и больше, получают дальнейшее развитие, ибо система, совершенно очевидно, желала сохранить идеальный образ города. В июле 1789 г. запрещают бои между никколотами и кастелланцами, кулачные бои в целом и прочие развлечения подобного рода, собирающие «слишком многолюдную толпу».[376] Строгие кары, включая штраф размером в 20 дукатов, ждут нарушителей запрета о ношении оружия — обычай, получивший распространение уже в XVII столетии; маскам строго запрещено носить дубинки, железные палки, трости с острым концом, острые палки или любые другие заостренные предметы. Запрещено, переодеваясь солдатами, носить ружья. Если из-за небрежности ремесленников или строителей, нанятых для постройки трибун для «охоты» или помостов на Пьяцетте, происходил несчастный, или, паче чаяния, смертный случай, виновника ожидало суровое наказание. Ношение масок порождало практически неограниченную свободу слова и поступков, что также не могло не вызывать тревоги. Совет десяти неустанно издавал декреты, регламентирующие поведение масок. В 1739 г. он осудил всех, кто злоупотребляет ношением маски и не снимает ее целый день; более того, он запретил носить маску во время религиозных праздников, а также в часы, которые должно посвящать молитвам. Содержатели кофеен обязаны были доносить на всех, кто днем появлялся у них в заведении в маске. В 1751 г. ранним утром совершавшие очередной обход сбиры схватили некоего Дзуана Джусти, ибо тот был в маске, и бросили его в тюрьму.[377] В 1759 г. несколько пополанов, переодевшись в костюмы адвокатов, стали держать речи на запрещенные темы, за что также были брошены в тюрьму. Разумеется, никто не имел права облачаться в костюм дожа или государственного советника. Все, что могли счесть непочтительным отношением к религии, было строжайше запрещено: входить в бауте и плаще в храм, переодеваться священником, монахом или пилигримом. Особенно тяжким преступлением считалось, когда в духовное лицо переодевались женщины.[378]
Стремление наставить всех на путь истинный находит поддержку в доносах и тайных соглядатаях. В полицию сообщается обо всех дебоширах и любителях вольных речей: «Заверяю, что там было очень много масок, и все они страшно шумели, а приветствовали друг друга и вовсе визгами, подражая крикам младенцев; ближе к полуночи я услышал, как у Стефано трое в масках во весь голос распевали „Маленькую блондинку в гондоле“, а в другом углу зала, что выходит на набережную Скьявони, некто в маске напевал песенку „Доктор“, которую наверняка прежде слышал в театре Сан-Кассиано. А еще я видел, как из лавки с ругательствами выскочила маска и обозвала другую маску „сыном шлюхи“».[379] Присутствие многочисленных иностранцев и гостей, привлеченных зрелищами, игрищами, музыкой, театром и «дозволением не снимать маску», которым прежде всего пользовались приезжие, желавшие сохранить инкогнито, подрывало сложившиеся социальные устои; правительство было вынуждено принимать усиленные меры предосторожности, чтобы сохранить былую репутацию города.
Отношение Венеции к иностранцам, прибывавшим как из других городов Италии, так и из венецианских колоний или же из «настоящей» заграницы, крайне противоречиво. Открытый город-порт, город интенсивного товарообмена, город-космополит, Венеция принимает иностранцев, интегрирует их в свое общество — и тут же устанавливает для них определенные юридические рамки. Существует особое Бюро по делам иностранцев, занимающееся гражданскими и правовыми вопросами, относящимися к коммерческой и производственной деятельности иностранных граждан.[380] Однако правительство Венеции исповедует политику протекционизма, поэтому город удерживает иностранцев на расстоянии, относится к ним как к чужакам и контролирует их. В связи с большим притоком иностранцев, главным образом туристов, за ними постоянно начиная с XIII в. идет усиленный контроль, и первыми «контролерами» становятся хозяева гостиниц. «Гостиницы обязаны сообщать куда нужно имена, фамилии, родину и общественное положение каждого постояльца. Если этого не сделать — беда!» — поясняет Фабрицио, преданный слуга из «Трактирщицы», двум заезжим комедианткам. Чиновники, назначенные надзирать за нравами (Esecutori contro la Bestemmia, букв.: «наказывающие за богохульство»), следили за гостиницами особенно бдительно. А отправляясь с проверкой в игорные дома, они надевали маски.
Капитан Пьетро Манаретти, из числа Esecutori, надев бауту, вместе с несколькими агентами в десять часов отправился в гостиницу «Рицца», что возле Сан-Бассо, и застал там лиц, имевших привычку день и ночь играть в бассет и фараон; капитан конфисковал бывшие в банке сто лир, игорные столы и стулья, а затем призвал игроков, среди которых были даже священники, к ответу, а именно наказал им на следующий день явиться в суд, а хозяина гостиницы приговорил к штрафу в шесть серебряных дукатов.[381]
Нет никаких подтверждений, что ужесточение контроля улучшало положение вещей; напротив, нарастающее число запретов свидетельствует об обратном, равно как и реплика одной из двух комедианток, остановившихся в гостинице Мирандолины под видом благородных дам: «Многие ведь дают вымышленные имена».[382] Под вымышленными именами путешествуют даже князья. В 1755 г. курфюрст Кёльнский дважды побывал в Венеции, где его официально и с подобающей пышностью принимали на Джудекке, а когда официоз ему наскучил, он под именем графа Верта остановился в «Гостинице святых апостолов» и, пользуясь свободой, даруемой ношением маски, инкогнито посещал театры и наносил визиты своей подруге графине, недавно удалившейся в монастырь. И все же, сколь бы ни нарушались запреты, они тем не менее существовали, и это свидетельствовало об изменении самого духа карнавала.
Какова же реальность, та, что прославлена многими путешественниками, где есть место и безудержному веселью, и буйству красок, и музыке, и пению, и гастрономическим излишествам, и одновременно неусыпному надзору полиции, всевозможным запретам и урезаниям бюджетных средств? Подобно самой Венеции, венецианский карнавал постепенно утратил былую славу. Он превратился в демонстрацию разнузданности, перестал исполнять свою объединяющую функцию, и теперь ему с ностальгической тоской противопоставляли карнавалы прошлого:
Венецианский карнавал утратил свои традиции, что делали его в прежние времена столь приятным. Тогда на него приезжали знатные сеньоры из всех европейских городов, маски отпускали остроумные шуточки, и все были одеты в дорогие костюмы различного покроя. Приемов, на которые приглашали друг друга, было множество, мужчины и женщины разгуливали в пестрых костюмах, а толпа на площади Сан-Марко казалась восхищенным зрителям пестрой мозаикой. Украшения, кружева, шитье, драгоценные камни и жемчужины были нашиты с большим вкусом и являли собой восхитительное зрелище. Плебеи и патриции, слуги и господа — все выходили на карнавал, одетые в костюмы соответственно своему положению… Каждый беспрепятственно мог отправиться посмотреть комедию, разыгрываемую доблестными комедиантами… отведать превосходный обед и отправиться танцевать, ибо танцы устраивали и тут и там, и все танцевали так, как положено, и каждый делал те движения, что пристали его полу, и не подражал полу противоположному.[383]
Если исключить местный колорит, пение и пестроту красок, присущие отдельным сценам, то театр Гольдони также свидетельствует об упадке былой славы карнавала. Ревнивая синьора Лукреция, сидя дома у окна, выходящего на улицу с лавками, замечает, что мимо идут двое бедно одетых людей в масках, и с грустью произносит: «Ах, до чего же здесь ходит мало масок, а ведь погода сегодня, прямо скажу, отменная». Соседки поддерживают ее сетования, из их слов становится ясно, что карнавал, в сущности, проходит на Сан-Марко и на торговых улицах Мерчерии или Фреццарии, и «все сейчас на площади Святого Марка».[384] Карнавал, бушующий на главной площади, — это карнавал иностранцев, довершающий разрушение былого общественного равновесия, как экономического, так и морального, и восстановить это равновесие правительство уже не в силах. Озабоченные сохранением репутации, купцы запрещают посещать этот претерпевший глубинные изменения карнавал своим женам, оставляя на их долю, по словам Градениго, лишь радость воспоминаний:
Моя мать была женщиной образованной, и когда ей что-то не нравилось, она знала, как позвать на помощь, и сама могла отвесить звонкую пощечину. В свое время она отпускала нас развлечься… Мы ходили туда, где давали веселые комедии… И только представьте себе! — мы бывали даже в Ридотто, не говоря уж о Пистоне и Пьяцетте, видели астрологов и театр марионеток, заходили в зверинцы и к дрессировщикам. А ежели оставались дома, то принимали гостей. Приходили родственники, друзья и даже молодые люди… и представьте себе, мы везде чувствовали себя в безопасности.[385]
По мнению Гольдони, люди утратили былую сердечность, растеряли умение естественным образом удовлетворять свои желания, умение общаться на улице и в гостях. В XVIII в. карнавал скорее разъединяет, нежели объединяет. Девушки с Джудекки презирают щеголей, которые, подражая парижанам, выпячивают грудь и, выставив напоказ новое платье,[386] гуляют по Листону — участку площади Сан-Марко, с одной стороны ограниченному Старыми прокурациями, а с другой — полосой, выложенной белой брусчаткой. В День святого Стефана прогулка по Листону в маске — не просто удовольствие, а, можно сказать, обязанность щеголя, ибо гулять там нет никакой возможности — все толпятся, задевают друг друга локтями, с трудом продвигаются вперед, но только для того, чтобы тотчас подать назад. Для фанатиков, подобных Гаспаро Гоцци, на Листоне, «по-королевски великолепном… пахнет стычками и поединками», и это приводит его в восторг.[387] Для мудрых дев Гольдони выйти на Листон означает запятнать себя: «Вы что, хотите пойти на Листон? Потолкаться среди разряженных как павлины щеголей? Да там шагу ступить негде: кругом одни Труффальдино, Полишинели, травести, словом, сплошь мошенники, прицепятся — не отстанут, а коли вдобавок наденешь хорошее платье, так его тут же запачкают».[388] Вот почему, когда надо вывести на сцену карнавальную толпу в масках, ее в основном оставляют за кулисами, откуда на сцену долетают лишь отголоски — обрывочные впечатления, которыми обмениваются в укромных уголках на улицах, перекрестках или же дома. Во всех этих местах, составляющих среду повседневного обитания, как общественную, так и приватную, «свои» игры, «свои» традиционные песни, «свои» скромные увеселения, «свои» венецианские кушанья безоговорочно противопоставляют развлечениям официальным. Персонажи комедии «Перекресток» принимают в свой круг неаполитанского кавалера, прибывшего в Венецию в поисках денег и острых ощущений, потому что кавалер устраивает для них угощение, но, насытившись, немедленно изгоняют его из своей среды, и тот остается в растерянности, не в состоянии понять ни нравов, ни привычек венецианцев: «Приходится признаться, что я больше выпить не могу, никогда еще я не проводил время так весело, как провел его сегодня. Однако я больше не держусь на ногах, у меня болит голова», — заявляет он и, пошатываясь, покидает трактир.[389] То, что происходит на перекрестках, в этих подлинно венецианских уголках, не имеет ничего общего с жизнью, протекающей на Сан-Марко, площади проходной, туристической, где всегда толпятся иноземцы, где пополаны представлены всего лишь несколькими масками призрачными символами общественного согласия и взаимопонимания. Согласие это воистину призрачное, но иностранцы остаются в убеждении, что если патриции могут дурно обходиться с читтадини, то с простонародьем, напротив, всегда обращаются «чрезвычайно ласково».[390]
«В мире и любви…»
Понятие «чрезвычайно ласково» включает в себя целый комплекс представлений, основанных на мифе о свободе и процветании народа Венеции — мифе, нашедшем свое отражение даже в песнях гондольеров. В создании мифа о правительстве, насаждающем «мир и любовь», немалую роль сыграла организация труда и система социальной поддержки, развивающаяся с XIII в. в недрах цеховых корпораций ремесленников и скуоле. Первые тесно связаны с экономической и коммерческой деятельностью Республики, обеспечивающей ремесленникам выгодный рынок сбыта.[391] Стеклодувы, красильщики, мыловары, изготовители черепицы, кирпичей, солевары и представители прочих ремесел потребляют и обрабатывают продукты, поступающие из заморских территорий. К ним, разумеется, следует добавить ремесленников-корабелов, строителей больших морских судов и небольших лодок, работающих как в маленьких доках, так и в Арсенале, а также золотых и серебряных дел мастеров и работников, чеканивших монеты, в том числе золотые. Корпорации быстро подчиняют себе все основные сферы повседневной жизни и культуры, одежду, питание, транспортные средства, издательское дело, развлечения, все, что относится к сфере производства и сбыта. Они берут под контроль так называемые благородные ремесла, например, производство стекла или аптекарское дело, и члены этих корпораций получают разрешение брать в жены дочерей нобилей. Корпорации прибирают к рукам также ремесла низшие, требующие ручного труда, включая тряпичников. В период расцвета в Венеции насчитывается никак не меньше сотни корпораций, а среди пополанов ремеслом занимаются 32 887 мужчин и 31617 взрослых женщин; к их числу следует прибавить еще 40992 юношей и девушек; общая численность населения в это время равна примерно 135 тысячам жителей. В XVIII в. существует около ста тридцати корпораций, при том что численность активного населения практически не изменилась.[392] Ремесел, в которых занято так мало людей, что они не могут быть организованы в корпорации, немного, — к ним относятся, например, изготовители очков или создатели музыкальных инструментов, — в таких случаях их чаще всего присоединяют к корпорации ремесленников, изготовляющих сходную продукцию.
Внутренняя организация венецианских корпораций следовала общеевропейской модели. Во главе корпорации стоял капитул — руководящий совет во главе с цеховым старшиной (gastaldo). В его обязанности входили надзор за строгим соблюдением устава (на венецианском наречии mariegola) и улаживание внутренних конфликтов. В случае если совет не мог разрешить вопрос, стороны могли обратиться в суд, в распоряжении которого имелись копии уставов и списки членов всех корпораций; суд этот именовался Джустициа Веккиа (Giustizia Vecchia). Порядок проведения заседаний капитула был строго регламентирован. Как и в Большом совете, запрещено было приходить на заседания с оружием и устраивать драки или потасовки; нарушителям грозило исключение на десять лет и штраф в два дуката.
Профессиональная иерархия, как и повсюду, была трехступенчатой. На первой ступени стояли «мальчики», или ученики, срок пребывания в этом звании мог составлять от пяти до семи лет; затем ученик поднимался на ступень «юноши», или «работника», подмастерья; срок пребывания в этом звании мог растянуться до двенадцати лет; наконец, третья ступень давала право на звание «мастера» и «старшины» (maestro и capo-maestro). Средний возраст для начала ремесленной карьеры — тринадцать-пятнадцать лет. Совершенствование в избранном ремесле происходило медленно и под бдительным надзором. В конце периода ученичества старшина проверял соответствие способностей мальчика уставу корпорации, и только в случае положительного результата проверки молодой человек получал свидетельство, позволявшее ему приступить к самостоятельной работе. Как и повсюду, стать старшиной можно было только после того, как образцовое изделие, «шедевр», изготовленный кандидатом, будет представлен комиссии экспертов и получит ее одобрение. В руках мастеров и старшин, стоявших на вершине ремесленной иерархии, была сосредоточена вся власть. Только они имели право голоса в руководящей ассамблее, только они давали разрешение на открытие лавки и ведение торговли. Напротив, ученики находились в полной зависимости от своих хозяев и в период ученичества не имели права менять мастера.[393]
Система была совершенно закрытой. Число членов каждой корпорации было ограничено, в целом же оно варьировалось в зависимости от профессии: например, корпорация угольщиков состояла всего лишь из 35 человек, обладавших «правом торговать вразнос», «грузить уголь, привезенный в Венецию, и развозить его в общественные места, общины, частные заведения и дома». Ткачей же в 1769 г. было 712, из них 295 мастеров, 377 работников и 40 подмастерьев; мастеров-зеркальщиков в 1733 г. было 500, а всего зеркальным делом занимались более 1000 человек;[394] в 1773 г. среди мастеров-ювелиров было 190 подмастерьев и 50 работников.[395] Выпечкой хлеба занимались две корпорации: тех, кто занимался подготовительным этапом (pistori), и собственно хлебопеков (panicuocoli или fornai). Число хлебных лавок превышало шестьдесят, и из них в 1757 г. сорок семь принадлежало pistori, и в них работали 233 рабочих. Для сравнения: в это же самое время работников колбасных лавок насчитывалось 196, а торговцев фруктами и овощами — 220.[396]
Секреты ремесла передавались от отца к сыну. Когда требовались ученики или подмастерья, при равных условиях предпочтение отдавали детям старшин. Подобный протекционизм ограничивал возможности найма новых людей, равно как и смены иерархов. В отношении иностранцев велась политика прагматического протекционизма. Ее осуществляли прежде всего в отношении венецианских подданных с материка, чаще всего занятых на подсобных работах: носильщиками служили в основном уроженцы Бергамо, прислугою — девушки из Фриуля. Взять в подмастерья чужеземцев, не являющихся подданными Республики, старшина был вправе, только если у него не было собственных детей. Однако мастер, прибывший из-за границы, легко мог открыть лавку или мастерскую, особенно в периоды демографического спада, ибо вместе с ним город получал новые технологии и методы работы. Гостеприимство, оказываемое иноземным ремесленникам, приток которых значительно сократился после 1750 г., зависело от ремесла, которым занимались новоприбывшие. Старьевщиками работали в основном евреи и выходцы из стран Леванта: помимо торговли с заграницей, это был единственный род занятий, которым им дозволялось заниматься.[397] В более престижных корпорациях, например стеклодувов, ни о какой открытости, ни о каких иностранцах и речи быть не могло.
За счет взносов и налогов, уплачиваемых рядовыми членами, а также частных пожертвований корпорации обладали финансовой независимостью, тем не менее деятельность их постоянно контролировалась и они имели многочисленные обязанности перед обществом. Некоторые из этих обязанностей можно считать мерами по повышению «престижа профессии» и оценки выпускаемой продукции: так, к примеру, бочары весь год должны были бесплатно чинить бочки дожа. Регламентация деятельности членов корпорации носит авторитарный характер и одновременно свидетельствует как о протекционизме со стороны центральной власти, так и о ее желании осуществлять контроль над производством. Например, хлебопеки для изготовления своей продукции были обязаны закупать муку только на общественных складах, а управляющие соответствующими складами обязаны были выдавать им справки о приобретенном товаре. Ряд ограничений может быть интерпретирован как стремление правительства получить очередное подтверждение гражданской благонадежности и привлечь корпорацию к созиданию всеобщего благополучия и поддержанию всеобщих свобод. Мы уже видели, что рабочие Арсенала за определенное вознаграждение обязаны были принимать участие в тушении пожаров. Также корпорации были обязаны поставлять государству солдат и матросов на галеры; от этой повинности можно было освободиться, только уплатив довольно высокий ежегодный налог. В случае необходимости самые богатые корпорации делали принудительные взносы на военные нужды. Чтобы избежать конфликтов и столкновений между корпорациями, государство контролировало распределение городских складских помещений, новых лавок и трактиров, вводя соответствующие квоты, не позволявшие открывать в одном секторе сразу несколько лавок, торгующих одним и тем же товаром, или же мастерских, производящих одинаковую продукцию.
Джустициа Веккиа и судебные ведомства, призванные следить за здоровьем общества, осуществляли пристальный контроль за производством и продажей товаров, что являлось своеобразной гарантией качества как для продавцов, так и для потребителей. Наиболее внимательному контролю подвергалась продукция корпорации специй, к которой относились объединения москательщиков, продавцов лекарственных трав, изготовителей свечей, кондитеров, а также «ароматической» корпорации, члены которой занимались продажей лекарственных средств, настоек, мазей и пластырей. Контролеров выбирали ежегодно, по жребию. Начиная с XV в. каждый новый член корпорации специй должен был сдавать экзамен перед комиссией, в состав которой входили старейшины корпорации.[398] Под контролем находились общественные печи и вес выпекаемого в них хлеба, а также вес галет, предназначенных для матросов на галерах и моряков из Арсенала; если галеты предназначались для короткого плавания, их дважды помещали в печь для подсушивания, а если плаванье ожидалось долгое, то четырежды. Однако мошенники не переводились, и торговцев, уличенных в злоупотреблении доверчивостью клиентов, подвергали публичным наказаниям на площади. В 1752 г. были конфискованы весы в лавке торговца сосисками с площади Санта-Мария Формоза: лавочник обвешивал покупателей, подклеив под одну из чашек весов кусочек свинца. Весы эти на несколько недель были выставлены прямо возле двери его лавки, «напоминая всем прохожим о его провинности и мошенничестве».[399]
Наконец, как и повсюду, корпорации ревниво оберегали секреты своего производства, порождая доносы и шпионаж. «Нельзя допускать, чтобы нам безнаказанно наносили ущерб, и старейшины наши обязаны постоянно внимательно следить за тем, чтобы никто не передал на сторону ни их науку, ни их секреты производства», — писали государственные инквизиторы в 1665 г., получив информацию от посла Венеции в Париже Алвизе Сагредо, что во французской столице замечены стеклодувы из Мурано. Поддавшись на уговоры засланных к ним секретных агентов, стеклодувы покинули свои печи в лагуне и отправились помогать осуществлять проект Кольбера по созданию во Франции мануфактуры по производству зеркал.[400] Протест, направленный Венецианской республикой, не помешал Кольберу создать свою фабрику, однако сам факт подобной реакции весьма примечателен. Любой ремесленник-стеклодув, дерзнувший покинуть место работы и совершить небольшое путешествие, вполне мог стать жертвой наемного головореза, а всю семью его могли бросить в тюрьму. Ткачей, особенно тех, кто владел искусством изготовления шелковых тканей, также окружали всевозможные запреты, и в частности запрет покидать родину. А чтобы в периоды кризисов и безработицы у ремесленников не было желания продать свои секреты за границу, государство принимало самые разнообразные меры и даже финансировало корпорации из своего бюджета.
В отличие от европейских и итальянских союзов ремесленников, венецианские корпорации не имели возможности влиять на политику и принимать участие в работе правительства, но исполняли главные роли во время праздников и дворцовых обрядов. Так, мясники принимали деятельное участие в охотах, устраиваемых в «жирный четверг». Во время выборов дожа в чести бывали торговцы фруктами: на них возлагалась обязанность внести в пиршественный зал огромную дыню и в торжественной обстановке, под звуки труб преподнести ее вновь избранному дожу. Четыре раза в год дож устраивал в честь корпораций пышные банкеты: в День святого Марка (25 апреля), на праздник Вознесения, в День святого Витта (15 июня) и День святого Стефана (26 декабря). По таким случаям корпорация ювелиров торжественно подносила дожу двух рябчиков. Нередко корпорации принимали участие в подготовке к торжественным церемониям, отряжая на это известных своим искусством мастеров.[401] Таким образом, самые состоятельные корпорации не только укрепляли свою общественную значимость, но и свое экономическое положение. Однако сколь бы тесной ни была связь между правительством и корпорацией, от последней требовалось прежде всего постоянное подтверждение преданности Республике.
Корпорация как закрытая система сдерживала развитие отрасли, создание новых производств. Однако закрытость гарантировала качество продукции и предоставляла членам корпорации стабильную занятость и духовное руководство; также она брала на себя почти все заботы об их насущных нуждах, поддерживая, таким образом, социальное равновесие. Наняв подмастерье, старшина предоставлял ему жилье, кормил, снабжал чистой одеждой и всячески о нем заботился, оплачивая, разумеется, все расходы; следовательно, ученик обучался только в его мастерской и только от него узнавал секреты мастерства. Так он получал реальную возможность достичь вершин мастерства, подняться по ступеням корпоративной иерархической лестницы. «Ежели ты потихоньку начнешь торговать своими изделиями, это станет хорошим началом… Многие, начав с капитала в 10 дукатов, через некоторое время становились купцами, ворочали тысячами экю», — советует трактирщик Бригелла бедному Труффальдино, мальчишке в лавке Панталоне, разорившегося торговца из комедии «Банкротство».[402] Совет действительно хорош, если судить по тому, что многие ученики, начав с нуля, получали звание мастера, богатели и даже подавали прошение о присвоении им дворянства (последнее особенно характерно для XVII в.)[403]
Как мы уже имели возможность убедиться, Скуоле гранди являлись учреждениями милосердия, образуя парадный фасад разветвленной сети братств — благотворительных учреждений (в 1732 г. их насчитывалось более трехсот), связанных или развивавшихся параллельно с корпорациями. Эти филантропические заведения играли большую роль в организации поддержки и взаимопомощи. Название «братство» (confraternita) в данном случае носит неформальный характер, равно как и название mariegola, madre regola («образцовая мать»); в последнем случае подчеркивается авторитет власти, отношения субординации и в то же время протекционистский характер власти, обеспечивающей защиту в лоне организации, во многом напоминающей семью. Долг милосердия записан во всех корпоративных уставах. За исполнением его существует постоянный контроль: оплачивать свою благотворительность, заставляя тех, кто получает благодеяния, покупать свои продукты, как нередко поступали торговцы фруктами и зерном, или же экономить на благотворительных подарках было строжайше запрещено. Благотворительность налагала определенные обязательства: например, брать в ученики некоторое число юных сирот — воспитанников приютов Новообращенных или Пьета. Поощрялась и любая личная инициатива. К примеру, немецкие башмачники бесплатно предоставляли приют своим венецианским коллегам, оказавшимся проездом в их краях, и первые три дня их пребывания на немецкой земле снабжали их карманными деньгами (12 сольдо в день). У ювелиров был специальный фонд, позволявший им ежегодно давать весьма солидное приданое (1550 дукатов) четырем девушкам, вступившим в брачный возраст; девушек выбирали семьи членов корпорации.
И корпорации, и скуоле имели вполне совершенную по тем временам систему социальной поддержки и защиты. Так, в случае болезни членам корпораций выплачивалось пособие в зависимости от продолжительности болезни и времени, необходимого на выздоровление; члены корпораций и их семьи также имели право пользоваться услугами корпоративного врача и хирурга, что обходилось значительно дешевле. В области здравоохранения образцовым следует признать декрет от 1791 г., принятый капитулом изготовителей надгробных венков по предложению главы их администрации. Декрет касается финансовой помощи больным членам корпорации и предусматривает:
Те, кто чувствуют жар и потому должны оставаться в постели в течение двух месяцев, получат компенсацию в тридцать сольдо. Если же и через два месяца они по-прежнему будут больны, они станут получать восемь лир в месяц с условием, что больной даст слово в письменной форме, что он болен, и сделает это на напечатанном формуляре, где приходской врач укажет месяцы и дни его болезни. Свидетельство это надо отнести в приходскую церковь, чтобы ризничий засвидетельствовал написанное врачом, а затем отнес на подпись к управляющему, который и передаст сию справку в кассу.[404]
Лекарства были дороги, однако во время болезни больной платил всего одну треть их стоимости, остальную сумму вносил после выздоровления и выхода на работу.[405] Наряду с множествами приютов и благотворительных учреждений для бедных и больных, финансируемых корпорациями, государство содержало за свой счет четыре больших больницы (Ospedali) для самых обездоленных. В 1724 г. в Венеции было тридцать три благотворительные лечебницы. Моряцкая школа (Scuola) Сан-Никколо также содержала за свой счет больницу для моряков.[406] Не были забыты и старики. Те, кто состарились и не могли больше трудиться, имели право поселиться в том или ином приюте; приюты эти были задуманы как коммуны во главе с приором; каждому члену такой коммуны отводилось жилище. В некоторых корпорациях старикам, если только они не были инвалидами, предоставляли более легкую работу. Например, в 1737 г. в уставе корпорации хлебопеков уточняется, что продавать хлеб на Риальто и Сан-Марко должны только «те работники, которым возраст или болезни не позволяют исполнять более тяжелую работу, а также бывшие владельцы хлебных лавок, ежели те разорились и впали в нищету».[407] Отдельным категориям малоимущих, а также тем, кто владел особенно ценимыми в Республике ремеслами, государство предоставляло дешевое жилье. Так, бедные ткачи из Санта-Кроче и рыбаки из Сан-Никколо могли получить разрешение на бесплатное жилье per amor Dei. Рабочие Арсенала с 1335 г. проживали в так называемых народных домах за очень низкую плату; дома эти были построены вокруг их места работы, в Кастелло, на улицах Колонна, Скьявоне и Маринарецца.
П. Лонги. Банкет во дворце Нани

Р. Менгс. Джованни Казанова

Побег Казановы из венецианской тюрьмы
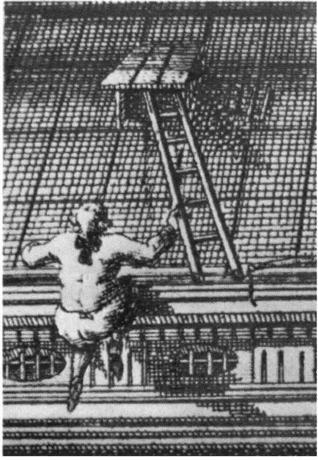
Дворец дожей. Фрагмент фасада.
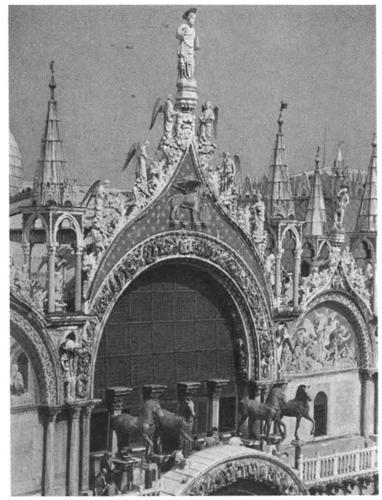
Г. Белла. Сцена театра Сан-Самуэле.
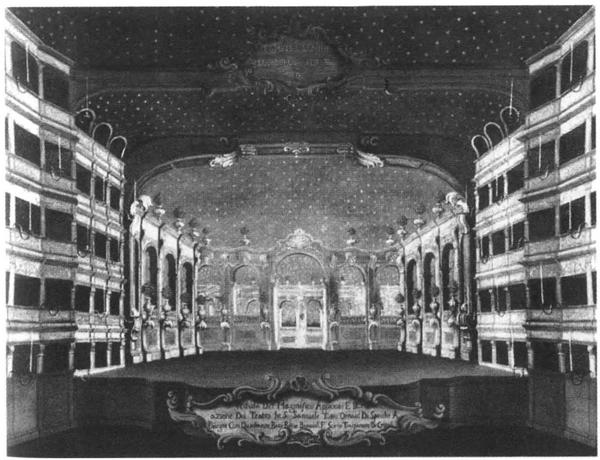
Ф. Гварди. Концерт

Г. Белла. Женская хоровая капелла
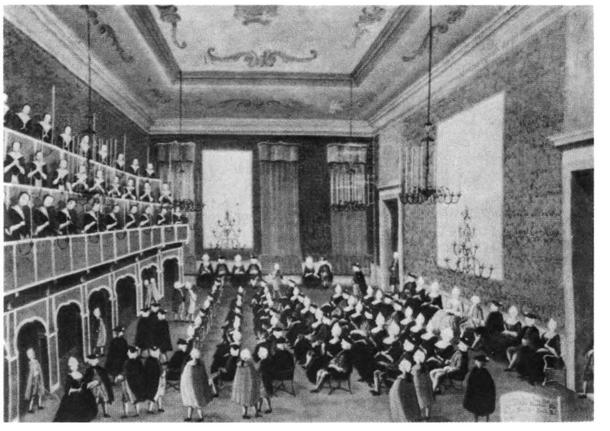
П. Лонги. Концерт.

П. Лонги. Домашний концерт

П. Лонги. Урок танца
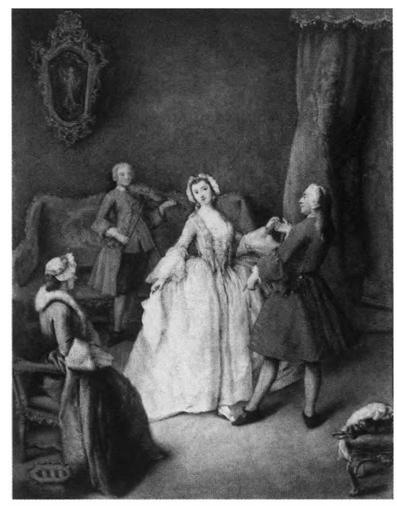
П. Лонги. Танец на балу
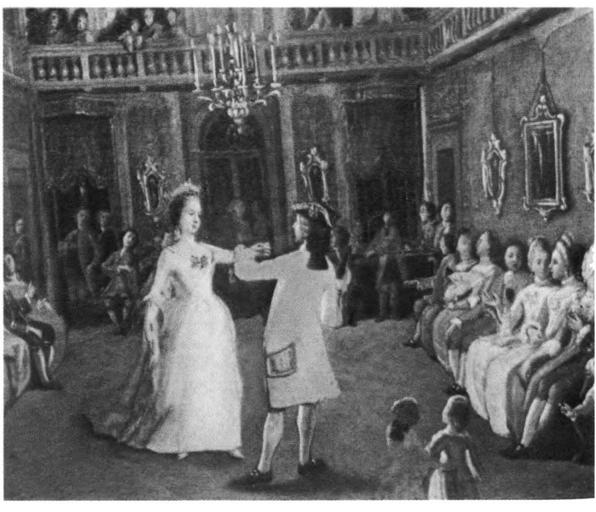
А. Ватто. Удовольствия бала

П. Лонги. Маски.

Д. Каналетто. Водный праздник перед церковью Святого Николая
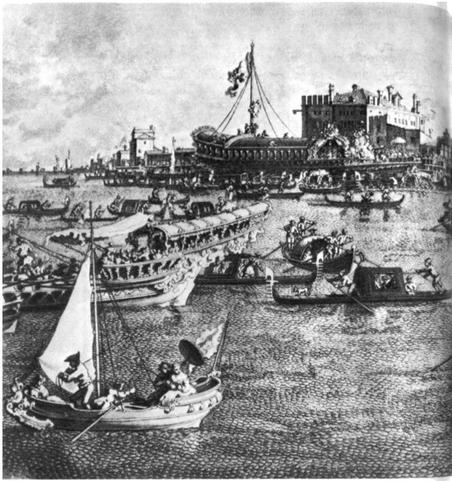

П. Лонги. Проба шоколада

П. Лонги. Семейная сцена

П. Лонги. Знатная семья

П. Лонги. У портного
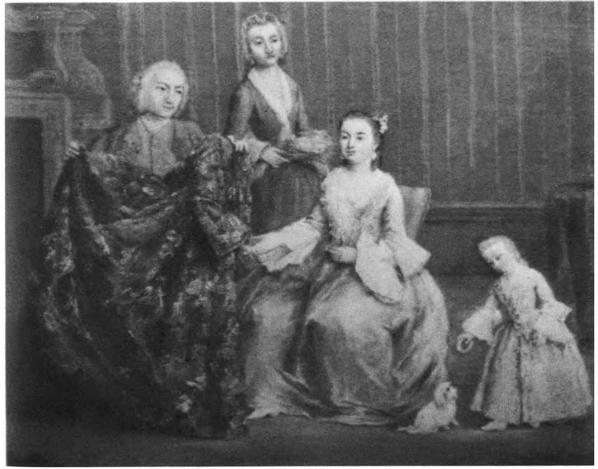
Г. Белла. Праздничная толпа на Пьяцетте

П. Лонги. Носорог
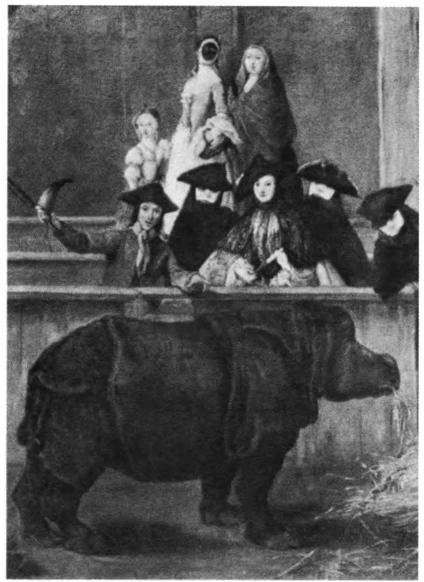
Д. Тьеполо. Шарлатан

П. Лонги. В ателье художника

П. Лонги. В аптеке

Д. Тьеполо. Зимняя прогулка

П. Лонги. Место свиданий

П. Лонги. Посольство
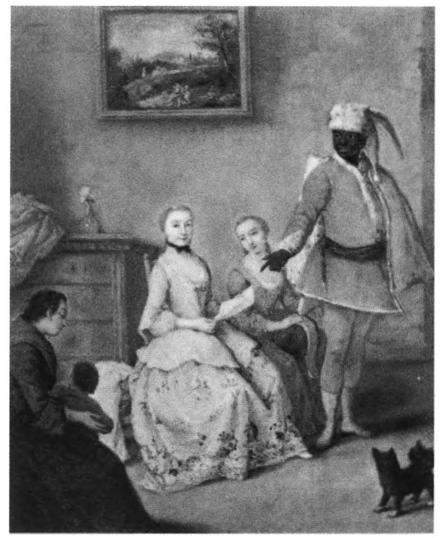
Ф. Гварди. В приемной монастыря.

И наконец, венецианский календарь изобиловал днями милосердия и молитв, а также выходными днями, о которых сообщалось в альманахах и газетах. В дни религиозных праздников негоцианты, за исключением булочников, аптекарей, торговцев колбасами, курами, фруктами, вином и оливковым маслом, обязаны были закрывать свои лавки. Запрет этот соблюдался далеко не всегда, о чем свидетельствуют многочисленные декреты против нарушителей, которые в таких случаях обычно устраивались торговать на мостах. В 1752 г. правительство издало специальный указ, согласно которому двадцать осенних дней в обязательном порядке становились нерабочими.[408] В эти дни некоторые ремесленники, например изготовители искусственного жемчуга, были обязаны чистить свои печи.[409] В самом привилегированном положении находились работники Арсенала, пользовавшиеся дополнительными пятью днями оплачиваемого отпуска, которые предоставляло им правительство: «жирный вторник», «жирный четверг», День святого Марка, Страстная суббота и канун Рождества. А в Страстную пятницу, напоминает нам Градениго, «колокол, созывающий по утрам работников на работу, не звонил, и работники, которых не призывали на работу, занимались делами благочестия, как и все добрые христиане». Week-end еще не придуман, но уже с XV в. в сентябре и октябре бывают «понедельники Лидо» — дни, когда вся работа кончается в полдень, за которым следуют часы досуга, и обычно все выезжают на природу — в память о бурной свадебной ночи, что провела на лугу хромая молодая жена со своим юным супругом.[410]
Жаркое и полента
Голод, терзающий «слугу двух господ» Труффальдино,[411] — исключительно театральный ход. Он относится к традиционной характеристике персонажа и необходим Гольдони, чтобы представить на сцене все комические таланты актера, исполняющего роль Труффальдино. Однако в этом театре, где «свалены в кучу» музыка, песни, игры, карнавальное изобилие, многие персонажи жалуются на вполне осознанный голод. Карнавал прячется под вуалью меланхолии, радость жизни окрашена в полутона. Перепалки не всегда являются отражением общительного характера обитателей улиц и перекрестков, зачастую это просто свары, затеваемые взрослыми людьми, не имеющими возможности немедленно удовлетворить свои желания.
Служанки в комедиях Гольдони встают рано, пекут хлеб, затем принимаются прясть, вязать, готовить, словом, «делают всего понемножку»,[412] выгадывают на количестве, пользуются любой минуткой для отдыха от работы и переходят от одной хозяйки к другой, стремясь найти место, где можно работать поменьше, а есть побольше. Все эти женщины щедро одарены полезной способностью устраиваться и отсутствием щепетильности, что выручает их и возводит в ранг положительных персонажей. Однако в реальной жизни они часто бывают голодны, измучены тяжелой работой и поэтому веселятся гораздо реже, чем это показано на сцене. У Гревемброка мы тоже видим улыбающуюся, вполне довольную служанку, склонившуюся над ушатом с бельем, однако художник поясняет, что она прислуживает хозяевам из третьего сословия, а значит, «хозяйка сваливает на нее все самые неприятные работы по дому», и у нее «нет ни минуты отдыха». Мало кто из венецианок нанимался на такую работу; служанок — а в конце XVI в. их было более пяти тысяч восьмисот — набирали в Далмации или Фриуле или же, как утверждает Гревемброк, находили женщин, «привычных к беспрерывной работе и не привыкших жаловаться. Они мало спали, пекли хлеб, а отойдя от печи, тотчас шли к колодцу, чтобы натаскать никак не менее сотни ведер для стирки и перестирать все салфетки, простыни и прочее грязное белье». В прошлом эту работу предоставляли делать рабыням, вывезенным из Леванта. Теперь они не назывались рабынями, но труд их оставался прежним: «Они работают без отдыха, в сырых местах, руки и ноги у них всегда мокрые, они часто болеют и становятся худющими как спички, а если им приходится заниматься этой работой много лет, то в старости они начинают страдать водянкою… из-за холодной воды, от которой у них перехватывает дыхание; а еще вода проникает в кровь вместе с дурными жидкостями». Разумеется, тяжелое положение прислуги для Гольдони не секрет, однако для сцены он смягчает его. Даже Лаура из «Домоседок», служанка, вечно гонимая скаредной хозяйкой, экономящей буквально на всем, чувствует себя вполне сносно: у нее хватает сил мечтать.
Перекресток, место действия одноименной пьесы Гольдони, как и сама Венеция — символ процветания, общественного союза и социальной гармонии, — перестал удовлетворять своих обитателей и превратился в место социальной напряженности. Задавака Гаспарина, та, что никогда нормально не говорит, а только сюсюкает, не считает себя ровней соседкам, так как у нее водятся денежки и она успела получить кое-какое образование. Соседки же, у каждой из которых есть свой маленький промысел, по словам гравера Дзомпини,[413] «расхаживают по улицам» вместе с лудильщиками, плетельщиками стульев, продавцами птиц, поленты, уксуса, чернил, губок или апельсинов, разносчиками воды, торговцами галантерейным товаром, стекольщиками, старьевщиками и фонарщиками. Выведенная из терпения Ореола, торговка оладьями, бросается в наступление: «Да что это за наглость такая! За кого вы меня принимаете? За прислугу?», — а Гаспарина отвечает: «Хуже, за торговку оладьями!.. Ничего не скажешь, хорошенькое ремесло! целый день шататься по улице со сковородкой в руках».[414]
Трапезы в пьесах Гольдони чаще всего символизируют всеобщее согласие, особенно когда их организует дружеская компания; но трапезы также свидетельствуют об определенной иерархии, существующей среди пополанов, а также о разнице во вкусах между пополанами и патрициями. Бывшую прачку Розауру, подобно многим ее товаркам,[415] соблазнил и покинул молодой человек; теперь девушка работает прислугой в доме отца своего соблазнителя. Она красочно расписывает кушанья, подаваемые на стол хозяина, а стоящий рядом Арлекин мечтательно облизывается. О каких же блюдах идет речь? Разумеется, не о перепелах или жаворонках, излюбленных дачных блюдах патрициев, не о равиоли с начинкой, не о мясном суфле, не о дичи, не о биточках или кипрском вине, появляющемся на столе ткачей только в последний день карнавала.[416] Вряд ли она рассказывает ему о достоинствах гусей, уток и голубей в галантине, лососей, икры, трюфелей, шоколада, шербетов, изысканных фруктов в сиропе, или же огромного сладкого торта со множеством украшений, который обычно подают на официальных обедах в сопровождении самых изысканных вин: токайского или бургундского, шампанского, рейнских вин, кипрской малаги или муската, рома, вермута, а иногда с английским пивом или сладкой настойкой из Гренобля.[417] Нет, Арлекин облизывается при мысли о каше из желтой кукурузной муки — поленте. Полента в его мечтах «прекрасна, как золото», приправлена добрым куском свежего масла и целым водопадом тертого сыра.[418] Такую кашу с наступлением холодов предлагают прохожим разносчики, сидящие возле колодцев на перекрестках. Даже богачи не отказываются от этой каши. Но, как объясняет Гольдони, для «богатых полента — легкая закуска, больше для развлечения», тогда как для бедных это «настоящая еда».[419]
После 1713 г. потребление кукурузной муки увеличивается, ее производство поощряет не только правительство, но и инквизиторы: в 1737 г. они называют ее «бесценным даром небес… питающим самую бедную, самую многочисленную и, быть может, самую необходимую часть населения».[420]
Было бы преувеличением говорить о социальных требованиях, выдвигаемых в пьесах Гольдони. Тем не менее в комедии «Льстец» слуги, возмущенные тем, что дон Сиджизмондо, этот лицемер-секретарь, «проедает их денежки», объединяются против него и активно способствуют его изгнанию.[421] Рыбаки из Кьоджи разоблачают эксплуатирующих их посредников: «Как бы не попасть в лапы откупщиков. Иначе выручка будет плохая: они все норовят себе заграбастать. Мы, бедняки, ходим в море, рискуем жизнью, а эти торгаши в бархатных беретах богатеют от наших трудов».[422] Посредниками также недовольна молодая Ньезе, промышляющая изготовлением искусственных цветов и перьев для дамских причесок: ее возмущает, что торговцы с Мерчерии платят ей двадцать сольдо за цветок, а сами потом продают его за сорок. Она заводит собственную торговлю и с удовлетворением заявляет: «Теперь я работаю меньше, а зарабатываю больше».[423] Система больше не действует. Хозяева жалуются, что подмастерья и мальчишки-ученики больше не слушаются их с первого слова, как это было прежде:
Им понравилось играть, а кто за это платит? Хозяйская касса. Они заводят себе подружек, а кто их одевает? Платья берутся из лавки хозяина. Они ходят в оперу, в комедию, а за чей счет? За счет хозяина… Чем они занимаются, когда сидят в лавке? Злословят о хозяине. Оскорбляют хозяина и сплетничают со своими приятелями опять-таки о хозяине.[424]
Съестных лавок становится больше, однако «удобства», извлекаемые из них различными категориями пополанов, разумеется, не одинаковы. «Тридцати сольдо на сегодня хватит?» — спрашивает Андзола у нерадивого мужа.[425] Тридцать сольдо — это действительно очень мало. Один лишь фунт (около 300 г) мяса (свинины, говядины, молодой баранины или телятины) стоил от 11 до 16 сольдо. В 1762 г., согласно Градениго, за 4 сольдо можно было получить всего пятнадцать унций (около 375 г) «общего» или «грубого» хлеба; дешевой едой считались рис (пять сольдо за фунт) и треска (семь сольдо); масло, продукт «из сферы роскоши», в 1764 г. стоило 24 сольдо за фунт, а вино и оливковое масло соответственно 18 и 24 сольдо. Из-за наводнений 1777–1774 гг. и 1788–1789 гг. цены — прежде всего на хлеб — во второй половине века существенно поднялись.[426]
Чтобы иметь возможность тратить 30 сольдо в день, надо было получать 45 лир в месяц (в 1760 г. 1 лира стоила примерно 20 сольдо). Ни рабочие (даже высокой квалификации), ни слуги практически не зарабатывали подобных сумм. Высокооплачиваемые лица наемного труда получали 93 лиры в месяц, как, например, гондольеры, принадлежавшие в 1765 г. к дому Пизани Дель Банко; привратники имели 80 лир, а учителя 88 лир в месяц. Но к 1770–1775 гг. камердинер в том же доме Пизани получал уже всего 44 лиры в месяц, а лакей — 22. Квалифицированный рабочий из Арсенала зарабатывал не более 20 дукатов в год, или 1,6 дуката (около 37 лир) в месяц, помощник булочника, в зависимости от его обязанностей в лавке, получал от 40 до 50 лир в месяц, в то время как старшина зарабатывал 280 лир. Что же тогда можно сказать о служанках, которым некоторые хозяйки в комедиях Гольдони платили, судя по их словам, по полдуката (11 лир) в месяц?[427] Аренда самой скромной квартиры в плохом приходе, на первом этаже, куда проникали нездоровые испарения, поднимавшиеся над каналами, стоила от 3 до 9 дукатов в год (от 66 до 189 лир), а хорошие квартиры достигали стоимости от 70 до 80 дукатов.[428] Дешевый альманах стоил более 8 сольдо, поглазеть в трактире на ярмарочных уродов — 10 сольдо, а место в Сант-Анджело — 15 сольдо. Итальянская сажень (около 60 см) холста стоила от 32 до 36 сольдо,[429] перебраться на Сан-Джорджио и Цителле — 6 сольдо, а переплыть на гондоле на Сан-Пьер ди Кастелло — 10 сольдо. Можно понять, почему домохозяйки обладали таким сварливым нравом: скромные развлечения и незапланированные излишества были возможны только при режиме суровой экономии.
Со счастьем покончено?
Приятные сердцу социальное единение, поддержка и взаимовыручка больших и малых мира сего существуют главным образом на полотнах ведутистов (vedutisti) и в записках путешественников. И хотя никто не оспаривает Сен-Дидье, заявившего, что «только в Венеции народ с радостью подчиняется своим правителям, ибо только в Венеции нет ни одного развлечения, которое он не мог бы разделить вместе с ними; во время праздников и общественных увеселений народ вправе гулять там же, где гуляют патриции», — в этом можно убедиться и на площади Сан-Марко, и на Листоне, как и в том, что касается ношения масок, — равенство это не более чем поверхностное. В общедоступных театрах, которые охотно противопоставляют театрам придворным, предназначенным для привилегированных гостей, была чрезвычайно развитая система абонирования лож, основанная, в частности, на стремлении подчеркнуть расслоение общества: в XVII в. в Венеции общество уже не стремилось к гомогенности. Ложа (gabinetto) являлась частным уголком, где владелец его пребывал среди себе подобных; абонирование ложи свидетельствовало об определенном уровне благосостояния.
Разрыв увеличивается не только между пополанами с одной стороны, и читтадини и богатыми нобилями с другой, но и между самими пополанами. Отдельные группы пополанов пользуются мощной социальной поддержкой. К ним, в частности, относятся рабочие Арсенала, чья продукция по-прежнему символизирует славу Республики. Социальной поддержкой пользуется также многочисленная группа ремесленников-стеклодувов, работа которых получила признание во всем мире, что, по мнению Гревемброка, должно было отчасти компенсировать тяжелые условия труда: «Более тысячи людей, полуголые, потные, тяжко дышащие, вынужденные передвигаться бегом и гнуть спину перед неугасающим огнем, создают изделия, прославившие их ремесло». Корпорация москательщиков и аптекарей не только богата, но и имеет прогрессивную для XVIII в. организацию. Она насчитывает около девяноста мастеров, на которых приходится шестьдесят «работников» и тридцать «учеников». Пристрастие венецианцев к лекарствам, особенно к чудесному эликсиру под названием териак сложносоставной микстуре на основе растений, корений, трав и бальзамов, настоянных в смеси жидкого меда и цветочного вина, — обеспечивало им неплохие доходы и почтительное отношение населения. Работникам, заслужившим право участвовать в продолжительной и кропотливой работе по изготовлению териака, тем, кто отвешивал, а затем смешивал ингредиенты в специальных ступках, бесплатно давали на завтрак хлеб, колбасу, вино и лимонный сок, а также чашку шоколада или кофе; в день выплаты жалованья обычно устраивался пышный банкет.[430]
К привилегированным корпорациям относилась также корпорация гондольеров. Согласно общепризнанному литературно-театральному топосу, каждый гондольер является поэтом, певцом и сводником. В 1786 г. Гёте был покорен «чарующей красотой» пения гондольеров:[431] к этому времени гондольеры перестали декламировать стихи Тассо, как это было принято в XVI в., и принялись на несколько голосов, с «едва заметным, но волнующим до слез акцентом», исполнять арии (aria per i barcaroli), которые композиторы стали специально для таких случаев вставлять в свои оперы. И хотя «песенные услуги» удваивали стоимость поездки, и без того обходившейся от 3 до 6 лир, восторги путешественников от этого нисколько не уменьшались. Тем более что гондольеры оказывали и другие милые одолжения:
Однажды вечером я, будучи в полумаске, забрел в «Кафе литераторов»; неожиданно вошел гондольер, увидев меня, он сделал мне знак следовать за ним. Я вышел, он поманил меня за собой, привел на берег соседнего канала и предложил сесть в гондолу. Полагая, что в ней меня ожидает моя давняя приятельница, знавшая, что я нередко посещаю сие кафе, я без лишних вопросов вошел в гондолу и сел рядом с ней. Ночь была очень темная… Когда я устроился, гондольер задвинул занавеску на входе в каюту.[432]
Дама оказалась вовсе не той особой, за которую ее поначалу принял Да Понте; вскоре он обнаружил, что его попутчица молода, хороша собой и, очевидно, принадлежит к высшему обществу. Но как бы то ни было, гондольер исполнил данное ему поручение. Во время своего бурного романа с актрисой Ла Пассалаква Гольдони не раз имел возможность наблюдать, как гондольер скромно задергивает «занавеску на входе в каюту»; эти наблюдения побудили его сделать гондольера героем своей первой комической интермедии «Венецианский гондольер» (1732) и сорвать аплодисменты всей корпорации, обеспечившей полный зрительный зал. Тем не менее профессиональная деятельность гондольеров была строго регламентирована. Будущий гондольер должен был зарегистрироваться у квартальных старшин, а также получить согласие цензоров. Независимость гондольеров была понятием относительным. Часть из них служила «за жалованье» у владельца гондолы и была обязана почтительно относиться к хозяину.[433] Часть гондольеров состояла на Службе у знатных семейств или же у иностранных граждан. Эти гондольеры, несмотря на запрет, носили ливреи (после 1709 г. ношение ливреи стало практически обязательным). Запретив носить ливреи, власти хотели сохранить дистанцию между гондольерами и слугами дома, так как опасались, что, получив поддержку в лице гондольеров, неугодные кланы упрочат свое влияние. До тридцати лет гондольер не имел права работать самостоятельно; после тридцати ему разрешалось купить место у причала, где он мог пришвартовать свое транспортное средство.[434] Только после этого он становился barcarolo a guadagno — независимым владельцем собственной лодки; свободный лодочник (barcarol) набирал полную лодку пассажиров и за 30 сольдо перевозил их из Риальто в Местре, а когда Казанова пожелал, чтобы его перевезли только вдвоем с приглянувшейся ему красавицей, пришлось выложить 40 сольдо.[435] Несмотря на запреты, штрафы и строгие правила, гондольеры по-прежнему играли важную роль в венецианском обществе, ибо без них жизнь в городе останавливалась. Гондольеры, как состоявшие на службе у патрициев, так и занимавшиеся перевозками, имели возможность близко общаться с самыми знатными людьми города, и это выделяло их в особую категорию слуг. Они пользовались множеством привилегий, как, например, правом бесплатного посещения театра. «Гондольеров впускают в театр, когда партер не совсем полон», — писал Гольдони.[436] Нередко гондольеры позволяли себе некоторые вольности со своими пассажирами. Однажды после спектакля в театре Сан-Самуэле синьора Катерина Чиконья, садясь в гондолу синьора Франческо Паруты, упала в воду, увлекая за собой синьора Стефано Бальди, протянувшего ей руку помощи, — полагают, здесь не обошлось без умысла со стороны гондольеров.[437] А если какой-нибудь бродяга в драке причинял увечье гондольеру, служащему знатному дому, его тут же хватали и приговаривали к наказанию кнутом.[438]
Трактирщики и продавцы вина, с 1355 г. также объединенные в союзы, процветали благодаря постоянному потоку коммерсантов, путешественников, актеров и прочего непоседливого люда, прибывавшего в Венецию на время или проездом. Постоянные обновления и перестройки дворцов, театров, казини обеспечивали работу скульпторам, позолотчикам, кузнецам, резчикам по камню, ковровщикам, художникам, зеркальщикам, хотя некоторые и утверждали, что патриции не слишком любили раскошеливаться.[439] Нарасхват были шляпники: здесь свою роль играло женское кокетство, а также качество шляпок, которое мастера постоянно старались улучшать.[440] Огромным спросом пользовалась продукция изготовителей масок: они снабжали масками не только Венецию, но и всю Италию; мастера-«масочники» приравнивались к художникам.
В других секторах производства, напротив, наблюдается значительный спад активности. В 1764 г. стеклодувы вынуждены были сократить число печей и уволить работников.[441] Портные и торговцы тканями страдают от пристрастия к иностранным модам и процветающей контрабандной торговли, поощряемой патрициями. Производство шелка, одна из наиболее важных отраслей венецианской промышленности, в которой в подчиненном Венеции регионе было занято почти тридцать тысяч человек, идет на убыль: патриции, являвшиеся основными потребителями шелка, теперь покупают его за границей. То же самое можно сказать и о сапожниках и башмачниках.[442] Они сделали состояние на ботинках на сплошной толстой подошве, которые носили все женщины без исключения, однако мода изменилась, и женщины стали носить легкие изящные туфли из яловой кожи, украшенные резными пряжками и инкрустированные бриллиантами; моду на эти туфли ввели туринцы и французы. Вдобавок падает качество продукции, что снижает конкурентоспособность и замедляет товарообмен. Мастерство золотопротяжников — ремесленников, изготовляющих золотые нити, предназначенные для производства шитых золотом тканей, по-прежнему высоко ценится на текстильных мануфактурах; однако французские наблюдатели замечают, что «трощёный шелк для основы из Бергамо значительно хуже по качеству, чем тот же шелк, поставляемый из других городов Италии».[443] Негативная оценка подтверждается и инквизиторами, которым поручено наблюдать за работой ремесленников и качеством их изделий: в 1776 г. они отмечают, что ткачи, число коих и без того сократилось, бросают свое ремесло, оставляя заниматься им женщин и детей, а сами идут искать другую работу.[444]
На протяжении века протекционистская политика корпораций становится все более жесткой. В 1748 г. корпорация продавцов воды понизила возрастной порог приема в ученики детей старшин до десяти лет. Мастера, похоже, перестали соблюдать правила найма учеников, конкуренция со стороны иностранной рабочей силы становится все сильнее. В 1758 г. в корпорации каменщиков «мастера без зазрения совести привлекают к строительным и реставрационным работам чужаков, оставляя, таким образом, многих своих сотоварищей без работы, и те, пребывая в праздности, не знают, как прокормить свои несчастные семьи, и не могут уплатить взносы в корпорацию».[445] Положение работающих женщин также ухудшается. Ремеслом могли заниматься только дочери и жены старшин. Даже в текстильном секторе, где использовался труд надомниц (в частности на материке), работа была сезонной (с октября по февраль) и сводилась к изготовлению определенных тканей — небеленого полотна или же алого сукна (scarlatto), бывшего в те времена в большой моде. Вместе с евреями, обвиненными в том, что они «коварно проникли в ремесленные мастерские и на государственные фабрики, ускорив тем самым их разорение»,[446] женщинам приходится расплачиваться за кризис. В 1754 г. Сенат решил открыть женщинам доступ к художественным ремеслам: их считают «более усидчивыми, менее подверженными порокам и менее требовательными в отношении зарплаты». Но когда в 1770 г. в рамках назревшей реформы художественных ремесленных мастерских хотят открыть мануфактуры по производству золотой нити, предназначенной для изготовления парчи и шитой золотом ткани, и нанять на работу женщин, предложение встречает яростные протесты со стороны рабочих-мужчин, оказавшихся под угрозой безработицы, и приходится устанавливать квоты найма на работу женщин.[447]
В театре Гольдони неуклюжий или, напротив, хитрый слуга из комедии дель арте, прообразом которого служили эмигранты из Бергамо, приезжавшие в Венецию работать носильщиками, постепенно теряет свою географическую принадлежность и свой говор и приобретает статус трактирщика (Бригелла) или доверенного слуги, иногда даже слуги-наставника. Слуги из последних комедий умнее своих господ, они присматривают за ними, оценивают их поступки, и временами достаточно строго. Анализируя этот процесс с социальной точки зрения, следует сказать, что наметился рост количества слуг, численность которых превзошла численность ремесленников: в 1580 г. слуги составляли всего 8 % общего числа пополанов, а в 1760 г. — уже 10 %, что свидетельствует о нарушении равновесия как в обществе, так и в экономике и о скрытом кризисе регулируемой системы корпораций.
Еще одним признаком кризиса является увеличение количества нищих и бродяг. Правительство брало нищих под свою опеку. Двенадцати престарелым женщинам, бывшим служанкам, впавшим в нищету, было предоставлено право просить милостыню перед Дворцом дожей: это были «дожевы бедняки».[448] С 1457 г. существовало объединение «Бедняки на проходе» (al passo), предоставлявшее сорока нищим, беднякам и калекам общественно-полезную работу на Немецком подворье или на таможне. Также для поддержания нищих было создано общество «Бедняки у воронки» (al pevere) — братство престарелых корабельщиков, которым уже за шестьдесят и которые «потеряли здоровье на службе родине»; участников этого братства определяли путем ежегодных выборов, проводившихся в Святой вторник. Но если в 1580 г. при Дольони насчитывается более 187 нищих, из которых 112 женщин, и 1290 бедняков в различных приютах, то в 1760 г. нищих становится уже 18 тысяч, что составляет 12 % населения. К нищим иногда причисляют довольно размытую категорию населения, именуемую fuzitivi, или бродяги, «те, кто бродят там и сям, не имея ни ремесла, ни профессии, ни постоянного жилья, ни постоянного заработка».[449] Число бродяг постоянно растет, особенно в последние десятилетия XVIII в.: в 1782–1797 гг., во время кризиса в сельском хозяйстве и выступлений сельских жителей, Франческа Менегетти насчитала восемьсот шестьдесят пять дел о бродяжничестве на материке и в Истрии, что свидетельствовало о все более шатком положении крестьян.[450] Кто такие бродяги? Для некоторых это «плебс» или «отбросы» пополанов, люди, не желающие заниматься ремеслом, признанным полезным для общества.[451] Или же это наводящие страх маргиналы. Ибо, как замечает Гаспаро Гоцци, «бедняки и голодранцы, что клянчат на улицах и на мостах, ругая почем зря прохожих за их скупость, имеют свои давние „профессиональные приемы“»:[452] среди них имеются и «поддельные слепцы», именуемые на венецианском наречии birba, и «бесстыжие попрошайки», таскающие с собой животных «для отвода глаз»; путеводители остерегают путешественников от контактов с такими нищими. Нищие — это целый мир подозрительных личностей; среди них много разорившихся крестьян, прибывших с материка; эти люди обитают на площадях, поблизости от трактиров, гостиниц, театров, живут шарлатанством, настырным попрошайничеством. В 1735 г. Гольдони пишет комическую интермедию, где трое впавших в нищету кутил в лохмотьях, пытаются раздобыть на пропитание на Пьяцетте. Как творец, он, по его словам, использует переодевание с целью театрального эксперимента, дабы посеять те зерна, всходы которых впоследствии позволят показать на сцене реальную жизнь.[453] Но не забыл ли он, что эксперименты подлинных оборванцев завершались в тюрьме?
Начиная с 1714 г. Сенат призвал судейских чиновников из коммерческой и ремесленной магистратур поразмыслить над «обоснованностью предоставления корпорациям большей свободы действий». Вся организация труда, включая оснащенность инструментами и техническими средствами, должна была быть пересмотрена. В 1770 г. был разработан сложный вопросник для распространения среди членов корпораций; в нем задавались вопросы и о структуре организации, и об инвестициях, и о прибылях, и о существующих проблемах. Предложенные реформы были направлены на поддержание равновесия в производственном секторе; в том числе предлагалось ограничить набор учеников и подмастерьев в убыточных отраслях и установить надзор над созданием лавок без наличия реального капитала. Итог был не слишком утешительным. Перспектива демонтирования стройной системы, обеспечивавшей и поддерживавшей не имеющих средств к существованию, повлекла за собой ряд довольно крупных выступлений. Рабочие Арсенала подняли мятеж в 1762 г.; повышение цен на зерно в 1766 г. и на соль в 1774 г. также вызвали волнения;[454] в те же годы мясники и живодеры протестуют против лишения их всяческих привилегий, а в 1775 и 1782 гг. выступают булочники — в ответ на предложение Андреа Трона дозволить хозяевам свободно нанимать и увольнять работников.
В 1777 г., когда корпорации пребывают в волнении, Сенат поручает Бернардино Макаруцци соорудить новую архитектурную конструкцию для ярмарки на Сан-Марко, обычно проводившейся во время праздника Вознесения: ежегодно, начиная со Средних веков, на этой ярмарке все венецианские ремесленники выставляли свои изделия. Прежняя ярмарочная площадка состояла из двух одинаковых, расположенных параллельно друг другу торговых рядов, в каждом ряду было по несколько деревянных построек, обращенных к центральному проходу. Макаруцци решает преобразить скромную торговую площадь, создав величественную двойную колоннаду в неоклассическом стиле в форме эллипса, включив в композицию и колоннады Прокураций. На новой ярмарке устанавливается иерархия между высокими ремеслами, представленными во внутренних лоджиях, и низкими промыслами, которым отводят менее пышные прилавки. В этом разделении, равно как и эстетическом выборе правительства, принявшего «на ура» проект архитектора, похоже, нашла свое отражение двойственность социальной политики Республики.
Глава V
ЧЕТВЕРТОЕ СОСЛОВИЕ
Бета. Эх, детка, нам надо работать одновременно и за женщину, и за мужчину!
Андзола. К счастью, мы кое-что значим! А вот мужчины наши ни на что не пригодны!
Джачинта. Я родилась свободной и не желаю быть рабыней!
Женщина во всех ее ипостасях
Ревнивые домохозяйки, обеспокоенные независимыми манерами вдов, которых их мужья пристрастились посещать («Ревнивицы»); женщины, которых не приглашают участвовать в тайных собраниях мужей и которые не могут успокоиться, пока не разберутся в этой тайне («Любопытные женщины»); симпатичные девушки, решившие во время карнавала повеселиться и подшутить над иностранцем («Веселые женщины»); служанки, сговаривающиеся проучить своих хозяев, не желающих платить за их труд («Кухарки»). И прекрасная трактирщица, объявившая войну всем мужчинам, но прихоти ради соблазняющая кавалера-женоненавистника; она ведет себя как беззастенчивая кокетка, однако истинная свобода для нее состоит в том, чтобы не влюбиться самой:
Над этими чучелами-воздыхателями, падающими в обморок, я намерена издеваться. И уж пущу в ход все свое искусство, чтобы победить, раздавить, сокрушить гордецов с каменными сердцами, которые нас ненавидят — нас, то лучшее, что произвела на свет прекрасная мать-природа![455]
Венецианки, если верить Гольдони, подхватили знамя мятежа, и мужчинам остается только измышлять ответные меры, чтобы вернуть себе былую власть:
Лунардо. И запереть двери.
Симоне. И забаррикадировать балконы.
Лунардо. И тогда мы посбиваем с них спесь.
Симоне. И заставим их делать то, что захотим.
Лунардо. Если ты мужчина, ты должен поступить именно так.
Симоне. А если ты так не сделаешь, значит, ты не мужчина.[456]
Словом, война.
Напомним, что позиция Гольдони в этой войне двойственна. Пятая степень счастья, по его мнению, это «родиться мужчиной, а не женщиной», ибо если женщина «любезна и красива», если мужчины увиваются за ней, прислуживают ей и влюблены в нее, значит, она теряет самое дорогое сокровище — «свободу». Извечное предназначение женщины — «подчиняться», что, разумеется, не искупается той заботой, которой мужчины ее окружают. Девушки постоянно пребывают «под строгим надзором своих родителей; выйдя замуж, они зачастую оказываются под еще более строгим надзором мужей; овдовев, они, заботясь о сохранении своего доброго имени, вынуждены считаться с мнением света. Счастливицами могли бы почитать себя монахини, но они почему-то таковыми себя не считают».[457] Драматург рисует весьма безрадостную картину положения своих соотечественниц.
Но искренен ли Гольдони? «Я старался угодить женщинам моего родного города. Но при этом я заботился и о собственных интересах, ибо для того чтобы понравиться публике, нужно прежде всего польстить дамам».[458] Ведь в XVIII в. более половины населения Венеции составляют женщины. По статистике их рождается меньше, но выживает больше: между 1682 и 1711 гг. ежегодно рождалось 2640 мальчиков и 2478 девочек, однако за это время умерли 1353 мальчика и только 1179 девочек; среди мужчин смертность также была выше, чем среди женщин. Поэтому драматург, существующий плодами своих трудов и желающий жить достойно и платить карточные долги, должен обеспечить своему импресарио полные сборы. Гольдони необходимо уладить и кое-какие последствия его юношеских любовных увлечений. Его нельзя причислить к «либертенам», однако говорят, что он «отнюдь не всегда вел себя осмотрительно и легко поддавался соблазнам»; не равняясь с Казановой, он, тем не менее, имел собственный небольшой список побед и с удовольствием поместил его в первой части своих «Мемуаров». Но обманутый, осмеянный, выставленный на посмешище — быть может, по причине излишней требовательности или же, напротив, нерешительности, — в какой-то момент он стал испытывать ужас перед женщинами, и только супруга его, Никколета Конио, мудрая, добрая, честная и в меру болтливая женщина, сумела кое-как примирить его с прекрасным полом. Однако чтобы найти ее, ему пришлось отправиться в Геную.
А образцами для большинства героинь Гольдони были актрисы: Тереза Медебак, жена импресарио театра Сант-Анджело, блиставшая в ранних комедиях Гольдони и ставшая в своем роде прототипом Розауры; Маддалена Марлиани, лучшая итальянская актриса того времени, заменившая Терезу в роли служанки Коралины и в лучшей женской роли — прекрасной трактирщицы Мирандолины; Катерина Брешиани из театра Сан-Лука, главная исполнительница роли Ирканы («Персидская трилогия»), рабыни-черкешенки, оспаривающей своего возлюбленного у его законной супруги, на которой его вынудили жениться. Женщины всегда влекли к себе Гольдони. «Субретка пела восхитительно, и на меня нахлынули невообразимые ощущения», — признается он; но одновременно женщины пугают его. Как автора же комедий они буквально завораживают его: он пишет, чтобы понять их, чтобы раскрыть их тайну, и благодаря своим наблюдениям проникает в глубинную суть женского характера.
По мнению Джованни Скарабелло,[459] женщины в Венеции составляют четвертое сословие — наряду с патрициями, читтадини и пополанами. И значимость этого сословия велика не только благодаря его численному превосходству. Они выполняют основную функцию в государстве: красотой своей создают и прославляют великолепие города. Как мы уже могли убедиться, Венеция это вторая Венера. Согласно преданию, совершенная красота Венеции происходит от ее богини-покровительницы; красота венецианок — эстетический канон, воплощенный и увековеченный в литературе и живописи: белизна кожи, оттененная жемчужинами и шелками, редкостный цвет волос, которые женщины осветляли, сидя на балкончиках и подставляя головы яркому солнцу, очаровательной формы руки и ноги. Венеция славит красоту своих женщин и использует ее в политических целях. «Все венецианки прекрасны, пишет Марио Санудо и тотчас добавляет: — Выходят они из дома с большой торжественностью… гостей, прибывших в Венецию, встречают в роскошных платьях, богато украшенных драгоценностями и самоцветами». Так, например, в 1754 г. Генрих III, возвращаясь из Польши через Венецию, был встречен двумя сотнями благородных посланниц самой богини очарования: одетые в белоснежный муар, сверкающий драгоценностями, венецианки мгновенно покорили свиту французского короля. Не меньший успех имели и специальные женские регаты, регулярно устраивавшиеся на Канале Гранде, во время которых женщины из народа в легких коротких платьях, с развевающимися по ветру волосами наперегонки гребли к победному финишу, позволяя зрителям любоваться своей красотой и ловкостью. Любая женщина, вне зависимости от ее общественного положения, постоянно является основным объектом для демонстрации: город гордится своими женщинами так же, как своим богатством и своей свободой. Женщины представляют общественно-полезную ценность, они наравне с прочими гражданами служат Светлейшей, но своим оружием.
Однако в век, когда повсюду в Европе женщины требуют специального законодательства, борются против своего подчиненного положения, утверждают свои права на доступ к культурным ценностям и право самим решать свою судьбу, этого совершенно недостаточно. И Венеция, где уже с XIV в. вдовы объединяются для создания предприятий, Венеция, этот образцовый город-женщина, не может остаться в стороне от борьбы женщин за свои права. Представительская функция, которую отводят женщинам, маскируя таким образом их зависимость от власти мужчины, начинает восприниматься как порабощение, даже как тирания, а не как признание заслуг и возможность для самоутверждения. Пробуждение самосознания, подкрепленное, начиная с XVI в., повсеместным распространением книг, посвященных положению женщины, вдовству, браку, выбору супруга и спорам о женском воспитании, женском долге и женских правах, началось в Венеции очень рано.[460] Женщины пробуют свои силы в литературе, и не только в поэзии в духе Петрарки, где они предусмотрительно не выходили за рамки канона, но и в театре. Даже из недр монастырей поднимаются отчаянные голоса, обвиняющие Республику в тираническом отношении к своим дочерям с единственной целью обрести вечность: сестра Арканджела Таработти (настоящее имя Елена Кассандра), отданная в одиннадцать лет в бенедиктинский монастырь Святой Анны в Кастелло, в период с 1643 по 1654 г. пишет множество сочинений с красноречивыми названиями «Антисатира о пристрастии женщин к роскоши», «Тирания отцов, или обманутое простодушие», «Монастырский ад»; все они остались в рукописи. «Я по справедливости посвящаю „Тиранию отцов“, — пишет она в предисловии к „Монастырскому аду“, — той Республике, где гораздо чаще, чем в иных краях, принуждают девушек принимать постриг. Мое посвящение вполне может быть адресовано также и Сенату, который заключает девушек в монастыри, принуждает их хранить девственность, заставляет истязать плоть, распевать псалмы и постоянно молиться, надеясь таким образом добыть вечность для вас, Прекрасная Дева, Королева Адриатики».[461]
Однако в XVIII столетии вечность уже кажется сомнительной. Ибо сомнение посеяно.
Все шлюхи…
В 1643 г., пока сестра Арканджела в монастыре пишет разоблачительные сочинения, на сцене театра Сан-Джованни-э-Паоло торжествующая куртизанка получает доступ к высшей власти: Поппея, при поддержке Амура и его матери, а также собственных неотразимых прелестей, соблазняет юного императора Нерона, который никак не может оторваться от ее «крепеньких яблочек удовольствия» и в конце концов увенчивает ее императорской короной, отвергнув свою супругу Октавию.[462] Венеция-Венера, мать амурчиков, более чем когда либо являлась в глазах иностранцев городом куртизанок.
Начиная с XIII в. правительство прекратило растрачивать силы на контроль за проституцией, сконцентрировав активность девиц легкого поведения в определенных местах, и в частности на Риальто, где в XIV в. для соответствующих дам был даже создан публичный бордель-резервация — Кастеллетто. Проститутки обязаны были соблюдать определенные правила, дабы отличаться от остальных женщин: им было запрещено покидать отведенные им «для работы» места, ночевать в тавернах, селить у себя иностранцев; являться в приемные женских монастырей; кататься на лодках, будь то днем или ночью; выходить в масках на улицу. В театре же, напротив, они были обязаны появляться только в масках. Им не разрешалось селиться на Канале Гранде и платить больше 100 дукатов за квартиру, иметь горничных и прислугу, носить белые платья, какие носят молодые девушки, и жемчужные ожерелья, какие обычно носят женщины из общества, принимать участие в празднествах знати, появляться на балах, загородных прогулках, ярмарках или религиозных праздниках. Нарушительниц наказывали так же, как и преступников-рецидивистов: привязывали к двум столбам на Пьяцетте и при большом стечении народа отрезали уши и нос; еще их могли публично подвергнуть порке на Сан-Марко или Риальто. Постановление об этих наказаниях было принято лишь в 1615 г.[463] Также существовал специальный налог, взимавшийся с проституток, плативших за жилье свыше 40 дукатов: деньги эти шли на содержание бедных девушек в благотворительных заведениях.[464] Женщины легкого поведения не могли ни выступать свидетелями в уголовных процессах, ни обращаться к правосудию, если им не заплатили за их работу.
Однако одновременно с увеличением количества запретов в общественное сознание внедрялся образ весьма неоднозначный — образ «почтительной проститутки». В 1566 г. был составлен каталог двухсот «самых выдающихся и почтенных куртизанок»[465] с адресами и тарифами. Издатель его попал в тюрьму, однако каталог тайно циркулировал и пользовался большим спросом, сыграв немалую роль в популяризации среди путешественников этих, по выражению де Бросса, «услужливых телес». Наряду с зрелищем благородных девственниц к услугам Генриха III была дорогая куртизанка Вероника Франко, писательница и поэтесса, сделавшая предметом торга не только свое прекрасное тело, но и блестящий ум: она одаряла клиентов утонченными удовольствиями не только плотскими, но и интеллектуальными. Так как же относиться к куртизанкам? Это вопрос пропаганды и дипломатии.
Остроумцы не преминули заметить такое противоречие. «Слава и всеобщее изумление, достойное вечности», «врата ада, дорога нечестия, образец непостоянства» — так рассуждали о венецианских куртизанках в 1607 г. два персонажа в исполнении актера Франческо Андреини: капитан из «Адской долины» и его слуга.[466] Под пером Бузенелло, привыкшего вращаться в кругах интеллектуалов-либертенов и прочих возмутителей спокойствия, торжество Поппеи носит и это главное — отрицательный характер: куртизанка становится символом проституции у власти и проституции власти. Через год после Бузенелло Ферранте Паллавичино, утверждая, что проститутки не более опасны для мужчин, чем война, и уподобляя недостатки их профессии недостаткам сильных мира сего, поддерживает оценку своего предшественника.[467] Амло де ла Уссе, громивший венецианский деспотизм, видит в куртизанках «пиявок, которых прикладывают к наиболее полнокровным частям государственного тела; пиявки эти заодно сосут соки и из иностранцев». Паллавичино уверен, что девицы эти пользуются негласной поддержкой Сената, которому выгодно держать молодых нобилей в состоянии праздности, дабы в головах у них «не завелись пагубные мысли».[468] Спустя век «общественная» функция проституток меняется; теперь они посещают казини нобилей, ведущих крамольные политические речи. К примеру, для инквизиторов, отдавших в 1762 г. приказ арестовать Анджело Кверини, его знакомство с куртизанкой свидетельствует о его неблагонадежности. В ряде донесений подчеркивалось, что «до семи часов утра Анджело Кверини находился со своим другом, кавалером Джустиньяни, посланником в Риме, в компании Джулии Преато, прозванной Чистильщицей, супруги Франческо Учелли, чрезвычайного нотария при Канцелярии дожа».[469] Эта Чистильщица в прошлом была знаменитой куртизанкой, с которой в ранней юности, а именно в 1741 г., был знаком сам Казанова. Ее прозвище перешло к ней от отца, занимавшегося очисткой каналов.[470]
Итак, Венеция сохраняет приобретенную ею репутацию города, где процветает проституция. Образ венецианской куртизанки, сколь бы он ни был двойствен, непременно присутствует в воображении путешественников. Почти все они включают в свое описание Венеции главу, где по достоинству оценивают исключительное очарование и талант этих дам и непременно рассказывают об одном из приключений — удачном либо неудачном — с одной из них. Венеция не способствует сохранению добродетели, замечает Монтескье, сумевший в этом убедиться на собственном опыте. Даже Руссо поддается искушению: смущенный, беспомощный, исполненный угрызений совести, он тем не менее пускается во все тяжкие, ибо, по его словам, в Венеции во всем, что касается женщин, воздержание просто невозможно. В конце концов он привязывается к молоденькой девочке и решает воспитать ее на свой манер. В те времена такая практика существовала. Миф о прекрасных венецианских куртизанках столь живуч, что будущий император Иосиф II во время одного из своих визитов, вспоминая о милостях, оказанных Генриху III, также пожелал воспользоваться любезностью красотки на одну ночь.
Но женщины меняются. Путешественники начинают замечать, что девицы стали менее красивы, менее податливы, менее чистоплотны и в целом малочисленны. На самом деле меньше их не стало — напротив, число их неизмеримо возросло, а активность давно выплеснулась за рамки Кастеллетто; просто пропасть между различными слоями «публичных женщин» стала значительно глубже. Проститутки (meretrici) стали преобладать над шикарными куртизанками (cortigiani). Количество мелких проституток, с XVI в. обитавших в Ка Рампани возле Кампо Сан-Поло, в центральных районах под галереями Сан-Марко, а на окраинах — возле Санта-Маргарита и Санта-Тринита в Кастелло, значительно увеличилось.[471] Инквизиторы отмечают, что проститутки стали дерзкими и наглыми, в жаркие часы они не стесняются появляться голыми у себя на балконах, гуляют «с обнаженной грудью», хватают прохожих за полы плаща и склоняют к греху, преследуют иностранцев, заходят вместе с ними в кафе и там, в отдельных кабинетах, развлекают их. Большинство девиц состояли «на службе» у какой-нибудь бывшей проститутки, вновь вернувшейся к прежнему ремеслу; иногда роль сводни исполняла мать девицы; те, что были на содержании у своих любовников, обычно жили в специально снятых для них квартирах. У проституток не было отпусков и выходных, за исключением дня Страстной пятницы. Прачку Смеральдину из комедии Гольдони, трудолюбивую и, в сущности, честную девушку, на путь проституции толкает собственный брат Труффальдино, любитель набить брюхо, не утруждая себя работой; он уговаривает ее «спину гнуть меньше, а зарабатывать больше», отвечая на заигрывания богатых господ. Подобные уговоры, несомненно, являются отражением экономического кризиса.[472] В таком же положении оказывается и Чеккина из интермедии «Обман», иностранка, живущая подаянием и чем придется: разорившийся брат уговаривает ее стать проституткой на площади Сан-Марко, тем самым намекая, что на этом можно заработать деньги. С опасной скоростью стали распространяться и венерические заболевания (Руссо, без сомнения, имел все основания опасаться их), а сатирические поэты не преминули заявить, что в Венеции «умирали на всем скаку… по причине чумы, поразившей всю страну, не разбирая ни пола, ни звания… чума эта — французская болезнь».[473]
Правительство тем временем расширяло сеть благотворительных учреждений для бедных девушек, дабы отвратить их от проституции и дать им некоторое образование: научить читать, считать, шить, вышивать, плести кружева. Следом за приютом «Незамужних дев», основанным в XVI в. возле церкви с таким же названием, был открыт приют «Бедных кающихся». Как пишет Гольдони,[474] всеобщая лотерея, устроенная в Венеции в 1715 г. по образцу лотереи, существовавшей в Генуе, была задумана с филантропическими целями, дабы помочь молодым девушкам без средств к существованию. При каждом тираже[475] — а таких в год было девять — по жребию избирали пять девушек и вручали им от 20 до 40 дукатов в качестве приданого или же вступительного взноса в монастырь.
«Куртизанки, желавшие втереться в доверие и быть принятыми за честных женщин, одевались, как одеваются вдовы, замужние женщины или честные служанки», — уточняет Гревемброк, излагая историю венецианской галантной жизни. В XVIII в. практика подобного переодевания, несмотря на запреты, участилась: «В тот день на Сан-Марко одна из проституток по имени Баготина, что живет возле моста Сан-Канчиан, была в маске и белом муаровом платье с длинным шлейфом, расшитым золотыми плодами; вышивка, именуемая „жарден“, была такая плотная, что невозможно было разглядеть цвет ткани. Благородный господин Марко Микеле Саламон спросил у другого благородного господина: „Как же должны одеваться женщины из рода Мочениго или Фоскари, если на обыкновенной проститутке надето платье, вполне приставшее догарессе?“»[476] Разумеется, это была роскошь, бьющая через край, особенно если вспомнить, что с 1645 г. догарессам не разрешалось носить герцогскую корону.[477] Галантное приключение президента де Бросса с некой Багатиной не является чистым вымыслом. Он попытался встретиться с ней, попросил назначить свидание, затем узнал, что имеет дело с замужней дамой, но продолжал настаивать, заплатил, получил свидание, встретил элегантную, утонченную женщину, рассыпался в извинениях, но в конце концов понял, что она — именно то, что он искал.[478] Светская женщина? Куртизанка? Во всем, что касается галантных похождений, понять, кто есть кто, невозможно. Тем более что на Сан-Марко, как об этом сообщает де Брасс, сводники иногда предлагают мужьям их собственных жен, а куртизанки прибывают в гондолах за сенаторами, чтобы забрать их прямо из Дворца. Здесь царит разврат.
В обществе, где женщины перестают соблюдать установленные для них правила, они тотчас начинают платить дань дурным нравам. Молодая женщина, красивая и легко одетая, в сопровождении двух знатных молодых людей купается нагишом в водах Лидо: служба инквизиции тотчас причисляет ее к «падшим женщинам», а ее сопровождающих — к «иностранцам».[479] Кто такие падшие женщины в театре Гольдони? Разумеется, не куртизанки, ибо эта роль типична для ренессансной комедии. Носителями испорченных нравов являются балерины, певицы, актрисы, заклейменные цензорами еще в XVII в., то есть те женщины, чья деятельность противоречит нормам брака, семейной жизни и установленным порядкам. В частности, Анчилла Кампьони, самая знаменитая, по словам Казановы, куртизанка Венеции, является танцовщицей.[480] У Гольдони есть юная танцовщица Лизаура, о которой соседи, сидя в ближайшем кафе, говорят, что она пользуется покровительством графа и к ней через «заднюю дверь», что выходит на улочку, «тайно ходят мужчины».[481] Любопытно: пока эти «балерины» оставались «под покровительством», к ним относились терпимо, но если они пытались заставить дворянина жениться на себе, их выгоняли из города.[482] Джузеппина, мудрая балерина из «Школы танцев», избежавшая похотливых притязаний скупого учителя танцев и убедившая патриция в своей честности, так что тот даже женился на ней, является исключением. Имеется также Пеларина, молодая певица, которую мать — как это часто случалось в театральной среде — толкает в объятия грубого мужчины с набитыми золотом карманами и приказывает «обчистить» его во всех смыслах (от сифилиса у него выпали все волосы). Есть также «незнакомки», «авантюристки» или «паломницы», прибывающие в город в поисках неверного возлюбленного, соблазненного мужа, неведомого отца; женщины эти не имеют определенного статуса, следовательно, исключены из действующих социальных правил. Юная римлянка Доралиса приезжает в Венецию в один из дней карнавала и устраивается на террасе кафе. Одинокая иностранка в маске утром сидит в кафе,[483] и хозяин его Нарчизо тотчас принимает ее за доступную женщину (каковой она не является). Случай этот поистине ярче всего характеризует новую реальность, а девушку можно считать сценическим прообразом одной из тех дочерей знатных кланов, которым приходилось покидать родной дом, чтобы избежать ненавистного им брака; в конце концов многие из беглянок вынуждены были вступать на путь проституции.
Брак — это ад
Согласно Гольдони, брак можно рассматривать как вторую степень счастья. Но только в том случае, если была возможность выбрать «достойную супругу». А так как «сомнение всегда остается и опасность ошибиться очевидна», то, по его утверждению, лучше оставаться свободным и всегда иметь возможность приблизить к себе счастье.[484] Так воспринимали проблему брака мужчины XVIII в.
Впрочем, в прежние времена выбрать достойную супругу было легко, ибо все качества ее были названы в многочисленных трактатах, например, в «Чрезвычайно мудрых и серьезных советах о том, как выбирать супругу» Франческо Барбаро, опубликованных в 1548 г. издателем Джиолитто; из этой книги черпали свои познания все «хорошие авторы». Гольдони описывает разных женщин. Лесбина, хитрая служанка, решившая женить на себе робкого деревенского философа, как и многие ее товарки, знает, какое приданое должна она принести с собой, чтобы добиться его доверия: «Преданность, честность, застенчивость и скромность, а главное, умение экономить». И уже почти побежденный философ отвечает: «Хороша она или уродлива, в любом случае женщина должна принадлежать только одному мужчине. Что же касается умения экономить, то вы должны для себя усвоить: всегда следуй воле мужа и не пытайся изображать ни хозяйку, ни ученую женщину».[485] Таким образом, любая попытка выйти за отведенные женщине рамки не поощрялась, а разница в состоянии и образовании становилась непременным источником разногласий. Немало супружеских пар в комедиях Гольдони ссорятся именно из-за этого неравенства.[486] Скромность означала сдержанность, а также осознанное нежелание бывать в обществе, прежде всего галантном, не наносить визитов, не стремиться блистать остроумием в разговоре, не вмешиваться в политику, довольствоваться семейным очагом, поддерживать мужа в его начинаниях, рожать и воспитывать детей — одним словом, «уметь держать дом». Образ идеальной женщины описан в основном через отрицания: предполагается, что женщина, наделенная всеми необходимыми добродетелями, должна быть «щедрой без границ, богатой, но без гордыни, одеваться красиво, но не роскошно, быть добродетельной, но не кичиться этим».[487]
Однако, похоже, в XVIII в. образ домохозяйки начинает отходить в прошлое. «Теперь и вовсе невозможно жениться», жалуется Лунардо, вспоминая святую скромность своей покойной жены.[488] Записной женоненавистник Карло Гоцци ищет «совершенную возлюбленную с благородным сердцем», «добродетельную подругу, сумевшую оценить его метафизическую душу», но его поиски напрасны: после трех бурных неудачных романов, о которых рассказывает очень подробно, он решает остаться холостяком.[489] Как мы уже видели, наметилась очевидная тенденция не вступать в брак, несмотря на отрицательное отношение к этому явлению властей. Официальные инстанции осуждали тайные и подпольные браки; особые нарекания вызывали казини, которые, по мнению цензоров, напрямую способствовали разрушению семейных уз; в 1776 и 1785 гг., сразу же за двумя последними реформами, вышли переиздания «Чрезвычайно мудрых и серьезных советов»: Республике было необходимо улучшить демографическую ситуацию. Если верить Казанове, часто рассказывающему о своих и чужих галантных похождениях, скандальная связь Да Понте с супругой майордома Дзагури, Андзолеттой Беллауди, сыграла не последнюю роль в изгнании Да Понте из Венеции в 1779 г.: дама часто беременела.[490] Гоцци потерпел неудачу с соседкой, проживавшей на противоположной стороне улицы: легкое поведение девицы в конце концов разочаровало его. В целом замужние женщины из простонародья — жены ремесленников, служанки и даже крестьянки — достаточно легко уступали капризам «либертенов».
Для женщин, обвиняемых во всех существующих пороках, проблема ставилась по-иному. Невест перестали «распродавать с молотка», как это было принято у первых обитателей лагуны. У Гольдони старый скряга решает не давать дочери приданого и горько сожалеет о прошедших временах, когда «чем дочери были красивее, тем больше отец получал денег»; иметь дочерей было выгодно, а нынче приданое наносит существенный урон отцовскому состоянию.[491] На острове Сан-Пьетро ди Кастелло женщины больше не собирались на совместное прослушивание мессы, а, подхватив приданое и «корзинку новобрачной», уезжали со своими мужьями. Брачные церемонии более походили на те, что в конце XVI в. описал Сансовино: утром, после подписания брачного контракта жених отправлялся во Дворец дожей для его оглашения, затем он приглашал родственников и друзей к отцу невесты на торжество и официальное представление, после чего молодая супруга на гондоле отправлялась навещать родственников в окрестных монастырях. Во времена Гольдони обряд бракосочетания состоял из трех церемоний:
Первая церемония — подписание свадебного контракта в присутствии всех родных и знакомых… Вторая церемония — поднесение перстня. Не обыкновенного обручального кольца, а именно перстня, с огромным бриллиантом-солитером, который жених должен подарить своей невесте. На это торжество приглашаются все родные и знакомые. Дом богато убирается, все гости являются в великолепных нарядах. Кроме того, ни одно собрание в Венеции не обходится без дорогих угощений. Третья церемония поднесение ожерелья. За несколько дней до церковного венчания мать или ближайшая родственница жениха отправляется к невесте и подносит ей ожерелье из настоящего жемчуга, которое молодая должна носить не снимая с этого самого дня и до конца первого года замужества.[492]
Поощрялись предварительные ухаживания, жених и невеста получили возможность встречаться. Гольдони рассказывает, что сам он сочинял песенки, дабы устраивать серенады для некой юной особы, обладавшей «наивной и пикантной грацией».[493] Но еще в 1590 г. Чезаре Вечеллио заявлял, что юные девушки на выданье, проживавшие в родительских домах, «оберегались столь хорошо и неусыпно, что даже ближайшие родственники имели возможность увидеть их только на свадьбе».[494] В XVIII в. многие женщины жалуются в комиссию по нравам на утрату девственности, соблазнение и злоупотребление доверием со стороны излишне торопливых женихов: выйти замуж с подобным пятном на репутации было практически невозможно. Однако когда во время суда выяснялось, что родные не слишком бдительно наблюдали за тем, где и как встречаются их дочери со своими женихами, а сами девушки злоупотребляли своей свободой, жалобы их отклонялись по причине «непорядочного поведения».[495] Джустиниана Уинн Розенберг, парижская возлюбленная Казановы, в Венеции стала предметом пересудов из-за своего эксцентричного поведения и страсти к игре; угодив в 1773 г. в тюрьму за долги, она писала, что «венецианские девушки, воспитанные в принципах местного добронравия, постоянно сидят дома, занимаются рукоделием, и вся их свобода заключается в возможности на минуточку подойти к окну и выглянуть на улицу».[496] Это позднее и достаточно парадоксальное свидетельство может быть всего лишь литературной экстраполяцией из ремарок Вечеллио или же гольдониевскими тирадами, направленными в защиту чести и непоколебимой добродетели венецианских девушек. Тем временем венецианское законодательство применительно к молодым девушкам было вполне ясным. Отец имел право лишить дочь, которой не исполнилось двадцати пяти лет, приданого только за то, что она «посмела поговорить с человеком недостойным», и уж тем более если она совершила «плотский грех».[497] Однако если после двадцати пяти лет девушка еще была не замужем, вина за это падала на ее отца, не сумевшего устроить ее судьбу. Мужлан и грубиян Лунардо исповедует эти принципы и не дозволяет дочери видеться с женихом, которого он сам ей и выбрал. Но имела ли невеста возможность до свадьбы встречаться с женихом или нет, брак по-прежнему оставался сделкой главным образом экономической, а отнюдь не следствием взаимной склонности, и основное место среди брачных обрядов занимали переговоры и подписание брачного контракта, что считалось делом мужским.
По закону и в согласии с каноническим правом основой брачного союза должно было быть свободное согласие сторон, а также родительское дозволение, дабы «не выказывать неуважения к родителям, а также чтобы молодые люди не рисковали лишиться имущества, что может случиться, если брак будет заключен против воли завещателя».[498] Распоряжение это, как мы помним, имело большое значение для аристократических семей. Любой брак, заключенный без родительского согласия или же просто признанный неподходящим, становился причиной раздоров между родителями и детьми. Законодательство, трактовавшее вопросы приданого, решало их отнюдь не в пользу девушки. Даже выйдя замуж, она не имела права распоряжаться собственным приданым, управление им осуществлял муж, который в случае кончины супруги был обязан возместить его семье покойной. Семья же из этого приданого могла воспользоваться только тысячей дукатов: они могли стать «духовным взносом» за одну из дочерей, предназначенную в монастырь. Молодая жена могла получить также приданое от собственного супруга, но и это не давало ей экономической независимости. Напомним, что речь идет только о законных дочерях: незаконным дочерям отец вообще не был обязан давать приданое, кроме тех случаев, когда им удавалось добиться законного признания.
Свадьба, как объясняет Гольдони, это возможность устроить «большую выставку драгоценностей». Супруга является одним из экспонатов этой выставки. Как Республика извлекает доход из своего величия и блеска, так и муж извлекает выгоду из жены, демонстрирующей его богатство. Таким образом оправдывались роскошь женских нарядов и женское кокетство. Когда в 1638 г. Джованни Баттиста Торретти спросили, как он относится к богато одетым женщинам, он ответил, что вполне допускает, чтобы жена, подобно вьючному ослу, навешивала на себя все имеющиеся в доме драгоценности и украшения, дабы «все могли оценить величие и богатство ее мужа».[499] Ответ этот прозорливый де Бросс толкует следующим образом: жена является «предметом мебели, коим пользуется все семейство».[500] Еще жена является чем-то вроде страховой кассы: вкладывая средства в женские украшения, муж удачно их помещает, не растрачивая на запретные удовольствия, игру или куртизанок, а в случае банкротства ему обеспечена финансовая поддержка жены, уподобившейся, выражаясь словами того же автора, передвижному банку. Понятно, почему куртизанкам запрещалось носить жемчуг, но они все же его носили. Также понятно, отчего бедные дворяне, не имевшие возможности подарить невесте ожерелье из настоящего жемчуга, брали напрокат или же покупали по случаю поддельные жемчуга. Главным всегда считалось поддержание видимости, хотя, как это ни парадоксально, государство (впрочем, также склонное к парадоксам) и создало специальные суды, занимавшиеся регламентацией женских туалетов и украшений.
Установилась своеобразная мода на чичисбеев, этих «забавных зверушек», «женщин по манерам и привычкам и мужчин по исполняемой роли; это и не мужья и не холостяки, хотя часто и то и другое вместе».[501] Карикатурные изображения этих напудренных элегантных щеголей, верных спутников дам от будуара до ложи в опере, сохранились как в литературе, так и в театре. В появлении этих, по выражению Гольдони,[502] «демонов сладострастия», цензоры усматривают настоящий адюльтер, «порождение дьявола, разорение дома, расстройство здоровья физического и душевного»,[503] гибель почтенного института брака, неопровержимый знак испорченных нравов женщин. Само происхождение слова покрыто тайной: по мнению Джузеппе Баретти, оно происходит от глагола «шептать», что подчеркивает платонический и куртуазный характер близких отношений, устанавливающихся между женщиной и прислуживающим ей рыцарем. Оказание услуг — вот суть «деятельности» чичисбеев. Описание их типичного поведения свидетельствует в пользу правоты Баретти: предупредительные, внимательные, «они постоянно вздыхают», преклоняют колена, целуют руки, поддерживают, исполняют обязанности секретаря, горничной, даже субретки; они опрыскивают духами, пудрят, говорят ласковые слова, оказывают помощь.[504] Некоторые злобные умы не хотят верить, что пыл их носит исключительно платонический характер.
Но сексуальность в понятии «чичисбей» не самое главное. Гораздо важнее то, кто держал при себе подобных воздыхателей. Есть основания полагать, что изначально их выбирали отнюдь не сами замужние женщины. Определение сатирического поэта, назвавшего чичисбея «дневным заменителем мужа, долг коего всегда находиться рядом с женой и скучать с ней дни напролет»,[505] достаточно верно отражает его функцию. Поэтому, на наш взгляд, вполне можно согласиться с предположением, поддержанным де Броссом в 1729 г. и аббатом Ришаром в 1766 г.,[506] что присутствие «ручной зверушки» заранее оговаривалось в брачном договоре, а кандидатуру выбирали на семейном совете, дабы избранник мог служить не только жене, но и политическим интересам клана, а также заботиться об интересах часто отсутствующего мужа и приглядывать за его женой. Примечательно, что правительство не пыталось ни законодательно ограничить подобные нововведения, ни истребить эту моду. Ведь она, совершенно очевидно, освобождала мужей от забот о супругах и давала им возможность располагать своим временем для нужд Республики, а кроме того, обеспечивала занятие праздным и безденежным нобилям. На первый взгляд преимущества оправдывали определенный риск.
Постепенно среди женщин зрело возмущение множеством ограничений, регламентировавших их жизнь. Разумеется, они не имели ничего против роскоши, и в ее защиту можно было выступать под флагом экономических интересов нации: женское кокетство обеспечивало работой ремесленников. В конце концов, и чичисбеев можно было приспособить к чему-либо более полезному, нежели целование рук Труднее всего было мириться с авторитарным диктатом родителей и полным пренебрежением вкусами и чувствами дочерей. Осмотрительные умы давно пытались внушить, что проявлять авторитарность следует разумно и с оглядкой. Супруга — это не служанка, писал в XVI в. Ариосто одному из своих друзей, собиравшемуся жениться.[507] Супруга — это не рабыня, дополняет его поэт из Брешии конца XVII в. Бартоломео Дотти;[508] это доказывает, что время шло, а положение женщин не улучшалось. Поэтому некоторые женские персонажи Гольдони видят свою судьбу исключительно в черных красках. «Жить с нелюбимым мужем? Целый день видеть рядом с собой ненавистного тебе человека? Быть обязанной любить его, подчиняться ему, ублажать его? Нет, даже в аду еще не придумали более страшной кары», — утверждает юная героиня Гольдони и, уподобившись монахине Арканджеле Таработти, уговаривает сестер по несчастью убеждать своих отцов не «распоряжаться ими тиранически и не приносить сердца юных девушек в жертву честолюбию и финансовым интересам».[509] Не все супруги в комедиях Гольдони столь бодры и жизнерадостны, как Домоседки. Читтадина Розаура, рассудительная девица, вступившая в брак с аристократом, обремененным множеством любовниц, оказалась презираемой и заброшенной, а ее не слишком щепетильный супруг даже угрожает ее жизни.[510] Еще одна супруга заявляет, что ее «довели до нищенского состояния»; она готова терпеть голод, носить старые платья, но не желает мириться с оскорблениями, а потому рассматривает смерть как освобождение.[511] Некоторые жены терпят побои от своих мужей: сьер Болдо колотит жену так, что у него самого начинает болеть рука; причина — на его взгляд, жена слишком болтлива.[512] Многие жены не получают удовлетворения в интимной жизни. «Конечно, вы считаете, что коли жене есть чего есть, так ей уж больше и желать нечего», заявляет Маргарита, супруга деспотичного Леонардо. «А чего же вам надо?» — спрашивает он, получая в ответ стыдливую, но вполне понятную реплику: «Дорогой супруг, не заставляйте меня говорить глупости».[513] У многих героинь Гольдони развиваются неврозы, булимия, анорексия, синдром Дон Жуана, находящий свое выражение в игре, компенсирующей постоянные страдания и неутоленные желания.
Разумеется, были и счастливые браки. Об этом свидетельствуют письма, которыми обменивались, в частности, супруги Кверини.[514] Об этом говорят также стихотворения Гольдони, сочиненные в честь свадебных торжеств патрициев, и его посвящения, адресованные хозяйкам дома, известным «своими добродетелями, мудростью и честностью», «добродетельным супругам», любящим, заботящимся о детях и о доме.[515] Таких женщин он восхваляет и в своих комедиях. Такой была Кьяра Пизани, «теща» несчастной Терезы Ведовы: выданная замуж в раннем возрасте из соображений семейных интересов за дальнего родственника из боковой разорившейся ветви семейства, она в тридцать пять осталась вдовой с шестью детьми и стала руководить своим огромным состоянием лучше любого управляющего-мужчины. Именно она помешала сыну жениться по любви.
Количество просьб о расторжении брака или его аннулировании, позволявшем вновь вступить в брак, увеличивается только во второй половине века.[516] Между 1777 и 1782 гг. Совет десяти регистрирует двести девяносто три просьбы о расторжении брака в семьях патрициев, то есть в среднем по пятьдесят восемь просьб в год, в то время как в период с 1771 по 1795 г. среднегодовое число заключаемых браков равно двадцати трем.[517] Насильственные браки распадаются чаще. Мотивы, выдвигаемые в прошениях, свидетельствуют о том, насколько напряженными стали супружеские отношения, а также сколь ясно видит ситуацию Гольдони. От жен поступают жалобы на нежелание мужей предоставить им свободу волеизъявления, на жестокое обращение, на сожительство с мужчинами, на дурное отношение, на оскорбления, на нарушение мужьями супружеской верности, на сексуальную неудовлетворенность в браке и физическое отвращение к супругу. В свою очередь, мужья жалуются на то, что жены позволяют себе иметь иные политические взгляды, ведут светскую жизнь и расходуют слишком много денег, не проявляют интереса к домашним делам, злоупотребляют посещениями казини и уделяют излишнее внимание чичисбеям; последнее обвинение на суде обычно формулируется как пренебрежение супружескими обязанностями, или, говоря коротко, адюльтер, а иногда даже проституция. Как свидетельствуют материалы бракоразводных процессов, чичисбеи нередко вызывают ревность мужей. Например, графиня Беллати принимала услуги «рыцаря и обожателя» Бакаларио Дзена; с ним она уезжала «на прогулки», оставляя мужу записочки примерно следующего содержания: «Так как прекрасный новый сезон дарует нам радостную возможность совершать чудесные прогулки, я во вторник с удовольствием отправляюсь в Тревизо. Предупреждаю вас об этом на случай, если у вас появятся какие-либо возражения; ребенка оставляю вам». Муж не был подвержен «модным веяниям» и отвечал, что «никогда не согласится, чтобы жена его жила и поступала согласно своим прихотям».[518] Последовал развод, и таким образом отчасти решился вопрос о целомудрии «рыцаря для услуг». Женщины обращали себе на пользу служение, вмененное чичисбеями себе в обязанность, и утверждали свою власть, принимая самостоятельные решения и начиная вести себя независимо. Но чтобы начать процедуру развода, требовалось немалое мужество. В 1788 г. Совет десяти постановил, что во время бракоразводного процесса или аннулирования брака женщины должны пребывать в монастыре за счет мужа; в случае отрицательного решения суда они могли выйти из монастыря только с одним условием: вернуться к мужу. Даже если вопрос решался положительно, женщина все равно оставалась в зависимости от власти супруга и обязана была вести уединенную жизнь вдали от мирских соблазнов. Но это все же было лучше, чем влачить навязанные оковы брака.
Монастырь — это рай
Для сестры Арканджелы Таработти монастырь — это ад. Ад, потому что в него помещают по принуждению, в результате махинаций, фактически насильно, на основании причин исключительно экономических, в то время как на деле надо было бы отдавать туда добровольно — тех, кто чувствует призвание к монашеской жизни. Обычно девушек принуждали идти в монастырь по двум причинам: когда они были уродливыми, больными или калеками и отцу, несмотря на приданое, было трудно выдать их замуж, или же когда в семье не хватало средств, чтобы дать всем дочерям приданое и оплатить брачные церемонии. Если бы все дочери выходили замуж, писала Арканджела, почти все патрицианские семейства разорились бы.[519] Действительно, взнос в монастырь был значительно скромнее по сравнению с приданым, которое получали некоторые девицы: как уже говорилось, «духовное приданое» можно было внести сразу полностью, то есть всю тысячу дукатов, или выплачивать ежегодно по 60 дукатов. Стоимость «корзинки с приданым» монахини не должна была превышать 300 дукатов, равно как и церемонии принятия послуха и пострижения не должны были стоить более 100 дукатов. В случае превышения указанных сумм на нарушителей налагался штраф.
Картина вступления в монастырь и жизни монахинь, нарисованная Арканджелой, поистине апокалиптическая. «О, сколь жесток сей ужас!» — восклицает она, вспоминая пострижение, и называет церемонию «погребальной»: молодую девушку «бросают лицом на землю, возле головы ее и ног ставят зажженные свечи, саму ее накрывают черным сукном, и все вокруг поют молитвы…»[520] Это скорее похороны, нежели брак с женихом небесным. После сей церемонии новая монахиня обязана три дня хранить молчание. Скудная постная трапеза венчает первый этап обряда пострижения, печальна и одинока первая безмолвная ночь, наступающая после ненавистной свадьбы; скудна и вся еда, вкушаемая совместно в монастырской трапезной, прозванной «темной пещерой». По словам Арканджелы, «число девушек, вынужденных принять постриг, значительно превосходит число тех, кто совершает этот шаг добровольно».[521] Об этом она говорит читателю, дабы засвидетельствовать истинность своих ничем не подкрепленных слов. Но и описания ее, и оценки в определенной степени пристрастны. Без сомнения, они порождены душевным состоянием оскорбленной девушки, сопоставляющей сдержанность и самоотречение этих вынужденных мистических свадебных торжеств и роскошь, веселье и изобилие, с которыми принесенная послушницей жертва позволяла обставить свадьбу с вполне земным женихом другой дочери из той же семьи.
Скорее всего, насилие, совершаемое над волей девушки, в XVIII в. перестало быть основной причиной ее отречения от мира. К этому времени отцы больше не были непреклонными деспотами, а завещания, которые они составляли, чтобы обеспечить будущее своим отпрыскам, свидетельствуют об уважении к чувствам дочерей. «Я не хочу, чтобы дочери мои были вынуждены принимать постриг, ибо знаю, что поступок сей станет насилием над их душой; призвание сие должно быть велением души, а решение приниматься свободно, когда они достигнут изрядного возраста», — пишет в 1676 г. в завещании для своих пятерых дочерей Альвизо Трон. В конце XVII в. Альвизо Фоскарини перед смертью уточняет, что если ребенок, который вот-вот должен родиться, окажется девочкой, «то пусть она выходит замуж, а не идет в монастырь, если только она сама не пожелает туда удалиться».[522] Какая реальность кроется за этими предсмертными волеизъявлениями? Из трех оставшихся в живых дочерей Альвизо Трона две стали монахинями. Только одна вышла замуж. Призвание? Необходимость? Не имея прямых свидетельств заинтересованных лиц, нам остается только гадать. Точно можно сказать лишь следующее: в конце XVI в., по результатам переписи Дольони, в Венеции насчитывается 2508 монахинь, проживающих в трех десятках монастырей и обителей, разбросанных по городу и на окрестных островах, иначе говоря, 17 % взрослого женского населения, в то время как монахов и различных братьев насчитывается всего 1135.
В XVIII в. нередко все дочери из одной семьи встречались в одном монастыре; так, пять сестер Милези постепенно стали сестрами-кармелитками в монастыре Сан-Никколо — для них Гольдони написал стихотворение «к случаю». Иногда сестры приносили обет одновременно: так поступили обе дочери из семьи Корнер, решившие в 1755 г. стать монахинями монастыря Сан-Бьяджо на Джудекке.
Стихотворения по поводу пострижения или принятия сана писались по заказу и, судя по словам Гольдони, очень хорошо оплачивались патрициями, а затем непременно публиковались. Сам Гольдони за четырнадцать лет написал не меньше двух десятков таких произведений — как для друзей, так и для влиятельных семейств. Иногда он даже жалуется, что хотя таких заказов и много, однако все они приходятся на два месяца: «В течение года я в апреле и сентябре буквально теряю разум: девицы друг за другом либо подаются в монахини, либо выходят замуж».[523] Из этого следует, что немало девушек добровольно хотели провести жизнь в монастыре. Гольдониевская состоятельная вдова донна Аурелиа спасает дочь от брака с человеком, в честности которого у нее есть все основания сомневаться, и, отдав ей в мужья собственного возлюбленного, уходит в монастырь, или, точнее, «к тетке, которая заменяет в моей пьесе монастырь, так как в Италии это слово запрещено произносить на сцене»;[524] для гольдониевских отцов угроза отправить «к тетке» по-прежнему была действенным средством вразумления дочерей.
Конечно, угроза быть отданной в монастырь пугала, однако условия жизни будущей монахини были поистине идиллическими по сравнению с жизнью в браке. По крайней мере, в произведениях Гольдони это именно так. Ибо мнение автора не может расходиться с мнением заказчика, и в заказных стихах ему приходится славить род и ободрять послушницу, расписывая ей прелести избранной ею монастырской жизни. Поэтому будь то ритуальные церемонии или повседневная жизнь монахинь, картины монастырской жизни дышат покоем и уверенностью, словно все то, что порождало страдания Арканджелы, более не существует. Нет больше похорон, только свадьбы: певчие облачаются в роскошные одежды и голосами почти небесными поют в сопровождении скрипок, органа и виол; звуки возносятся под стрельчатые своды, и в это время появляется облаченная в белые одежды девственница, волосы рассыпаются по плечам, словно она приготовилась сочетаться браком с женихом земным. Смиренно, однако без излишней скованности направляется она к священнику и отвечает на его вопросы. Затем, преклонив колена перед алтарем, она молится, а в это время звучит своеобразная прелюдия к большой мессе. Лучшие композиторы сочиняли исполнявшуюся в эти торжественные часы музыку. Обряд пострижения — это целый спектакль. Пока на девственницу медленно надевают надлежащее облачение, она обменивается со священником установленными формулами вопросов и ответов, а затем громко стучит в ворота священной ограды, подтверждая тем свою волю войти в них. Никакого вынужденного молчания, никакой скудной пищи. Из комнаты для приемов доносятся голоса женщин, приглашенных на церемонию, за решетчатыми перегородками ожидают сестры, родственники и друзья принимающей постриг. Шоколад, пирожные, кофе, шербеты: сердца могут радоваться.[525]
Не все церемонии отличались подобной роскошью, вдобавок идущей вразрез с декретами Совета десяти. Только состоятельные семьи, помещавшие своих дочерей в самые богатые монастыри (в частности Сан-Закария и Сан-Лоренцо), могли обставить обряд с такой пышностью. Девушки эти и после пострига продолжали находиться на привилегированном положении и могли не исполнять работ, вмененных в обязанности всем остальным сестрам. Девушки из скромных, не располагавших средствами семейств, став послушницами, должны были выполнять различные черные работы, и желания их никого не интересовали.[526]
Правительство, осведомленное о насилии, совершаемом над большинством женщин, помещенных в монастырь, и\об отсутствии у них призвания к монашеской жизни, изначально заняло весьма гибкую позицию по отношению к уставным правилам. Санудо отмечает, что еще в 1509 г. во время карнавала монахини под звуки дудок и флейт весело отплясывали с мужчинами в комнатах для приема посетителей. В 1619 г. патриарх Тьеполо решил, что необходимо предоставить монахиням «в поведении, в следовании уставу и в одежде различные послабления, разумеется, в рамках добропорядочности и полезного примера»; еще он решил, что надобно «воспитывать монахинь, кормить их и одевать, соблюдая уважение и деликатность», например, «не принуждая их носить колючие шерстяные рубашки и спать на соломенных тюфяках».[527] Даже Арканджела отмечает, что в ее время монастырь служил убежищем для «совершивших скандальные поступки», признавая, таким образом, что некоторые сестры, не имеющие призвания к монашескому сану, были заслуженно помещены в монастырь.[528]
В самом монастыре наказанию подлежали только явные проступки; еще строже относились к тем монахиням, кому удавалось совершить побег с помощью своего возлюбленного.
Очевидцы утверждают, что в XVIII в. приемные в монастырях являлись местами, весьма удобными для ведения не только чинных бесед, но и оживленных разговоров, во время которых можно было выпить прохладительного, посмеяться, послушать музыкантов и закрутить любовную интрижку. Иногда свидания в монастырских приемных использовались в политических целях — например, старинная подруга Казановы, графиня Коронини, живя в монастыре Санта-Джустина, продолжала плести политические интриги.[529] Случалось, что монастырская приемная становилась сценой для демонстрации утонченного эротизма (подобные скандалы, несомненно, увеличивали число претензий инквизиторов). Например, загадочная М.М., для которой явно не составляло труда покидать монастырь Санта-Мария дельи Анджели в Мурано и встречаться со своим любовником в его венецианском казино, начала соблазнять Казанову прямо в стенах монастыря.[530] Иными словами, повсюду царило удовольствие. По рассказам Градениго, в монастыре Девственниц 23 февраля 1762 г. был устроен бал:
…весьма многолюдный, продлившийся до девяти утра; он проходил в приемной, дабы повеселить сестер; на нем танцевали немало благородных кавалеров и дам, множество читтадини, аристократов, и в том числе несколько господ весьма сурового нрава; музыканты играли на самых разных инструментах, освещение было великолепно, щедрые устроители бесплатно угощали пирожными.[531]
В приемной монастыря Санта-Клара, куда Гаспаро Гоцци однажды прибыл в приятном обществе сестры Анджелы Рафаэллы Марии, готовили шоколад и оладьи; там всегда царили смех, песни, флирт и чувственность без удержу: «Больше всего мне понравилось, что все женщины захотели поцеловать сестру; а чтобы губы их проникли через решетку, они вытягивали их трубочкой; то же самое делала сестра, и это являлось зрелищем поистине очаровательным».[532] Совет десяти предпринимал различные меры, чтобы разоблачать «грехи», процветавшие в «священных храмах», превращенных в места «отдыха», посещаемые масками, иностранцами и людьми с нечистыми намерениями.
Из года в год вводятся новые санкции. Во время реформы 1762 г. в Верховный трибунал была направлена просьба применить власть, дабы утвердить «уважение и почтение, кое подобает оказывать таковым местам». Однако все безрезультатно: и пятнадцать лет спустя путешественники продолжают писать о «любезных либертенках», которых всегда можно встретить в монастыре.[533]
Давать ли образование Луизе?
Видения идеальной монастырской жизни посещают, скорее всего, мужчин. Девушки же, несмотря на все предостережения, стремятся выйти замуж. Живительный венецианский воздух омолаживает: английский консул Смит в восемьдесят два года женился на сорокалетней, а Сакки, главный комик театра Сан-Самуэле, будучи «почти восьмидесятилетним стариком», страстно влюбился в свою юную премьершу Теодору Риччи, уже шесть лет пребывавшую «под покровительством» Карло Гоцци.[534] Однако если муж был в возрасте, можно было рассчитывать вскоре стать вдовой, то есть получить статус, позволявший распоряжаться своим имуществом, не став жертвой пересудов, а также совершать всевозможные сумасбродства, не утрачивая респектабельности. Гольдониевские вдовы редко бывают безутешны, в основном они «хитры» и «остры на язык»; они отдают деньги под проценты, успешно играют в лото,[535] сами правят лодкой своей жизни и с большой осторожностью, вытекающей из предыдущего жизненного опыта, рассматривают возможность повторного брака.
Более важным для многих венецианок XVIII в. становится стремление получить, наравне с мужчинами, достойное образование. «Мужчины отстранили женщин от учения, поэтому женщины не умеют и не хотят отстаивать свои права», — заявляла Арканджела Таработти еще в XVII в., адресуясь к Джованни Баттиста Торретти в своей «Антисатире на пристрастие женщин к роскоши»: вместо того чтобы увешивать женщин дорогими безделушками и золотыми украшениями, одевать в дорогие ткани, а затем взваливать на них всю вину за разрушение семей, лучше было бы образовать их ум и вызволить из тьмы невежества. Гольдони развивает эту идею: в комедии «Умная женщина» Арлекин, примостившись возле котла с полентой, грезит о молодой прачке, соблазненной и брошенной молодым человеком. Однако девица призывает на помощь все свои познания, знание законов и ораторские способности, коими она обладает благодаря знакомству со студентами Павийского университета, которым она крахмалила рубашки, и мстит обидчику. Познав «различные науки», а также приобретя «способность постигать характер других людей», она смогла сама выступить в свою защиту. Она обращается с обвинительной речью к членам семьи неверного жениха, и в конце концов изменник покидает свою новую возлюбленную и женится на умной девице. Подобный пример, несомненно, должен был взбудоражить умы нерешительных мужчин. Следует также вспомнить, что в 1723 г. в университете города Падуи был устроен диспут на тему, стоит ли делать образование доступным для женщин. Ответы, полученные во время диспута, были достаточно ясными: самые большие оптимисты полагали, что обучать необходимо только некоторых женщин, но никак не всех, а самые большие пессимисты предостерегали Республику от «ученых дам» и упорно предлагали оставить женщин в их прежнем, сиречь необразованном, состоянии.[536]
Самые консервативные продолжали настаивать на том, чтобы воспитание девочек осуществлялось «на контролируемом пространстве отеческого дома».[537] Наиболее осмотрительные — или, если угодно, лицемерные — утверждали, что самих женщин домашняя работа привлекает больше, чем книги. Все готовы были согласиться, что воспитание девочек нельзя пускать на самотек и не следует доверять их невежественным кормилицам, питавшим их не только своим молоком, но и своими бабьими глупостями. «Какая мать отважится приложить ребенка к груди неотесанной, злонравной и развращенной особы?» — грозно вопрошал Джузеппе Антонио Костантини около 1750 г.[538] Вопрос этот звучит во многих комедиях Гольдони, особенно когда автор хочет заклеймить дурных служанок. Однако свободный, открытый доступ к сокровищам культуры, к наукам — это все же несколько иное дело. Гаспаро Гоцци, к примеру, без всяких оговорок обвиняет «злокозненных мужчин в готовности отобрать у женщин даже заслугу приумножения населения земного», приветствует вакханок за убийство записного женоненавистника Орфея и хочет, чтобы перестали прятать книги, «рассказывающие правду о женщинах».[539] Он называет женщин самыми многоречивыми болтуньями на свете и одновременно «самыми организованными, энергичными и убежденными»[540] и напоминает им, что in fine{8} они только выиграют, ежели будут вести себя «чуть-чуть серьезнее». Но в целом он отмечает у них не слишком много достоинств, главное из которых — это удивительное природное чутье, позволяющее им улавливать противоречия в характере мужчины и в обычаях и традициях общества (этим чутьем щедро наделена гольдониевская Розаура); еще у них есть великое преимущество: «им надо учиться всего лишь… подражать мужчинам». В конце концов он выражает уверенность, что даже если мужчины станут посвящать себя заботам по дому, женщины все равно вернутся к занятиям домашним хозяйством, а следовательно, надо предоставить заниматься образованием женщин самим женщинам.
Гольдони, в пьесе «Отец семейства» выражает свою точку зрения на актуальную для общества проблему следующим образом:
Элеонора. Я не увлекаюсь чтением, не знаю многих вещей. Зато я живу честно и подчиняюсь воле отца; если он захочет выдать меня замуж, мне больше ничего и не надо.
Розаура. Вы выйдете замуж с закрытыми глазами?
Элеонора. Отец будет смотреть в оба за нас двоих.
Розаура. А если вам дадут мужа, который вам не понравится?
Элеонора. Я буду обязана жить с ним.
Розаура. О нет, дорогая сестра, не говорите так, в этом нет ничего хорошего. Брак должен означать любовь, согласие и милосердие. Надо выходить замуж за того человека, который вам приятен, который вам нравится, вам подходит; а иначе это будет настоящий дьявол, дьявол…[541]
Розаура из этой пьесы черпает свою мудрость в книгах, но это не прибавляет ей свободы. Ибо время читать и размышлять Розаура находит, когда живет у тетки, очень похожей на настоятельницу монастыря, то есть пребывая в «убежище», защищенная от окружающего ее мира. Именно это преимущество обычно и давал девушкам монастырь. Как это ни грустно, но надо сказать, что Арканджела Таработти могла писать много и интенсивно только потому, что жила в монастыре. С этой диалектикой сталкивались все женщины, решившие заняться самообразованием.
Многие отмечали появление в местах собраний и академических дискуссий ученых дам, как патрицианок, так и читтадинок; этих же дам можно было встретить и в самых популярных местах города. Существовал даже «Домик амазонок», особняк с весьма красноречивым названием, который содержали несколько богатых и знатных патрицианок; в 17б4 г. они даже принимали там герцога Тосканского. Практически каждой благородной даме нужен был собственный «домик». Некоторые были предназначены для «развлечений», как, например, «домик» Марии Сагредо на калле Валларезо, расположенный прямо напротив дома ее мужа; в этом «домике» разворачивался любовный роман одного иностранного священника и жены конюха сей дамы. В конце века в Сан-Кассиано располагался «литературный домик» Изабеллы Теотоки Альбрицци, где бывали величайшие умы того времени: поэты Уго Фосколо и Ипполито Пиндемонте, профессор Падуанского университета, знаток греческого и еврейского, переводчик мифического Оссиана Мелькиоре Чезаротти, скульптор Канова. Литературным пристанищем был и «домик» возле Сан-Дзулиана, принадлежавший Катерине Дольфин Трон, который она содержала с помощью некоего гондольера. Лукреция Нани принимала на калле дель Ридотто, Елена Приули, супруга прокуратора Веньера, возле моста Бареттери, Джустина Ренье Микьель, та самая, которая впоследствии напишет историю венецианских праздников, возле Сан-Моизе.[542] Можно также говорить о настоящем «взрыве» литературной и научной женской продукции. В общем потоке литературных публикаций века на долю венецианок приходится около сотни, большинство из которых датируется 1725–1730 гг., в то время как в XVI и XVII вв. число их едва достигает четырех десятков. В этом заключается некий парадокс, ибо основное число научных публикаций уроженок Венеции приходится именно на XVII в. Впрочем, это лишь доказывает, что бурное стремление венецианских красавиц XVIII в. к культуре имеет под собой прочные корни.
Однако процесс приобщения женщин к культуре развивался не сам по себе. О том свидетельствует путь к знаниям, пройденный Луизой Бергалли, дочерью пьемонтского ремесленника, супругой Гаспаро Гоцци. С самого начала у Луизы было все, что позволяло девушке ее звания сделать литературную карьеру: ум, одаренность, интерес отца к культуре и его стремление дать дочери хорошее воспитание, покровительство патрицианских семей. А главное, ее поощряет добросердечный и искренний литератор Апостоло Дзено — обладатель звания императорского поэта в Вене, инициатор реформы оперы-сериа задолго до Метастазио, активный сотрудник, а затем и руководитель одного из первых толстых венецианских литературных журналов — «Журнала итальянской литературы», основанного в 1710 г. Луиза пишет быстро и много, особенно в 1730-е гг., и Дзено, прочитывая все ее труды, дает им свою оценку. Сочинения девушки приобретают известность: либретто для опера-сериа, написанные по образцу своего наставника Дзено, трагедии, комедии характеров… Разумеется, шедевров среди них нет. Однако и либретто, и, главным образом, трагедия до сих пор крайне редко привлекали к себе внимание женщин-писательниц: они предпочитали поэзию, причем в духе Петрарки, развивая ее аркадское направление; в области театра они обычно избирали гибридный жанр пасторали, населенный пастушками, сатирами и нимфами. Трагедия, возвышенный жанр, где царят жестокость, смерть, тирания и государственные интересы, традиционно предназначалась для авторов-мужчин. Луиза решительно ломает устоявшиеся рамки и, более того, намеревается реформировать трагедию. Комедии ее также нельзя назвать импровизациями любителя — в них чувствуется превосходное знание истории театра, и в частности произведений Теренция, которого она в 1727–1731 гг. переводит полностью. Луиза разрабатывает новый стиль письма, утверждает себя как профессиональный литератор. Одновременно она становится рупором и защитницей женщин-поэтов всех времен и народов и, в частности, публикует несколько антологий, где соединяет стихи поэтесс прошлого с сочинениями своих современниц.
Но с 1738 г. напористая, активная деятельность Луизы постепенно принимает более скромные масштабы: она занимается в основном переводами (Расина), немного пишет для театра, но не создает ничего примечательного. Причина? Замужество. Факт сам по себе парадоксальный, ибо супруг ее, Гаспаро Гоцци, принадлежит к высокообразованной семье, подарившей миру великих венецианских писателей XVIII в., семье, где женщины увлечены серьезным чтением и литературным творчеством. Вилла Гоцци в Визинале была своеобразным центром интенсивного обмена мнениями по вопросам культуры, «приютом поэтов», как ее называли; Луиза часто бывала там еще до замужества, но уже окруженная ореолом литературной славы.[543] Встреча будущих супругов прошла под знаком духовности и интеллектуального равенства. И все же превосходство Луизы было очевидно с самого начала: ей тридцать пять, за плечами успешная карьера, ему двадцать пять, он восхищен ею и желает ее. Однако ни восхищение, ни желание не могут уничтожить разницы в социальном положении; Гаспаро даже не осмеливается рассказать о своей страсти матери:
Сердце мое! Ах, вот уже четыре дня, как мне кажется, что весь мир гонится за нами по пятам, отчего я не могу сказать вам тысячу вещей, наполняющих ум мой горечью и печалью. Поэтому я пытаюсь на бумаге изложить вам свои душевные терзания. Увы… Каков же мой характер? Сам я считаю себя виновным, побежденным, сбитым с толку. Вы полагаете, что я когда-нибудь смогу поговорить с матушкой? Сколько раз я уже приступал к этому разговору; был готов сказать все прямо и открыто, однако едва я открывал рот, как тотчас меня охватывал смертельный холод и я начинал дрожать с головы до ног.[544]
Не исключено, что причина столь неуверенного начала романа кроется в интеллектуальном соперничестве. Продолжение лишь укрепляет эту неуверенность. Из блистательной поэтессы Луиза, можно сказать, превращается в гольдониевскую героиню, деклассированную, не сумевшую вписаться в аристократическую и вдобавок разорившуюся семью мужа, хотя аристократизм их и весьма недавней пробы. Ее презирает свояк — женоненавистник Карло, высмеивающий ее «горячечное и беспочвенное воображение» и ее «поэтические взлеты»; он выставляет ее истеричной, вздорной дамочкой с «мстительным и вспыльчивым характером»; по его словам, это «бедная женщина, усталая и запутавшаяся», преследующая собственного мужа только за то, что она находит его «ленивым и беспечным». Желая видеть супруга более серьезным и менее легкомысленным, она своей мелочной и педантичной экономией терроризировала семейство Гоцци, пытаясь предотвратить его разорение, что, по мнению Карло, было совершенно бесполезно.[545] Ее начинает презирать муж, гениальный журналист, осуществивший реформу Падуанского университета, талантливый автор, однако наделенный неуравновешенным характером: убежденный, что судьба преследует его, он в 1771 г. пытается совершить самоубийство, бросившись в воды канала в Падуе. Решив жениться на Луизе, чтобы «успокоить совесть и не давать злоязыким людям делать честь свою мишенью для острот», он довольствуется тем, что делает ей целый выводок детей, позволяет ей использовать свое дарование для переводов «в четыре руки»[546] и вовлекает ее в неудавшийся эксперимент по руководству театром, заставляя полностью позабыть о других музах. Так именно Луиза подтверждает тезис Гаспаро: домашнее хозяйство непременно возьмет верх над творчеством. И все-таки давать Луизе образование стоило, ибо ее литературный путь, пусть даже и оборвавшийся в самой его середине, стал поистине символическим. Он являет собой модель, образец, — и положительный, и отрицательный. Но главное, он являет собой этап, пример для других, которые пойдут дальше.
Против отцовской воли
Элизабетта Каминер Турра (1751–1796) — одна из тех, кто идет дальше. Она также выросла в благоприятной среде, несомненно еще более способствующей ее интеллектуальному становлению, нежели условия, в которых воспитывалась Луиза. Мать Элизабетты хотела сделать из дочери модистку. Но вряд ли с этим был согласен ее отец Доменико Каминер, довольно известный историк и журналист, друг Гольдони, бывший в 1763 г. директором «Венецианской газеты» (после Гаспаро Гоцци), а в 1768 г. ставший основателем «Литературной Европы», литературно-библиографической газеты, к сотрудничеству в которой привлекаются самые просвещенные умы того времени. Девушка получает поддержку и заодно восхищенные вздохи Альберто Фортиса, бывшего брата-августинца, страстного любителя естественных наук и литературы, безоглядно увлеченного минералогией, одного из самых остроумных людей своего времени. Фортис околдован Элизабеттой и, как и подобает верному рыцарю, ловит каждый вздох своей дамы. «Юная венецианская блондинка, восхитительная и образованная, нежная и скромная нравом, словом, образец совершенства» — таков идеальный портрет девушки в описании Фортиса.[547] Элизабетта поощряет своего интеллектуально-литературного чичисбея (подобного поклонника явно недоставало после замужества Луизе). Помимо Фортиса, она очаровывает также сенатора, маркиза Альбергати Капачелли, болонского друга Гольдони, «человека любезного и образованного, являвшегося истинным украшением общества»,[548] автора нескольких комедий. Переписка маркиза свидетельствует, что он был сильно влюблен в Элизабетту; однако, принадлежа к богатой патрицианской семье, зорко следившей за его карьерой, он не решился жениться на ней. Впрочем, и она не хочет совершить ошибку Луизы и, по мнению маркиза, остается «милой, но холодной и бесстрастной», скорее «безразличной, нежели искренней», чем и заслуживает упреки влюбленного маркиза.[549] Под обаяние ее чар попадает также Джованни Скола, адвокат из Виченцы, активный сотрудник «Энциклопедической газеты», сумевший с редкостным пониманием представить венецианцам труды Локка, Даламбера, Гельвеция, Робертсона и передовые идеи ломбардских реформаторов, предварив их серьезным критическим анализом.[550] Он ищет у нее поддержки, ободряет ее и призывает не ограничиваться традиционно «женскими» жанрами, а подхватить эстафету Гольдони: «Разве в нашей несчастной Италии нет больше авторов, кроме Гольдони? Неужели искра итальянского гения, вспыхнув раз, никогда более не загорится вновь? Неужели наша Переводчица никогда не встанет в ряды Авторов?»[551]
В противоположность Луизе, Элизабетта не собирается вести баталии в замкнутом домашнем кругу. Борьба за выход из этого тесного круга, за полноправное участие в интеллектуальной жизни вполне может стать ее девизом, ее культурной программой. Для театральной, литературной и философской Европы подобная программа рассчитана прежде всего на мужчину, но Элизабетта, выступая наряду со всеми и одновременно против всех, осуществляет ее, заявляя о себе во всех областях культурной и литературной жизни. Она играет роль хозяйки салона в журналистских и театральных кругах. В противоположность Мирандолине Гольдони, которая в конце концов из экономических соображений и в соответствии с волей покойного отца выходит замуж за своего слугу, Элизабетта не собирается мириться с родительской властью. Она самоутверждается, поступает против отцовской воли, превращает газету с символическим названием «Энциклопедическая газета» в орган интеллектуальных баталий и размышлений, а затем начинает издавать «Новую энциклопедическую газету». Вскоре издание перестает быть местным и получает распространение по всей Италии — от северной ее части до центральной, становится рупором новых идей, пришедших из Англии и Франции. Она вступает в сражение с Венецией и, выйдя замуж за Антонио Турра, врача из Виченцы, признанного авторитета в ботанике и не слишком требовательного супруга, переводит редакцию на материк, в Виченцу, намеревается пробудить этот город и вывести его из состояния застоя методами, которые некоторым могут показаться излишне резкими.
Такая энергия — один из ключей к успеху задуманного предприятия. Элизабетта занимается распространением газеты, письмами читателей, финансовым руководством, статьями, пишет сама, причем на самые разные темы: театр, литература, философия, политика. Однако руководства редакцией ей недостаточно, и вместе с мужем они создают типографию, чтобы ни от кого не зависеть и издавать все, что ей покажется необходимым. Глубоко убежденная в необходимости знакомства Венеции с европейской культурой, она, как и Луиза, стремится сделать это посредством переводов, распространения переводных изданий; но и в этой области, как и во всем остальном, она придерживается эклектических воззрений, а главное, постоянно пребывает в состоянии полемики. Она издает целую серию переводных сочинений о воспитании детей и подростков, размышления о браке, среди которых по крайней мере три произведения принадлежат перу жены принца де Бомон.[552] Она переводит очерк современной истории[553] и буколические стихи швейцарского писателя и гравера Соломона Гесснера. Она издает сборники переводов пьес, и прежде всего французских, оказывая предпочтение Луи Себастьяну Мерсье, а также английских, немецких и испанских авторов. Ее концепция перевода соответствует запросам времени — не столько переводить, сколько «подражать» и приспосабливать оригинал к венецианским вкусам. Она не следует пожеланию Джованни Скола и не стремится утвердиться как автор, ибо полагает, что «лишена талантов, необходимых для написания достойного театрального произведения».[554] Ее подход к театральному творчеству созвучен нашему времени. Элизабетта не довольствуется осмыслением текстов: в Виченце она создает театр и единолично руководит им, а также открывает школу декламации.
Свое творчество Элизабетта ограничивает переводами, однако публикуемые ею многочисленные сборники превращаются в настоящие трибуны для размышлений о путях национального театра и идейных баталий. Высказывая критическое отношение к традициям английского и испанского театров, которые, по ее мнению, исполнены «отталкивающей жестокости» и «чудовищ», она выступает в защиту французского театра, прежде всего «слезной драмы», которую хочет внедрить в Венеции, и по этому поводу вступает в яростную полемику с придирчивым Карло Гоцци. Достойная наследница Гольдони, она разделяет его представления о назидательной функции театра, в то время как Гоцци причисляет театр исключительно к средствам развлечения, бегства от действительности. Для Гоцци существует театр вымысла, волшебных сказок, перенесенных на сцену (некоторые из его пьес основаны на сказках Базиле, например «Любовь к трем апельсинам» и «Ворон»),[555] или же театр действия, вдохновителями которого являлись испанские драматурги. С 1760 г. он предлагает венецианцам свои пьесы, они имеют успех, и в конце концов Гольдони вынужден уступить ему место. Для Гоцци, уязвленного острой критикой своих произведений на страницах «Энциклопедической газеты», идеи Элизабетты становятся наживкой, заглотив которую, он принимается громить имперские замашки французов, душащих итальянскую продукцию, и утверждает, что чувствительность «слезной драмы» пагубна для широкой публики. Защита жанра, которую организовала Элизабетта во имя утверждения моральных ценностей, разума и контроля над чувствами, перерастает уровень критической дискуссии и начинает затрагивать сферы политические.
Как женщина с женщиной
Одним из основных поводов посмеяться над женщиной считали ее безудержное кокетство. Охотно иронизируют над соблазнительными вырезами корсажей, над валиками, которые подкладывают под юбки, чтобы исправить то, над чем не слишком постаралась природа, над вызывающими прическами, накладными волосами и «кудряшками», делающими женщину похожей на Медузу Горгону, над пудреными сооружениями на головах, вмещавшими сцены из древних мифов.[556] Мода на мушки также не ускользнула от пера сатириков, равно как и пристрастие к французским модам и французским платьям — знаменитым «адриеннам», введенным в моду Адриенной Лекуврер, и «корзинкам» («панье»); литераторы громко и всеми доступными способами разоблачают «новую французскую напасть, проевшую женщин до самых костей»[557] и наносящую ущерб венецианской экономике и самобытности.
Общие места, традиционные мишени сатириков, передавались от мужчины к мужчине. Женщины приспосабливались. Они либо продолжали наряжаться и кокетничать, либо же радостно отвергали все, что считалось символом женственности (особенно в Венеции), а главное, красоту. «Не говорю, что я красива, — заявляет Мирандолина Кавалеру, — но у меня были отличные оказии».[558] Ей вторит — еще более категорично — Элизабетта: «Я не красива и не нахожу в себе даже намека на красоту».[559] Однако родственница Элизабетты, Джозефа Корнольди Каминер, редактор журнала «Дама воспитанная и образованная», основанного в 1786 г. издателем-книгопродавцем Альбрицци, выдвинула дерзкий тезис: можно быть красивой, даже кокетливой и при этом умной.[560]
В отличие от ее родственницы, у Джозефы нет интеллектуальных и политических пристрастий. В журнале, которым она руководит, пишут в основном о пустяках: это скорее журнал мод, где скрупулезные описания женских и мужских туалетов чередуются с легкими короткими историями, нередко хвалебными, написанными по заказу, и общими рассуждениями об обществе. Даже Альбрицци ничего не меняет в содержании этого издания, хотя деятельность именно этого издателя является наиболее характерным примером динамичной политики в области журналистики и книгоиздания XVIII в.[561] Эклектик, не имеющий собственных пристрастий, ориентирующийся прежде всего на рентабельность, он издает и путеводители для иностранцев («Чужестранец», имевший огромный успех), и рекламный листок «Новости литературной республики», где рассказывает о книгах, выпущенных его типографией, и «Вечный венецианский альманах», содержащий информацию о движении светил, о «востребованных» профессиях, о театральных спектаклях, о школах, рынках, паромах, ценах, мерах и весах, о лекционных днях в Падуанском университете.[562] Уже внешний вид «Дамы воспитанной и образованной» говорит о конъюнктурном и утилитарном характере журнала: он прекрасно иллюстрирован. Таким образом, потенциал женской аудитории был задействован на все сто процентов: женщин побуждали к чтению и, соответственно, к культуре.
Джозефа не хочет ни полемизировать, ни вступать на чужую территорию. В шутливом тоне она дает советы, как стать красивой. Отчего женщины бывают толстыми? Недостаток физических упражнений, слишком сырой воздух, слишком много еды и отсутствие сильной страсти: «Разве влюбленная женщина когда-нибудь бывает толстой?» Как можно похудеть? Влюбляться, двигаться, не есть лишнего, «пить чай, лимонный сок или раствор уксуса, пить отвары сухих трав: можжевельника, розмарина и вероники, растолченных и заваренных в пинте белого вина, или же… носить соляной пояс», пытка, которая, по словам Джозефы, «растворяет жидкости, концентрирующиеся в железах». В качестве доказательства эффективности данного средства для похудения приводится женщина, имевшая прежде объем талии более трех саженей и с трудом стоявшая на ногах.[563] Заметки Джозефы об обществе не отличаются оригинальностью, и сатирики уже давно высмеяли «дамские» рассуждения о поклонниках, о мужьях, которые нынче в моде, о супружеской любви, элегантности, избытке кокетства у женщин, суетном времяпрепровождении светских дам, пустых салонных сплетнях и пороках так называемого благородного общества. Она утверждает простые истины: что удачный брак может быть заключен только по любви; что в отнюдь не платонических отношениях супруги со своим чичисбеем виноват обманутый муж, сам ставший творцом своего несчастья; что необходимо уделять больше внимания воспитанию детей; что от журналов большая польза, а от многих журналов и газет пользы еще больше; что журнал — это «советчик», позволяющий своим читательницам обходиться без чужих услуг. Ее описания пестрят английскими и французскими терминами; иногда она дает их с переводом на итальянский, но чаще оставляет без оного: chapeau bonnets, cul postiche, gros de Naples, manchettes, pouf, tapet, chemise, chignon, crépé, chiné, redingote, gilet, caraco. Для пуристов, борющихся за «национальный дух» и спорящих, какое наречие важнее: литературное тосканское или венецианское, — подобное словоупотребление поистине скандально.[564]
Марьяж — платье, отчасти созданное воображением, сшитое из единого куска ткани, отделанное разноцветными лентами и разжигавшее соперничество обеих героинь «Дачной лихорадки» Гольдони, стало классическим. Кукле, французскому манекену, демонстрирующему моды из Франции на Мерчерии, приходится часто менять туалеты. Более половины статей посвящено скрупулезному описанию одежды и аксессуаров, однако увлечение новомодной одеждой не идет ни в какое сравнение с пристрастием к чрезвычайно броскому макияжу, которым увлекались ее современницы и от которого Джозефа пытается уговорить их отказаться, ибо «избыток макияжа делает черты лица грубыми». Но самое главное для женщины — это портаменто («осанка», «походка»). При ходьбе надо высоко держать голову, держаться прямо, гордо, быть уверенной в том, что делаешь, и никогда ничего не делать, не подумав: «Держитесь, Зелида, уверенно, поступь ваша должна быть величава: вскиньте высоко голову, держитесь смелее, подражайте гордым и благородным натурам, созданным, чтобы чувствовать и рассуждать».[565] Но надо также уметь пользоваться женскими уловками, в частности, в нужную минуту изобразить обморок — оружие из арсенала Мирандолины.[566] Только прислушиваясь к советам, что печатаются в ее журнале, полагает Джозефа, женщины смогут выбраться из «бездны глупости» и бездействия, куда их низвергла власть мужчин, и наконец сесть «на трон», дабы судить мужчин и делать все, что надобно, для того чтобы дела пошли успешнее.[567] Самое главное — вывести из-под града мужских насмешек женское кокетство; именно этим и занимается Джозефа, выковывая стиль, дающий возможность ощутить поэзию тканей и цветов, стиль, заставляющий забыть о насмешках и почувствовать щекочущее прикосновение шелка:
Представьте себе красавицу в узком платье из белого плотного батиста; по вороту платье отделано двумя кружевными оборками из того же батиста. Пышные рукавчики с напуском сделаны из итальянского газа и украшены кружевами. Талию обхватывает пояс из узорчатой ткани с двумя широкими синими лентами, концы которых свободно развеваются сзади. На плечи красавицы наброшена большая плиссированная косынка, абсолютно воздушная и украшенная двумя кружевными прошвами…[568]
Поппея Просвещения
«Молодая, красивая, благородная, умная, живая»[569]: Гольдони награждает ее всеми эпитетами, присущими положительным женским образам в его театре. «Светлая Аврора», «белокурое создание с нежной кожей, и вместе с тем отважная и задиристая в речах своих», — это слова Гаспаро Гоцци; сдержанный, когда речь заходит о его собственной жене, он не просто восхищается ею, он перед ней преклоняется[570] Карло Гоцци посвящает ей эпическую поэму «Причудница Марфиза»,[571] построенную по образцу «Неистового Роланда» Ариосто, где прославляет ее порывистые и решительные манеры, ее острый и быстрый ум и абсолютную искренность. Женщина, вызывавшая восторги всех мужчин, включая записных женоненавистников, — это Катерина Дольфин Трон, одна из тех красавиц, которые, как считали некоторые, ввергали Республику в страшную опасность и которых, по мнению сих мрачных советчиков, следовало ссылать на остров Сан-Серволо, где находился приют для умалишенных.[572]
Катерина Дольфин, эта авантюристка XVIII в. в чистом виде, женщина, чье поведение выходит за рамки привычных правил, охотно рассказывает о себе: «Принадлежность к женскому полу меня нисколько не смущает, ибо я всегда старалась обособиться, чтобы не быть похожей ни на кого».[573] Инквизиторы, найдя у нее запрещенные книги, спрятанные под кроватью служанки, записывают ее в разряд «недостойных женщин», ибо она «не посещает церкви, в еде не соблюдает законов ни божеских, ни человеческих и богохульствует как еретик».[574] Впрочем, и воспитание ее, и сама жизнь подтверждают данные ей характеристики. В десять лет ее на время помещают в монастырь;[575] отец, заботливо занимающийся ее воспитанием; аристократическая семья с весьма умеренным состоянием и без политического будущего; ранний брак по воле семьи с разорившимся дворянином Маркантонио Тьеполо; встреча на даче с «патроном Венеции» Андреа Троном, сенатором, на двадцать лет ее старше; меньше чем через год после этой встречи прошение об аннулировании брака и после долгого, одинокого ожидания, отчасти из-за сопротивления отца сенатора, второй брак. Результат: она поэт, ее стихи вполне могли бы быть представлены в антологиях Луизы; она держит литературный салон, объединивший просвещенные умы, — Гольдони посещает его вплоть до самого своего отъезда в Париж. У нее бывают Карло и Гаспаро Гоцци, последний избирает ее своим нежным поверенным, называет своей «любимой девочкой». Выйдя замуж за сенатора Трона, она, по сути, приобщается к высшим властным сферам Республики. Говоря словами сатирика, она была одной из тех макиавеллиевских дам, которые судачили не столько о любви, сколько о политике — «в казино, в кафе, в постели и даже в ванной комнате».[576]
Безумие, ей приписанное, заключалось в непомерном честолюбии и стремлении сказать свое слово в политике, стать в своем роде второй Поппеей. Чего в ней было больше: честолюбия, стремления проникнуть в высшие круги власти или же искреннего восхищения сенатором, быть может, даже любви к нему? При чтении строк, адресованных ею Трону после того, как он наконец предложил ей вступить с ним в брак, многие склоняются к тому, что, вероятнее всего, она была в него страстно влюблена:
Вот уже несколько месяцев, как я молча страдаю, ибо не желаю беспокоить Вашу светлость. В понедельник же после вашего отъезда меня сразила такая лихорадка, что я с трудом добралась до своей комнаты; вскоре все узнали о моем нездоровье. Должна Вас заверить, что ни ночью, ни на следующий день у меня лихорадки не было, и если бы не то потрясение, я бы могла сказать, что чувствую себя прекрасно.
Катерина легко падала в обморок, с ней часто случались судороги: об этом она пишет в своих письмах. По ее мнению, это объясняется тем, «что она женщина и обладает всеми недостатками своего пола», а также робостью и страхом:
Завтра вечером я напишу Вам… и Вы получите полный отчет омоем путешествии вместе с описаниями моих страхов перед дождем… потоками воды и дорогами, в чем я признаюсь Вам открыто и без всякого стыда. Сегодня я видела молнию… и мне хотелось бы, чтобы Вы объяснили мне, отчего стоит мне увидеть вспышку, как я теряю сознание от страха прямо в лодке… наверняка я кажусь Вам странной, коли начинаю дрожать при одном только упоминании имени Кристофоли.[577]
Впрочем, она в совершенстве владела эпистолярным искусством, в том числе и сниженным слогом, и следовательно, вопрос о ее искренности остается открытым.
В политике Катерина оказалась не столь ловкой, как Поппея, ибо обладала разумом скорее экзальтированным, нежели расчетливым. «Сейчас я читаю Латинскую историю, и в голове у меня одни Волюмнии, Клелии и Порции», — пишет она прокуратору, только что принявшему решение об упразднении двадцати шести монастырей (дело происходит в 1755 г.), и выражает уверенность, что и она готова делать все то, «что делали в древности римские женщины, чтобы помочь какому-нибудь Бруту, Катону или Регулу». Подобное признание порождено политической мудростью и уважением к идеям и поступкам своего великого мужа и одновременно безграничным идеализмом. «Я верю в вечные угрызения совести, в позор, в бесчестие тех, кто презирает законы, ибо эти люди всегда бывают жестоки, неблагодарны, лицемерны и лживы. Вот что я думаю…» — пишет она незадолго до второго замужества. Своему миланскому другу, маркизу Сербеллони, пожелавшему обосноваться в Венеции в роскошном особняке, Катерина в 1784 г. адресовала древние максимы, в справедливости которых была искренне убеждена: «Скромность всегда была основной добродетелью республиканской души… Вам, подданным великих монархов, не хватает главного чувства: любви к Родине… Мы республиканцы… мы отдаем приказы и повинуемся согласно обстоятельствам… Мы рождены для других, и мы должны добровольно жертвовать собой ради блага других… Сильные мира сего должны давать государству пример слепого повиновения».[578] Впрочем, сама она отнюдь не всегда соблюдала сии заповеди.
Если в ее политическом кредо был честолюбивый расчет, то как объяснить, отчего она дала вовлечь себя в дела, которые в гораздо большей степени, нежели ее «модный» брак, не получивший одобрения семейства Трон, лишили Андреа возможности стать дожем? Одним из таких дел было дело о «Любовном зелье», которое в 1755 г. ввергло в противостояние вечного жалобщика Карло Гоцци, друга Катерины, и государственного секретаря Пьетро Антонио Гратароля, не поделивших прелести по мнению Гоцци, делимые слишком часто, — актрисы Теодоры Риччи. Частная и одновременно публичная, театральная и одновременно политическая (впрочем, как и все в Венеции), история эта наделала много шуму. Гратароль, дворянин из Падуи (а значит, иностранец), либертен, член венецианской масонской ложи, «излишне современный философ», по мнению Гоцци, выступил против проекта Трона в Сенате, навлек на себя его немилость и, пытаясь уйти от мести сенатора, стал искать расположения Катерины, усердно посещая ее салон. Любовный турнир, который он затем затеял с Гоцци, побудил последнего переработать испанскую пьесу «Любовное зелье», куда он ввел персонаж по имени дон Альдонис, который, хотя автор и долго открещивается от этого в своих «Бесполезных мемуарах»,[579] был явной карикатурой на секретаря. Похоже, что в это время Гратароль оставил Катерину ради Теодоры, а Катерина, в свою очередь, ускорила постановку на сцене пьесы Гоцци.
Скандал, презрение, пасквили, обвинительные записки и «Апология» — злой памфлет осмеянного секретаря, направленный против супругов Трон. Андреа Трон, чье влияние уже было подорвано предложенными им мерами, направленными на ограничение коммерческой активности евреев, не смог восстановить былое к себе доверие.
И все же Катерина стала прокуратессой; в 1773 г. она в роскошных гостиных дворца на площади Сан-Марко принимала императора Иосифа И, а затем унаследовала большую часть состояния Тронов. Будучи не столько выскочкой, сколько особой впечатлительной и экзальтированной, что подтверждается ее постоянными жалобами на боли и недомогания, она не сумела подняться столь же высоко, как Поппея. Ее триумф (ибо триумф все-таки был) — это не скандал, ее постоянный спутник. Ее триумф — это терпение, с которым она шла к цели, ее восьмилетнее одинокое житье на вилле возле Тревизо. Это и интеллектуальная открытость: ее казино в Падуе посещали люди, близкие к университетским кругам, в ее венецианском доме бывали лучшие умы эпохи. Это приоритет разума, контролирующего и страсти, и чувства, разума, руководившего ею в ее отношениях с маркизом Сербеллони, связь с которым — совершенно сознательно — была исключительно платонической. Когда она стала искать его общества, он решил, что речь идет о любовных посулах, но ей было уже сорок шесть, она чувствовала свой возраст и отказалась от любви во имя разумной дружбы: «Нет никакого сомнения: чувствительность является первым двигателем, побуждающим нас быть как добродетельными, так и порочными… но если эта чувствительность… не подкрепляется размышлениями и разумом, она порождает только непостоянный энтузиазм».[580]
Позволив разуму одержать победу над чувствами, Катерина поставила себя выше всех женщин театра Гольдони, даже выше Джачинты, рассудительной героини «Дачной трилогии». Та тоже отвергает любовную страсть, смутившую ее покой в расслабляющей обстановке загородной жизни; однако она не свободна в своем выборе: ею движут дочерний долг и уважение к данному ранее слову.
Глава VI
ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ ВЕНЕЦИЯ
Дзанетто. А разве есть другие моря? И разве корабли можно увидеть не только в Венеции?
Золотой век
В «Венецианской газете» за май 1760 г. Гаспаро Гоцци поместил такие оптимистические строки: «Некоторые полагают, что золотого века не было вовсе: напротив, он не только был, но в отдельных уголках существует и поныне. Возможно, вы рассмеетесь, если я скажу, что в Венеции очень многое напоминает о золотом веке».[581] Удивительный Гаспаро. Но можно ли верить этому человеку, прекрасно владеющему эпистолярным искусством, игрой слов и парадоксальных суждений? Человеку, провозгласившему себя «свободным жителем счастливого города», за пределами которого «настоящей жизни он не видит»,[582] и тут же жалующемуся на то, что в Венеции всегда говорят только о пустяках, дожде, холоде и сырой погоде?[583] Человеку, беспрестанно работавшему, чтобы забыть о тухлой вони и разноголосом шуме города, забыть окрики прохожих, вопли женщин и крики разносчиков, сточные канавы и каминные трубы, эти единственные границы городского горизонта, и сменить их на простые деревенские радости, спокойствие сельской местности, зелень деревьев и философское настроение? И хотя Гаспаро, этот гениальный газетчик, пытался скрыть свою улыбку — мудрый юмор всегда был отличительной чертой венецианцев — и соразмерить свои восторги, сей золотой век снискал и хвалы, и негативные суждения, причем и те и другие одновременно.
Почти два года спустя Джузеппе Баретти, туринец, ставший венецианским гражданином, находит Венецию «скучной» и не видит в сем мраке «ни единого утешительного просвета», который смог бы «озарить его душу».[584] В это же время Гольдони, уверенный, что все, «что в Венеции считается изысканным, вызывает несварение желудка», окончательно утрачивает срой реформаторский энтузиазм и веру в возрождение Купца. Кортезан, венец его творения, его модель и его двойник, «человек честный, услужливый, предупредительный. Он щедр, но не впадает в расточительность, весел, но без малейшего безрассудства, любит удовольствия, но знает в них меру; он во все вмешивается из любви к делу; он со всеми приветлив».[585] Но все же и он превращается в неотесанного, мрачного ворчуна (нисколько не благодетельного — таковым он станет, когда переберется в Париж), тирана по отношению к семье, замкнутого, необщительного, отрезанного от своих сограждан, чужестранца в собственном городе.[586] Наступает неизбежный момент прощания. В комедиях и письмах Гольдони о театральной жизни 1758–1761 гг. на золотой век нет и намека.
Контракт, который Гольдони в 1753 г. заключил на десять лет с Франческо Вендрамином, значительно лучше его предыдущего контракта с Медебаком, согласно которому он был обязан ежегодно поставлять Медебаку в его театр Сант-Анджело по крайней мере две комедии и две драмы. Но конкуренция между театрами становится все яростнее. И против собственной воли драматургу приходится сочинять комедии в стихах, слезливые комедии, экзотические комедии только для того, чтобы побеждать на своем собственном поле Пьетро Кьяри, плодовитого «автора» театра Сан-Самуэле. Еще ему приходится отражать яростные атаки Карло Гоцци и его шутовской Академии Гранеллесков, «объединившей несколько весельчаков, находящих удовольствие в литературных занятиях, ярых приверженцев культуры, простоты и истины, противников напыщенности и метафорического зловония».[587] В 1740 г. «академики» выбрали своим главой «сверхничтожнейшего простофилю» и с усмешкой заверили всех, что станут «продолжать штудировать старых мастеров и блюсти чистоту наречия». Но несмотря на свое нарочитое легкомыслие, Гранеллески, и прежде всего Карло Гоцци, нисколько не умеряли свои нападки на драматургические новации Гольдони. Для Гоцци речь шла всего лишь о «литературных баталиях».[588] Однако ни «экскременты Мольера», ни «четырехзевное чудище», наделяющее своих персонажей «характерами прозрачными… совершенно неестественными и вдобавок заставляющее их говорить жалкой вонючей прозой, не к месту напичканной непристойностями»,[589] нисколько не согласуются с представлениями о золотом веке.
«Венеция устала от приевшихся персонажей, Венеция жаждет новшеств», — пишет Гольдони Франческо Вендрамину 17 марта 1759 г. Обеспокоенный постоянно возобновляющимися нападками, он вынужден продолжать писать и несмотря ни на что хочет принять новый абсурдный вызов — создать девять комедий в стихах, посвященных девяти музам. По его мнению, Венеция переживает времена «ужасные, когда единственный голос может стать причиной падения целой партии».[590] И он прав — вспомним о случившемся через несколько лет деле Гратароля; сутяги правят бал, царят на Сан-Марко, подобрались к самому Дворцу. Картина жизни венецианских театров и их администрации, нарисованная Гольдони, столь верна, что автор ее даже снискал упрек своего патрона. Нарисовав поистине драматическое полотно, Гольдони тем не менее понимает, что французские театры, столь его привлекающие, находятся не в лучшем состоянии, чем театры в Италии: «Повсюду импресарио-неудачники… Жалкие кровососы, накладывающие лапу на театры… Сговорившись с горсткой спекуляторов, они притворяются, что условия контрактов изменились, и все хорошее задушено… Наука и заслуги ни к чему в этом мире; надо приспосабливаться к случаю. Это единственная истина, и я громко об этом заявляю».[591] И тем не менее Гаспаро, исполняя просьбу нашего автора, любезно печатает в своей газете стихи, только что сочиненные Вольтером, где тот называет Гольдони «совершеннейшим певцом Природы».[592] Гаспаро, заслуживший высокую оценку Гольдони, делал все, чтобы смягчить нападки на него своего брата Карло, и сочинял вполне достойные заметки о новейших пьесах Гольдони, где драматург демонстрировал богатство своей фантазии и изобретательность, и даже о его либретто:
27-го в театре Сант-Анджело впервые была поставлена мелодрама под названием «Влюбленный ремесленник». Автор ее — господин Гольдони — блистательно справился со своей задачей; не устаешь удивляться, как он сумел создать столь живое и искрометное действие, коего требует сцена, и, в частности, завершить каждый из двух актов самостоятельным финалом. Он вполне может считать себя изобретателем открытой концовки, когда финал акта можно будет изменять до бесконечности.[593]
Однако конкуренция велика: в 1762 г. для карнавального сезона три разных театра представили три разные адаптации «Шотландки» Вольтера: Сан-Лука, театр Гольдони, где гордо заявили, что они первые прочли и перевели пьесу и она дольше всех не сходит у них с афиши; Сант-Анджело, где также шла «Паломница» аббата Кьяри; и Сан-Самуэле, где был поставлен «буквальный» перевод… Гаспаро Гоцци, провалившийся уже на первом представлении.[594]
Но если были полемика, памфлеты и пасквили, если было множество переводов, пусть даже плохих, можно смело утверждать, что литературная жизнь Республики не только не угасала, но и не была ни «скучной», как пишет Баретти, ни изменчивой, как считает Гольдони. Впрочем, что бы ни говорил Баретти, сам он нашел в Венеции вполне благоприятные условия для издательской деятельности и в 1745 г. опубликовал четыре тома своих переводов произведений Пьера Корнеля. Затем он уехал в Англию, в Лондон, где возглавил Итальянский театр; вернувшись, он с 1762 по 1765 г. выпускает литературное периодическое издание под названием «Литературный хлыст», где печатает собственные критические заметки, амбициозные по содержанию и неожиданные по форме: рецензии на перевод Вольтером «Божественной комедии» и его же «Генриаду», на сорок томов комедий Гольдони, выпущенных издательством Паскуали. Под псевдонимом Аристарх Зарежь-быка он пишет ядовитые статьи, более напоминающие сведение счетов, нежели обстоятельный литературный анализ, и в конце концов цензоры налагают вето на издание журнала. Разумеется, на этом основании нельзя делать выводы о гонениях на прессу в целом.
Система контроля над изданиями и получением разрешений на публикацию была — впрочем, как и остальная система управления достаточно гибкой, хотя и находилась под эгидой инквизиции. Конечно, в основе ее лежала вовсе не забота о свободе слова и мнений, а причины экономического и корпоративного характера, а также стремление правительства утвердить в Республике превосходство светской юриспруденции над церковной цензурой. Тем не менее гибкая политика в области печатного дела создала Венеции славу города, где процветает книгоиздание, где издается множество периодики и где ко двору придутся любые типографские новшества. Венецианские печатники-книготорговцы ведут свою славную историю с XVI в.; XVIII в., особенно первые его десятилетия, продолжает их традиции. Но в конце концов даже гибкая политика начинает идти во вред качеству печатной продукции из-за конкуренции книготорговцев с материка, которые публикуют все и без чьих-либо разрешений. Сам Гольдони испытывает определенные трудности, пытаясь заставить издателей соблюдать авторские права и верность тексту; он вынужден даже самостоятельно издать свои ранние комедии во Флоренции — в ответ на венецианское издание, сделанное без его согласия. Впрочем, его комедии в основном печатают в престижных издательствах Бетинелли, Питтери, Паскуали, Дзатта. Некоторые из них уже давно стали акционерными обществами: например, Питтери и Паскуали, объединившиеся с английским консулом Смитом, в 1761 г. владели капиталом в 90 тысяч дукатов.[595]
«Здесь повсюду слоняются любопытные и, признаюсь, всегда находят, на что поглазеть», — пишет Гольдони Доменико Каминеру в июне 1763 г. из Парижа; к этому времени журналист оставил «Газету» и стал издавать новый листок под заглавием «Диковинки на любой вкус».[596] Любознательность, «интеллектуальное любопытство» является одной из самых примечательных черт, присущих венецианцам XVIII в.; однако черта эта полностью противоречит закрытому характеру политической системы Республики. Последние исследования, посвященные распространению в Венеции иностранных книг и личным библиотекам патрициев и читтадини, показали, что в то время всевозможные печатные издания циркулировали в городе открыто и в больших количествах.[597] Венеция не стоит в первом ряду итальянских издателей, публикующих «Энциклопедию» Дидро и Даламбера: первые ее издания появляются в Лукке и Ливорно. Поначалу венецианцы не проявляют к ней живого интереса, но после 1758 г., когда в «Энциклопедическом журнале» выходят обстоятельные статьи Каминеров, «Энциклопедия» начинает пользоваться спросом, а после 1766 г. появляются и ее переводы на итальянский. В 1740-е гг. были переведены многие энциклопедические труды французских и английских авторов, ас 1750 г. настольной книгой благородных венецианок становится «Исторический и критический словарь» Бейля.
Конкурс на лучший перевод «Шотландки» свидетельствует о широком распространении трудов Вольтера; Гольдони адаптирует не только «Шотландку», но и «Альзиру, или Американцев», вставив ее в свою «Прекрасную дикарку».[598] Реформаторы запрещают «Орлеанскую девственницу» и «Трактат о терпимости», но эти сочинения Вольтера тем не менее распространяются подпольно. Труды Монтескье, без сомнения более отвечающие умеренному характеру венецианских реформ, не попадают под нож цензуры и служат пищей для рассуждений в салонах и на страницах газет, а также дают местным историкам повод для дискуссий. Например, опубликованный в 1778–1781 гг. «Словарь общего и венецианского права» Марко Ферро написан во многом под впечатлением «Духа законов». В академии Ка Джустиньяни, этой своеобразной высшей национальной школе подготовки административных и управленческих кадров, где обучение по карману только очень состоятельным патрициям, молодые аристократы учатся вести дебаты и принимать решения, опираясь не только на историю Венеции в изложении Марино Санудо и Ветторе Санди, но и на «Дух законов» и статьи из «Энциклопедии». Руссо принимают сдержанно — даже такой просвещенный ум, как Джованни Скола; сочинения Руссо более всех подвергаются гонениям со стороны цензуры, но тем не менее многие журналы публикуют их краткое содержание и проводят критический анализ. Элизабетта Каминер, настроенная, как всегда, воинственно, в 1770 г. опубликовала на страницах «Литературной Европы» сокращенное изложение малоизвестного сочинения женевца, а именно «Речи о добродетели, необходимой героям», произнесенной им в 1750 г. в Бастии.[599]
Венецианцы, чей идеальный образ Гольдони воплотил в своем Кортезане, в меру консервативны, им требуется время, чтобы осознать необходимость реформ, и еще столько же, чтобы начать проводить эти реформы в жизнь. Ряд историков полагают, что открытость новому была свойственна немногим жителям Республики, а точнее, отдельным ее представителям; именно эти передовые люди несли идеи Просвещения в венецианское общество, где те постепенно, пока еще в эмбриональном состоянии, начинали укореняться. Запоздалые попытки обновления государственных и административных институтов, в сущности, ни к чему не привели, особенно если сравнивать их с реформами, проведенными в таких итальянских государствах, как Тоскана или Милан. Однако, как мы уже могли убедиться, передовые позиции были обозначены во всех областях: это администрация, коммерция, сельское хозяйство, общественные работы, социальная помощь, правосудие, образование.[600] В области образования основные усилия реформаторов были направлены на реорганизацию Падуанского университета, одного из первых и наиболее знаменитых университетов Европы, и в частности его медицинского факультета, где количество студентов быстро шло на убыль, ибо частные педагоги, к которым все чаще обращались и аристократы, и читтадини, составили жесткую конкуренцию университетскому преподаванию.[601] Назначенный в 1762 г. суперинтендантом Книжной и литературной палаты Гаспаро Гоцци впрягся в реформу образования и после 1770 г. во многом способствовал популяризации начальных школ, содержавшихся на средства государства.
Таким образом, венецианское общество нельзя было назвать ни закрытым, ни тем более пребывающим в состоянии застоя, особенно если вспомнить о замечательных достижениях в области искусства, музыки и живописи. Некоторые персонажи комедий Гольдони, следуя моде, становятся одержимыми коллекционерами произведений искусства, не обладая при этом необходимой культурой.[602] В отличие от них просвещенные венецианцы наделены утонченным вкусом и, подобно консулу Смиту, обожают редкие и прекрасные вещи. В своем посвящении Гольдони пишет о консуле следующее: «Каких только редких и удивительных вещей у вас нет! Это и чудесные камеи, и резные камни, и прекрасные произведения античного искусства!.. Здесь, в Венеции, я не меньше сотни раз внимал похвалам вашей коллекции, собранию уникальному и несравненному; нет никого, кто бы, услыхав о ней, не пожелал бы ее осмотреть, а осмотрев, не ушел бы очарованный».[603] Для страстного любителя искусства венецианца Антона Мария Дзанетти коллекционировать означает знать, покупать и выискивать новинки, обновлять и оберегать художественное наследие города. К наиболее значимым мерам в области культурной политики следует причислить создание в начале XVIII в. специальной магистратуры, которая должна была систематически выявлять художественные сокровища и следить за их реставрацией и сохранностью как в Венеции, так и на подвластных ей территориях.[604]
«Уметь блистать не только у себя на родине»
Гаспаро Гоцци был не так уж и неправ: Венеция переживала свой триумф. Вывеска кафе мэтра Флориана на площади Сан-Марко может вполне считаться похвалой тем, кто, не будучи ни в чем похожими, тем не менее обладали одной общей чертой, а именно «интеллектуальным любопытством». Среди тех, кто пытался построить новый остров, где правит культура и царят искусства, без сомнения, были женщины и все те, кого с неудержимой силой влекло к ним. Там были те, кого мы встретили на страницах этой книги — драматурги, новеллисты, газетчики, переводчики, поэты, художники, политики. Среди них был маркиз Шипионе Маффеи, эрудит, знаток истории Вероны, реформатор трагедии, снискавший одобрительные отзывы Вольтера; Гольдони назвал его «человеком, сведущим во всех областях литературы».[605] К их числу принадлежал и падуанский аббат Антонио Конти, философ, пылкий поклонник Шекспира, и Карло Лодоли, францисканец, гениальный архитектор, автор «Основ архитектуры», опубликованных одним из его учеников, Андреа Меммо, чья вилла Прато алла Балле считается образцовой. Не забудем упомянуть и журналиста Франческо Гризелини, сына ткача, основателя «Итальянского журнала», одного из видных представителей венецианских франкмасонов; и Джанмарию Ортеса, увлеченного политической экономией. Это он произвел научный расчет распределения рабочего времени — восемь часов для работы, восемь часов для сна, восемь часов для «развлечений», и так триста рабочих дней в году: такой график сделает труд более рентабельным и обеспечит развитие мануфактурного производства. Был еще и Мелькиоре Чезаротти, с которым мы познакомились в одной из дамских гостиных, автор гениального «Опыта о философии языков». Был также Франческо Альгаротти, сын купца, самый обаятельный ум начала XVIII в. Альгаротти интересовался всем: живописью, оперой, физикой, коллекционированием. Он написал европейский бестселлер своего времени — научный труд «Учение Ньютоново для женщин. Диалоги о свете и цветах», опубликованный в 1735 г. Вольтер посвятил ему восторженные строки: «Хвалили венецианские дворцы, что выросли над водой, / Но сочинения ваши гораздо более величественны, чем они: Венеция и Альгаротти одинаково дороги Богам, / Однако последний будет более дорог миру». Не забудем также художников и скульпторов Розальбу Каррьера, Канову, Пиранези, отца и сына Тьеполо, всех тех музыкантов, что в 1745 г. заворожили Руссо и вдохновили его на создание новой музыкальной теории:[606] это Бенедетто Марчелло, Антонио Вивальди и Бальдассаре Галуппи, прозванный Буранелло, соратник Гольдони в создании лирических мелодрам, этих подлинных жемчужин венецианской культуры XVIII в. Венецианцы вносят свой вклад во все области знания и искусства и оставляют в них вполне зримый след.
Что общего у этих выдающихся венецианцев, помимо того что все они родились на берегах лагуны? В отличие от тех, кто прибывает знакомиться с красотами Италии и чудесами Венеции, все они заядлые путешественники и часто покидают пределы Республики. Эти венецианцы живут вдали от лагуны, колесят по Европе, а иногда даже вырываются за ее пределы. Они обитают в Париже подобно Гольдони, Казанове, Маффеи, Альгаротти, Конти, Каррьере, однако их можно встретить и в Лондоне, Дрездене, Вене, Мадриде, России и даже в Соединенных Штатах: так, Да Понте окончил свои дни в 1838 г. в Нью-Йорке в возрасте девяноста лет. Все эти люди являются частью интеллектуальной диаспоры итальянцев XVIII столетия[607] — феномена, суть которого сводится прежде всего к отказу от узкого провинциализма. Альгаротти полагает, например, что ум для своего развития нуждается не в академиях, каковых в Италии было множество, а в столице, где проживает по крайней мере девятьсот тысяч душ.
Венеция была далека от идеала, поэтому уроженцы ее устремлялись за ее пределы в поисках новых открытий, а также желая поведать миру обо всем, что есть прекрасного в родном краю. Гольдони воплотил это, в сущности противоречивое, стремление и в жизни, и на сцене. Среди персонажей его театра есть и иностранцы, и путешественники. И те и другие нередко бывают смешны, социальная среда, к которой они принадлежат, часто отвергает их, оберегая свои традиции, но тем не менее их неуемное «интеллектуальное любопытство» не только противостоит, но и берет верх над инертностью тех венецианцев, что ограничивают свой мир водами лагуны, не желают ничего знать о передовых идеях, распространенных за пределами Светлейшей, и слепы ко всему, что не вмещается в несуществующие стены города. Когда он не связан сценическими задачами, Гольдони изъясняется вполне прямо и конкретно: он приветствует интеллектуальную «диаспору» своих сограждан и тем самым заранее оправдывает свой собственный отъезд из Венеции. «Среди моих соотечественников, — пишет он в 1757 г., уже находясь в Париже, — каждый день появляются личности, умеющие блистать не только у себя на родине».[608] Итак, несмотря на обстоятельства, сопутствовавшие отъезду Гольдони, его прощание с Венецией в 1762 г. не является ни бегством, ни протестом. Андзолетто, рупор автора в комедии «Один из последних вечеров карнавала», объясняет отъезд драматурга стремлением «совершить открытие», «научиться» и вернуться «с новыми знаниями, вкусив новых плодов просвещения».[609] «Желание открытий», охватившее драматурга, вписывается в общее русло устремлений тогдашних интеллектуалов, покидавших насиженные места в поисках новой пищи для своего неуемного духа.
Поиски эти принимают самые различные формы. Каждый из путешественников — авантюристов-первооткрывателей, авантюристов-экспериментаторов блистает собственными талантами, но всех их роднит причастность к Венеции. Казанова — искатель любовных приключений и чувственных удовольствий, персонаж неудовлетворенный, а посему обращенный в прошлое. Пытаясь заглушить гнетущую его тревогу постоянными переездами, он усматривает истоки своего болезненного состояния в кризисе, переживаемом Венецией, хотя вряд ли с ним в этом можно полностью согласиться.[610] Его антипод Франческо Альгаротти пылкий приверженец «культурных обменов», «очарованный»[611] путешественник, устремленный в будущее и сам постоянно его созидающий. Проделав путь от Лондона до Санкт-Петербурга, он сумел повидать почти всю Россию. В опубликованном в 1760 г. отчете об этом путешествии имеется немало блестящих рассуждений о пользе культурных различий: подход Альгаротти к описываемым событиям предваряет подход энциклопедистов, этой новой интеллектуальной силы, появления которой с нетерпением ожидал Вольтер. Переводчик Мелькиоре Чезаротти, пытающийся отыскать решение проблемы культурных различий в различиях языковых, просвещенный авантюрист-утопист, искренне убежденный в возможности уничтожения барьеров между народами и построения такой Европы, где бы «различные члены ее совместно владели наследием человеческого разума и осуществляли бы между собой обмен идеями, не принадлежащими никому, но рожденными для всеобщей пользы».[612] Традиционный венецианский космополитизм также принимает участие в построении идеальной Европы, где царит языковое и идейное содружество. Гольдони, «честный» авантюрист, как он сам себя называет, пребывает где-то на полпути между космополитизмом и патриотизмом. Однако, уезжая в Париж, он — вполне в духе Чезаротти — лелеет честолюбивые планы проверить, «сможет ли итальянец создать произведение, способное понравиться обоим народам».[613] К сожалению, результат — несмотря на ободрение Вольтера и успех «Благодетельного брюзги», включенного в репертуар «Комеди Франсез» в 1771 г. и возобновленного в 1778 г., - не отвечал полностью желаниям путешественника. Для Гольдони это был «полупровал», но на то имеется множество причин — сложных, личных и конъюнктурных. Гольдони, и он сам в этом признается, потерял «свой стержень», свою идентичность. Кроме того, оказалось, что и Париж, и Версальский двор не имели — или, по крайней мере, уже не имели — того интеллектуального блеска, который в Венеции приписывал им драматург. Но это нисколько не влияет на присущее Гольдони «интеллектуальное любопытство», на его обширные замыслы, его «наступательное» видение мира, иными словами, на все те составляющие, из которых складывалась динамика развития венецианского общества XVIII в. «Новый свет» был не просто волшебным аттракционом. Он пробуждал желание отправиться в иные страны и увидеть иные миры.
Комментарии
1
«История венецианской культуры» (ит.).
2
Сплетни (ит.).
3
Castello — «замок» (ит.).
4
От dorso — «спина» (ит.).
5
Во Франции XVII в. так называлась должность председателя одной из палат какого-либо провинциального парламента. — Прим. ред.
6
Букв.: из любви к Богу (лат.); Христа ради.
7
Дальше некуда (лат.).
8
В конечном счете (лат.).