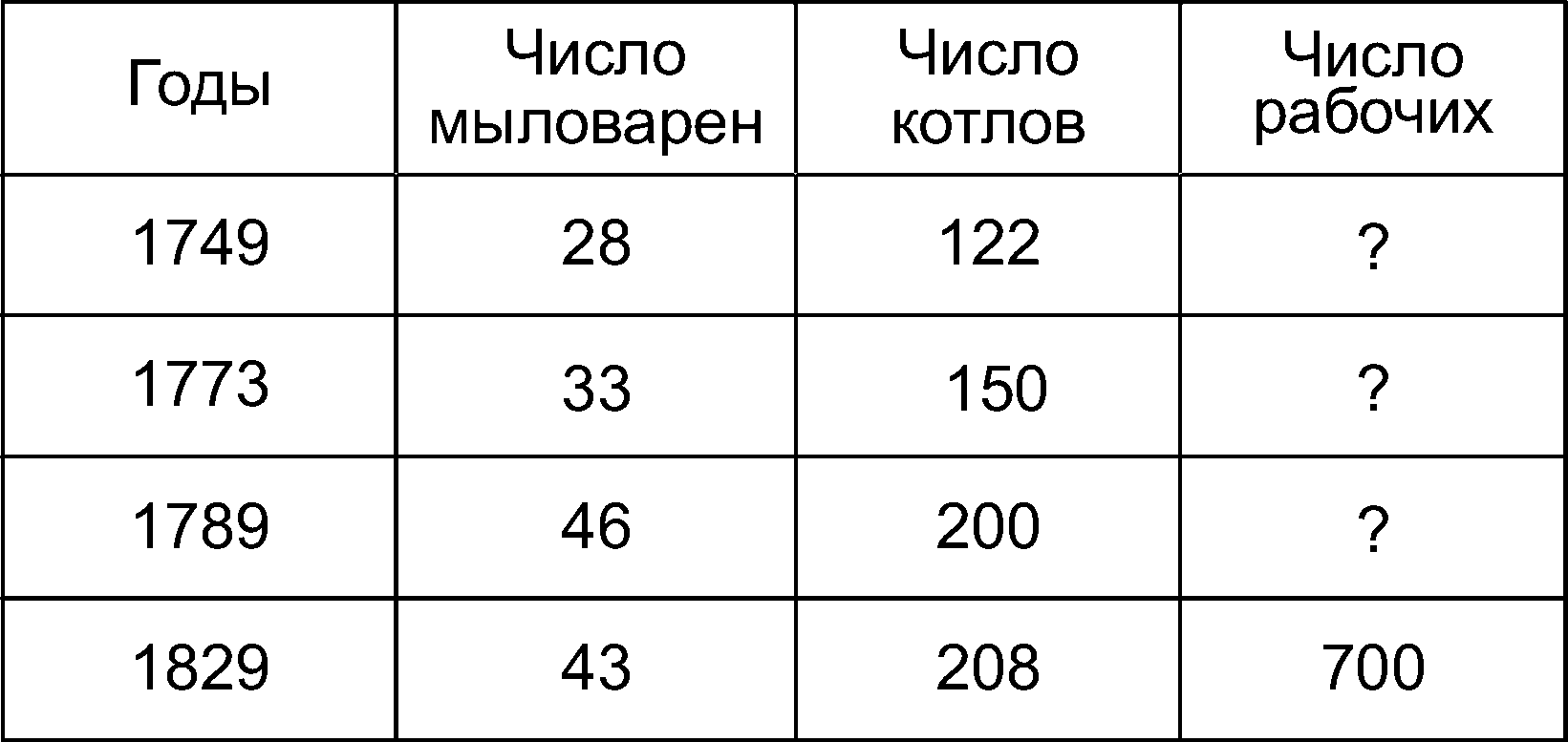
Евгений Викторович Тарле
Сочинения
Том II
ОТ РЕДАКТОРА
Содержанием второго тома Сочинений Е. В. Тарле является лишь одна его работа — «Рабочий класс во Франции в эпоху революции».
Этот капитальный двухтомный труд, послуживший докторской диссертацией Е. В. Тарле, был опубликован в 1909 (ч. I) — 1911 (ч. II) годах. Однако работа автора над этой темой была начата несколькими годами раньше, и уже в 1907 г. было издано первое исследование Е. В. Тарле по истории рабочего класса во время великой французской буржуазной революции вскоре же опубликованное в Германии, в переводе на немецкий язык [*1].
«Русская историческая школа», в лице своих крупнейших представителей (Н. И. Кареев, И. В. Лучицкий, М. М. Ковалевский), исследовала главным образом аграрные отношения и крестьянские движения накануне и во время французской революции XVIII в. Е. В. Тарле, продолжая во многом традиции «русской исторической школы», в одном из существенных вопросов пошел по другому пути: главным героем, главным действующим лицом его исследований по истории французской революции XVIII в. стал вместо крестьянства рабочий класс.
«Рабочий класс во Франции в эпоху революции» знаменовал не только новый важный и весьма плодотворный этап в научном творчестве Е. В. Тарле как ученого-историка; это исследование открывало новую главу и в русской историографии первой французской революции и, более того, явилось первой в мировой исторической литературе крупной монографией по этому не исследованному специально вопросу.
Конечно, у Е. В. Тарле и в изучении этого вопроса были также предшественники: Э. Левассер, Ж. Жорес, в известной мере М. М. Ковалевский. Однако ни один из названных историков не исследовал положение и роль рабочего класса во время французской революции специально. Впервые монографическому исследованию, основанному на тщательном изучении материалов Парижского и провинциальных архивов (Амьен, Бордо, Руан и др.), эту тему подверг Е. В. Тарле. В своем капитальном труде он дал впервые в исторической литературе широкую картину состояния французской промышленности в предреволюционные и революционные годы и на этом фоне показал положение рабочего класса, его различных профессиональных групп в Париже и провинции, характер и формы борьбы рабочих в бурные годы революции, значение первого антирабочего закона — закона Ле Шапелье, показал общую роль и место рабочего класса в буржуазной революции XVIII в.
Работа эта была написана 50 лет тому назад, когда научные воззрения и общие идейные позиции ее автора были еще весьма далеки от тех, к которым он пришел к концу своей жизни. Естественно, поэтому, что некоторые из положений его труда о рабочем классе во время французской революции не могут не вызвать возражений. Так, в общей характеристике уровня развития и состояния экономики Франции в предреволюционные годы Е. В. Тарле, вслед за И. В. Лучицким, несколько односторонне и преувеличенно подчеркивал роль мелкого производства в экономике страны. Нельзя признать правильными и ту характеристику законодательства о максимуме и общую оценку значения и роли максимума в 1793–1794 гг., которые дает в своем труде автор. Современный, советский читатель не сможет, вероятно, согласиться и с иными из формулировок, встречающихся на страницах исследования.
Однако сказанное не должно, да и не может поколебать крупнейшего научного значения этого труда Е. В. Тарле. Его работа сразу же после ее опубликования получила заслуженно высокую оценку в русской и зарубежной специальной литературе, была частично переведена, реферирована во Франции и прочно вошла в мировую историографию как важнейший труд о роли рабочего класса во французской буржуазной революции. И сейчас, пол века после опубликования, «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» Е. В. Тарле остается лучшим и самым значительным трудом на эту тему.
В настоящем издании монография Е. В. Тарле публикуется по тексту прижизненного издания 1909–1911 гг. [*2]
А. З. Манфред
Рабочий класс во Франции в эпоху революции
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемые очерки содержат часть результатов работы автора над архивными данными, касающимися истории обрабатывающей промышленности и рабочего класса во Франции в конце XVIII в. Автор, предпринимая эту работу, имел в виду, что если неразработанность экономической истории Франции в эпоху революции есть факт общепризнанный [1] то по истории рабочего класса в точном смысле сделано особенно мало; не сделано и малой доли того, что, например, по истории крестьянского класса успела создать французская специальная литература, возникшая под влиянием направления, которое Жорес назвал «l’école française et russe» (работ Кареева, Лучицкого, М. Ковалевского и Sagnac’a), и приведшая уже к пересмотру многих укоренившихся взглядов.
Чтение курса в Петербургском университете по экономической и социальной истории Франции в конце XVIII и в начале XIX в. лишний раз заставило автора убедиться в страшной скудости данных, касающихся указанного вопроса, которые бы стали уже достоянием науки, и побудило обратиться к посильной разработке предмета.
Пока в публикуемой небольшой части очерков взята только эпоха Учредительного собрания и главное внимание обращено на Париж, хотя, как читатель увидит, многое имеет отношение ко всей Франции. Под влиянием именно парижских событий издавались законы, вроде закона Ле Шапелье или декрета Ларошфуко-Лианкура; то, что потом стало называться «рабочим вопросом», складывалось под впечатлением действий, исходивших прежде всего от столичных рабочих. Читатель найдет здесь пока больше фактов, относящихся к истории рабочего класса в точном смысле, нежели к истории промышленности: это произошло вследствие абсолютной скудости документов второго рода для истории парижской индустрии в разбираемый период. В следующих частях, по мере расширения хронологических и географических рамок работы, эта сторона исследуемых явлений будет занимать тем больше места, чем менее скупы будут документальные свидетельства.
Ко времени начала революции Париж являлся одним из крупных центров обрабатывающей промышленности. Правда, мануфактуры, на которых работало более 100 человек, все еще считались единицами и в подавляющем большинстве все еще преобладали мастерские старого, традиционного типа, где работало по нескольку человек и где редко было более 20–30 рабочих [2], — но в общей сложности рабочее население столицы исчислялось многими десятками тысяч и под словами «les ouvriers», «la population ouvrière» в 1789 и следующих годах понималась очень внушительная сила, чуть не целая «армия голодных», которую одни доводили, как увидим далее, до 80 тысяч человек, а другие склонны были еще преувеличивать эту цифру и говорить о 150 тысячах и т. п. Конечно, сколько-нибудь точной цифры у нас нет. Известно также, какую серьезную роль, по единодушным показаниям современников, сыграло именно рабочее население столицы в критические дни революции — 14 июля и 5–6 октября 1789 г., 17 июля 1791 г., 10 августа 1792 г. и т. д.
Кроме первых глав книги Левассера «Histoire des classes ouvrières depuis 1789», нескольких заключительных страниц в книге Germain Martin’a «Les associations ouvrières au XVIII siècle», относящихся к интересующему нас периоду, и страниц, посвященных состоянию рабочего класса в книге Жореса «Histoire de la Constituante», я затруднился бы назвать еще хоть один самостоятельный труд, который бы уделял этому вопросу сколько-нибудь серьезное внимание (о книгах о «социализме» в XVIII в. и в эпоху революции Lichtenberger к нашей теме, а особенно к публикуемой пока части, собственно, имеющих лишь косвенное отношение, см. в главах I и VI настоящей работы). Документы, относящиеся к промышленности и рабочим в эпоху революции, слишком часто оказываются совершенно неиспользованными. Уже работая над историей национальных мануфактур, мне пришлось убедиться, что целая масса документов, относящихся к этому вопросу и хранящихся в Национальных архивах, никогда не была еще в руках исследователя, — оказалось, например, что одна часть серии F, содержащая, вообще говоря, много ценного материала, в книге «Рабочие национальных мануфактур» была использована впервые [3]. Точно так же, работая и над рукописями, легшими в основание предлагаемого теперь этюда, приходилось при получении этих документов иной раз испытывать задержку в 2–3 дня; как объяснил мне архивист Charles Schmidt, помощи которого я много обязан, эта задержка обусловливалась тем, что необходимо было предварительно наложить штемпель на документы, ибо выдавались они впервые, а между ними оказались очень и очень существенные. Нашел я также немало характерных документов в архиве префектуры полиции, кое-что в «отделении рукописей» Национальной библиотеки и в Библиотеке города Парижа. Некоторые из этих неизданных рукописей печатаются в приложении [*3] к предлагаемой работе (конечно, пока лишь из относящихся к 1789–1791 гг.); с другими читатель ознакомится по примечаниям к этой книге.
Только документы, относящиеся к так называемым «ateliers de charité» и «ateliers de secours», изданы — и изданы превосходно — архивистом Александром Тютэ [4], кое-какие попали в издания Lacroix [5] и Chassin «Les élections et les cahiers en 1789. Documents recueillis…» etc. Paris, 1889; остальные никогда не издавались. Превосходное издание (Ch. Schmidt et F. Gerbaux) протоколов комитетов земледелия и торговли, очень важное как указатель документов по истории земледелия и отчасти торговли, может сослужить хорошую службу при занятиях в Национальном архиве. Упреки, делавшиеся этому изданию, в том, что оно дает только оглавление, перечень документов, а не самые документы, неосновательны уже потому, что издатели и не ставили, и не могли ставить себе невыполнимой задачи напечатать целиком самые документы (это издание — «Procès-verbaux des comités d’agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention», t. I–II. Paris, 1906–1907 — составляет часть коллекции документов по экономической истории революции, задуманной французским министерством народного просвещения).
Ценен оказался и печатный материал: памфлеты, брошюры на злобу дня, афиши и извещения (периодическая пресса почти ничего не дает, за весьма редкими исключениями).
Весь этот материал, конечно, не оказался настолько богатым, чтобы удовлетворить всем законным запросам научной любознательности, но он дал мне ряд ценных указаний и разъяснений.
В предлагаемых очерках я пока излагаю лишь тот материал, который относится к первым годам революции, точнее, к эпохе Учредительного собрания. Как будет пояснено в дальнейшем изложении, для истории рабочего класса (как и для истории всей Франции) эти хронологические рамки отнюдь не являются лишь формальным, чисто внешним и поэтому произвольным делением, — напротив.
Из печатаемых в приложении сорока семи документов большинство никогда не появлялись на свет даже в отрывках, а из четырех (приложения XII, XIV, XXIV, XXVIII) более или менее значительные части приведены в вышеупомянутой книге Martin’a; в полном же виде и они появляются тут впервые. Печатаются они здесь, конечно, с соблюдением орфографии подлинников (часто совершенно малограмотных). Из общей группы печатаемых рукописей я выделил петицию рабочих к Людовику XVI. Я переписал ее с одного из четырех рукописных экземпляров, которые были найдены в знаменитом «железном шкапе», принадлежавшем королю, после взятия Тюльерийского дворца 10 августа 1792 г.; теперь все четыре рукописи хранятся в Национальных архивах, в картоне С. 184 (113–118), 8 liasse (pièces relatives à la contre-révolution). Этот интересный и редкий документ [*4] мне показалось нужным напечатать и сделать его таким образом более доступным, но в число неизданных документов я не мог его включить потому, что он дважды был напечатан — оба раза очень скоро после того, как написан: один экземпляр (брошюра с кое-какими стилистическими изменениями сравнительно с рукописью) хранится в Национальной библиотеке (под № Lb.39 11162); второй раз эта рукопись была напечатана по приказанию Конвента в конце 1792 г., когда готовился процесс Людовика XVI; она была тогда издана вместе с другими документами, найденными в «железном шкапе» (Нац. библ. Le38 64, N. CXVII–CL, imp. par ordre de la Convention, — Papiers de l’Armoire de fer). Под каждой из четырех рукописей — подписи рабочих: под каждой подписывалась особая группа рабочих, так что, очевидно, переписывание петиции в четырех экземплярах именно объясняется тем, что эти списки ходили по рукам в отдельных рабочих кварталах для сбора подписей.
В дальнейших частях предпринятой работы и хронологические, и географические рамки исследования будут постепенно расширяться, а пока на печатаемый этюд нужно смотреть как на отдельную главу из той общей работы, где будут рассмотрены по возможности все дошедшие до нас данные по истории французских рабочих в революционный период. К концу Учредительного собрания закончилась одна страница в истории рабочего населения Парижа — и началась другая; и уже это может дать предлагаемому очерку характер известной законченности.
Документы собирались и анализировались мной без всяких целей и специально поставленных себе самому «тезисов», — кроме единственной цели: привлечь к исследованию экономической истории этой критической эпохи данные, на которые или мало обращалось внимания, или, чаще, ни малейшего внимания не обращалось, и я, памятуя классический совет Фюстель де Куланжа, не торопился с «синтезом», а приступал к нему, лишь вполне удостоверившись всякий раз по крайнему своему разумению, что имею на то право. И еще одно замечание: многие из таких выводов покажутся убедительнее, если прочесть всю книгу, а не только ту или иную относящуюся к ним отдельную главу. Происходит это потому, что непосредственная жизненность некоторых документальных данных сказывается часто не только в обрисовке самих фактов, о которых идет прямая речь, но и в массе неуловимых черточек, которые припомнятся читателю в совсем иной связи, и часто именно в связи с теми или другими общими выводами или замечаниями, сделанными в предшествующем или последующем изложении. Например, мельком брошенная фраза в докладе Ле Шапелье заставит вспомнить то, что говорилось раньше о характере рабочей корпорации du devoir; прочтя в главе VI об аббате Шатцеле, можно понять настроение относительно аббата Руа, о чем шла речь в главе II: общее экономическое состояние в 1791 г. обрисовывается постепенно тоже не в отдельной какой-нибудь главе и т. д. В особенности нужно сказать, что в последней, шестой, главе весьма многое предполагается уже известным читателю из предшествующих глав и все в ней теснейшим образом связано с остальными частями книги.
Мне остается в последних строках предисловия выразить глубокую признательность заведующим теми архивами, в которых я работал, особенно же М. Charles Schmidt’y (в Национальном архиве) и М. Rey (в Архиве префектуры полиции).
Глава I
ВОПРОС ОБ УСТРАНЕНИИ РАБОЧИХ ОТ ВЫБОРОВ НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАТОВ (В ПУБЛИЦИСТИКЕ)
Наказы tiers-état Парижа молчат совершенно о нуждах и желаниях рабочих. Как известно, для парижских избирателей был установлен ценз (в 6 ливров годового обложения), и рабочее население в выборах участия принять почти не могло; впрочем, и там, где этот ценз установлен не был, рабочие никакого влияния ни на выборы, ни на выработку наказов не оказали. Не только не было налицо выражения хоть какого-нибудь антагонизма между рабочими и буржуазией, но именно на буржуазию возлагались все упования, и tiers-état был представлен на выборах всецело этой последней.
Нельзя сказать, однако, что совершенное отстранение рабочих и вообще бедных слоев столичного населения от участия в выборах прошло совсем уже незаметно. Отметим два-три голоса, выразивших протест, правда, очень сдержанный.
Вот брошюра, появившаяся за два дня до открытия Генеральных штатов и чрезвычайно громко, но голословно озаглавленная «Петиция ста пятидесяти тысяч рабочих и ремесленников Парижа» [1]. Автор с горечью спрашивает, почему отечество, открывающее ныне объятия своим детям, отталкивает 150 тысяч человек, полезных сограждан? «Как? Наши жалобы, наши требования не будут ни услышаны, ни обсуждаемы? Среди четырехсот выборщиков мы едва можем различить четырех или пять человек, которые, зная наши нужды, наш быт и наши несчастья, могли бы принять в нас серьезное участие». Список выборщиков наполнили и ораторами, и учеными, и «агентами коммерческих интересов», но он может «внести отчаяние» в сердца рабочих, ибо ни одного человека из их среды в нем нет. «Еще более посредством своей промышленности, нежели посредством торговли, Париж дает законы и образец для подражания всему свету», и если «в нем нет многочисленных мануфактур», то в нем, тем не менее, живут многие и многие тысячи рабочих, несущих тяжелую и нередко опасную работу. (Тут мы встречаем еще одно подтверждение того мнения, что при всей многочисленности рабочего населения больших промышленных заведений было еще немного, а рабочие распределялись в массе мелких мастерских.) Чего же просит автор? Определенность во взглядах на tiers-état как на нечто единое выступает здесь весьма ярко: автор требует, чтобы среди выборщиков были также «негоцианты, умные мануфактуристы, даже честные ремесленники», как будто и без того негоцианты и мануфактуристы не заседали в избирательных комиссиях и как будто «ремесленники» — совершенно то же самое, что негоцианты и мануфактуристы в смысле представительства от рабочей массы. Конечно, писали это не «omnes artifices», как по-латыни подписана брошюра, а писал человек, говоривший исключительно от своего имени. Заподозрить в нем сознательное желание запутать вопрос тоже нет оснований: ни малейшей надобности сбивать рабочих с толку не было, ибо они не проявляли в тот момент никакой решительно склонности противопоставить себя более обеспеченному слою того tiers-état, в составе которого и они сами числились. Судя по упоминанию о Демосфене, Платоне (стр. 6), по довольно вычурному стилю, эту брошюру мог написать один из третьестепенных публицистов, которых в таком количестве породил 1788, а особенно 1789 год.
Протестовал против отстранения рабочего класса и некий де Море (de Moret) в письме к Неккеру, написанном по поводу разгрома дома Ревельона (о чем у нас речь будет дальше). Де Море указывал [2] на то, что «самый многочисленный, самый полезный и самый драгоценный для государства» класс столичного населения лишен представительства в Генеральных штатах. Рабочий класс поддерживает и обогащает «другой класс третьего сословия» (т. е. буржуазию), а между тем представлен он будет только людьми, платящими 6 ливров налога и выше, т. е. такими лицами, «интересы которых совершенно различны и даже противоположны» интересам рабочих, ибо одни прямо заинтересованы в том, чтобы удержать других в рабстве и зависимости [3]. Это — необычный язык для всей исторической эпохи, которую мы рассматриваем; только в разгаре стачечного движения 1791 г. иной раз, как мы увидим, вырывались подобные фразы. Этот безвестный иностранный дворянин, так проницательно вглядевшийся в природу составных частей tiers-état, приписывал и волнения у дома Ревельона допущенной относительно рабочих несправедливости и предвещал даже восстание, если не будут приняты меры с целью дать им также представительство в Генеральных штатах. В этом отношении он ошибался: рабочая масса в целом была еще слишком далека от идеи борьбы за избирательное право и, противополагая tiers-état, как нечто единое и нераздельное двум привилегированным сословиям, не склонна была углубляться в анализ самого понятия tiers-état.
В шевалье де Море мы видели гуманно настроенного иностранца, взывавшего к Неккеру о справедливости во имя обойденных избирательным регламентом рабочих. Но вот пред нами какой-то, очевидно, роялист и умеренный конституционалист, враг «демагогии», боящийся слишком крутых перемен [4]. С легкой иронией, но довольно настойчиво анонимный автор указывает, что в tiers-état нужно различать «haut- et bas-tiers». К haut-tiers относятся муниципальные чины, коммерсанты, ученые, литераторы, богатые жители деревень и т. д., их не нужно смешивать с земледельцем, виноделом, поденщиком и «всеми механическими профессиями». Говоря иронически от имени этого haut-tiers и будто бы излагая содержание брошюр публицистов третьего сословия, наш автор обещает членам bas-tiers всякие блага, курицу в супе — не только по воскресеньям, как того желал Генрих IV, а по воскресеньям и четвергам [5] и т. д. Мы еще увидим, когда речь пойдет о контрреволюционной пропаганде среди рабочих в 1789–1791 гг., что указания на резкую разницу в положении буржуазии и рабочих изобиловали в литературе этого направления. Но как позже, так и теперь, до открытия Генеральных штатов, эти указания не дошли до адресатов. Чтобы уже покончить с этими попытками расчленить понятие tiers-état, упомянем еще об одной брошюре (также анонимной и вышедшей уже в начале Учредительного собрания), автор которой под словом «Le peuple» рекомендует понимать только «ремесленников, рабочих и крестьян» и прямо отличает их от буржуа [6], т. е. от купцов, цеховых мастеров, финансистов, лиц свободных профессий и т. д. Характерно, что этот демократически настроенный автор, употребляя слово «буржуа», оговаривается, что «в других королевствах» так называются купцы, финансисты и т. д. Эта оговорка лучше многих рассуждений показывает, как мало еще в общественное сознание вошла мысль о необходимости точнее обозначать отдельные части tiers-état.
Де Море, писавший свое письмо Неккеру в разгаре беспорядков вокруг дома Ревельона (28 апреля 1789 г.), предупреждает о немедленном восстании, в случае если немедленно не будет исправлена несправедливость относительно рабочих; другие публицисты довольствуются тем, что пишут от имени «бедных» наказы, представляют Генеральным штатам планы преобразований и так далее, и содержание их произведений — это нечто вроде докладных записок уже собирающимся Генеральным штатам, без всяких поползновений изменить состав собрания в более демократическом смысле, хотя иной раз и с очень горькими упреками относительно допущенной несправедливости.
Нужно отменить распределение нации на сословия, советует один из таких публицистов, Дюфурни де Вилье [7], или же создать особое, четвертое, сословие и вообще общество должно делиться лишь по материальному своему состоянию, — только такое деление реально. Следовало бы далее избавить от налогов бедных и обложить богатых прогрессивным налогом, — и общество должно было бы взять на себя обязанность помогать всем нуждающимся. Автор — горячий адвокат тех «hommes disponibles», которые должны отдавать все свои силы и свое время и здоровье за ничтожную заработную плату, которой не хватает даже на пропитание. Все зло он приписывает концентрации богатств в немногих руках [8] и несправедливому, но господствующему воззрению, будто главная цель образования общественного союза — защита собственности, тогда как на самом деле эта цель заключается в охране и защите слабых и нуждающихся [9], и обязанность общества — ограждать индивидуума от голода, нищеты и гибели. Автор с горечью спрашивает, почему не дали участвовать в народном представительстве «громадному классу» поденщиков, людей, живущих на заработную плату. При этом автор делает ядовитое замечание: пусть не говорят, что все равно интересы бедного класса найдут защитников в депутатах третьего сословия, даже в депутатах всех трех сословий — в короле и т. п.; автор спрашивает третье сословие (т. е. ту часть его, которая послала депутатов в штаты), почему же оно само не полагалось на защиту и добродетели двух привилегированных сословий, а добивалось (и добилось) «пропорционального» представительства для себя [10]? Это намек автора на упорные и увенчавшиеся полным успехом старания буржуазии (осенью и зимой 1788 г.) получить удвоенное число депутатов сравнительно с дворянством и духовенством на предстоящих Генеральных штатах. Он требует приложения к бедному классу того «великого принципа, что привилегированные не могут представительствовать за непривилегированных». Он подчеркивает, что фабриканты постоянно стремятся уменьшить заработную плату, возможно дешевле купить рабочую силу, и поэтому интересы фабрикантов и интересы четвертого сословия прямо противоположны [11], ибо первые будут стремиться сохранить это положение вещей, хотя бы «их благородство и побуждало их взять на себя заботу» о нуждах этого четвертого сословия, иронически прибавляет автор. Ни один наказ третьего сословия, замечает он дальше, не говорит о нуждах бедного класса, и из дальнейшего изложения явствует, что автор желает устроить нечто вроде анкеты о положении бедных и этим восполнить отсутствие их наказов. Уже наперед он предугадывает, что наибольшим бедствием для «четвертого сословия» будет признана дороговизна хлеба: эта дороговизна хлеба стояла в течение всего 1789 г. на очереди дня и отразилась на всех народных выступлениях начального периода революции.
Жалуется на лишение представительства также и другая брошюра — петиция, составленная от имени «бедного народа» [12]. Поденщики, ремесленники, рабочие, «лишенные всякой собственности», составляющие «специально» бедный класс и «к несчастью половину французской нации, принуждены обратиться к тем, кто был выбран в представители нации», прося помощи в своем трудном положении; «их интерес и их спасение — в сердце их короля, который объявил себя их защитником», добавляют они. Представителей выбирали лишь из класса собственников, и вообще, «кажется, все было сделано в пользу богатых и собственников» [13]. Авторы петиции пишут далее: «все эти собственники, которых можно назвать богатыми сравнительно с нами, без сомнения, с удовольствием станут покровителями и защитниками бедных, ибо религия и мораль вменяют им это в долг; но мы могли бы быть совершенно забыты, если бы не изложили свои нужды и желания». Чего же желает петиция? Чтобы люди, живущие ежедневными трудами рук своих, были освобождены от налогов; чтобы позволено было работать и по воскресеньям, после церковной службы. В этом отношении нужно всех рабочих уравнять в правах с прислугой и с теми категориями рабочего люда, которым уже полиция позволила работать по воскресеньям [14]. Кроме того, следует сократить число праздничных дней, которых (кроме воскресений) насчитывается 25–30. Вместо этой цифры рекомендуется оставить 8 праздников (из них один, св. Людовика, в честь короля).
Обзор этой небольшой предреволюционной публицистики, занимавшейся вопросом об устранении от выборов «четвертого» сословия и сохранившейся в Национальном архиве и в Национальной библиотеке, можно дополнить, отметив еще писания Ламбера, «инспектора учеников» в различных «госпитальных» (благотворительных) домах [15]. Выше мы видели то горькие упреки, то легкую иронию относительно того, что состоятельный слой tiers-état будет представительствовать за рабочих и вообще за бедняков. Ламбер далек и от упреков и от иронии. Правда он жалуется, что «между фиском, собственниками и их агентами существует своего рода соглашение, не предумышленное, но весьма действительное, по которому деньги считаются всем, люди — ничем». Однако эти гуманитарные бутады не мешают ему признать, что допустить бедных в собрание было бы «неосуществимо и бесполезно», ибо их внимание слишком поглощено работой и они необразованы. Содержание мыслей Ламбера весьма путанное и неопределенное (филантропические и неясные пожелания о защите бедных от богатых и т. д.); к нашей теме они отношения не имеют [16].
Вот к чему сводится почти весь раздавшийся в публицистике в начале 1789 г. протест против отсутствия в Генеральных штатах представительства от рабочего люда [17]. И даже эти редкие голоса исходят явственно не из рабочей среды, а только от сочувствующих лиц. Скудость мыслей касательно необходимых для рабочего класса реформ несомненна. Но, с другой стороны, мы видим, что был налицо не только протест, но даже в двух случаях вполне ясно подчеркивалась противоположность интересов «буржуазии» и рабочих, и тем не менее у нас нет решительно никаких данных, чтобы даже судить, насколько подобные мнения находили себе доступ в рабочую среду. Для истории развития самой идеи «классовых противоречий» приведенные тут выдержки во всяком случае не лишены интереса: обычное суждение о полном отсутствии в публицистике 1789 г. этой идеи нуждается в поправке.
Столичная беднота напомнила о себе не наказами, а неожиданным для всех (и для нее самой) агрессивным выступлением.
Безработица и дороговизна хлеба — вот два бича, от которых остро страдало рабочее население Парижа в 1789 г. Дороговизна хлеба страшно обострилась вследствие неурожая 1788 г. и бедственной, неслыханно суровой зимы 1788/89 г., а на особенный промышленный кризис в целом ряде производств не переставали жаловаться с 1786 г., с момента заключения очень невыгодного в общем для Франции торгового договора с Англией. Суконные, бумагопрядильные мануфактуры жестоко страдали от конкуренции английского механического производства, мало распространенного еще во Франции (кроме запада); ряд других производств также не мог успешно бороться с хлынувшим во Францию потоком английских товаров. Сократился также сбыт в Испанию и германские страны, где начались таможенные стеснения для ряда французских провенансов. Промышленный кризис очень и очень давал себя чувствовать уже с конца 1787 г. Зимой 1787/88 г. в Амьене насчитывалось 46 тысяч безработных, в Эльбефе без работы очутилась половина всех рабочих, а заработная плата упала до 8 су, 10 су с небольшим; в Руане, в Седане, в Труа, в Нормандии, в Каркассоне, в Дофине — всюду в 1787–1789 гг. кризис свирепствовал немилосердно, и к концу 1788 г. во Франции насчитывалось более 200 тысяч безработных [18]. Потребление повсеместно уменьшилось в 1788 г. [19] Зима 1788/89 г. после двух последовательных неурожаев, пережитых центральной Францией, была особенно тяжела для промышленности и торговли; производство сокращалось. Нужно заметить, что, впрочем, еще Париж, страдавший в некоторых отраслях производства от английской конкуренции, вознаграждал себя тем, что в других отраслях пользовался трактатом 1786 г. для усиленного сбыта в Англию (кружева, газовые материи, фарфор, парфюмерия, страусовые перья, мебель, ювелирные изделия и т. п.) [20]. Но Париж, помимо всего, притягивал нуждающуюся массу из других мест: голодный год гнал в Париж из провинции новые и новые массы безработного люда, и этот горючий материал внушал беспокойство многим наблюдателям. «Четвертое сословие», о котором писал Дюфурни де Вилье, увеличивалось в столице не по дням, а по часам, а цены на хлеб, конечно, продолжали расти. На этой почве и разыгралась та стихийная вспышка, которая прекрасно характеризует страшную возбудимость нуждающейся городской массы 1789 г. и готовность ее к самым решительным и самым непланомерным и немотивированным действиям по наиболее ничтожному внешнему поводу.
Глава II
РАЗГРОМ ДОМОВ ФАБРИКАНТОВ РЕВЕЛЬОНА И АНРИО
Под словами «l’émeute (или l’insurrection) de Réveillon» в истории революции понимаются бурные беспорядки, происшедшие в Париже за неделю до открытия Генеральных штатов (27 и 28 апреля 1789 г.) и окончившиеся разгромом домов двух богатых промышленников: Ревельона и Анрио (Henriot). Едва ли не всеми историками революции этот эпизод считается одним из самых темных и загадочных явлений этой эпохи, и в общих историях революции (также и у Жореса) отмечается лишь неясность причин этой вспышки, и ей посвящается самый общий и беглый рассказ. Некоторое исключение представляет в этом отношении Тэн, который говорит о «деле Ревельона» на четырех с половиной страницах второго тома своего труда [1]. Он ссылается на два документа национальных архивов, на мемуары Безанваля, принимавшего участие в усмирении беспорядков, и еще на двух-трех современников события, причем, изложив в общих чертах внешнюю сторону происшествия, считает возможным прийти к совершенно определенному заключению, что беспорядки созданы были тремя элементами: 1) голодными, 2) бандитами и 3) патриотами; голодными, — потому что бунтовщики ограбили булочника на улице Бретань и хлеб отдали собравшимся женщинам, потом арестованным на углу улицы Сентонж; бандитами, — потому что так рассказывали шпионы герцога Шатле, командовавшего французскими гвардейцами; и, наконец, патриотами, — потому что вечером, после возмущения, босоногие нищие просили милостыню со словами: «сжальтесь над бедным tiers-état» [2]. Вот и все. Тэн, рассказав о происшествии, стремится привести все изложение к наперед поставленному тезису, чтобы потом естественно перейти к описанию следующих событий, авторами коих должны явиться те же «голодные, бандиты и патриоты» [3].
Но еще в гораздо большей степени сочинением на заданную себе самому тему является и небольшая статья Бодона (Beaudon), специально посвященная «делу Ревельона» [4]. Разница лишь та, что у Тэна тезис был антиреволюционный, а у Бодона, совершенно обратно, задача заключалась в том, чтобы обвинить двор в искусственном провоцировании беспорядков. У Тэна нет доказательств для его тезиса, взятого во всей полноте, но он, хоть, излагая события, ссылается на некоторые материалы, и вообще за ним остается та бесспорная заслуга, что он первый обратил внимание на все это дело, а у Бодона ни одной ссылки на всех шести страницах его статьи мы не встречаем, и просто он декретирует свои предвзятые положения. Сознавая, очевидно, некоторую непрочность подобного метода, он кончает статью свою такой сентенцией: «Когда деспотическое и испорченное правительство усматривает в народе возбуждение, которое может стать страшным, то оно организует возмущение, чтобы доставить себе случай отразить страсти террором. Такова причина, таковы последствия дела Ревельона, которое навсегда осталось темным, потому что виновники этого преступного акта вовсе не оставили следов своих гнусных интриг, которые выясняются только сцеплением фактов». Ни малейшей цены все эти голословные фразы не имеют.
С Бодоном не согласен Тютэ (Tuetey), автор многотомного указателя, без которого шагу нельзя ступить никому из занимающихся изучением рукописей, хранящихся в Национальном архиве и относящихся к революционному периоду [5]. В предисловии к первому тому своего указателя он говорит о деле Ревельона на основании документов Национального архива, и, отвергая, конечно, за полной необоснованностью рассуждения Бодона, Тютэ мягче относится к «делению» Тэна, но в конце концов отвергает и его, или, точнее говоря, из «голодных, бандитов и патриотов» оставляет лишь третьих: «все эти рабочие и поденщики в лохмотьях, которые бросились на приступ к домам Ревельона и Анрио и с неописуемой яростью разбили и опустошили все, не были ворами, не были вульгарными злодеями, привлеченными добычей, но смотрели на себя как на народных мстителей, восставших против долгого гнета, вооружившихся и сражающихся за дело третьего сословия» [6].
С этим мнением, после ознакомления с относящимися к делу документами, как рукописными, так и изданными, мы также согласиться не можем. Если уже оставлять одну из указанных Тэном категорий, то нужно оставить «голодных» и никого более. Мало того, даже и тот пересказ некоторых из этих документов, который дан у Тютэ, тоже вовсе не оправдывает упомянутого заключения. Обратимся к подлинным документам и посмотрим, что они говорят нам об этом событии. Только некоторая часть этих материалов напечатана в сборнике документов, изданном Шассеном [7] в 1889 г., — другие до сих пор не изданы и хранятся в Национальном архиве.
1
С внешней стороны дело рисуется так. Подходило время открытия Генеральных штатов, и в Париже происходили избирательные собрания. В собрании выборщиков от третьего сословия принимал участие также владелец большой бумажной и обойной мануфактуры Ревельон. В двадцатых числах апреля утром среди рабочих Сент-Антуанского предместья, где находилось заведение Ревельона, распространился слух следующего содержания: Ревельон на собрании выборщиков, когда зашла речь о положении рабочих, будто бы сказал, что рабочие могут существовать, получая 15 су заработной платы в день. Сам Ревельон в мемуаре, который он издал через несколько дней после происшествия [8], с негодованием отвергал наличность каких бы то ни было оснований для подобного слуха. Рабочие на его мануфактуре получали большинство 30, 35 и 40 су в день, некоторые — 50, а минимальная плата начинающим была 25 су. Лица, даже не верившие этому слуху, вроде маркиза Силлери, депутата от дворянства реймского бальяжа, объясняли все дело недоразумением: Ревельон будто бы сказал, что его рабочие теперь, получая 40 су в день, хуже живут, нежели тогда, когда получали в былые времена 15 су, а эти слова были извращены [9]. Тютэ почему-то склонен считать это показание Силлери наиболее согласным с истиной [10]. Но, во-первых, Силлери не присутствовал на заседании выборщиков, где будто бы были произнесены эти слова, и, следовательно, сам был принужден только довольствоваться слухами (что он, действительно, и делает, регистрируя в другом, оставшемся после него документе [11] слух, совершенно неосновательный, разнесшийся 30 апреля, будто открыли виновников разгрома). Сам Ревельон, до сведения которого дошли подобные попытки объяснить все дело извращением его слов, протестовал, подчеркивая, что вообще не произносил ничего подобного [12]. Но слух быстро распространился в Сент-Антуанском предместье. 27 апреля начались сборища в Сент-Антуанском предместье, и дом Ревельона первый подвергся нападению. Одновременно и еще в сильнейшей степени была поведена атака и против дома Анрио, владельца селитроварни в том же предместье, относительно которого были пущены еще более определенные слухи, нежели относительно Ревельона. Вот что доносил начальник парижской полиции де Кронь Людовику XVI вечером этого первого дня беспорядков [13]. «Спокойствие, которое царило в Сент-Антуанском предместье, нарушено было внезапно: 500–600 рабочих собрались около 3 часов у входа в это предместье; они повесили чучело, изображавшее Ревельона, и прошли по разным кварталам Парижа с этим чучелом и с чучелом Анрио». Число их быстро увеличивалось; было решено принять меры, вследствие чего начальник полиции тотчас же уведомил командира полка «французских гвардейцев» герцога дю Шатле и временно командовавшего полком «швейцарских гвардейцев» барона Безанваля [14]. Они тотчас устроили совещание и выработали план действий, после чего к дому Ревельона был послан отряд для охраны. Этого отряда оказалось достаточно, чтобы предупредить разгром 27 апреля, и сам Ревельон, который писал под свежим впечатлением постигшего его несчастья, видел всюду происки тайных врагов и ни единым словом не обвиняет власти в попустительстве или бездействии: «… они (бунтовщики — Е. Т.) являются, чтобы разграбить и сжечь мой дом, они громогласно о том возвещают. Присутствие охраны их устрашает…» [15]. День окончился благополучно, и ночью (с 27 на 28 апреля) начальник полиции де Кронь доносил королю: «Спешу уведомить Ваше Величество, что последние отряды французских гвардейцев и конной стражи рассеяли сборища, никто не погиб. Я должен воздать хвалу благоразумию, с которым вели себя войска». В доме Ревельона оставили охрану в 50 человек, чтобы предохранить его от всякого нового посягательства, оставили также два отряда в 100 человек [16] в предместье; в других кварталах войска были собраны в казармах.
На другой день бунт вспыхнул с удесятеренной силой: толпа бросилась к дому Анрио, где охраны не было, и к дому Ревельона, где охрана была отброшена, и разгромила оба дома. Вещи были изломаны и выброшены из окон, на улице был разложен костер, где эти обломки и были сожжены; все, что только возможно, было разбито и истреблено. Огромная толпа запрудила все прилегающие к месту действия улицы. Кронь поспешил дать приказ задержать [17] 500 рабочих соседней стекольной мануфактуры, но все равно толпа росла неудержимо, заставляя и этих рабочих и вообще встречных присоединяться. Дю Шатле и Безанваль послали туда несколько отрядов, находившихся в полной боевой готовности. Как были вооружены бунтовщики? Легенды, распространявшиеся после усмирения, гласили, между прочим, что толпа действовала против войск также огнестрельным оружием. Комиссары, производившие допрос арестованных, сами не знали не только кто стрелял в войска, но даже были ли выстрелы вообще [18]. Де Кронь, писавший королю в самый день событии [19], говорит, что народ, взобравшись на крыши, осыпает войска градом черепиц, камней, всякого рода обломков, но ни слова не говорит о выстрелах со стороны бунтующих. Со своей стороны, Безанваль прямо говорит [20], что против ружей у толпы были только палки, камни и черепицы.
Репрессия была произведена очень жестокая, и решительно ни одно из сведений, передаваемых нам документами, не дает оснований думать, что репрессивные меры были хоть сколько-нибудь замедляемы со стороны властей. Начальник полиции, чуть не по часам извещавший короля о ходе дел, еще утром 28 апреля, когда ему донесли, что вновь собираются группы, предложил герцогу Шатле усилить отряды, оставленные на ночь в предместье, а сам поспешил в парламент (в верховном ведении коего находилась полиция в Париже), и там состоялось постановление против сборищ, которое немедленно должно было быть оглашено. Затем сейчас же были посланы войска в усиленном количестве в полной боевой готовности и даже с двумя пушками. Войска произвели несколько залпов из ружей в толпу, после чего бунтующие рассеялись, преследуемые солдатами. Попытки оказать войскам сопротивление были, но, конечно, при слишком неравных условиях борьбы не могли иметь никакого значения. Безанваль, со слов докладывавшего ему офицера, приписывал особенное значение тому обстоятельству, что солдатам уже велено было приготовиться к стрельбе из пушек, и эти приготовления способствовали успокоению толпы [21]. Но из пушек стрелять на самом деле не пришлось, и все легенды о том, что пушечные выстрелы «смели» толпу с улицы, не имеют в источниках никакого основания. Залпы же из ружей производились щедро, ибо толпа, даже безоружная и расстреливаемая в упор, подалась не сразу [22], а солдатам были отданы самые решительные приказы.
Сейчас же начались аресты. Судя по допросам захваченных, арестовывали кого попало, и сам начальник полиции вечером 28 апреля еще не знал не только кого именно арестовали, но и сколько вообще арестовано [23]. И сейчас же решено было дать примерный урок бунтовщикам; избиения, произведенного на месте, показалось по-видимому, недостаточно, — требовалась непременно торжественная и публичная казнь по суду.
2
Затруднение состояло в том, что этот бунт так стихийно и быстро возник и развился, что при всем желании невозможно было немедленно после усмирения найти вожаков. Арестовано было сразу несколько десятков человек, судя по записям в бумагах суда Шатле (Châtelet) [24], но, хватая наугад, в тюрьму привели много лиц, которые понятия не имели о том, о чем их спрашивали. Между тем уже в самый день возмущения Людовик XVI подписал приказ о передаче всего дела на суд прево Иль-де-Франса для суждения виновных без права апелляции. Этот приказ на следующий же день был зарегистрирован парламентом [25]. В самый день регистрации (29 апреля) королевский прокурор суда (так называемого Шатле) представил на суд прево двух арестованных, наскоро выбранных из числа прочих и выбранных затем, чтобы быть немедленно повешенными.
Первый подсудимый Пура (Pourat), поденщик, был арестован без шапки, и при обыске на нем оказались три рубахи, причем метки на двух обличали, что они взяты в доме Ревельона и Анрио. Допрос, произведенный комиссаром Гранденом, был короток; Пура показал, что он был пьян, что он не помнит, каким образом на нем очутились при рубахи, что обыкновенно он носит две, что он купил эти рубахи на рынке, что в разграблении Ревельона он не принимал участия и т. д. [26] Другой подсудимый был Жильбер, кровельщик, у которого в кармане был найден обломок зеркала. Он показал [27], что не входил в дом Ревельона, не принимал участия в разгроме, никого сам не возбуждал к бунту и его никто не возбуждал, ни от кого не получал денег, чтобы участвовать в разгроме, а кусок зеркала подобрал на улице (куда, как сказано, действительно, громившие выбрасывали из дома обломки мебели и утвари). Ни единого показания против Пура и Жильбера выставлено со стороны прокурора не было, но их губили «вещественные доказательства», ибо относительно других и этого не было. Оба были представлены на суд прево 29 апреля и приговорены к смертной казни через повешение. Весьма характерен самый приговор, произнесенный прево (Папильоном) [28]: «… названные Жан-Клод Жильбер и Антуан Пура объявлены должным образом настигнутыми и уличенными в том, что они принимали участие в сборище, возмущении и восстании, которые имели место вчера в улице Сент-Антуанского предместья и в других прилегающих улицах», причем в войска с крыш и из окон бросались камни, черепицы и прочее (приговор, однако, не гласит, что именно обвиняемые бросали в войска эти предметы); далее они уличены в том, что «вместе со многими другими проникли в дом частного лица, где произвели самые значительные повреждения и опустошения, и, кроме того, они сильно подозреваются в том, что украли различные вещи в названном доме, в погребе коего они были арестованы, — все это так, как указано в процессе; в возмездие они приговариваются быть повешенными и задушенными, пока не последует смерть» и т. д.
Едва только этот приговор был произнесен, как начальник полиции де Кронь принял все меры для немедленного приведения его в исполнение. У Сент-Антуанских ворот недалеко от места беспорядков, того же 29 апреля сейчас же после суда и меньше, нежели через 24 часа после усмирения, Пура и Жильбер были повешены при огромном стечении народа. Виселицы были окружены весьма значительным количеством войск, и, как доносил де Кронь Людовику XVI, это обстоятельство обусловило полную тишину и спокойствие во время совершения, казни [29]. Один современник, оставивший описание казни [30], говорит, что, по слухам, в этот день было убито несколько человек за нападение на лошадей стражи, но никаких подтверждений этого слуха, противоречащего письму де Кроня, мы не нашли. Но и де Кронь прибавлял в своем письме, что военные посты не сняты с подозрительных пунктов и что хотя «некоторые слова» явно указывают на еще продолжающееся брожение в умах, но «народ сдерживается». Эксцессы прекратились, но «брожение в умах» (fermentation dans les esprits), о котором говорит де Кронь в своем последнем письме к Людовику XVI, еще как будто несколько дней держалось. Но улица была совершенно спокойна; всеобщее внимание слишком было поглощено предстоявшим 5 мая открытием Генеральных штатов, и беспорядки 22–28 апреля могли надолго его отвлечь. Де Кронь в одном из своих донесений королю (писанном в момент беспорядков, 28 апреля) поместил характернейшую фразу [31]: «… хотя восстание, по-видимому, все еще направлено против Ревельона, но требуют с живостью уменьшения цены на хлеб».
Если историк, изучающий событие 27–28 апреля, не забудет эту фразу, то он не особенно огорчится малой содержательностью протоколов допроса арестованных; не особенно огорчится потому, что не будет предъявлять к этим протоколам таких, требований, которых они удовлетворить не могут.
3
К этим протоколам мы теперь и переходим. Отметим прежде всего, что комиссары, производившие предварительное следствие, отнеслись к своему делу, судя по протоколам допросов, весьма усердно. Это доказывается обилием вопросов и обстоятельностью записей, но из ничего не может ничего выйти, невзирая на все желание.
Усердие комиссаров весьма понятно: высшие власти чрезвычайно энергично требовали раскрытия «истинных виновников» события 27–28 апреля с первых же дней, можно сказать с первых же часов, протекших после беспорядков. Королевский прокурор де Фландр де Бренвиль, несомненно отвечая Неккеру на какое-то утерянное для нас письмо, доносил [32] ему 3 мая, что уже выслушал довольно большое число свидетелей и обещал тщательно обследовать все факты; он просил вместе с тем Неккера удостовериться, что расследование этого дела будет вестись «с величайшим усердием». Но он признавал, что мало сведений пока получается из этих допросов. В другом донесении прямо указывается, что следствие продолжается, но что «не судебными средствами» возможно в подобных случаях добиться результатов [33].
И Неккер, и министр двора, и хранитель печати (министр юстиции) следили за ходом дела внимательно, но даже и намека на открытие «истинных виновников» (fauteurs et auteurs) беспорядков не являлось.
В Национальном архиве сохранились в хронологическом порядке рукописные дела, производившиеся у комиссаров, и благодаря указателю Тютэ нетрудно среди огромной груды этих бумаг отыскать то, что нужно, в данном случае протоколы допросов арестованных по делу 27–28 апреля. Большинство допросов состоялось уже в последние дни апреля и в первые дни мая, и, несмотря на все усилия допрашивателей, ответа на главный вопрос не было получено.
Допросы эти, в общем, крайне однообразны. Вот самый важный из арестованных «преступников» (не считая уже повешенных 29 апреля двух лиц) — писец Мари [34]. Он был замечен в толпе, которая вырвала сабли у двух унтер-офицеров, и, кроме того, он кричал, грозя обезоружить и еще военных. Сержант Форстер показал, что группа людей, вооруженных палками и саблями, напала на него и его товарища, и подсудимый Мари спросил их: «S’ils étaient du Tiers-Etat?» [35], a после утвердительного ответа Мари и другие все-таки стали вырывать у них сабли, говоря, что им нужно защищаться от войск. Вечером того же дня Мари с товарищами еще раз встретился с этими двумя обезоруженными, произошла стычка, и бунтовщики убежали. Арестован же Мари был лишь 2 мая. Мари показал, что толпа его окружила и заставила кричать: «Vive le roy et le tiers-état!» Затем солдаты отдали свои сабли (когда некоторые из бунтовщиков потребовали), и он, Мари, посоветовал солдатам уйти. Фразу же с угрозой обезоружить и других военных произнес, как другие. В грабеже дома Ревельона и Анрио он не участвовал, и никто его там, впрочем, и не видел. Конечно, шаблонное (как увидим) в этом процессе оправдание, что толпа заставила делать то-то и то-то, может и не быть принято, но и доказательств в пользу того, что он был вожаком, ни малейших не было. Тем не менее 18 мая тем же превотальным судом Мари был приговорен к смертной казни, а 22 мая в полдень повешен публично там же, где 29 апреля были казнены Пура и Жильбер, — у Сент-Антуанских ворот, в центре рабочего квартала.
Вот другая, тоже признанная наиболее важной, «преступница», торговка мясом Мари-Жанна Бертен. Ее обвиняли в том, что она «возбуждала в самых сильных выражениях» толпу к грабежу и опустошению мануфактуры Ревельона; что она раздавала бунтовщикам палки и поленья; что она кричала: «allons, vive le tiers-état», заставляла других присоединяться к толпе, указала вход в мануфактуру и после грабежа раздавала свертки раскрашенной бумаги; таковы все ее преступления, обозначенные в приговоре превотального суда [36]. На допросе она не признавала себя виновной [37] и заявила, что считает Ревельона «честным человеком и отцом бедняков». Суд приговорил и ее к смертной казни через повешение. Ввиду беременности она не была, впрочем, повешена, а затем участь ее была смягчена, и после почти двухлетнего заключения она была выпущена на свободу.
Другие обвиняемые пострадали даже и без таких оснований и доказательств. Ткач Фарсель, арестованный в пьяном виде и заподозренный, что он напился вина из разграбленного погреба Ревельона, на допросе показал [38], что «любопытство видеть происходящее увлекло его; что он видел, как бросали из окна вещи Ревельона и жгли, но не принимал во всем этом участия». Он был приговорен к пожизненной каторжной работе на галерах; перед отправлением на каторгу Фарсель был еще заклеймен публично раскаленным железом и должен был простоять час у позорного столба. К такому же точно наказанию были приговорены и еще четыре подсудимых. Один из них, Ламарш (красильщик), тоже был уличен только в том, что находился в нетрезвом виде. Улик других не было никаких, и комиссар принужден был выдумывать вопросы: «спрошенный, почему его одежда покрыта грязью, ответил, что это потому, что он упал, будучи пьян» [39]. Нетрезвое состояние как главная улика погубило и остальных подсудимых этой категории; Леблан (шорник) оправдывался тем, что толпа «насильно» повела его в погреб, где все пили [40]; толпа же принудила его взять камни в карманы, но сам он в солдат их не бросал, и т. д.
Кроме нетрезвого состояния (приводившегося в связь с разграблением погреба Ревельона), своего рода уликой, за неимением ничего лучшего, были сочтены раны, и те из раненых, которые не могли уйти с места бойни и попали в больницу, были тоже допрошены. Их ответы еще менее содержательны, да и власти абсолютно ничего не могут противопоставить их отрицанию: Кюни, столяр, был в толпе, ранен, ничего больше не помнит, подстрекателей не знает, действовал как все, «пример его увлек» [41]; Прево, торговец вином, был пьян, но к счастью для себя арестован не в ограде мануфактуры; найдены при нем подсвечники, но он заявляет, что они принадлежат ему, а у властей, по-видимому, нет возможности это опровергнуть; на месте беспорядков очутился, чтобы посмотреть, из любопытства… Почти всех допрашиваемых спрашивали, не знают ли они зачинщиков, не слыхали ли они имена подстрекателей, не давал ли им кто-нибудь советов, и всегда, без исключения, на эти вопросы получался отрицательный ответ. Некоторых (например, юного мраморщика Жилля) [42] чуть ли не только об этом и спрашивали; Маршана, сапожника Этьена, гравера Прюдома, судовщика Пулена — всех этих людей, относительно которых ни малейшей улики не было, спрашивали о подстрекателях. Видно было, что комиссарам дана была определенная инструкция узнать главарей, — и невольно вспоминается цитированная выше фраза, что судебными средствами плодотворных результатов не добудешь. Намек ли это на пытку, уже отмененную по закону? Предположение невозможное, потому что письмо писалось Неккеру, но ясно одно: высшие власти действительно желали узнать «подстрекателей». Это явствует не только из цитированной выше переписки, не только из протоколов допросов, которые в этом смысле интереснее по тому, что спрашивалось, нежели по тому, что отвечалось; это явствует из характерных мелочей, содержащихся в документах, из того, что не только Неккер, но и министр двора получали донесения от королевского прокурора суда Шатле о том, как подвигается следствие, из беспокойного напоминания начальника полиции де Кроня следователю Гюйону, отправлявшемуся допрашивать раненых, чтобы их ни в каком случае не выпускали [43], из просьбы сейчас же после допроса заехать к нему сообщить о результатах и т. д.
Повторяем: если все эти документы, являющиеся первоисточниками для изучения дела, что-нибудь вполне ясно и непререкаемо устанавливают, то именно полнейшую непричастность правительственных лиц к возбуждению мятежа 27–28 апреля. Начиная с суровой репрессии бунта, продолжая казнями подвернувшихся под руку людей, тщательными расспросами арестованных о зачинщиках и подстрекателях, осуждением на пожизненную каторгу людей, против которых не существовало никаких сколько-нибудь серьезных улик, власти все время обнаруживали весьма много жестокости и презрения к человеческой жизни, но ни малейшего стремления потушить дело, покрыть виновных, замести следы и т. д.
Особенно ярко это сказалось в сознательной тенденции возможно демонстративнее наказать виновных (или, точнее, обвиненных) и этим запугать беспокойное рабочее предместье. Как уже было сказано, казнь Пура и Жильбера 29 апреля, на другой день после восстания, так же как и казнь Мари, произведены были не только публично, но на самом месте беспорядков — у входа в Сент-Антуанское предместье. Прибавим, что наказание пятерых лиц, приговоренных к пожизненной каторге, произошло там же (одновременно с казнью Мари) и сопровождалось особой торжественностью — все они должны были принести так называемую amende honorable: еще до прибытия к Сент-Антуанским воротам, обвиненные — босые, с непокрытыми головами, в одним рубахах — были доставлены к церкви Нотр-Дам; здесь они, стоя на коленях, с зажженными факелами в руках, должны были каяться в своих прегрешениях, а затем их в позорной колеснице доставили к Сент-Антуанским воротам, где они были публично заклеймены раскаленным железом и прикованы за шею железными ошейниками к позорным столбам. Лишь после того, как они постояли около часа в таком положении, они были отвезены в тюрьму.
Вся подспудная сторона дела, насколько она открыта перед нами в тех официальных документах, которые были неизвестны современникам, все внешние факты, у всех перед глазами происходившие, — все это, повторяем, не дает ни малейших оснований усомниться в том, что мятеж 27–28 апреля явился и для Людовика XVI, и для Неккера, и для де Кроня, и для Безанваля, и для герцога Шатле, и для министра двора полной и неприятной неожиданностью, которая очень их встревожила и дольше их интересовала, нежели можно было бы думать, принимая во внимание другие события: ведь через неделю после разграбления Ревельона открылись Генеральные штаты и начался длительный конфликт между депутатами трех сословий. Но теперь нам нужно для полноты впечатления коснуться вопроса, как сами потерпевшие — Ревельон и Анрио — смотрели на постигшее их несчастье. Кого они обвиняли?
4
Если от протоколов допросов перейдем к показаниям самих пострадавших, то увидим, что и здесь нет никакой решительно путеводной нити, при помощи которой возможно было бы добраться до «подстрекателей» и «виновников» бунта. Оба пострадавшие, и Анрио, и Ревельон, решительно не понимая, откуда на них обрушилась такая беда, спустя несколько дней после события стали приписывать все случившееся проискам личных своих врагов и даже сделали попытку преследования их в судебном порядке. Но элементарнейшие правила исторической критики требуют отметить полнейшую несостоятельность и необоснованность обоих обвинений.
Анрио (относительно которого данных еще меньше, чем относительно Ревельона) подал 6 мая, значит, спустя восемь дней после разгрома, жалобу [44] на некоего столяра Мютеля (Mutel) и «других сообщников», причем прямо заявлял, что этот Мютель — главный виновник события [45]. Главное из этой жалобы перепечатано было самим Анрио и дополнено другими его соображениями в той брошюре, которую он выпустил тогда же [46]. Анрио пишет, что до своего разорения он был владельцем заведения для выделки селитры, где работали постоянно от 25 до 30 рабочих, с которыми он всегда был вполне гуманен. Но, пишет он дальше, «ужасные люди подняли народ, я не знаю, для какой цели и в каких видах. Что я могу утверждать и что объявил правосудию в жалобе, это то, что некий Мютель, рабочий столяр, которого я не знал, с которым я не состоял никогда ни в каких отношениях, встретился со мной за пять дней до моего несчастья в собрании, происходившем в округе Enfants trouvés, и вдруг стал меня оскорблять самым гневным образом, как только можно себе представить, а когда я попытался путем вопросов узнать причину его ярости, он ответил мне следующими замечательными словами: «Я имею столько денег, сколько хочу и когда хочу», и при этом звякал монетами, находившимися в кармане» (Анрио почему-то полагает, что это были монеты по 6 франков — «экю»). Вот и все. Анрио пишет, что и о нем был пущен слух, как и о Ревельоне, будто он тоже сказал, что рабочие могут жить на 15 су в день; и, сверх того, его столь же ложно обвинили, будто он назвал людей из народа, находившихся в собрании округа Enfants trouvés, — «canailles», но он даже не говорит, передано ли ему кем-нибудь, что именно Мютель пускал эти слухи. Конечно, намек на подкуп уже потому не выдерживает никакой критики, что не стал бы Мютель ни с того, ни с сего объяснять жертве своего гнева, что он гневается потому, что ему за это дали денег. Если Мютеля все-таки арестовали, то это только лишний раз доказывает, как властям самим хотелось непременно открыть подстрекателей и с какой готовностью они хватались за самый неосновательный донос. Правда, его сейчас же отпустили. Кроме этого указания, Анрио ровно ничего не мог сообщить властям и обществу, если не считать известия, что еще за два месяца до события какая-то служанка сказала ему и его жене, что в Сент-Антуанском предместье будет восстание и что рабочие этого предместья ожидают рабочих Сен-Марсельского предместья [47]. Нужно прибавить, что Анрио ничуть не жалуется на властей. Напротив, они дали ему убежище в опасные для него минуты — в Венсенском замке (Ревельон же спрятался в Бастилии); он обратился к правительству за материальной помощью, ибо разгром его совершенно разорил; он называет правительство справедливым и т. д.
Не больше пользы для выяснения дела принес и другой пострадавший — Ревельон. Так же как и Анрио, он счел долгом через несколько дней после разгрома своей мануфактуры и всего своего дома выпустить в свет брошюру для опровержения ложных слухов [48]. Здесь пока он еще не высказывает никаких определенных суждений о возможных подстрекателях. Он приводит факты из своей биографии, свидетельствующие, что он долгим и тяжелым трудом выбился из нищеты, начавши с положения простого рабочего; постепенно ему удалось завести собственную мастерскую для выделки высших сортов бумаги, где работали 10–12 человек; с течением времени его предприятие разрасталось, хотя ему и приходилось выдерживать борьбу с «соревнованием и деспотизмом» цехов, из коих то один, то другой обвиняли его в нарушении их прав и привилегий [49]. Наконец, заведение достигло высокой степени процветания, в нем работало регулярно более 300 рабочих, причем они получали от 25 до 100 су в день, а дети их (от 12 до 15 лет) тоже имели заработок от 8 до 15 су в день. С рабочими у него отношения были всегда прекрасные; ни один из них не принимал участия в грабеже, напротив, они бы защищали его, если бы были вооружены [50], — все произошло от неистовства толпы посторонних заведению людей. «Впрочем, говорю это очень искренно, я не сержусь на народ, несмотря на зло, которое он мне сделал; он был увлечен; но как преступны и достойны кары люди, которые довели его до этих ужасных эксцессов! Еще раз: я не знаю, или я не могу в точности сказать, какие нечистые уста вдохнули ярость в сердца всех этих несчастных, но я знаю, что искусно сеяли клеветы, которые их ввели в заблуждение; я знаю, что их постепенно разгорячали» и т. д.
Он «знает также, что им раздавали деньги», но не говорит, ни кто раздавал, ни откуда ему известен самый факт. Но он уж имел в виду лицо, на которое, как ему казалось, должно было пасть наибольшее подозрение: это был именно аббат Руа.
Подобно тому, как Анрио заподозрил Мютеля a priori, не имея ни малейших положительных доказательств, так и Ревельон, не располагая абсолютно никакими сведениями о поведении аббата Руа 27–28 апреля, заподозрил его единственно потому, что Руа был его врагом, и он тогда как раз вел против Руа судебный процесс. Самый процесс для нас тут не имеет никакого интереса [51]. Суть дела заключается в том, что аббат Руа, третьестепенный литератор, приступая к печатанию одного своего сочинения, взял в долг бумагу у Ревельона, но не только в срок не уплатил, а еще сделал попытку получить из кассы заведения Ревельона 7 тысяч ливров по векселю, который был Ревельоном признан подложным. Дело об этом подлоге производилось в суде Шатле, но еще не было решено, когда произошли события 27–28 апреля. Конечно, подозрения, за отсутствием вообще каких бы то ни было улик, обратились на аббата Руа, так как он находился во вражде с Ревельоном. 3 мая его арестовали, захватили по обыску его бумаги, но, продержав немного более недели, выпустили (12 мая), так как ничего решительно не могли против него установить. Арестован он был, как явствует из письма [52] де Кроня к министру двора (Вильдейлю), вследствие слухов, что он подстрекал толпу и раздавал деньги бунтующим. Доносившие боялись прямо указать на аббата Руа, дабы не нажить себе в его лице «неумолимого врага», и вот с целью освободить их от этого страха аббат и был арестован. То обстоятельство, что он был «секретарем и историографом» графа Артуа, конечно, не могло не способствовать усилению враждебных чувств к аббату среди той части публики, которая склонна была приписывать весь разгром 27–28 апреля проискам реакционной партии. На допросе [53] аббат показал, что он в дни восстания даже не был в Сент-Антуанском предместье, и вообще описал шаг за шагом все свое поведение за эти дни, ссылаясь на лиц, с которыми в эти дни встречался, с которыми ходил по улицам и т. д. (Между прочим, он и показал, что встретил несколько оборванцев, сопровождавших носилки с ранеными, и один из этих оборванцев просил у прохожих милостыню со словами: «ayez pitié de ce pauvre Tiers-Etat!»). Ни единой очной ставки с обвинителями не было сделано, ибо и обвинителей определенных не оказалось и ничего нельзя было противопоставить вполне ясным и детальным показаниям аббата Руа. Нечего и прибавлять, что ни один из арестованных ни одного слова об аббате Руа не поминал. Характерно, что прокурор, зная, что против Руа нет никаких данных, не хотел его выпустить слишком скоро, чтобы не раздражить публику. Вот что писал он Неккеру [54] через четыре дня после ареста аббата: «Ничего не открывается против аббата Руа, и до сих пор невозможно включить его в процесс. Вследствие этого те господа, которые работают над расследованием, и я — мы решили, что г. прево (Иль-де-Франса) не должен его допрашивать, потому что сейчас после допроса мы были бы принуждены его выпустить на свободу, что, быть может, произвело бы дурное впечатление среди публики». Эту формальность (допрос у прево) отложили, но в конце концов пришлось аббата выпустить.
Ревельон сам не решился печатно его обвинить в подстрекательстве, но он продолжал против него войну на другой почве. В середине мая он опубликовал вышеупомянутый «Mémoire» [55], в котором подробно изложил историю с подложным векселем, и этот «Мемуар» имел, по показанию очевидца Гарди [56], большой успех. (Надо, между прочим, заметить, что для человека, который внимательно прочтет этот «Мемуар», не может остаться никакого сомнения в том, что, действительно, аббат Руа желал получить деньги по подложному документу.) Дело в суде было двинуто, и в заседании 27 мая 1789 г. решено было снова арестовать аббата, но уже по обвинению в подлоге; аббат бежал в тот же день и скрылся без вести; но он писал против своих недругов, не осмеливаясь показаться.
Что эта темная личность, действительно, была не при чем в событиях 27–28 апреля, — это не подлежит ни малейшему сомнению. Но, чтобы уже покончить с этим вопросом, упомянем о трех брошюрах, выпущенных аббатом Руа уже после бегства и хранящихся в Национальной библиотеке. Одна из них направлена против действий властей, которые после его бегства арестовали его служанку и грубым обхождением и угрозами довели ее до самоубийства [57]. Для нас любопытнее всего тут подпись: «аббат Руа — гражданин, что бы ни говорили мои враги» [58]. Непременное желание прослыть «гражданином», а не приверженцем старого режима, еще яснее сказывается в другой брошюре, представляющей собой дополненное письмо, которое аббат Руа послал парижскому мэру Бальи спустя два с лишком месяца после своего бегства, — 5 августа 1789 г. Дело в том, что легенда о нем как об агенте придворной партии продолжала держаться, и вскоре после взятия Бастилии народ однажды чуть не повесил одного аббата, принявши его по ошибке за аббата Руа. Для Руа это происшествие было слишком зловещим, и вот с явной целью обезопасить себя от расправы в случае, если его убежище будет открыто, он и написал Бальи письмо, которое впоследствии напечатал [59]. Он жалуется тут на «гнусную клевету», будто он виновен в народном бунте против Ревельона, и говорит, что не знает даже, кто первый пустил ее в ход. Он жалуется на то, что в эпоху, когда эта клевета впервые была пущена, еще царил «министерский деспотизм» и министр двора Вильдейль заставил арестовать аббата. Он жалеет горько, что его допрос не был опубликован, ибо тогда он совершенно оправдался бы в глазах общества. Не успели, жалуется он, его выпустить из тюрьмы (12 мая), как уже через несколько дней (по уголовному обвинению — в подлоге) его велено было вновь арестовать… Довольно глухо изъясняясь относительно этого дела о подлоге, аббат спешит перейти к тому, что это обвинение «отравило» торжество его невинности. Горько жалуется он на то, что народ готов был убить всякого, кого примет за аббата Руа, и он просит Бальи и столичную коммуну помочь ему оправдаться. Он с жаром описывает свою любовь к народу [60], к народной свободе и т. д. Далее он снова возвращается к обвинению в подлоге и заявляет, что «если документ был ложен, то я был обманут», но, впрочем, спешит он опять заявить, «это — дело частного лица против частного лица, оно не имеет ничего общего ни с волнением (27–28 апреля), ни с народом». Все это путаное и слезливое прошение испуганного человека кончается принесением присяги в верности конституции, причем аббат заявляет, что подписывает ее своей кровью.
Наконец, третья брошюра аббата Руа [61] посвящена опровержению обидных для него толков прессы. В газете «Les révolutions de Paris» его называли «тайным агентом аристократов, одним из главных орудий народного волнения в Сент-Антуанском предместье». Он громко жалуется на это, опять напоминает о «министерском деспотизме», благодаря коему он невинно пострадал, просидевши несколько дней в тюрьме без всяких улик. Он полагает также, будто его и арестовали только потому, что как раз в это время печаталась его брошюра о свободе прессы и власти хотели прервать печатание (мы видели, что арестовали его единственно вследствие слухов об его участии в восстании, — правда, действительно, без всяких оснований, но в официальной переписке никаких упоминаний о названной брошюре нет). Все 26 страниц разбираемого произведения («La vérité dévoilée») наполнены ламентациями о несправедливости обвинений против него и полемикой против журналистов, которые, правда, всегда вскользь, но всегда недружелюбно поминали его имя.
Весь эпизод с аббатом Руа может привести исследователя к одному неопровержимому заключению: ни от чьего-либо имени, ни за собственный риск и страх аббат Руа не действовал 27–28 апреля и вообще ни прямого, ни косвенного отношения к бунту не имел; против него точно так же нет и тени улик, как против Мютеля, обвиненного другим пострадавшим — Анрио.
* * *
Народные представители, собравшиеся в Версале спустя несколько дней после этих кровавых событий, даже и не поднимали речи ни о бунте, ни об его кровавом усмирении. Стихийный порыв нервного напряжения голодающей массы как будто привел в недоумение буржуазию, всецело занятую начавшейся борьбой со старым режимом, и если не испугал, то и не заинтересовал ее. Общественное мнение могло еще выражаться и в брошюрах, массами появлявшихся тогда в свет. Брошюрная литература, относящаяся к событиям 27–28 апреля, до крайности скудна, но в ней там и сям делается попытка вскрыть истинную сущность этого движения, его стихийность, внезапность, случайность в выборе жертв, тесную зависимость от ужасающих продовольственных условий. Правда, и тут есть поиски несуществующих «виновников» и «подстрекателей», но эта непоследовательность — вполне в духе исторической эпохи.
5
Прежде всего заметим, что за все те годы революции, когда еще совершались массовые движения, от начала ее вплоть до народных демонстраций конца мая и начала июня 1793 г., решивших участь жирондистов, ни единое из этих движений не прошло без того, чтобы не возникали слухи и обвинения тех или иных лиц в подкупе, тайных махинациях, коварных подстрекательствах и т. д. Ни единого исключения в этом смысле за все время великой революции не было. Бурные сборища в Пале-Рояле в июне и июле 1789 г. объяснялись подкупом и происками герцога Орлеанского, взятие Бастилии — теми же происками, интригами приверженцев Неккера и таинственными агитаторами, которые будто бы сейчас, после взятия Бастилии, отправились по деревням и стали подстрекать крестьян к нападению на замки; возмущение 5–6 октября — интригами Лафайета, герцога Орлеанского; самый голод, недостаток хлеба — махинациями двора и аристократов; манифестация 17 июля 1791 г., кончившаяся расстрелом манифестантов, вторжение толпы в Тюльери 20 июня 1792 г., взятие дворца 10 августа того же года и т. д. — все эти события вызывали апокрифические сказания, исходившие из среды партии, которая потерпела в данном случае поражение и обвиняла в своем несчастии интриги, коварство и золото своих врагов. Стихийный характер массовых вспышек еще меньше понимался и принимался во внимание, нежели теперь. В XVIII столетии почва для процветания подобных сознательных и бессознательных выдумок была весьма благоприятна. Ведь точно так же искали мнимых и коварных подстрекателей и в другом случае, аналогичном по существу, происшедшем осенью (21 октября) того же 1789 года: толпа, доведенная до исступления голодом, убила булочника Франсуа без всякой вины с его стороны. Тотчас же было провозглашено военное положение, и на другой день один арестованный был повешен (носильщик Блен); в тот же день был повешен и поденщик Мишель Адриан за «возбуждение к восстанию» и за приглашение, обращенное к прохожим, собраться в Сен-Марсельском предместье [62]. Сейчас же поднялись совершенно голословные и явно фантастические обвинения против двора и аристократов, которые, будто бы, нарочно подговорили убить булочника Франсуа, чтобы иметь случай прибегнуть к «тирании» и репрессии. «Жестокие аристократы, вы торжествуете!»— восклицал тогда автор одной брошюры [63]: «… вы не боитесь, что народ просветится насчет вашей гнусности и тайно обратит против вас золото и оружие, которое вы ему тайно доставляете, чтобы убивать ваших братьев?..» и т. д. «Я понимаю, подлые аристократы, я читаю в глубине вашей испорченной души, вы надеетесь, что, наконец, утомленные ужасами анархии (ибо нужно произнести это слово), мы захотим вновь подпасть под иго, из-под которого мы с таким трудом освободились?» [64]. И таких голосов раздалось несколько, и все это высказывалось в самых общих выражениях и туманных намеках, ибо даже тени основания эти подозрения не имели.
Итак, если исследователь припомнит только эту характерную черту всей политической атмосферы, царившей во времена французской революции, эту постоянную и наивную подозрительность, проявлявшуюся всегда по поводу массовых движений, то он будет подготовлен к тому, что разгром дома Ревельона не мог не вызвать предположений о скрытых за кулисами главных «авторах и виновниках» (auteurs et fauteurs) события.
Эти предположения и гипотезы, возникшие тотчас после беспорядков, развивались в двух направлениях: одни приверженцы старого строя и враги начинавшейся новой эры склонны были инсинуировать против «врага династии», герцога Орлеанского; другие, напротив, всецело преданные идее возрождения Франции, подозревали двор в желании путем возбуждения анархии запугать третье сословие и приостановить реформы. Представителем мнений первого типа является роялист Montjoie, редактор издававшегося позже органа «Ami du roi», отстаивавшего старый режим от покушений со стороны представителей третьего сословия.
«Я спрашивал некоторых из этих несчастных, которых таким образом несли, кого в госпитали, кого в тюрьмы, и у меня не осталось никакого сомнения, что им всем было заплачено и что такса равнялась 12 ливрам. Я слышал, как один, умирая в страшных мучениях, восклицал: «Боже, боже!.. нужно подвергаться этому за несчастных двенадцать франков!» Далее читаем, что утром этого ужасного дня герцог Орлеанский, отправлявшийся в Венсен, приказал остановить свою карету, проезжая мимо места сражения. Он вышел, обласкал нескольких из этих людей, похлопал их по плечу, увещевал их оставаться спокойными, вернуться по домам, забыть всякую обиду, если ее питали к Ревельону, и кончил словами: «Ну, дети мои, мир! Мы близки к счастью!». «Все эти разбойники много ему аплодировали, но не обратили никакого внимания на его советы. Вечером, перед началом боя, герцогиня Орлеанская, возвращавшаяся из Венсена, желала проехать сквозь толпу. Полк Royal-Cravate, который получил приказание не пропускать экипажей, хотел воспротивиться проезду принцессы. Бунтовщики ее узнали; они пустили в ход свои палки против солдат, пошли прямо к ней, эскортировали и почти несли на себе ее карету через толпу».
Роялистские круги, чуть не всю революцию, по крайней мере в первые месяцы, объяснявшие интригами Филиппа Орлеанского и изменой Неккера, конечно, должны были прочесть уже тут между строк то, что хотел сказать автор. Но Монжуа счел долгом еще подчеркнуть свою мысль в следующих выражениях [65]: «Между лицами, которые были обвинены в возбуждении этого восстания, следует заметить, что даже герцог Орлеанский не был пощажен. Сначала втихомолку, а потом громко говорили, что эта армия разбойников вдруг появилась вследствие его происков и его золота. Это мнение так распространилось, что принц был этим если не встревожен, то огорчен… Он наделал много шума, он возвестил публично, что будет требовать королевского правосудия против истинных виновников волнения; что он их объявит, что он донесет на них Генеральным штатам, чтобы их там судили, что он потребует для них строжайшего правосудия и, наконец, что он напечатает и обнародует это обвинение. Эти уверения никогда не осуществились» и т. д. Монжуа, отчасти, хотя более скрыто, инсинуирует и против Неккера, который, по его мнению, должен был бы показаться толпе и успокоить ее.
Но единомышленники Монжуа были в меньшинстве. По-видимому, гораздо более сочувственно встречались предположения другого типа, согласно коим виновников бунта нужно было непременно искать среди врагов третьего сословия; это не мешало гипотезам подобного типа быть столь же голословными и необоснованными. Для суждений этой категории характерно письмо либерального аббата Канильяка к Неккеру, написанное сейчас же после бунта. Аббат боится, что злонамеренные люди, возбуждающие чернь, могут оттолкнуть короля от готовящихся реформ, и он считает долгом уверить Неккера, что это «безумие» не заразительно [66].
Есть и брошюра, написанная в таком тоне. «Нет доброго гражданина, — читаем мы в этой брошюре [67], — который бы не оплакивал несчастий, случившихся 28 апреля в Сент-Антуанском предместье. И в то же время нет разумного человека, который не смотрел бы на обвинения, приводимые против гг. Ревельона и Анрио, как на простой предлог к взрыву, который готовился и которого страшились уже давно. Что достоверно, это, что те, которые обнаружили больше всего ярости и остервенения, были большей частью подкуплены и что большое количество рабочих различных профессий были принуждены — одни деньгами, другие силой — следовать за этой шайкой бешеных. Кому приписать столь отвратительный заговор? Враги парламента обвиняют в нем парламент, враги дворянства — дворянство, и враги духовенства — духовенство. Нужно предоставить судьям: добраться до источника столь гнусной интриги. Но что [следует] существенно усвоить, — так это то, что интрига могла вестись только из ненависти к третьему сословию и что третье сословие не могло быть автором этой интриги». Это ответ на указание аристократов, что некоторые из бунтовщиков спрашивали встречных, на стороне ли они третьего сословия или нет. Мы видели, что, действительно, этот вопрос раз предлагался; прибавим, что уже цитированый нами дворянский депутат Силлери писал сейчас же после событий 27–28 апреля: «Да здравствует король, да здравствует Неккер, да здравствует третье сословие — вот начало восстаний» [68]. Возражая на подобные указания, автор нашей брошюры говорит, что такие слова бунтовщиков к встречным были им «злостно внушены», чтобы вызвать нерасположение к третьему сословию [69], и обращает внимание на то, что ведь Ревельон и Анрио сами принадлежат к третьему сословию, — значит, оно невинно, а виновны его враги… Подобно подавляющему большинству не только современников, но и историков, писавших о революции, автор совершенно не хочет считаться с тем представлением, какое у голодающего населения Парижа составилось в первые месяцы революции о tiers-état. Под tiers-état понималась та благая сила, которая уничтожит «злоупотребления» (les abus), освободит доброго короля от власти аристократов и прежде всего прекратит дороговизну хлеба. Раздраженному воображению хронически голодавших людей на мгновение Ревельон и Анрио представились врагами народа, и в тот момент, как они, не помня себя, громили дома и падали под солдатскими пулями, им могло, в самом деле, казаться, что обожествляемый tiers-état на их стороне, так как они голодны и мстят за издевательство Ревельона над их голодом (ибо в то, что он, действительно, сказал фразу о достаточности 15 су в день, они твердо верили).
Автор другой брошюры того же типа, написанной в форме открытого письма королю [70], тоже говорит о «глухих слухах», приписывающих событие подкупу толпы со стороны своекорыстных привилегированных: он выражается еще туманнее предыдущего, который пересчитал всех врагов третьего сословия (парламент, дворянство и духовенство), и только упоминает, что «личный интерес» этих подстрекателей затронут грядущими реформами собрания. Тем не менее он, тоже вскользь, говорит и о «голоде, который, может быть, уже преследовал» этих несчастных, ставших орудием чужой интриги, и он просит короля обратить внимание на «душераздирающее положение, до которого дороговизна хлеба довела народ». Автор останавливается на другой стороне дела, которой и враги, и друзья третьего сословия, писавшие об этом деле, чрезвычайно мало интересовались: на суровости усмирения беспорядков. Он обвиняет лиц, блюдущих за общественным порядком, в недостатке бдительности и гуманности, вследствие чего погибло много невинных граждан. По его мнению, еще 27 апреля надо было принять меры, которые сделали бы невозможным дальнейшее. «Варварские начальники» усилили зло, выступивши против подданных короля, как против внешнего неприятеля. Полковник Шатле возбуждал солдат проливать кровь сограждан. Смерть поражала виновных и невинных. Двадцать домов подверглись обстрелу, земля была покрыта кровью и трупами, убит был и человек, спокойно сидевший у себя дома. «Государь, разве не возмутительно, что начальники ваших войск дошли до столь свирепых эксцессов!» Он даже боится смутить чувствительность короля [71] и в конце своего письма снова настаивает: «Да, государь, осмелюсь вам возвестить, дела дошли до крайности, крики слышны со всех сторон, стенания вашего народа обратятся в ярость, если доброта вашего величества не доставит ему быстрой помощи в его страданиях — понижением цен на хлеб, ибо, не сомневайтесь в этом, государь, дороговизне хлеба нужно приписать наши последние несчастия…»
К этому открытому письму присоединены примечания [72], в которых, между прочим, говорится, что доктор Эмбаль перевязал и лечил бесчисленное количество опасно раненных лиц (une infinité de personnes qui ont été dangereusement blessées), a также, что у одного садовника на улице Монтрейль (где разыгралось усмирение) было сложено 70 или 80 трупов. Вопрос о точной цифре убитых не решается имеющимися у нас данными. Командир одного из усмирявших полков (Безанваль) дает цифру 400–500 человек, но со слов шпионов, которые в свою очередь ссылаются на подслушанную фразу какого-то человека, принятого ими за «начальника» бунтовавших [73].
Есть, собственно, всего один официальный документ, в котором идет речь о числе убитых: 30 апреля комиссары отправились на кладбище (de la Tombe-Issoire), куда были перенесены убитые, и сосчитали их [74]. Оказалось всего 18 человек, из коих 12 были опознаны. Конечно, решительно нет у нас никаких оснований считать эту цифру сколько-нибудь достоверной, ибо мы не знаем, на какие еще кладбища или в какие еще места могли быть свезены трупы павших. В публике убитые исчислялись сотнями, большей частью от 200 до 500 человек, но истинная цифра остается абсолютно неизвестной, даже и приблизительно. Когда автор цитируемого открытого письма к королю говорит о 70–80 убитых, то он только указывает на тех, которые были положены у садовника в улице Монтрейль, и, следовательно, его показание точно так же не определяет всего количества убитых, как и вышеупомянутый официальный документ, ибо тоже относится лишь к одному пункту, куда могли быть снесены убитые.
Автор «Письма к королю» скорбит об убитых, но ничего не говорит о казненных уже после усмирения. Зато памяти казненных посвящена другая брошюра, написанная в форме обращения одного из повешенных к согражданам [75]. Это резкий протест против «подлых, несправедливых Пилатов», осудивших «несчастных людей» на смерть. Казненный отдал последний свой вздох «богу, отечеству и королю», он умер за отечество. И вот, он предстал перед подземными судьями — Миносом, Радамантом и Эаком, и Эак, докладывавший дело, сказал: «Тень, которую приводит к вам Меркурий, брошена в ад могущественной шайкой, которая держит в рабстве короля и империю франков. Однако, судьи, исполненные справедливости, я не могу от вас скрыть, что эта жертва совершила некоторые необдуманные и неосторожные поступки вследствие своей большой молодости». Дальше напоминается, что смуты и эксцессы, бывшие в прошлом (1788) году, «остались безнаказанными», а погибли «эти несчастные, осужденные на голодную смерть вследствие людоедской алчности коршунов Франции», которые скупают и укрывают хлеб. «Коммерсанты» уменьшают «гнусными маневрами» заработную плату и утверждают, что можно жить на немногое (тут явный намек на слова, которые будто бы сказал Ревельон). В империи франков теперь судят о вещах по внешности: например, дороговизна хлеба приписывается тому, что фермеры и земледельцы, боясь смут и волнений, не несут хлеб на рынок, а на самом деле именно это недоставление хлеба и есть причина всех народных волнений. «Если бы рынки были снабжены хлебом, все было бы спокойно…» Правда, созвали Генеральные штаты, «но только собственники и негоцианты выбраны депутатами», а все «поденщики, ремесленники, наемные люди и земледельцы, которые не собирают столько хлеба, чтобы существовать целый год, [не] выбраны, и никто из их класса не выбран. Но ведь все эти собственники, богатые земледельцы и негоцианты заинтересованы в том, чтобы поддержать дороговизну хлеба, припасов и ничтожные цены на рабочие руки; это союз, заключенный между ними, и они поклялись кровью несчастных не отступать от него». Класс нуждающихся — самый многочисленный, но своекорыстные люди тройной завесой мглы скрывают его от взоров монарха, хотя этот класс — единственный фундамент и базис королевского могущества. Если палачи или войска истребят 10 тысяч человек, то от этого уменьшится сила государства. Тень (казненного), продолжает Эак, виновна лишь в том, что участвовала в волнении, «прямая причина которого заключалась в дороговизне хлеба, а косвенная — в речи одного лица, для которого капли пота и крови рабочих были все равно, что перлы…»
«Когда недостает хлеба, то делаешь все, чтобы его иметь…» [76] Король добр, но, «к несчастью, пользуются добротой этого монарха, чтобы извращать перед ним истину» [77], так что и справедливое его действие в конце концов обращается в несправедливость. Конечно, восстание было неподходящим приемом, чтобы довести до сведения короля о бедственном своем положении. Нужно было с женами и детьми смиренно, «с веревками на шее» [78], пойти к дворцу короля и к собранию Генеральных штатов и просить короля о запрещении скупки и злоупотреблений в хлебной торговле и о ряде мер, имеющих целью удешевить хлеб (вроде смертной казни за вывоз хлеба). В дальнейшем изложении снова говорится как об ошибке бунтовщиков, что они «не привели прямой причины этого волнения, так что его другие извратили в глазах монарха» и сказали монарху, что «не чрезмерная цена хлеба и недостаток работы были причиной этого восстания», а только удовольствие сделать зло двум невинным гражданам; и, обманувши короля, исторгли у него жестокие приказания. Возвращаясь к своему плану — униженно просить короля о хлебе, автор, как бы пророчествуя или, вернее, давая программу действий, пишет, что необходимо петиционерам пойти — прямыми или обходными путями — в Версаль в возможно большем количестве и просить, короля «о хлебе или смерти» [79], броситься всем на колени и ждать королевской милости [80].
Тут мы совершенно ясно видим, до какой степени роковые для королевской власти дни 5 и 6 октября 1788 г. естественно подготовлялись всей совокупностью условий жизни простого народа в Париже в этом году и до какой степени для людей, действительно сочувствовавших голодающим, действительно желавших вникнуть в причины бунта, было ясно, что дело заключалось не в интригах чьих-либо, возбуждавших народ с тайными целями, и не в словах Ревельона (в которые автор верит, но которые называет cause indirecte), а только и исключительно в голоде, безработице, дороговизне и отсутствии хлеба. Вместе с тем в этой брошюре содержатся две мысли: первая, — что Генеральные штаты не помогут голодающим, ибо tiers-état представлено там исключительно зажиточными слоями населения, интересы которых противоположны и враждебны интересам рабочих и вообще неимущих; вторая, — что только мирной, но массовой манифестацией, непосредственным обращением парижского народа к королю возможно чего-нибудь достигнуть. Вторая мысль интересна для всякого, изучающего психологию позднейших событий 5–6 октября, первая же высказывалась — именно по поводу разгрома Ревельона — не одним только анонимом, написавшим разбираемую брошюру. Уже цитированный в первой главе де Море в самый день бунта, 28 апреля, написал Неккеру письмо [81], в котором прямо приписывает возмущение слишком высокому избирательному цензу (установленному, кстати сказать, только для одного Парижа). Он говорит, что возмущение, поднявшееся среди того слоя третьего сословия, который платит меньше 6 ливров налогов, может стать лишь прелюдией к общему восстанию этого «класса» (т. е. беднейшего слоя tiers-état). Этот класс, бесспорно, самый многочисленный в столице, самый полезный для государства. Этот слой третьего сословия обогащает своим трудом другой, богатейший класс того же третьего сословия, он составляет «душу торговли». Успокоить этих беднейших граждан можно, по мнению де Море, только давши им право выбирать своих представителей. Ибо ведь они — единственные граждане королевства, которые лишены своих представителей; те члены третьего сословия, платящие 6 и более ливров налога, имеют «другие и даже противоположные интересы», и потому не могут быть истинными представителями бедных: для более богатых «наибольший интерес заключается в том, чтобы держать тех (беднейших — Е. Т.) в зависимости и рабстве». Он убеждает Неккера испросить у короля для этого беднейшего слоя tiers-état права участия в выборах и тем самым восстановить среди «этого несчастного класса граждан порядок, доверие и общее спокойствие».
Мы видим, что де Море идет дальше анонима, писавшего о загробной жизни казненного. Аноним только обращал вообще внимание на то, что бедные лишены представительства в Генеральных штатах, а де Море приписывает самый бунт 27–28 апреля именно этому обстоятельству и прекращение волнений ставит в зависимость от дарования бедным гражданам избирательного права. Таковы его личные соображения о причинах бунта, ибо абсолютно ни единого слова, хотя бы даже отдаленно подтверждающего его мысль, в документах, относящихся к делу 27–28 апреля, нет, и в показаниях посторонних лиц тоже нет.
Проще смотрит на дело автор еще одной брошюры, порожденной ревельоновским делом [82]. Оплакивая происшедшие несчастья, автор объясняет это восстание — и другие — существованием несправедливостей в общественном строе и, стремясь держаться на теоретических высотах, оговаривается, что приведет пример, «не вполне» приложимый к данному моменту. После этих долгих подходов он говорит: «Дороговизна хлеба есть всегдашний предмет волнений: народ, несчастный даже во времена изобилия, еще более несчастен во времена недостатка хлеба. Этот класс лиц, живущих трудом рук своих, класс, участь которого всегда так печальна, испытывает в бедственные годы несчастие и от вздорожания предметов пищи и еще больше от уменьшения работы». Но пока люди приписывают эти беды одному лишь небу, они страдают молча. Когда же они начинают подозревать, что виновата алчность богачей и гнусных скупщиков, пользующихся трудными обстоятельствами, тогда они берутся за оружие, силе противопоставляется сила, и происходит кровопролитие. Виновны бунтующие, но еще более виновны те жестокие души (ces âmes d’airain), которые довели дело до эксцессов вследствие своей алчности, и законы, которые не карают и не обнаруживают истинных виновников общественных бедствий. «Граждане, смею уверить вас [83]: этих несчастных, с которыми вы обходитесь, как с бунтовщиками, легче успокоить, нежели это думают». Автор, переходя к событиям 27–28 апреля, говорит о «преступных и обидных» словах, будто бы сказанных Ревельоном, о мерах, какими можно было бы, по его мнению, избежать кровопролития, и т. д. Брошюра кончается также советом просить справедливости у самого короля, «столь нежного, столь чувствительного к бедам» народа.
Продовольственный кризис, свирепствовавший во многих областях Франции и, в частности, в Иль-де-Франсе в 1788 и 1789 гг., наложил яркую печать на все массовые движения первых месяцев революции. Страшная раздражительность, изумительно легкая возбудимость толпы в это время, болезненная подозрительность, готовая перейти в самое исступленное бешенство по первому поводу, который покажется подходящим, — все эти свойства в обостренной степени проявляются в 1789 г.; и мысли о хлебе, легенды о безжалостных богачах, которые будто бы скупают хлеб, а сами «смеются над страданиями голодающих», — вот что главенствовало в психологии парижской народной массы за все эти первые месяцы. Но эта масса еще не дошла до такой постановки вопроса, какую предложил цитированный де Море: она не протестовала против ценза, не поддержала немногих одиноких публицистов, возвысивших в это время в ее пользу свой голос, и вместе с тем весной 1789 г. ее революционное настроение еще не поднялось до той напряженности, чтобы последовать совету идти к королю; это случилось лишь пять месяцев спустя.
А пока эта повышенная нервность, болезненная подозрительность нашли себе исход в нападении на дома двух богатых людей, случайно ставших козлами отпущения без всякой вины со своей стороны. Но если толпа не повторяла этих отдельных соображений противоположности интересов между «богатым» и «бедным» слоями третьего сословия, то отсюда еще вовсе не следует, что люди, громившие Ревельона и Анрио, как полагает Тютэ, восстали для защиты «дела tiers-état». Оставляя в стороне показание Силлери, явно желавшего связать tiers-état с бунтом 27–28 апреля (по партийным соображениям, чтобы скомпрометировать tiers-état), — одно-два показания о том, что бунтовщики иной раз спрашивали встречавшихся, на стороне ли они tiers-état, совершенно не уполномочивают нас примкнуть к гипотезе Тютэ. Не только логически не вяжется роль бойцов за третье сословие с разорением двух членов этого третьего сословия, вышедших из рабочего класса, но и фактов, действительно способных подкрепить это мнение, нет. Это все нужно сказать, если понимать употребляемые Тютэ слова «la cause du tiers-état» так, как они теперь употребляются историками, пишущими о революции [84]: в смысле борьбы против привилегированных сословий, против тех юридических и политических сторон старого строя, которые мешали tiers-état занять в государстве место, подобающее его истинному социально-экономическому значению и культурному уровню. Но слова «Roi, monsieur Necker et le tiers-état» в эти первые месяцы 1789 г. в устах парижской бедноты означали нечто гораздо менее определенное и более лучезарное: эти слова означали ту благую силу, которая даст хлеб, накормит голодных, отрет слезы несчастных, — ей нужно только справиться с окружающими темными влияниями, с могущественными врагами народа. В этом смысле, повторяем то, что уже выше сказали, тем из бунтовавших, которые, идя громить Ревельона, кричали: «Vive le Roi, vive M. Necker, vive le tiers-état», действительно могло показаться, что они, мстя Ревельону за обиду, не делают ничего неприятного королю, Неккеру и третьему сословию. Другого лозунга, кроме [этих] слов, тогда, в апреле 1789 г., еще не было. Но если этот лозунг (и то далеко не всей толпой) и пускался иной раз в ход во время волнений 27–28 апреля, то самые волнения этим словесным лозунгом столь же мало могут быть объяснены, как, например, революционное выступление 5–6 октября 1789 г. — верноподданническим желанием народа видеть поближе, не в Версале, а в Тюльерийском дворце своего «отца» (по серьезному, а не по ироническому наименованию Людовика XVI в эти дни).
Разгром Ревельона и Анрио был первым судорожным сотрясением. Стихия подымалась, и как бы ощупью голодные массы искали приложения и выхода для раздражения, которое ощущали в себе. Но в течение всего 1789 г. там, где они действовали в самом деле заодно с tiers-état, они существенно помогали его победе; там, где действовали одни, они терпели неудачу. Ни плана, ни сил не хватало. И сил еще более не хватало, нежели плана; это, впрочем, уже показали события не 1789, а 1791 г.
Глава III
БЕЗРАБОТИЦА В 1789 году
Волнения в период после взятия Бастилии. Меры муниципалитета. Проекты борьбы с безработицей и с ее последствиями
1
Раздражение рабочей массы из-за дороговизны хлеба и безработицы в конце июня и в июле 1789 г. нашло временный исход в том протесте против привилегированных и против действий двора, который охватил широчайшие массы городского населения с буржуазией во главе и окончился нападением на Бастилию. Но когда после 14 июля общая волна как бы сразу упала, это раздражение голодающих продолжало давать себя чувствовать и стало даже особенно заметно именно потому, что проявлялось на фоне ликований и надежд, охвативших друзей нового режима из других классов общества.
Только что организовавшийся парижский муниципалитет должен был сразу же с этим явлением считаться. Уже 21 июля дело дошло до очень серьезной манифестации. Во время заседания муниципалитету было доложено, что собралась толпа, требующая уменьшения цен на предметы первой необходимости. Протокол заседания говорит нам, что, с одной стороны, собралась и все увеличивалась толпа перед зданием ратуши, а с другой, — явилась «многолюдная депутация» от рабочих кварталов — Сент-Антуанского и Сен-Марсельского. Высказано было (восторжествовавшее в конце концов) мнение, что «сопротивляться в такой момент, когда власть не действует, желаниям народа, который думает, что все, чего он хочет, справедливо», это значило бы играть на руку врагам революции [1] и погасить «священный огонь, который воспламеняет всех друзей свободы, завоеванной, быть может, самым нуждающимся классом». Эти слова весьма полно характеризуют тогдашнее настроение представителей только что победившего режима относительно «нуждающихся граждан, ремесленников без работы» [2] и т. п.: с одной стороны, еще слишком живо было воспоминание о той громадной роли, которую эта «нуждающаяся масса» сыграла за неделю до того, а с другой стороны, в самом деле, старый режим был совершенно дезорганизован, — новая же власть еще работала над окончательной организацией только что созданной национальной гвардии. Толпу поэтому не разогнали, а дали ей разойтись по своей воле, и потом были обещаны меры против дороговизны хлеба и злоупотреблений булочников — наиболее непопулярной категории торговцев в эту эпоху.
Относительно же безработицы в виде немедленной помощи возможен оказался, по-видимому, лишь усиленный прием в благотворительные мастерские, открытые на Монмартре еще в мае правительством Людовика XVI для помощи безработным, а кризис свирепствовал во всю силу. Все показания, идущие как от друзей, так и от врагов революции, сходятся на признании того факта, что 1789 год (и особенно с весны) был годом бедственным для промышленности и торговли. Ремесленные заведения закрывались, другие сокращали наполовину, а иной раз и больше, штат служащих. «Недостаточная деятельность в торговле и ремеслах, затруднения в финансах, необеспеченность частных капиталов и особенно недостаток доброй воли и доверия со стороны людей, сожалеющих о прежних злоупотреблениях, которыми они одни пользовались, — все это соединилось, чтобы отнять (у рабочих и ремесленников) средства и даже надежду обеспечить свое существование работой. Нищета, этот бич общества, который является результатом и карой дурного управления, — вот что было в момент революции единственным ресурсом, остававшимся еще безработным рабочим», — говорит один современник событий [3], и эти резюмирующие слова единогласно подтверждаются всеми другими показаниями. Торговый и промышленный кризис свирепствовал уже в 1788 г., и промышленные круги приписывали его тогда главным образом невыгодному для целой массы отраслей индустрии торговому договору с Англией (1786 г.). Революция повлияла на сокращение количества звонкой монеты, нанесла сначала удар частному и государственному кредиту, наконец, неурожайный год уже с зимы 1788/89 г. гнал и гнал непрерывным потоком в Париж бездомные и голодные массы, которые устремлялись в столицу только вследствие полнейшей невозможности найти хоть какой-нибудь заработок в деревне. Начавшаяся летом эмиграция выбросила на улицу безработных новой категории — домашнюю прислугу, и, кроме того, бесспорно, индустрия, занятая предметами роскоши, довольно сильно пострадала от эмиграции, хотя современники страшно преувеличивали и обобщали это явление, — и делали это не только контрреволюционеры, которые со злорадством обвиняли революцию в разорении рабочего класса, но и искренние друзья нового режима, доходившие (еще перед взятием Бастилии) до требования суровых наказаний для всех покидающих Париж, и именно ради борьбы с безработицей [4]. В дальнейшем изложении общая картина кризиса будет становиться постепенно все полнее и полнее, ибо это фон, на котором развертываются описываемые тут явления и возникают анализируемые тенденции и идеи. Уже наперед скажем, что кризис этот в 1789 г. представляется несравненно более сильным, нежели в 1790 г., и, особенно, нежели в 1791 г., особенно если, соблюдая хронологические рамки предлагаемой пока работы, оставить вне поля зрения последние месяцы 1791 г.
Но 1789 год был необычайно тяжел. «Вот до чего мы теперь дошли, — жаловался в середине августа видный журналист революционного лагеря Лустало в своей газете, — мануфактуры приостановили работу, так как купец потерял покупателей», богач нанимает меньше слуг, на которых он смотрит, как на своих естественных врагов, должник легче уклоняется от своих обязательств, ибо суды бездействуют [5], и вообще «число нуждающихся… внезапно увеличилось до пугающих размеров». Газета Лустало была единственной, сколько-нибудь внимательно и серьезно следившей за рабочими волнениями, и нам придется еще не раз ее цитировать. Тревожный тон Лустало объясняется именно тем, что как раз, когда эти слова писались, в столице с беспокойством следили за брожением среди рабочих, не прекращавшимся в течение всего августа 1789 г.
В ночь на 4 августа последовала принципиальная отмена привилегий, и сейчас же «все поднялось против привилегии мастеров», против «тирании» цехов, как тогда часто выражались [6]. Сейчас увидим, что это свидетельство Бальи нуждается в поправках. Рабочие портняжного цеха, вступивши между собой в соглашение, потребовали увеличения заработной платы, а также воспрещения старьевщикам изготовлять новое платье, отказываясь в противном случае работать. Случилось это 18 августа (1789 г.). Мэр Бальи счел долгом вмешаться, призвал забастовщиков и пытался увещаниями подействовать на них; когда же они, невзирая на это, все-таки устроили сборище, причем собралось их около 3 тысяч человек [7], то Бальи обратился к начальнику национальной гвардии Лафайету, и перед вооруженной силой сборище рассеялось [8]. Тем не менее, по показанию Бальи, подтверждаемому и другими свидетелями, стачки и волнения рабочих еще и еще возобновлялись в этот период.
В тот же день, 18 августа, волновались не только портные, но и подмастерья парикмахеров. На Елисейских полях и на Луврской площади собрались толпы забастовщиков. Портные решили потребовать установления минимальной платы в 40 су за рабочий день, причем было постановлено «позорно изгнать» из своей корпорации нарушителей стачки. Парикмахеры же выставили, насколько можно судить по очень скудным данным, гораздо более скромные требования: они просто решили ничего не платить клерку бюро их цеха, который взимал с них большую плату при определении их на место [9]. Цехи были явно предназначены к скорому и полному уничтожению; немудрено, что поборы такого рода должны были теперь показаться невыносимыми. Патруль напал на сборище парикмахеров [10], которые оказали сопротивление, и один из них был ранен офицером. Тогда сборище — от полутора до двух тысяч человек — двинулось к ратуше, но войска их рассеяли, а депутация из 40 парикмахеров была пропущена в ратушу, где и подала петицию об увольнении клерка бюро. Что касается до портных, то к изложению фактов у Бальи надо еще добавить, что есть известие, будто в конце концов хозяева согласились исполнить требования рабочих, т. е. платить им по 40 су в день (вместо 30 су), и в случае поштучной оплаты — 6 ливров за полный костюм (вместо 3 ливров 10 су) [11]. Мало того, эта стачка портных для нас интересна своим двойственным характером: второе требование, выдвинутое стачечниками, заключалось в том, чтобы старьевщикам-лоскутникам было воспрещено изготовлять новые платья, так как они слишком дешево берут за это.
Первое требование есть типичное проявление борьбы представителей наемного труда с хозяевами предприятий, второе — выросло на почве представлений и понятий, вполне естественных после долгого господства цехового строя. Цехи фактически уже были сломаны и обессилены, и хотя юридически отмена их последовала лишь в марте 1791 г., но уже после взятия Бастилии все их бесчисленные жалобы на нарушение статутов, на незаконную конкуренцию и т. д. оставались совершенно без всякого действия. И рабочие там, где это было им нужно (как мы только что видели на примере парикмахеров), первые решительно боролись против пережитков цехового строя. Но в данном случае, по их мнению, их интересы совпали с интересами хозяев (т. е. владельцев портняжных мастерских), которым в высшей степени важно было устранить конкуренцию старьевщиков. И до какой степени второе требование, обращаемое к властям, было для хозяев существеннее, нежели первое требование, обращаемое к ним самими рабочими, явствует из того, что когда забастовщики решили отправить в ратушу депутацию с изложением своих требований, то из 20 лиц, участвовавших в ней, ровно половина, 10 человек, оказались хозяевами. По этому поводу единственная газета, внимательно следившая за стачками, высказала тогда же догадку, что хозяева сами как-то заинтересованы в этом движении [12]. В связи с этим, быть может, и стоит известие, будто хозяева согласились на удовлетворение первого требования — об увеличении заработной платы; они могли поставить это согласие в зависимость от того, чем окончится второе домогательство — о воспрещении старьевщикам изготовлять и продавать новое платье. Это второе домогательство ни к чему, конечно, не привело: оно слишком шло в разрез с общей политикой нового режима, направленной против всяких искусственных стеснений в области промышленности и торговли, и об этой просьбе уже цитированная нами газета говорила: «… elle heurte les opinions du jour» [13]. До конца августа портные не успокаивались окончательно, и уже ничего не слышно о готовности хозяев пойти на уступки по первому пункту.
Волновалась и домашняя прислуга. Уже первая эмиграционная волна хлынула из Франции, и тысячи слуг остались на улице. Требования прислуги уже обращались непосредственно к властям: они желали высылки из Парижа слуг-иностранцев, и прежде всего, савояров, главных конкурентов. Они даже просили (и это был первый случай с самого начала революции) позволения иметь свой устав и устраивать собрания, но муниципалитет наотрез им в этом отказал, ссылаясь на закон, и грозил уже наперед употребить силу для того, чтобы рассеять подобные сборища.
Но больше всего беспокойств причиняли рабочие благотворительных мастерских, главным образом на Монмартре. Самые фантастические (и враждебные рабочим) слухи распространялись по городу. В одном печатном листке, очень встревожившем публику, указывалось на какую-то «мину», на какие-то редуты и фортификации, будто бы возводимые рабочими. Для успокоения общества собрание округа Пети-Сент-Антуан вынуждено было даже послать специальную комиссию, которая официально опровергла все эти выдумки [14].
Но были факты, которые опровергнуть нельзя было: в конце июля часть монмартрских рабочих рассыпалась по окрестностям Парижа и совершала там кражи и порчу хлеба. Они были вооружены, и власти должны были выслать против них отряд гвардии с кавалерией [15].
31 июля около 120 монмартрских рабочих были изловлены солдатами в окрестностях Парижа [16] и доставлены в тюрьму; их обвиняли в краже плодов урожая.
В середине августа (1789 г.) на Монмартре числилось около 16 тысяч рабочих, занятых работами в благотворительных мастерских, а к концу этого же месяца — около 22 тысяч (см. «Rapport de I. В. Edme Plaisant», publié par Tuetey, стр. 16). Они получали 20 су в день; правда, работы в действительности, судя по многим показаниям, было мало и не на всех хватало, но, с другой стороны, на 20 су все-таки прожить было чрезвычайно трудно, особенно если принять во внимание, что в праздничные дни или когда почему-либо работ не было плата не производилась. Приблизительно около 10 августа собрание представителей города Парижа решило было еще уменьшить заработную плату рабочим. Жорес в своей «Histoire de la Constituante» (т. I, стр. 312) говорит совершенно неправильно: «Они (представители — Е. Т.) не замедлили понизить уровень платы, жалуясь на огромность расходов, которые тяготели над городом. И, наконец, они дали приказ рабочим Монмартра рассеяться». Читатель может подумать, что в самом деле решение о понижении платы было осуществлено, тогда как ничего подобного не было. Жорес в своей «Истории», к сожалению, нигде не делает ни единой ссылки, не ссылается и тут ни на какое свидетельство; впрочем, тут и ссылаться ни на что он бы не мог: постановление о понижении платы было так поспешно взято назад, что даже и следов его не осталось в бумагах парижской городской коммуны, и о самом существовании подобного намерения мы узнаем из двух источников, которые оба говорят об отмене этого решения. Первое свидетельство содержится в протоколе заседания муниципалитета от 13 августа 1789 г. [17]
«По представлению, сделанному Собранию, что есть опасность в осуществлении без приготовлений постановления, принятого им, об уменьшении поденной платы рабочим монмартрских мастерских, Собрание, уведомленное о брожении, которое возбудило это постановление, сочло, что долг его — поступиться экономией ради мира, и решило, что на несколько дней будет отложено исполнение постановления и рабочих будут рассчитывать по ценам, которые раньше им были даваемы». А другое свидетельство, показание Бальи [18], подтверждая, что постановление не было исполнено, еще более подчеркивает мотивы этого и ясно говорит, что вопрос о роспуске монмартрской «мастерской» (или, вернее, скопления на Монмартре массы рабочих, занятых земляными работами) был уже предрешен: «Собрание, не знаю, каким образом, приняло решение об уменьшении цен за рабочий день. Это постановление вызвало большое брожение. В этом действии было мало экономии и была большая неполитичность (une grande impolitique). Не следует мучить людей, которых собираешься удалить; не следует рисковать волновать тех, которых удаляют из-за страха восстаний». Собрание принуждено было взять назад это решение.
Итак, Бальи, уже решившись все равно покончить с монмартрским скоплением, считал, как он выражается, «неполитичным» раздражать рабочих преждевременно. Заметим, что и потом, когда с монмартрскими рабочими было покончено, плата в благотворительных мастерских все-таки понижена не была: 20 су, платившиеся большинству (лишь немногие получали 25 и 30 су), особенно при дороговизне всех предметов первой необходимости в 1789 г., были и без того явно ниже минимума, нужного для поддержания рабочего даже без семьи. Минимальная плата в частных предприятиях в огромном большинстве промыслов была в это время равна 30–35 су.
Но волнений на Монмартре избежать все равно не удалось.
15 и 16 августа (в субботу и воскресенье) работ не было, и рабочим было объявлено, что они ничего за два дня не получат. Тогда рабочие стали грозить, что они сожгут ратушу. Было дано знать Лафайету, и он с небольшим отрядом явился на Монмартр. «Рабочие, уведомленные о его прибытии, пошли навстречу генералу с цветами, чтобы предложить их ему» [19], — читаем в самом обстоятельном из дошедших до нас известий об этом событии. Лафайет увещевал их не нарушать своего долга и так далее и сказал в заключение, что кому из них угодно отправиться из Парижа на родину, те получат вспомоществование по 3 су за каждое лье пути, так что они должны либо приняться опять за работу, либо отправляться. «Эти слова, — пишет тот же современник, — произнесенные тоном и с жестом победителя, удивили бунтовщиков; они покорились, и между ними меньше брожения; однако говорят, что они сильно беспокоят своих начальников» [20].
Мы видим, что эти «бунтовщики», встречавшие Лафайета с цветами, были тогда не столь уже страшны, как хотят представить некоторые источники [21]. Это же подтверждает и сам Бальи, которого никто не может заподозрить в излишней беспечности, доверчивости и в отсутствии подозрительности и опасливости относительно нуждающейся массы. Он говорит в своих записках, что «голос разума легко бывал услышан» в эти дни и успокаивать волнения удавалось: «слово отечество соединяло всегда честных людей, а слово закон наводило трепет на бунтовщиков» [22]. Тем не менее муниципалитет решил так или иначе покончить с беспокойным скоплением рабочих на Монмартре. То, что Лафайет, как мы видели, предлагал рабочим во время волнений, было решено муниципалитетом официально и уже в гораздо более императивных тонах: было постановлено, что рабочие благотворительных мастерских, не являющиеся уроженцами Парижа, должны покинуть эти мастерские, а если пожелают вернуться на родину, то им будет отпущено на путевые расходы единовременно 24 су и по 3 су за каждое лье, причем деньги эти будут им выдаваться частями, по этапам, властями тех мест, через которые они будут проходить; в мастерских же должны остаться лишь природные парижане [23]. Следует отметить, что этим мероприятием очень заинтересовался министр двора, который был озабочен тем, чтобы путешествие уходящих из Парижа рабочих совершалось не без присмотра [24].
Постановление муниципалитета состоялось 17 августа. Одновременно было решено с 31 августа закрыть монмартрскую мастерскую вовсе, а вместо нее открыть несколько отдельных мастерских. «Таким образом, — пишет мэр Бальи, — избавились от массы в 17 тысяч человек, которая была очень беспокойной» [25]. Был момент, когда очень сильно боялись бунта монмартрских рабочих [26] и заблаговременно были стянуты войска, и вообще «приняты были страшные предосторожности, чтобы закрыть эту мастерскую», — как писала газета Лустало и Прюдома. К Монмартру была доставлена артиллерия и явился добровольно «отборный отряд, составленный главным образом из тех, кто отличился при взятии Бастилии, под начальством Юлена» [27]. При таких условиях, разумеется, всякое сопротивление было бы безумием, и еще до назначенного срока постановление муниципалитета было приведено в исполнение. Рабочие беспрекословно сдали инструменты и орудия, попарно подходя к заведовавшим этим делом чиновникам. «Не произошло, — пишет очевидец, — ни малейшего беспорядка, даже не слышно было ропота; злые, преступные и опасные люди, несомненно, смешались с этой толпой несчастных. Но нужно было, чтобы те, которые так часто и так бесчеловечно утверждали, что в рабочих нужно стрелять картечью, видели их в этот момент; может быть, трогательное зрелище их глубокой нищеты и мудро оказываемых городом благодеяний тронуло бы их свирепую душу, если еще у них осталось сколько-нибудь чувствительности» [28].
В этом показании все характерно и дышит жизненной правдой. «Победители Бастилии», как называли товарищей Юлена, приходят добровольно на случай, если войскам понадобится помощь при усмирении рабочих, главная масса которых, но единодушному признанию современников (в том числе и самого муниципалитета), особенно и отличилась за шесть недель до того, и именно при взятии Бастилии, где тогда они сражались рядом с Юленом: расслоение tiers-état, как мы видим, само собой, решительно без всякого участия сознательной мысли со стороны рабочих, принимало порой довольно драматические внешние формы [29]. Далее, революционная газета, зная, что именно муниципалитет вызвал войска и артиллерию и что войска не стреляли только потому, что рабочие даже ропотом не посмели выразить своего неудовольствия, приглашает во имя «чувствительности» людей со «свирепой душой», желавших расстрела рабочих, умилиться благодеяниями муниципалитета по отношению к рабочим (т. е. выдачей вспомоществования для отъезда из Парижа на родину). С другой стороны, рабочие то вооруженными шайками бродят по окрестностям Парижа, ища добычи, то заявляют, что сожгут ратушу, если им не уплатят за два дня, и вместе с тем не пытаются даже в самой сдержанной и законной форме выразить свои чувства по поводу мероприятия, их постигшего [30]. Ни малейших следов сколько-нибудь планомерного поведения в данном случае у них не замечается. Нужно, впрочем, сказать, что в благотворительных мастерских состав был слишком пестрым и разнообразным. Тут были и профессиональные нищие, и подлинные рабочие, и слуги без места, и разоренные торговым кризисом хозяева мастерских, и купцы. «Я видел, — пишет Бальи [31], — купцов, лавочников, ювелиров, которые умоляли о милости — быть допущенными к работам по двадцати су за день». При такой разнохарактерности состава отсутствие какой-либо объединяющей мысли и сплоченности в действиях рабочих отнюдь не может показаться удивительным, даже если забыть о более общих причинах.
Не одно только уничтожение монмартрской мастерской волновало муниципалитет в конце августа. Слуги, оставшиеся без места (о которых уже у нас шла речь), опять стали волноваться и собирались то возле Лувра, то около Пале-Рояля толпами, иной раз доходившими до трех тысяч человек. Они упорно продолжали требовать высылки из Парижа савояров и других иностранцев, находящихся в услужении. «Несправедливо, — говорили они [32], — чтобы мы умирали от голода за недостатком занятий и работы, в то время как иностранцы являются, чтобы собирать путем экономии большую часть звонкой монеты и вывозить ее потом в Италию; нас рассчитывают из домов, где мы служили, вследствие революции или мы покинули наших хозяев из-за того, что они — аристократы, или они нас рассчитали, так как знают наши патриотические чувства».
Тут желание уничтожить часть конкурентов принимает ясно выраженный характер ксенофобии [33]. Читатель заметит, что слуги ни с того, ни с сего говорят о звонкой монете, будто бы увозимой савоярами из Франции: дело в том, что финансовые затруднения обступали новый режим со всех сторон, запасы звонкой монеты уменьшались не по дням, а по часам, выпуск ассигнаций уже стоял на очереди, и петиционеры наивно думали заинтересовать власти этими общегосударственными соображениями о вреде савояров для французских финансов. Точно так же они не смеют или не считают политичным говорить о том, что уже если какой-нибудь категории работающего люда эмиграция знати повредила, то именно им, ибо это значило бы косвенно жаловаться на революцию; поэтому после указания на савояров они объясняют безработицу еще и несходством политических убеждений, из-за которого, якобы, господа отказали многим от места. Их требование вызвало принципиальный протест. Тот же Лустало (единственный публицист, уделявший серьезное внимание этому движению) заявлял по поводу домогательств слуг: «Когда требуют свободы, казалось бы, надлежало оставить также и конкуренцию. Что бы сказали слуги, если бы выслали всех тех, которые не из Парижа?» Он советует им бороться с савоярами дешевизной труда и этим заставить итальянских иммигрантов отказаться от профессии, которая будет слишком мало им приносить. Солдаты окружили и рассеяли сборище, бывшее 27 августа, арестовали оратора, пытавшегося говорить. Требование слуг исполнено не было.
Не успели покончить со слугами, как (в последних же числах августа) рабочие-башмачники устроили сборище на Елисейских полях, и после соответствующих речей было решено не делать обуви ниже известных цен, нарушители же этого условия должны быть изгнаны («exclus du royaume»). Кроме того, был выбран комитет, который должен был путем сборов с участников этого соглашения помогать безработным товарищам. Не совсем успокаивались и портные, несмотря на упомянутое одинокое известие об уступках, сделанных хозяевами. Что касается хозяев-башмачников, то они прямо обратились за помощью к муниципальным властям.
Тон муниципалитета стал тогда делаться все решительнее и решительнее. Это можно проследить по протоколам его заседаний. Мы видели, как мягко отнеслись городские власти к брожению, проявившемуся в июле, в первые дни после взятия Бастилии. Но уже 7 августа собрание представителей города Парижа вынесло резолюцию, в которой протестовало против сборищ и приглашало власти городских округов в точности наблюдать за сохранением порядка и тотчас же прекращать сборища всякого рода [34]; такого же рода инструкция была дана главноначальствующему национальной гвардией. 10 августа Национальное собрание постановило, что муниципалитетам поручено поддерживать порядок, призывать войска, арестовывать нарушителей спокойствия, и 14 августа был опубликован соответствующий ордонанс. Уже 15 числа парижский муниципалитет подтвердил [35] свое распоряжение против сборищ и прибавил, что он не будет принимать никаких депутаций, кроме тех, которые являются от городских округов и законно установленных корпораций. 21 августа под непосредственным впечатлением новых сборищ портных и парикмахеров, а также волнений на Монмартре «комитет полиции» парижского муниципального управления опубликовал новое решительное воспрещение собираться под каким бы то ни было предлогом, причем зачинщики таких сборищ объявлялись «бунтовщиками и нарушителями общественного спокойствия», и всем виновникам грозил немедленный и упрощенный (так называемый превотальный) суд [36].
Непрекращавшиеся и после того волнения заставили мэра обратиться с циркулярным письмом ко всем членам собраний городских округов, ибо именно эти собрания должны были, каждое в своем участке, заведовать полицейскими мероприятиями и заботиться о поддержании порядка. Бальи настаивает, что нужно опять «собрать власть», восстановить надзор, «сдержать, ограничить и сохранить законом завоеванную свободу». Он предупреждает о возможности анархии и беспорядках в предстоящую зиму, если до тех пор не выработать окончательно муниципальную организацию и не снабдить ее внушительной силой [37]. Когда же, как сказано, хозяева-башмачники обратились к муниципалитету по поводу «восстания большого числа их рабочих» [38], то собрание поручило Лафайету принять все меры к прекращению собраний рабочих-башмачников и к предупреждению всяких действий с их стороны, вредных для общественного спокойствия. Наконец, не довольствуясь этим, муниципальная полиция стала уже прямо, не ожидая нарушения постановлений против собраний, вмешиваться в борьбу между служащими и хозяевами: так, когда служащие в аптеках фармацевты только выразили намерение собраться потолковать о своих делах, комитет полиции поспешил уже наперед воспретить им особым постановлением собраться «под каким бы то ни было предлогом», не получивши заранее позволения, и это объявление было приклеено к дверям всех аптек и аптекарской школы [39]. С середины сентября движение среди рабочих Парижа замирает и уже не слышно ни об их сборищах, ни о требованиях.
2
Как относились правящие круги буржуазии к описанным явлениям, мы видели из мероприятий муниципалитета. Нужно сказать, что, несмотря на то, что брожение не привело к сколько-нибудь серьезным беспорядкам, эти проявления рабочего движения до известной степени внушали тревогу. Вопрос о безработных породил даже некоторое возбуждение общественного мнения и вызвал несколько проектов, ибо наскоро придуманная мера — благотворительные мастерские — далеко не всех удовлетворяла по разным причинам. Разбираясь в этих проектах, мы нашли в них некоторые характерные черты, которые и приводим.
Прежде всего сказывается любопытная исторически выработавшаяся тенденция — вера в то, что государственная власть обязана вмешиваться во все явления экономической жизни и брать на себя устрояющую, эвдемонистическую роль. С этой тенденцией повел деятельную борьбу весь новый социальный строй, победивший именно в эпоху революции; но на первых порах эта тенденция еще сильно сказывалась. Даже в проекте, не касавшемся безработных, а относившемся исключительно к организации особого полицейского учреждения — охраны, автор счел нужным в числе других мотивов в пользу этого учреждения привести и такой: «тогда можно было бы знать число рабочих, которые работают, и тех, которым можно и должно достать работу» [40]. Еще яснее эта мысль проглядывает в наиболее популярном из всех интересующих нас тут проектов — в брошюре физиократа и сторонника Тюрго — Бонсерфа, сильно нашумевшего еще в 1776 г., когда он вооружался против феодальных прав. Эта брошюра впервые была напечатана в августе 1789 г., — в 1791 г. вышла уже восьмым изданием [41]. Успех брошюры сказался еще и в том участии, какое приняли в ней власти: в первый раз брошюра Бонсерфа была напечатана по приказанию округа Saint-Étienne du Mont, затем одно из следующих изданий было сделано по распоряжению Национального собрания, и дважды она была переиздана по распоряжению муниципалитета. Этот успех брошюры (хотя и не сопровождавшийся никакими реальными последствиями) заставляет нас с особенным вниманием выслушать суждения автора. Бонсерф, не обинуясь, ставит эпиграфом к своему произведению слова: «Les premiers créanciers de la nation sont les bras qui demandent de l’ouvrage et terre qui attend des bras». Первая часть фразы ясно показывает, что Бонсерф также считает общество обязанным давать занятие безработным. Эта мысль пояснена далее, где автор прямо признает, что общество должно доставлять пропитание всем нуждающимся, и выполнить этот свой долг может, давая обрабатывать земли [42]. Убежденный физиократ сказывается в упорном подчеркивании, что именно работами по расчистке и обработке земель, лежащих впусте, общество наиболее производительным образом займет праздные руки; человек только что восторжествовавшего лагеря буржуазии, принявшей в свои руки власть со всеми ее заботами, проглядывает в глубоком недоверии и беспокойстве, с которыми Бонсерф относится к рабочим массам, и прежде всего к безработным. «Нет безопасности там, где есть праздные люди», — говорит он и этим аргументом желает заставить осуществить свой проект.
Он указывает, что много рабочих (каменщиков, слесарей, плотников, чернорабочих) осталось без занятий, и их число все увеличивается. На благотворительные мастерские он нападает с ожесточением, совершенно не признавая за ними ничего хорошего: главный и основной недостаток их заключается в том, что подобная «политическая жалость» собирает в Париже огромные массы рабочих, а это представляет огромную опасность для порядка; Бонсерф уже наперед грозит столице «шестьюдесятью тысячами разбойников», тут же оговариваясь, что эта цифра еще не существует, правда, в действительности, но нужно помешать, иначе она будет достигнута; и не все рабочие еще «испорчены», но нужно помешать, чтобы они не испортились [43]. Предупреждая об ужасах, грозящих столице со стороны этих будущих разбойников, Бонсерф утверждает, что Париж уже находится в обстоятельствах, требующих поспешного образа действий, и предлагает отправить рабочих из благотворительных мастерских в провинцию на земляные работы, сначала где-нибудь поблизости от Парижа, чтобы «приучить» людей отказываться от пребывания в столице. Если слишком круто поступить, сразу отнявши у них надежду на возвращение, то это может оказаться опасным: со столькими испорченными людьми следует быть обходительнее [44]. Он надеется, что некоторые согласятся добровольно на этот перевод из столицы. Что же касается людей порочных (т. е. тех, которые склонны были бы не согласиться), то ведь после отъезда согласившихся товарищей они окажутся ослабленными в числе, и с ними возможно будет справиться силой: они потеряют уверенность в своих силах и в той слабости властей, которая только и поддерживает, по мнению Бонсерфа, благотворительные мастерские [45].
Это место брошюры Бонсерфа вводит нас в in medils res той общественной атмосферы, которая создалась под непосредственным впечатлением вышеуказанных проявлений беспокойного состояния рабочих. Автору же мерещатся разбойничьи полчища, ужасы и зверства и т. д. Историки, интересующиеся вопросом, почему революционное выступление 5–6 октября 1789 г. смутило и обеспокоило многих в тех кругах, которые, безусловно, ликовали еще 14 июля, почему так быстро после убийства булочника Франсуа (21 октября) был вотирован закон о военном положении, почему поведение национальной гвардии стало таким вызывающим относительно столичного простонародья осенью 1789 г., непременно должны обратить свое внимание на брошюру Бонсерфа (а прежде всего на явления, эту брошюру вызвавшие). Далее, необычайно характерно и то, что Бонсерф изъясняется так, как если бы ни один из рабочих благотворительных мастерских никоим образом не мог познакомиться с его брошюрой: ведь он откровеннейшим образом излагает целую стратагему относительно осторожного предварительного ослабления сил противника и т. д., и т. д. Это обстоятельство вскрывает такую прочную уверенность в малой сознательности врага, в его глухоте и слепоте, что уже это само по себе есть нечто такое, мимо чего историк не вправе пройти, не обративши внимания. Проект Бонсерфа был одобрен всеми собраниями округов Парижа, затем коммуной, которая отрядила специальную депутацию в Национальное собрание для того, чтобы его там поддерживать, но в конце концов дело затормозилось, и об этом плане мы больше ничего не слышим.
У физиократа Бонсерфа на первом плане — расширение площади земли, годной для обработки, и единственный почетный титул для монарха есть титул «земледельческого короля» [46]; во имя этой своей цели Бонсерф и стремится использовать рабочих, которых муниципалитету так желательно удалить из Парижа. Но для авторов других проектов главное дело — именно удаление беспокойной нищей массы из столицы, а куда именно эта масса денется — уже вопрос второстепенный. Один такой автор, Пультье, спрашивает себя с прискорбием, что притягивает в Париж эту огромную массу безработных? Он жалуется на страшное развитие нищенства в столице и настаивает, чтобы во имя безопасности обывателей власти выслали все эти «нищенствующие орды» в провинцию или нашли им занятие — какое бы то ни было [47]. Пультье уже наперед соглашается, что его советы слишком общи, но времени нет, «нужно избавить Париж и его окрестности от неудобных гостей» [48]. Из его изложения тоже явствует, что эти неудобные гости подразделялись, собственно, на три главные категории: «нищих» (les mendiants, les gens sans aveu и т. п.), слуг, лишившихся места, и безработных рабочих (ouvriers sans ateliers); автор предвидит, что к зиме число всех этих людей должно неминуемо увеличиться.
Отметим еще предложение некоего Будена [*5]. Это предложение [49] было заслушано в муниципальном комитете, который должен был заведовать бедными города Парижа (комитет еще только образовывался в октябре 1789 г., когда предложение было сделано). Буден пишет совсем в ином тоне, нежели другие авторы проектов. У него мы не видим гнева, не слышим призывов к строгости. Он находится под свежим впечатлением событий 5 и 6 октября и говорит: «Мы только что убедились, что ни пушками, ни многочисленной гвардией нельзя сдержать народ, нуждающийся в продовольствии», а зимой дело будет еще хуже, и он предлагает богатым содержать в течение 6 месяцев по одному бедному. «Я убежден, господа, — ядовито прибавляет Буден, — что в столице гораздо больше граждан, живущих в богатстве, нежели живущих в нужде; иначе первые не должны были бы терять ни одного мгновения, чтобы спасаться». Одна Вандомская площадь (богатейший квартал тогдашнего Парижа) могла бы прокормить и содержать всех бедных какого-нибудь округа, уверяет он. Он даже склонен думать, что и в чисто рабочих кварталах (Сент-Антуанском и Сен-Марсельском) найдется достаточно богатых, но, говорит, что, даже если он ошибается, то во всяком случае в остальных округах Парижа его план осуществим. Второй его проект, по-видимому (см. примечание [49]), говорит об устройстве благотворительных бюро, которые бы в каждом городском округе сосредоточивали все суммы, долженствующие взиматься в пользу бедных, а также настаивает на увеличении числа благотворительных мастерских (которые также в прежнем виде считает опасными). Он объединяет слова «les buraux et les atteliers» эпитетом «partiels» и даже подчеркивает это слово, а так как выше говорит о необходимости в каждом городском округе открыть по одному бюро, то можно думать, что он и благотворительные мастерские предлагает открыть во всех округах столицы. Он как бы предвидит возражение, что это обойдется слишком дорого, и усиленно пугает членов комитета грозной опасностью, висящей над ними, и настаивает, что нуждающимся нужно помочь во имя собственного своего интереса… «Если я дорожу моими идеями, — кончает он свой доклад, — то еще более я дорожу своим существованием, существованием своей жены, детей и сограждан».
Кто такой был сам Буден — из документа не видно; во всяком случае он заявляет, что получает доходы от своего места и от наследственного имущества 3 тысячи ливров, т. е. является человеком состоятельным.
Это предложение любопытно потому, что оно одиноко и по своему тону сочувствия беднякам и иронии относительно имущих классов, и содержанию; в остальных проектах речь идет о сокращении, а не усилении благотворительной деятельности города.
Несколько позднее, в 1790 г., эти проекты делаются значительно реже и окончательно принимают вполне определенный характер: авторы хотят бороться не с безработицей, а с безработными и прежде всего домогаются сокращения числа рабочих благотворительных мастерских. Монмартрское скопление рабочих было, как мы видели, уничтожено еще в конце августа 1789 г., но отдельные, распределенные по разным округам Парижа благотворительные мастерские все еще продолжали возбуждать неудовольствие и беспокойство имущих слоев, хотя нужно заметить, что власти после удачного и спокойного роспуска монмартрских рабочих уже вплоть до тревожной весны 1791 г. не обнаруживали, за вычетом очень редких моментов, преувеличенной нервности. Вот, например, лежащая пред нами брошюра [50], специально посвященная благотворительным мастерским. Автор доказывает, что в высшей степени опасно содержать толпу «неизвестных, недисциплинированных людей, которые ничего не делают». «Могут найтись между ними злонамеренные лица, способные до величайших эксцессов, и соблазнить других» [51]. Все граждане Парижа, уверяет автор, — самого дурного мнения об этих рабочих, жители окрестностей смотрят на них, как на разбойников. Начальники их боятся, говорят, что «нужна была бы армия, чтобы их сдерживать»; те из начальников, которые хотели было заставить их работать, чуть не были ими повешены. Заметим тут же, что ничего подобного попытке избиения начальников не было, и сам автор не верит этому и называет подобные утверждения «discours vagues et sans fondement», но тем не менее он требует бдительного надзора, изгнания беспокойных элементов из мастерских, а, главное, уничтожения злоупотреблений: он утверждает, что многие рабочие являются только на перекличку и затем, за получением платы, а на самом деле работают в частных мастерских, где и получают от своих хозяев две трети платы, остальная же треть получается ими от казны совершенно ни за что. Затем многие мелкие торговцы, уличные разносчики, не прекращая своей коммерции, тоже числятся в благотворительных мастерских. Если бы уничтожить все эти злоупотребления, то, по уверению автора, вместо 15–20 тысяч рабочих осталось всего 7–8 тысяч.
Другой аноним, тоже занимавшийся в 1790 г. этим вопросом [52], полагает, напротив, что если бы принимать всех нуждающихся в работе, то в благотворительных мастерских оказалось бы по крайней мере в шесть раз больше, нежели их пока числится. Но именно в этом он и видит опасность и неудобство этих учреждений, усматривает дальнейшее возрастание расходов на них и т. д. Самый принцип благотворительных мастерских он считает «безнравственным и неполитичным», но признает, что в первые моменты революции это было единственным средством помочь страдающим от безработицы и притом единственным средством «наблюдать за толпой индивидуумов, которых нищета могла бы ввергнуть в соблазн или отчаяние, и сдерживать эту толпу». Теперь же он предлагает открывать не благотворительные мастерские, а отдельные полезные общественные работы в больших размерах, устраивать дворцы, площади, оказывать вспомоществование промышленности и т. д. Как и во всех этих проектах, положительная часть тут несравненно расплывчивее и темнее, нежели часть критическая.
То, что он тут советует, до некоторой степени уже делалось тогда. Наряду с благотворительными мастерскими существовали общественные работы по снесению здания Бастилии, по перестройке церкви св. Женевьевы и т. п. Рассмотрим дошедшие до нас данные как о благотворительных мастерских, так и об этих отдельных работах, затевавшихся в эпоху Учредительного собрания с целью дать заработок безработным. Анализ этих данных, несмотря на их скудость, может привести к некоторым небезынтересным заключениям.
Глава IV
1. Устройство благотворительных мастерских. Отношение к ним муниципалитета. Нарекания против мастерских. 2. Уничтожение благотворительных мастерских. Доклад Ларошфуко-Лианкура. Петиции рабочих после закрытия мастерских. 3. Общественные работы. Работы по устройству празднества федерации. Работы в церкви св. Женевьевы. Работы в каменоломнях. Работы по разборке Бастилии. Закрытие работ по разборке Бастилии
1
Мы видели, что земляные работы на Монмартре, в Вожираре и Рельи были открыты еще в мае 1789 г., в момент величайшей нужды и безработицы, и уже до взятия Бастилии, в общем, было там тогда рабочих 12 тысяч человек; что в августе монмартрские работы были закрыты, а взамен был открыт целый ряд новых «мастерских», человек по двести и больше в каждой.
Мы уже заметили, что в августе они причиняли властям некоторое беспокойство. Подозрительное и беспокойное наблюдение за всей этой многотысячной массой было одной из характернейших черт муниципалитета эпохи Бальи. Конечно, нас не могут тут интересовать все подробности организации и канцелярской стороны дела в ведении этого предприятия, более всего характерного и интересного для нашей работы лишь с общей точки зрения отношения властей к вопросу о безработных. Это, заметим, единственная категория рабочих, относительно которой имеются изданные документы, и вот почему парижский муниципалитет около двадцати лет тому назад постановил издавать документы, касающиеся его собственной истории. В этом монументальном издании близкое участие принял Александр Тютэ, архивист Национальных архивов и автор превосходного многотомного указателя архивных документов, касающихся Парижа в эпоху революции. Тютэ и издал, между прочим, документы, касающиеся благотворительных мастерских [1]. Они имеют прямое отношение только к этому первому параграфу настоящей главы.
Он же издал и документы, касающиеся открытых муниципалитетом нескольких прядилен для бедных женщин и девочек. Но эти прядильни к нашей теме абсолютно никакого отношения не имеют: они относятся исключительно к истории вспоможения бедным во Франции. Как на единственный образчик влияния беспокойного настроения мужских благотворительных мастерских на эти прядильные богадельни можем указать на билет, отнятый у одной уволенной женщины за попытку «возмутить» подруг и заставить их требовать, подобно мужчинам, прибавки, причем уволенная говорила, что они добились бы своего, если бы нашлось двенадцать таких, как она (этот курьезный документ печатаем в приложении к настоящей книге под номером XX; в издании Тютэ его нет).
Остановимся на наиболее характерных фактах, которые можно отметить в недолгой истории благотворительных мастерских. Беспокоился не один Бальи. Через месяц уже после своего насильственного переезда в Париж король приказал министру двора узнать в точности о дальнейшем будущем этих учреждений. «Справедливое беспокойство, monsieur, внушаемое королю большим количеством людей, живущих в столице и, как говорят, не находящих работы, — писал министр, — подало королю мысль, нельзя ли на будущее время устраивать работы в окрестностях Парижа или даже отправить их рыть канал в провинцию» [2]. Кроме беспокойства, эти установления внушали еще некоторой части общества раздражение: ходили слухи, что земляных работ в должном количестве нет, что записавшиеся получают даром свои 20 су в день. В ноябре 1789 г. муниципалитет издал строгий регламент, устанавливавший самый тщательный контроль за работами [3]; но слухи не прекращались, и год спустя, как увидим, пришлось издавать новый регламент, не менее строгий. Число рабочих все возрастало; зимой их прибавлялось иной раз по две тысячи сразу. Весной 1790 г. Бальи признавался [4], что муниципалитет «слишком обременен безработными и делает все зависящее, чтобы заставить их вернуться в свои провинции», и дает им для этого даже вспомоществование, но они злоупотребляют: берут эти деньги и возвращаются в Париж и даже приводят за собой других, тоже желающих поживиться. Если не прекратить наплыв, то «безопасность и спокойствие Парижа будут неминуемо скомпрометированы». Извещенный об этом министр двора сейчас же пишет всем интендантам, чтобы они приняли меры против этого угрожающего наплыва рабочих из провинции в Париж [5]. Но от репрессивных мер против безработных власти тогда удерживались вполне определенно [6]. В мае 1790 г., когда урожай стал выясняться, начался некоторый отлив, и около четырех тысяч паспортов, например, было выдано за несколько дней.
Любопытное двойственное отношение власти проявляется в это время относительно благотворительных мастерских; эта масса внушает тревогу, и вместе с тем не только не решаются уничтожить их, а напротив, поддерживают их, ассигнуя новые и новые, все бóльшие суммы.
Уже в мае 1790 г. комитет, специально занимавшийся расследованием по делам государственной безопасности, говорил о благотворительных мастерских, как о центре, где собирались, но проискам злонамеренных лиц, нужные им люди, на которых можно было бы рассчитывать [7]. Собрание нашло тогда необходимым уменьшить число рабочих этих мастерских, их насчитывалось в это время 11 800 человек по официальным данным: было постановлено не принимать более людей, не имеющих определенного места жительства в Париже, остальные же должны были быть высланы в провинцию, откуда они родом, или в [свою] страну, если они иностранцы [8]. Вместе с тем на каждый департамент было ассигновано по 30 тысяч ливров для устройства полезных работ. Этот декрет не был последовательно осуществлен, ибо муниципалитет, как это было впоследствии констатировано в Национальном собрании, «не имел уверенности в своей силе, боялся, что ее не будут признавать» [9], и в начале сентября (1790 г.) рабочих оказалось не меньше, а больше — именно 18 тысяч человек [10]. Число рабочих все возрастало. Впрочем, муниципалитет держался того мнения, что декрет Собрания от 30 мая и должен был неминуемо к этому привести, ибо безработные, жившие в Париже, имели право требовать себе работы. Под явным давлением муниципалитета Собрание изменило декрет от 30 мая в ограничительном смысле. 31 августа (1790 г.) Национальное собрание издало новый декрет, в котором уже чувствуется забота о том, как бы не затруднить частных предпринимателей приисканием рабочих, уже чувствуется некоторое улучшение в состоянии промышленности [11]. Четвертым пунктом этого декрета устанавливалось, что плата за труд в мастерских всегда должна быть ниже средней цены труда в данный момент. Лица, не живущие и не родившиеся в Париже, не могут быть допущены к работам. Но ничего не помогало. Уже в октябре 1790 г. рабочих было 19 тысяч человек. Муниципалитет, опять издавший 24 сентября 1790 г. специальный регламент для управления этими мастерскими, где точнейшим образом устанавливался контроль над рабочими, мотивировал этот поступок необходимостью уничтожить вкравшиеся злоупотребления и бороться с ленью и отсутствием субординации со стороны рабочих [12]. Регламент этот, как потом официально было констатировано, ни к каким результатам не привел. Ни земляных, ни других каких-либо работ в достаточном количестве не находилось, а в этих мастерских стали появляться даже люди, в работе не нуждавшиеся, но желавшие заручиться определенной субсидией, получаемой больше за видимость работы, нежели за работу. И вместе с тем, ни муниципалитет ни Собрание, несмотря на ропот и нарекания, которые будто бы раздавались в это время против мастерских со стороны «жителей столицы», не решались тогда сделать то, что им хотелось, т. е. уничтожить мастерские. Мало того: 16 декабря 1790 г. Национальное собрание ассигновало еще 15 миллионов на благотворительные мастерские в Париже и провинции, причем в тексте декрета говорится, что Собрание идет на этот шаг, чтобы уже в настоящее время нуждающийся класс пользовался всеми выгодами конституции. В зиму 1790/91 г. число рабочих доходило до 31 тысячи человек, а расходы — до 800 и даже до 900 тысяч ливров ежемесячно.
Но не только с точки зрения экономии существование этих мастерских становилось для властей все тягостнее.
Между мэром и начальством национальной гвардии происходила постоянная беспокойная переписка по поводу рабочих благотворительных мастерских. То приходилось посылать гвардейцев по просьбе двух соседних муниципалитетов — охранять виноградники, разоряемые этими рабочими [13], то нужно было пересылать солдат туда, куда безработные отправлялись на работу. Удалось, например, муниципалитету послать 3 тысячи рабочих в Жуаньи на работы по постройке бургонского канала; и сейчас же из Жуаньи власти просят прислать гарнизон для поддержания порядка, именно в виду этой присылки. Прослышал только муниципалитет города Бриенона, что туда хотят из Парижа прислать рабочих, и еще до их прибытия просит прислать отряд войска, чтобы их «сдерживать» [14]. Это все затрудняло, конечно, осуществление замыслов муниципалитета парижского, который только о том и мечтал, чтобы удалить из Парижа тревожившую его массу; с другой стороны, когда департамент Сены и Уазы ходатайствовал о постройке на казенный счет нужной ему дороги, то прежде всего он заявлял о том, что это даст заработок безработным и обезопасит eo ipso столицу [15]. Парижский муниципалитет отправляет своих рабочих в соседние города, получает оттуда жалобы и просьбы более не присылать и все-таки не перестает стремиться к уменьшению хоть таким путем численного состава мастерских. Усиливаются строгости формалистики; муниципальная администрация требует у секций точного выполнения всех требований, которые обязаны были исполнить секции при рекомендации безработных в благотворительные мастерские [16].
Между тем расходы все возрастали. В январе 1791 г. муниципалитет тратил на благотворительные мастерские 172 тысячи ливров в неделю; потом эти траты еще усилились и дошли до 900 тысяч ливров в месяц. Казначейство возмещало эти расходы из ассигнованных Национальным собранием сумм, но делало это уже с неохотой [17].
И вот тогда-то один из муниципальных чиновников, служивших по администрации этих мастерских, Смит, начал против них кампанию, подготовившую общество к их закрытию. Еще находясь на службе, он жаловался в официальной бумаге представителю финансового ведомства, что от рабочих благотворительных мастерских не требуется никакой работы, что многие из них только по субботам являются за получением жалованья, и он предлагал устроить для помощи безработным вместо этих будто бы производящихся земляных работ другие, более полезные. Это письмо сейчас же было переслано в комитет финансов Национального собрания, но до поры, до времени дело движения не получило. Тогда Смит выступил (уже в апреле того же 1791 г.) с мемуаром, направленным против мастерских, и этот мемуар был самим муниципалитетом переслан в комитет финансов; в то же время появилась в свет и брошюра Смита, повторявшая мысли мемуара иногда дословно или почти дословно, местами несколько в иных выражениях [18].
Эти мысли сводятся к следующему. Припоминая историю мастерских, Смит пишет, что когда в 1789 г. они были учреждены, то это было сделано затем, чтобы «помочь бедным и скрыть от глаз угнетающее зрелище нищеты». Но сейчас же он дополняет характеристику мотивов, вызвавших к жизни эти мастерские, и констатирует, что теперь, в 1791 г., дело изменилось: «для сохранения этих заведений, которые создала гуманность, мысль о которых была внушена, быть может, необходимостью дать занятие классу, среди коего стало замечаться некоторое беспокойство, и которые продолжал поддерживать временный муниципалитет в бурные тогдашние времена, — для сохранения этих заведений теперь уже нет тех оснований, какие их создали». Теперь, развивает он дальше свою мысль, настали времена более спокойные, теперь есть общественная сила, опирающаяся на закон («la force publique» — общепринятый тогда термин для обозначения вооруженной силы государства, войска, полиции, национальной гвардии), и поэтому стало возможным «остановить злоупотребления и сдержать насильственные действия, при помощи которых пожелали бы эти злоупотребления увековечить». Твердая уверенность в невозможности сопротивления со стороны рабочих высказывается Смитом прежде всего, а уже потом идут дальнейшие его советы; как человек, очень близко стоявший к делу, Смит понимал, конечно, что именно это опасение может скорее других удерживать власть от закрытия мастерских, и опровержение этого опасения являлось необходимейшей предпосылкой для дальнейшего. Переходя затем к злоупотреблениям, Смит опять говорит о безделье, о фиктивных работах и т. д., об опасности содержать в столице 30 тысяч рабочих этих мастерских; он впадает в некоторое противоречие тут со своими же словами, выше сказанными, о достаточности силы у властей, и советует вместо этих мастерских открыть определенные общественные работы, куда и брать нужное количество рабочих, и даже указывает на некоторые такие работы: постройка набережных и т. п.
Мемуар Смита произвел впечатление в комитете финансов [19]. Власти не только в эти первые месяцы 1791 г. явно чувствовали устойчивость своей позиции (и Смит едва ли им в этом отношении сообщил новость), не только по-прежнему хотели и сами как-нибудь ликвидировать это наследие бурного 1789 г., но явилось еще одно новое обстоятельство, которое и ускорило гибель мастерских.
14 апреля (1791 г.) началась стачка плотников, быстро распространившаяся. Об этой стачке, в конце концов явившейся непосредственным поводом к изданию закона Ле Шапелье, мы подробно говорим в главе V. Тут же нас интересует эта стачка по тому влиянию, которое она оказала на судьбу благотворительных мастерских. В разгаре стачки хозяева-плотники обратились к муниципалитету и к городским секциям с жалобой на рабочих, требовавших увеличения заработной платы, и 4 мая (1791 г.) секция Тампля постановила просить администрацию не допускать к работам в благотворительных мастерских рабочих строительных промыслов и уволить тех, которые уже туда допущены, причем это постановление было циркулярно сообщено в остальные 47 секций с просьбой, чтобы они и от себя ходатайствовали о том же. Этот факт лучше всего выяснил бы нам одну из основных целей декрета от 16 июня 1791 г., даже если бы доклад Ларошфуко-Лианкура до нас не дошел. Нужно было снабдить рынок труда новым человеческим материалом и ослабить стачку внезапным появлением на этом рынке нескольких десятков тысяч безработных, лишившихся муниципального пайка.
Муниципалитет от себя сделал кое-что сейчас же, уже в конце апреля, как увидим в конце этой главы, было постановлено уничтожить работы по разборке Бастилии, и в мае это постановление было приведено в исполнение. Но закрыть благотворительные мастерские могло лишь Национальное собрание [20].
А между тем общее брожение среди парижских рабочих (бывшее плодом стачки) начинало охватывать рабочих благотворительных мастерских. Муниципалитет попробовал было обратиться к излюбленному своему средству и отправить часть рабочих в провинцию, но директория департамента Ионны решительно запросила войска для наблюдения за рабочими, ибо они внушали «живое беспокойство» директории, а до тех пор просила рабочих не посылать. Очутившись между двух огней, мэр Бальи просил убедительно военного министра послать нужный отряд, ибо «парижский муниципалитет был бы в очень большом затруднении, если бы он принужден был дольше держать у себя рабочих, отсылку которых он должен был бы (в таком случае) отложить» [21].
Переписка Бальи с генерал-майором национальной гвардии Гувионом, относящаяся к этим тревожным дням, весьма характерна [22] и показывает, что муниципалитет со дня на день ждал беспорядков. 15 мая он пишет Гувиону, что «дух восстания» парит среди рабочих уничтоженных общественных работ (т. е. Бастилии) и что стекольной мануфактуре грозит опасность. Через три дня (18 мая) он опять повторяет просьбу принять меры, а также просит распорядиться относительно охраны двух лиц, которым грозят рабочие. Письмо кончается еще указанием на необходимость поставить стражу у дома кордельеров в случае сборища в том месте. В тот же день Гувион отвечает Бальи, что меры будут приняты. Он глухо выражает большое свое сожаление, что злонамеренные смущают народ, пользуясь «популярным предлогом» [23]. Через два дня (20 мая) Бальи опять пишет Гувиону, что «всеми средствами стремятся взволновать и возмутить рабочих и что в общем есть брожение между рабочими (благотворительных — E. Т.) мастерских и рабочими частных мануфактур» и необходим надзор. Гувион сейчас же спрашивает мэра, на какие именно благотворительные мастерские нужно обратить внимание, ибо они разбросаны по Парижу и нужно приготовить много сил, чтобы наблюдать за каждой. Если же ему укажут те, относительно которых администрация питает опасения, то можно было бы отвечать за спокойствие. Не получив сейчас же ответа, Гувион в тот же день опять повторяет ту же просьбу и просит сообщить ему требуемые сведения до 11 часов вечера, чтобы он успел послать приказания. В 11 часов вечера (как и помечен ответ) Бальи пишет Гувиону, что получил тревожные сведения, и если они окажутся основательными, то через час даст знать. «Не ложитесь, если уже вы не захотите, что еще лучше, приехать ко мне», — так кончается тревожная записочка. Слухи, как сообщает на следующий день Бальи, не оправдались, и тем не менее он просит «в особенности сегодня вечером» (т. е. 21 мая) охранять городскую ратушу пехотой и кавалерией в достаточном количестве, а также послать по Парижу патрули. Гувион извещает, что все это будет сделано, а затем спрашивает, правдив ли слух, будто рабочих благотворительных мастерских намерены распустить 25 мая. Ему это нужно знать, «чтобы принять большие предосторожности». Слух был несколько преждевременным. Еще 30 мая Бальи просит принять меры против беспорядков ввиду того, что должны были в этот день выставить публично к позорному столбу (mettre au carcan) одного рабочего из благотворительных мастерских, ударившего своего начальника. Но все прошло спокойно.
Власти ждали беспорядков, были, так сказать, в боевой готовности, но хотя они этих беспорядков не желали и даже полного спокойствия, быть может, и не чувствовали, однако не настолько, чтобы отказаться от мысли уничтожить благотворительные мастерские.
Слух, о котором писал 21 мая Гувион, осуществился через три недели с лишком — 16 июня 1791 г. В этот день на трибуну Национального собрания взошел Ларошфуко-Лианкур с докладом и проектом уничтожения благотворительных мастерских.
2
Ларошфуко-Лианкур начал с исторического очерка этих мастерских, причем с особенным ударением отмечал, что народные представители, собственно, давно уже знали о ненормальности в положении этих учреждений, но соображения, в основе которых лежала гуманность, заставляли откладывать их закрытие, несмотря на разорительность для казны [24]. Теперь же настал момент сделать это. Докладчик характеризует мастерские как учреждения, не только требующие огромных расходов, но и бесполезные, развращающие рабочих. Возможность и необходимость уничтожить сейчас благотворительные мастерские мотивируется и общим оживлением промышленной деятельности, которую Ларошфуко-Лианкур описывает в самых ярких красках [25]. Работы больше, чем рабочих, по его заявлению, и вот образовалась даже стачка с целью повышения заработной платы, и эта стачка уже одна показывает, что рабочих меньше, нежели средств работы. «Ведь не может быть обстоятельства, более благоприятного для того, чтобы приказать уничтожить мастерские (aucune circonstance ne peut donc être plus propice pour ordonner la rupture des ateliers)». Это — фраза решающая. Она показывает, помимо других доводов, что не столько соображения экономии, сколько именно стачка ускорила гибель благотворительных мастерских. И любопытно, что Ларошфуко-Лианкур, как бы сам не вполне доверяя впечатлению, которое могли произвести его слова об изобилии работы и о полной возможности для рабочих приискать себе дело, спешит предложить Собранию открыть некоторые отдельные земляные и строительные работы и ассигновать на это 2,6 миллиона ливров.
И уже тогда «все предосторожности», обусловливаемые «гуманностью» и «осторожностью», будут приняты, и, заявляет докладчик, «вы можете тогда без беспокойства издать декрет, который общественное мнение и даже хорошо понятый интерес этих рабочих уже давно просят у вашей мудрости» [26].
Прения, последовавшие после прочтения доклада, имеют мало принципиального интереса. Подчеркивалось, что администрация считает рабочих опасными [27]; говорилось, что «благо государства зависит от того, чтобы не увольнять в момент, подобный настоящему, людей, которые могли бы распространить беспорядки в королевстве»; Малуе, член правой, спрашивал, «приняты ли муниципалитетом Парижа меры к тому, чтобы внезапное уничтожение благотворительных мастерских не нарушило общественного спокойствия» [28]. Ларошфуко-Лианкур успокоил Малуе, заявив, что «министр и командующий национальной гвардией, директория департамента и муниципалитет» были приобщены к совещанию о декрете. Краткие и несущественные возражения делались относительно распределения сумм, ассигнуемых на новые работы, и т. д. Декрет прошел в тот же день, 16 июня 1791 г., и благотворительные мастерские перестали существовать.
Беспокоился не только Малуе, но и лица, ближе его стоявшие к делу. Уже в самый день 16 июня 1791 г. мэр Бальи писал Лафайету [29]. «Я полагаю, — писал он, между прочим, — что Национальное собрание решится на это (т. е. уничтожение мастерских), только принявши величайшие предосторожности, чтобы по крайней мере большей частью пристроить увольняемых рабочих… Как бы ни были мудры эти предосторожности, мы извещены, что один только проект уничтожения мастерских вызывает ропот, уже веет дух возмущения. Мы вас просим, monsieur, держать возле мастерских силы, достаточные, чтобы сдержать рабочих. Вы отдадите необходимые приказания, чтобы поддержать спокойствие в тех мастерских, которые вам известны, а скоро мы препроводим вам список мест, за которыми нужно особое наблюдение».
Беспокойство не оправдалось. 28 июня рабочие подали Национальному собранию петицию [30], в которой умоляли взять назад декрет об уничтожении мастерских. Они говорили в петиции об ожидающей их «братской могиле», о своем отчаянном положении, о преданности революции и ее началам. «Мы убеждены, что патриотизм побудил вас закрыть мастерские, потому что их изображали перед вами как прибежище для разбоя; мы не будем спорить, что в мастерских были подозрительные люди, но за что мы отвечаем, — это, что большинство — очень добрые патриоты, на которых нация не может жаловаться и которые пожертвуют всем до последней капли крови для поддержания конституции» и т. д. Открываемые новые работы могут прокормить лишь часть нуждающихся. Плачась на свою горькую участь, они не перестают уверять в своей преданности «высокому собранию, конституции, революции» и т. д. Рабочие, подавая петицию, просили позволения принести присягу на верность конституции. Отвечал им президент Национального собрания Александр Богарне. В нескольких словах он сказал, что Собрание имеет право на их доверие и с ударением указывал на необходимость подчиняться законам. Через 3 дня они пришли с новой петицией, но Собрание не выслушало ее и велело передать о ней директории департамента [31]. 3 июля начались было беспорядки (направленные, впрочем, против смотрителей работ) среди рабочих, занятых некоторыми работами на Марсовом поле. Тотчас же мэр предложил Лафайету принять меры и послать пехоту и кавалерию [32]; беспорядки, которые могли бы стать началом волнений безработных, прекратились без последствий. Работы получили из всех уволенных всего около 5–8 тысяч человек.
Был момент, когда беспокойство стало охватывать часть населения, и властям доносили 3 июля поздно вечером, что на другой день готовится сборище 22 тысяч (из числа уволенных рабочих) [33], что грозят несчастья, что открытые взамен благотворительных мастерских работы недостаточны и нужно что-нибудь сделать для рабочих. Демократически настроенная часть буржуазии роптала на то, что власти не считаются в своих действиях с тревожным моментом: ведь дело происходило в тот именно промежуток времени, который отделяет бегство в Варени от манифестации 17 июля. «Но известно, в каких видах муниципалитет выбрал для полного прекращения работ момент кризиса, когда все партии разгорячены, когда малейшее внутреннее возбуждение может стать опасным», — жаловались «Les Révolutions de Paris» [34]. Газета даже подозревала измену в этом прекращении работ. Рабочие сборища происходили последовательно на Вандомской и на Гревской площадях.
3 июля на Гревской площади уволенные требовали работ, и громко некоторые говорили, что они пойдут в Тюльери и будут кричать: «Да здравствует король!» [35]. Эта и подобные им любопытные угрозы контрреволюционными действиями могли и беспокоить публицистов только что цитированной газеты. И тем характернее, что контрреволюционная пропаганда именно в этот момент не подавала признаков жизни. Рабочие хотят грозить властям контрреволюционерами, но сами контрреволюционеры молчат (об этом речь еще будет в главе VI). 4 июля рабочие в третий раз обратились к Национальному собранию. Тут они уже не просят, а прямо грозят: «Господа, рабочие общественных работ обращаются к вам в третий и последний раз. Голод начинает их мучить, и контрреволюционеры радуются этому, они (рабочие) читают это слишком ясно на их лицах. Они вас умоляют, господа, они настаивают, они вас просят принять как можно более скорые меры, чтобы добыть им хлеба в это — с сегодняшнего же дня, даже с этого момента, ибо им это нужно тем или иным способом (soit d’une façon, soit d’autre — подчеркнуто — Е. Т.). Они вам кричат все, — и это крик 25 тысяч людей, три четверти которых имеют в столице жен и детей, — чтобы вы восстановили благотворительные мастерские по крайней мере до конца конституции» (т. е. до конца работ Учредительного собрания), «уничтоживши вкравшиеся в них (в мастерские — Е. Т.) злоупотребления. Нужда, самая гнетущая нужда, и ничто другое заставляет их так говорить».
В Сент-Антуанском предместье чуть не начались крупные беспорядки: рабочие завладели артиллерией полицейского поста, и национальная гвардия с трудом отняла ее у завладевших [36].
Национальная гвардия склонна была к решительным репрессиям, и власти тоже обнаруживали намерения весьма суровые, даже пугавшие демократически настроенных публицистов [37], несмотря на то, что они не одобряли поведения толпы.
Муниципалитет под впечатлением этих сборищ, чтобы смягчить хоть немного действие декрета от 16 июня, ассигновал 96 тысяч ливров для распределения между «абсолютно лишенными средств к существованию» из числа бывших рабочих закрытых мастерских [38]. Конечно, эта помощь могла быть в высшей степени ничтожной и эфемерной; притом из печатаемого в приложении документа читатель убедится, что получение вспомоществования из этих сумм было обставлено рядом строгих формальностей и условий.
Не на всех хватило работы, об изобилии которой говорил Ларошфуко-Лианкур. Но беспорядки, которые, казалось, грозили, не произошли.
Угрозы рабочих оказались совершенно нереальными. Это было одно из последних впечатлений, которые пережил муниципалитет пред манифестацией 17 июля 1791 г.
3
Мы видели из предшествующего изложения, что лица, возмущавшиеся нецелесообразностью благотворительных мастерских, но вместе с тем не отрицавшие необходимости дать на общественный счет некоторый заработок голодающим безработным, противопоставляли этим благотворительным мастерским так называемые «общественные работы» и горячо рекомендовали последние. Принцип общественных работ тот же, что и благотворительных мастерских: казна расходует деньги не на коммерчески выгодные предприятия [39], а прежде всего, чтобы дать заработок; разница заключалась в том, что ставилась совершенно определенная, строго очерченная задача — перестроить церковь св. Женевьевы в Пантеон, разобрать здание Бастилии и т. п. Число рабочих, занятых такого рода работами, не могло неопределенно возрастать, работы не могли тянуться долго, работоспособность и прилежание рабочих могли быть легче контролируемы и, предполагалось, должны были давать более наглядные результаты; наконец, эти работы должны были окончиться достижением той или иной цели, которая представлялась и сама по себе непосредственно важной.
Документы, дошедшие до нас, говорят довольно красноречиво об одном: финансовый кризис, одолевавший власти в эти годы, отражался на рабочих этих общественных предприятий гораздо сильнее, нежели на рабочих благотворительных мастерских. Когда к лету 1791 г. Национальное собрание решило уничтожить благотворительные мастерские, оно это сделало, как мы видели, решительной рукой, причем заблаговременно были только приняты меры для охраны порядка; но за все время их существования, с середины 1789 г. до самого конца этих мастерских, суммы, необходимые для поддержания их, выплачивались более или менее аккуратно. Раздражать постоянно тридцатитысячную массу представлялось слишком неудобным, если и не прямо опасным; гораздо целесообразнее показалось нанести сразу решительный и окончательный удар, когда явился подходящий момент. Что же касается общественных работ, то здесь власти имели дело с относительно небольшими партиями рабочих, не внушавшими особых опасений, и с ними можно было действовать иначе (при этом любопытно, что там, где скопление рабочих было побольше — именно на бастильских работах — и власти были аккуратнее, так что и тут можно подметить своего рода градацию).
Наиболее беспомощно было положение рабочих тогда, когда властям удавалось не заплатить им при сдаче работы и когда рабочие утрачивали возможность постоянно встречаться и сговариваться относительно необходимых шагов. Все помнят красноречивые страницы, посвященные Луи Бланом в его «Истории революции» так называемому празднеству федерации (14 июля 1790 г.). В той или другой степени и иные историки революции с вниманием останавливались на этом торжестве. И это весьма понятно, ибо подъем духа, энтузиазм, ликование были в самом деле, по общим показаниям современников, необычайно велики в эту первую годовщину взятия Бастилии, и участие короля и всей его семьи в празднике, казалось, обещало новому режиму эру безмятежного существования. Но историк рабочего класса обязан и тут коснуться невидной, закулисной стороны дела и познакомить читателя с новым обстоятельством. В приготовлении к знаменательному дню Марсова поля, где должно было происходить торжество, участвовали, между прочим, и очень многие добровольные работники, но только в самые последние дни, а, собственно, до тех пор все работы делали специально нанятые рабочие; «15 тысяч рабочих работали на Марсовом поле… — писал тогда же Камилл Демулен, — распространяется слух, что они не могут достаточно ускорить работу… Тотчас сбегается муравейник из 150 тысяч работников» и т. д., и т. д. На этой красивой декоративной стороне дела, на описании братской работы людей всех классов общества всегда и сосредоточивается внимание историков, как сосредоточивалось и внимание современных событию публицистов. А между тем из лежащих перед нами документов явствует, что судьба настоящих, профессиональных рабочих, нанятых для празднества, не менее характерна для эпохи. Муниципалитет сделал все, от него зависящее, чтобы сообщить празднику братства возможно больше блеска; но он и тут не отступил от своего принципа — не торопиться с платежом денег рабочим в тех случаях, когда, по существу дела, они рассеиваются по разным местам тотчас после окончания предприятия.
Дело было так [40]. Необходимо было как можно скорее приготовить Марсово поле, построить «алтарь отечества», триумфальную арку, амфитеатр и пр., и пр. Сначала архитекторы и представители муниципалитета думали, что с этой работой справятся обычные подрядчики (их entrepreneurs favorisés, по выражению нашего документа). Но когда они увидели, что эти подрядчики не успеют, то муниципалитет повторными афишами стал приглашать всех предпринимателей-плотников взяться за дело. Явилась масса желающих, и менее нежели в 15 дней все было готово. Затем архитекторы (заведовавшие технической стороной дела) около года держали у себя представленные счета, изменили их, не слушая жалоб предпринимателей-плотников, и затем передали счета муниципалитету. Муниципалитет заплатил небольшую часть, а остальное объявил своим долгом. Тогда предприниматели-плотники после многократных и тщетных просьб, прождавши в общей сложности больше полутора лет, собрались в количестве 270 человек и выбрали из своей среды 12 делегатов, чтобы жаловаться Законодательному собранию. Жалоба была принесена 26 февраля 1792 г. и сдана в «комитет ликвидации».
На последовавший из Законодательного собрания запрос муниципалитет и не подумал отрицать справедливости предъявленной к нему претензии. Он прислал тому комитету Законодательного собрания, куда это дело попало в конце концов, общий счет расходов по устройству празднества. Израсходовано было в общем 1 328 311 ливров, из коих до сих пор (т. е. до конца июня 1792 г.) уплачено муниципалитетом 403 тысячи ливров, остальных же 925 311 ливров муниципалитет не может уплатить, если собрание «не будет столь добрым и не даст денег». Аргумент муниципалитета — тот, что, ведь, празднество федерации было торжеством общенациональным, а вовсе не муниципальным, не парижским в тесном смысле слова, так что и расходы государство должно взять на себя. Конечно, муниципалитет гордился бы, если бы мог покрыть эти расходы, «но, к несчастью, его средства не находятся на одном уровне с его усердием и с его желанием содействовать всему, что может укрепить конституционный дух». А посему муниципалитет просит даже, чтобы ему казна вернула и те 403 тысячи ливров, которые уже уплачены. Касательно же самой претензии плотников по существу муниципалитет решительно высказывался, что удовлетворение ее «не терпит промедлений» [41].
Еще несколько месяцев прошло в том, что просителей пересылали из комитета в комитет [42], но дело их ничуть не двигалось. Уже Законодательное собрание успело смениться Конвентом и Франция — превратиться в республику, а они все еще не получили всех своих денег, которых муниципалитет им не уплатил после 14 июля 1790 г. Наконец, Конвент декретом от 2 декабря 1792 г. решил затребовать у исполнительной власти (т. е. в данном случае у министра внутренних дел) объяснения по этому вопросу. Дело попало в руки Ролана. Их мытарствам, прекрасно живописуемым двумя документами [*25], не положил предела и Ролан. Еще 11 декабря 1792 г. жалобщики умоляли его не задерживать их просьбы [43], и мы не знаем, как окончательно разрешилось это домогательство, полной справедливости и обоснованности которого не отрицал и сам муниципалитет. На одной из последних бумаг [44] читаем пометку: «присоединить к другим бумагам, относительно которых сделали все, что было во власти министра», но надпись эта, сделанная, очевидно, в канцелярии Ролана, особой ясностью содержания и обстоятельностью, как мы видим, не отличается.
Плотники-предприниматели говорят о себе, что они пережили «два года страданий»; они поясняют, что не только не окупились их труды, но они же два года сряду должны были платить проценты по своим собственным обязательствам (так как вошли в долги по постройкам на Марсовом поле). Относительно плотников-рабочих мы не только можем догадываться, что если бы предприниматели им заплатили хотя бы часть, то, конечно, не преминули бы указать на это в своих жалобах, как они там указывают на уплату процентов своим поставщикам материалов, но у нас даже есть официальное показание, что и рабочим не было уплачено: это именно выше цитированный декрет Конвента от 2 декабря 1792 г., где прямо о рабочих говорится [45].
Строилась новая церковь св. Мадлены, и тоже месяцами ни подрядчики, ни их рабочие ничего не получали, хотя тут уже не муниципалитет, а государственное казначейство непосредственно должно было отпускать нужные суммы; например, в середине октября (1791 г.) директория парижского департамента просит казначейство отпустить сумму (30 720 ливров), которую должно было получить еще в июле, за июльский триместр [46], так как уплата рабочим и подрядчикам запаздывает. Строится казарма, и тоже директория департамента в конце концов торжественно признает (в августе 1791 г.), что все рабочие, выстроившие казарму, суть «кредиторы нации», но денег им не платит, обещая, что со временем погасит их счета с процентами [47]. 30 мая 1791 г. объявлен декрет о перенесении праха Вольтера из церкви города Ромильи в церковь св. Женевьевы (Пантеон). 11 июля происходит самая церемония, потребовавшая довольно больших предварительных работ, и вот расходы по перенесению тела Вольтера (36 868 ливров с небольшим) все никак не могут быть покрыты. В июле 1791 г. министр внутренних дел (Лессар) пишет в директорию департамента об уплате рабочим, участвовавшим в этом деле, причем считает долгом высказать мысль, что расплата с рабочими есть такой расход, который не терпит отлагательств [48] (платить должно было именно министерство внутренних дел, и от департамента министр требовал лишь счетов). Тем не менее через два года, в 1793 г., все еще шла переписка о том, как бы уплатить должную сумму за работы по перенесению тела Вольтера [49]. Характерные черты дает нам также история работ, производившихся в церкви св. Женевьевы. Сначала (до 1791 г.) верховным начальником работ был д’Анживилье (в качестве directeur et ordonateur général des bâtiments du roi); в 1791 г. муниципалитет взял работы в свои руки, а когда решено было декретом от 4 апреля 1791 г. превратить эту церковь в Пантеон, то работы были поручены (с 19 июля 1791 г.) архитектору Катрмеру де Кенси, который под контролем и наблюдением муниципальных властей и вел их с тех пор. И вот уже к лету 1790 г. казна успела задолжать рабочим-скульпторам 14 400 ливров за уже выполненные ими работы. Перед Неккером хлопотали за рабочих, но он ссылался на д’Анживилье, который ведает этим делом. Впрочем, у Неккера, очевидно, шевельнулось чувство жалости, ибо вслед за вежливым канцелярским ответом хлопотавшему (Vernier) рукой Неккера сделана приписка: «я постараюсь так или иначе прийти на помощь этим несчастным рабочим» [50]. Тем не менее деньги отпущены не были, и д’Анживилье в следующем месяце (августе 1790 г.) должен был прекратить все скульптурные работы, ибо считал нечестным пользоваться трудом рабочих заведомо даром [51]. Когда же Неккер написал ему согласно со своим обещанием «так или иначе придти на помощь» рабочим, то д’Анживилье поспешил ему ответить и снять с себя всякую ответственность. Скульпторов-рабочих св. Женевьевы он сам с ударением называет слишком несчастными; он согласен также, что время стоит такое, что важно дать рабочим занятие, но нужны деньги от Неккера, без которых ничего нельзя поделать [52]. «Нужда приводит их (рабочих — Е. Т.) к мысли о труде; вы, Monsieur, были бы счастливы доставить для этого средства, а я был бы счастлив, если бы имел возможность эти средства употребить», — полуиронически пишет он в конце. Неккер не помог, и пришлось обращаться к кому попало за поддержкой. Хлопочет депутат Учредительного собрания Лепеллетье перед д’Анживилье за одну даму, и тот сейчас же пользуется, чтобы взамен просить депутата похлопотать перед «комитетом ликвидации» о несчастных рабочих св. Женевьевы. Он уже не только о скульпторах говорит, но о чернорабочих, получающих от 20 до 22 су в день [53]. Интересно, что муниципалитет, желая сэкономить на содержании благотворительных мастерских, стремился посылать рабочих в церковь св. Женевьевы, не спрашивая д’Анживилье, нужны ли они ему или нет, и не считаясь с тем, что государственное казначейство и без того отпускает на эти работы в церкви св. Женевьевы слишком мало средств, да и те выплачивает весьма неаккуратно. Так, в декабре 1790 г. была попытка дать д’Анживилье каменщиков, которых он вовсе не просил [54], в марте 1791 г. столь же неожиданно муниципальный «департамент общественных работ» прислал скульпторов, которым в тот момент вовсе нечего было делать в церкви св. Женевьевы. Впрочем, вскоре все эти работы перешли в ведение самого муниципалитета, а после декрета от 4 апреля 1791 г. о превращении церкви св. Женевьевы в Пантеон, работы расширились. И характерно: как только пришлось собрать больше рабочих, сейчас же лица, заведующие работами, стали уже не столько умолять об аккуратном отпуске средств, сколько с беспокойством требовать их, ссылаясь на возможность «восстания 500 рабочих» в случае задержек в уплате жалованья [55]. Документ, говорящий о «500 рабочих», относится к началу августа 1791 г.; но и тогда, когда их было 340 человек, в июне того же года, они уже заговорили довольно решительно.
В начале лета 1791 г., во время рабочего брожения в Париже, рабочие св. Женевьевы также возвысили свой голос и именно против эксплуатации со стороны своих хозяев, т. е. подрядчиков, с которыми муниципальные власти только и имели дело непосредственно, а уже каждый подрядчик платил из получаемой им периодически суммы жалованье своим рабочим. Этих подрядчиков было 11 человек, а рабочих в общей сложности 340 человек. 8 июня все эти рабочие составили протест-жалобу против подрядчиков и послали Марату. Эта жалоба появилась в номере от 12 июня 1791 г. [56] Рабочие жалуются своему «дорогому пророку», как они величают Марата, на хозяев-подрядчиков, которые обходятся с ними безобразно, «душат их без жалости и угрызения совести». Они хотят уменьшить заработную плату, «которую пожаловала (рабочим — Е. Т.) администрация»: эта плата равна 48 су за день, но так как работы происходят только 6 месяцев в году, то фактически нужно считать, что они получают всего 24 су [57]. Мы видели, что, по утверждению д’Анживилье, рабочие св. Женевьевы получают 20–22 су в день; у нас нет данных, чтобы решить, в самом ли деле в 1791 г. администрация повысила более нежели вдвое заработную плату, или и д’Анживилье, говоря о 20–22 су в день, принимал в расчет, что 6 месяцев рабочие в церкви св. Женевьевы не работают. Есть и еще неясность в этой жалобе: что означает выражение: «Nos journées de 48 sols que l’administration nous a octroiés»? Если это значит, что, сговариваясь с подрядчиками, администрация оставляла за собой право устанавливать размеры платы, которую подрядчики обязаны платить своим рабочим, то как же подрядчики в прямое нарушение контракта могли уменьшать эту плату или хотя бы грозить таким самовольным поступком? Вернее всего предположить, что администрация никаких непреложных минимумов рабочим не гарантировала, а подрядчики, войдя в соглашение между собой, решили понизить плату. Это чувствуется по тому отчаянию, с которым рабочие умоляют Марата взять на себя их защиту, ничего не говоря о том, почему они не обращаются с жалобами к администрации, которая, по их словам, была к ним столь милостива [58]. Еще более эта слабость юридической почвы в жалобе рабочих доказывается аналогией: ведь не только переделка церкви св. Женевьевы сдавалась администрацией подрядчикам и предпринимателям в эти годы, и нигде обязательный для подрядчика минимум заработной платы ею не устанавливался. Особенно ясно это сказалось на судьбе рабочих другого, более старого казенного предприятия — каменоломен под Парижем.
Эти каменоломни, расположенные в окрестностях Парижа, еще при старом режиме сдавались «предпринимателю», который и отчитывался перед администрацией в израсходованных на эксплуатацию суммах. Каменоломни находились в ведении д’Анживилье («директора королевских зданий») и под непосредственным надзором Гильомо, контролера и главного инспектора этих каменоломен. В период, нас занимающий, между рабочими и подрядчиком шла упорная борьба из-за того самого вопроса, который, как мы только что видели, волновал и рабочих св. Женевьевы. Дело заключалось в следующем.
Еще в 1776 г. подрядчиком стал Дюпон, который установил высокие, вполне удовлетворившие рабочих размеры вознаграждения [59]: приказчикам — по 3 ливра в день, каменоломам — 55 су, обыкновенным каменщикам — 38 су, землекопам — 32 су и самой низшей категории, начинающим рабочим, — 30 су.
Но уже в 1777 г. новый подрядчик Кеффье, сменивший Дюпона, сильно понизил эту расценку: приказчики стали получать в шесть раз меньше — 50 су в день (вместо 3 ливров), рабочие первой категории — 30 су (вместо 55), второй категории — 24 су (вместо 38), третьей — 20 су (вместо 32) и четвертой — тоже 20 су (вместо 30). Уже в 1784 г. рабочие потребовали, чтобы им платили по расценке прежнего подрядчика, Дюпона. Но администрация стала на сторону Кеффье, «на рабочих посмотрели как на бунтовщиков и засадили нескольких из них в тюрьму» [60], — и протест кончился ничем. Кеффье стал самовластным распорядителем судеб рабочих [61]. Так шло до самой революции. В 1790 г. они опять заволновались и потребовали, чтобы им платили по расценке Дюпона, и мало того, чтобы им уплатили все то, что они получили бы с самого 1777 г., если бы Кеффье не понизил плату. Дело в том, что рабочие упорно считали Кеффье только как бы чиновником, обязанным уплачивать им раз навсегда определенное от казны жалованье; так они его в своих петициях и называют: «le sieur Coeffier chargé de payer les ouvriers» [62].
На самом же деле, не только сам Кеффье считал себя подрядчиком, но таковым его считала и администрация как при старом режиме, так и в революционное время, а также и суд, куда в конце концов обратились рабочие. Его поверенный пишет в поданной суду бумаге, что Кеффье был «предприниматель» и, следовательно, только ему принадлежало право нанимать рабочих и сговариваться с ними о цене (слово entrepreneur гораздо точнее соответствует в данном и аналогичных случаях понятию «подрядчик», чем понятию «предприниматель»): он брал на себя казенную работу, тратил свои деньги на материалы и рабочих и, получая условленную сумму от казны, зарабатывал на разнице между этой суммой и той, которую сам он в действительности затратил [63]. Рабочие стояли на своем и (в июне 1790 г.) собрались толпой около мэрии. Об этом «восстании» (insurrection) мы знаем из официальной бумаги д’Анживилье, который писал со слов Гильомо, явно желавшего раздуть это дело с целью представить рабочих бунтовщиками и нарушителями общественного порядка [64]; между прочим, в этой бумаге говорится, что толпа состояла из 400 человек, тогда как всего было занято на каменоломнях 163 человека, и из них самое большее 35 человек присутствовало среди толпы. Эти показаний принимать на веру трудно вследствие слишком уже явной пристрастности писавшего и слишком очевидной его цели — побудить муниципальные власти к принятию суровых мер. Но для нас важно, что тут всецело отрицается, будто когда-либо были установленные цены, от которых подрядчик не имел права уклоняться; напротив, свобода его в договорах с рабочими была полнейшая. Под влиянием этой бумаги полицейский трибунал обнародовал даже прокламацию, направленную против претензий рабочих [65].
Продолжая борьбу против Кеффье, рабочие (уже в июле 1791 г.) подали через своего поверенного «мемуар» в Учредительное собрание [*6], где уличали Кеффье в мошенничестве, в том, что он уплачивал рабочим меньше, нежели заявлял о том администрации, и настаивали, что они соглашались получать от Кеффье низкую плату только вследствие его уверений, что он дает им именно столько, сколько отпускает на это денег правительство [66]. В конце концов они добились лучшей расценки, но, к сожалению, у нас нет документа, который бы непреложно свидетельствовал цифровыми данными о точных размерах новой расцепки. Есть два показания, сопоставляя которые, можно, правда, прийти к известному предположению насчет этого; рабочие через своего поверенного сообщают Учредительному собранию, что они согласны были бы всегда только на такую расценку: 2 ливра и 15 су — для каменоломов, 36 су — для каменщиков и 32 су — для землекопов [67]; с другой стороны в петиции, которую спустя несколько лет рабочие подали в Государственный совет [68], излагая всю историю своих пререканий с подрядчиком, рабочие пишут о том моменте, который нас интересует, что «время переменилось… жалованье было восстановлено» (le traitement rétabli), и, словом, неудовлетворенной осталась лишь их претензия относительно получения якобы незаконно недоданной им за 12 лет платы. Сличая эти два документа, мы и можем высказать предположение, что в конце периода, который нас тут занимает, рабочие каменоломен добились расценки в только что указанных размерах. Если так, то нужно отметить, что ни в благотворительных мастерских, ни на «общественных работах», каких бы то ни было, подобной платы, как 2 ливра 15 су, рабочие не получали. Это объясняется тем, что каменоломни окупали себя [69] и не требовали от казны затрат. Этот факт, заметим кстати, косвенно, но весьма существенно подкрепляет мнение, высказанное Жоресом, относительно строительной горячки, имевшей место в Париже в первые годы революции. Но то, чего добились рабочие, было уступкой, которую администрация нашла своевременным сделать, а вовсе не восстановлением законных прав, как они полагали: когда обратились в суд за суммой, незаконно, по их мнению, недоданной им за 12 лет, то после долголетнего процесса они совершенно проиграли дело. Кеффье был признан совершенно правым в своих аргументах, и суд всецело согласился с ним и с администрацией, что Кеффье был «предпринимателем» и ничто решительно не регулировало размеров заработной платы, кроме личного его соглашения с рабочими [70].
Через «предпринимателя» же вели власти и самую крупную из всех затеянных в эти годы «общественных работ»; мы говорим о разборке здания Бастилии. Но тут подрядчик сам постарался быть только передаточным пунктом между администрацией и рабочими.
После 14 июля 1791 г. взятую крепость решено было разрушить. Это решение диктовалось не только соображениями сантиментально-политического характера, но и уже отмеченным нами беспокойным стремлением поскорее приискать возможно больше занятий для безработных. Работы по разборке Бастилии были поручены некоему Паллуа (Palloy), или, как его называли и как он сам себя называл (и даже иногда подписывался), «патриоту Паллуа». Но роль Паллуа действительно была менее самостоятельна, нежели роль подрядчика каменоломен, и он сам желал быть менее самостоятельным. Он был главным руководителем и распорядителем работ, но постарался такую статью расходов, как уплата рабочим, выделить из числа других и предоставить муниципалитету почти непосредственно связаться в этом отношении с рабочими [71]; каждую неделю приказчик, служивший у Паллуа, являлся с готовым и проверенным счетом и получал от казначея муниципалитета деньги, которые на другой день (в воскресенье) и выдавались рабочим в присутствии считавшихся на муниципальной службе архитекторов и инспекторов. Рабочих у него было около 800 человек [72] и потому муниципалитет относился к ним внимательнее, чем к рабочим других предприятий. Рабочие Бастилии также держали себя более решительно, чем в других местах; опоздание в плате грозило беспорядками, и Паллуа в таких случаях побаивался даже за свою жизнь, хотя он и сделал все, чтобы перенести ответственность за аккуратную выплату с себя на муниципалитет; поэтому когда задержки со стороны муниципалитета все-таки случались, то он авансом уплачивал рабочим из своих денег [73]. После первого беспокойства, вызванного брожением рабочих во второй половине июля и в августе 1789 г., к концу этого года вообще муниципальные власти старались возможно экономнее обставить все те работы, которые были тогда летом затеяны, и по возможности уменьшить число рабочих [74].
Не находя удобным задерживать плату рабочим Бастилии, муниципалитет стал требовать особого контроля за ними, ежедневных перекличек, строгого наблюдения за аккуратным пребыванием на работах и т. д. [75] Тогда же заработная плата с 36 су и день была понижена до 30 су (для высшей категории рабочих; другие категории получали от 30 до 20 су в день; к концу 1790 г. рабочих высшей категории было 180 человек из 776). Это обстоятельство сопровождалось брожением, которое, однако, серьезных последствий не имело. Муниципалитет пошел дальше: было решено сдать с публичного торга какому-нибудь предпринимателю работы по разборке Бастилии, причем так, чтобы муниципалитет был совершенно избавлен от какой бы то ни было ответственности и рабочие должны были считаться только с нанимающим их предпринимателем, т. е. муниципалитет хотел сделать именно то, чего боялся Паллуа. Тут поднялась целая буря, начались беспорядки, едва не кончившиеся печально для некоторых лиц из администрации. Представители городского округа, где была расположена Бастилия, вступили в переговоры с бунтовавшими и временно достигли умиротворения. 22 декабря с публичных торгов работы были сданы лицам, которые назвали себя представителями самих рабочих. Но ничего из этого не вышло, рабочие их не признали, выгнали их из мастерских, и уже 9 января 1790 г. было решено уничтожить состоявшийся контракт и вести дело на прежних основаниях, через Паллуа. Следует заметить, что эта история имеет в изложении Паллуа (от которого только мы ее и знаем) довольно запутанный вид: как убедится читатель из этого документа [*7], Паллуа очень глухо говорит о том, кто такие были эти «депутаты рабочих Бастилии, которые явились в качестве представителей своих товарищей»; он дальше как бы желает изобразить их самозванцами, вовсе не уполномоченными никем и чуть не поплатившимися жизнью за свою смелость, и вместе с тем не поясняет, каким образом возможна была подобная выходка на публичных торгах, как могло это обстоятельство пройти с самого начала без протеста со стороны рабочих. Так или иначе, прежний порядок, заведенный Паллуа, остался в силе, и муниципалитет уступил. Почти в то же время плата (для первой категории) была снова повышена с 30 до 36 су в день.
С тех пор все шло сравнительно спокойно. Муниципальные власти очень внимательно относились к отдельным жалобам и претензиям рабочих Бастилии, и где находили несправедливость в поступках администрации относительно рабочих, спешили ее исправить [76], это тоже не наблюдается в истории других общественных работ этой же эпохи.
Но число рабочих, несмотря на все меры, возрастало все более и более, расходы увеличивались, и муниципалитет решил просить у Учредительного собрания, чтобы оно уплатило ему истраченные суммы и вообще приняло эту работу на общегосударственный счет. Докладчик (Барер де Вьезак) высказался в пользу этого ходатайства. Он указал, между прочим [77], что с начала работ, с 14 июля 1789 г. [78] по 6 октября 1790 г. (день доклада) расходы были равны 568 143 ливрам; дохода от продажи старых вещей, камня и т. п. было 75 243 ливра, и, по словам экспертов, можно надеяться выручить еще 254 999 ливров; остальное же — чистый убыток. Собрание тогда же (6 октября 1790 г.) решило уплатить муниципалитету просимую сумму, а работы прекратить. Тем не менее муниципалитетом решено было затем, что фактически работы еще будут продолжаться до конца зимы вследствие трудности для рабочих подыскать зимой заработок [79]. 28 апреля 1791 г. муниципальный «департамент общественных работ» составил бумагу на имя Паллуа с извещением, что с 8 мая работы должны прекратиться, а рабочие будут размещены в благотворительных мастерских (которым суждено было еще полтора месяца просуществовать) или распределены по другим работам [80]. Эта бумага, составленная 28 апреля согласно отнюдь не разрушенным революцией бюрократическим традициям, попала в руки Паллуа лишь 5 мая. Он и ответил, что нужно было уведомить его хоть 28 же апреля, а теперь, за три дня до срока, уже поздно подготовить 800 человек к ожидающему их удару, и особенно в такое время, когда все рабочие борются за увеличение заработной платы. Это Паллуа говорит, конечно, о стачечном движении, вспыхнувшем в Париже весной 1791 г., и подчеркивание всеобщности этого движения с его стороны [81] — ценное для нас указание, принимая в соображение скупость данных, непосредственно идущих от самих стачечников. Мы просим читателя припомнить это показание Паллуа, когда (в главе V) речь пойдет о стачках 1791 г. Рабочие явились к Паллуа, и хотя он убеждал их, что «только вследствие терпимости и доброты муниципалитета» декрет, изданный еще 6 октября 1790 г., так долго не приводился в исполнение, все-таки он боялся, что вспыхнут беспорядки. Характерно, что легкую воспламеняемость рабочих он вообще склонен отчасти объяснять происками «аристократов» и вообще «преступных» лиц, т. е. врагов нового режима; и тут тоже без указания на «аристократов» не обошлось [82]. Рабочие составили коллективное письмо к Паллуа, где они выражают свое отчаянье по поводу постигшего их удара, говорят, что единственные их средства к жизни — это «скромная поденная плата, которую у них хотят отнять». Они умоляют его о помощи и, явно обращаясь через его голову к властям, кончают письмо довольно определенной угрозой, говоря о себе, что они «готовы пролить всю свою кровь за конституцию, так же как за свое существование» [83]. В другом месте того же письма они говорят, что предпочитают скорее умереть, нежели оставить свои работы. Упоминание о конституции было в те времена почти обязательным припевом во всякой петиции, которая предназначалась для властей (а это «письмо» к Паллуа по самому смыслу своему, конечно, предназначалось не для Паллуа, от которого ровно ничего не зависело, а именно для властей); слова же о пролитии крови за свое существование, о предпочтительности смерти оставлению работ намекали на возможность вооруженного сопротивления. Но и тут, как и при закрытии благотворительных мастерских, дело дальше угроз не пошло. Паллуа удалось все-таки выхлопотать у муниципалитета отсрочку до 21 мая. Часть рабочих рассеялась после этого по благотворительным мастерским, где еще полтора месяца можно было кормиться; часть получила заработок при перестройке набережных и при устройстве Пантеона; в общем муниципалитет истратил на тех рабочих Бастилии, которые нигде не нашли себе занятия после закрытия этих работ и временно были зачислены поэтому в число рабочих по перестройке набережных и по переделке церкви св. Женевьевы в Пантеон, 12 913 ливров [84]. Это известие исходит от Паллуа, который сообщает его в письме, писанном из тюрьмы (куда он был засажен уже при терроре в 1794 г. и скоро выпущен). К сожалению, он выражается слишком неопределенно, что эта сумма была употреблена для поддержки рабочих «в течение некоторого времени», и поэтому мы даже приблизительно не можем вычислить, сколько же было рабочих, нигде не нашедших себе занятия.
Ликвидация бастильских работ, как и происшедшая спустя несколько недель и уже описанная выше ликвидация благотворительных мастерских, обусловливалась не только желанием прекратить колоссальные расходы, но и тем обстоятельством, которое вызвало также самые стачки весной 1791 г.: промышленность и торговля уже не переживали того кризиса, как в первый момент революции, рабочие ставили хозяевам требования увеличения заработной платы, и муниципалитет, выбрасывая на рынок новую массу людей, до сих пор питавшуюся от благотворительных мастерских и общественных работ, с одной стороны, облегчал хозяевам борьбу со стачечниками, а, с другой стороны, пользовался благоприятной минутой, когда закрыть эти мастерские и прекратить эти работы не значило обречь всех рабочих прямо на голодную смерть.
Мы увидим в следующей главе, что не только этим способом муниципальная и общегосударственная власть оказала существенную помощь хозяевам в обострившейся весной 1791 г. борьбе с рабочими.
Глава V
ХОЗЯЕВА И РАБОЧИЕ В 1790–1791 годах. СТАЧЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1791 года В ПАРИЖЕ
1. Вопрос об экономическом состоянии Франции в 1790–1791 гг. 2. Представители промышленного класса в их обращениях к властям. 3. Рабочие. Их петиции. Корпорация «du devoir». 4. Организация нового типа. «Типографский клуб» и его орган. 5. Стачки 1791 г. (апрель — июнь). Вмешательство муниципалитета. 6. Закон Ле Шапелье. Доклад Ле Шапелье. Цель и содержание закона. Конец стачки
1
Статистических данных, которые позволяли бы нам с непререкаемой точностью установить, когда именно стал слабеть кризис 1789 г., у нас нет; но что 1790 г. и, особенно, 1791 г. мы не можем огулом заключать в одни скобки с первым годом революции, это становится ясным постепенно из отдельных, часто случайных, вскользь брошенных замечаний и прежде всего из внутреннего смысла тех фактов, касающихся рабочего класса, которые мы анализируем в конце этой главы.
Прямых указаний относительно ослабления кризиса в 1790–1791 гг. у нас мало, хотя некоторые из них весьма существенны и авторитетны. А что их немного, — этого и следовало ожидать, ибо кто был заинтересован в том, чтобы не преувеличивать размеров кризиса, не сгущать красок, живописуя его? Вся оппозиционная новому режиму публицистика не переставала, как читатель увидит по образчикам, приводимым в главе VI, обвинять революцию в уничтожении торговли и промышленности, во всех бедах, постигших как промышленников и купцов, так и рабочих, и успех этой пропаганды требовал умышленного преувеличения размеров кризиса и, главное, длительности его. Далее, те прошения, докладные записки и прочее, которые исходили от промышленников, глав ремесленных заведений, торговцев и т. п., писались неизменно с целью выхлопотать либо какой-нибудь казенный заказ, либо субсидию в той или иной форме, и, конечно, им было важно преувеличить возможно более бедственность своего положения и положения их рабочих. Что касается рабочих, то в тех случаях, когда и они обращались к властям, им тоже важно было оттенить печальную сторону своего положения и возбудить сострадание; с другой стороны, историк обязан обратить внимание также и на то, что в 1790–1791 гг. исходящих от рабочих жалоб на безработицу гораздо меньше, чем в предшествующий или в последующий период. Заметим еще при этом, что большинство документов 1790–1791 гг., где идет речь о кризисе, все говорят именно о «первых моментах (les premiers momens) революции», о начале ее и т. п., о необходимости вспомоществований вследствие потрясений, испытанных торговлей и промышленностью в момент «начала свободы», и т. д.
Мало того. До какой степени при всех нареканиях на гибельные экономические последствия революции современники имели в виду именно 1789 г., а не 1790–1791 гг., явствует из того, что единственный общий доклад о внешней торговле, сделанный от имени комитета земледелия и торговли в Учредительном собрании (уже в конце его существования) и имевший целью опровергнуть преувеличения врагов нового режима, посвящен именно 1789 г., а не всему периоду 1789–1791 гг. Этот доклад вообще представляет для нас интерес.
Сделан был он, как сказано, от имени комитета земледелия и торговли, депутатом от города Лиона — Гударом [1]. Конечно, беспристрастный исследователь, не доверяющий контрреволюционной публицистике, не вправе, с другой стороны, принимать за священную истину и каждое слово доклада Гудара, писанного со специальной целью опровергнуть нарекания этой публицистики. Но нельзя не заметить, что доклад Гудара выгодно отличается от названной публицистики тем, что публицистика совершенно голословна, а доклад стремится обосновать свои положения фактами и цифрами, причем берет их из служебных бумаг таможен — бумаг, теперь без вести пропавших, но, конечно, бывших в полном распоряжении комитета земледелия и торговли. Его метод состоит в сопоставлении 1789 г. с непосредственно предшествующим; некоторые его данные весьма любопытны и никогда еще использованы историками не были. Цифра ввоза из-за границы была равна в 1788 г. 302 миллионам ливров, а в 1789 г. — 345 миллионам, но это случилось, поясняет Гудар, по причине, абсолютно ничего общего не имеющей с революцией: недород зерновых продуктов принудил Францию ввезти к себе зерна и овощей на 73 миллиона в 1789 г., а в 1788 г. эта статья ввоза потребовала всего 13 миллионов, и если бы не это обстоятельство, то в 1789 г. ввезено было бы в общем из-за границы на 17 миллионов меньше, чем в 1789 г. Зато «мануфактурных товаров в 1789 г. привезено из-за границы на 57 миллионов против 62 миллионов 1788 года», т. е., — пишет Гудар, — Франция «в год революции заплатила на 5 миллионов меньшую дань иностранной промышленности».
Что касается вывоза из Франции, то в 1788 г. вывезено было товаров на 365 миллионов, а в 1789 г. на 357 миллионов, но Гудар объясняет это небольшое понижение, главным образом, сокращением транзита, т. е. такой отрасли, которая касается лишь иностранных товаров, привозимых во Францию и следующих дальше, за границу. Эти товары, успокаивает Гудар Учредительное собрание, приносят и без того лишь скромные барыши Франции. Зато много важных отраслей промышленности в 1789 г. не испытали разгрома, — напротив: так, шерстяных и — шелковых изделий в 1788 г. было вывезено на 97 миллионов, а в 1789 г. — на 104 миллиона; сахару и кофе (из американских колоний Франции) было продано за границу в 1788 г. на 157 миллионов, а в 1789 г. — на 160 миллионов; вина — в 1788 и 1789 гг. было вывезено одинаково — на 24 миллиона в каждый год; водки было продано за границу в 1788 г. на 9 миллионов, а в 1789 г. — на 12 миллионов и т. п. Гудар не находит «никаких признаков, которые говорили бы о разоренных мануфактурах, о земледельческих продуктах без сбыта, о колониальных припасах без потребителей». Признавая, что в 1789 г. некоторые отрасли промышленности испытали «некоторые колебания», Гудар настаивает, что «обычный ход нашей торговли не был ниспровергнут». Только морское торговое судоходство, по его словам, пострадало.
Хотя тема доклада Гудара относится только к 1789 г., но он, очевидно, чувствует, что в интересах его тезиса — перейти от прошлого к настоящему, от 1789 г. к 1791-му. И в конце доклада он так и делает, незаметно переходя от прошедшего времени к настоящему. Он приглашает законодателей [2] обратить внимание на «величайшую деятельность», царящую на мануфактурах, выделывающих шерстяные, шелковые и полотняные материи, пеньку и т. д. Заказы побуждают рабочего усиливать все более производительность труда. Он отмечает особое процветание промышленности в Лангедоке, в Нормандии, в Бретани, Фландрии, Шампани и Пикардии. Говоря о Париже, он особенно обращает внимание на процветание производства газовых материй; в Лионе он отмечает то, что огромная масса рабочих рук, занятых производством шелковых материй, оказывается недостаточной для удовлетворения спроса. Эта общая характеристика любопытна для нас не только сама по себе, но и именно потому, что докладчик, задачей которого было опровергнуть «клеветы», сыпавшиеся на «колыбель конституции» [3], т. е. на 1789 г., заговорил о текущем моменте, о 1791 г., и заговорил в таких восторженных тонах, на которые он не отваживался, пока речь шла о «колыбели конституции». То, что он говорит о 1789 г., для нас не особенно убедительно, не только потому, что масса разнородных свидетельств говорит о прямо противоположном, т. е. что сильный удар был испытан промышленностью и торговлей в первые месяцы революции, но и благодаря самому методу докладчика это не может произвести на нас большого впечатления, ибо если бы даже и оказалось, что в общем производство в 1789 г. не особенно отличалось от производства в 1788 г., то ведь мы знаем, что уже в 1788 г. кризис — и кризис жестокий — угнетал самые промышленные области Франции. Для Гудара интересно избавить революцию от обвинений со стороны ее врагов, и совершенно логически, со своей точки зрения, он такой метод и выбрал; но нас интересует совсем другое, — нам важно дать себе возможно более ясный ответ на вопрос, как протекала экономическая жизнь Франции в эпоху революции. И насколько скудные, случайные и разбросанные данные позволяют судить, общий ответ на этот вопрос (а ответ именно вследствие страшной скудости данных должен быть таков: торгово-промышленный кризис, угнетавший Францию в 1788 г., в 1789-м не только продолжался, но еще более усилился и обострился) и выразился, между прочим, в страшной безработице во всех крупных промышленных центрах, — прежде всего в Париже; в 1790, а особенно 1791 гг. — индустрия во Франции если и не была в таком блистательном состоянии, как желает это представить Гудар в своем докладе, то во всяком случае уже не переживала таких тяжелых времен, как в 1789 г. В частности, в ряде промыслов не только над рабочими не висел по-прежнему грозный призрак безработицы, но, как увидим, стало возможным самое крупное (или, вернее, единственно крупное) за все время революции стачечное движение 1791 г., имевшее целью добиться увеличения заработной платы.
После всего вышеизложенного для нас особенную ценность приобретает показание Варнава о 1791 г. «Когда Учредительное Собрание разошлось, нация еще не испытала чувствительных потерь в людях и богатствах… Морская торговля могла испытать некоторые потери, но земледелие не переставало процветать и мануфактуры достигли большей степени деятельности, нежели когда бы то ни было в прежнее время». Жорес справедливо придает [4] этим словам серьезное значение как общей характеристике экономического положения; если бы он знал разобранный нами только что доклад Гудара, то увидел бы еще, что показание Барнава всецело совпадает с показанием Гудара — вплоть до оговорки о морской торговле. А Барнав в 1792 г., когда он эти строки писал, далеко не был уже энтузиастом революции, который склонен был бы закрывать глаза на темные стороны своей эпохи; напротив, пасмурное раздумье охватывало его в это время все более и более.
Нашли мы в Национальном архиве и еще одно прямое свидетельство, подтверждающее показания Гудара и Барнава и относящееся к концу 1791 и началу 1792 г. Это записка 16 выборных представителей торгового класса в Монпелье о состоянии национальной промышленности и торговли [5]. И вот что они пишут вообще о промышленности во Франции: «национальные фабрики пользуются, очевидно, величайшим процветанием. Они работают весьма активно. Сбыт очень легок, и продажная цена выгодна». Авторы записки далее отмечают темную сторону экономической жизни в «недоверии, которое внушают ассигнации», и в отливе сырья за границу. Они требуют, чтобы были приняты меры (пошлины за вывоз сырья, строгий надзор на границе и т. д.) против этого зла, которое может в будущем остановить фабрики, «теперь столь процветающие» (nos fabriques, aujourd’hui si florissantes). С отдельными, весьма существенными подтверждениями этого факта улучшения экономического положения мы столкнемся еще при разборе документов о стачке 1791 г.
Все вышесказанное обрисовывает почву, на которой стало возможно стачечное движение 1791 г.: без некоторого улучшения общей экономической ситуации (сравнительно с 1789 г.) оно не было бы мыслимо. Хозяева, как увидим, прямо приписывали стачечное движение 1791 г. тому, что массы безработных из Парижа схлынули (в 1790–1791 гг.) в провинцию. Урожай 1790 и 1791 гг. требовал рабочих рук и отвлекал безработных из городов. С 1792 г. это временное улучшение исчезает, и, особенно после начала войны с первой коалицией, Франция вступает в новый длительный кризис, который тоже не был всегда одинаково жестоким, но анализ которого уже выходит за пределы ныне печатаемой части наших очерков.
2
Французские архивисты не раз полуиронически писали об историках, что те никак не могут примириться с мыслью, что архивы создавались вовсе не для удобства их работы, а имели чисто служебное назначение, и поэтому в них сохранилось много для истории несущественного и не попали крайне важные и нужные в научном отношении бумаги.
В частности, историку экономических отношений приходится раз навсегда примириться с отсутствием в государственных, архивах огромной массы документов основного, решающего значения. Сохранились — и то не все, и то случайно — лишь те документы (писанные и печатные), которые направлялись к властям — от промышленников, торговцев и рабочих — или от властей — к петиционерам в ответ на все эти жалобы, прошения, претензии и т. д. Бухгалтерские книги нескольких десятков промышленных предприятий были бы бесконечно более поучительны, чем многие и многие из этих бумаг, но нужно считаться с положением вещей и стараться извлечь пользу из того скудного материала, который имеется.
Сначала мы рассмотрим, чего хотели, о чем просили те хозяева промышленных заведений, которые обращались в 1789–1791 гг. к властям; затем перейдем к претензиям экономического и профессионального характера, исходящим от рабочих, и… наконец, коснемся некоторых симптомов, предшествовавших, стачечному движению 1791 г. Самое движение будет рассмотрено в последних параграфах настоящей главы.
Нужно сказать прежде всего, что исследователя поражает почти полное отсутствие каких бы то ни было пожеланий общего характера со стороны промышленников города Парижа. Мы, например, почти вовсе ничего не слышим от них о том явлении, которое вызывало чрезвычайно громкие и решительные нарекания в большинстве промышленных городов Франции, — о торговом трактате с Англией (1786 г.); взвешивая выгодные и невыгодные стороны этого трактата, общее мнение торгово-промышленных кругов Франции решительно склонялось в пользу скорейшего расторжения трактата. Равнодушие Парижа, быть может, отчасти объясняется тем, что, ввиду огромного развития в столице производства предметов роскоши и газовых материй и торжества французской индустрии над английской именно в этих статьях, Париж и на самом деле в конечном счете не терял или мало терял от договора 1786 г. Вот, между прочим, что говорит одна из печатных докладных записок о торговле, вышедших в начале революции и предназначенных для народных представителей: «торговый договор (с Англией) завоевал за морями данников трудолюбивым жителям этой столицы (Парижа). Это завоевание есть абсолютная выгода, которая получается для нас из этого нового договора [6]». И подчеркивая далее, что именно в производстве газовых материй Англия не выдержала конкуренции с Парижем, автор настаивает на сохранении трактата.
Другой вопрос общего характера — вопрос о цехах — также весьма неопределенно отразился в петициях парижских промышленников. Конечно, хозяева больших промышленных заведений (вроде Ревельона [7]) не могли, как и в остальной Франции, не радоваться, что революция разрушила те путы, которые тормозили и с технической, и с коммерческой стороны развитие индустрии, но ремесленники и хозяева небольших ремесленных предприятий, казалось бы, прямо затронутые в своих интересах, тоже не выразили сколько-нибудь заметного протеста. Это может быть объяснено и полной безнадежностью, на которую явственно были подобные протесты осуждены. Как известно, в знаменитом заседании Учредительного собрания в ночь на 4 августа 1789 г. цехи были принципиально осуждены; но формально они были окончательно уничтожены только законом 2 марта 1791 г., и занятие любым промыслом стало вполне свободным [8]. Нечего и говорить, что фактически никто из желавших нарушить старые положения о цехах не ожидал закона 2 марта 1791 г., и цехи сейчас же после ночи на 4 августа 1789 г. утратили какую бы то ни было силу и возможность самозащиты. Бальи в своих мемуарах прямо признается, что сейчас после 4 августа муниципальные власти сквозь пальцы стали смотреть на многочисленные нарушения законов о цехах; с другой стороны, в Национальном архиве сохранился целый ряд полицейских протоколов, составленных по жалобам цеховых бюро на того или иного нарушителя, но, разумеется, не имевших для виновного никаких последствий.
Особенно много открыто было в эти годы типографий (еще до 2 марта 1791 г.) ввиду сильного роста периодической прессы и брошюрной литературы; открывались и всякие другие заведения без малейшего внимания к еще юридически существовавшему цеховому праву. Немудрено, что принципиальная защита цехов мало кого соблазняла [9]. Рабочие, имевшие материальную возможность обзавестись самостоятельной мастерской, делали это, не стесняясь юридически продолжавшимся (до закона 2 марта 1791 г.) существованием цехов, и, например, уже в начале 1790 г. рабочие-парикмахеры к возмущению прежних 972 хозяев открыли 400 новых заведений [10]; но были случаи, когда рабочие находили целесообразным вместе с хозяевами отстаивать цеховое начало: мы видели уже (в главе III), что в августе 1789 г. рабочие-портные требовали у власти запрещения лоскутникам изготовлять новое платье и действовали в этом отношении заодно со своими хозяевами. Впрочем, все подобные попытки, как уже было сказано, наперед были осуждены на неудачу.
Общим соображениям посвящают свои строки иногда и представители той или иной отдельной индустрии, оговариваясь при этом, что их жалобы или советы относятся ко «всем» или «к большей части» отраслей промышленности. Такова, например, петиция фабрикантов фарфора и фаянса [11].
Они сообщают в своей петиции к Собранию, что их заведений во Франции около 240 и даже несколько больше, а рабочих в их индустрии имеется приблизительно 13 200 человек. Описывая тяжесть положения рабочих и указывая, что они, фабриканты, являются «первой поддержкой этого несчастного класса», петиционеры, оговариваясь, что речь идет не только об их собственной, но и о других отраслях индустрии, просят защиты от английской конкуренции, от бедственных последствий договора 1786 г. Неравенство в условиях этого договора настолько, по их мнению, «признано и констатировано», что по всей справедливости необходимо было бы этот трактат уничтожить. Войны бояться можно только по малодушию, — народное мужество сделало бы ее невозможной. Мало того: даже если война с Англией неизбежна в случае нарушения договора, то и она была бы менее тягостна, нежели колоссальные издержки на пропитание тысяч несчастных (намек на благотворительные мастерские и общественные работы). Один только город Париж стоит в этом отношении казне 40 тысяч ливров ежедневно, не считая расходов на материалы и орудия, нужные для работ. Корень зла, договор 1786 г., должен быть уничтожен.
Аналогичным размышлениям предается [12] и фабрикант газовых материй, скрывшийся под литерами M. R. Он, правда, не идет так далеко, чтобы предпочитать даже войну с Англией соблюдению договора 1786 г., хотя и признает, что этот договор вреден «почти всем отраслям индустрии»; он полагает только, что нужно ослабить невыгодные для Франции стороны этого договора.
Для нас эта сдержанность и умеренность не вполне неожиданны, ибо мы уже ознакомились с приведенным выше показанием, что именно фабрикантам газовых материй можно было не особенно бояться английской конкуренции. Автор во всяком случае недоволен положением вещей (пишет он в 1789 г.) и указывает, что еще за 15 лет перед тем эта отрасль индустрии занимала в одном Париже около 25 тысяч рабочих и, кроме того, почти столько же женщин и детей, которым она давала легкую работу. Гораздо больше, нежели на договоре с Англией, автор останавливается на вопросе о цехах. Он еще надеется на то, что они будут только реформированы, а не уничтожены вовсе. В пользу цехов он приводит два любопытных соображения: во-первых, хозяева принуждены раздавать рабочим, разбросанным по всему Парижу, материал и орудия производства, т. е. все свое состояние, и пока существуют цехи, по закону материал не подлежит аресту за долги рабочего ни в каком случае, а орудия производства подлежат аресту лишь в единственном случае — неуплаты за квартиру, но за другие долги и даже за неуплату податей их арестовать нельзя; что уже поэтому цехи полезны и для хозяев, и для рабочих. Во-вторых, фабриканты должны иметь известную распорядительную власть, причем эта власть не может, не вызывая больших затруднений, находиться в руках муниципалитетов или судов. Дело вот в чем. «Часто подымаются споры из-за заработной платы: то фабрикант предлагает слишком мало, то другой раз рабочий слишком требователен… муниципальные чиновники или судьи не в состоянии надлежащим образом делать оценки; поэтому нужно, чтобы фабриканты, облеченные некоторой властью, могли, как в настоящее время, быть судьями в этих спорах и о множестве других непредвиденных осложнений, которые возникают между фабрикантом и рабочим, предоставляя все же тому, кто счел бы себя обиженным, возможность апеллировать к обыкновенным судьям, что до сих пор редко случалось». Эти доводы весьма характерны; первый — для характеристики широчайшего распространения отдачи работы на дом и редкости многолюдных мастерских в Париже, ибо именно забота о неприкосновенности хозяйских материалов и орудий на квартире рабочего снедает автора; ему именно отдача работы рабочему на дом представляется типичным явлением; второй же довод продиктован откровенно выраженным желанием, даже в случае реформы цехов, оставить за работодателем право и возможность быть судьей в своем деле и регулировать плату.
Чтобы уже покончить с изъявлениями общего характера, исходившими от торгово-промышленного мира в первые месяцы торжества нового режима, упомянем о брошюре коммерсанта Менара, вышедшей 6 сентября 1789 г. [13] Автор находит, что внутренней торговле вредят больше всего частые банкротства и существование цехов «или, по крайней мере, неравномерное распределение между ними привилегий» (писано, очевидно, в предположении, что цехи, 4 августа принципиально осужденные в том виде, как они существовали, могут еще удержаться в иной форме); внешней же торговле вредят главным образом отсутствие надзора за французскими мануфактурами (за их добросовестностью), торговый договор с Англией и недостаточное поощрение (со стороны правительства) к соревнованию в области торговой деятельности. Мы видим, что особой оригинальностью мысли эти указания не отличались.
Гораздо чаще, нежели по этим общим вопросам (о торговом Договоре с Англией, о цехах), парижский промышленный мир обращался к властям с просьбой о казенных заказах, о поддержке в той или иной форме данной отрасли промышленности. Это дошло, наконец, до того, что уже в 1790 г. представитель торговых кругов города Байонны в печати протестовал против «неумеренных притязаний» промышленников и советовал если не лишать их исключительной монополии на казенные поставки, то хоть оградить казну от их «ненасытной алчности» [14]. На почве борьбы за казенные поставки возникла даже к концу 1790 г. любопытная организация предпринимателей — так называемое «Энциклопедическое общество», или, полнее, «l’Assemblée Encyclopédique composée de tous les artistes, entrepreneurs ouvriers et fournisseurs tenant ses séances aux Grands Augustins». Слово «ouvriers», входящее в это название, не препятствовало ни чисто предпринимательской сущности этой организации, ни весьма (как увидим далее) подозрительному отношению с ее стороны к рабочим и к малейшему с их стороны проявлению самостоятельности. О целях организации говорит нам собственная ее profession de foi, сохранившаяся в «отделении рукописей» Национальной библиотеки [15]. Это петиция к муниципалитету, прочитанная вице-президентом общества в заседании парижской коммуны 7 января 1791 г. Авторы петиции начинают с того, что с уничтожением цехов лица, занятые ремеслами и промыслами, могли бы лишиться возможности общаться между собой, «затерянные, так сказать, среди этой обширной и шумной столицы». Но «глас свободы», пишут они, вызвал к жизни ассоциацию под названием «Энциклопедическое общество», и эта ассоциация способствует сближению и сплочению промышленных кругов. Она многолюдна и может служить помощью и поддержкой трудолюбивым беднякам, поощрять «дух промышленности» и т. д. Тут авторы понемногу подходят к обнаружению истинных своих целей: эта ассоциация стремится также, сообщают они, к уничтожению привилегий, захватов, соперничества, что столь вредно для индивидуумов, а также для общества. Таким образом, поясняют они дальше приведенные темные слова, петиции этого «Энциклопедического общества», обращаемые к различным властям, «не будут уже выражать желания какой-нибудь отдельной корпорации, не будут носить характер их (т. е. членов этой корпорации — E. Т.) предрассудков и особых интересов; они будут выражать общие желания и будут направлены исключительно к общественному благу». Соединяя все интересы, «Энциклопедическое общество» сделается одной из могущественных опор конституции. Дело в том, что авторы петиции «не могут без грусти, без глубокой скорби смотреть на страшный недостаток в работе», смотреть, следовательно, на рабочих, ремесленников и т. п., осужденных на «беспокоящую праздность», «последствия которой бесконечно страшны» в будущем, «в то время как несколько привилегированных личностей пользуются исключительной выгодой за счет коммуны». Другими словами, речь идет о борьбе против лиц, успевших заполучить от муниципалитета большие заказы. Аргументация петиционеров такова: Национальное Учредительное собрание уничтожило привилегии дворянства, духовенства, парламентов, «наконец, господа, Национальное собрание призвало всех людей к принципам равенства, и мы обращаемся к вам, господа, с тем доверием, которое внушает ваш цивизм и ваш патриотизм, чтобы просить у вас уничтожения этих ненавистных привилегий, этого предпочтения, отдаваемого нескольким покровительствуемым лицам, большей частью не вследствие истинных их талантов», но вследствие происков, интриг и т. д. И вот, «Энциклопедическое общество» просит, чтобы отныне муниципалитет давал «всем» заказы, а не только избранным. Но кто же будет распределять эти работы? «Энциклопедическое общество», все время изъясняясь от имени «всех», естественно, предлагает свои услуги, ибо оно и есть представитель «всех». «Что касается способа распределения работ, господа, то «Энциклопедическое общество» возьмет на себя эти детали и выполнит это с тем беспристрастием и той справедливостью, которые составляют основу его трудов и которые обеспечат вам в этом отношении удовлетворение всех рабочих этого обширного города». Муниципалитету нужно будет только указать, какие работы он желает видеть выполненными, а уже все остальные хлопоты «Энциклопедическое общество» берет на себя. Кроме того, «общество» гарантирует дешевизну и скорость в исполнении заказов. Оно даже хочет облегчить инициативу муниципалитету: «вечно занятое пользой сограждан» [16], «Энциклопедическое общество» предлагает муниципалитету постройку общей прачечной (buanderie nationale) для больниц, казарм и т. д. Чем окончились домогательства этой ассоциации — из бумаг не видно, но уже ввиду того, что вообще больше о ней нет речи, ясно, что едва ли она долго просуществовала. Да и законодательство революционной эпохи слишком неблагоприятно относилось к подобным ассоциациям, и, например, вполне невредимо пережить закон Ле Шапелье (от 14 июня 1791 г.) она не могла бы ни в каком случае, если бы даже и продержалась до того времени.
Затея не была жизнеспособной. Для трестов, да еще универсального характера, хотя бы и касающихся лишь одной столицы, капитализм XVIII в. еще далеко не дозрел, а иметь дело с объединенными поставщиками никакой выгоды муниципалитету не сулило.
Мы видим, между прочим, что «удовлетворение всех работах этого обширного города» есть та приманка, которой «Энциклопедическое общество» желает прельстить парижский муниципалитет и склонить его на свою сторону. На этой струнке в той или иной мере стараются в рассматриваемую эпоху играть вообще промышленники, когда они обращаются к властям. А (кроме просьб о заказах и поставках) обращались они иной раз и по поводу тех или иных новых узаконений, затрагивавших их интересы. 8 января 1791 г. прошел декрет, вводивший гербовую бумагу взамен обязательно употреблявшегося до тех пор в известных случаях пергамента. Этот декрет затронул и владельцев пергаментных мастерских и владельцев бумажных мануфактур. Владельцы пергаментных мастерских горько жалуются Национальному Учредительному собранию на постигший их удар, убивающий всю эту отрасль промышленности. «Испуганные криками множества рабочих, теряющих свое занятие, отцов семейств, у которых нет уже хлеба для детей, отчаявшихся матерей, которых преследуют нужда и голод», испуганные всем этим «еще больше, нежели собственным своим несчастным положением», просители умоляют Собрание об отмене жестокого для них декрета [17]. Как бы не надеясь, что Собрание тоже испугается одной только вышеприведенной фразы, пергаментщики продолжают пояснять, что они «содрогнулись. Их чувствительное сердце захотело предупредить первое действие скорби, изливавшейся в угрозах. Они удержали до сих пор у себя рабочих, которых нанимали». Они (хозяева и их рабочие) не могут утешиться тем, что «поколение, которое их заменит, будет более счастливо». Для них вопрос идет о лишении куска хлеба. Рабочих, занятых этой отраслью индустрии, весьма много: Бурж, Иссуден, Вьерсон, Ромартен только этим и живут; в Орлеане, Шартре, Бонневале, Шатодене, Дре, Илье эта индустрия питает огромное количество рабочих, не говоря уже о Париже. И пергаментщики просят Собрание не отказать этим рабочим в хлебе, который даже хозяин дает своему рабу, и не сделать так, чтобы «свобода стала для них ненавистной». Под прошением — девять подписей делегатов от пергаментщиков Парижа и провинции. Делегатов от рабочих нет, но мы видим, что именно рабочими пергаментщики стараются встревожить Собрание. Они несколько раз, но тщетно подавали подобные петиции, подчеркивая, что до 10 тысяч семейств питаются этим промыслом [18].
Что касается бумажных фабрикантов, то они были затронуты тем, что выделка гербовой бумаги становилась монополией казны; они просили, чтобы правительственные учреждения только накладывали штемпель на бумагу, которая могла бы быть покупаема у любого фабриканта [19]. Иначе же при монополизации бумаги, употребляемой для совершения актов, «мануфактуры будут уничтожены, рабочие без работы и без хлеба, купцы разорены». Удовлетворением этой просьбы, пишут они далее, Собрание даст возможность существовать массе рабочих, которые иначе дойдут до самой страшной нищеты. Декрет отменен не был.
Жаловались Собранию на его же декреты и позументщики: в июне 1790 г. были уничтожены ливреи, и это распоряжение сильно сократило их работу и грозило, по их словам, довести их до весьма тяжелого положения [20]. Обмундирование национальной гвардии дало им, правда, новую работу, хотя каждая мера Собрания, направленная к упрощению и удешевлению этой формы, приводила их зато в сильнейшую тревогу. Например, по декрету от 19 июля 1790 г. офицеры национальной гвардии должны были иметь золоченые эполеты, а когда (к концу 1790 г.) только возникло предположение об отмене этого пункта декрета, позументщики, галунщики и хозяева золотошвейных мастерских подали Национальному собранию петицию, в которой умоляли в самых отчаянных выражениях не отменять декрет от 19 июля, и тоже, конечно, во имя рабочих [21]. «Промысел позументщиков, бесконечно полезный вследствие значительного количества рабочих, которые им заняты, заслуживает, конечно, всякого покровительства со стороны Национального собрания», полагают они. О ливреях они уже не просят, как просили несколько месяцев тому назад, напротив, говорят о них с порицанием («эти ливреи, которые были выдуманы феодальным тщеславием и которые не могли пережить режима, их введшего»), но указывают, что все-таки уничтожение ливрей, значительное сокращение сбыта церковных принадлежностей, сокращение в штатах придворного ведомства — все это весьма сильно на них отразилось и «могло бы повлечь полную гибель десяти тысяч отцов семейств», если бы не надежда на работы по обмундированию национальной гвардии, причем подчеркивают, что их этим и обнадеживали, когда они жаловались на уничтожение ливрей. Эта надежда уже стала осуществляться и «весьма значительная торговля» эполетами поправила их дела, как вдруг теперь их хотят лишить этого ресурса! Позументщики торжественно заявляют, что они тут вообще не столько заботятся о своем интересе, сколько действуют во имя гуманности для спасения 10 тысяч семейств рабочих, оставшихся без куска хлеба.
Нигде этот вечный аргумент (о рабочих) не выступает в таком обнаженном виде, как в петиции предпринимателей строительных работ о том, чтобы продолжать работы по постройке городских стен [22]. После обычных слов о бедствиях тысяч рабочих петиционеры прибавляют: «подумайте, что в особенности ввиду приближения самого сурового времени года общественное спокойствие заинтересовано в успехе нашей просьбы». Речь шла только о продолжении выгодной казенной работы, но аргумент был высказан с большой откровенностью и решительностью не потому, чтобы в самом деле безработица в этой отрасли была острее, напротив, есть сведения прямо противоположного характера, а потому, что плотников и вообще людей, занятых строительными работами, было без всякого сравнения больше, нежели позументщиков, пергаментщиков и т. п.
Эта характерная черта сказывалась во всем. Ассигнационный кризис еще не свирепствовал в 1790–1791 гг. так, как, хотя бы, уже в 1792 г., но все-таки начинал уже давать себя чувствовать, и рабочий люд уже страдал от него [23]. Страдали, конечно, не меньше, если не больше, и хозяева, страдало и вообще все население, но когда, например, мясникам понадобилось платить пошлину мелкими ассигнациями, которые у них чиновники не хотели брать, то они в своей петиции по этому поводу [24] указывают на собственное свое великодушие, благодаря которому они эти мелкие ассигнации (вернее, купоны от ассигнаций) соглашаются принимать именно от «несчастных рабочих и ремесленников». Из петиции совершенно ясно, что речь идет о комбинации, выгодной для мясников и невыгодной для фиска; и вот наряду с обещанием «молить небо о счастье членов» Национального собрания сейчас же пускаются в ход «несчастные рабочие и ремесленники». Хочется лесоторговцам получить хоть немного звонкой монеты в обмен на ассигнации (постоянная мечта всех и каждого в эти годы), и они тоже пугают Национальное собрание «восстанием», которое-де устроят рабочие, если им не уплатить в срок звонкой монетой; авторы петиции полагают, что «грозит восстание», приглашают Национальное собрание принять меры, чтобы «избавиться от новой смуты», которую оно иначе обречено испытать, говорят, что все это «слишком опасно» [25] и т. д.
Все эти ужасы пророчились в ноябре 1790 г. и не осуществились. Просьба лесоторговцев исполнена не была, и они через 7 месяцев просят о том же и еще о нужном им размене крупных ассигнаций на мелкие и (на этот раз обращаясь к муниципалитету) снова пугают, что «замедление в этом отношении неминуемо вызвало бы восстания» (множественное число) [26]. Об этой характерной черте — стремлении к запугиванию властей призраком рабочего восстания — мы еще вспомним в конце настоящей главы.
3
Переходим к известиям, так или иначе исходящим от рабочих частных промышленных предприятий. Политика нас тут пока интересовать не будет (об этом пойдет речь в последней главе), и мы займемся лишь экономической и профессиональной стороной вопроса.
Прежде всего необходимо заметить, что после беспокойного августа 1789 г. рабочие вплоть до весны 1791 г. стачек почти не устраивали, и вообще их профессиональные нужды не побуждали их к поступкам, которые бы сколько-нибудь серьезно обеспокоили власти или были бы отмечены прессой. Один негоциант даже заявил в это время, что он восторгается каждый миг (… je m’extasie à chaque instant…) сдержанностью, с которой рабочие выражают свои жалобы [27].
Конечно, и тут архивы сохранили главным образом лишь обращения к властям. Одна категория их — это петиции по поводу мероприятий, вредящих интересам той или иной отрасли индустрии. Их тон, как и во всех почти петициях рабочих, умоляющий; по содержанию такие петиции вполне аналогичны уже разобранным петициям хозяев. Например, рабочие пуговичных мастерских в петиции, печатаемой нами в приложении к настоящей работе [28], просят об отмене распоряжения, грозящего им, по их словам, голодной смертью. Дело в том, что 23 декабря 1790 г. были внесены изменения в форменную одежду всех национальных гвардейцев Франции, а затем в заседании 15 января 1791 г. [29] состоялся декрет о том, чтобы эти изменения были введены лишь с 14 июля 1792 г. Вот этот (второй) декрет и поверг в отчаяние 6 тысяч рабочих, занятых в Париже выделкой пуговиц; они обвиняют каких-то «мануфактуристов мануфактуры, где нет рабочих», в том, что те обманули законодателей, и умоляют отменить декрет об отсрочке, ибо «восемнадцати месяцев достаточно, чтобы умереть от голода». В этой просьбе им было отказано, как отказывалось в подавляющем большинстве подобных домогательств и хозяевам, и рабочим [30].
Относительно стачек в Париже нужно сказать, что за весь 1790 г. у нас есть одно прямое известие: в октябре 1790 г. происходила стачка столяров. По-видимому, эта стачка отличалась обширными размерами, если судить по самому характеру дошедшего до нас документа [31]. Это — воззвание некоего Белена, очевидно, одного из организаторов стачки, обращенное ко всем собраниям секций города Парижа, в котором он просит изгонять из собраний всех нарушителей стачки, предлагающих свои услуги для замещения товарищей. Ясно, что стачка плотников была общепарижской или во всяком случае захватила крупный район столицы. Характерно, что для обеспечения за собой поддержки секций автор воззвания старается обвинить «аристократов» в происках, в «преступных намерениях» и именно им приписывает неблаговидное поведение тех товарищей, на действия которых жалуется. Еще характернее, что в решении секций, о котором он ходатайствует, он видит «единственное средство» к предупреждению зла. Больше ничего мы об этом случае не знаем.
Посторонняя помощь со стороны административных участковых собраний должна была казаться «единственным средством» для людей, лишенных какой бы то ни было организации.
В самом деле, некоторые старые «compagnonnages», существовавшие на почве цеховой организации, несмотря на все преследования со стороны цеховых мастеров и запрещения властей, дожили до революции и пережили ее, но роли во время революции не играли. Эти старинные сообщества цеховых рабочих, соединявшихся для взаимной помощи, рано или поздно должны были уступить место организациям, более приспособленным к новому индустриальному режиму; ими, впрочем, еще интересовались во времена Луи-Филиппа. В разбираемую нами эпоху одна из таких корпораций, члены которой назывались «compagnons du devoir», вступила к 1790 г. в ожесточенную борьбу с рабочими, в нее не входившими. Об этой борьбе до нас дошли документы, исключительно [32] идущие от врагов этой корпорации; но, как увидим, анализ этих документов может привести к заключению, что, вероятно, не совсем неправ был Ле Шапелье, когда, докладывая проект закона, получившего его имя, он в своей речи сделал корпорацию «du devoir» прямой предшественницей тех обществ, которые считались повинными в стачечном движении 1791 г. Слишком непохоже то, что делала эта корпорация в 1790 г., на обыкновенные драки между повздорившими рабочими.
Вот имеющиеся у нас сведения об этой борьбе. 31 мая 1789 г. в шляпной мастерской Данлу-Дюмениля 24 рабочих, принадлежащих к корпорации «des Bons Enfants», заявили своему хозяину, что если он не удалит 22 других рабочих, принадлежащих к корпорации «du devoir», то они уйдут от него [33]. Хозяин не согласился ввиду исправного отношения рабочих «du devoir» к своей работе. Тогда корпорация «des Bons Enfants» покинула мастерскую и увлекла с собой нескольких других (очевидно, нейтральных) рабочих, обещая последним уплатить за потерянные рабочие дни, и когда с 4 июня в самом деле мастерскую стали покидать и другие рабочие, то «Bons Enfants» платили им. Затем ушедшие отправились в разные фабрики, чтобы снять и там рабочих с работы. Хозяин с помощью полиции заарестовал одного из ушедших рабочих, встретивши его на улице. Полицейский комиссар пишет в своем протоколе, что арестованный (Левейе) известен как «один из главарей» смут и сборищ, но читатель этого печатаемого нами протокола убедится из собственных показаний арестованного, что этот «главарь» весьма смиренно кается перед хозяином, сознает вину, просит прощения, выдает (называя по фамилии) товарища, который соблазнил его, и т. д. Тем не менее комиссар признал его настолько опасным, что отправил в тюрьму «la Force». Что с ним было дальше, не известно.
Чем именно корпорация «du devoir» прогневала товарищей в шляпной мастерской, мы не знаем; знаем только из двух других свидетельств, что и некоторые рабочие других профессий, и притом не только в Париже, но и в провинции, весьма враждебно к ней относились, и движение против нее продолжалось и в 1790 г., причем из документов, несмотря на их обстоятельность, все-таки не все остается ясным для читателя. Этих документов 1790 г. два, причем первый относится к концу марта, а второй — к маю того же года.
Первый документ [34] был подан через Дюпон де Немура в «комитет конституции» Национального собрания и предварительно был просмотрен знаменитым физиократом. На полях Дюпон де Немур приписал, что он считает петицию вполне основательной и что в провинции несколько раз он был свидетелем бурных сцен между столярами корпорации «du devoir» и другой корпорацией. Документ составлен от имени не одних, впрочем, столяров, но рабочих «всех профессий, ремесл и промыслов». Они жалуются, что некоторая часть из них, и притом меньшинство, вздумали уже с давних пор основать корпорацию, которой дали название «du devoir»; они узнают друг друга во всех городах королевства по условным знакам и названиям. Они преследуют других рабочих, которые не желают входить в их корпорацию, требуют денег и обещания примкнуть к их сообществу, иначе же не дают им работать. Даже во время путешествий из одного города в другой рабочие подвергаются нападениям и обидам со стороны названной корпорации. Их отводят в одно из мест сборищ корпорации, обыскивают, отнимают деньги и вещи и бьют в случае сопротивления; действуют эти люди всегда скопом. Обиженные пишут, что они уже жаловались в разное время на эти бесчинства, но виновные всегда находили средства уклониться от преследования благодаря выдуманным именам и оказываемой друг другу поддержке. Теперь, в 1790 г., пишут петиционеры, положение особенно обострилось. «Никогда антипатия, во все времена царившая между этими двумя классами рабочих (т. е. принадлежащих и не принадлежащих к корпорации «du devoir» — Е. Т.), не доходила до такой высокой степени, как теперь: брожение таково, что более восьмисот рабочих шляпных мастерских, утомленные гнусными притеснениями против них со стороны рабочих «du devoir», прекратили всякую работу; и можно опасаться, что рабочие других профессий, не менее преследуемые, сделают то же самое; это может иметь самые гибельные последствия; это брожение существует в различных городах провинции, как и в Париже; рабочие столицы только что получили об этом весьма тревожные известия» и т. д. Они просят об уничтожении упомянутой корпорации, хотя сами же говорят, что она и всегда была незаконна и воспрещена. Просят также, чтобы каждый рабочий был обязан сохранять собственную фамилию (выше они указывали, что в корпорации «du devoir» пользуются вымышленными именами).
Столкновения продолжались, и, например, не успели жалобщики подать эту петицию, как в центре Парижа рабочие (плотники) корпорации «du devoir» напали на плотников другой корпорации и избили их. Продолжающиеся нападения вызвали (в мае 1790 г.) новую петицию, на этот раз уже непосредственно направленную в Национальное собрание, и не от рабочих «всех» профессий, а только от плотников. Петиционеры обозначают себя сами так: «les compagnons charpentiers non du devoir, désignés sous le nom de Renards» [35]. Они жалуются Собранию на «страшные разбои» со стороны корпорации «du devoir», пишут, что не могут из-за этого работать ни в Париже, ни в окрестностях, ни в больших городах королевства. Повторяется жалоба, что члены корпорации «du devoir» подстерегают других рабочих на дорогах, грабят их, бьют, даже иногда убивают. Ограбленные и избитые должны идти в больницы лечить свои раны, а потом пытаться искать работы в деревне или очень маленьком городе, где нет членов корпорации «du devoir» (или «drilles», как еще иначе именуется эта корпорация). По три раза в год члены корпорации «du devoir» собираются в больших городах и всякий раз клянутся искоренить класс «des renards», к которому принадлежат просители. Петиция кончается новой просьбой, чтобы Собрание воспретило корпорации «du devoir» собираться в излюбленных теми местах («chez leurs mères»), а также останавливать других на дороге, мешать их работе.
Попробуем разобраться в свидетельствах этих трех документов (первого — 1789 г. и последних двух — 1790 г.). Мы имеем дело только с показаниями врагов корпорации «du devoir» и не слышим ни одного слова, исходящего от нее самой. Уже это обязывает историка к осторожности. Далее, читатель обратит внимание на полную неясность в самой постановке вопроса, за что эта корпорация обижает других рабочих, и особенно на неясность в ответе на этот вопрос. Первый документ и третий совсем ни единого слова на этот весьма существенный вопрос не отвечают и даже вопроса не ставят, а второй документ [*8] говорит: «… ces compagnons du devoir se sont acharnés à persécuter ceux des autres compagnons qui refusent de faire corps avec eux, ils poussent même leurs vexations dans certaines villes jusqu’au point de forcer ceux-ci à consigner une certaine somme d’argent avec promesse d’entrer dans leur société sans quoi ils les empêchent de travailler». Итак, значит, они преследуют других за то, что те отказываются к ним примкнуть; и в виде компромисса довольствуются в некоторых городах взиманием известной суммы и обещанием вступить в их корпорацию. Но если так, то возникают с логической неизбежностью новые вопросы: 1) зачем этой корпорации до такой степени необходим приток новых членов и 2) почему другие рабочие предпочитают нести убытки и подвергаться серьезным опасностям, лишь бы не вступать в эту корпорацию? Если (с натяжкой) предположить в виде ответа на первый вопрос, что корпорации нужны новые взносы, то ответа на второй вопрос все-таки не получим, ибо совершенно очевидно, что выгоднее откупиться взносом, нежели всегда иметь против себя таких опасных и предприимчивых врагов. При неясности единственного документа, пытающегося дать ответ на этот вопрос, полнейшее молчание двух других документов становится особенно загадочным. Описываются проявления упорной злобы, доходящей до ярости, до тяжких избиений и убийств, и ничего не говорится о причине, вызывающей эту злобу и ярость со стороны корпорации «du devoir». Какие бы то ни было корпорации рабочих были воспрещены в революционный период законом Ле Шапелье от 14 июня 1791 г., но и до тех пор никакие частные ассоциации не поощрялись, да и старый режим тоже приучил compagnonnages к очень неблагосклонному отношению со стороны властей. Во всяком случае петиционеры, составлявшие второй наш документ [*30], осторожно и неопределенно именуя себя «рабочими всех профессий» и т. д., не впадают по крайней мере в логическое противоречие с самими собой, когда они с жаром требуют уничтожения беззаконной организации «du devoir». На первый, невнимательный взгляд может показаться, что такое противоречие имеется зато в третьем документе [*31], и что жалоба исходит от другой корпорации, называемой «des renards». Но если, обдумывая каждое слово, вчитаться в эту петицию, то увидим здесь нечто другое. Во-первых, это не они сами себя так назвали, а дали им название их враги, члены корпорации «du devoir», что явствует из слов: «… pour savoir où sont les compagnons qu’ils appellent Renards»; во-вторых, петиционеры сами устанавливают содержание и объем этого понятия, называя себя: «Les compagnons charpentiers non du devoir, désignés sous le nom de Renards», t. е. указывая, что эта кличка дается всем плотникам, не принадлежащим к корпорации «du devoir», и дается притом самими же корпорантами «du devoir», которые, как сообщает нам второй документ [*9], вообще любят давать клички и вымышленные имена. Если так, то становится ясно, что, значит, корпорация «du devoir» была в этот по крайней мере период единственной организацией настолько сильной, что ее могли бояться все в нее не вступающие, хотя в нее и вошло лишь меньшинство рабочих разных профессий (как говорит нам документ XII в приложении). И если действительно в плотничьем, например, промысле у человека была лишь альтернатива либо принадлежать к корпорации «du devoir», либо ни к какой корпорации не принадлежать, то уже возможно с известной степенью вероятия представить себе, что враждебные столкновения могли возникать на почве вмешательства таких не связанных никакими обязательствами рабочих в экономическую борьбу с хозяевами, которую более или менее планомерно захотела бы вести корпорация «du devoir». Наш третий документ [*10] снабжен несколькими удостоверениями и одобрениями со стороны хозяев и предпринимателей, которые в высшей степени раздражены против корпорации «du devoir» и свидетельствуют, что ее нужно уничтожить «для спокойствия как хозяев, так и рабочих». Бывший синдик плотничьего цеха тоже приложил руку к этой петиции [*11].
Прибавим, что и Дюпон де Немур был решительным врагом какого бы то ни было единения рабочих и, как мы увидим, вообще являлся в этот период суровым и встревоженным наблюдателем движений и выступлений городской массы. Общее же отношение физиократов к представителям наемного труда всегда не грешило излишним сентиментализмом, что и отметил (один из первых) Н. И. Кареев в своей книге «Крестьяне в последнюю четверть XVIII века». Как и других физиократов, доживших до этой эпохи, социальный консерватизм охватывал его все более и более. Его вмешательство в дело, сочувственная приписка, с которой он препроводил в комитет петицию, ходатайствующую об уничтожении этой корпорации, — все это также если говорит о чем-нибудь, то именно о том, что корпорация «du devoir» в самом деле могла в известных случаях являться представительницей борьбы за профессиональные интересы рабочих.
Постоянная упорная вражда, кипевшая между этой корпорацией и не примкнувшими к ней лицами, «гнусные притеснения», которые эти лица от нее испытывали, заставляли их бороться всеми зависящими от них способами; первый наш документ [*12] говорит о прямом требовании, обращенном к хозяевам, — удалить из мастерской всех рабочих «du devoir», причем хозяин и полиция на этот раз преследуют не корпорацию, а ее врагов (за перерыв в работах и вообще за беспорядок); второй и третий [*13] документы говорят о призыве государственной власти на помощь; и ясно одно: своими собственными силами рабочие, вне этой корпорации стоящие, не могут с ней справиться. До такой степени они (и одобряющие их хозяева) хотят обеспечить за собой поддержку властей, что прибегают к знакомому уже нам из других документов методу: пугают брожением, забастовкой, которая-де может распространиться и в Париже, и в провинции, если против ненавистной им корпорации не будут приняты меры. И еще заметим, что по всем данным организация эта весьма сплоченная: они регулярно собираются на собрания в определенных местах; они следят за передвижением своих противников из города в город; они всегда действуют отрядами при нападениях; они даже в Париже и его окрестностях арестуют своих врагов и делают это «очень часто» [*14]; они ускользают от судебных кар благодаря взаимной поддержке; они уводят в плен задержанных по дороге и обыскивают их и т. д.
Тут еще заметим, что рассказы о разбоях корпорации «du devoir» не подтверждаются одним общим свидетельством о царящих в ее среде нравах — единственным, кстати сказать, свидетельством за этот период, идущим не от ее врагов, а от посторонних, третьих лиц. Когда члены союза наборщиков (о которых у нас дальше будет речь) хотят указать товарищам (во время весенней стачки 1791 г.) на необходимость избегать грабежа и насилий, то они говорят: «вы знаете, господа, что между рабочими, например, между товарищами «du devoir», тот, кто осмелился бы покуситься на собственность буржуа или причинил бы ему иную обиду, был бы выброшен из их среды и не нашел бы более работы в своем промысле» [36].
В этом свидетельстве для нас любопытна еще одна черта: о корпорации «du devoir» посторонние ей люди говорят как о типе, ее члены — типичные рабочие, ее имя пришло на ум, как только заговорили вообще о рабочих («vous savez, messieurs, que parmi les ouvriers, par exemple parmi les compagnons du devoir»… etc.). Это также должно быть принято нами к сведению ввиду подчеркивания со стороны противников корпорации, что только меньшинство рабочих стало членами ее.
В самом ли деле членов корпорации «du devoir» было только «une grande minorité», мы не знаем; знаем только, что действуют они как власть имущие, а их противники признают свое бессилие и утверждают [*15], что только в деревне или «очень маленьком городе», где этой корпорации нет, можно избавиться от ее притеснений: значит, Париж и все большие города так или иначе являются ареной деятельности этой корпорации. Если прибавить к этому, что одна петиция вовсе не подписана, а другая подписана четырьмя лицами (кроме удостоверений хозяев), то для нас совершенно не ясным будет, действительно ли рабочие «всех профессий» или даже «большинство» хлопочет об уничтожении этой корпорации. Подобные петиции тогда обыкновенно подписывались для большей убедительности; например, напечатанная в конце этой книги контрреволюционная петиция рабочих к Людовику XVI была документом, который действительно опасно было подписывать, и, однако, нашлось более 300 людей, которые полностью, фамилией и званием своим, ее подписали.
Эти мысли, приходящие, естественно, в голову при внимательном анализе указанных документов, до известной степени подводят нас к ответу на тот вопрос, который мы задавали себе в начале анализа: вражда (и яростная вражда) корпорации к лицам, стоящим вне ее, обусловливалась не тем обстоятельством, взятым an und für sich, что они вне ее стояли, но тем, что они, ища заработка, переходя из города в город в поисках работы, могли не считаться с условиями, которые эта корпорация в данном месте в данный момент ставила хозяевам, и не вступали в нее не потому, что им было жаль взноса, но потому, что это вступление должно было повлечь оставление уже взятой работы или отказ от работы предлагаемой. В конце своей последней петиции [*16] враги корпорации просят принять меры против нее для того, «чтобы тем и другим было вольно работать всюду, где они найдут работу». Этот заключительный аккорд вполне гармонирует с высказанным только что предположением.
Так или иначе борьба против корпорации «du devoir» безуспешной быть не могла; было издано распоряжение, в одном из пунктов которого подчеркивалось запрещение гражданам собираться «по ремеслам, профессиям или корпорациям». Уже во время стачек 1791 г. об этой организации почти ничего не слышно. Ослабела ли она под влиянием обострившихся полицейских преследований или очень уже удачно маскировала свои выступления, но ее имя уже не произносится ни рабочими, ни хозяевами в тревожный период весной 1791 г., и Ле Шапелье в своем докладе (14 июня 1791 г.) говорит о ней, как об уже не существующей.
4
Корпорации, подобные той, о которой только что шла речь, выросли на почве старого цехового строя и с ним же отошли в вечность. Но появились ли в эпоху, рассматриваемую нами, хотя бы в зачаточном виде, организации иного типа, более соответствующие новому хозяйственному строю? Мы напали на след двух таких организаций, имеющих профессиональный характер.
О первой, впрочем, почти ничего не известно, кроме нескольких слов, посвящаемых ей в петициях рабочих-плотников и в № 96 газеты «Les Révolutions de Paris». Эти свидетельства относятся уже ко времени стачечного движения, происходившего весной 1791 г. Это было, по словам плотников, общество взаимопомощи для больных и увечных, а также престарелых, занимавшееся исключительно делами благотворительности.
Напротив, хозяева обвиняли это общество в руководительстве стачкой, в том, что оно вырабатывает регламенты, принимает незаконные решения и т. д., и упорно домогались его закрытия. Возникло оно в первые месяцы 1791 г. [37] и держалось еще в начале июня того же года, ибо его еще пытаются отстоять рабочие в выпущенном ими заявлении, помеченном 2 июня [38]. Закон Ле Шапелье (14 июня 1791 г.) сделал, конечно, немыслимым существование этой «union fraternelle des ouvriers en l’art de la charpente», как она называлась. О ней еще будет упомянуто впереди, когда мы будем говорить о стачечном движении 1791 г. Прибавим тут же, что все говорит в пользу того, что это общество в самом деле сыграло роль в стачечном движении, уже как единственная организация многочисленного класса плотников, тогда существовавшая.
Другая организация, существование которой можно констатировать, это «Типографский клуб», союз наборщиков, официально называвшийся так: «Club typographique et philanthropique». Возник он осенью 1790 г. и продержался до закона Ле Шапелье, сделавшего немыслимым его существование. Этот «клуб» издавал даже свой профессиональный орган, который должен был выходить приблизительно еженедельно, но на самом деле выходил нерегулярно. Успел выйти 31 номер, причем первый появился 1 ноября 1790 г., а последний — 31 мая 1791 г. [39]. Эта организация наборщиков, если судить по протоколам заседаний (печатавшихся в только что упомянутом органе), ставила себе задачи чисто профессионального или даже чисто технического характера; очень много места занимают статьи для самообразования: ряд биографий знаменитых деятелей типографского искусства и т. п. Иногда проскальзывают известия общеполитического свойства, но это носит чисто информационный характер, и известия не сопровождаются никакими комментариями. Вообще же организация всячески подчеркивает, что все ее отношение к политике выражается в беспрекословном подчинении закону, что ее цели — профессионально-благотворительные и технические и т. д. Относительно политики дело обстояло, по-видимому, в самом деле так; но вообще протоколы заседаний, по крайней мере печатавшиеся, едва ли были свободны от дипломатических умолчаний.
Дело в том, что единственная существовавшая тогда крупная организация хозяев — упомянутое в этой главе «Энциклопедическое общество» — очень скоро встревожилось существованием «Типографского клуба» и в цитированной уже выше своей петиции к муниципальным властям просит принять меры против этой профессиональной рабочей ассоциации. Две полных страницы (из семи) в этой петиции посвящены донесению на «Типографский клуб» [40]. «Энциклопедическое общество», «всегда привязанное к конституции, декретированной Национальным собранием», «формально доносит» (dénonce formellement) на «одно новое общество, которое создалось под названием «Типографский клуб» и которое состоит только из рабочих-наборщиков»; доносит на него, как на «противное свободе и даже разрушающее свободу, нами завоеванную». Этот клуб «абсолютно презирает самую букву мудрых декретов Национального собрания», именно букву распоряжения, воспрещающего собираться по профессиям и корпорациям. Это запрещение, не столь ясное и категорическое, как изданный год спустя закон Ле Шапелье, и служит базисом для разбираемого донесения. «Энциклопедическое общество» спешит указать также и точный адрес, где собираются члены этого противозаконного клуба, и жалуется на постановления, которые клуб в своих заседаниях делает. Вот приводимое в донесении постановление клуба, которое, очевидно, и вызвало обращение хозяев к властям: ни один рабочий, работающий в типографиях Парижа, не может делать работу за цену ниже той, какую произвольно установил другой рабочий, начавший эту работу, или даже тот рабочий, которому только предложили ее. Если рабочий согласится работать за меньшую плату, то клуб типографщиков обращается к нему с воспрещением продолжать работу; если он не обратит внимания на это запрещение, то все другие рабочие отказываются входить с ним в общение; если он и к этому окажется нечувствителен, то ему угрожают подстеречь его за углом, от угроз переходят к поступкам и т. д. Конечно, это постановление изложено доносившими не текстуально. Это явствует из слова «arbitrairement»; «Типографский клуб» не мог говорить о запрещении работать ниже той цены, которую произвольно установил рабочий, начавший работу; в этом слове («произвольно») заключено порицание, вполне естественное в данном случае со стороны доносивших, но не со стороны тех, на кого доносили; да и в дальнейшем тексте это отклонение от текста ясно проглядывает. Во всяком случае, по существу, исследователь больше должен поверить все-таки этому донесению, нежели умолчанию в протоколах «Типографского клуба»: в излагаемых (в донесении) фактах слишком чувствуется жизненная правда. Есть и косвенный аргумент в пользу того мнения, что клуб был не вполне откровенен в своих протоколах.
Внимание полиции было обращено на клуб, и когда в апреле 1791 г. стачечное движение коснулось и типографщиков, то сейчас же клуб был обеспокоен. В середине апреля (1791 г.) один из «администраторов департамента полиции» написал соответствующему полицейскому комиссару, что по полученным им сведениям на rue de la Huchette (адрес, указанный в донесении «Энциклопедического общества») происходят по вторникам и пятницам заседания наборщиков; члены этого «комитета» ходят по типографиям и заставляют рабочих покидать работу, если они работают по меньшей цене, нежели установленная комитетом [41]. В заседании клуба, где было об этом запросе доложено, был высказан председателем протест и обвинение названо было ложным. Впрочем, председатель и еще один член клуба доложили одновременно, что они побывали уже у властей и опровергли обвинение, а кроме того, еще сказали властям: «… наш клуб — это только собрание людей благотворительствующих и патриотов». — «Мы были хорошо приняты, — это известие должно вас успокоить», — спешат они обрадовать своих слушателей. Но тут же в этом заседании проскользнули слова, которые исследователь обязан принять к сведению: «… клуб… занимается исключительно филантропией, и только и занимается, что улажением споров, которые происходят между рабочими и владельцами типографии, когда они пишут ему об этом письма». Если это так, то почему же теперь только читатель узнает об этой миротворческой деятельности клуба? Почему вообще ни о каком вмешательстве в споры хозяев с рабочими не было и речи в протоколах заседаний, и зашла о нем речь только тогда, когда пришлось оправдываться от категорически высказанных обвинений? Это и показывает, что дипломатические умолчания в напечатанных протоколах клуба в самом деле были.
Опасность миновала, но она была близка: в департаменте полиции «дело шло не меньше, как о закрытии клуба» [42].
Чтобы заявить перед властями о своей безупречности в политическом отношении, сейчас же была принята резолюция, что первый долг филантропа (ведь это слово входило в название клуба) заключается в повиновении государственным законам, и поэтому всякий, кто не будет свято повиноваться законам, будет вычеркнут из списка членов клуба [43]. Беспокойство было так велико, что когда наборщики провинциальных типографий просили клуб аффильировать также и их, то клуб не решился принять это в высшей степени выгодное и важное для него предложение и только решил установить с ними сношения. Когда движение среди типографщиков перешло в более острый фазис (уже в мае 1791 г.), то клуб, по крайней мере официально, высказал порицание насильственным действиям рабочих. Владельцы некоторых типографий жаловались, что их собственность подвергается нападениям и отчасти уничтожению. Тогда (в заседании 8 мая) в клубе было прочтено и одобрено письмо части его членов, в котором отмечалась вся предосудительность насильственных действий против типографщиков, делались призывы к миру и спокойствию, говорилось о необходимости для всех членов их собрания хорошо себя держать относительно владельцев типографий, чтобы этим самым заставить и их хорошо держать себя относительно рабочих [44], и, наконец, указывалось, что подобные эксцессы могут погубить во Франции свободу, подобно тому как это было в Риме, попавшем во власть «тиранов, Тибериев, Неронов». Орган клуба, печатая это письмо, пишет, что собрание не должно терпеть, чтобы его члены прибегали к насилиям, иначе «наше собрание, которое есть только собрание благотворительное, прослывет за собрание бунтовщиков и нарушителей общественного спокойствия. Муниципалитет, видя это забвение принципов, подумает, что название благотворительного собрания — лишь пустой предлог», чтобы диктовать законы владельцам типографий [45]. Дабы муниципалитет этого не подумал, было решено, что всякий посягающий на собственность или вторгающийся в дом владельца типографии — «дурной гражданин», недостойный заниматься типографским искусством, и что навлекший на себя гнев закона не может оставаться в их среде.
А в том же номере читаем глухие строки, показывающие, что орган клуба считает жертвами стачки не только владельцев типографии: «работы всюду прерваны; отовсюду несутся вопли страждущего человечества; тюрьмы наполнены изнемогающими и несчастными жертвами…» [46]. Эта общая картина относится не к одним типографщикам.
Мы естественно подошли к моменту стачечного движении 1791 г.
5
Стачечное движение, происходившее в столице в апреле и мае 1791 г., отличалось весьма обширными размерами и захватило много промыслов, но и тут документов у нас осталось от него чрезвычайно мало, и в тени, по необходимости, должны остаться некоторые весьма существенные пункты. Августовская вспышка 1789 г. не может идти в сравнение с тем, что происходило весной 1791 г., ни по размерам, ни по самой своей сущности.
В самом деле, вспомним то, о чем шла речь в третьей главе настоящей работы: слуги, оставшиеся без мест, устраивают сборища и требуют высылки савояров, являющихся конкурентами; рабочие-портные требуют от хозяев увеличения платы и вместе с хозяевами в одно и то же время требуют от властей запрещения лоскутникам изготовлять новое платье; парикмахеры требуют устранения лица, виновного в поборах с них; наконец, рабочие, занятые на общественных земляных работах на Монмартре, волнуются из-за удержания платы за два праздничных дня и затем внушают опасения, что не пожелают разойтись, когда муниципалитет решает их распустить. Все эти волнения происходили в период жестокого кризиса, в период свирепствовавшей безработицы, и неудивительно, что в общем было единственное требование (портных), обращенное собственно к хозяевам, относительно увеличения платы, да и оно осталось невыполненным; было бы даже удивительно, что оно возникло, если бы мы не знали, что именно портные в эти первые 5–6 недель после учреждения национальной гвардии получили разом много работы по обмундированию десятков тысяч солдат.
Напротив, движение, бывшее весной 1791 г. и послужившее непосредственной причиной к изданию закона Ле Шапелье, является по преимуществу борьбой рабочих против хозяев из-за увеличения заработной платы; и выросло оно на более благоприятной экономической почве, нежели та, которая могла быть в 1789 г. Повторяем то, что было сказано в начале этой главы: если даже не поддаваться всецело восторженному утверждению торговых депутатов Монпелье (о цветущих фабриках, много работающей и много сбывающей промышленности и т. д.), то все же и их показания, и категорические утверждения Барнава и докладчика комитета земледелия и торговли Гудара, и косвенные доводы — все это не позволяет историку экономической жизни Франции поставить эпоху 1790–1791 гг. в одну скобку с 1789 г. и с 1792–1793 и последующими годами. Движение, которое было бы non sens’ом в период безработицы, стало для рабочих многих промыслов возможно в 1791 г. Посмотрим, что дают нам уцелевшие скудные известия об этом движении.
Что оно было весьма обширно, в этом нельзя сомневаться. Оно охватило плотников [47], кузнецов [48], слесарей, башмачников, столяров [49], типографских рабочих [50], каменщиков [51], кровельщиков [52], и, правда, по пристрастному показанию хозяев, к нему в общем примкнуло в Париже 80 тысяч человек [53]. Муниципалитет также засвидетельствовал, что стачка охватила рабочих разнообразных профессий, и, между прочим, в своих воззваниях, выпущенных по этому поводу, обращается ко всем рабочим вообще, ко всему рабочему классу Парижа [54]. Но если мы можем установить самый факт обширных размеров стачки, то сколько-нибудь обстоятельных сведений о ней у нас нет, и, главное, документы, случайно сохранившиеся, относятся главным образом только к плотникам и кузнецам. Во всяком случае и они весьма интересны.
Ход дела представляется в следующем виде. Стачка вспыхнула в середине апреля, прежде всего среди плотников и типографских рабочих.
14 апреля 1791 г. рабочие с разрешения муниципалитета собрались и пригласили хозяев, чтобы выработать вместе с ними новый «регламент», касающийся заработной платы: именно, они требовали минимальной платы в 50 су в день (иначе говоря, 2 ливра и 10 су) взамен 30–40 су, которые обыкновенно большинство из них получало. Хозяева отказались прийти на совещание. Прождавши бесплодно четыре дня, рабочие начали стачку. Они работали лишь у согласившихся на этот регламент и старались воспрепятствовать работам у других предпринимателей. Сами они не ясно пишут в своем докладе, поданном муниципалитету [55], будто некоторые хозяева согласились, а кроме того, будто некоторые лица из самих рабочих завели работы и, нанимая рабочих, сами даже требовали введения этого регламента. Все это показание носит несколько пристрастный характер. Напротив, хозяева повели упорную борьбу против рабочих, и если случаи, подобные указываемым, были, то едва ли не потому, как утверждают хозяева в своем заявлении, что у некоторых предпринимателей было много заказов и им пришлось volens-nolens временно согласиться. Во всяком случае, миром дело не окончилось.
Уже 22 апреля муниципалитет выслушал доклад о «соглашениях, устраиваемых рабочими, плотниками и наборщиками, с целью увеличить заработную плату и воспрепятствовать другим рабочим работать не по той расценке, какую они хотят установить, а хозяевам — воспрепятствовать брать не тех рабочих, каких они хотят им давать» [56]. Выслушав доклад, муниципалитет поручил «администраторам департамента полиции» выработать заявление «к рабочим разных профессий» с целью усовестить их и показать нелогичность их домогательств, или, как говорит протокол заседаний, «pour les rappeler aux principes et leur faire connaître l’inconséquence de leurs demandes». Движение продолжалось. Через четыре дня муниципалитет одобрил представленный ему проект и постановил опубликовать «Заявление рабочим», которое представляет для нас живой интерес [57]. Муниципалитет говорит, что ему известно, что рабочие ежедневно собираются в очень большом количестве, столковываются, «вместо того, чтобы употребить свое время на работу», и делают постановления, причем «произвольно устанавливают таксу платы за рабочий день». Некоторые рабочие далее ходят по разным мастерским, сообщают там свои постановления и употребляют угрозы и насилия, чтобы увлечь их за собой и заставить их бросить работу. Муниципалитет знает, «что почтенный и трудолюбивый рабочий класс всегда давал самые недвусмысленные доказательства своей привязанности к конституции и своего повиновения закону», и считает поэтому нужным просветить тех, кто поддался «заблуждению или вероломным инсинуациям» и дозволил себе эти предосудительные выходки. Муниципалитет касается далее того, что ввиду только что состоявшейся отмены специальных пошлин на ввозимые в Париж припасы жизнь должна подешеветь, и прибавляет, что если несправедливо было бы со стороны хозяев под этим предлогом уменьшать заработную плату, то и со стороны рабочих несправедливо требовать увеличения заработной платы: тут муниципалитет явственно намекает, что рабочие должны быть уже за то благодарны, что хозяева, несущие бремя новых налогов взамен уничтоженной пошлины, не уменьшают заработной платы. Далее муниципалитет заявляет, что в обновленной стране не должно быть никакой регламентации в установлении заработной платы, но должна царить полная свобода соглашения между нанимателем и рабочим: «каждый рабочий, когда он является к собственнику или предпринимателю, должен быть совершенно волен запрашивать у него плату, которую, как он думает, он может получить. Но он может домогаться этой платы только для себя лично, он может ее требовать, только когда о ней добровольно условились. Если бы было иначе, то не было бы справедливости и, следовательно, не было бы свободы». И муниципалитет переходит непосредственно к философскому обоснованию своего утверждения: «Все граждане равны в правах. Но они не равны и никогда не будут равны по способностям, талантам и средствам: природа не пожелала этого. Следовательно, им нельзя обольщать себя надеждой на равные для всех заработки». Вот почему стачка, стремящаяся к установлению одинаковых цен, была бы невыгодна с точки зрения истинных интересов рабочих. «Подобная стачка, более того, была бы нарушением закона, нарушением общей пользы и средством привести тех, кто эту стачку создал бы, к нужде вследствие неминуемо вызванного ею прекращения или перерыва в работах; она была бы со всех точек зрения истинным преступлением».
Закон уничтожил цехи потому, что всю выгоду от них получали только люди, бывшие их членами; так может ли закон разрешать соглашения (между рабочими), которые заменили бы собой цехи и явились бы воскрешением монополий, ибо отдавали бы все общество во власть небольшого числа их участников и устроителей? Участники и устроители стачек как нарушители закона и врага свободы подлежат наказанию, они нарушают общественный порядок и спокойствие. Муниципалитет оканчивает свое воззвание выражением надежды, что введенные в заблуждение рабочие опомнятся и не доведут муниципальные власти «до необходимости пустить против них в ход средства, которые даны муниципалитету для обеспечения общественного порядка и поддержания силы законов».
Это воззвание, напечатанное во всеобщее сведение, никакого успеха не возымело. Стачки всегда были запрещены и преследовались еще при старом режиме, но это объявление муниципалитета было первым объяснением властей с рабочими, первым принципиальным и публично выраженным отрицанием права стачек за представителями наемного труда и вместе с тем официальным и торжественным утверждением теории невмешательства государственной власти в договор рабочего с работодателем.
Стачка разрасталась. 30 апреля хозяева-плотники всего Парижа прислали в городскую ратушу депутацию, которая передала муниципалитету их общую петицию [58].
Петиция имеет целью побудить власти к более энергичному вмешательству в разгоревшееся движение. Авторы обращают внимание на «необычайные и беззаконные» сборища, устраиваемые с некоторых пор их рабочими «в нарушение всех законов». Решения там принимаются «во всех отношениях абсолютно противные общественному порядку и интересам жителей Парижа»: рабочие определяют там размер платы, и даже для самых слабых устанавливается оценка в 50 су в день, на треть больше той цены, которую они доселе получали. Они поклялись не работать за меньшую плату и вместе с тем не позволить работать товарищам у такого предпринимателя, который не согласится письменно подчиниться выработанным ими условиям. (Это явный намек на другое требование, выставленное, как сказано, рабочими: чтобы хозяева согласились на совместную с рабочими выработку обязательного для них и для рабочих регламента.) Затем, — жалуются хозяева, — рабочие рассыпались по разным мастерским Парижа и силой прекращали работы, которые мирно производились в это время. Хозяева очень были этим обеспокоены и жаловались собраниям своих секций, но их обнадежило было заявление, обращенное муниципалитетом к рабочим (только что нами цитированное); они надеялись, что власти положат конец собраниям, столь «опасным для Парижа». Однако они ошиблись: рабочие упорно настаивают на своем, «они злоупотребляют тем, что положение некоторых предпринимателей заставляет их принести требуемую жертву, чтобы продолжать постройки, возложенные на них, и отдаться во власть сборища рабочих». Эти последние слова всецело подтверждают то, что было нами сказано раньше: самая стачка могла возникнуть и держаться отнюдь не при безработице. Петиционеры просят муниципалитет принять действительные меры, «чтобы уничтожить источник стольких беспорядков», которые скоро отразились бы на всех классах общества и «причинили бы непоправимые несчастья». Они повторяют уже мысль, намеком брошенную в воззвании муниципалитета: пошлины на ввозимые припасы уничтожены, жизнь станет дешевле, и как же согласить с этим обстоятельством требование рабочих об увеличении заработной платы? Желая во что бы то ни стало подействовать на муниципалитет и побудить его к суровым мерам, хозяева указывают на то, что эта стачка увеличит муниципальные расходы на общественные работы. Произойдет это так: «внезапное увеличение заработной платы в плотничьем деле на одну треть неосуществимо», т. е., значит, миром дело не кончится, а продолжающаяся остановка в плотничьих работах приведет к тому, что и все рабочие, занятые по строительной части, должны будут прекратить свои труды. Все эти безработные и пойдут тогда в общественные работы, где муниципалитет должен будет содержать их. Хозяева заявляют, что рабочие не должны быть рабами, но если они обнаруживают желания, вредные для общества, то закон и власти должны вернуть их к исполнению долга. Сегодня стачка нарушает общую волю (в одном), а завтра она может предъявить еще более преувеличенные претензии. Администрация обязана как можно скорее положить этому предел. Никакой установленной цены быть не должно, — «конкуренция естественно определит взаимные интересы».
Петиционеры резюмируют свои пожелания: 1) пусть муниципалитет уничтожит собрание рабочих плотничьего промысла; 2) пусть объявит не имеющими силы всякие постановления, регламенты, обсуждения и т. п., которые были проведены в этом собрании; 3) пусть прикажет доставить себе регистры (протоколы) всех этих обсуждений, рассмотрит их и решит относительно них, что найдет нужным.
Призыв не остался неуслышанным. Муниципалитет ответил депутации, что он серьезно рассмотрит это дело, и сейчас же департаменту полиции было поручено в самый короткий срок представить доклад об этом и снестись также с департаментским советом [59]. Уже через четыре дня было готово и напечатано новое объявление от муниципалитета рабочим, опять-таки ко всем рабочим, а не к одним только плотникам [60]. В этом документе говорится, что муниципалитет убедился, что его первоначальные заявления не произвели на рабочих впечатления, на которое он вправе был рассчитывать; указывается, что в некоторых мастерских происходят насилия, и все это продолжает пугать граждан, смущать общественное спокойствие и заставляет богатых бежать из Парижа. Ввиду этого муниципалитет объявляет «уничтоженными, несогласными с конституцией и необязательными» решения, принятые рабочими разных профессий и запрещающие всем другим рабочим работать по иным ценам, кроме указанных в этих решениях; муниципалитет запрещает всем рабочим принимать впредь подобные решения, повторяет, что никакой таксы и никакого принуждения в установлении заработной платы быть не должно и цены устанавливаются добровольным соглашением между рабочими и нанимателями; наконец, объявляет нарушителями общественного спокойствия всех рабочих, которые будут собираться, чтобы обижать или выгонять вон лиц, работающих в лавках или мастерских, и чтобы мешать их работе. Полицейским же комиссарам предписывается по первому требованию полиции являться с достаточными силами во все места, где собравшиеся рабочие произведут какие-либо беспорядки, причем виновные должны браться под арест, а протоколы без промедления отсылаться обвинительной власти. Командующему национальной гвардией предлагается исполнять это постановление, насколько оно его касается (т. е. оказывать помощь полиции в случае нужды).
Грозная опасность встала перед стачечниками. На другой же день к муниципалитету явилась делегация от рабочих-плотников, которые и передали ему петицию.
Документ, который делегация вручила мэру, пропал, но, к счастью, есть пересказ его, сделанный в единственной газете, поместившей сколько-нибудь обстоятельную заметку о стачке, — № 96 «Les Révolutions de Paris» [61]. Автор заметки говорит, что он пишет ее «a vue des pièces», и так как он правильно, хотя и крайне сжато, излагает известную нам в подлинном тексте петицию хозяев и общий тон его весьма спокойный и непристрастный, то можно думать, что и заявление рабочих передано им верно. — Рабочие стремятся отстоять свое общество, единственную свою организацию, которая для них была незаменима в разгоревшейся борьбе и на которую направили именно поэтому свои удары хозяева. Рабочие заявляют, что их общество есть учреждение благотворительное, цель которого — взаимная помощь при болезнях и в старости. Эти речи нам уже знакомы из истории типографского клуба, который также думал обезопасить себя от преследований, прикрываясь филантропическими целями. Далее, они оправдываются от обвинений, взводимых хозяевами, отрицают насилия, будто бы ими произведенные, и утверждают, что они никакой клятвы не давали. В заключение они просили муниципалитет о посредничестве и предлагали, чтобы муниципалитет приказал доставить себе счетные книги хозяев и после этого судил о том, законны ли домогательства рабочих. Это, заметим, также говорит в пользу того, что экономическая почва для стачки весной 1791 г. существовала бесспорно. Приняв петицию, мэр выслушал устные заявления делегатов.
К сожалению, протокол весьма краток, и мы не знаем, что говорили делегаты, а знаем только то, что ответил им мэр Бальи. Содержание же слов мэра нам уже известно из предыдущих актов муниципалитета. Он сказал рабочим, что никакая власть не может фиксировать плату и принудить хозяев выплачивать ее; убеждал их не мешать работать тем товарищам, которые не желают к ним присоединиться; вообще советовал им вернуться и самим к работе и «защищать свои интересы, но законным образом» [62].
Интересно с мнением официальной власти сопоставить суждения одной из наиболее радикальных и наиболее демократически настроенных газет — той самой, которая одна только интересовалась стачкой и которую мы только что цитировали. В основном вопросе газета согласна с мэром и муниципалитетом. Не во власти муниципалитета требовать от хозяев предъявления счетных книг, — говорит газета [63], — и если только хозяева не согласятся на полюбовную сделку с рабочими, — ни мэр и никто вообще не имеет права определять размеры заработной платы рабочих против воли тех, кто обязан платить. Для доказательства газетой пускается в ход reductio ad absurdum: «… в самом деле, если бы муниципалитет обладал этим правом относительно плотников, то он обладал бы им и относительно всех промыслов, и наперед уже можно видеть, куда бы нас завела эта смешная система». Все это «сводится к простому принципу, что между тем, кто работает, и тем, кто дает работу, тиранично и абсурдно» вмешательство третьего лица. Интересно проследить совпадение во взглядах между публицистом и властями относительно вопроса о том, быть или не быть обществу рабочих, на которое нападали хозяева, приписывая ему руководительство стачкой. Газета делает, правда, ничего не значащую оговорку: «Если рабочие, как они говорят в своей петиции, сблизились между собой только затем, чтобы оказывать друг другу помощь и обеспечить себя на случай болезней и немощей, этот мотив, без сомнения, похвален, и опасности, которым они каждый день в своем ремесле подвергаются, могли бы сделать законной эту ассоциацию, если бы что-нибудь могло сделать законным то, что противно общественному порядку. Но мы должны сказать правду: собрание, куда могут быть допущены только люди, занимающиеся одной и той же профессией, оскорбляет новый порядок вещей, оно (своим существованием) омрачает свободу; изолируя граждан, оно делает их чуждыми отечеству; уча их заниматься самими собой, оно заставляет их забывать общее дело; словом, оно стремится увековечить тот эгоизм, тот корпоративный дух, который хотели уничтожить вплоть до названия, ибо он — смертельный враг духа общественности».
Эти слова — красноречивее многих страниц, посвященных воззрениям XVIII в. на наемный труд и на нужды и права его представителей; и вместе с тем тут есть еще нечто специфически принадлежащее не всему XVIII в., а именно концу его, революционной эпохе. Автор даже хочет верить явно малоправдоподобному объяснению рабочих, что их организация в разгаре стачки занимается единственно только благотворительностью, оказанием помощи больным и престарелым, и все-таки не считает возможным терпеть ее: она достойна преследований, не хотя, а потому, что преследует профессиональные цели, и даже узко профессиональные, чисто благотворительные. Он восстает против этой организации во имя свободы, общего интереса и т. п. Рабочие не должны объединяться ничем, никакими, даже самыми безобидными, профессиональными целями, ибо это вредит «общественному порядку». Тут подозрительность ко всяким корпорациям, ко всяким организационным ячейкам, свойственная в высочайшей степени всей революционной эпохе, проявляется во всей своей силе. И тут еще автор статьи желает быть великодушным, желает верить рабочим. Но он считает долгом прибавить, что «это собрание было бы еще более опасно, если бы там принимались решения, противные общему интересу, если бы там затевались преступные стачки с целью остановки работ, если бы беспорядок и насилия, производимые некоторыми, хотя и не одобряемые большинством, исходили из этого очага».
Категорически признавши стачки преступными, организацию рабочих — опасной, просьбы рабочих о вмешательстве властей — неосновательными, автор обращается к вопросу об увеличении платы по существу, и здесь (и это тоже характерно) обнаруживается, что он, собственно, признает справедливость требований рабочих. Он «далек от того, чтобы считать плату в 2 ливра 10 су (т. е. 50 су, которые требовали рабочие) слишком высокой», и только думает, что для рабочих самих невыгодно устанавливать этот минимум, ибо способный работник может заработать и больше. А затем статья кончается выходкой против хозяев, которая написана в весьма враждебном тоне: «… мы им советуем поскорее отделаться от старых привычек, приобретенных при старом режиме; под сенью своих привилегий они долго мучили рабочих, они жирели от пота рабочих, но это счастливое [64] время уже прошло; большие и быстро составляемые состояния — не в духе конституции», — и автор рекомендует хозяевам быть сговорчивее и так устроить соглашение с рабочими, чтобы рабочий имел обеспеченное существование, а собственник почувствовал уменьшение в ценах (за постройки), т. е. автор желает, чтобы и рабочий получил то, что ему нужно, и чтобы предприниматели в то же время меньше брали с заказчиков за труд. Как же это возможно? Ответом должна служить вскользь брошенная им фраза об уничтожении пошлин на привозимые припасы.
Этот враждебный тон и есть отличие демократически настроенного журналиста от муниципалитета и прочих властей. Если вся буржуазия, как один человек, стояла в этот период за принцип невмешательства государства в установление размеров заработной платы, за недопустимость каких бы то ни было рабочих организаций, за признание стачек преступлением, то часть ее, буржуазная демократия, яркой выразительницей которой была цитированная нами газета, верила тогда искренно, что «дух конституции» непримирим с «большими и быстро составляемыми состояниями», была чувством враждебна притеснению труда представителями капитала, но, конечно, при общих своих воззрениях логически совершенно беспомощна указать какой бы то ни было выход из создавшегося положения. Другие газеты крайнего лагеря предпочли совсем молчать о стачке.
Между тем стачка не прекращалась, и преследования со стороны властей согласно последнему заявлению муниципалитета шли очень деятельно. Наступило то тяжелое для бастующих время, которое и характеризуется уже цитировавшимися выше словами органа клуба наборщиков: «… работы всюду прерваны; отовсюду несутся вопли страждущего человечества; тюрьмы наполнены изнемогающими и несчастными жертвами».
Недовольные тем не менее, что организация рабочих еще уцелела, хозяева обращались в течение мая несколько раз к властям с просьбой о еще более энергичном образе действий относительно стачечников. 22 мая хозяева просят уже не муниципалитет, а Национальное собрание прийти к ним на помощь [65]. Они указывают на грозящую опасность распространения стачки во всех не только парижских, но и вообще французских мануфактурах и предприятиях и на то, что это нанесло бы «роковой удар торговле», ибо французские фабриканты не могли бы тогда выдержать конкуренции с заграничными. И всему будет виной организация рабочих-плотников. «Национальное собрание, которое предвидело все, что может благоприятствовать торговле, не предвидело, что образуется корпорация с целью уничтожить торговую деятельность столь несправедливыми притязаниями». Подчеркивая, что все воззвания и меры муниципалитета остались пока тщетными, «предприниматели и другие граждане имеют право ждать от мудрости Национального собрания, что оно издаст декрет с целью помешать образованию всякого рода корпораций, вредных для прогресса и свободы торговли».
Тогда рабочие опять решили отвечать. Поданная ими в Национальное собрание записка от 26 мая 1791 г., которую Жорес ошибочно считает [66] ответом на петицию хозяев от 30 апреля, на самом деле была ответом именно на только что цитированную петицию от 22 мая, о которой у Жореса даже ни словом не упоминается. Заметим, кстати, что у Жореса ответ рабочих датирован неправильно [67].
В своем ответе рабочие описывают стачку с самого ее возникновения 14 апреля, подчеркивают, что они «всецело послушны законам», и указывают, что они сначала хотели полюбовно сговориться с хозяевами, но те не пришли на совещание [68]. Рабочих обидело такое пренебрежение «со стороны тех, которые должны были бы их почитать и любить, так как именно от них хозяева обогащаются».
Тогда хозяева, — пишут рабочие, — обратились в департамент полиции и не преминули обвинить рабочих в том, что те — враги законов, общественного порядка и спокойствия. Что касается до заявления, опубликованного муниципалитетом, то рабочие «признали чистоту намерений муниципалитета» и, — пишут они. — не отнеслись к нему с пренебрежением (как обвиняли их хозяева в позднейших петициях). Затем рабочие переходят к наиболее беспокоящему их пункту: хозяева в своей последней петиции указали на опасность, проистекающую от «корпоративного собрания рабочих», которое стремится увеличить заработную плату путем прекращения работ. Хозяева, по мнению рабочих, очень тут недобросовестны: «… они хорошо знают, что цель нашего общества — взаимная помощь друг другу в болезнях и старости. Если это они называют корпорацией, то как назовут общество благотворительности? Но их цель — представить рабочих в самых черных красках, приписывая им преступные намерения». Все это ложь, и статья 7 правил, выработанных рабочими, гласит, что «рабочие обязуются никогда не пользоваться тем, что у хозяина очень спешная работа, для того, чтобы заставлять его платить более условленной цены». Хозяева ссылаются на принципы свободы и во имя их просят закрыть рабочую организацию; рабочие тоже опираются на декларацию прав. Национальное собрание, — говорят они, — объявляя эту декларацию, «наверно предвидело, что эта декларация для чего-нибудь пригодится самому нуждающемуся классу, который так долго был игрушкой деспотизма предпринимателей». Рабочие тут переходят в наступление и обвиняют хозяев, что они сами столковываются между собой, чтобы давать рабочим как можно меньше, собираются ежедневно для этого и т. д. И рабочие надеются, что «Национальное собрание не будет покровительствовать соглашению предпринимателей, клонящемуся к преступному угнетению». Все шаги хозяев обнаруживают эгоизм и упорство в отстаивании их старинных привилегий; эти шаги показывают также, что они — «заклятые враги конституции, потому что не признают прав человека, и что они — усерднейшие сторонники самой крайней аристократии, а следовательно, враги общественного блага».
Мы видим, что, отстаивая свою организацию, рабочие повторяют в свое оправдание, что она преследует чисто благотворительные цели, и вместе с тем пользуются одинаковым оружием и исходят из одной точки зрения со своими хозяевами: рабочие тоже обращают внимание властей на политическую неблагонадежность своих врагов; рабочие укоряют хозяев в желании воскресить времена цехов; рабочие признают преступными всякие соглашения с целью влиять на заработную плату и только переносят это обвинение с себя на своих врагов, приглашая Национальное собрание принять меры против «преступного» соглашения предпринимателей. И тени какой бы то ни было защиты своей позиции по существу здесь нет, да и быть не могло: слишком неравна была борьба, слишком законченно и твердо было господствовавшее воззрение на «свободу труда», на недопустимость профессиональных организаций и слишком смутно и неясно было еще самосознание рабочих, несмотря на обидчиво высказанное убеждение, что хозяева «от них» получили свое состояние. Все это подтверждается еще более любопытным свидетельством. Жорес, вообще знакомый всего с двумя документами, касающимися всей этой стачки (петицией хозяев от 30 апреля и только что цитированным «Précis» рабочих от 26 мая), ничего не говорит и о том документе, к которому мы сейчас приступим; а между тем для историка общественных классов во Франции он в высшей степени интересен.
Это как бы обращение рабочих-плотников к общественному мнению с целью оправдаться от обвинений, взводимых на них предпринимателями [69]. Помечено оно 2 июня, т. е. когда, вероятно, вырабатывался уже проект закона Ле Шапелье; написано малограмотно, фразы иногда неправильно построены и даже не окончены. Опасность, нависшая над стачкой и над организацией, которой рабочие так дорожили, явная враждебность и муниципалитета и Национального собрания могли обусловить подобную своеобразную «Flucht in die Oeffentlichkeit». Конечно, это обращение к общественному мнению осталось совершенно без последствий и даже без ответа: ни в одной газете никакого намека даже на его существование мы не встретили.
Характерной чертой этого документа является стремление найти себе союзников среди буржуазии, и прежде всего рабочие хотят привлечь на свою сторону «собственников», т. е. домовладельцев и землевладельцев, являвшихся главными клиентами плотничьих «предпринимателей». Уже из статьи газеты «Les Révolutions de Paris» мы могли видеть, что вопрос об интересах собственников вовсе не забывался лицами, писавшими о распре предпринимателей с рабочими. Но в разбираемом нами документе рабочие с этого и начинают; они заявляют прямо, что их предприниматели еще привязаны к старым, отмененным цеховым законам, ибо «эти законы давали им власть располагать трудом рабочих, которым они давали работу», а также позволяли им вступать «в преступные соглашения», благодаря которым они «располагали по своему желанию имуществом собственников». Они быстро создали себе состояния, постоянно эксплуатируя труд рабочих, с одной стороны, а с другой стороны, вводя собственников в огромные и излишние расходы и очень часто подвергая собственников опасности разорения, а иногда и прямо разоряя их [70]. Рабочие надеются на свое освобождение и на то, что они завоюют доверие сограждан, не взирая на «алчную и вероломную ревность» хозяев.
Платы, которую они получали, было недостаточно: в теплое время года они получали 36, 38 и очень немногие — 40 су в день, а зимой — 30, 32 и очень немногие — 34 су. Предприниматели не соглашаются на такую умеренную плату, как 50 су в теплое время года и 45 су — зимой. Рабочие приглашают граждан обратить внимание на тяжкое положение их, на то, что рабочие создали состояние хозяев, а также просят принять во внимание, «что эти большие и быстро составленные состояния не в духе революции». Эти последние слова (ces grandes et rapides fortunes ne sont pas dans l’esprit de la révolution) являются почти дословным повторением фразы, сказанной по тому же поводу газетой «Les Révolutions de Paris» за две недели до того; только тут поставлено слово révolution вместо слова constitution. Было ли это случайное совпадение? Но в таком случае надо было бы признать, что этих совпадений два, ибо указание на интересы собственников также содержится и в этом документе, и в цитированном нами номере газеты; весьма может быть, что номер газеты «Les Révolutions de Paris», единственный, где говорилось о стачке, читался рабочими, и они воспользовались и мыслью о собственниках, и фразой о несовместимости больших состояний с духом конституции, причем эту фразу переписали почти дословно. Характерно это стремление, обращаясь к обществу, пользоваться указаниями журналиста, который для этого общества пишет, но который, в сущности, чувством восставая против эксплуатации, по убеждениям стоит всецело на точке зрения властей и, пожалуй, этих самых хозяев. Конечно, с особенным жаром авторы защищают перед общественным мнением свою организацию. «Честный человек старается смягчить участь ближних», — так издалека заводят они свою речь. Если хозяева «противятся, как только могут», этому учреждению, то только потому, что они не разделяют человеколюбивых намерений рабочих. «Мы образуем кассу взаимопомощи для больных и увечных, столь часто попадающихся в нашем промысле»; но это учреждение «было бы не полно», если бы основатели не имели возможности его поддерживать; для избежания злоупотреблений нужна корреспонденция; словом, авторы хотят показать, что вся связь, которой эта организация соединяет своих членов, тоже служит целям чисто благотворительного характера. И вот из-за этого — «столько жертв, которые внесли отчаяние в недра семейств». С характерным негодованием они называют «лживыми обвинителями» своих противников за то, что те усматривали в их требованиях постановления [71]. Боязнь слов выступает здесь весьма ярко… Для читателя этого документа становится вполне ясно, что рабочие чувствуют себя в полном смысле слова — как в лесу, боятся каждого слова — и своего, и чужого — и с жаром защищаются от подозрения в том, что они хотят образовать цех.
Желая показать свой патриотизм, рабочие попутно дают нам еще одно интересное показание. Хозяева говорят, — читаем мы в конце документа, — что рабочие должны были бы жаловаться в то время, когда и человек достаточный с трудом мог удовлетворить своим нуждам. «Пусть же узнают они, — отвечают авторы разбираемого документа, — что, привыкши приносить в жертву свое страдание для неблагодарных, мы сумели пожертвовать им для нашего отечества». Речь идет, разумеется, о 1789 г., о страшном вздорожании хлеба и съестных припасов в ту пору. Рабочие объясняют тот факт, что стачечное движение, подобное настоящему, не разразилось тогда, своим патриотизмом, нежеланием мешать первым шагам нового режима. Мы не будем возвращаться к уже высказанной мысли и напоминать, что 1789 год был годом не только хлебного кризиса, но и безработицы, при которой стачечное движение, подобное движению 1791 года, было совершенно невероятно. Для нас интересно только это постоянно там и сям встречающееся противопоставление 1791 года 1789 году. Хозяева, далее, говорят, что цена, получаемая рабочими, остается такой, какой была всегда. Рабочие соглашаются, что они были всегда несчастны, а их эксплуататоры жили в роскоши [72], и только возмущаются, как те могут вести такие речи. Документ кончается новым уверением в патриотизме и призывом к гражданам верить в справедливость их желаний, а также заявлением, что они будут ждать удовлетворения от законов и никогда не сойдут «со стези добродетели».
Стачка не прекращалась и в других промыслах. Через 2 дня после появления в свет только что рассмотренного обращения рабочих-плотников к согражданам в муниципалитет была подана (4 июня) объяснительная записка хозяев кузнечных мастерских по поводу претензий, предъявленных к ним служащими у них рабочими [73]. При скудости подобных документов, касающихся стачки на других промыслах (кроме плотников), объяснительная записка хозяев кузнечных мастерских должна уже a priori заинтересовать исследователя. Внимательное рассмотрение ее показывает, что этот интерес вполне заслужен.
Этот документ прежде всего имеет своеобразную внешнюю форму: это печатная брошюра в 8 страниц, причем каждая страница разделена пополам: левая сторона содержит опровержение требований рабочих, составленное хозяевами, и озаглавлена так: «Observations des maréchaux sur le mémoire des garçons»; правая же сторона озаглавлена: «Mémoire présenté par les garçons maréchaux ferrants à M. le Maire et à М. M. les officiers municipaux». Следовательно, тут мы имеем дело не с одним, а с двумя документами. Что касается первой части («Observations des maréchaux»), то, конечно, в его подлинность мы должны верить, ибо ведь сами же хозяева и подали весь этот мемуар муниципалитету. Но насколько точно они переписали на правой стороне страницы ту записку, которую составили и представили в муниципалитет их рабочие? Ведь, эта записка рабочих пропала, и ничем решительно мы не можем документально доказать, что записка изложена хозяевами вполне верно и точно. Тем не менее есть некоторые доводы, говорящие в пользу подлинности напечатанного хозяевами текста. Во-первых, как сами хозяева заявляют, записка рабочих уже представлена муниципалитету; следовательно, муниципалитет всегда мог уличить хозяев во лжи, если бы они на это пошли. Во-вторых, хозяева опубликовали этот свой мемуар, значит, не боялись самой широкой огласки, и если бы муниципалитет не заметил или не хотел заметить искажений, то искажения были бы замечены заинтересованными. В-третьих, стиль и тон записки, печатаемой на правой стороне разбираемого документа, безусловно, обнаруживают, что писали эти фразы, в самом деле, защитники интересов рабочих, и писали с большой горячностью. Что касается вопроса, насколько полно перепечатана здесь записка рабочих, то, конечно, об этом судить труднее. Можем только сказать, что наиболее важные вопросы, волновавшие других рабочих, в этой записке затронуты, и, кроме того, есть кое-что, с чем мы до сих пор при разборе других документов, относящихся к стачке, не встречались.
Разногласие рабочих и хозяев заключается в следующем. Рабочие пишут, что их промысел — самый тяжелый и опасный и их работы не могут быть прорваны без прямого вреда для общества; а вместе с тем их труд хуже оплачивается, чем труд других рабочих, и плата все не увеличивается, несмотря на прогрессивное вздорожание предметов первой необходимости. Хозяева на это возражают, что этот промысел по утомительности и опасности нельзя и сравнить с промыслом плотников, кровельщиков и т. д. Если же сами рабочие признают, что без вреда для общества нельзя прерывать их работу, то они этот вред и причинили, бросивши работу и принудивши товарищей к тому же.
Следующий (2-й) пункт разногласий очень интересен: повторяя уже знакомую нам мысль, рабочие пишут, что они «верно соблюдали закон и субординацию» и не требовали увеличения содержания «во времена смут и брожения», ибо, «одушевленные самым чистым цивизмом», они не хотели тогда «увеличивать затруднения и заботы администрации». Хозяева с раздражением возражают по этому пункту: «эта статья обозначает, что рабочие-кузнецы не оставили своих хозяев и не требовали увеличения платы в начале революции, но их патриотизм легко поставить на должное место. В эту эпоху число мастерских уменьшалось со дня на день; мастерские, где работало 5 и 6 рабочих, сокращались наполовину, и рабочие, бывшие в большом количестве без работы, не стремились тогда предписывать законы, как теперь. Только после того, как весь излишек рабочих принужден был отхлынуть назад в провинцию и мастерские вернулись к необходимому им числу рабочих, они (рабочие) выставили свои требования». Это злорадное изобличение, что не патриотическое стремление уменьшить заботы администрации, а именно безработица удержала рабочих в 1789 г. от стачки, имеет значение не только как подтверждение факта, который не трудно понять и a priori, но и как свидетельство, что в 1790–1791 гг. массы голодающих, пришедшие в страшную зиму 1788/89 г. в столицу, опять стали возвращаться на землю: урожай 1790 г. не мог этому не способствовать. К этому факту численного уменьшения рабочей и безработной массы в столице мы еще вернемся в следующей главе в совсем другой связи.
Рабочие жалуются далее, что получаемая ими плата не увеличивалась уже в продолжение 50 лет и их требование не ново. Они и в 1764, и в 1769, и в 1786 гг. жаловались на это начальникам полиции (М. М. les lieutenants de police), и те все признавали основательность их заявлений, но давали только «пустые и бесплодные обещания». Хозяева отрицают это и говорят, что не только 50, но и 35 лет тому назад рабочие получали всего 12 или 15 ливров в месяц (т. е. по 10 су и меньше в день) и что начальники полиции, осведомленные и тогда хозяевами, опровергли требования рабочих. Как же дело обстоит теперь? Рабочие пишут, что они получают всего 30 су в день, а в других промыслах плата повысилась и доходит даже иногда до 3 ливров. Правда, там и хозяева повысили расценку своих товаров и изделий, но ведь и хозяева кузнечных мастерских берут теперь, в 1791 г., от 3 до 5 ливров за то, что брали в 1750 г. 50 су, т. е. берут теперь в 6–10 раз больше.
Хозяева возражают, что рабочие-кузнецы, кроме своих 30 су, получают еще даровое помещение и освещение, так что в общем надо считать, что они получают по крайней мере 36 су в день. Что касается сравнения с другими работами, то там рабочие часть года (в некоторых промыслах) не могут работать; им не платят за воскресенья и праздники, когда работы нет; у них делают вычеты за пропуск хотя бы частицы (одной четверти и даже меньше) рабочего дня. А кузнецы, напротив, работают целый день, не знают мертвого сезона, зарабатывают и в воскресенья, и в праздники; воскресений же и праздничных дней в году в общей сложности — 82 дня.
Рабочие жалуются и на долгий рабочий день: они в кузнице с 4 часов утра до 7 часов вечера без отдыха, и у них часто не хватает времени даже поесть; это разрушает их здоровье. Они просят установить 13-часовой рабочий день. Хозяева опровергают это; у рабочих, — пишут они, — есть 2 часа на еду; работают они на две трети меньше того, как могли бы, если бы работали для своей выгоды. Иногда, правда, им приходится много работать, но тогда они и зарабатывают больше и от заказчиков получают «les légères rétributions» по 6 су за подкованную лошадь. А здоровье их разрушает не этот промысел, но распутное поведение.
Рабочие требуют установления платы в 40 су в день или по крайней мере в 36 су и надеются, что хозяева не будут против этого спорить, тем более что некоторые уже согласились по своей инициативе давать эту плату, а более выдающимся рабочим даже прибавили, сверх того, по 4 ливра в месяц. Хозяева ухватываются за эти слова и подчеркивают, что если рабочие признают неодинаковость способностей, то они не могут требовать и фиксации платы. Есть рабочие, которым стоит платить 50 су, есть и такие, которые не заслуживают и 30.
Рабочие, предвосхищая аргумент хозяев, говорят, что уничтожение пошлин на ввозимые в Париж припасы не удешевит их жизни: они живут не домами, а питаются в харчевнях и не заметят этого удешевления. Хозяева возражают, что, напротив, удешевление хлеба и вина непременно отзовется на положении рабочих. Кроме того, рабочие не платят никаких налогов и даже квартирного сбора, ибо живут у хозяев (речь идет, конечно, только о кузнечном промысле). Рабочие жалуются, что они получают в конце каждого месяца жалованье ассигнациями и «обращение этой бумаги в деньги» причиняет им убытки, размеры которых с каждым днем все увеличиваются. Уже поэтому без увеличения жалованья они не могут существовать.
Ассигнационный кризис, как сказано, уже начался, но в начале 1791 г. трудно было и приблизительно предвидеть, до каких страшных размеров он дойдет впоследствии. Хозяева отвечают, что они и сами страдают от этого падения ценности ассигнаций, но «если рабочие хвалились своим патриотизмом и своим цивизмом, если они французы, то они должны, как все добрые граждане», терпеть ради общего блага и т. д.
К кому же обращаются со всеми этими жалобами рабочие? К властям, «защитникам народа», к справедливости и гуманности их они взывают и опять повторяют, что пока основы конституции не были заложены, пока администрация не была организована, они терпели страдания, но воздерживались от жалоб. Теперь же их положение ухудшилось до крайности и еще тяжелее стало из-за редкости звонкой монеты [74].
Хозяева в свою очередь жалуются, что рабочие, отказываясь работать и мешая браться за работу другим, «рассеявшись по деревням, чтобы возбуждать там тот же дух восстания», обнаруживают подобным образом действий, что их жалобы на тяжелое свое положение лживы. Это говорится, чтобы обратить внимание властей на опасность со стороны стачечников, и сейчас же с ударением указывается на то, что сам мэр «уже заметил весьма справедливо, что он не может располагать ни руками рабочих, ни кошельком тех, которые их нанимают, и что цены могут быть определены только по добровольному обоюдному соглашению тех и других».
Отказываясь удовлетворить требования рабочих, хозяева еще указывают на одно обстоятельство, о котором не пишут ничего их противники: что рабочие составили определенные условия, клятвенно обещались их выполнения требовать и заставляют хозяев подписывать эту бумагу. Такая «инквизиция» не должна иметь места «в момент общей свободы». Это аналогично с тем, что мы уже видели у плотников, тоже составивших «регламент». А не пишут ничего об этом рабочие потому, что власти, к которым они обращались, считали подобный образ действий преступным, и сами рабочие, боясь каждого неосторожного выражения, особенно опасались таких слов, как «le serment», «l’arrêté» и так далее, указывавших на организацию.
Настойчиво отрицая за муниципалитетом право какого бы то ни было вмешательства в пользу рабочих, хозяева с самого начала стачки, как мы видели, не переставали упорно домогаться и требовать усмирения бастующих и энергичной в этом смысле помощи. И чем дольше тянулась стачка, тем раздражительнее становились хозяева. Наконец, они подали прошение председателю бюро «комитета конституции» Национального собрания, в котором прямо принесли жалобу на «слабость» муниципалитета.
Инициатива исходила от представителей хозяев кузнечных Мастерских, но документ имеет характер общего протеста предпринимателей [75]. Заявляя о «восстании рабочих», о стачке, охватившей 80 тысяч парижски рабочих разных промыслов, они просят защиты от «тирании рабочих». Интересно их заявление о стачечниках: «… собрание огромной массы людей, которые считают, что должны быть по своим интересам и принципам отделены от остальных сограждан». Они хотели этими словами выразить наибольший упрек, но самая мысль совершенно не верна: сознание обособленности своих интересов еще не владело умами рабочих и их «принципы», как мы видели, в общем не отличались от принципов всей массы буржуазии, приверженцев нового режима. Хозяева опять-таки подчеркивают, что рабочие уже ведут пропаганду в провинции, в деревне, и ввиду предстоящей уборки хлебов и вызываемого ею большого скопления «другой части граждан» в деревнях это может породить большие беспорядки. Под «другой частью граждан», занятых уборкой хлебов, понимаются, конечно, сельскохозяйственные рабочие, и призраком стачки среди них петиционеры рассчитывают испугать Собрание. Затем, «как им ни жаль», но они не желают скрыть от Собрания, что муниципалитет «по незнанию своих обязанностей или, скорее, по слабости» является причиной всех этих беспорядков. Муниципалитет покровительствовал собраниям рабочих, терпел эти собрания, а когда «всеобщий крик» заставил его сознать свою вину, то было уже поздно, и рабочие ответили «презрением» на заявления, обращенные к ним. Не только от своего имени, но «от имени всех ремесл и промыслов» петиционеры просят об ограждении свободы.
Мы обращаем внимание читателя на то обстоятельство, что этот документ был направлен непосредственно в «комитет конституции»; подобные петиции, если они не направлялись опытной рукой, всегда адресовались просто в Национальное собрание или президенту Национального собрания, а уже когда попадали в Собрание, то на них делалась соответствующая приписка (сверху или на полях), в какой именно комитет их подлежит отправить. Но когда вмешивались лица, знакомые с порядками и делопроизводством, то бумага адресовалась самими петиционерами прямо по принадлежности. Когда, например, лица, хлопотавшие в 1790 г. об уничтожении корпорации «du devoir», обратились с этой бумагой к Дюпон де Немуру, то он ее прямо и отправил в «комитет конституции». А теперь тоже ясно, что хозяевам было указано, куда надлежит эту их бумагу направить; «комитет конституции» спустя несколько дней и внес на обсуждение Собрания законопроект, докладывать который пришлось Ле Шапелье. Почти в то же время в этот же «комитет конституции» решил обратиться все по поводу стачек и сам муниципалитет, «чтобы узнать о принципах, которые должны руководить администрацией» в ее образе действий по этому поводу [76].
Слово было за народными представителями.
6
Ле Шапелье, с именем которого в истории связан закон от 14 июня 1791 г., был влиятельным и заметным членом Национального Учредительного собрания [77]. Это был типичный представитель той еще тогда всецело господствовавшей тенденции, согласно которой буржуазия, сохраняя королевскую власть, тем не менее должна была зорко следить за ней, а с другой стороны, и столь же зорко следить за социальными низами. Король бежал из Парижа, двор раскрыл свои карты, владычеству буржуазии грозит опасность со стороны приверженцев старого режима, и Ле Шапелье идет вечером 21 июня в якобинский клуб, он готов на решительную борьбу: произошла манифестация 17 июля, выступила демократическая масса, манифестанты расстреляны национальной гвардией, и Ле Шапелье борется против горсти депутатов демократического оттенка, раздраженных расстрелом и отброшенных в оппозицию.
Это был холодный, методический и трезвый политик-практик. «L’exact Chapelier, clair et méthodique mais souvent à côté de principe», — так характеризует его г-жа Ролан [78]. В эту весну 1791 г. люди типа г-жи Ролан совершенно разошлись с Ле Шапелье, охранительные стремления которого выступали тем резче, чем неспокойнее было в столице. 10 мая Ле Шапелье предложил Национальному собранию проект декрета, сильно ограничивавшего право петиций французских граждан: воспрещались петиции от обществ, клубов, от пассивных граждан (т. е. не имевших избирательного ценза). Вызван был этот проект просьбой консервативно настроенной директории департамента Парижа и, конечно, в первую голову поражал рабочих, почти сплошь не обладавших цензом. «Бесстыдный Ле Шапелье делал доклад об этом, — пишет г-жа Ролан в частном письме, — он был так хитер, собрание так дурно, а народ так невежествен, что ему аплодировали со всех сторон. Я не знаю, как можно быть свидетелем таких сцен и не проливать кровавых слез» [79]. Декрет о петициях прошел в несколько смягченном виде (см. следующую главу), но самый проект показывал, что на очереди дня — политика возможно большего отмежевания Франции, имеющей ценз, от Франции, ценза не имеющей. Этот деятель от имени «комитета конституции» и внес 14 июня 1791 г. на обсуждение собрания новый проект «закона, относящегося к сборищам рабочих и ремесленников одного и того же промысла и профессии».
Жорес, единственный из французских историков революции, писавший о законе Ле Шапелье, говорит, что Ле Шапелье вообще ненавидел всякие корпорации, группировки — все, что стояло между личностью и государством, но, прибавляет Жорес, «кажется, что его ненависть против всего, что было корпорацией, группировкой не была симулирована и не была только предлогом, чтобы рассеять силу рабочих» [80]. И далее Жорес поясняет, что, конечно, социальная концепция Ле Шапелье служила интересам буржуазии, но признает недоказанным, что Ле Шапелье предложил закон от 14 июня главным образом, «чтобы обезоружить пролетариат». Остановимся на этом утверждении. До Жореса это было не доказано по той простой причине, что законом Ле Шапелье вообще никто внимательно не занимался. Маркс в своем «Капитале», конечно, имел полное право не обращать внимания на детали той исторической обстановки, среди которой возник закон Ле Шапелье; он только отметил в 20–25 строчках этот закон в ряду законов других стран, которые были изданы для понижения заработной платы и запрещали стачки и рабочие союзы; и в общем плане труда Маркса семи-восьми страниц, посвященных характеристике подобных законов в разных странах с XV до XIX в., оказалось вполне достаточно: весь этот небольшой параграф ему был нужен как одна из характерных черт в широкой общей картине «первоначального накопления». Но при таком масштабе требовать от Маркса, чтобы он отвел закону Ле Шапелье больше нескольких строк, было бы странно. А после Маркса этим законом мало интересовались, и, повторяем, только Жорес обратил на него сколько-нибудь серьезное внимание. И если Жорес считает недоказанным, что закон Ле Шапелье имел непосредственной и ближайшей целью именно уничтожить «силу рабочих» и обезоружить их, то это происходит потому, что он, вопреки хронологии, раньше говорит о законе Ле Шапелье, а потом о весенней стачке 1791 г., причем, как уже было замечено, о стачке этой говорит лишь на основании двух документов. Если бы он видел зловещие обращения хозяев кузнечных мастерских и самого муниципалитета в «комитет конституции», откуда спустя несколько дней и вышел закон Ле Шапелье, то для него стало бы совершенно ясно, что Ле Шапелье этим законом прямо отвечал на обращенную в его комитет просьбу муниципалитета «указать администрации принципы, которыми она должна руководиться», ввиду тех «фактов», которые должны были комитету «изложить» комиссары, т. е. ввиду непрекращавшихся стачек. Мало того, сам Жорес с присущим ему чутьем в анализе психологии фактов социальной истории уже по одному из двух известных ему документов (когда он после закона Ле Шапелье переходит к стачке), именно по петиции хозяев-плотников от 30 апреля, догадывается об истине и восклицает: «… c’était donc bien sur une première lutte entre salariés et capitalistes que la Constituante se prononçait par la loi Chapelier: et il est impossible de méconnaître l’origine de classe de cette loi» (цит. соч., стр. 621).
Совершенно правильная мысль, но она диаметрально противоположна тому, что Жорес говорит несколькими страницами раньше (будто Ле Шапелье предложил этот закон не для «обезоружения пролетариата»).
Germain Martin в своей книге «Les associations ouvrières au XVIII siècle», вышедшей почти одновременно с книгой Жореса, вполне правильно называет закон Ле Шапелье une loi de circonstance (стр. 242). Но он совершенно неверно освещает дело, когда говорит, что законодатель чувствовал решительную необходимость воспрепятствовать этой мерой воскрешению цехов («… le législateur de 1791… éprouve un besoin impérieux; interdire les associations professionnelles qui pourraient faire revivre les maîtrises et les jurandés de la petite industrie»). Цехи тут были решительно не при чем; речь шла вполне определенно о необходимости парализовать стачечников в их борьбе с хозяевами и сделать впредь эту борьбу возможно более затруднительной. По социальной своей природе цехи, как известно, скорее всего могут быть сочтены первоначальными организациями хозяев, и об их воскрешении если кто и мечтал, то именно некоторые хозяева, но отнюдь не рабочие (да и то не в 1791 г., когда все домогательства о восстановлении цехов были явно абсурдны, но гораздо позже). Полемический прием Ле Шапелье, направленный против рабочих организаций, мог заключаться в приравнивании их к цехам и тому подобному, но никакого иного значения подобным утверждениям придавать нельзя.
Далее, связав было закон Ле Шапелье со стачечным движением 1791 г., G. Martin вдруг приходит к совершенно неожиданному и совершенно произвольному выводу, будто творцы закона не предвидели его последствий (стр. 248, цит. соч.: «Alors on ne préyoyait pas que liberté individuelle imposée à l’ouvrier serait pour lui une cause d’infériorité, qu’elle l’isolerait en face d’un patronat puissant»). Напротив, именно это-то «изолирование» и ослабление представителей наемного труда прежде всего и имелись в виду при издании закона Ле Шапелье, и никаких недоразумений тут не произошло.
Уже на основе всех приведенных выше документов и соображений мы считали бы совершенно доказанным, что закон от 14 июня, вполне согласный с общей концепцией огромного большинства Национального собрания и самого Ле Шапелье о вреде всякого рода корпораций и прочего, вместе с тем был проведен с сознательной и вполне определенной целью уничтожить возможность каких бы то ни было организаций не только в будущем, но и в настоящем, нанести стачкам, длившимся с апреля и в июне еще не прекратившимся, окончательный удар.
Но если бы могли быть насчет этого хоть какие-нибудь сомнения, то их рассеивает без остатка тот доклад, которым сам Ле Шапелье на заседании 14 июня 1791 г. мотивировал необходимость принять законопроект.
Свой доклад и проект Ле Шапелье внес от имени «комитета конституции». Он так и начал, что докладывает собранию от имени комитета о «нарушении конституционных принципов, уничтожающих цехи». Нарушение это порождает большие опасности для общественного порядка. Некоторые люди вздумали воссоздать уничтоженные цехи, устраивая собрания, на которых выбирались президенты, секретари, синдики и другие должностные лица, причем это были собрания представителей промыслов, ремесл. Цель этих собраний, «которые распространяются в королевстве и которые уже установили между собой сношения», заключается в том, чтобы заставить предпринимателей работ увеличить плату за рабочий день, мешать полюбовному соглашению между рабочими и работодателями, принуждать их подписывать обязательные постановления этих собраний и другие регламенты, которые они позволяют себе составлять. При этом пускается в ход насилие, даже когда работающие в той или иной мастерской довольны своей платой. Из-за этого уже произошли беспорядки. Первые рабочие, которые собрались, получили разрешение на собрание от парижского муниципалитета (речь идет о начале стачки плотников 14 апреля). «В этом отношении муниципалитет, по-видимому, совершил ошибку. Без сомнения, должно быть позволено всем гражданам собираться; но не должно быть позволено гражданам известных профессий собираться из-за их, так называемых, общих интересов» [81]. Никому не должно быть позволено отделять граждан от общего дела, внушая им корпоративный дух. Ле Шапелье не обманут уверениями вроде тех, которыми, как мы видели, плотники хотели спасти свое общество взаимопомощи, а наборщики — свой «Типографский и филантропический клуб». Он докладывает, что собрания, о которых идет речь, представили специальные мотивы, чтобы получить разрешение от муниципалитета: они были предназначены, по их словам (elles se sont dites destinées… etc.), для оказания помощи рабочим, больным или безработным; эти кассы взаимопомощи показались полезными. «Но пусть не обманываются этим утверждением»: доставлять работу нуждающимся в ней и помощь больным должна сама нация через посредство должностных лиц. А частная деятельность в этой области клонится к «воскрешению цехов»; происходят частые собрания лиц одной и той же профессии, выборы синдиков и т. п., составление регламентов, исключение тех, кто не подчинится регламентам. «Таким образом, возобновились бы привилегии, цехи и т. д.». Мы видим, что Ле Шапелье все время говорит не только во множественном числе о профессиональных обществах, но и так, как если бы обществ этих было много, а в документах указания, как мы видели, сохранились лишь о двух: плотничьем и типографском: и когда обширная организация хозяев («Энциклопедическое общество») подало в начале 1791 г. свое заявление в муниципалитет, то оно, как мы видели, жаловалось всего на одну единственную организацию рабочих (тот же «Типографский клуб»). Как же объяснить показание Ле Шапелье, который к тому же говорит, что эти общества распространяются по королевству? Могло быть, что всякие следы других действительно существовавших обществ погибли, ибо, ведь, и до закона Ле Шапелье они должны были держаться довольно конспиративно: могло быть, правда, и то, что Ле Шапелье намеренно не говорил, что этих обществ всего два, ибо в интересах успеха законопроекта было преувеличить грозящую от подобных организаций опасность. В пользу последнего предположения отчасти, казалось бы, говорит то, что, как читатель легко заметит, сопоставляя доклад Ле Шапелье с ранее приведенными документами, докладчик не сообщает почти ничего такого, чего он не мог узнать из документов, касающихся двух известных нам организаций: те же обвинения в составлении регламентов, в требовании подписки от хозяев, в выборе председателей и других должностных лиц, та же ссылка со стороны обвиняемых на кассу взаимопомощи и благотворительные цели. Но все-таки есть одно указание, которое Ле Шапелье не взял из дошедших до нас документов: в число благотворительных функций этих организаций, по его словам, входит также помощь безработным. Это нечто для нас новое. Кроме того, тот, кто захотел бы отстаивать первое предположение, мог бы еще сказать, что слова Ле Шапелье носят чрезвычайно общий характер, и те признаки, которые он пересчитывает, в самом деле применимы не только к двум, а и ко многим организациям; точно так же и благотворительные цели могли выставляться не двумя, а многими обществами. «Эти несчастные общества», как называет их презрительно докладчик, сменили собой общество «du devoir», которое «всячески притесняло» не желавших подчиниться «его регламентам». Мы видим, что Ле Шапелье воспользовался теми уже разобранными выше петициями, направленными против «compagnons du devoir», которые он мог найти в «комитете конституции» еще с весны 1790 г.
Эта вскользь брошенная фраза дает нам два указания, подтверждающие раньше высказанные нами предположения: во-первых, что в 1790 г., когда организация «du devoir» еще действовала, она притесняла посторонних ей рабочих именно за нежелание считаться с выработанными ею теми или иными условиями вознаграждения труда, которые она могла предъявлять хозяевам, ибо слово «règlement» во всем докладе Ле Шапелье и в понимании самих рабочих имело именно такой смысл; во-вторых, что в эпоху стачек 1791 г. корпорация «du devoir» оставалась совершенно в тени: Ле Шапелье направляет громы не против нее, а против сменивших ее обществ, говоря о ней в давно прошедшем времени. Для окончательной убедительности Ле Шапелье еще (никого определенно не называя) намекает, что, по имеющимся у него основаниям, можно подозревать, что мысль об этих обществах была внушена рабочим не столько в целях увеличить путем стачки их заработную плату, сколько с тайным намерением возбудить смуту. Кем внушена, — докладчик не говорит. Если это намек на контрреволюционеров, то подозрение не выдерживает никакой критики: ни единого слова об этом не говорят даже хозяева, сильнейшим образом раздраженные против стачечников, и будь у Ле Шапелье хоть тень основания или доказательства, он бы, конечно, одним намеком не ограничился [82].
Доклад кончается подтверждением принципа свободного соглашения между рабочим и работодателем, причем Ле Шапелье, «не входя в рассмотрение вопроса», какова именно должна быть заработная плата, все-таки признает, «что она должна бы быть немного значительнее, чем в настоящее время», что «в свободной нации заработная плата должна быть настолько значительна, чтобы получающий ее не был в абсолютной зависимости», которая проистекает от лишения предметов первой необходимости и почти равносильна рабству; английские рабочие получают больше, нежели французские, замечает он при этом.
Эти заключительные и ни к чему не обязывающие фразы должны были придать оттенок беспристрастия докладу так же, как и подчеркивание в самых последних словах, что предлагаемый декрет направлен против соглашений рабочих с целью увеличить плату и против соглашений предпринимателей с целью уменьшить ее.
Вслед за тем был предложен самый проект декрета. Этот проект повторяет и подчеркивает ранее существовавшие запрещения каких бы то ни было профессиональных соглашений, соединений и обществ, но делает это подробно и обстоятельно [83], а кроме того, угрожающе направлен против сборищ стачечников в случае, если бы они пожелали насильственным путем остановить работы.
Статья первая провозглашает, что уничтожение всякого рода корпораций граждан одной и той же профессии есть одна из основ французской конституции, и поэтому воспрещено таковые корпорации восстанавливать под каким бы то ни было видом и предлогом. Это характерная статья: она показывает явное желание приравнять всякие профессиональные организации к уничтоженным уже по закону цехам. Слово «rétablir» ясно выдает этот умысел. Во второй статье как предпринимателям, так и рабочим воспрещается «называть себя президентом, секретарями, синдиками», вести регистры, принимать решения, создавать регламенты относительно «их, так называемых, общих интересов». Мы вспоминаем тут, что хозяева-плотники именно жаловались на постановления, на регламент, выработанный рабочей организацией. Третья статья запрещает административным или муниципальным учреждениям принимать какие бы то ни было адресы или петиции от имени какой-либо профессии, отвечать на подобные обращения; и предписывается тщательно следить, чтобы никаких последствий подобные прошения не имели. Четвертая статья предусматривает стачки: если люди одного промысла или профессии, «вопреки принципам свободы и конституции», вступили бы в соглашение, клонящееся к отказу от работы или к тому, чтобы работу брать лишь по определенной цене, то подобные решения и соглашения, сопровождаемые ли клятвой, или нет, объявляются не конституционными и покушающимися на свободу и на декларацию прав человека; власти обязаны объявить их недействительными, а «их авторы, главари и подстрекатели к ним» предаются суду и приговариваются к 500 [ливрам] штрафа и лишению на год всех прав активных граждан с воспрещением входа на собрания. Пятая статья обличает ту заботу, которая сказалась и в уничтожении благотворительных мастерских: строго воспрещается (под личной ответственностью) всем административным и муниципальным властям допускать к общественным работам лиц, виновных в вышеупомянутом преступлении, если они добровольно не явились в трибунал полиции и не отказались от своего образа действий или не опровергли (обвинения в нем). Смысл статьи заключается в том, чтобы стачечники не могли найти себе временного заработка в благотворительных мастерских. Шестая статья предусматривает случай, когда в решениях или соглашениях подобного рода (оглашенных путем расклейки или раздачи объявлений и т. п.) будет заключаться какая-либо угроза против предпринимателей, ремесленников, рабочих или посторонних поденщиков, которые пришли бы работать в данную местность, или против тех, которые согласились бы работать за низшую плату; все авторы, подстрекатели и подписавшие эти акты или бумаги подвергаются штрафу в 1000 ливров и трехмесячному заключению. Седьмая статья приравнивает лиц, покушающихся путем угроз или насилий на личную свободу предпринимателей и рабочих, к нарушителям общественного спокойствия. Наконец, восьмая и последняя статья приравнивает к мятежным сборищам (attroupements séditieux) и облагает одинаковыми наказаниями собрания рабочих, которые имели бы целью нарушить «свободу промышленного труда», гарантируемую конституцией, и противились бы полицейским правилам или исполнению приговоров. Другими словами, всякое сопротивление стачечников полиции уполномачивало власти провозгласить немедленно военное положение и призвать вооруженную силу.
Таков был проект, внесенный Ле Шапелье 14 июня 1791 г.
Чрезвычайно характерен для историка тот обмен мнений, который воспоследовал в Собрании тотчас после прочтения проекта, но характерен именно полным отсутствием принципиальных возражений, быстротой, с которой все восемь статей проекта прошли без малейших изменений [84]. Послушаем тем не менее, что говорилось на заседании; это даст кое-какие любопытные черточки. Едва Ле Шапелье окончил свой доклад, как справа раздался голос: «А клубы?» Спустя некоторое время восклицание объяснилось: это одно духовное лицо (в протоколе нет фамилии, сказано только un ecclésiastique à droite) предложило прибавить к декрету еще один пункт, в котором воспрещались бы не только собрания рабочих, но и клубы. Это был выпад против якобинцев и кордельеров. Готье-Биоза заявил, что декрет, представленный Ле Шапелье, тем нужнее принять, что «дух корпорации и исключительных привилегий» начинает опять проявляться. Так, бывшие стряпчие суда Шатле собираются, принимают решения и т. д. Все это дошло до сведения оратора, и вот, держась того же мнения по существу, как и комитет (т. е. Ле Шапелье), он желал бы ввиду важности дела отсрочки до следующего дня, чтобы успеть обдумать. Затем он усматривает «некоторое противоречие» между декретом и свободой собраний, которую должна гарантировать конституция; «конечно, лица одной и той же профессии никогда не должны устраивать соглашений, но если они встретятся в обществе…»
Тут Ле Шапелье разъяснил ему, что отложить проект даже на день нельзя: «… было бы очень неосторожно откладывать проект декрета, который мы вам представляем, потому что брожение столь же велико в провинциальных городах, как и в Париже, и весьма необходимо принять декрет очень быстро». Собрание решило рассмотреть декрет, не откладывая. Первая статья прошла без прений. Относительно второй один депутат потребовал, чтобы она применялась «ко всем отраслям безразлично»; это также являлось вылазкой против клубов и было встречено ропотом, и по предложению Шабру Собрание приняло статью без изменений. По поводу третьей статьи опять Готье-Биоза выступил с требованием, чтобы было прибавлено еще особое запрещение бывшим стряпчим Шатле собираться; Ле Шапелье разъяснил, что эта статья, само собой, применима и к стряпчим Шатле. После кратких пререканий (все по поводу стряпчих) между Готье-Биоза и тремя другими депутатами поправка его была отвергнута и третья статья принята. Совершенно без всяких возражений были приняты статьи четвертая, пятая, шестая и седьмая. Только грозная восьмая статья возбудила мимолетное сомнение у депутата Ласалля: «Уже есть закон о военном положении для всех сборищ, и бесполезно теперь вносить это дополнение в существующий закон», — заявил он. Ле Шапелье возразил, что опасения предшествующего оратора могут быть успокоены теми словами статьи, где говорится, что вооруженная сила призывается «по законным требованиям властей»; он настаивал, что об этом случае (т. е. сборищах стачечников) нужно специально упомянуть, «чтобы не могли вводить рабочих в заблуждение, ибо на самом деле их вводят в заблуждение», их приводят, «чтобы помешать такому-то или такому-то работать в такой-то мастерской потому, что он не хочет требовать той цены, которую хотят требовать другие».
Если бы нужно было еще одно указание, к какой именно цели стремился Ле Шапелье, то эти слова в смысле отчетливости не оставляли бы желать ничего лучшего. Сейчас же после его заявления статья восьмая прошла. Декрет был принят целиком, и по предложению Камюса Собрание решило напечатать вместе со статьями декрета также и доклад Ле Шапелье, чтобы, выражаясь словами Камюса, «просветить рабочих относительно их обязанностей».
Как только дело было сделано и последняя статья прошла, Ле Шапелье предложил признать единственное исключение из этого закона: позволить «коммерческим палатам» собираться; «конечно, вы хорошо понимаете, что никто из нас не желает мешать коммерсантам говорить сообща о своих делах», — сказал он, и по его предложению в протокол заседания было включено, что декрет, только что принятый, не относится к коммерческим палатам. Эта заботливость, чтобы декрет, направленный по существу дела именно против всяких профессиональных обществ и собраний, не явился вследствие слишком общей редакции помехой для представителей торговли и индустрии, ярко оттеняет психологию его творца, бесспорно, одного из самых умных, деятельных и сознательных кодификаторов этих первых времен полного политического торжества французской буржуазии.
Два другие дополнения к декрету, предложенные сейчас же вслед за этим, не прошли.
Кроме уже упомянутого не называемого по фамилии духовного лица, предложившего дополнить декрет статьей о клубах, еще одно предложение дополнить декрет было сделано: оно исходило от аббата Жалле. Подобно прочим, он тоже хлопочет не о сужении, но о расширении запретительного смысла декрета: он предложил прибавить статью о сборищах, происходящих летом, во время жатвы, в деревнях. Он ссылается на то, что в 1790 г. происходила масса «мятежных сборищ» с целью увеличить плату за жатву хлеба. Решено было обратить внимание на это предложение при разработке «сельского кодекса» [85]. На этом все прения были покончены.
Удивляться, что решительно ни единого слова не было сказано против проекта Ле Шапелье, нельзя; вспомним, что сами рабочие считали возможным отстаивать только благотворительные цели своих обществ, что на донесения хозяев они отвечали донесениями на хозяев, причем требовали кар хозяевам за устраиваемые будто бы темп соглашения относительно того, чтобы давать только низшую плату. Даже и отдаленного представления о праве путем хотя бы мирной стачки бороться за свои интересы у рабочих не было, как не было его и у буржуазии. Но у буржуазии была в руках могучая сила, которой у рабочих не было и в помине, — полнота государственной власти. И она ею широко воспользовалась при проведении закона, именно в тот момент ей понадобившегося. И если демократически настроенные депутаты промолчали, ибо не имели на самом деле принципиальных возражений, то рабочая масса, у которой этот закон вырывал оружие из рук как раз в минуту затеявшейся борьбы, промолчала не только поэтому, но и еще вследствие слишком явной безнадежности сопротивления. В следующей части этих очерков мы покажем, как быстро у рабочей массы менялся тон, менялись требования, находились новые аргументы, выдвигались неожиданно новые точки зрения, едва только ей начинало казаться, что сила в данный момент в ее руках.
Закон Ле Шапелье действовал непрерывно 73 года и был отменен (в той части, которая касается наказуемости всяких стачек, даже проводимых мирным путем) лишь в 1864 г., когда в законодательном корпусе прошел проект Эмиля Олливье, поддержанный правительством. За весь этот период 1791–1864 гг. в одни эпохи закон Ле Шапелье применялся более сурово, в другие — менее сурово, но самый принцип наказуемости стачек царил непоколебимо. В XIX столетии он вызывал нередко много нареканий и возмущения; его несовместимость с развивающимися и осложняющимися социальными отношениями, свойственными прогрессирующему капиталистическому строю, стала очевидной задолго до того, как Наполеон III решил отменить его. Но в момент издания закона Ле Шапелье руководящее общественное мнение отнеслось к нему так же как отнеслось само Национальное собрание. Г-жа Ролан, называвшая Ле Шапелье «impudent», Камилл Демулен, бранивший его, как известно, словами «ergoteur misérable», сердились на него по другим поводам, — тут же совершенно не высказали своего суждения. Впрочем, и внимание всего общества было почти сейчас же отвлечено одним из решающих событий революции: Людовик XVI подписал закон Ле Шапелье 17 июня, а через 3 дня, 20 июня 1791 г., бежал из Парижа. Перед этим событием побледнело бы и стушевалось даже и не такое второстепенное явление, каким тогда показался закон Ле Шапелье.
Закон не вызвал ни малейшей оппозиции ни в печати, ни в клубах. Что касается стачки, то известия о ней совершенно обрываются. Нет сомнения, что она окончилась очень скоро после закона Ле Шапелье: ни в протоколах муниципалитета, ни в каких бы то ни было других документах нет уже никакого упоминания о ней, а что она не окончилась до закона Ле Шапелье, явствует из того, что в докладе от 14 июня говорится о стачке в настоящем времени, именно как о явлении еще происходящем («… on emploie même la violence pour faire exécuter ses réglemens; on force les ouvriers» etc.).
Если же она в это время, т. е. после издания закона Ле Шапелье, окончилась, то почему? Не ставя этого вопроса, G. Martin (цит. соч., стр. 236) полагает, что рабочим удалось кое-что получить, причем он ссылается на один документ позднейшего времени. Он не называет этого документа, но, конечно, ясно, что это — прошение, поданное королю Людовику XVIII 16 сентября 1817 г. некоторыми купцами и хозяевами ремесленных заведений о восстановлении цехов [86]. Вспоминая в этом прошении с неодобрением об уничтожении цехов в эпоху революции, просители приписывают этому акту всякие беды, в том числе и падение дисциплины и субординации в мастерских, причем делают подстрочное примечание (на стр. 25 своей докладной записки) такого содержания: «… ce fut à cette époque que les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les couvreurs et beaucoup d’autres artisans retranchèrent dans la ville de Paris deux heures sur la journée de travail qui commençait alors à cinq heures du matin et ne finissait qu’à sept heures du soir. Ils ne la commencent plus le matin qu’à six heures et la terminent le soir à la même herure. Le prix de la journée est ainsi augmentée d’une sixième: maigre les justes réclamations qui se sont souvent élevés contre ce désordre il n’a pas encore été reprimé. Ils n’est pas inutile de faire observer que cette usurpation des ouvriers fut autorisée par la convention nationale afin qu’ils pussent se réunir dans les sections où ils allaient exercer leur sauverainelé à quarante sous par tête». Остановимся с вниманием на этом тексте. Во-первых, что означает выражение «à cette époque»? Идет ли здесь речь именно о стачке, бывшей весной 1791 г., или вообще о всей эпохе между уничтожением цехов (2 марта 1791 г.) и временем Конвента, который, как они жалуются, узаконил порицаемые ими порядки? Заметим кстати, что G. Martin неверно цитирует это место; у него цитата начинается произвольно вставленными им самим словами: en 1791 вместо подлинных слов документа «ce fut à cette époque que» и т. д. Кавычки у него поставлены пред словами «en 1791», так что читатель должен остаться в совершенно ложном убеждении, будто так начинается цитируемое место на самом деле.
Но допустим, что речь идет именно о времени весенней стачки 1791 г. Тогда является другой вопрос. Они пишут, что «в эту эпоху» каменщики, плотники, столяры, кровельщики и много других ремесленников уменьшили рабочий день на два часа, и вместо того, чтобы начинать работу в 5 часов утра и кончать в 7 часов вечера, они (с тех пор) начинают в 6 часов утра и кончают в 6 часов вечера. Перечитывая все документы, относящиеся к стачке, мы видим, что требование уменьшения рабочего дня было выставлено только в петиции кузнецов (о которых, кстати, в разбираемом тексте ничего не упоминается), в других же документах ничего об этом не говорится, а только развивается требование увеличения заработной платы. Наш текст дальше еще более ясен: «цена рабочего дня, таким образом, увеличена на одну шестую часть». Значит, размеры платы, выдаваемой рабочему, остались те же, и только число часов стало меньше. Едва ли это могло удовлетворить людей, требовавших увеличения заработной платы на треть и заявлявших, что они не могут существовать на свой заработок, особенно ввиду падения ценности ассигнаций. Вот и вся «узурпация» рабочих, о которой пишут петиционеры 1817 г. и которую санкционировал по их словам Конвент [87]. Если и признать (без всяких оснований), что это сокращение рабочего дня в некоторых промыслах с 14 часов до 12 было достигнуто именно тотчас же после вотирования закона Ле Шапелье, то и тогда трудно было бы приписать только этой уступке хозяев внезапное окончание стачки рабочих, которые 2 месяца настойчиво боролись за увеличение заработной платы. Но, кроме того, такое совпадение уступки хозяев с появлением закона Ле Шапелье чрезвычайно мало вероятно уже потому, что по мере того, как стачка шла, тон хозяев делался все резче и непримиримее, и не тогда, когда их усилия привели, наконец, к изданию закона Ле Шапелье, стали бы они вдруг соглашаться на уступку.
Вполне допуская, что петиционеры 1817 г. правы в своем общем указании и что сокращение рабочего дня с 14 часов до 12 в целом ряде промыслов последовало в эпоху 1791–1792 гг., мы вследствие только что высказанных соображений не этому обстоятельству приписываем конец стачки.
Стачка в момент издания закона Ле Шапелье длилась ровно два месяца (14 апреля — 14 июня); она сопровождалась не только, конечно, обычными в подобных случаях тяжкими экономическими последствиями для скудного рабочего бюджета (причем это еще серьезно осложнялось ассигнационным кризисом, уже начинавшимся), но стоила вообще больших усилий и жертв: вспомним слова профессионального органа наборщиков о «переполненных тюрьмах», «изнемогающих жертвах» и т. д. Муниципалитет начал уже преследовать стачечников. К этому присоединилось закрытие работ по разборке Бастилии, и через два дня после вотирования декрета Ле Шапелье были закрыты (16 июня), как мы уже видели, благотворительные мастерские. В предыдущей главе мы уже отмечали, что одной из причин к закрытию мастерских, как явствует из доклада Ларошфуко-Лианкура, было именно стремление облегчить хозяевам частных предприятий борьбу с рабочими. Внезапное появление многих тысяч безработных на рынке труда могло также сильно склонить весы в пользу хозяев. Вот при каких условиях декрет Ле Шапелье, вотированный 14 июня Собранием, был подписан 17 июня Людовиком XVI и превратился в закон, вошел в действие. Хотя он и не вносил по существу ничего нового во французское законодательство, но, подновляя и усугубляя старинные воспрещения и т. п., облагая даже мирно протекающую стачку наказаниями, грозя самыми решительными мерами в случае действий скопом, подтверждая, что всякие организации недопустимы, закон Ле Шапелье фактически страшно затруднял, даже, можно сказать, делал немыслимым сколько-нибудь планомерное ведение стачечниками начатого предприятия. Еще за неделю до издания закона Ле Шапелье хозяева доводили до сведения властей о «незаконных собраниях» рабочих [88] и ссылались на декрет, запрещающий собрания «par corporations et metiers» (имея, очевидно, в виду запрещение 1790 г., изданное после жалоб на compagnons du devoir). Но после такого решительного и настойчивого подтверждения этого запрещения, как закон Ле Шапелье, конечно, устраивать эти собрания стало гораздо опаснее. Нечего и говорить, что насильственное прекращение работ грозило бы со времени закона Ле Шапелье кровопролитием. Недаром Ле Шапелье, как мы видели, отказывался даже на один день отложить обсуждение своего декрета и прямо мотивировал это брожением среди рабочих.
Все эти условия, несомненно, и прикончили стачку. Хозяева, которые до сих пор, как мы видели выше, всячески пугали представителей власти «восстанием» рабочих по всякому поводу (когда находили это нужным), теперь, в апреле, мае и июне 1791 г., не переставали требовать самых суровых мер, обвиняли муниципалитет в слабости, и если говорили о 80 тысячах рабочих, то именно затем, чтобы власти поторопились с принятием этих суровых мер. Но что касается властей, то все описанные нами тут события не прошли для них бесследно; этот вопрос, впрочем, уже относится к следующей главе. Последняя мера, которая была принята Учредительным собранием относительно рабочих, это декрет от 26 июля 1791 г. Мы не знаем в точности событий, его вызвавших; знаем лишь, что он был признан настоятельным [89], и даже до такой степени, что Собрание прервало обсуждение очень важных законов, лишь бы поскорее его вотировать. Дело шло о воспрещении рабочим бумажных мануфактур покидать своих хозяев, не заявивши о том предварительно за шесть недель в присутствии двух свидетелей. Наказание назначалось в случае нарушения этого закона в 100 франков штрафа. Фабрикант, который примет рабочего без увольнительного свидетельства от прежнего хозяина или от местного судьи, подвергается штрафу в 300 франков. Хотя хозяева тем же декретом тоже обязывались предупреждать рабочего об увольнении за шесть недель, но докладчик Леклер и не скрывает, что декрет вызван трудностью для бумажных фабрикантов быстро найти рабочих и тем, что рабочие, вопреки старому законоположению от 25 января 1739 г., утверждают, будто они вправе когда угодно покидать бумажную мануфактуру, а это, между прочим, может повредить также производству ассигнаций [90]. Особая забота о бумажных фабриках мотивировалась техническими условиями производства.
Собрание приняло без прений предложенный декрет и, в частности, вменило в обязанность комиссарам, в ведении коих находились мануфактуры, выделывающие ассигнации, прибегать к вооруженной силе, если это понадобится для исполнения декрета. Все эти суровые мероприятия были проведены, когда рабочие, по словам самого же докладчика, только еще угрожали общим уходом с мануфактур. К сожалению, больше ничего нам обо всем этом деле не известно.
Ясно только одно: декрет от 26 июля страшно затруднял рабочих бумажных мануфактур в выборе работы. И опять ни в Собрании, ни в прессе ни единого слова не было сказано об этом серьезном ограничении личной свободы представителей наемного труда.
Декрет прошел 26-го числа, т. е. спустя 9 дней после трагического конца манифестации 17 июля. Суровая охранительная тенденция была на очереди дня.
Глава VI
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И РАБОЧИЕ В ПЕРИОД УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
1. Трудность вопроса. Победа нового режима. Новые власти и их отношение к рабочим в 1789–1791 гг. 2. Отношение рабочих к властям. 3–4. Контрреволюционеры и рабочие. 5. Демократическое течение и рабочие. 6. По поводу манифестации 17 июля 1791 г. Заключение
Заканчивая эту первую часть очерков сжатой характеристикой отношений, которые можно отметить между рабочими и представителями различных политических течений, мы еще раз повторяем то, что уже было сказано в предисловии: эта глава потому и сделана последней, что она часто лишь дополняет и поясняет новыми иллюстрациями сказанное уже раньше, в предшествующем изложении. Конечно, главной целью автора и тут было стремление больше осветить взгляды самих рабочих, нежели представителей политических групп, на тот или иной вопрос, вроде, скажем, вопроса о цензе, хотя, конечно, и об этом нельзя было не говорить. Пускаться, однако, в подробное изложение взгляда, например, демократов на ценз, значило бы, сверх того, делать работу, уже сделанную историками, писавшими политическую историю французской революции (главным образом, конечно, Оларом).
Только в параграфах, относящихся к контрреволюционерам, мы сочли нужным дать более детальный анализ взглядов, которые контрреволюционная партия старалась внушить рабочим, так как эта тема никогда еще не разрабатывалась.
1
Внимательное изучение данных, относящихся к предмету настоящей главы, представлялось нам тем более необходимым, что самая задача слишком часто решалась на основании общих и предвзятых соображений. Как и в остальных частях этих очерков, мы старались и тут, совершенно не считаясь с общими характеристиками, уже вошедшими в литературу, допросить исключительно документы и современных событиям свидетелей. И сейчас же представилась трудность задачи: необычайная, даже еще большая, чем для других частей книги, скудость документов затрудняет исследователя буквально на каждом шагу. Рабочие начала эпохи революции были глубоко аполитичны, если можно так выразиться. Почти во всех их заявлениях мы находим, как и следовало ожидать, мотивы непосредственно экономического характера и весьма редко что-либо иное. Политические интересы, даже как нечто прямо вытекающее из нужд и стремлений экономического характера, были для них еще слишком большой и сложной абстракцией. Мы не обобщаем, не говорим, что так было во всю революционную эпоху, и в следующей части очерков надеемся показать, как быстро приспособилась рабочая масса к той новой эфемерной и счастливой для нее конъюнктуре, которую, впрочем, не она и создала.
Но в 1789–1791 гг. мы видим в рабочих людей, в целом равнодушных к тем многообразным и сложным вопросам политического переустройства, которые в это время волновали всю буржуазию и ее побежденных, но не сдавшихся врагов.
Прежде всего, какие политические направления можно различить во Франции за эти годы, за время от начала мая 1789 г., когда собирались народные представители, до сентября 1791 г., когда Учредительное собрание разошлось? Олар говорит [1] (там, где речь идет об этом периоде) о «буржуазии» и «демократии», как о двух отдельных течениях в лагере победителей. Он имеет в виду: 1) течение, консервативное в социальном смысле и обозначившееся почти тотчас вслед за тем, как рухнул старый строй, причем этот консерватизм направлялся в сторону закрепления внезапно наступившего полного и исключительного владычества буржуазии, в сторону охраны всех ее приобретений от покушений сверху или снизу, и 2) течение демократическое, желавшее последовательного и полного осуществления всех логических требований, вытекавших из декларации прав и приобщения народной массы к обладанию всеми правами, какие удержала в своих руках буржуазия. Кроме этих двух течений — буржуазно-консервативного и демократического (выдвинутых — то и другое — представителями буржуазного класса), нас тут интересует, конечно, и третье течение — «аристократическое», как его принято было называть в те времена, или контрреволюционное, как его называли тогда реже, но точнее, ибо не только аристократы к нему примыкали. Посмотрим, как представители этих трех течений смотрели на рабочих и как рабочие к ним относились в интересующий нас тут период Учредительного собрания.
Отношение правящей буржуазии к пролетариату (слово уже было тогда в ходу) выразилось, во-первых, в законодательстве и, во-вторых, в политике муниципалитета. Что касается законодательства, то, как известно, уже через неделю после взятия Бастилии Сиес предложил комитету, вырабатывавшему конституцию, установить различие между «пассивными» и «активными» гражданами [2]. Активных граждан он назвал «истинными акционерами великого социального предприятия»; они и должны были изображать собой ту нацию, которая является источником всякой общественной власти. Декретом от 22 декабря 1789 г. Собрание разъяснило, что активным гражданином, имеющим право голоса на выборах, является всякий француз, достигший 25-летнего возраста, живущий в данном кантоне не менее одного года, не находящийся в услужении (в качестве домашней прислуги) и платящий прямой налог, равный ценности трех рабочих дней. Декретом от 15 января 1790 г. было разъяснено, что цена одного рабочего дня (при определении ценза) предполагалась не выше 20 су (1 ливр). Эти декреты впоследствии были несколько дополнены, но должны были лечь в основу избирательного права; менее 4,3 миллиона человек получили в конце концов право голоса и стали активными гражданами. Олар сопоставляет эту цифру (4 298 360 человек) с цифрой 26 миллионов человек, которые тогда насчитывались во Франции. Если даже мы имеем право усомниться в последней цифре (как сомневается в возможности вообще вычислить сколько-нибудь точно тогдашнее народонаселение Франции проф. Brette в специальном этюде, написанном по этому поводу), то все же официально установленная цифра активных граждан мала сравнительно со всеми допускаемыми предположениями о минимуме взрослого мужского населения; рабочий класс оказался в массе своей исключенным из числа активных граждан. Чтобы иметь право быть избранным в депутаты, необходимо было непременно обладать какой-либо недвижимой собственностью и уплачивать, сверх того, ежегодного прямого налога одну марку (le marc d’argent — около 50 ливров); этот декрет был принят окончательно 3 ноября 1789 г. Далее 1790 г. прошел спокойно, новый режим окреп окончательно, и с весны 1791 г. усиливается антидемократическая тенденция в законодательстве: в мае 1791 г. Ле Шапелье вносит законопроект о петициях, о котором мы уже говорили в предшествующей главе, и предлагает не только воспретить петиции, подаваемые от имени каких бы то ни было коллективных групп, но и объявить право петиций правом, исключительно принадлежащим активным гражданам; другими словами, лица, не удовлетворяющие цензу, не могут даже путем петиций доводить до сведения законодателей и властей о своих нуждах [3].
Только благодаря вмешательству Робеспьера в прения этот пункт был снят. Разражается стачка, и спустя пять недель после закона о петициях тот же Ле Шапелье, как мы видели, вносит и проводит закон о воспрещении стачек и обществ людей одной и той же профессии. Наконец, только что в самом конце главы V мы упомянули о законе, ограничивающем свободу передвижения рабочих, работающих на бумажных мануфактурах.
Таков перечень главных моментов законодательства Учредительного собрания, в которых выразилось буржуазно-охранительное, или, если употреблять терминологию Олара, «буржуазное», направление новых «акционеров великого социального предприятия», как называл законодателей Сиес.
Нужно заметить, что правящие круги, не допуская неимущий класс к законодательным функциям, к занятию выборных общественных должностей и к участию в выборах, стремились, с другой стороны, облегчить бремя прямых налогов, лежавшее на этом классе при старом режиме. Старая истина, что плательщиков ссорят с финансовой системой чаще не косвенные налоги, а прямые, была им хорошо известна. Вот к чему сводились прямые налоги, платившиеся французскими гражданами в эпоху Учредительного собрания; нам об этом гораздо яснее отдельных выкладок и соображений расскажет объявление официального происхождения, которое было выпущено с целью дать гражданам наглядную сводку тех прямых налогов, которые они должны платить [4]. Что же должен был платить рабочий в 1791 г. государственной казне?
Во-первых, подати платятся с недвижимой собственности («la contribution foncière»), с домов и земель. Это к рабочим не относится. Во-вторых, все другие подати называются «la contribution mobilière». Такие подати бывают пяти родов: 1) ежегодный налог активного гражданина, т. е. цена трех рабочих дней (сумма в каждой данной местности определяется муниципалитетом; максимальная расценка не должна превышать 20 су за день); 2) налог с домашней прислуги (уплачиваемый хозяином); 3) налог на лошадей: верховых и упряжных; 4) пропорциональный налог на доход (celle (т. е. contribution), — des facultés mobilières qui est proportionnelle au revenu que le citoyen tire des ses capitaux mobiliers ou de son savoir); 5) жилищный налог. Оговорка к первому пункту гласит, что все получающие менее 20 су в день освобождены от какого бы ни было налога.
Мы видим, что рабочие, получающие и более 20 су, фактически освобождены были от всех налогов, кроме разве жилищного, ибо налог первого рода взимался по заявлению плательщика, и уплата приблизительно 3 ливров оказывалась совершенно непосильной для получавших 30–35–40 су в день (получавшие 50 уже являлись сравнительно небольшим меньшинством, насколько можно судить по дошедшим до нас сведениям и по требованиям, выставленным стачечниками в 1791 г.). Что касается жилищного налога, то некоторые категории рабочих, вроде кузнецов, и его не уплачивали, ибо жили у хозяев.
И что еще характерно, это предупредительное желание таким наглядным объявлением с соответствующим подчеркиванием показать, что государство хочет избавить пролетария от несения налогового бремени. Тут ясно должно с первого взгляда получиться такое впечатление, что пассивный гражданин, не имеющий прав активного, не несет и большинства его обязательств. Ниже мы увидим, что рабочие выражали иной раз готовность платить не 3, а 36 ливров в год прямого налога, лишь бы были уничтожены налоги косвенные.
Признавали ли правящие слои времен Учредительного собрания какие-нибудь обязанности за государством относительно рабочего класса? Если поставить вопрос с такой определенностью, то нужно будет дать категорически отрицательный ответ. Если слово «рабочий» заменим словом «безработный» (un ouvrier sans travail), нуждающийся (les indigens, les infortunés, les pauvres), то должно будет заметить, что принципиально было отвергнуто право на труд; комитет по вопросу о нищенстве (le comité de mendicité) Учредительного собрания признавал, правда, что общество обязано давать работу всем нуждающимся, но лишь во времена общественных бедствий, что помощь бедному должна быть тогда оказала государством прежде всего в виде работы [5], а в иной форме помогать нужно лишь не имеющему возможности работать. В обычное же время безработный не имеет права требовать от государства работы. И мы уже видели, что власти действовали в строгом согласии с этими принципами; нужно, разумеется, оговориться, что благотворительные мастерские (открытые еще в мае 1789 г.) и общественные работы, начатые сейчас же после взятия Бастилии, были не столько осуществлением принципа (еще и не провозглашенного тогда комитетом de mendicité), сколько ближайшим и наиболее непосредственным способом хоть чем-нибудь успокоить раздраженную голодом массу парижских и пришлых безработных. С другой стороны, в докладе Ларошфуко-Лианкура (см. главу IV) о закрытии благотворительных мастерских находим не столько отголосок того общего тезиса, что в спокойное время государство не обязано давать безработным работу (а 1791 г. как время спокойствия именно и противополагается там 1789 г. — эпохе смут и волнений), сколько уверенность, что работы хватит почти на всех рабочих в случае закрытия этих мастерских.
Рабочая масса лишена политических прав; она не несет почти никаких прямых налогов; она вправе ожидать от государства работы только тогда, когда безработица вызвана «общественными бедствиями» (les calamités publiques). Вот строго очерченный modus vivendi, предложенный новым режимом рабочему классу. Это касательно отношений между государством и рабочими, поскольку они могут или не могут предъявлять друг к другу те или иные требования (а Ле Шапелье, как мы видели, хотел было своим проектом о петициях лишить их права даже и просить, заявлять властям о своих нуждах). Но оставалась еще крайне важная область жизни рабочих: как должно вести себя государство в случае столкновения между трудом и капиталом? История стачки 1791 г. дает исчерпывающий ответ на этот вопрос (см. главу V): муниципалитет, а за ним и Ле Шапелье в своем докладе признают категорически, что заработная плата устанавливается исключительно по соглашению между сторонами и что третьим лицам вмешиваться в это ни в каком случае нельзя. Теория невмешательства тем не менее не помешала ни муниципалитету, ни, в конце концов, Национальному Учредительному собранию принять деятельное участие в борьбе и бросить на чашку весов тяжелый государственный меч.
Со стороны правящей буржуазии мы видим твердое стремление оградить всю полноту завоеванной власти от всяких покушений сверху и снизу, сознательно проводимую сложную программу, зрелую мысль, неутомимую планомерную деятельность в систематической чистке государства от обломков старого строя и в то же время подмечаем зоркий подозрительный взгляд, обращаемый то на королевский двор, то на Сент-Антуанское и Сен-Марсельское предместья, ибо именно парижские рабочие беспокоили ее больше, чем провинциальные.
В августе 1789 г. муниципалитеты получают в свои руки всю полицейскую власть; в октябре того же года закон о военном положении дает им возможность в любой момент вооруженной силой усмирить противников после исполнения незначащих формальностей. Суровые угрозы не остаются на бумаге. 22 октября 1789 г. чернорабочего Франсуа Блена приговаривают к смертной казни по подозрению в участии в убийстве булочника разъяренной толпой и вешают в тот же день [6]. Одновременно хватают другого рабочего Мишеля Адриана, обвиняют его в том, что он «стремился возбудить мятеж, крича на улицах, что Сент-Антуанское предместье и рабочие Бастилии соединяются с Сен-Марсельским предместьем, чтобы идти на монастыри», и исключительно за это приговаривают его к повешению и тоже вешают в тот же день [7]. Подобная расправа висит над всеми и каждым в случае уличных беспорядков. Национальная гвардия в течение осени 1789 г. круто пресекает каждую попытку к неповиновению, обыскивает прохожих, арестует подозрительных.
В 1790 г. при всяком удобном случае в Национальном собрании подчеркиваются необходимость решительного ограждения спокойствия и готовность всеми мерами его поддерживать. Дюпон де Немур 7 сентября 1790 г., воспользовавшись ничтожным, не имевшим никакой политической окраски, брожением около Бастилии (где и рабочие, работавшие у Паллуа, принимали участие), предложил Собранию издать новый декрет об охране порядка [8]. Декрет соответствующего содержания, предписывавший всем властям быть на страже порядка, был принят единогласно. Парижский муниципалитет во всяком случае не заслуживал подобных напоминаний: мы читали деловые письма мэра Бальи к Лафайету, к Гувиону, к другим лицам (хранятся в Национальном архиве AF-II-48, а частью в Национальной библиотеке, в отделении рукописей f. fr., № 11697), и чтение этих писем (см. главу IV) дает никогда не забываемое впечатление неослабевающего внимания, чуткости, подозрительности, готовности к борьбе в случае каких-либо рабочих волнений.
Усиление и укрепление нового режима, уверенность в себе сейчас же отозвались усилением охранительной тенденции в 1791 г. Мы видели уже, в каких законодательных актах это сказалось; видели также, что это усиление вполне было осознано, и Смит, советуя закрыть благотворительные мастерские в апреле 1791 г. (см. главу IV), с ударением говорит, что теперь у властей есть силы сдержать рабочих, и этим нужно воспользоваться. Муниципалитет города Парижа вместе с департаментом обратились тогда же к Национальному собранию с просьбой о новых и новых законах, карающих нарушение порядка, об ограничении свободы прессы и так далее, о борьбе с людьми, желающими анархии [9].
Борьба со стачкой, беспрекословная покорность, обнаруженная рабочими при прекращении бастильских работ (в мае 1791 г.), неосновательность угрозы рабочих в связи с внезапным закрытием благотворительных мастерских в июне 1791 г. — все это, конечно, придало особую энергию муниципалитету и национальной гвардии, которая, как мы видели, в начале июля даже пугала газету «Les Révolutions de Paris» своей готовностью к боевому выступлению. В таком положении, в положении полной боевой готовности, застала манифестация 17 июля одну сторону. Обратимся теперь к другой стороне.
2
Отсутствие живых политических интересов у рабочего класса в период Учредительного собрания нужно понимать в том смысле, что никакой программы рабочий класс за эти 21/3 года не выдвинул, никак на обсуждение в Собрании конституционных вопросов самостоятельно не реагировал и даже тени претензии на какое бы то ни было влияние в текущей политической жизни не предъявлял. И это особенно ярко сказывается именно потому, что огромное участие городского пролетариата во взятии Бастилии и в походе в Версаль 5 и 6 октября признается самыми разнообразными современниками решающим обстоятельством. Начиная с Мирабо, продолжая Камиллом Демуленом и кончая Маратом, именно все приписывали народной массе (а некоторые — Мирабо, Марат — рабочей массе) колоссальную роль в этих событиях, решивших участь старого режима.
И автор любопытного маленького памфлета, написанного в «похвалу жителям Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий», даже с большим жаром говорит (защищая рабочих от упреков в наклонности к беспорядкам и т. д.), что именно им обязаны взятием Бастилии, их «героической храбрости», «самоотвержению» и т. д. [10]
Стихийная сила, со слепой яростью под солдатскими пулями громившая дома Ревельона и Анрио, нашла себе выход в том, что всецело стала на сторону буржуазии в борьбе против двора, пошла за этим гегемоном и существенно повлияла если не на исход борьбы, то во всяком случае на быстроту победы. Но затем наступил период, когда все надежды, все почтительное доверие, вся готовность ждать с верой и терпением перенеслись на новых владык.
Все действия Национального собрания принимались с почтением и безусловнейшей готовностью повиноваться, в том числе к выше отмеченные законы, имевшие целью ограничить неимущий класс в правах. Прислушаемся к одиноким голосам, заявившим свою скорбь и протест по этому поводу, и мы увидим, что они еще более подтверждают общее впечатление.
Вот перед нами петиция рабочих Сент-Антуанского предместья, поданная в Национальное собрание 13 февраля 1790 г. [11] Они желали бы тоже иметь избирательные права. «Мы французы! — заявляют они законодателям, — наша свобода есть почетное дело вашей мудрости». Благородные патриоты (т. е. депутаты) сделали их, просителей, людьми. Своей жизнью они будут охранять депутатов и т. д. Но они хотели бы равенства в правах с активными гражданами; они спешат оговориться при этом, что с покорностью примут и положительное и отрицательное решение Собрания. «Если ваша мудрость сочтет нужным благоприятно отнестись к нашей просьбе, мы будем счастливы, что не ошиблись. Если произойдет обратное, законодатели, наше непоколебимое усердие будет лишь более активным и более гражданственным; вы всегда увидите в нас своих усерднейших защитников». Они распространяются далее относительно того, что дарование им прав выгодно отзовется на поднятии уровня нравственности, поднимет в них самоуважение. «Удостойте принять в соображение, что бедность есть бич массы, а она (масса) составляет две трети французского населения. Если первая треть есть нечто или может кое-чем стать, а две другие — ничто, то первая пользуется всеми благодеяниями, начертанными в ваших новых законах, в то время как другие, совершенно пассивные, прозябают в полнейшем ничтожестве». Петиционеры спешат пояснить свою мысль, как бы боясь, чтобы не сочли их врагами богатых. «Контраст богатства и бедности делает их полезными друг для друга. Если бы никто не был беден, никто не был бы богат». А между тем богатые люди, удовлетворяя «своим вкусам, своим капризам, своим излишним потребностям», дают тем самым заработок бедному. Этот внезапный экскурс в область политико-экономических соображений не мешает петиционерам напомнить, что «почти все гениальные люди были бедны». После этих вступительных слов рабочие Сент-Антуанского предместья предлагают обложить их личной податью с удержанием известной суммы из их заработной платы, причем эта сумма поступала бы в кассу данного округа. И это, они полагают, можно было бы сделать не только для них (т. е. рабочих Сент-Антуанского предместья), но и для всех рабочих Парижа и всей Франции. Все косвенные налоги они предлагают уничтожить, и тогда возможно будет обложить всех граждан без исключения единой прямой податью в 36 ливров в год. Это уравняет всех граждан в правах, а государство ничего не потеряет. Петиционеры жалуются при этом на косвенные налоги (имея в виду, конечно, прежде всего налоги на продаваемые съестные припасы и т. п.), и совершенно ясно, что они считают единую прямую подать не только более пригодной потому, что она даст им права, но более выгодной в чисто материальном смысле, нежели полное (или почти полное) отсутствие прямых налогов при существовании массы налогов косвенных.
Петиция опять кончается напоминанием, что они выразили свободно свое пожелание и «с доверием» предоставляют разуму и справедливости Собрания принять его или же указать на его опасность (de l’accueillir ou d’en motiver le danger). «И так как ваши законы для нас — оракулы самой мудрости», то законодатели либо примут просьбу, как нечто полезное для общего блага, или же рабочие будут убеждены, что если их желание есть ошибка, то один лишь патриотизм заставил их ее совершить. И указание на эту свою ошибку рабочие примут с благодарностью, и это даст законодателям (augustes frères! — обращаются к ним петиционеры) новые права на живую признательность.
Эта петиция, по нашему мнению, писалась не рабочими, ибо витиеватый стиль, ссылка на Лакедемон [*17], упоминание о собственных «наивных и гордых душах» — все это не похоже на петиции, в самом деле писавшиеся рабочими. Но 26 подписей, одобренные, как приписано, «всеми рабочими Сент-Антуанского предместья», не могут быть сочтены за самозванные; эта депутация, понесшая петицию в Национальное собрание, уже потому не рискнула бы на самозванство, что ведь от имени рабочих Сент-Антуанского предместья предлагалась такая немедленная мера, как ежедневное удержание 2 су из заработной платы (пока не составится 36 ливров в год). Подобное предложение не могло бы пройти незамеченным, и самозванство дорого стоило бы подписавшимся. Текст петиции мог быть написан, по желанию рабочих, кем-либо из людей «письменных», из «les écrivains publics», но, конечно, она была им известна и ими одобрена.
В этой петиции характерны и понимание страшной тяжести косвенного обложения, и сознание несправедливости избирательного ценза, и наивное рассуждение о взаимной пользе богатства и бедности, и прежде всего почтительно-доверчивый тон, и настойчивое обещание беспрекословно встретить решение Собрания. Примитивное понимание общей природы экономических отношений не мешало, как мы видим, рабочим сознавать слишком явную несправедливость по отношению к ним избирательного закона. Но живого интереса к этому вопросу, повторяем, у рабочей массы не было настолько, чтобы она проявила его в чем-нибудь, кроме этого прошения и немногих, быть может, тоже подававшихся, но бесследно погибших. Тем не менее уже одно оно могло бы показать, как неверно мнение, будто закон о цензе прошел совсем незамеченным рабочими. Напомним, что и рабочие севрской фарфоровой мануфактуры обращались в Учредительное собрание с петицией о даровании им прав активных граждан; они указывали при этом на свой патриотизм и полагали, что вполне достойны получить эти права [12].
Недовольство по поводу лишения рабочего класса политических прав сказывается здесь весьма сдержанно и почтительно.
Резче это недовольство выражено в § 4 требований, вошедших в брошюру, изданную от имени граждан Сент-Антуанского предместья. Раздражение сказалось уже в заглавии «Délibération des citoyens actifs et très actifs du faubourg St.-Antoine» [13]; содержание, впрочем, в общем повторяет обычные требования демократически настроенных кругов этого периода. Авторы требуют, между прочим, уничтожения декрета о цензе, мотивируя это так: «… чтобы мы могли в будущую законодательную палату выбирать свободно тех людей из всех классов общества, которых мы бы нашли наиболее достойными дать нам законы, укрепляющие все части этой державы». Но нужно сказать, что относительно этой брошюры у нас нет данных, чтобы судить, насколько в самом деле рабочие участвовали в составлении этой краткой резолюции.
Если закон о цензе все же был замечен и вызвал некоторый почтительный протест, то другая сторона деятельности правящего класса — не законодательная, а административная — почти до самого конца разбираемого периода не вызывала никаких видимых проявлений неудовольствия среди рабочего населения. Публичные казни рабочих, как после ревельоновского дела, так и после убийства булочника в октябре 1789 г., проходили совершенно спокойно; крутые действия национальной гвардии осенью 1789 г., решительные меры муниципалитета во время апрельской и майской стачек 1791 г. также принимались беспрекословно. Даже очень умеренный и сдержанный публицист мягко убеждал в сентябре 1789 г. национальную гвардию вести себя так, чтобы история не сказала о них, что «тридцать тысяч гигантов превратились в тридцать тысяч кентавров» [14]; но со стороны рабочих, больше всего от национальной гвардии терпевших, ни малейшего аналогичного заявления не последовало.
Мало того. В высшей степени характерно немалое количество донесений, подававшихся рабочими властям на сколько-нибудь подозрительных лиц. Особенно много попадается их в архиве префектуры полиции. Мы уже не будем останавливаться на донесениях, исходящих от отдельного рабочего или работницы [15]; они нам кажутся менее типичными, нежели донесения коллективные. Вот два образчика. 21 февраля 1791 г. прогуливался взад и вперед мимо группы рабочих, работавших по разборке Бастилии, один молодой человек с красной кокардой на шляпе. Рабочим показалось это подозрительным, они его окружают и заявляют, что не отпустят его, — позвали гренадера и отправили его в полицию [16]. Полицейский комиссар спросил арестованного, зачем он ходил взад и вперед; тот ответил, что ему было назначено свидание, и назвал лицо, которое назначило ему свидание. На вопрос, почему рабочие его окружили, он ответил, что из-за красной кокарды. Его после этого отправили в департамент полиции («au Département de police pour être entendu et avisé…» etc.), а оттуда он был отправлен в тюрьму. Что с ним было дальше — из бумаг не видно.
Другой образчик тоже интересен, ибо дело идет не о совершенно незнакомом лице, но о человеке, прекрасно рабочим известном, и донесение тоже носит характер коллективный. 30 августа 1791 г. в полицейское управление участка Quinze-Vingt явились представители рабочих стекольной мануфактуры и заявили следующее [17]. Все рабочие этой мануфактуры учредили булочную, а заведовать ею поручили Лельевру в качестве «инспектора» с шестью помощниками. Все эти лица отличались, по заявлению явившихся, безупречным поведением. Тем не менее одна женщина, работающая на той же мануфактуре, увидела, что накануне Лельевр в 9 часов утра куда-то уезжал с несколькими мешками муки. Доносящие, «желая быть уверенными в честности и верности» Лельевра, просят допросить женщину, рассказавшую им это. На другой день эти же рабочие вместе с женщиной снова явились и получили, по своей просьбе, удостоверение в том, что являлись. На этом дело в полицейских бумагах и обрывается. Оно интересно по готовности из-за самого ничтожного повода обращаться сейчас же к полицейским властям, даже при отсутствии каких бы то ни было оснований, ибо ясно, что за сутки, протекшие с момента рассказа работницы, они и без помощи полиции могли бы удостовериться, нарушилось ли «безупречное поведение» их доверенного лица и цело ли их общественное имущество. К слову заметим, что и большинство просмотренных нами доносов со стороны рабочих не отличается обоснованностью обвинений.
Подобные черточки интересны потому, что они вводят нас in medias res, когда мы хотим разобраться в психологии среднего рабочего в рассматриваемый период. И, может быть, неподделен был для значительной части рабочего класса тон негодования, который звучит в одной петиции, принесенной 9 сентября 1790 г. рабочими Сент-Антуанского предместья в Национальное собрание, — в тех строках, где они оправдываются от обвинений в бунтовских помыслах [18]. «Обитатели Сент-Антуанского предместья, — пишут они, — давно уже являются добычей самой страшной клеветы». Если где смута, — сейчас же обвиняют Сент-Антуанское предместье. «Злонамеренные хотят затеять смуту? они осмеливаются указывать на силы предместья и рассчитывать на его расположение; таким образом, его жители всегда обвиняются или как виновники смуты или как готовые ей благоприятствовать. Без сомнения, прискорбно для добрых граждан, которые все сделали для революции, быть жертвами таких обвинений». Они даже долго думали (пишут дальше), что это на них клевещут, чтобы отомстить им «за страшные удары, которые они нанесли деспотизму взятием Бастилии», т. е. они подозревают в клевете «аристократов». Они презирали эти клеветы и довольствовались тем, что отвечали на них благоразумным и взвешенным образом действий (par une conduite sage et mesurée). Они первые одобрили закон о военном положении, они предали общественному негодованию «поджигательного писателя (cet écrivain incendiaire), который столь долго профанировал пышный титул друга народа» (т. е. Марата); они всегда боялись покуситься на свободу мнений, столь необходимую для законодателей. Они преданы «Собранию, королю, всем гражданским и военным начальникам и, особенно, генералу Лафайету». Но это не закрыло рта, пишут они, «врагам общего дела», и враги клевещут на обитателей Сент-Антуанского предместья, браня их названием бунтовщиков (des séditieux, des révoltés). Враги хотят этим их обесчестить (les imprimer la tâche déshonorante), истинные же их чувства таковы: они ожидают «со спокойствием и самоотречением конца благородных трудов» Собрания, «они знают, что только спокойствие может восстановить торговлю и оживить работы». И они снова и снова просят верить в их преданность и в каждом обращении к властям не перестают повторять о своем послушании и верности.
Таков общий тон их отношений к представителям нового режима в эпоху Учредительного собрания. От революции и созданных ею новых властей они с надеждой и покорностью ждут пока всего хорошего. И даже в разгаре стачки 1791 г., как мы видели, они стараются истолковать официальное заявление муниципалитета, против них направленное, самым лестным для муниципалитета и безобидным для себя самих образом.
Но нам показалось, что этот вопрос о взаимоотношениях власти и рабочих будет не совсем полно освещен, если оставить без внимания тесно с ним связанную другую тему: каковы были отношения между рабочими и врагами нового режима, единственными истинными и непримиримыми его врагами в эти два с небольшим года, т. е. контрреволюционерами. То, что сейчас будет рассказано, естественно и неразрывно дополняет и освещает предшествующие страницы.
Внимательный анализ относящихся сюда документов и показаний представлялся нам тем более необходимым, что эта тема не только никогда не разрабатывалась, но даже и не ставилась историками французской революции.
3
Читатель из всего предшествующего изложения уже видит, что хотя есть преувеличение в обычно принимаемом мнении, будто сознание особенности своего положения сравнительно с имущим слоем третьего сословия совершенно отсутствовало даже в зародыше среди рабочих в рассматриваемый период, но тем не менее не подлежит сомнению, что рабочие оказались еще совершенно не способными активно и сколько-нибудь самостоятельно вмешаться в борьбу партий и выступить на политическую арену с определенными требованиями. Именно потому, что рабочие еще не помышляли о самостоятельной политической роли, побежденная партия, партия контрреволюционная, неминуемо должна была уделить некоторое внимание рабочему классу больших городов и прежде всего столицы. Мы не знаем и никогда не узнаем точного числа людей, занятых на немногих больших мануфактурах, а также в массе средних и мелких мастерских тогдашнего Парижа и объединявшихся названием «рабочие». Но действительно ли было в эти годы 80 тысяч человек, как утверждали в мае 1791 г. хозяева, боровшиеся в это время против требований своих рабочих [19], или же они преувеличивали цифру рабочего населения столицы с целью напугать Национальное собрание призраком общего восстания рабочего класса, — во всяком случае, этот класс столичного населения считался весьма многочисленным и весьма легко возбудимым.
Нужно ли удивляться, что контрреволюционные усилия должны были обратиться и в эту сторону, если вспомнить о настойчивости и мужестве, с которыми вообще контрреволюционеры подготовляли в эти годы свое боевое выступление.
Конечно, все социальные и экономические условия, в которых жило тогдашнее французское общество, наперед осуждали на неудачу такого рода попытку соединить интересы бывших «привилегированных» с интересами рабочего класса и противопоставить эту коалицию буржуазии, торжествовавшей по всей линии. Создание Вандеи в Сент-Антуанском и Сен-Жерменском предместьях было бы социологическим нонсенсом, невозможностью, и это обстоятельство стало ясным для самых слепых врагов революции именно с того момента, когда она начала приобретать более демократический, «народный» характер. Но иначе обстояло дело в самом начале революции, когда только что происшедший колоссальный переворот еще был в глазах многих тех, кто от него пострадал, нелепой, но легко поправимой случайностью и когда эмигранты, уезжая, говорили, что скорое возвращение не подлежит никакому сомнению. Эта психология делала первые попытки контрреволюционной пропаганды беспорядочными, лихорадочными, но настойчивыми. Поищем следов той работы контрреволюционной мысли, которая направлялась к возбуждению вражды между буржуазией и рабочими, иначе говоря, к возбуждению ненависти рабочих против революции, давшей буржуазии победу. Еще до начала революционной бури мысль о том, что привилегированные могут воспользоваться рабочими в демагогических целях, вполне явственно проявлялась в кругах, сочувствовавших коренной реформе существовавшего строя. Это особенно ясно сказалось в быстро создавшейся и упорно державшейся легенде, будто аристократические происки возбудили парижских рабочих к разграблению домов Ревельона и Анрио 26–28 апреля (1789 г.). Мы уже говорили (см. главу II) о полнейшей несостоятельности и необоснованности этой легенды, но самый факт ее возникновения весьма характерен.
Прежде всего, благодарным предметом для контрреволюционной пропаганды послужил экономический кризис, совпавший с началом революции.
Эти усилия контрреволюционеров были официально отмечены уже в последние дни Учредительного собрания Гударом, депутатом города Лиона, в докладе, который, как мы уже говорили в предшествующей главе, он представил Собранию и где он доказывал, что революция не нанесла торговле и промышленности значительного вреда.
Он прямо заявляет, что одной из причин, почему комитет земледелия и торговли, поручил ему представить этот отчет о положении торговли, было «желание ответить фактами на обвинения врагов революции, которые пишут, что она вырыла могилу нашей промышленности» [20]. Это был, действительно, один из постоянных мотивов контрреволюционной агитации в 1789–1791 гг. «Я содрогаюсь, когда думаю о том, что станется с бедным народом, с этими рабочими всех родов, с этой массой прислуги, оставшейся без занятий, — читаем мы в одной из брошюр того типа [21], — богатые люди одни только их поддерживали, давали им возможность существования; Собрание (т. е. Учредительное собрание — Е. Т.) их разоряет, некоторым образом изгоняет их». Мануфактуры падают, искусства также. Число несчастных будет все увеличиваться. И автор подсказывает: «На кого же хотите вы, чтобы эти несчастные сердились? Ведь не на купцов, не на любителей искусств, не на своих господ», ибо все эти лица сами не знают, чем прокормиться. «А следовательно, они именно Собранию пошлют все свои проклятия, и что будет для него самым ужасным, это то, что оно их заслужило. Поистине ужасно такое зло причинять народу; но есть мстящий бог».
Эта мысль о гибельности революции для трудящихся масс энергично проводится еще и в другом контрреволюционном памфлете, озаглавленном так: «Маленький словарь великих людей и великих дел, относящихся к революции, составленный обществом аристократов» и т. д. [22] Авторы этого «Словаря» стараются особенно укрепить в народном сознании ту мысль, что ущерб, нанесенный революцией аристократии, прежде всего тяжко отозвался на рабочих, ибо рынок сбыта вырабатываемых продуктов лишился богатейших клиентов.
Под словом «Peuple» в этом «Словаре» мы встречаем типично демагогическую статью, начинающуюся эпиграфом из Вольтера: «Работайте, погибайте, призывайте смерть, умирайте на навозе, — это единственное благо, которое вам остается». Дальше читаем: «Вольтер предвидел, без сомнения, революцию, которая погружает Францию в отчаяние и в траур, и он наперед учитывал жестокие и ужасные результаты ее. Как бы этот обманываемый народ содрогнулся, если б он мог подумать, что эта революция, орудием которой он был, станет свою очередь орудием его гибели. К несчастью, его глаза разомкнутся слишком поздно. Не будет уже времени, но будет уже целебных средств». И опять тот же припев: на кого обратится народная ярость?
Не на богачей, не на знать, — уверяет «общество аристократов», составлявшее этот памфлет, — ибо уже ни первых, ни вторых не будет, — и ни король, лишенный силы, ни былые парламенты не смогут оградить народных интересов.
Авторы утверждают, что хлеба народу хватит еще на два или три месяца, а затем остается питаться желудями, травами и кореньями. Виновата во всех этих бедах, конечно, одна только революция. Но с истинно-демагогическим чутьем аристократы, признающие памфлет своим произведением, не ограничиваются общими рассуждениями, а стремятся перейти к указанию на личности, указать жертвы будущему народному гневу. На муниципалитете лежала задача охранять порядок в столице, на его долю выпали огромная роль и огромная ответственность, именно ему приходилось выискивать средства для борьбы с безработицей и голодом, и вот авторы «Словаря» указывают на роскошь, которую, будто бы, позволяют себе мэр и его помощники, в то время как народ голодает [23]: инсинуируется, что мэр получает огромное жалованье и что если народ будет умирать с голоду, то именно вследствие роскошной жизни муниципальных чинов. Горе муниципальным должностным лицам, если бедняк узнает, что он голодает из-за роскоши, которой пользуется муниципалитет, — таков один из основных мотивов «Словаря».
Та же тенденция, те же мысли и в другом агитационном памфлете [24], только тон более резок: «Мэр Бальи, бескорыстный Бальи, щепетильный Бальи плавает в изобилии», распоряжается деньгами обывателей. «Мне, однако, кажется, что он уже слишком воспользовался этой революцией, которая дала ему благосостояние, тогда как я и тысячи других зарезаны ею», — негодует автор. Революция разорила бедных: «перед революцией я еще обладал несколькими су, я их бережно хранил, будучи убежден, что у меня их не могут похитить», но эта надежда оказалась тщетной. Автор, подобно всем своим единомышленникам, также высказывает убеждение, что рабочий класс сильно пострадал вследствие преследований, ведущихся против аристократов. Но он не жалуется, он язвит и грозит: «Эти аристократы… не придут просить у вас прощения, они явятся, чтобы вам его дать, а без них, без этих мнимых врагов, вы не проживете» [25]. Не только один Бальи, мэр города Парижа, но вообще все те, которые овладели властью, думают лишь о собственных интересах и обманывают народ, все обещая ему в будущем конституцию, которая будто бы обеспечит всеобщее благополучие; «я всегда слышал еще от отца, что не тот ест свиное сало, который убивает свинью… О, драгоценная конституция, когда же ты придешь?» Тут для нас важно отметить, что у контрреволюционеров нет ни малейшей возможности выставлять на вид хоть какое-нибудь благое действие старого режима в пользу рабочих, и поэтому они не решаются наперед утверждать, что новая конституция (которую в эти годы вырабатывало Учредительное собрание) будет для рабочего класса хуже былого порядка вещей; они только иронизируют по поводу слишком затянувшихся работ над ней и стремятся распространить убеждение, что никакой конституции в конце концов не будет. Автор цитируемого памфлета также не верит в конституцию. Зато он со злорадством указывает на непопулярный закон о военном положении (т. е. о праве муниципалитета объявлять военное положение и пускать в ход вооруженную силу), закон, прошедший через несколько дней после октябрьских революционных выступлений 1789 г.; автор бичует людей, проведших закон о военном положении, ибо этот закон должен «служить им ширмой, за которой они прячут свою трусость и свою глупость».
В своей демагогической смелости контрреволюционер становится космополитом; по мнению нашего автора, бедняку нет никакого интереса быть патриотом или революционером. Он записывает себя в космополиты: «Я еще раз повторяю: мое отечество везде». Он не сомневается, что его назовут аристократом, но ничего против этого не имеет и с деланной горечью вопрошает: «Почему бы мне аристократом и не быть?» Руководящая идея брошюры, ее лейтмотив, самым ярким образом выражается в словах, служащих эпиграфом: «О, возвратите нам наши оковы и дайте нам хлеба!» [26]
Таково было главное содержание контрреволюционной пропаганды, поскольку она обращалась к рабочим и вообще к нуждающемуся населению городов; это содержание так однообразно, что нет нужды характеризовать его подробнее.
Любопытно, что эти агитаторы почти вовсе не трогали другой темы, которая, казалось бы, была очень нужной и удобной для их цели: мы говорим о высоком избирательном цензе, установленном Учредительным собранием в 1789 г.
Мы только что видели, что закон о цензе вовсе не прошел вполне незамеченным; некоторые современники даже склонны были с ударением говорить о вызванной им «печали». Например, аббат Оже (приверженец Учредительного собрания) сознавал [27], что постановление о цензе вызывает «крайнюю печаль многих добрых патриотов», и соглашался, что это постановление «исключает из Национального собрания три четверти населения королевства».
Можно было бы поэтому думать, что контрреволюционеры 1789–1791 гг. даже преувеличат степень этого недовольства, как то сделал уже по аналогичному поводу упомянутый нами в другом месте (см. главы I и II) шевалье де Море, который (вполне bona fide, но совершенно неосновательно) приписывал [28] разгром дома Ревельона (27–28 апреля 1789 г.) тому, что рабочие раздражены лишением их представительства в Генеральных штатах. Но нет! Контрреволюционная пропаганда прошла совершенно мимо этого вопроса, если не считать нескольких фраз в уже упомянутом «Маленьком словаре» [29]: «Без денег нельзя быть избираемым гражданином, без денег нельзя ни произносить речи, ни взять в руки перо или звонок в собрании округа», и т. д. Но эти замечания стоят одиноко в агитационной литературе контрреволюционеров.
Да и что могли сказать по этому вопросу люди, так глубоко тогда ненавидевшие всякую мысль о равенстве, всякую попытку демократизации общественного строя? Если бы только проследить, какие избирательные законы считала наилучшими в своем наивном самообольщении контрреволюционная партия, начиная от времен революции и кончая хотя бы, например, конституционным проектом, которым хотела облагодетельствовать Францию в 1832 г. герцогиня Беррийская в случае удачи фантастической экспедиции, снаряженной против Луи-Филиппа, то стало бы совершенно ясно, что даже в демагогических целях контрреволюционеры 1789–1791 гг. психологически не могли много останавливаться на критике высокого ценза.
Делались ли контрреволюционерами какие-нибудь попытки устной пропаганды среди рабочих? В этом трудно сомневаться ввиду нескольких известий, идущих как со стороны самих рабочих, так и от властей, оберегавших общественный порядок. Конечно, удобнее всего было прикрывать эту пропаганду филантропическими мотивами и сближаться с рабочими под предлогом подачи им помощи. Это сострадание к рабочим, внезапно обуявшее те круги, которые до революции не обращали на них никакого внимания, разумеется, казалось весьма подозрительным и вызывало обвинения и нарекания со стороны приверженцев нового порядка вещей. Но обвиняемые решительно стояли на том, что они руководятся лишь самыми человеколюбивыми чувствами, раздавая рабочим хлеб и оказывая им помощь, и заявляли, что не понимают, чего от них хотят. Особенно подозрительное отношение существовало к клубу «конституционных монархистов», как его называли, основанному Малуе и Клермон-Тоннерром; когда этот клуб организовал дешевую продажу хлеба неимущим, то дело дошло даже до прений в Учредительном собрании, ибо этот клуб, действительно, считался тогда центром контрреволюции [30].
В заседании Собрания 25 января 1791 г. Варнав в самых резких выражениях напал на «секту» смутьянов, которые стремятся разъединить граждан и заманивают их в западню, «давая народу отравленный хлеб». Варнав горячо призывал власти принять меры предосторожности против «бунтовских маневров» этого клуба.
После речи Варнава Малуе и другие пытались возражать, но их постоянно прерывали и не дали окончить начатой защиты. Тогда оба основателя клуба сочли своим долгом протестовать в печати. «Я не знаю, что обозначает эта история с хлебом, раздаваемым беднякам, по поводу которой так много шумели, — возмущался Малуе [31], — я объявляю, что страшная ложь — утверждение, будто общество (т. е. клуб) раздавало хлеб тысячам рабочих; число (этих рабочих) доходит до тридцати тысяч. В какое несчастное время мы живем, если за подачу несчастным малейшего вспомоществования, даже с ведома полиции, на вас доносят народу, как на его врага!» Со своей стороны, Клермон-Тоннерр также ответил на обвинения Варнава — уже через три дня после бурного заседания [32]. Клермон-Тоннерр объясняет, что хлеб покупался на добровольные взносы членов клуба, но «по поводу способа раздачи хлеба поднялась тревога», и пришлось оставить этот способ, «который показался подозрительным». К сожалению, Клермон-Тоннерр в этом месте чрезвычайно скуп на слова и изъясняется настолько неясно, что читателю не удается понять, что же именно в этом «способе раздачи хлеба» показалось подозрительным. Раздача хлеба все-таки продолжалась, — сообщает он дальше, — и число воспользовавшихся ею было 2548. «Но новые доносы были сделаны» на этот клуб, и все эти нападения продолжались так упорно, что владелец снятого клубом помещения отказал им в дальнейшем пользовании квартирой. И вот под влиянием всех этих гонений правление клуба, в драматизованной передаче Клермон-Тоннерра, «сказало: откажемся делать добро, которое не хотят, чтобы мы делали», и прекратило свои благодеяния. Подозрения и раздражение против этого клуба не повлекли, однако, за собой никаких мероприятий, и никакого следствия не было начато, вопреки тому, как советовал Варнав. Вообще требовалась известная неосторожность, чтобы дело дошло до властей, да и в таком случае следствие не носило особенно строгого характера. Не забудем, что 1789–1791 гг. были эпохой, когда внешние враги еще не сдавили Францию со всех сторон железным кольцом, а внутренние считались если не вполне уничтоженными, то во всяком случае обезвреженными. Стоит только почитать газеты этой эпохи, чтобы понять, какую терпимость проявляли тогда власти к самым заклятым и откровенным своим врагам, пока еще считали их неопасными, и насколько непохож был их образ действий на тот, который усвоен был позднее. Если мы примем все это во внимание, то не удивимся, что, например, следствие по делу подозревавшегося в контрреволюционной пропаганде аббата Шатцеля [33] окончилось, по-видимому, без каких бы то ни было последствий; два-три года спустя оно бы его погубило.
Состояло это дело в следующем. 3 июня 1790 г. в газете «Observateur» появилась статья [34], обвинявшая «экс-иезуита и священника» Шатцеля из прихода св. Маргариты в Сент-Антуанском предместье, в «аристократических» интригах и пропаганде. По словам автора статьи, Шатцель агитирует среди рабочих («les blouses bleues»), говорит им, что «Национальное собрание состоит из одних только воров, обогащающихся на счет народа, который они доводят до последней нищеты»; что конституция не будет готова еще и через сто лет. Мало того. Он ходит из мастерской в мастерскую и там «пускает в ход всю свою эрудицию, чтобы склонить хозяев прекратить работы и рассчитать рабочих, дискредитируя в их глазах ассигнации и кредитные билеты»; он убеждает их, что «в такое несчастное время» заводить какое-нибудь предприятие значит идти на верное разорение. В своей пропаганде он неутомим, — жаловалась газета, — и однако его не преследуют.
Этот донос обличает аббата Шатцеля в тех же происках и, главное, в употреблении тех же агитационных приемов, которые нам уже известны из предшествующего изложения: аббат пускает в ход те же обвинения в воровстве против представителей нового режима, те же попытки дискредитировать ассигнации, употребляет те же усилия убедить всех в том, что конституция никогда выработана не будет. Новое тут разве лишь то, что аббат не довольствуется жалобами на безработицу и обвинениями против революции, но еще по мере сил старается искусственно увеличить число безработных.
Статья вызвала переполох. Прежде всего взволновалось собрание представителей округа св. Маргариты; 4 июня (1790 г.) статья была прочтена в заседании, и было решено принять меры против «соблазна» («séduction»), тем более опасного, что предстояла большая религиозная процессия, в которой Шатцель должен был находиться во главе большой массы рабочих. Собрание признало попутно, что подобная пропаганда внушает особенную тревогу именно вследствие «ужасной нищеты, чувствуемой в (Сент-Антуанском — Е. Т.) предместье [35], самая же пропаганда, констатировало собрание, производится «в тысяче разнообразных форм». В тот же день собрания двух других округов Сент-Антуанского предместья (Enfants trouves и Popincourt) были оповещены об этом деле особой депутацией от округа св. Маргариты.
Уже 7 июня состоялось заседание комиссии представителей всех трех округов и были выслушаны свидетели [36]. Оказалось, что материал для статьи дал некий Русслэ, который в свою очередь получил их от плотника Рикото; последний же сослался на ряд ремесленников, которые ему рассказали о происках аббата. Весьма характерны показания этих свидетелей: они очень нехотя, но все же вполне подтверждают обвинение, беспрестанно оговариваясь, что «если бы они знали, что дело получит огласку, они хранили бы молчание». Но тем убедительнее и правдоподобнее их показания. Выслушаны были именно хозяева мастерских.
Одному из них аббат сказал, что «он неправильно поступает, продолжая работы, что дела могут идти лишь хуже и хуже». Другого он спросил: «Работаете ли вы на заказ?» И когда тот ответил отрицательно, аббат посоветовал уволить рабочих и прекратить работы, потому что иначе хозяин все потеряет. То же самое он говорил еще и еще другим хозяевам, с которыми встречался. Вместе с тем он утверждал, что «ассигнации годятся только для того, чтобы раскурить трубку»: аббат разделял общую ненависть контрреволюционеров к ассигнациям как к финансовому средству, сослужившему, несмотря ни на что, действительно, колоссальную службу революции в первые ее годы. «Куда идет наше Национальное собрание? — вопрошал он. — Они все обогащаются на ваш счет. Поставив вас в затруднительное положение, они вас так и оставят, а с вашими ассигнациями вы потом не купите и одного хлеба, заплатив четыре ливра».
Свидетели со стороны защиты ни в малейшей степени не поколебали этих показаний, они только старались дать общую и неопределенно похвальную характеристику личности аббата Шатцеля, и вообще их слова совершенно не могли способствовать выяснению дела.
Выслушавши всех свидетелей, комиссия собралась вторично (10 июня 1790 г.) и единогласно решила передать все производство «комитету розысков» Национального собрания [37]. Там это дело и было похоронено окончательно.
Из документов, только что нами рассмотренных, явствует, что контрреволюционеры не довольствовались распространением в рабочих кругах того мнения, что революция всецело повинна в безработице; они старались еще, как показывает нам пример Шатцеля, искусственным путем увеличить самое число безработных. Обескураживая хозяев, убеждая их отказывать рабочим в занятиях, насмехаясь над ассигнациями, пороча Национальное собрание, аббат Шатцель устным словом делал то, что его политические единомышленники делали посредством печати.
Из этих же документов мы видели, что, по категорическому признанию представителей округа св. Маргариты, контрреволюционная пропаганда среди рабочего населения Сент-Антуанского предместья велась «в тысяче разнообразных форм». Теперь посмотрим, как реагировали на эту пропаганду сами рабочие.
4
Прежде всего заметим, что приверженцы нового порядка вещей не совсем были уверены в полной тщетности этой вражеской пропаганды и сочли своим долгом бороться с ней.
Например, уже в конце 1789 г. появилась брошюра, написанная в деланно простонародном стиле, который должен был свидетельствовать, что ее написал якобы простой рабочий [38]. Писал ее, судя и по содержанию и по изложению, вероятно, кто-нибудь из мириады маленьких литераторов, порожденных кризисом 1789 г. и, в частности, из стоявших более или менее близко к муниципалитету. Явная и прямая цель, к которой автор изо всех сил стремится, заключается в том, чтобы предварить рабочих относительно желания аристократии поссорить рабочий класс с буржуазией. Автор с необыкновенной настойчивостью останавливается на том, что все надежды аристократов покоятся на возможности раздора между буржуазией и рабочими. «Эти хитрецы, желающие нам зла, не хотят теперь с нами сражаться при помощи ружей и пушек», так как знают, что получат отпор, а они «не так глупы, чтобы рисковать своей шкурой», но они хотят разделить и поссорить между собой людей третьего сословия [39]. Автор увещевает рабочих не верить злостным слухам, распространяемым насчет муниципалитета, не верить, например, тому, что муниципалитет желает их разоружить (к слову заметим, что муниципалитет с Бальи во главе на самом деле всегда стремился к разоружению низших слоев городского населения). Когда буржуа кричат против народного самосуда, они правы; по словам автора, «это нам очень вредит, это заставляет дурно о нас думать». Он вспоминает здесь ревельоновское дело и уверяет, что аристократы даже хотели бы, чтобы рабочие повесили несколько человек из них. «Тогда бы они сказали буржуа: видите, сколько зла делает эта каналья — народ. Даже вы у себя дома не в безопасности. Нужно с этим покончить! Нужно их уничтожить! Нужно убить всех этих негодяев! Иначе они перевернут все королевство». Это слегка замаскированное предостережение рабочим со стороны их мнимого товарища уже само по себе характерно, но еще характернее следующие слова: «… я хотел бы, может быть, сражаться с буржуа», но «Франция была бы от этого несчастна», ибо это принесло бы пользу только аристократам, которые опять наложили бы иго на народ. Что означает эта первая часть: «… je voudrions peut-être nous battre z’avec les bourgeois»? Подделываясь под язык рабочего, захотел ли автор подделаться и под его душу? Считал ли он, что его аргументация будет тем убедительнее, чем больше он проникнется психологией читателей, для которых писал? Если так, то пришлось бы констатировать наличность определенно враждебного настроения в известных слоях рабочей массы против буржуазии. Но никакие другие свидетельства, как мы видели, это не подтверждают. Заключительный совет автора рабочим таков: «Держаться спокойно и вполне доверять господам из городской ратуши, которые хотят нам блага и понимают в нем гораздо больше, чем мы, так как они были выбраны всем Парижем».
Уже появление этой брошюры показывает, что усматривалась опасность от контрреволюционной пропаганды среди рабочих масс. Еще яснее это проявляется в другой брошюре, написанной в форме разговора между ремесленником, враждебным революции, и двумя лицами, стоящими за революцию [40]. В уста врага революции (позументщика) автор влагает речи, нередкие среди ремесленников и рабочих, которые были заняты выделкой предметов роскоши; эти ремесленники особенно жаловались на подрыв в коммерции, причиненный им революцией. До революции, жалуется позументщик, «я не был богат, это правда, но по крайней мере я был счастлив, я работал, мой промысел давал мне обед и ужин… Теперь эта прекрасная революция разорила меня, как она разорила столько других людей; уничтожила ливреи, мода на галуны прошла; даже женщины отказались от бахромы».
Сторонник революции возражает, что «это не будет длиться», а также указывает, что ведь для позументщиков открылся новый сбыт: эполеты для национальной гвардии, ленты национальных цветов и тому подобное, — все это могло бы заставить забыть прежних клиентов. Это указание мало утешает позументщика, который все вопрошает, зачем было лишать дворян, духовных лиц, парламенты [41] их старинных прав и имуществ? «Кто теперь будет поддерживать торговлю и потребление?» — жалуется он. Тут вмешивается в разговор третий собеседник, который ведет защиту революции с принципиальной точки зрения. Для нас тут его слова интереса уже никакого не представляют.
Этот позументщик не выдуман автором. У части рабочих засела в голове мысль, что революция нанесла смертельный удар многим отраслям ремесл, и, например, еще 28 июня 1791 г. рабочие только что закрытых благотворительных мастерских (заведенных муниципалитетом специально для безработных) жаловались Национальному собранию, что не все смогут получить заработок во вновь открытых работах, «так как старость некоторых и слабое сложение других, которые до революции занимались художественными и тонкими ремеслами», воспрепятствуют им отдаваться непосильному труду.
Это убеждение, что из-за революции «тонкие ремесла» пострадали, конечно, создавало довольно благоприятную почву для контрреволюционной агитации среди некоторых слоев рабочих масс. И если лежащий перед нами «адрес рабочих города Парижа, представленный королю», написан и не рабочим, то более 300 рабочих, не побоявшихся подписать его, несомненно, разделяли его тенденции [42]. Этот адрес является следствием контрреволюционной пропаганды, о которой у нас шла речь. Рабочие жалуются Людовику XVI на «полное исчезновение» звонкой монеты, на изгнание роскоши, отсутствие знати, «удовольствия и капризы которой питали торговлю», и т. д. Подписавшие адрес объявляют себя разочарованными революцией. Представители народа ничего не сделали для их счастья. «Где те, участь которых улучшилась? Свобода, равенство — это химеры, создавшие все зло, первыми жертвами которых будем мы, наши жены и наши дети». Все свои упования они возлагают на короля и предлагают ему свою помощь. Это открытый призыв к контрреволюции. Они «умоляют короля» пустить в ход всю свою силу, какой он располагает, чтобы «восстановить равновесие между ценой на продукты и размерами заработной платы», и «особенно, чтобы наказать бунтовщиков, которые, прикрываясь именем друзей конституции, на самом деле самые жестокие ее враги». Последняя фраза подтверждает высказанное раньше замечание, что контрреволюционеры не находили целесообразным открыто нападать на конституцию.
Этот адрес, конечно, отражал чувства меньшинства рабочих, ибо факт вполне доказанный, что даже наиболее жаловавшиеся на нужду и безработицу подчеркивали всегда свою преданность новому режиму. Мало того, изучение документов, относящихся к истории рабочих королевских (с августа 1792 г. — «национальных») мануфактур, привело нас к неопровержимому выводу, что даже рабочие этих заведений, созданных и субсидируемых правительством старого режима, с самого начала революции проявляли полное почтение к ней и враждебность к «времени деспотизма» [43]. Еще в большей степени это нужно сказать о рабочем классе вообще.
Что несколько сот рабочих, подписавших «адрес», составляли меньшинство, это явствует также из целой массы фактов; ведь главное, чем хвалятся рабочие (особенно Сент-Антуанского предместья), это своим деятельным участием во взятии Бастилии и другими подвигами в революционные дни; на «аристократов» они смотрят как на врагов, которые не могут им простить Бастилии и других выступлений.
Нужно думать, что помимо общих причин сами же контрреволюционеры немало содействовали неуспеху своей пропаганды; ведь чуть касалось дела, а не слов, сейчас же обнаруживалось, что если «буржуазия» — не друг рабочий, если муниципалитет и национальная гвардия не проникнуты сочувствием к Сент-Антуанскому предместью и другим рабочим кварталам, то уже от приверженцев старого режима рабочим ничего хорошего ждать не приходится. Вот, случилась в октябре 1790 г. стачка столяров (см. главу V) и кто содействует провалу стачки, кто вербует ее нарушителей? «Дорогие товарищи, — пишет некий Белен, по-видимому, один из организаторов стачки [44], — дело, которое я выношу на ваш суд, есть дело всех добрых граждан, защищающих отечество, среди которых аристократы хотели бы сеять смуту и рознь. Эти намерения, без сомнения, преступны». Но рабочие, которые под влиянием аристократов мешают делу своих братьев, также не достойны, по мнению автора, названия патриотов. Он предлагает изгнать из собраний городских секций тех рабочих, которые явятся на замену бастующим, «служа этим преступным проектам аристократии». Постскриптум к этой прокламации гласит: «Гг. Рейно и Беллю, столяры, введенные в заблуждение предательскими обещаниями некоторых бывших знатных, без сомнения, сознают свою вину и вернутся к добрым чувствам братства».
За полным отсутствием данных, как уже было сказано, мы не можем судить, как началась, развивалась и окончилась эта стачка, бывшая предвестницей гораздо более обширного стачечного движения 1791 г. Но из приведенного ясно, какую роль приписывали рабочие аристократам и «бывшим знатным». Не менее ясно и то, что подобный взгляд сам по себе являлся сильным противодействием контрреволюционной пропаганде, как бы красноречива она ни была, а с другой стороны, показывал ее безуспешность в прошлом. Мы можем привести еще пример для того, чтобы показать, как контрреволюционеры относились к «городской черни» не в речах и агитационных писаниях, но на практике. Мы видели, что в своих брошюрах они тогда попрекали торжествующую буржуазию законом о военном положении, который в самом деле был по смыслу и существу дела направлен прежде всего против рабочих и вообще неимущих кругов городского населения. Но стоило им обеспокоиться за личные свои интересы, и они не находили достаточно сильных слов, чтобы требовать строгого применения этого самого закона о военном положении. Вот, например, петиция, составленная нормандскими откормщиками скота, которые сильно пострадали в своих предприятиях в были настроены резко контрреволюционно. Петиция эта, поданная в Национальное собрание осенью 1789 г. [45], повторяет обычный мотив о «часто несправедливых и всегда неполитичных проскрипциях», направленных против знати и удаляющих из Франции «самых крупных потребителей», но, главным образом авторы жалуются на «восстания, беспорядки и тревогу», на то, что железо, огонь и безнаказанность угрожают всей жизни общества, и рекомендуют в виде основного лекарства следующее: «Если энергичное применение военного положения не поможет при таких беспорядках и не потушит существующий очаг внутренней войны, если чернь городов будет и дальше присваивать себе право установлять таксу на предметы потребления и влиять своим шумом на обсуждение общественных дел — ремесла и промыслы Франции вскоре погибнут так же, как погибнут и ее средства продовольствия».
Эта петиция была напечатана, и те, которые читали агитационные брошюры контрреволюционеров, могли также прочесть и ее и сравнить, до какой степени различно говорится здесь о военном положении и трактуется «городская чернь».
Но лучше всего вся психологическая невозможность для контрреволюции действовать заодно с рабочими (даже в своих собственных целях) иллюстрируется тем, что контрреволюционеры и не хотели, и не могли воспользоваться ни стачечным движением, происходившим в Париже в апреле и мае 1791 г., ни недовольством многих тысяч рабочих благотворительных мастерских, оставшихся без заработка после закрытия этих мастерских (декретом от 16 июня 1791 г.).
Нужно сказать, что именно в первые месяцы 1791 г., перед началом стачек, контрреволюционная пропаганда среди рабочих особенно усилилась. «Аристократы не перестают делать попытки поднять народ и особенно наше предместье», — читаем мы в «Journal du faubourg Saint-Antoine» от 3 февраля 1791 г. [46] «Не проходит почти ни одного дня, чтобы нельзя было отметить их маленьких ухищрений, пускаемых в ход безрезультатно. Все углы наших улиц покрыты различными плакатами, которые только и стремятся ввести нас в заблуждение и заставить нас делать глупости». Однако и в 1791 г. эта пропаганда встретила среди рабочих такое же равнодушие, как в 1789–1790 гг. «В нашем предместье, — утверждает тот же орган, — мы не перестаем быть бдительными. Голос свободы раскрыл нам глаза, и теперь уже невозможно нас обмануть; мы все видим, мы каждый день раскрываем предательские интриги наших врагов, и если им суждено торжествовать, то уже не в нашем квартале». Эта газета производит впечатление органа независимого. В ее тоне нельзя уловить ни тайного беспокойства, ни непременного желания побудить рабочих слепо верить властям и, в частности, муниципалитету. Словом эта газета проникнута совсем другим духом, нежели, например, цитированная выше брошюра, написанная поддельно-простонародным языком [47]. В самом деле, для всякого беспристрастного читателя этой брошюры ясно, что ее автор прежде всего снедаем беспокойством, как бы рабочие под влиянием контрреволюционной пропаганды не вышли из повиновения властям, a «Journal du faubourg Saint-Antoine», разоблачая контрреволюционеров, прежде всего заинтересован пользой самих рабочих, как он ее понимает, а вовсе не сохранением среди них дисциплины и послушания властям. Например, пресловутый «победитель Бастилии» Юлен, который еще в августе 1789 г. с такой готовностью предложил свои услуги для удаления рабочих из монмартрской благотворительной мастерской [48], отнюдь не пользуется симпатией и доверием этого органа [49], и вообще его тон вполне самостоятелен. Его симпатии принадлежат самому радикальному крылу периодической печати: Горза, Камиллу Демулену и т. п. Но он ясно видит цель контрреволюционной пропаганды в рабочей среде и взывает к миру и спокойствию: «Нас хотят разъединить, возбудить среди нас беспорядок, чтобы провозгласить старый режим… И мы приглашаем всех патриотических писателей проповедовать мир, согласие и опровергать злокозненные слухи, всюду распространяемые».
«Journal» с радостью отмечает неуспех контрреволюционной пропаганды и параллельно стремление рабочих к самообразованию. «Нас хотят заставить смотреть на вещи с аристократической точки зрения, тогда как мы можем смотреть на них только с патриотической точки зрения… В нашем предместье мы все более стремимся к просвещению, вкус к обществам начинает нами овладевать, и у нас уже есть два общества: одно под названием врагов деспотизма, а другое — друзей прав человека». Прибавим, кстати, что именно это поминаемое здесь «общество друзей прав человека в Сент-Антуанском предместье» предлагало 8 мая 1791 г. повесить на фонаре [50] того самого Клермон-Тоннерра, который, как мы видели, думал снискать популярность раздачей бедным хлеба при посредстве основанного им конституционно-монархического клуба.
Итак, успеха контрреволюционеры не имели, но из приведенных только что фактов ясно, что в январе — феврале 1791 г. они с усиленной энергией вели свою пропаганду среди рабочих. Но вот весной того же года начинаются, как мы видели, обширные стачки: бастуют плотники, бастуют типографские рабочие, бастуют кузнецы, бастуют другие промыслы; отношения между хозяевами и рабочими становятся все более и более озлобленными; они подают друг на друга жалобы, петиции, обвинения всякого рода; со стороны хозяев слышатся раздраженные приглашения проявить строгость, обращаемые то к муниципалитету, то к Национальному собранию; и вот под влиянием этих фактов один за другим разражаются над рабочими, как мы видели, два удара. 14 июня (1791 г.) проходит без всякой оппозиции закон Ле Шапелье, делающий нелегальными какие бы то ни было соглашения и стачки между рабочими и устанавливающий за эти «преступления» строгое наказание, а 16 июня после доклада Ларошфуко-Лианкура закрываются благотворительные мастерские.
Чтобы убедиться, до какой степени власти в это время ожидали рабочих волнений, достаточно, как сказано выше, только прочесть корреспонденцию мэра Бальи, относящуюся к этому времени. Позволительно утверждать, что с самого начала революции никогда не имелось так много поводов к раздражению против властей, явно вмешавшихся в чисто экономическую борьбу по приглашению и к полной выгоде хозяев.
И странное (на первый взгляд) дело: контрреволюционная пропаганда, которая в начале этого самого 1791 г., как мы видели, «покрывала все углы улиц» Сент-Антуанского предместья своими афишами и плакатами, исчезла бесследно, как по мановению волшебного жезла, в период стачек. Ни в одном документе, относящемся к весне и лету 1791 г., несмотря на тщательные поиски, нам не удалось найти ни малейшего намека на какое бы то ни было участие контрреволюционеров в стачечном движении; таких намеков нет даже ни в одной из сохранившихся жалоб хозяев властям. Это молчание весьма многозначительно, особенно если принять во внимание, что в ту эпоху обвинения в политической неблагонадежности, в сношениях с «аристократами» расточались весьма щедро, кстати и некстати (хотя опасность от таких обвинений, конечно, не была еще столь велика, как в 1792–1794 гг.). Хозяева не устают доказывать муниципалитету и Национальному собранию, что это стачечное движение весьма опасно для общественного порядка, они раздражаются, обвиняют власти в излишней слабости, взводят на рабочих всевозможные обвинения, но о контрреволюционерах — ни слова. Если бы даже рабочие и не поддавались наущениям контрреволюционеров, но если бы хоть в самой незначительной степени эти наущения были налицо в апреле, мае и июне 1791 г., хозяева, конечно, не преминули бы все движение объявить контрреволюционной интригой, чтобы иметь право требовать особенно суровых мер от властей. Но, повторяем, даже в этих документах о контрреволюционной агитации уже нет и речи.
Страх и кастовое презрение моментально вступили в свои права, когда рабочие, действительно, стали шевелиться, и эти чувства оказались настолько сильнее теоретических выкладок и расчетов, что контрреволюционеры не сделали даже и попыток отвести это движение в свое русло.
И если счесть печатаемую в приложении [*18] рукописную афишу, помеченную 7 июля 1791 г., в самом деле за исходящую так или иначе от контрреволюционеров (безграмотность могла быть умышленной, как и противная сторона подделывалась под простонародный язык), то ее содержание особенно характерно: в момент, когда покорность и терпение рабочих подвергались испытанию (судя по дерзкому письму в Национальное собрание по поводу уничтожения благотворительных мастерских, приведенному в главе IV, судя по сборищам в начале июля и тому подобным фактам, раньше описанным), когда отношения между правящим классом и рабочими обострились, как ни разу прежде за весь период Учредительного собрания, — контрреволюционная пропаганда не находит ни одного слова о том, что в самом деле раздражало и волновало рабочих: ни о миновавшей стачке, ни об уничтожении работ по разбору Бастилии, ни о прекращении благотворительных мастерских, ни о чем этом не говорится. Вместо этого повторяются от имени «всех рабочих различных профессий, вместе собравшихся», все те же фразы о короле, Артуа и Конде, которые избавят от тиранов и тому подобных и объявляется, что так как «тираны» не хотят более короля (намек на антимонархическое движение, начавшееся после вареннского бегства, т. е. за 2½ недели до появления этой афиши), то, вот, и рабочие свободны от присяги (на верность конституции à la nation, à la loi et au roi), и следует уверение, будто бы они поклялись «пролить кровь до последней капли за корону». Пропагандистское бессилие выступает в этой афише весьма выпукло.
Окончательный удар контрреволюционной пропаганде среди рабочих был нанесен тем движением против короля, которое началось после бегства в Варенн и продолжалось до подавления манифестации 17 июля 1791 г., в котором именно широкие массы городского населения приняли главным образом участие. В этом деле контрреволюционеры были, конечно, всецело на стороне муниципалитета, стрелявшего в манифестантов, а не на стороне последних.
Как бы окончательно убедившись в невозможности обратить рабочих в своих единомышленников, контрреволюционеры прекращают свою агитацию. Если теперь они замешиваются в рабочую среду, то, по-видимому, лишь за тем, чтобы донести властям о подслушанных подозрительных разговорах. Так, например, Жан-Рише Серизи, впоследствии видный и очень талантливый роялистский журналист, донес полиции (как раз накануне расстрела манифестации) [51], что, «пробравшись» к одной «шумной группе» в Пале-Рояле, он услышал, как оратор порицал решение Национального собрания (что король не может быть привлечен по делу о бегстве в Варенн), заявлял, что «король или глуп, или преступен», что его нужно низложить и т. д. Эта «шумная группа» состояла, по свидетельству очевидцев, из рабочих. По доносу роялиста Серизи оратор был арестован и посажен в тюрьму. Чем окончилось дело, мы не нашли указаний в бумагах архива префектуры полиции.
После относительного спокойствия, продолжавшегося с конца 1789 г. до весны 1791-го, наступали бурные времена, когда новый строй готовился напрячь все свои силы, чтобы защищаться от нападений внешних и внутренних врагов. В этой колоссальной борьбе контрреволюционеры и рабочая масса в ее целом заняли противоположные позиции. Расчеты характеризованных тут агитаторов 1789–1791 гг., таким образом, не оправдались.
5
Нам осталось сказать несколько слов об отношениях рабочих к представителям демократических тенденций в Собрании и прессе. Характеризовать эти отношения в высшей степени трудно: представители демократической мысли не шли к рабочим с пропагандой, прямо направленной против нового режима, как это делали контрреволюционеры, и, с другой стороны, они не являлись властью, как Собрание или муниципалитет, а потому рабочие крайне редко к ним обращались; и сами они не влияли никак на события в жизни рабочих (например, во время стачки 1791 г.). Рабочие, например, из отдельных деятелей Собрания знали, по-видимому, больше других одного только Мирабо; и количество лубочных картин о нем и об его смерти [52] показывает также, что он был в простонародье, вообще говоря, весьма популярен. Кампания, которую после его смерти продолжал против него Марат, не принесла ощутительных результатов [53].
Мы видели, что рабочие не оставили без протеста, хотя и весьма почтительного, закона об избирательном цензе; но мы знаем, что гораздо резче протестовали против этого закона, если не в Собрании, то в прессе, журналисты радикально-демократического крыла: Лустало — в «Les Révolutions de Paris», Марат — в своем «Ami du peuple» [54]. И мы совершенно не видим ни малейшего отклика именно на эти их изъявления со стороны рабочих; и тот, и другой говорили о захвате власти «богатыми», а Марат прямо призывал к борьбе с ними и т. д., но все это интересно для характеристики этих лиц и представленного ими политического течения, для нашей же темы это нужно отметить только затем, чтобы констатировать полное отсутствие признаков какого бы то ни было интереса среди рабочих к одиноким голосам, раздавшимся в журналистике против ценза. В одной брошюре [55], вышедшей из этого лагеря, прямо говорится, что закон о цензе продиктован «предрассудками, неосновательными опасениями», что этот закон таков, «что заставил бы покраснеть» даже представителей деспотизма и так далее, но эта брошюра прошла также совсем незамеченной. Конечно, подавно мало мог рассчитывать на сочувственный отклик со стороны рабочих Марат, когда печатал в 1791 г., после уничтожения цехов, свои детские размышления о необходимости восстановить те же цехи под другой фирмой, но проникнутые тем же духом стеснения и всей промышленности вообще и рабочих в частности.
Вообще воззрения демократического крыла на рабочих ясностью не отличались; мы уже видели, как «Les Révolutions de Paris» отнеслись к рабочей организации и вообще к стачке. Марат же в это время писал длиннейшие и совершенно ненужные статьи о необходимости вместо благотворительных мастерских открыть работы по прорытию парижского канала и прочее, но не удосужился ничего сказать о стачках. Он громил муниципалитет за мнимые сношения с двором и ровно ничего не нашел заметить по поводу «тюрем, наполненных жертвами» стачки, о которых писал в это время цитированный выше «Club typographique». Молчит об этом и Горза, и молчат другие публицисты левого крыла, менее видные.
Только что было сказано, что к представителям этого течения рабочим приходилось обращаться лишь изредка. Мы уже говорили (в главе IV) об одном таком обращении [56] рабочих, работавших по перестройке церкви св. Женевьевы, с жалобой на эксплуатирующих их подрядчиков. Марат разразился в ответ на это обращение грозной филиппикой против «горсти мошенников, жиреющих от пота рабочих» и «варварски отнимающих» у них плоды их трудов; по его мнению, злоупотребления этого рода, направленные к «уничтожению посредством нищеты» многочисленного и почтенного класса граждан, должны были бы обратить на себя внимание Национального собрания и «занять несколько из тех моментов, которые оно посвящает стольким пустым прениям, стольким смешным дебатам» [57].
Если это обращение к Марату (которого они называют своим «дорогим пророком») интересно как один из симптомов брожения вообще, царившего тогда (т. е. весной и летом 1791 г.) в рабочей среде, то поступки Марата еще любопытнее: 12 июня он публикует громовую статью против подрядчиков церкви св. Женевьевы и корит Национальное собрание, что оно не обращает внимания на их злоупотребления, а ровно через 2 дня в Собрании проходит закон Ле Шапелье, и он решительно ничего не находит сказать об этом.
Эфемерная, выпустившая в самом начале 1791 г. несколько номеров, газета «Journal du faubourg Saint-Antoine», уже упоминавшаяся нами, когда речь шла о контрреволюционной пропаганде, — отнюдь не рабочая газета, а орган радикально-демократического оттенка, родственный по духу всему левому крылу журналистики, которому, как мы уже сказали, он и высказывал открыто симпатию. Мы видели, что он не скрывает своей вражды к «победителю Бастилии» Юлену за его поведение в августе 1789 г., что он борется с контрреволюционной пропагандой, он любовно отмечает стремление рабочих к самообразованию, к самодеятельности. Он не издается рабочими, но явно рассчитан на читателя из рабочего класса. И каково же его содержание? Ничего, в сущности, такого, что более талантливо и живо не писалось бы в то же время Камиллом Демуленом или Горза; или другим демократически настроенным журналистом. «Journal du faubourg Saint-Antoine» умудрился заподозрить в чем-то самого всех подозревавшего Марата, но за что? За то, что Марат слишком мало громит духовенство [58]. Когда мы читаем «Club typographique» (см. главу V), то ясно видим, несмотря на всю скромность и бесцветность этого органа, что он издается рабочими и для рабочих; а когда мы читаем «Journal du faubourg Saint-Antoine», то не менее ясно видам, что это просто перепевы демократических газет, которые кому-то желательно приспособлять для политического вразумления обитателей Сент-Антуанского предместья. И справедливость требует заметить, что эта пропаганда гораздо преснее и бессодержательнее, нежели контрреволюционная, ибо контрреволюционеры, стараясь изо всех сил очернить происходящее, не щадили ни Собрания, ни муниципалитета, ни революции и упорно подчеркивали факт бедственного экономического положения рабочих.
А демократы, во-первых, должны были бояться, что нападения на представителей нового режима могут привести к падению престижа всей революции в умах рабочих, а, во-вторых, и в самом деле совершенно искренно, по-видимому, думали исключительно о движениях и намерениях недобитого врага, и отъезд королевских теток Виктории и Аделаиды за границу, борьба между присягнувшими и неприсягнувшими священниками, желание короля уехать из Парижа для исповеди, — все это весной 1791 г. приковало к себе их внимание и возбуждало страсти, и ни о чем больше, как только об этих и подобных фактах, они и не писали в это время. И вот почему скромный, чисто профессиональный «Club typographique» нашел место, несмотря на всю свою робость и сдержанность, для горькой фразы о томящихся в тюрьмах жертвах стачки, а бойкие, резкие, решительные Демулен и Горза и их менее талантливые подражатели ни единым звуком об этом не обмолвились, хотя все они были абсолютно независимы от муниципалитета и резко нападали на власти по другим поводам, иногда самым ничтожным. «Journal du faubourg Saint-Antoine» тоже, как уже выше было сказано, представляет собой орган вполне независимый, бесспорно, рабочим очень дружественный, и вовсе не заботящийся именно о развитии в них чувства повиновения муниципалитету, но он просто не усматривает никаких специально рабочих интересов, о которых стоило бы говорить, и благо рабочих, которым он, бесспорно, заинтересован, он усматривает в общем и окончательном торжестве революции над «двором» и «аристократами». Общества, образовавшиеся в Сент-Антуанском предместье («врагов деспотизма» и «друзей прав человека») — обыкновенные демократически настроенные политические клубы данного квартала, а отнюдь не рабочие организации, но они-то больше всего и радуют «Journal du faubourg Saint-Antoine», ибо ничего решительно, кроме усвоения общеполитического демократического credo, для рабочих и не требуется, — такова очевидная точка зрения газеты.
* * *
Нечего и говорить, что и тени какой бы то ни было принципиальной вражды к идее частной собственности мы в эти годы среди рабочих констатировать не можем. То, что было уже нами сказано в книге «Рабочие национальных мануфактур», можно повторить и здесь; рабочий начального периода революции стремится как к идеалу, к тому, чтобы стать самому хозяином мастерской, а пока, если обстоятельства позволяют, борется за увеличение заработной платы и уменьшение рабочего дня с нынешним своим хозяином. Вот основные черты его психологии. В следующих частях этой работы, где будет анализировано состояние промышленности в других индустриальных центрах Франции в 1789–1799 гг., мы увидим, что уже имевшиеся крупные мануфактуры, уже начавшее понемногу проникать в страну машинное производство еще не успели до самого конца этого периода сколько-нибудь существенно изменить в этом отношении психологию рабочего класса в целом.
Но среди образованного класса, среди литераторов и журналистов уже высказывались в 1789–1791 гг. некоторые взгляды, затрагивавшие принцип частной собственности. Лихтанберже в своей книге «Социализм при французской революции» посвятил несколько страниц некоторым из этих взглядов (особенно Фоше, Прюдома и др.); но ни Фоше, ни другие, упоминаемые Лихтанберже, авторы этой категории о рабочих не говорят, а имеют в виду (всюду, где от общих рассуждений о собственности переходят к конкретным) именно земельную собственность, «аграрный закон», как тогда говорили. Впрочем, и сами по себе подобные взгляды, особенно до 1792 г., являлись одинокими, эфемерными и довольно неопределенными изъявлениями больше филантропического, нежели социально-реформаторского характера.
Эти взгляды к нашей теме, особенно в хронологических рамках публикуемой пока части работы, ни малейшего отношения не имеют. Но мы, конечно, остановимся на взглядах, впоследствии высказывавшихся, враждебных частной собственности, когда будем говорить об эпохе Конвента, ибо тогда разногласия и споры об этом предмете перестали носить характер только литературных курьезов и, в частности, вопрос о пределах власти государства над частной собственностью живо и непосредственно соприкасался с некоторыми требованиями неимущей городской массы (вроде, например, требования об установлении цен на хлеб и т. п.). Обо всем этом подробная речь будет еще впереди, в следующих частях работы.
6
Мы подошли к концу Учредительного собрания. За полтора месяца до того, как Собрание разошлось, случилось то кровавое событие, которое получило название «манифестации 17 июля», и на нем совершенно необходимо остановиться, ибо оно и к нашей теме имеет прямое касательство. И тут мы обратим внимание читателя на некоторые новые черты, о которых говорят нам рукописи, касающиеся именно рабочих.
20 июня 1791 г., как известно, король бежал с семьей из Тюльери. Это событие как громом поразило и Национальное собрание, и муниципалитет, и все население столицы, — буржуазию еще больше, чем неимущий класс. Двор сразу раскрывал карты, и в первый момент казалось, что всякие мечты о наступлении мирного существования конституционной монархии должны разлететься прахом. С отличавшими ее сознательностью и решительностью буржуазия моментально приняла вызов. Сейчас же само собой установилось как бы полное слияние обоих течений в Национальном собрании, и яркий представитель охранительной тенденции Ле Шапелье 21 июня пошел в якобинский клуб, как бы желая подчеркнуть на этот раз свою солидарность с далекими и враждебными ему якобинцами. Воссоединение всех врагов старого режима с целью дать сплоченный отпор замыслам двора стало на очереди дня. Рабочим начали раздавать оружие по секциям и зачислять их в национальную гвардию [59].
Но и сами рабочие бросились доставать оружие, и таким же способом, как перед взятием Бастилии ровно за 2 года до того — открытой силой, и именно в зданиях, принадлежащих духовенству [60], которое всегда подозревалось в сочувствии старому порядку. Сразу воскресло настроение конца июня и начала июля 1789 г.
И подобно тому, как тогда, в конце июня и начало июля 1789 г., раздражение и отчаяние рабочего люда от голода и безработицы нашли себе исход в той решительной борьбе, которая завязалась между буржуазией и старым режимом, причем старый режим открыл атаку (сначала угрозами, сосредоточением войск, наконец отставкой Неккера), а буржуазия, не колеблясь, подняла брошенную перчатку, так и теперь, ровно через 2 года, в конце июня и начале июля 1791 г., горькое чувство, которое мы заметили в петициях стачечников в апреле, мае и июне этого года, напряжение и раздражение после двухмесячной упорной и неуспешной борьбы с хозяевами, в частности, еще тревога за свой завтрашний день у десятков тысяч рабочих благотворительных мастерских, внезапно закрытых, как мы знаем, после доклада Ларошфуко-Лианкура 16 июня, — все, что вдруг нашло себе исход в той борьбе, которая, опять-таки по вызову со стороны двора, должна была завязаться между буржуазией и представителями старого режима, ибо бегство короля являлось как бы прологом к иностранному нашествию.
Но на этот раз события пошли совсем иначе. Вечером 22 июня Париж и Национальное собрание узнали, что король арестован в Варенне. С этого момента начинается обратное течение в правящей буржуазии. Первая опасность миновала, двор надолго обезврежен, король всецело в руках Собрания, никакой борьбы с контрреволюционерами в ближайшем будущем не предвидится.
Еще некоторые, далеко стоявшие от властей, вроде публициста уже цитированных «Les Révolutions de Paris», могли в первых числах июля высказывать неудовольствие, что в такой опасный момент закрытие благотворительных мастерских некстати может раздражить рабочих. Очень скоро выяснилось, что бороться придется не на два фронта — против короля и рабочих, как подразумевал беспокоившийся автор статьи в «Les Révolutions de Paris», a на один фронт, ибо король уже был в плену, а приверженцы его ни в стране, ни за границей не подавали пока признаков жизни. И когда состоялись (см. главу IV) в начале июля сборища недовольных рабочих закрытых благотворительных мастерских, то эти сборища произвели на власти некоторое впечатление, ибо под прямым воздействием их и было решено ассигновать (см. главу IV) 96 тысяч ливров на вспомоществование уволенным рабочим, но на том дело и кончилось [61]. На рабочих известие об аресте короля подействовало не так, как на Собрание. Если в 1789 г. их не сразу и не всех успокоило взятие Бастилии и, как мы видели (в главе III), они продолжали волноваться, то теперь дело подавно не могло окончиться полным их успокоением. По-прежнему долго нараставшее под влиянием разных уже указанных причин раздражение искало выхода. Выход нашелся в антимонархическом движении. Когда большинство Национального собрания твердо решило ликвидировать вареннское дело так, чтобы во всяком случае конституционная монархия продолжала существовать, то демократическое течение стало принимать республиканскую окраску; это была реакция против поспешности большинства Собрания.
Робеспьер, Петион в Собрании, ораторы якобинского и кордельерского клубов вне Собрания стали выразителями продолжавшейся вражды к королю и двору — вражды, может быть, еще обостренной именно явным намерением большинства Собрания совершенно ликвидировать поскорее все это дело. В число наших задач вовсе не входит изображение постепенного нарастания республиканских чувств в это время, много раз бывшее темой историков французской революции. Скажем только, что многотысячные депутации одна за другой приходили к помещениям клубов, выражали свое одобрение ораторам, стоявшим за низложение короля, и свое намерение поддержать это требование. С 1789 г. не было таких шумных и частых сборищ. Иногда современные показания обозначают их словами «le peuple», иногда «les ouvriers» — более определительно.
15 июля, наконец, после долгих прений, Национальное собрание издало декрет, окончательно избавлявший короля от какой бы то ни было ответственности за попытку бегства и прекращавший, таким образом, всякое дальнейшее обсуждение вопроса. Вечером того же дня состоялось новое громадное собрание в клубе якобинцев и собравшаяся толпа предлагала уже на другой день устроить манифестацию — собраться на Марсовом поле и поклясться там не признавать Людовика XVI королем. В конце концов якобинцы на это не пошли, а решили изготовить текст петиции, которую и подать в Национальное собрание, о пересмотре декрета от 15 июля.
Национальное собрание знало, конечно, о происходящем брожении; к нему приходили депутации, и ему уже подавали петиции. Но оно твердо вело определенную линию, — депутации не допускались, петиции не читались, а 16 июля, на другой день после решения дела, Собрание остановилось на мысли принять серьезные меры против происходящего брожения. Сначала депутат Дандре выразил изумление, что, вопреки законам, происходят на улицах сборища, выносятся резолюции, расклеиваются афиши. Решено было призвать муниципалитет и внушить ему необходимость содействовать усердию национальной гвардии (а усердие это было признано «достойным величайших похвал»). О волнениях депутат Эммери говорил, что их возбуждают иностранцы, подкупая на деньги бунтовщиков. Президент парижского департамента дал обещание, что самые скорые меры к охране порядка будут приняты; то же самое сказал и мэр Парижа Бальи. Министру юстиции также было приказано в точности блюсти за своевременным привлечением к суду лиц, виновных в беспорядках. Мэр сейчас же после утреннего заседания созвал муниципалитет и уведомил его о брожении, происходящем в Париже. Решено было издать воззвание (где опять-таки говорилось о подкупленных бунтовщиках, аристократах и т. д.) и, ввиду слухов о чем-то готовящемся на другой день», заседать с 8 часов утра.
Вечером же 16-го обнаружилось, с другой стороны, что якобинцы решительно настроены против манифестации, которая еще с 15-го числа проектировалась было на 16-е, но была отложена. Вообще демократические деятели явно не решались идти напролом. Уже во время заседания Собрания 16 июля они держались безучастно; в клубе тоже, очевидно, было понято, что власти твердо решили ни перед чем не отступать. Ни Дантона, ни Камилла Демулена, ни Робеспьера, ни других выдающихся деятелей левого крыла в Собрании и в печати не было 17 июля на манифестации, но движение уже ничем нельзя было приостановить.
Конечно, кроме рабочих, в массе, собравшейся 17 июля на Марсовом поле подписывать петицию о низложении короля, о созыве новой «учредительной власти» для организации новой «исполнительной власти», в этой массе, подвергшейся такой трагической участи, были и другие элементы населения. Но достаточно вспомнить историю отношений муниципалитета к одним только рабочим, чтобы уже понять образ действий властей в этот день. Муниципалитет еще несколько опасался рабочей массы в августе 1789 г., но все его опасения оказались ложными. Он не решался сразу уволить рабочих, работавших по разборке Бастилии зимой 1790 г., а ждал до конца 1791 г., и опять опасения не оправдались. Он решительнейшим образом боролся со стачкой, хотя его пугали «восемьюдесятью тысячами рабочих», и все его меры были приняты с покорностью.
Рабочие после закрытия благотворительных мастерских прямо грозили Собранию (см. главу IV), и угроза тоже оказалась пустым звуком. А ведь о рабочих именно больше всего и говорилось, и писалось всякий раз, когда речь заходила о неспокойных элементах городского населения, и чуть ли не вся переписка (1789–1791 гг.) Бальи, касающаяся охраны порядка, говорит именно о рабочих.
Если, с одной стороны, была налицо уверенность в полной победе и в бессилии противника, то, с другой стороны, вопрос был поставлен огромной, принципиальной важности: позволит или не позволит Собрание кому бы то ни было оказывать давление манифестациями, вмешиваться в государственные дела? И далее: позволит ли буржуазия, чтобы конституционная монархия, признанная ею необходимой, продолжала подвергаться нападениям?
Военное положение было провозглашено 17 июля, национальная гвардия стреляла в упор, и толпа манифестантов разбежалась, оставив убитых и раненых и не сделав попытки обороняться, ибо они пришли безоружные, с женщинами и детьми.
День 17 июля сыграл, как признано, весьма большую роль в том отношении, что резко отделил приверженцев охранительного течения от демократов [62] непроходимой пропастью (мы говорим, конечно, лишь об эпохе революции). Будущее показало, с другой стороны, что, в частности, парижская масса тоже не забыла этого дня. Но до того момента, когда свободно могли проявиться эти мстительные воспоминания, было еще далеко, а пока гроза шла на побежденных, журналисты демократического лагеря (вроде Демулена) разбегались, боясь преследований, всякое неосторожное слово ловилось и могло иметь последствия.
И Национальное собрание, и муниципалитет всеми мерами после 17 июля показывали, что они хотят использовать свою победу [63]. Вот характерный документ [64], бросающий отчасти свет на настроение некоторых рабочих после 17 июля. В Пале-Рояле среди собравшихся групп один человек сказал солдату Эскуретту: «Если национальная гвардия не поведет себя иначе, то мы, десять тысяч человек рабочих, перейдем на сторону аристократов, и тогда синим мундирам придется плохо» (et alors les habits bleus auront beau jeu). Он это сказал Эскуретту потому, что тот был в штатском платье (en habit bourgeois), а Эскуретт тотчас же схватил его и свел в полицейский пост, толпа же так раздражилась против арестованного, что его приходилось охранять от ее ярости. Виновный (токарь Тома Танкре) не отрицал приписываемых ему слов, но «просил за них прощения у национальной гвардии» и заявлял, что в отчаянии от своих слов и сказал их в пьяном виде, что он любит свою родину, француз в душе и будет защищать конституцию с опасностью для жизни. Его задержали в участке до 10 часов вечера и отпустили.
Этот документ характерен в том отношении, что рабочий, озлобленный расстрелом 17 июля и желающий хоть за глаза перед частным лицом (а за таковое он и считал переодетого своего собеседника) пригрозить чем-нибудь национальной гвардии, не говорит, например, о бунте «десяти тысяч рабочих», а о том, что эти «десять тысяч» перейдут на сторону «аристократов». Для него нет речи о самостоятельном действии «десяти тысяч», но лишь о помощи с их стороны единственному лагерю, который враждебен существующим властям. Он с перепугу приписывал свои слова действию винных паров (несколькими строками выше он рассказал, что, проходя через Пале-Рояль, он только шел пить). Во всяком случае это шаблонное тогда оправдание на допросах лиц, задержанных по обвинению в преступных словах, не лишает самых слов известного психологического интереса.
Из-за угла было произведено покушение на одного национального гвардейца; по городу разбрасывались полуграмотные рукописные прокламации [65]; но этими и тому подобными мелкими фактами до поры, до времени все и кончилось.
* * *
Закон Ле Шапелье, прошедший за 2½ месяца до конца Учредительного собрания, явился определяющим выражением политики Собрания в рабочем вопросе; событие 17 июля, происшедшее за полтора месяца до конца этого периода, было самым трагическим из всех мероприятий муниципалитета, направленных к неуклонному охранению политических прерогатив правящего класса, и оно, бесспорно, повлияло на дальнейшую историю партий. Неосторожный на язык токарь правильно полагал, что рабочие перейдут на сторону партии, враждебной победителям 17 июля; он только ошибся, полагая, что этой партией будет партия контрреволюционная: этой партией стали республиканцы-якобинцы в 1792–1794 гг. Контрреволюционеры же, как было уже сказано выше, именно с этого времени и отказались совершенно от попыток привлечь рабочий класс на свою сторону; достаточно вспомнить о смысле петиции, которую подписывали манифестанты 17 июля, чтобы понять, почему именно контрреволюционерам нельзя было воспользоваться этим фатальным событием.
С конца 1791 г. стало ухудшаться и общее экономическое положение; стал меняться, таким образом, самый фон событий.
Но все эти экономические и политические перемены, начавшие обозначаться с последних месяцев 1791 г., уже выходят за хронологические рамки этой первой части работы. Мы можем, кроме сделанных во всем предшествующем изложении выводов, сделать еще один, к которому читатель, несомненно, уже сам постепенно пришел: в рабочей массе 1789–1791 гг. было довольно отчетливое понятие о том, что ей непосредственно нужно в области экономической; было, хотя и несравненно менее распространенное, представление и о несправедливости, в результате которой она лишена была избирательных прав; есть следы вдумчивого отношения к вопросу о налоговом бремени, к значению налогов прямых и косвенных; проявлялось иной раз раздражительно высказываемое убеждение, что «богатство хозяев создано трудом рабочих» (см. главу V); намечалось стремление к профессиональной организации, и рабочие очень дорожили уже имевшимися, хотя слишком уже неблагоприятными были внешние условия для существования таких организаций; нашлось уменье планомерно вести экономическую борьбу путем стачек в течение двух месяцев; словом, с точки зрения интеллектуального уровня рабочие этого начального периода революции рисуются нам, на основании документов, гораздо выше, чем по шаблону принято о них судить. И рядом с этим полное отсутствие хоть какой-нибудь попытки выступить самостоятельно в области политической, приниженность относительно представителей нового режима, решительное беспокойство, как бы их, рабочих, не приняли за лиц, способных ослушаться приказа власти, и стремление всячески доказать беспредельное свое повиновение, преданность и т. д. Все эти явления порядка волевого обусловливаются тем, что рабочие еще раньше сознали всю недостаточность своих сил, нежели окончательно понял это, например, муниципалитет. Не столько в недостатке понимания своего положения, сколько в недостатке реальной силы для борьбы — разгадка психологии рабочего класса в эти годы. Но, кроме того, новый режим все же для них был благоприятнее старого во многих отношениях, — ведь не одним законом Ле Шапелье новый режим показал себя рабочим: революция уничтожила окончательно цехи, уничтожила пошлины на ввозимые в город припасы, уничтожила стеснения, существовавшие относительно некоторых промыслов (например, главного для всего Сен-Марсельского предместья кожевенного) [66], и они были на стороне революции и хвалились деятельным участием во взятии Бастилии. Но уже участием своим (еще более видным, еще более решающим) в событиях 5 и 6 октября 1789 г. — они не хвалились, ибо правящая буржуазия потом не любила воспоминания об этих днях, усматривала иной раз анархию в этих событиях, и даже Собрание назначило специальную комиссию для расследования всего этого дела. Они чувствовали себя непреодолимыми, когда буржуазия шла вместе с ними, как это было 14 июля 1789 г., еще сильными, когда она им только не мешала, как это было 5 и 6 октября 1789 г., и слабыми, когда она враждебно поворачивалась против них. Не имея возможности выступить самостоятельно, они и старались приспособиться к правящим кругам, перевести их на свою сторону (например, во время стачек 1791 г.). К контрреволюционерам они в общем были враждебны; к демократам, особенно до июля 1791 г., равнодушны, как к несущественной величине. При каких условиях они приняли участие в антимонархическом движении, завершившемся катастрофой 17 июля, мы уже видели: они выступили сейчас же вместе со всей буржуазией после бегства короля, продолжали идти с демократами, когда выяснилось, что правящий слой не находит нужным продолжать борьбу (после ареста Людовика XVI), и когда 16 июля демократические вожди не сочли целесообразным принять участие в манифестации, они все-таки приняли участие в ней, когда уже по инерции она все-таки состоялась. И сейчас же после 17 июля они умолкли. Когда демократическое течение стало в 1792 г. усиливаться вследствие целого ряда условий, которые переживала тогда революция, когда встал вопрос о том, кому взять руль, рабочие решительно стали на сторону более радикальных деятелей, потому что от дальнейшего развития революции, как им казалось, они могли только выиграть. И когда волей исторических судеб, вопреки истинному соотношению сил, рабочим на один краткий момент удалось приобрести огромное влияние на дела, они успели этот момент использовать вполне. Об этих особых, исключительных условиях и об этом кратком моменте нам придется уже говорить в следующей части настоящей работы, где будет рассмотрен период 1792–1799 гг.
Таким образом, лишь после того, как мы проследим в этой второй части очерков судьбы рабочего класса в Париже до самого конца революционного периода, мы обратимся к индустриальным центрам провинции. Далеко не одинаковы были и состояние, и роль этих индустриальных центров, но ни один из них даже в отдаленной степени не влиял на события так, как влияла столица. Вот почему те части работы, которые содержат анализ состояния рабочего класса в столице, а также находятся в прямой связи с этой характеристикой законодательства и политики властей относительно рабочих вообще, должны предшествовать изображению жизни рабочих французской провинции в рассматриваемую эпоху.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой части работы будет рассмотрена история рабочего класса во Франции в 1792–1799 гг.
В первой части речь шла о 1789–1791 гг., когда французская промышленность переживала не столь бедственные времена, как впоследствии, с того момента, когда (весной 1792 г.) открылась длительная война с европейской коалицией. От этого (первого) периода до нас дошли данные, почти исключительно касающиеся именно парижских рабочих. Мы видели, как произошли волнения в апреле 1789 г., как безработица в 1789 г. привела к открытию благотворительных мастерских, как несколько улучшившееся положение промышленности сопровождалось (в 1791 г.) стачечным движением, и как, наконец, это стачечное движение привело к изданию закона Ле Шапелье.
После временного улучшения экономической ситуации в 1790–1791 гг. наступает в 1792 г. длительный и все быстрее и быстрее прогрессирующий упадок промышленности, упадок торговли; мануфактуры страдают от отсутствия сырья, от сокращения рынков сбыта. Это новая эпоха, и характерно, что некоторые представители французской промышленности, когда они уже в конце рассматриваемого периода жаловались на разорение при революции, нередко начальной датой считали при этом не 1789, а 1792 г.; или, точнее, они начинали свою скорбную повесть с 1786 г., со времени заключения англо-французского торгового договора, но не усматривали в первые годы революции дальнейшего сколько-нибудь заметного ухудшения вплоть до войны 1792 г., а уже с 1792 г. говорили о «почти полной гибели» производства и т. д. Только лица, занятые производством предметов роскоши, неизменно утверждали, что для них бедственные времена настали уже в 1789 г., и 1792 г. лишь докончил их разорение.
С начала этой новой эпохи, с 1792 г., к данным, касающимся парижских рабочих, прибавляются сведения, относящиеся к рабочим в провинции, — данные, которых относительно 1789–1791 гг. почти вовсе нет. Но, вводя в круг своего исследования эти материалы о рабочих французской провинции конца XVIII столетия, нельзя ни в каком случае ограничить свой анализ лишь теми фактами, которые относятся непосредственно к событиям 1792–1799 гг. Совершенно необходимо не только расширить хронологические рамки и коснуться эпохи, непосредственно предшествовавшей времени революции, но и поставить предварительно новый вопрос.
Еще когда я приступал к собиранию и изучению документов, касающихся истории рабочего класса во Франции в эпоху революции, для меня было не совсем ясно, почему, когда речь заходит о рабочих в эту эпоху, историки обычно разумеют почти исключительно парижских рабочих, обходя почти совершенно молчанием провинцию? Скудость материалов, относящихся к провинциальным рабочим, объясняла (до известной, впрочем, степени) молчание историков, но в свою очередь возбуждала новые недоумения: почему так мало следов жизни рабочего класса в эту эпоху дошло до нас? Почему, например, особенно мало сведений имеется у нас относительно такой громадной категории рабочего класса, как рабочие всех отраслей текстильной индустрии? Лен, шерсть, шелк, а в конце XVIII в. и хлопок обрабатывались во Франции в таких количествах, что изделий из них не только хватало на внутренний рынок с колониями, но часть их сбывалась за границей. Почему же вся эта масса людей, кормившихся текстильной индустрией, так мало слышна и заметна в 1789–1799 гг.? Все эти вопросы не могли быть разрешены без того или иного уяснения основной проблемы: как была организована французская промышленность в конце XVIII в.? Какую стадию развития она переживала в этот момент? И только тогда, когда постепенно на этот вопрос документы дали мне ответ, тогда сами собой отпали многие первоначальные недоумения.
Вместе с тем выяснилось, что хотя и мало свидетельств, касающихся рабочих французской провинции в эпоху революции, все же они имеются, и между ними попадаются весьма важные и характерные. Но: 1) за ничтожными исключениями, все они относятся к эпохе 1792–1799 гг. и 2) многое в них было бы непонятно без предварительного анализа закона Ле Шапелье и тех событий в рабочей среде Парижа, которые вызвали к жизни закон Ле Шапелье. Таким образом, само собой сложился план этой работы. В первой части ее я рассмотрел дошедшие до нас показания, касающиеся преимущественно парижской рабочей массы в период 1789–1791 гг., вплоть до времени издания закона Ле Шапелье. В этот период только столичные рабочие из всего рабочего класса Франции сыграли известную роль (хотя и несамостоятельную) в политической жизни страны; именно их действия и привели к изданию закона Ле Шапелье; именно к ним обращалась контрреволюционная пропаганда; именно их имели в виду власти всякий раз, когда речь шла о рабочих вообще; наконец, почти только о них говорят дошедшие до нас документы этих лет. Но когда изложение дошло до конца 1791 г., когда затем необходимо было коснуться обстоятельств, приведших в конце концов к изданию закона о максимуме, — неизбежным оказалось привлечь к исследованию факты, относящиеся к рабочему классу не только столицы, но и — с 1792 г. — также всей Франции.
Вот почему в предлагаемой части работы читатель найдет прежде всего характеристику организации, характеристику форм французской промышленной жизни в конце XVIII столетия; этот вопрос будет рассмотрен в связи с вопросом о состоянии промышленной техники в предреволюционной и революционной Франции. Эти главы дадут общий фон, на котором будет яснее картина экономического состояния рабочего класса французской провинции в эпоху революции. Далее я коснусь общего состояния французской промышленности с того момента, когда первые, сравнительно не столь бедственные времена сменились все более и более обострявшимся кризисом. В связи с этим будут рассмотрены проявления рабочего движения в провинции, закон о максимуме, явившийся результатом этого движения, и влияние, которое имели на судьбы промышленности и рабочего класса как закон о максимуме, так и реквизиции в 1793–1794 гг.
Экономическое состояние рабочего класса от момента отмены закона о максимуме вплоть до времен Консульства и анализ немногих данных, касающихся политического настроения рабочих в этот период, составят предмет заключительных глав настоящей работы. Эта последняя эпоха датируется 1794–1799 гг.: политически она начинается с 27 июля 1794 г. (9 термидора), с падения Робеспьера: в экономическом отношении приходится отметить как отправной момент 24 декабря 1794 г., когда был отменен закон о максимуме. Наконец, так же как невозможно было начать эту часть работы с 1789 г., невозможно было ее и закончить 1799 г., который принято считать концом революционного периода. Законодательство о рабочих, относящееся к первым годам наполеоновского владычества, явилось завершением той политики предшествующих Наполеону правительств, о которой идет речь в обеих частях настоящей работы; краткой характеристике этого законодательства посвящены последние страницы книги.
Таков общий план моей работы. Об источниках я говорю во введении. Здесь мне хотелось бы сказать несколько слов лишь о том, что общий характер уцелевших документов, легших в основу первой части, не похож на характер документов, которыми пришлось пользоваться при работе над второй частью. Для 1789–1791 гг. есть сравнительно много показаний, касающихся более социальной, нежели чисто экономической стороны истории рабочего класса: есть данные о бурных движениях в апреле 1789 г., о волнениях в июле и августе, о брожении в благотворительных мастерских, о контрреволюционной пропаганде среди рабочих, о стачечном движении 1791 г., об обстоятельствах, вызвавших закрытие благотворительных мастерских и закон Ле Шапелье.
Данных, касающихся положения обрабатывающей промышленности, деталей об экономическом состоянии рабочего класса в 1789–1791 гг., напротив, чрезвычайно мало, и они, за редкими исключениями, мало показательны и мало характерны. Напротив, для 1792–1799 гг. сохранилось больше данных, имеющих отношение к чисто экономическим вопросам: о судьбах обрабатывающей промышленности при максимуме и после максимума, об экономических последствиях максимума для рабочего класса, о безработице при Директории; данных же, касающихся тех или иных проявлений рабочего движения, очень мало, а фактов, говорящих, в частности, о политическом настроении рабочих, и того меньше.
Почему наблюдается такая разница? — 1) В 1790–1791 гг. общее состояние промышленности более благоприятствовало какому бы то ни было профессиональному движению рабочих, чем 1792–1799 гг., время прогрессирующей безработицы, падения производства из-за недостатка сырья и сокращения сбыта. Поэтому особенная скудость известий о проявлениях рабочего движения в 1792–1799 гг. может быть объяснена вовсе не только случайной утратой документов [1]. 2) Что же касается того обстоятельства, что для 1789–1791 гг. так мало сохранилось данных по чисто экономическим вопросам, то здесь можно строить лишь гипотезы. Можно предполагать, что немало данных такого рода пропало среди далеко не полностью попавших в Национальный архив бумаг «комитета о нищенстве», «комитета земледелия и торговли», «комитета, заведывавшего финансами», и других комитетов (хорошо сохранились, в сущности, лишь бумаги «комитета конституции»), например, мы знаем (ср. первую часть моей работы, стр. 90–92) доклад Гудара о состоянии обрабатывающей промышленности, прочитанный в Национальном собрании в 1791 г., но исчезли бумаги, легшие в основу этого доклада; знаем доклад Ларошфуко-Лианкура (ср. первую часть моей работы, стр. 73–74), но тоже не можем сказать, на основании каких материалов он его писал.
Относительно же 1792–1799 гг. дело обстоит в смысле сохранения документов этого рода несколько лучше: сохранились бумаги комитета общественного спасения, много бумаг комитета земледелия и искусств, сохранилась переписка «бюро максимума» и т. п. Может быть, и тут действовали тоже не только случайная пропажа документов в первом случае и случайно лучшее сохранение их в другом; ведь именно в 1792–1799 гг., когда положение промышленности сильно ухудшилось сравнительно с 1789–1791 гг. (по единогласным утверждениям дошедших до нас документов), всевозможные петиции, жалобы, мольбы о вспомоществовании и так далее со стороны хозяев, а отчасти и рабочих должны были в особенно большом количестве присылаться местным и центральным властям, а потому и сохраниться их могло относительно большее количество.
Как бы там ни было, это отличие — факт, с которым исследователь должен считаться, как с vis major. Я отмечаю это здесь именно потому, что совершенно несправедлив был бы упрек в неравномерности распределения материала, в невыдержанности масштаба в обеих частях предлагаемой работы: я брал все относящееся к теме, что только мне удалось найти в архивах, и, конечно, должен был считаться с тем, что в характере материалов, легших в основу первой части, есть известное отличие от характера материалов, на основе которых строилась вторая часть. (Не говорю уже о том, что две первые главы второй части, которые поясняют, что нужно понимать под словами рабочие французской провинции, по существу дела являются характеристикой промышленности, обрисовкой фона экономической жизни, без которого непонятна была бы вся история рабочего класса французской провинции при революции.) Впрочем, так как отличие в характере документов для первого и для второго периодов лишь относительное, то и первая часть моей работы не вышла исключительно «социальной», а вторая не вышла исключительно «экономической» историей рабочего класса.
Работа, для которой я начал собирать материалы восемь лет тому назад, оказалась гораздо сложнее и труднее, нежели я думал, именно вследствие почти полной неразработанности не только вопроса о рабочих, но и общего вопроса о французской обрабатывающей промышленности в конце XVIII столетия; эта работа затруднялась и скудостью источников, разбросанностью документов, отсутствием, за редкими, единичными исключениями, инвентарей революционной эпохи, сколько-нибудь пригодных для поисков.
Долг благодарности заставляет меня помянуть здесь тех, которые, не щадя своего времени и труда, старались облегчить мне поиски в архивных лабиринтах. Особенно я обязан главному инспектору французских архивов г. Camille Bloch’y, который, не довольствуясь тем, что дал мне ряд ценных указаний относительно Национального архива, а также и архива департамента Луарэ (где он начинал свою службу), предоставил еще в мое распоряжение принадлежащую ему лично рукописную копию не изданных, к сожалению, до сих пор мемуаров Ballainvilliers, последнего интенданта Лангедока. Большую помощь оказал мне и г. Charles Schmidt, один из заведующих Национальным архивом, который сообщил мне ряд номеров тех картонов, где находятся документы, еще ни в каком инвентаре не обозначенные (преимущественно из серии F12, для описи которой производятся администрацией архива еще только подготовительные работы).
Такую же любезность встретил я и в обоих архивах в Марселе: в архиве департамента Устьев Роны, в лице г. Busquet, управляющего этим архивом, и его помощника г. Riboulet, и в муниципальном архиве города Марселя, в лице архивариусов гг. Mabilly и Gourbin’a. Очень ценны были услуги г. Descamps, архивариуса департамента Жиронды (в Бордо), и г. J. Ducannès-Duval, управляющего муниципальным архивом города Бордо (замечу кстати, что это единственный из городских архивов, обладающий обстоятельным инвентарем документов революционной эпохи).
Весьма предупредительны были заведующий архивом департамента Роны (в Лионе) г. Guiges и его помощник г. Jobelin, помощник архивариуса департамента Соммы (в Амьене) г. Tilloy, помощник архивариуса департамента Нижней Сены (в Руане) г. Jacquelin, помощник архивариуса департамента Луарэ (в Орлеане) г. Chabin, заведующий архивом департамента Индры и Луары (в Туре) г. Delmas и его помощник г. Mathurier. Весьма предупредительна была и администрация архива парижской префектуры полиции.
Должен прибавить, что г. Камиллу Блоку я признателен еще и за то, что он, несмотря на обременяющие его обязанности — по высшему надзору за всеми архивами Франции, — вызвался редактировать французский перевод моей книжки «L’industrie dans les campagnes en France à la fin de l’ancien régime» (Paris, 1910), a г. Шмидту за чтение корректур этой работы, куда вошла главным образом первая глава предлагаемой второй части книги «Рабочий класс во Франции в эпоху революции». Тот же г. Шмидт редактировал также перевод главы из первой части моей книги, помещенный в журнале «Révolution française» (1909, № 4–5) под заглавием «La classe ouvrière et le parti contre-révolutionnaire sous la Constituante».
Ho есть люди, которым я обязан больше, нежели хранителям архивных сокровищ, облегчившим мне собирание материалов: я говорю о некоторых из русских ученых, создавших совершенно определенную традицию в области разработки экономической истории конца XVIII столетия. Значение русской школы признают и Жорес, и Олар, и Henri Sée, и другие современные французские историки, и мне нечего тут распространяться об этом хорошо известном предмете. Вспоминая в хронологическом порядке русские работы, мы видим, что труды Кареена, Лучицкого, Максима Ковалевского, Ону, Ардашева целиком или частично выходили на французском языке, существенно влияя и на постановку вопросов и нередко на их разрешение. Но, повторяю, не общая оценка научного значения русской школы меня тут занимает. Мне хочется указать лишь на то непосредственное влияние, которое имели на меня некоторые представители этой школы. В Киевский университет я поступил как раз тогда, когда И. В. Лучицкий начал свои создавшие эпоху в науке архивные работы по истории крестьянского землевладения и продажи национальных имуществ при революции. Я живо помню его лекции, на которых он беспощадно разрушал установившиеся взгляды и не переставал повторять, что не в наказах и не у Артура Юнга, а в архивных картонах нужно искать отправной пункт для исследования экономической истории Франции, несмотря на все значение и наказов, и Артура Юнга, и других свидетельств современников; живо помню и огромное впечатление, которое эти лекции на нас производили: они возбуждали энергию к работе и вместе с тем ставили ряд вопросов, которые должны были дать точку приложения для этой энергии. (Отмечу, к слову, что во Франции влияние Лучицкого явственно отразилось на Henri Sée, Bloch’e, Boissonnade).
Во время практических занятий, затем во время долгих бесед, которые он со мной вел и до, и после оставления моего при университете, Иван Васильевич не только указывал мне на архив как на хранилище почти нетронутых, драгоценных показаний, но и прибавлял, что, как ни мало разработана история французского крестьянства при революции, есть тема, еще менее подвергавшаяся специальному исследованию: история рабочего класса в тот же период, та история, относительно которой наказы хранят почти полное молчание.
Я знал, что опять-таки именно русские историки, хоть и не делали этой темы предметом специальных работ, успели бросить некоторые замечания, которые могли возбудить научную любознательность. Я знал, что еще в 1879 г. (т. е. в те времена, когда, кроме Токвиля, Тэна и еще полдесятка ученых, трудно было назвать историков, обращавшихся к архивам при работе над концом XVIII в.) Н. И. Кареев в своей книге «Крестьяне в последней четверти XVIII в.», книге, основанной в значительной степени именно на архивном материале, обратил внимание на распространенность промышленного труда в деревнях, лежащих близ Труа; я знал, что в своей замечательной работе «Крестьянское землевладение накануне революции» И. В. Лучицкий указал на существование индустриальной деятельности в некоторых округах Лимузэна и упомянул об изданных Дювалом, архивариусом департамента l’Orne, ответах приходов алансонской généralité местному провинциальному собранию (в 1788 г.), причем в эти ответах нашел свидетельство о распространении промышленного труда в названной области; наконец, книга М. М. Ковалевского «Происхождение современной демократии» (т. I, ч. III), напоминавшая показание Клико-Блерваша о промышленном труде в деревне, дала, кроме того, несмотря на обширность общей темы, несколько важных и интересных страниц, касающихся специально рабочих в начале революции. Все эти русские авторы, уже вследствие самих тем, которые их занимали, и не могли, и не хотели задерживаться на вопросе о промышленном труде в дореволюционной или революционной Франции; но то, что они и в этом отношении дали, произвело лично на меня большее впечатление, возбудило в большей степени мое любопытство, нежели, например, верные по существу, но афористичные по форме и лишь слегка иллюстрированные примерами утверждения Жореса (в «La Constituante», стр. 70–71) о машинах, о домашней промышленности [2] и т. п. (Впрочем, книга Жореса и вышла в свет уже после названных трудов русских ученых).
Начавши преподавательскую деятельность в Петербургском университете, я нашел и здесь ту научную атмосферу, которая располагала к продолжению занятий по интересовавшему меня вопросу. В Историческом обществе при С.-Петербургском университете темы, касающиеся Франции при революции и ее историков, затрагивались не раз и не два. О крестьянском землевладении во Франции в XVIII в., о Тэне и об Оларе, о библиографии Буассоннада, о книге Кропоткина и тому подобном читали и спорили и Н. И. Кареев, и Э. Д. Гримм, и А. М. Ону, и председатель секции всеобщей истории И. М. Гревс, и переехавший в Петербург для заседаний в Государственной думе И. В. Лучицкий, и другие; в Историческом обществе и мне пришлось прочесть реферат о рабочих национальных мануфактур во Франции.
С 1903 г. я окончательно погрузился в собирание материалов для задуманной работы, и с тех пор не было года, когда бы я около четырех-пяти месяцев не проводил во французских архивах; и вспоминая, что начать систематическую работу над моей темой я получил возможность лишь с того времени, когда стал приват-доцентом С.-Петербургского университета, я чувствую нравственную потребность высказать здесь глубокую благодарность также историко-филологическому факультету С.-Петербургского университета. Если бы он не давал мне из года в год заграничных командировок и не печатал результатов моих работ в своих «Записках», эта книга едва ли скоро увидела бы свет…
ВВЕДЕНИЕ
Литература. Источники
Литература
Уже во введении к первой части отмечена бедность литературы, относящейся не только к истории рабочего класса, но и к истории французской обрабатывающей промышленности в XVIII в. вообще. Но во введении к первой части имелась в виду прежде всего литература, относящаяся к истории рабочего класса в 1789–1791 гг. Теперь, обращаясь к литературе о рабочем классе и о состоянии обрабатывающей промышленности за весь период революции, приходится в общем лишь повторить то, что было сказано раньше. Автор самой полной и лучшей (вышедшей в 1906 г.) библиографии экономической истории революции Буассонад признает, что по истории промышленности и рабочих сделано слишком мало и едва затронуты важнейшие вопросы. Можно было бы прибавить еще, что Буассонад все-таки скорее склонен к оптимизму, чем к пессимизму в этом отношении: он в своей книжке и именно на страницах, посвященных промышленности и рабочему классу, перечисляет на всякий случай много таких работ, которые при ближайшем рассмотрении никакого отношения к эпохе революции не имеют [1].
Коснусь сначала литературы по истории рабочего класса при революции, затем истории промышленности в тот же период (она нас тут будет интересовать больше всего по отношению ее к главному предмету работы) и, наконец, состояния разработки вопроса о промышленной деятельности французской деревни в конце XVIII столетия.
В новом, значительно расширенном и пополненном издании большого общего труда Levasseur’a «Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France de 1789 à 1870» (t. I. Paris, 1903) эпохе революции посвящена первая часть первого тома.
Автор смотрит на свою тему значительно шире, нежели обещает название его труда: он пишет наряду с историей рабочего класса также историю финансов, историю народного просвещения, историю общественной благотворительности в рассматриваемый период. Поскольку речь шла об эпохе 1789–1791 гг., я уже упоминал об этом труде в предисловии к первой части предлагаемой работы. Особенно обстоятельно изложена им история выпуска и обесценения ассигнаций. Из 212 страниц, отведенных периоду 1792–1799 гг., 137 (от стр. 112 до стр. 249) посвящены главным образом финансам времени революции (в связи с которыми автор говорит также о максимуме и реквизициях — на стр. 188–208); две особые главы заняты вопросами народного просвещения и благотворительности (стр. 57–76 и стр. 90–111). Глава о революции — только часть первого тома книги, название которой выписано выше; а в свою очередь эта книга маститого ученого составляет, как известно, часть той общей истории рабочего класса., которую он начинает с древнейших времен, с римского завоевания Галлии, и кончает нашим временем (только несколько лет тому назад появился монументальный заключительный том, посвященный истории рабочего класса в период третьей республики). Охватывая период в полторы тысячи лет, трактуя при этом сплошь и рядом не только об истории рабочего класса в самом широком смысле слова, но излагая попутно и историю земледелия, и юридические и политические учения, и историю быта и нравов общества, и историю народного образования, финансов, благотворительности, не оставляя без внимания и историю политическую, — автор, естественно, должен был выдерживать в своем изложении известный масштаб и поэтому дал сжатую картину состояния рабочего класса при революции. Слова, которыми он удостоил немецкое издание моей книги о «Рабочих национальных мануфактур в эпоху революции», убедили меня, что он сам вовсе не считает лишним дальнейшее, более детальное исследование вопроса о рабочем классе в революционную эпоху, это и было одним из стимулов, побудивших меня продолжать начатое [2].
Книга Левассера является, бесспорно, единственным общим трудом по истории французского рабочего класса, уделяющим столько внимания революционной эпохе. Другие общие труды от старых до новейших становятся особенно лаконичными именно тогда, когда изложение доходит до конца XVIII в.
В четвертом томе книги последователя Пьера Леру и редактора газеты «Démocratie» — Robert’a «Histoire de la classe ouvrière depuis l’esclave jusqu’au prolétaire de nos jours» (t. IV. Paris, 1845), стр. 106–175 посвящены революционной эпохе, но при этом мы не находим буквально ни одного слова о французском рабочем классе при революции, а только и исключительно рассуждения об идеях политических и социальных, выдвинутых в революционную эпоху, сравнение конституций и т. д. Даже о Бабефе говорится очень поверхностно, и вообще автор пользуется излагаемым материалом как предлогом для того, чтобы поделиться с читателем собственными мыслями о свободе, справедливости и т. д.
В 1857 г. вышли отдельным оттиском три статьи, помещенные du Cellier в «Revue contemporaine» и озаглавленные «Des classes ouvrières en France depuis 1789».
Первые 26 страниц посвящены эпохе 1789–1790 гг., но автор почти исключительно говорит об уничтожении цехов и законе Ле Шапелье (стр. 1–23), а о периоде 1791–1799 гг. находим лишь несколько незначащих замечаний (стр. 24–26). Автор — решительный бонапартист и торопится поскорее перейти к эпохе Наполеона, которого он изображает благодетелем французов вообще и рабочих в частности.
Paul Leroy-Beaulieu в своей книге «La question ouvrière au XIX siècle» (Paris, 1872) посвящает революционной эпохе одну страницу (45-ю), причем говорит исключительно о стачках в Париже в 1789 г.
В другой своей книге — «Le travail des femmes au XIX siècle» (Paris, 1873) Леруа-Болье совсем не касается интересующего нас времени, если не считать нескольких строк (на стр. 29).
W. Lexis в своей работе «Gewerkvereine und Unternehmerverbände in Frankreich. Ein Beitrag zur Kenntnis der sozialen Bewegung» (Leipzig, 1879) упоминает (на стр. 11–13) о законе Ле Шапелье и сразу переходит к 60-м годам XIX столетия.
В книге A. Villard’a «Histoire du prolétariat ancien et moderne» (Paris, 1882) стр. 413–421 посвящены революционному периоду. Тут мы находим, кроме краткого упоминания закона Ле Шапелье и благотворительных мастерских 1789–1791 гг., еще рассказ о мерах Конвента в области народного просвещения (стр. 417–419) и несколько слов о падении ассигнаций и максимуме (стр. 420–421). Кроме самых кратких, беглых фраз о положении пролетариата, мы на этих восьми страницах ничего не находим.
В (уже упомянутой в первой части) статье «La Révolution française et la classe ouvrière» (помещенной в «Révolution française» за 1883 г., т. V, стр. 481–502) Charles Chabot высказывает несколько общих соображений о цехах до революции, об их уничтожении в 1791 г., о законе Ле Шапелье, о вспомоществовании нуждающимся в 1793 г. (Отметим преувеличение в последних строках, где речь идет о выставке механических орудий производства, устроенной в 1798 г.).
Среди работ, имеющих целью осветить положение рабочего класса при революции, нужно отметить и работу Biollay.
Первая глава книги Biollay «Les prix en 1790» (Paris, 1886) дает, между прочим, ряд данных, касающихся оплаты рабочего труда в начале революционного периода. Скудость этих данных признает и сам автор (стр. 72); не обманывается он и насчет того, что далеко не всегда можно верить даже и тем, которые имеются (стр. III предисловия). Заметим, кроме того, что для самых громадных групп рабочего класса (например, для работающих во всех отраслям текстильной промышленности) документы, по которым Biollay составлял эту главу своей книги, не дают цифры дневного заработка рабочего, а дают сдельную плату (за известное количество сработанной материи), а это весьма сильно препятствует установлению сколько-нибудь точных понятий о реальном заработке. Упрекать автора в том, что он не пытался больше конкретизировать эти цифры, не пытался определить на основании сдельной платы поденный заработок, мог бы лишь тот, кто не знает, что даже инспекторам мануфактур конца XVIII в., столь близко стоявшим к этим вопросам, подобная задача представлялась совершенно невыполнимой. За всем тем эта глава работы Biollay дает сводку, которая может представить интерес для занимающихся историей рабочего класса при революции. В этом отношении Biollay дает больше Avenel’я, известный общий труд [3] которого не мог, конечно, так много задерживаться на небольшом (в хронологическом отношении) революционном периоде.
В очерках под названием «Essai historique sur la législation industrielle en France» (1892) Marc Sauzet дает характеристику организации, как она существовала при старом режиме, анализ декретов 1790–1791 гг., касающихся охраны прав изобретателей, закона Ле Шапелье и так далее, и наконец излагает законодательство, касающееся бумажных мануфактур.
В книге André Lichtenberger «Le socialisme et la révolution française. Etude sur les idées socialistes en France de 1789 à 1796» (Paris, 1899) мы не только для периода 1789–1791 гг. (о чем уже было упомянуто в первой части настоящей работы), но и для периода 1791–1796 гг. не находим ничего, касающегося истории рабочего класса при революции. Свою задачу автор понял так, что ему не было необходимости углубляться в социальную историю эпохи: он ограничился отдельными замечаниями общего характера о бедствиях низших слоев народа при революции и сосредоточил все свое внимание на мнениях отдельных публицистов и политических деятелей, которые в период времени 1789–1796 гг. склонялись к отрицательному взгляду на частную собственность, на богатых или проводили политику, характеризуемую автором как «государственный социализм» (сюда он относит, между прочим, закон о максимуме, о котором у него идет речь на стр. 211–214 и стр. 258–264), но и тут ничего, кроме нескольких слов, не говорит ни об экономическом и социальном положении, вызвавшем этот закон к жизни, ни об его последствиях.
В книге Dolfus-Francoz «Essai historique sur la condition légale du mineur, apprenti, ouvrier d’industrie ou employé de commerce» (Lyon, 1900) имеется краткое историческое введение, в котором интересующей нас эпохе посвящено около двух страниц (стр. 22–24), что, впрочем, и не мудрено, ибо автора интересует законодательная охрана детского труда, а в эпоху революции абсолютно ничего в этом смысле не было сделано (собственно, и на этих двух страницах говорится больше всего о законе от 12 апреля 1803 г.).
В своей публичной лекции «La question sociale pendant la révolution» (напечатанной в «Révolution française», t. 48, стр. 385–411) Albert Mathiez сделал попытку анализа крестьянского и рабочего движения за время революции, точнее, за период 1789–1793 гг.; он опирается главным образом на данные Жореса («Histoire de la Constituante, de la Législative, de la Convention») и Олара («Etudes et leçons sur la Révolution française»).
Некоторые замечания, касающиеся XVIII в. и, в частности, революционного периода, находим в докладе Charles Benoist, прочитанном во французской палате депутатов 22 февраля 1905 г. («Chambre des députés, 8 législature, session ordin. de 1905. Documents parlementaires. Annexes aux procès-verbaux des séances. Séance du 22 février 1905. Rapport fait au nom de la commission du travail chargée d’examiner les projets de loi portant codification des lois ouvrières…», par M. Charles Benoist, député), на стр 190–193 и на стр. 195–198 (весь доклад занимает стр. 187–234 выпуска 1905 г. указанного издания). При всей сжатости этой части доклада все-таки Charles Benoist отвел истории вопроса больше места, нежели другие докладчики по законодательным проектам, касающимся рабочих. Например, в известном докладе Эмиля Олливье по поводу законопроекта, впервые вводившего во французское законодательство принцип права стачек, мы находим лишь самое беглое упоминание о законе Ле Шапелье и, вообще, о законодательстве времен революции, на стр. 622–629; см. «Session 1864. Procès-verbaux des séances du Corps législatif. Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1864. Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi portant modification des articles 414, 415 et 416 du Code pénal (coalitions)», par M. Emile Ollivier. Paris, 1864.
Книга L. Peticolas «La législation sociale de la Révolution»» (Paris, 1909) разделяется на две неравные части: первая называется «La liberté du travail», вторая — «Le droit de l’assistance». Первая часть, единственно нас тут интересующая, занимает 80 страниц и содержит историю уничтожения цехов; и закон Ле Шапелье. К сожалению, автор ограничивается главным образом изложением по Bûchez et Roux (в их «Histoire-parlementaire de la révolution française») и самыми общими рассуждениями о принципе свободы труда, о принципе ассоциации и т. д. Последние 12 страниц этой части (стр. 68–80) посвящены эпохе 1791–1799 гг., и, кроме беглых замечаний о законодательстве при Конвенте и Директории, мы тут ничего» не находим [4]. Правда, в задачу автора входила лишь характеристика законодательства о рабочих, а не положения рабочего класса, но и в этой ограниченной области он дал менее, нежели дает, например, общий труд Левассера.
Отметим совершенно голословное и произвольное мнение, будто закон Ле Шапелье сильно помог «полной трансформации», которую, якобы, пережила промышленность при революции; трансформация эта, но утверждению нашего автора, состояла в «быстром» превращении мелкой индустрии в крунную (стр. 64). Ни «быстрого», ни медленного превращения подобного рода французская индустрия в эпоху революции не пережила. Эти голословные, вскользь брошенные слова Peticolas показывают только, до какой степени принято повторять это совершенно бездоказательное и глубоко ошибочное утверждение. Он, правда, не делает даже и попытки доказать основательность своего суждения: до такой степени, очевидно, считает бесспорным фактом, что французская промышленность, в конце XVIII в. «превратилась» в «крупную». Именно широкая распространенность подобных суждений и заставила нас поставить читателя лицом к лицу с документальными свидетельствами, касающимися вопроса о господствовавшем во Франции в конце XVIII в. типе промышленности.
Из специальных работ, относящихся к истории рабочих той или иной профессии, конечно, прежде всего нужно назвать, превосходное исследование J. Godart’a «L’ouvrier en soie» (Paris, 1899); в нем рассматривается история рабочего класса в лионском шелковом производстве, начиная с середины XV столетия и кончая уничтожением цехов в 1791 г. Godart приводит много ценного материала, относящегося к XVIII столетию, но изложение останавливается даже не на 1791 г., а на 1789, если не считать стр. 383–384, где речь идет об одном документе, относящемся к 1790 г. К сожалению, не появилось, продолжения этого интересного труда.
В двух брошюрах («La papeterie de Buges en 1794». Besancon, 1903; «Les papeteries d’Essonnes, de Courtalin et du Marais de 1791 à 1794». Besançon, 1899) Fernand Gerbaux напечатал несколько любопытных документов, касающихся некоторых бумажных мануфактур в 1791–1794 гг. Все пять документов, опубликованных им в приложении ко второй брошюре, находятся в Национальном архиве, в картоне С. 350; шестой, касающийся числа рабочих мануфактуры в Бюже, взят им из архива Loiret (Gerbaux был архивистом Музея бумажного производства на всемирной выставке 1900 г.; он состоит теперь деятельным членом комиссии по опубликованию документов, касающихся экономической истории революции).
В брошюре С. М. Briquet «Associations et grèves des ouvriers papetiers en France aux XVII et XVIII siècles» (Paris, 1877) мы, правда, не находим ничего, относящегося к революционному периоду, но приведены некоторые данные, касающиеся второй половины XVIII столетия (стр. 17–28).
В брошюре Nicolaï «Situation et rapports respectifs des patrons et ouvriers de Bordeaux pendant le XVIII siècle» (Paris, 1900) на стр. 19–24 находим некоторые факты из жизни рабочих города Бордо в эпоху революции. Между прочим, находим перепечатку воззвания бордосского муниципалитета от 3 вантоза II года (стр. 21–22).
Нужно заметить, что, в частности, истории цехов повезло в исторической литературе несколько более, чем истории рабочего класса и промышленности вообще; но, как известно, цехи были уничтожены в 1791 г., да и в 1789–1791 гг. уже ни малейшей роли не играли и фактически не существовали. Поэтому работы, посвященные цехам, немного могут дать для освещения вопроса о положении рабочего класса в 1789–1799 гг.
В своем большом исследовании по истории цехов от древнейших времен до их уничтожения «Histoire des corporations de métiers» (Paris, 1897) Martin Saint-Léon останавливается на отношении к цехам, сказавшемся в cahiers 1789 г. (стр. 504–508), на законе 1791 г., уничтожившем цехи (стр. 508–510), и на законе Ле Шапелье (стр. 512–516). От закона Ле Шапелье автор непосредственно переходит (стр. 516) к эпохе Консульства.
Столь же мало дают для интересующей нас эпохи частичные исследования по истории цехов.
В книге Gustave’a Fagniez «Corporations et syndicats» (Paris, 1905) о революционной эпохе или, точнее говоря, об отмене цехов и о законе Ле Шапелье говорится на трех страницах (стр. 62–65); о периоде после 1791 г. не сказано ни единого слова.
Очерк Antoine Du Bourg’a «Tableau (le l’ancienne organisation du travail dans le midi de la France» (Toulouse, 1885) — посвящен истории цехов в Тулузе от XIII в. до конца этих организаций. Изложение заканчивается 1791 г., когда цехи были уничтожены, но, собственно, уже о последних десятилетиях существования цехов автор почти ничего не говорит.
В небольшой работе (64 страницы) Auguste Chauvigné «Histoire des corporations des arts et métiers de Touraine» (Tours, 1885) интересующая нас эпоха вовсе не затронута: изложение доведено до 1789 г., а о судьбах индустрии после 1789 г. говорится лишь: à partir de ce moment il existe peu de documents commerciaux dignes d’être mentionnés: les grands événements politiques et sociaux qui s’accomplirent, paralysèrent toutes les industries et plongèrent le commerce dans une stagnation complète (стр. 56). Замечу тут же, что подобным общим заключением эпохи 1789–1799 гг. ограничивается большинство историков, прекращающих изложение на 1789 г. или переходящих непосредственно от 1789 г. к временам империи.
В высшей степени интересная и основанная на первоисточниках работа Буассоннада «Essai sur l’organisation du travail en Poitou depuis le XI siècle jusqu’a la révolution» (Paris, 1900) также доводит изложение до 1789 г., останавливаясь в последней главе («L’action de l’état sur le travail en Poitou à la fin de l’ancien régime», 1753–1789, стр. 515–562) главным образом на попытках правительственной власти смягчить стеснительную регламентацию промышленной деятельности.
В книге Rebillon’a «Recherches sur les anciennes corporations ouvrières et marchandes de la ville de Rennes» (Paris, 1902) стр. 188–197 посвящены истории цехов города Ренна в 1789–1791 гг. Вкратце рассказывается об участии цехов в выборе депутатов в Генеральные штаты, об участии цеховых мастеров в местном самоуправлении и, наконец, о впечатлении, которое произвел на хозяев декрет 1791 г., уничтожавший цехи. Больше ничего, касающегося революционной эпохи, мы тут не находим.
В статье «Les derniers corps de métiers en France» («Révolution française», 1894, т. XXVI, стр. 327–345) H. Moscin говорит в общих чертах о последних цехах, существовавших еще в эпоху между министерством Тюрго и моментом начала революции.
Работа по бытовой истории рабочего класса Albert Babeau «Les artisans et les domestiques d’autrefois» (ed. 2. Paris, 1886) останавливается на середине XVIII столетия и затрагивает исключительно городских цеховых рабочих и прислугу.
Общую характеристику цехов дал недавно и Charles Benoist в статье «La crise de l’état moderne» («Revue des deux mondes», 1909, 1 novembre, стр. 75–108).
Так же мало дают для эпохи революции и книги, посвященные так называемым компаньонажам, рабочим профессиональным товариществам, возникшим на почве цехового строя.
Это интересное явление все более и более привлекает внимание исследователей (еще недавно, в 1907 г., появилось издание документов, касающихся товарищества в Дижоне, с интересным предисловием Hauser’a: («Les compagnonnages d’arts et métiers à Dijon aux XVII–XVIII siècles», par M. Hauser avec la collaboration des étudiants en histoire de l’université de Dijon. Paris, 1907). Но компаньонажи роли во время революции и даже в последние годы старого режима не играли, а потому эта часть литературы по истории рабочего класса не может нам дать почти ничего. Работы этой категории либо останавливаются на начале царствования Людовика XVI, либо доводят изложение до середины XIX столетия, но при этом почти вовсе обходят молчанием революционный период. Нечего и прибавлять, что в этих работах речь идет, конечно, более всего именно о явлениях цеховой организации труда, с которой товарищества так тесно связаны. О деревенской индустрии, о ее значении и распространении мы тут решительно ничего не находим (да и не можем найти по самому существу темы).
Об интересной работе Germain Martin’a «Les associations ouvrières au XVIII siècle» (Paris, 1900) я уже говорил в предисловии к первой части; работа Martin, оканчивающаяся законом Ле Шапелье, уже не имеет отношения к периоду, который нас занимает в этой, второй, части.
Новейшему историку рабочих товариществ Сен-Леону (Е. Martin Saint-Léon. Les compagnonnage. Paris, 1901) тоже не было надобности много останавливаться на интересующем нас периоде; на страницах, посвященных революции (стр. 69–78), он говорит (ссылаясь на G. Martin) о следах существования этих товариществ в первые годы революции (ср. первую часть настоящей работы); период, которому посвящена предлагаемая вторая часть (1791–1799), отмечен очень бегло (стр. 76–78). Для специальной задачи Сен-Леона эти годы и не могли дать ничего вследствие того, что жизнь интересующих его ассоциаций почти совершенно замерла.
В серии общих книжек по истории ремесленников во Франции с древнейших времен François Husson доводит изложение до уничтожения цехов, причем только упоминается закон 1791 г., покончивший с цехами («Artisans français. Les menuisiers. Etude historique». Paris, 1902; «Artisans français. Les serruriers. Etude historique». Paris, 1902; «Artisans et compagnons. Etudes retrospectives sur les métiers». Paris, без даты).
В своем этюде о рабочих товариществах в Лионе «Le compagnonnage à Lyon» (помещенном в «Revue de l’histoire de Lyon», 1903 г., т. II, стр. 425–469) J. Godart совершенно обходит молчанием интересующий нас период вследствие полного, как он замечает, отсутствия документов, которые бы касались этих рабочих ассоциаций в период 1789–1799 гг. (стр. 442), и от 60-х годов XVIII столетия непосредственно переходит к 30-м годам XIX [5]. По той же причине совершенно молчат о революции, а иногда и о всей второй половине XVIII столетия и другие авторы, интересовавшиеся товариществами.
От литературы по истории рабочего класса в точном смысле слова переходим к истории французской промышленности вообще и к истории отдельных производств в рассматриваемый период, как местной, так и общей. Начнем с более старых работ.
Две книги Франсуа д’Ивернуа [6], изданные им в 1799 и в 1800 гг., являются памфлетами эмигранта, направленными против Директории. Ничего, кроме общих рассуждений об упадке экономической жизни страны, мы тут не находим. В одной из этих книг мы не находим решительно ничего, относящегося к нашему предмету, а в другой есть глава «Dépérissement des principales manufactures de la France» [7], в которой содержатся сожаления по поводу уничтоженной регламентации промышленности и не имеющие никакого интереса суждения о финансовом состоянии и торговле Франции.
В высшей степени интересной (и интересной в качестве одного из источников) могла бы быть для нас работа знаменитого графа Шанталя, бывшего при Наполеоне министром внутренних дел и написавшего уже при Реставрации книгу «De l’industrie française» (t. I–II. Paris, 1819). Он имел перед глазами много документов, которые теперь бесследно исчезли; через его руки прошла масса бумаг, из которых в картонах серии F12 сохранились не только далеко не все, но далеко не всегда самые существенные, как это можно утверждать с уверенностью. Но, к сожалению, граф Шанталь с умыслом не затрагивает интересующую нас эпоху и делает это на том основании, что цель его — представить положение французской индустрии в нормальное, так сказать, время — в текущий момент, т. е. в первые годы реставрации Бурбонов; интересы исторической науки отходят на задний план: «… ainsi, pour apprécier le commerce français je n’irai point consulter ces années, où le fabricant ne travail-loit, que par contrainte, où nos vaisseaux étoient repoussés de toutes les mers; ni cette époque plus récente où la victoire nous avait asservi des nations nombreuses qui recevoient nos lois: durant les deux crises tout étoit forcé… il ne faut choisir ni ces époques désastreuses où la guerre ferme la plupart des débouchés à la consommation, ni ces temps malheureux de crises politiques qui rompant les biens sociaux établissent la défiance, ménacent la propriété et paralysent l’industrie» (т. I, стр. 1). Тем не менее некоторые замечания Шанталя (относительно 1789 г.) пригодятся нам в дальнейшем изложении.
Ничего, кроме нескольких замечаний об уничтожении цехов, не говорит о промышленности в эпоху революции и другой очевидец и соучастник событий, человек, долго служивший в министерстве внутренних дел по отделению, в ведении которого находились мануфактуры, — A. Costaz («Histoire de l’administration en France, de l’agriculture, des arts utiles, du commerce…», t. I–II, éd. 3, 1843).
В другой его книжке («Mémoire sur les moyens qui ont amené le grand développement…». Paris, 1816) находим перепечатку нескольких декретов, касающихся промышленности, и введение (стр. 1–58), в котором автор говорит в общих чертах о поддержке правительства изобретениям и открытиям.
В речи Шарля Дюпена «Progrès de l’industrie française depuis le commencement du XIX siècle, discours prononcé le 29 novembre 1823 pour l’ouverture du cours de mécanique appliquée aux arts» (Paris, 1824) не находим абсолютно ничего, касающегося интересующего нас периода, кроме косвенного указания на отсутствие машин в шерстяной индустрии при революции (стр. 15: «… en 1803 on a commencé à introduire dans nos manufactures des machines pour carder et pour filer la laine»).
В 1857 г. под редакцией того же Шарля Дюпена особая комиссия (заведовавшая французской секцией на Лондонской выставке 1851 г.) издала в двух больших томах (или, точнее, частях) труд генерала Poncelet «Machines et outils appropriés aux arts textiles» (Exposition universelle de 1851. Travaux de la commission française sur l’industrie des nations publiés par ordre de l’empereur, t. III, 1 partie. Paris, 1857; t. III, 2 partie. Paris, 1857). Автора интересует главным образом настоящее, а не прошлое. История для него начинается собственно с 1815 г., и там, где он говорит о XVIII столетии, он интересуется прежде всего англичанами (1-е partie, стр. 1–22) или разбором технических достоинств и недостатков машины Вокансона (2-е partie, стр. 27–66). Решительно ничего нет ни об организации труда, ни о степени распространения машин во Франции в XVIII столетии (нечего уже и говорить об одном только десятилетии 1789–1799 гг.). По книге Poncelet можно судить, как мало дают другие, более сжатые работы по истории машин, техники, изобретений и так далее для уяснения судеб французской обрабатывающей промышленности и рабочего класса при революции; заметим, к слову, что поминаемая Буассонадом в его библиографии (стр. ИЗ) книга With’a «Bibliothèque de l’enseignement technique. Les machines, leur histoire, leur description, leurs usages» (t. I–II. Paris, 1873) не говорит ничего абсолютно о XVIII столетии и вообще никакой истории, вопреки подзаголовку, в себе не содержит, если не считать первых девяти страниц введения, где находим общие рассуждения о роли машин в цивилизации. Это книга исключительно техническая. Более старые работы этой категории тоже абсолютно ничего не дают для экономической истории Франции, даже если заняты именно историей изобретений. Такова книга М. L. Dutens’a «Origine des découvertes, attribuées aux modernes, où l’on démontre que nos plus célèbres philosophes ont puisé la plupart de leurs connaissances dans les ouvrages des anciens…» (t. 1–4. Paris, 1812), также упомянутая Буассонадом.
В статье «Statistique de l’industrie de la France sous le règne de Louis XVI» (помещенной в «Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques» за 1854 г., т. 27, стр. 321–346) Moreau de Jonnès совершенно не касается революционного периода: он лишь касается 1788 г. и ограничивается приведением некоторых цифр из сочинения Толозана о французском производстве в 1788 г. (стр. 322–328); остальные страницы статьи посвящены самой общей характеристике предшествующей эпохи.
Louis Reybaud в трех томах, посвященных разным отраслям текстильной индустрии («Etude sur le régime des manufactures. Condition des ouvriers en soie». Paris, 1859; «Le coton, son régime, ses problèmes, son influence en Europe». Paris, 1863; «La laine. Nouvelle série des études sur le régime des manufactures». Paris, 1867), обходит почти совершенно молчанием интересующий нас период. В первой книге он (в той части, которая касается Франции) начинает историческую справку с XIX столетия, с изобретения Жаккара в области техники шелкового производства; в третьей книге (о шерстяном производстве) находим несколько замечаний об англо-французском договоре 1786 г., после чего автор переходит к современности. Автор не знает ни единого документа из хранящихся в Национальном архиве и полагает, что если из словаря Савари (вышедшего в 1741 г.) ничего нельзя извлечь, то это дело непоправимое (стр. 30: «… nous manquons de documents précis sur l’état de l’industrie, après Colbert. Le dictionnaire de Savary s’en tient à des généralités sur lesquelles il n’y a pas grand fonds à faire et dont on ne peut guère tirer parti»). Это мнение о словаре Савари в общем совершенно справедливо, и его можно распространить почти на все словари коммерческие, географические и прочие, которые поминает, между прочим, П. Буассонад в своей библиографии (хотя, к слову заметим, именно словарь Савари дает нам единственное исходящее от очевидца и относящееся к середине XVIII в. описание мануфактуры Ван-Робе). Больше других дает, конечно, «Encyclopédie méthodique» Roland de la Platière, t. II–III, 1790 (Paris, 1789–1790. Нац. библ., inventaire Z. 8563), где мануфактурам посвящено два громадных тома.
Мы находим тут, впрочем, подробнейшие сведения о свойствах сырья, о способах его переработки, о торговых путях, по которым сырье доставляется во Францию, и т. д.; но для понимания экономических отношений во Франции в ту эпоху, когда это издание выходило в свет, энциклопедия дает мало. О других (Peuchet, Maquer и т. д.) нечего и говорить: никто из их авторов не мог идти в сравнение с Роланом как глубоким знатоком экономической жизни Франции, как практическим деятелем с широчайшим и многообразным опытом. По тем немногим письмам его, которые сохраняются в Национальном архиве, видно, как добросовестно относился он к своим обязанностям инспектора сначала амьенских, потом лионских мануфактур, как детально он знал положение вещей. Если в своей энциклопедии он охотнее всего ограничивается техническими описаниями, то во всяком случае не оттого, что организация промышленного труда и соприкасающиеся с этим вопросы ему не известны. Это, очевидно, по тогдашнему воззрению не входило, не должно было входить в содержание подобного рода изданий.
Но если мы вправе жалеть, что документов, касающихся промышленности и рабочих во второй половине XVIII в. и особенно при революции, слишком мало, то сказать, что их совсем нет, и считать Савари чуть не единственным источником непозволительно. Сам Reybaud косвенно опровергает себя, цитируя в одном месте — по поводу договора 1786 г. — показания руанской торговой палаты. Еще меньше места занимают исторические справки во второй книге Reybaud (о хлопчатобумажной индустрии). Кроме беглых замечаний (стр. 132, 136, 262–263, 304), мы тут ничего не находим.
В интересной общей работе Шмоллера «Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung» Франции вообще, а занимающей нас эпохе, в частности, отведено очень мало места, причем автор опирается на книги Levasseur’a и Pariset (цит. соч., стр. 16–18, «Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich» 1891, H. 1).
Работа Louis Mosnier «Origines et développements de la grande industrie en France du XV siècle à la révolution» (Paris, 1898) дает беглый очерк законодательства, касающегося индустрии в XV–XVIII вв. Всему периоду от Тюрго до революции посвящено 8 страниц (стр. 161–169), очень сокращенно пересказывающих Левассера. О революционном периоде не сказано ничего.
В книге Auguste Lacroix «Historique de la papeterie d’Angouême suivi d’observations sur le commerce de chiffons en France». (Paris, 1863) мы находим главным образом лишь очерк развития техники бумажного дела и сведения о старинном законодательстве, касающемся этой отрасли производства; о революционном периоде, кроме нескольких слов на стр. 52 и на стр. 57–60, ничего не находим. В приложении к книге перепечатаны постановления, относящиеся также и к революционному периоду (стр. 316–330). Автор, Auguste Lacroix, фабрикант и наследник владельцев старинной бумажной мануфактуры, ничего не нашел в своем семейном архиве, что могло бы пополнить наши сведения о судьбах индустрии и рабочего класса в 1789–1799 гг.
В книге Henri Lecomte «Le coton» (Paris, 1900) нет ни единой строки, относящейся к Франции XVIII в. (хотя в подзаголовке значится: «Culture. Histoire économique», что, вероятно, и побудило Буассонада упомянуть и об этой книге в своей библиографии). Что более удивительно, это полнейшее отсутствие какого бы то ни было внимания к истории хлопчатобумажной индустрии во Франции в XVIII в. в книге Gaston Beaumont’а, «L’industrie cotonnière en Normandie. Son histoire sous les différents régimes douaniers» (Paris, 1901), если не считать нескольких слов на стр. 21–22 и на стр. 31. Нечего и говорить, что, например, общая история Levasseur’a дает больше, чем эта специальная монография..
Ничего по интересующему нас вопросу мы не найдем и в небольшой книжке Edouard Forestié «Notice historique sur la fabrication de draps à Montauban du XIV siècle à nos jours» (Montauban, 1883). Он приводит выдержки из одного документа 1790 г., касающегося местного шерстяного производства, и затем прямо переходит к XIX столетию; но и выдержки из этого документа ничуть не помогают нам уяснить себе, как были организованы производство и сбыт шерстяных материй в Монтобане в конце XVIII в., а между тем, как увидим в своем месте, именно относительно Монтобана сохранились в Национальном архиве некоторые весьма любопытные в этом смысле свидетельства.
В книге Louis Chabaud «Marseille et ses industries. Les tissus, la filature et la teinturerie» (Marseille, 1883) нет ничего, относящегося к революционному периоду, кроме упоминания (на стр. 8 и 9), что в 1780 и 1790 гг. как мэр, так и промышленники жаловались на недостаток воды (для мануфактур).
В другой книге того же автора («Marseille et ses industries. La savonnerie», par Louis Chabaud. Marseille, 1881) тоже нет ничего, относящегося к нашей теме хотя бы косвенно, кроме некоторых статистических данных о производстве мыла в 1789 г. (стр. 79), после чего автор непосредственно переходит к временам Консульства (о которых, впрочем, тоже почти ничего не говорит).
О замечательном труде Godart’a, посвященном рабочим лионских шелковых мануфактур, я уже говорил выше, когда речь шла о специальной литературе по истории рабочих.
Новейшая работа о лионской фабрике принадлежит E. Pariset («Histoire de la fabrique lyonnaise». Lyon, 1901). Автор излагает судьбы лионского шелкового производства от начала XVI столетия до настоящего времени. Революционному периоду посвящены стр. 241–254, но, собственно, эти 13 страниц касаются эпохи 1789–1791 гг., и только в последних строках (стр. 253–254) находим упоминание о полном разорении лионского производства в эпоху господства Комитета общественного спасения. Еще меньше дает более специальная брошюра того же автора «Les tireurs d’or et d’argent à Lyon en XVIII et XIX siècles» (Lyon, 1903). Кроме упоминания о законе 1797 г., касающемся правительственного надзора над золотых дел мастерами (преимущественно для фискальных целей), мы тут не находим ничего, касающегося рассматриваемого периода.
Даже в такой большой и обстоятельной работе, как монография главного секретаря торговой палаты города Сент-Этьена — L. Gras «Histoire économique de la métallurgie de la Loire» (Saint-Étienne, 1908), революционный период затрагивается лишь в нескольких словах на четырех страницах (стр. XXXV–XXXVI предисловия и стр. 4–5 главы 1), да и то о рабочих в металлургическом производстве мы тут ничего не находим. А между тем это огромный труд (622 страницы), посвященный притом изложению истории железоделательной индустрии в одном только департаменте. Подобно большинству работ этого типа, автор внимательнее всего относится, конечно, к XIX–XX вв., и чем ближе к современности, тем его труд становится детальнее; весь же период до XIX столетия очерчен бегло (больше всего по Левассеру). Немудрено, что, в частности, на период 1789–1799 гг. пришлось лишь несколько беглых замечаний.
Два документа из местного архива (правда, революционной эпохи), доложенные в заседании литературного общества департамента Коррез 3 декабря 1884 г., относятся к юридическим пререканиям между совладельцами оружейной мануфактуры в Тюлле и интереса для нашей темы не имеют («Deux pièces pour l’histoire de la manufacture d’armes de Tulle», communication de Jean Rondeau et de Ch. Pradon. — «Bulletin de la société des lettres de la Corrèze», 1884, t. 6, стр. 663 и сл.).
Почти к нулю сводится и литература о рабочих угольных копей в эпоху революции.
В книге Georges Michel’я и A. Renouard’a, специально посвященной истории самых крупных угольных копей Франции, анзенских («Histoire d’un centre ouvrier. Les concessions d’Anzin», par G. Michel et A. Renouard. Paris, 1891), не находим почти ничего, касающегося революционного периода, хотя авторы имели в своем распоряжении все документы предприятия. На стр. 65–70, относящихся к революции, даются сведения, что производство еще в 1792 г. было равно 275,5 тысяч тонн, в 1793 г. упало до 80 тысяч тонн, а в 1794 г. — до 65 тысяч; что австрийское нашествие в 1793 г. разогнало почти всех рабочих, что временно прекратились все работы, а многие акционеры компании эмигрировали; число рабочих, занятых в копях в этом районе, авторы согласно показанию Dieudonné, бывшего при Империи префектом северного департамента, признают для 1789 и 1790 гг… равным 4 тысячам человек; при возобновлении работ в начале Консульства их было 3 тысячи человек. Больше решительно никаких сведений об анзенских рабочих при революции не дается. Эти копи разбросаны на протяжении больше 28 тысяч гектаров земли, они находятся в районе, который уже в конце XVIII в. считался одним из самых населенных и промышленных во Франции (так как Hainaut — близ города Валансьена), и хотя тема наша касается главным» образом рабочих обрабатывающей промышленности, но, конечно, весьма интересно было бы знать, как жила рабочая масса, служившая у анзенской компании. К сожалению, в Национальном архиве мне не удалось найти ответа на этот вопрос, а книга Мишеля и Ренуара показывает, что и в недоступном постороннему глазу частном архиве копей тоже никаких данных, касающихся этого предмета, не имеется. Ничего в этом смысле не дает и издававшийся правительством журнал «Journal des mines», выходивший с 1795 г. и сохранившийся в Национальной библиотеке (Нац. библ., inventaire S. 20011: «Journal des mines», publié par le conseil des mines de la République; в начале 1798 г. он перестал выходить в свет, а в мае 1800 г. возобновился). Он дает почти исключительно материал, имеющий чисто технический интерес; общие цифры добычи угля, попадающиеся тут, необходимо принимать, конечно, весьма условно. Как поясняет редакция в программной статье, главной целью органа является изучение свойств французских копей, изучение техники добывания минеральных богатств, популяризации наук — минералогии, химии и механики («Journal des mines», № 1, vendemiaire de l’an III, «Programme», стр. 7–9). Ознакомившись с этим органом за 1795–1798 гг., я убедился, что ничего, даже отдаленно затрагивающего интересующие нас вопросы, там найти невозможно ни относительно восьми копей анзенской компании, ни относительно других, более мелких, предприятий той же категории.
Очень скудна и литература по истории выделки предметов роскоши. В первом томе большой монографии Henri Vever «La bijouterie française au XIX siècle» (Paris, 1906) на стр. 10–15 находим несколько замечаний об упадке торговли драгоценными вещами при революции, но решительно ничего, что помогло бы разобраться хотя бы в вопросе о влиянии, которое, совершенно бесспорно, оказал упадок этой отрасли торгово-промышленной деятельности на безработицу в Париже.
В интересной монографии Frémy о королевской зеркальной мануфактуре мы находим очень мало касающегося нашей темы (стр. 305–308 и 324–327. — «Histoire de la manufacture royale des glaces de France au XVII–XVIII siècles», par Elphège Frémy. Paris, 1909). Впрочем, y автора не было относительно революционного периода почти никакого материала даже и для общей истории этого заведения с финансовой и технической точек зрения, что гораздо больше его интересует, нежели положение рабочих (см. стр. 146).
Напечатанные Fray-Fournier документы департаментского архива и отчасти серии OO Национального архива «Documents pour servir à l’histoire de l’industrie et des manufactures en Limousin» (cm. «Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin», II série, t. 40, стр. 164–212 и 736–768; t. 41, стр. 454–487) касаются лимузенской индустрии, начиная от Кольбера и кончая Тюрго. Революционного периода они совершенно не затрагивают и касаются преимущественно начального периода выделки фарфора в Лимузене (в 60-х и начале 70-х годов XVIII столетия). Один документ, касающийся бумагопрядильной индустрии, из напечатанных Fray-Fournier я цитирую в главе об организации производства накануне революции.
Положению бумажной индустрии за время революции в департаменте Шаранты в интересном общем очерке проф. Буассонада посвящено всего около 10 строк («L’industrie du papier en Charante et son histoire», 1899).
В книге Alphonse Peyret «Statistique industrielle du département de la Loire» (Saint-Étienne, 1835) не только о революции, но и вообще о XVIII в. почти ничего не говорится (если не считать нескольких слов на стр. 8 и 9). Автор, например, считает совершенно невозможным знать что-либо о судьбах оружейного производства в Сент-Этьене в 1790–1799 гг. (стр. 80). Тем не менее он приводит цифры, касающиеся числа рабочих, занятых в оружейном производстве в 1790 и в 1799 гг. Откуда он взял эти цифры, по старинному обычаю былых французских местных историков, он не говорит, ограничиваясь заявлением, что эти цифры «выисканы администрацией». К этим цифрам в соответствующем месте я еще вернусь.
Некоторые интересные данные дает биография владельца мануфактуры в Jouy-en-Josas Оберкампфа, написанная Лабушером на основании заметок самого Оберкампфа, которые автор получил от дочери и племянника этого промышленника, а также на основании устных рассказов и местных преданий («Oberkampf, 1738–1815», par Alfred Labouchère». Мне придется еще коснуться некоторых фактов, приводимых в этой биографии.
Наконец, еще несколько слов о разработке одной затрагиваемой в моей работе темы. Как указано выше, один из вопросов, которые мне показалось решительно необходимым поставить раньше, нежели говорить о положении рабочих в провинции, это вопрос об организации производства во Франции в конце XVIII столетия. Этот вопрос, как становилось для меня все более и более ясно, тесно связан с другим вопросом: о промышленном труде в деревне. Деревня, работающая на мануфактуры, деревня, работающая на купца, деревня, работающая непосредственно на потребителя, повелительно приковывала к себе мое внимание, по мере того как я знакомился с документами (и прежде всего с отчетами и докладными записками «инспекторов мануфактур»). Становилось ясно, что уйти от этого вопроса я могу, только насильственно упрощая свою тему и отказываясь вглядеться пристальнее в глубину хозяйственной жизни Франции в XVIII столетии. Что касается научного обследования этой проблемы, то оно оказалось еще в зачаточном состоянии.
Еще меньше, чем по истории городского рабочего класса в эпоху революции, можно указать в литературе сведений относительно вопроса об участии деревни в промышленной жизни конца XVIII столетия. Этому вопросу особенно не повезло. Историки, писавшие о рабочем классе в XVIII в. или при революции, имели в виду прежде всего городских (часто даже только столичных) рабочих: рабочих цеховых, рабочих организации (товарищества) и т. п. Деревенская промышленность их внимания почти вовсе не останавливала, и те немногие, которые вообще упоминали о ее существовании, ограничивались отдельными замечаниями и беглыми указаниями. С другой стороны, этот вопрос не мог найти много места и в рамках исследований по истории французского земледельческого класса.
Как отметил Н. И. Кареев еще в 1879 г. (и повторил во французском издании своей книги в 1899 г. [8]), почти во всех работах, посвященных истории французского крестьянству XVIII столетию вообще отведено меньше всего места и подарено меньше всего внимания. Если это правильно даже относительно многих вопросов, связанных с историей земледельческого труда, с историей земельных отношений, с экономическим положением крестьянина, живущего сельскохозяйственным трудом, то с еще большим правом, конечно, это можно повторить относительно истории промышленного труда во французской деревне XVIII в.
В книге барона Калонна («La vie agricole sous l’ancien regime en Picardie et en Artois», par le baron de Calonne. Paris, 1883) стр. 107–117 посвящены вопросу о деревенской индустрии в Пикардии и Артуа. Автор отмечает самый факт, не входя в подробности, касающиеся организации производства и сбыта в этих провинциях.
Должно отметить в очень интересной статье профессора Реннского университета Henri Sée «Les classes rurales en Bretagne du XVI siècle à la Révolution» («Revue d’histoire moderne et contemporaine», t. VI, 1904) указание на давнишнее существование домашней индустрии в деревнях Бретани (стр. 322).
В позднейшем большом своем исследовании «Les classes rurales en Bretagne» (Paris, 1906) Henri Sée касается на стр. 446–456 деревенской индустрии в Бретани с XV в. до времен революции. Мы еще вернемся к интересным замечаниям, которые делает этот выдающийся исследователь экономической истории Франции.
В книге Jules Sion «Les paysans de la Normandie orientale» (Paris, 1909) есть несколько страниц, посвященных деревенской промышленности в Нормандии от начала XVIII в. (стр. 175–186; стр. 294–303), где автор отмечает большое развитие промышленного труда в нормандской деревне.
За этими исключениями, я бы затруднился указать работы, посвященные сельскому населению Франции, которые останавливались бы на этом специальном вопросе.
Исключительно о земледелии и сельском хозяйстве трактует, например, имевшая в свое время большой успех книга Léonce de Lavergne «Economie rurale de la France depuis 1789» (éd. 3, revue et augmentée. Paris, 1866); и нужно сказать, что при очень большой сложности вопросов, связанных с историей чисто аграрных отношений во Франции XVIII в., требовать от историков французского крестьянства, чтобы они останавливались еще и на деревенских подсобных промыслах, было бы не совсем основательно. Историки крестьянства должны были прежде всего поставить и ставили своей задачей выяснение коренных социально-экономических проблем, связанных с земельными отношениями.
Но от другой категории исследователей — от историков провинциальной жизни, от историков деревенского быта — можно было с большим правом ожидать внимания к этой теме, так как в их задачу входило дать общую картину жизненного уклада населения той или иной местности.
В цели автора трехтомной работы описательного характера «Les populations agricoles de la France» Baudrillart’a не входило дать историю сельского населения: он касается больше всего современности. Но там и сям (на стр. 409–410 первого тома, стр. 372–373 и 392 второго тома этого труда, на стр. 570 третьего тома) попадаются замечания о занятиях деревенских жителей мануфактурным трудом в XVIII в.
Молчат или говорят вскользь, в самых общих чертах, о промышленном труде в деревне XVIII в. и авторы, посвящавшие специальные исследования истории той или иной провинции.
До какой степени мало сделано до сих пор по интересующему нас вопросу в литературе, посвященной истории провинции, показывают работы Albert’a Babeau. Трудно назвать историка, который так много и плодотворно работал бы над историей французской провинции, а между тем в главных его трудах почти ничего, касающегося промышленности и рабочих в конце XVIII в., не имеется. В его большой общей работе «La province sous l’ancien régime» (Paris, 1894, два тома) находим страницы, посвященные торговле и промышленности (т. II, стр. 194–231), но почти все изложение относится к концу XVII и началу XVIII столетия; при этом мы тут не находим решительно ничего, что помогло бы нам уяснить себе организацию производства в XVII–XVIII вв. В другой его работе, весьма подробной и весьма специальной, посвященной к тому же истории одного из промышленных пунктов — города Труа, «Histoire de Troyes pendant la Révolution» (Paris, t. I — 1873; t. II — 1874), находим всего несколько слов (стр. 277–278 второго тома) о вредных последствиях максимума для индустрии и торговли и больше решительно ничего, касающегося положения промышленности и рабочих. А между тем этой истории Труа за период одного только революционного десятилетия он посвятил два тома. О широко развитой в округе Труа деревенской индустрии упомянуто лишь вскользь (т. I, стр. 90). Обращаемся к третьей работе того же талантливого и неутомимого исследователя, где речь идет специально о деревне и деревенской жизни, «La vie rurale dans l’ancienne France» (Paris, 1883), и тут тоже о развитии индустриальной деятельности во французской деревне находим лишь сделанные мимоходом замечания (на стр. 130 и на стр. 251), причем в последнем случае автор, характеризуя прилежание крестьянина (глава называется «Le caractère»), говорит: «souvent au lieu de passer dans l’inactivité la saison d’hiver, il installe un métier dans sa chaumière», — и больше ничего. О других его работах (например, «La ville sous l’ancien régime», t. I–II. Paris, 1884) я уже не говорю.
Я нарочно выбрал Babeau потому, что никто так много не работал (по первоисточникам) над историей французской провинции при старом режиме и в эпоху революции; считать, что он не интересовался этими вопросами, у нас нет никаких оснований: он написал (уже упомянутую выше) книгу о ремесленниках при старом режиме. Отсутствие данных указанного характера объясняется прежде всего тем, что в провинциальных архивах сохранилось в высшей степени мало материала, касающегося обрабатывающей индустрии и рабочего класса; а занимаясь главным образом историей провинции, Babeau именно в департаментских архивах и работал, да и в самом деле, за этим единственным (но очень существенным) исключением, департаментские архивы и могли дать ему гораздо больше материалов по истории провинциальной Франции, чем Национальный архив.
В самом обстоятельном статистическом описании, какое только можно себе представить, в огромных двух томах in 4°, посвященных департаменту Gard («Statistique du département du Gard», par M. Hector Rivoire. Nîmes, 1842, t. I — 819 стр., t. II — 667 стр.), не находим ничего, касающегося промышленности или рабочих при революции, да и вообще историческая часть в главе «Commerce et l’industrie» изложена на нескольких страницах.
Даже в тех работах, которые касаются не истории местности, а истории промышленности в данной местности, период 1789–1799 гг. вызывает обычно у автора лишь несколько незначащих слов, а о промышленной деятельности в деревнях данной местности не говорится ничего.
Ничего, касающегося революционной эпохи, кроме нескольких слов на стр. 24 и на стр. 41, нет и в небольшой книжке de Latour-Varan’a «Notice statistique industrielle sur la ville de Saint-Étienne et son arrondissement» (Saint-Étienne, 1851); ничего решительно (кроме замечания о переселении в Romans нескольких семей лионских рабочих в 1796 г., на стр. 219) мы не находим о занимающей нас эпохе и в книге Marcel Texier «Histoire du commerce et de l’industrie de Romans» (Romans, 1904) и т. д.
Просматривая одну за другой монографии по истории департаментов, отдельных местностей, прежних провинций и так далее, я все более убеждался, что вопрос о промышленности в деревне и вообще вопрос о формах промышленной жизни совершенно ими не освещается и даже не ставится.
Скудость литературы по историческому вопросу такой огромной важности прямо поразительна.
(Здесь кстати будет вспомнить, что и относительно современной французской домашней промышленности экономисты жалуются как на неполноту статистики, так и на отсутствие специальной литературы [9].)
Такова специальная литература, относящаяся к истории французской промышленности и рабочего класса при революции.
В некоторых общих трудах по истории Франции в эпоху революции есть отдельные замечания, места относящиеся к рабочему классу. Но относительно 1792–1799 гг. этих замечаний еще меньше, чем относительно 1789–1791 гг., ибо когда речь идет о первых двух годах революции, то самый факт появления закона Ле Шапелье заставляет хоть некоторое внимание уделить вопросу о положении этого класса общества.
Эти труды в общем дают еще меньше, чем отмеченная выше специальная литература; большинство из них не проливает света на те многочисленные пункты, которые остаются темными после прочтения специальных монографий.
Некоторые из общих трудов по истории Франции перед революцией или при революции, однако, бесспорно, самостоятельны и в тех своих частях, где речь идет о рабочих.
В труде Paul Boiteau «État de la France en 1789» (éd. 2. Paris, 1889), произведшем весьма значительное впечатление в тот момент, когда появилось его первое издание (в 1860 г.), мы находим широкую общую картину состояния Франции в конце старого режима, по интересующему нас предмету посвящены лишь самые общие замечания (стр. 536–540: Travail), и мы тут находим более сведения о цехах и об инспекторах мануфактур (речь идет о должности, а не о содержании отчетов). Есть тут и (столь редкие у Boiteau) прямо неверные утверждения: например, будто франк-масонство «зародилось среди рабочих товариществ», и вообще он отождествляет франк-масонство с рабочей ассоциацией (стр. 539: «La Franc-Maçonnerie est née… au milieu des compagnonnages. Cette association d’ouvriers à été au dix-huitième siècle l’un des laboratoires de la révolution» и т. д., — и дальше говорится о членах франк-масонства). Отметим также совершенно голословное утверждение, будто Франция обладала «наилучшими мануфактурами в Европе»; при этом автор, пересчитывая отрасли индустрии, которыми Франция, по его мнению, вправе была «гордиться», называет и сталь. Это решительно противоречит действительности, и мы увидим дальше, до какой степени категорически документальные данные опровергают это суждение. Что касается деревенской индустрии, то Boiteau лишь упоминает об официально последовавшем в 1762 г. разрешении крестьянам заниматься ткацким и прядильным ремеслом (стр. 537). Ни одного слова не сказано о развитии деревенской индустрии во второй половине XVIII столетия. Второй параграф, посвященный промышленности (стр. 541–547: Production industrielle), почти весь, к сожалению, основан на цифрах, якобы выражающих общую ценность разных отраслей французского производства, причем автор совершенно как бы не считается с необходимостью весьма и весьма критически относиться к этим цифрам. Автор останавливается на 1789 г., и только этим можно объяснить, что он говорит о «появлении машин» в конце XVIII в. и связывает с ними «организацию прядилен» (стр. 545). За все время революции машины, как мы увидим, еще не имели и не могли иметь влияния на организацию производства в какой бы то ни было области индустрии.
Интересные замечания, касающиеся рабочих, находим, далее, в исследовании М. М. Ковалевского «Происхождение современной демократии». Громадные рамки общей исторической картины, рисуемой автором, позволили ему, хотя бы и в общих чертах, коснуться этого вопроса. Нужно при этом вспомнить, что названное исследование появилось за шесть лет до начала издания, предпринятого Жоресом, и было первым по времени общим трудом по истории революции, где обращено внимание на положение рабочих. (В книге Луи Блана при всей захватывающей силе и яркости картин эпохи нет и не могло быть фактов, характеризующих состояние рабочего класса в 1789–1799 гг.; не говоря уже о состоянии французских архивов в 1850-х годах, достаточно вспомнить, что Луи Блан писал свою работу в Лондоне, в период эмиграции; в Англии же писал свою недавно вышедшую книгу и П. Кропоткин, о котором см. дальше.)
Об «Histoire de la Constituante» Жореса речь была в первой части моей работы.
В своей истории Законодательного собрания и Конвента (тома II, III, IV) Жорес не посвятил истории рабочего класса особой главы, но там и сям у него разбросано немало интересных замечаний. Не со всеми, конечно, возможно согласиться (см., например, идиллические строки на стр. 1786), но, бесспорно, никто из французских авторов, писавших общую историю революционного периода, не отнесся с таким вниманием к данным, касающимся положения рабочего класса, как Жорес.
Другая книга той же коллекции («Histoire socialiste»), составляющая прямое продолжение работы Жореса, принадлежит Cabrielle Deville’ю и называется «Thermidor et directoire». Здесь (на стр. 235–265) находим очерк состояния промышленности и рабочего класса при революции, Консульстве и отчасти при Империи; это общая характеристика, которая, однако, гораздо менее интересна, нежели разбросанные там и сям замечания Жореса в предыдущих томах коллекции (о делаемой Deville’ем цитате из «Mémoires» графа Dufort de Cheverny см. в настоящей части моей книги, в главе об экономическом положении рабочих при Директории).
Книга Каутского «Die Klassengegensätze in Frankreich», написанная к столетнему юбилею революции, дает общую характеристику стремлений отдельных классов французского общества в революционную эпоху. Автор упоминает также о противоположности интересов между цеховыми мастерами и служившими у них рабочими, но в его намерения не входило сколько-нибудь детальное рассмотрение вопроса о положении рабочего класса в 1789–1799 гг.
Вышедшая в 1909 г. книга П. Кропоткина «La grande révolution» представляет больше всего интерес как попытка осветить события 1789–1794 гг. до падения Робеспьера с точки зрения миросозерцания автора. Мы здесь совершенно не находим фактов экономической истории эпохи, которых не было бы уже, например, в общей работе Жореса. Автор, впрочем, оговаривается (стр. VI предисловия), что он не мог работать в Национальном архиве, а без этого, конечно, писать экономическую историю революции совершенно немыслимо. (Нет ни малейшего сомнения, например, что автор радикально изменил бы свой взгляд на максимум, если бы он ознакомился с документами Национального архива, показывающими, как отразился этот закон именно на беднейших слоях городского населения.) Книга П. Кропоткина дает прежде всего историко-философское освещение событий социально-политического характера от 1789 г. до падения Робеспьера; она и не задается целью представить читателю новые факты из экономической жизни народных масс. При этом крестьяне больше занимают автора, чем рабочие (самую обстоятельную критику книги Кропоткина представил Н. И. Кареев в своей статье, помещенной в журнале «Русское богатство» за 1910 г., сентябрь и октябрь). Вообще говоря, и работа Каутского, и работа Кропоткина интересны главным образом вследствие выдержанности основных точек зрения авторов. Они оба хотят прежде всего бросить обобщающий взгляд на те факты, которые считают установленными; и именно подобные обобщающие работы являются implicite настоятельным напоминанием о необходимости еще многих и многих исследований темных сторон экономической истории французской революции.
В новейшей книге Roger Picard’a «Les cahiers de 1789 et les classes ouvrières» (Paris, 1910) содержание не соответствует названию; как поясняет сам автор в предисловии, его целью было выяснить, какие суждения высказывались в наказах 1789 г. о промышленном и коммерческом законодательстве. И этой цели автор достиг, по нашему мнению, с немалым успехом, но в результате получилась картина пожеланий торгово-промышленного слоя tiers-état, поскольку можно судить о них по наказам. Лучшие главы книги при этом, как и следовало ожидать, те, где речь идет именно о торговле (глава VI. La circulation et le commerce intérieurs; глава VII. Le commerce extérieur; глава VIII. Les privilèges commerciaux), о торговых налогах (глава IX. Les impôts et le commerce), о торговой юрисдикции (глава X. Le juridiction commerciale). Две главы, посвященные индустрии (главы III и IV), трактуют об отношении наказов к регламентации производства и к цехам, причем автор попутно говорит о попытке Тюрго; в этих главах мы не находим ничего, что позволило бы составить себе представление о том, какой тип преобладал в организации французского промышленного производства накануне революции. Впрочем, это вина не автора, а материала, который положен в основу исследования. Мы увидим далее, почему представителям домашней индустрии не было нужды выражать свое неудовольствие по поводу регламентации и цехов: документы Национального архива ответят нам вполне категорически на вопрос, почему наказы в этом отношении так молчаливы. Рабочему классу (городскому — единственной категории рабочих, о которых говорит автор) посвящены стр. 95–112 книги. Автор прямо заявляет о своей работе: «… la présente étude, malgré son titre, ne prétend pas contribuer à l’élaboration de cette histoire» (de l’histoire économique — Е. T.). Поэтому и на указанных 17 страницах, посвященных рабочему классу, мы находим главным образом лишь немногие имеющиеся в наказах жалобы на стеснения юридического порядка. Кроме того, как справедливо отмечает автор, наказы поразительно мало говорят о рабочих; участие рабочих в составлении наказов tiers-état было совершенно ничтожно. Некоторых фактов, приводимых автором и относящихся к экономическому состоянию рабочих (стр. 102, 105, 110), я коснусь в дальнейшем изложении. Нужно заметить, что в анализе наказов как исторического источника книга Picard’a значительно уступает исследованию г. Ону «Выборы 1789 г.» (СПб., 1908).
Эпоха Консульства и Империи уже выходит из рамок настоящей работы, но в заключительных страницах я коснулся одного весьма важного документа 1807 г., который может пополнить общие наши сведения о рабочих вообще в последние годы XVIII и первые годы XIX в., а это обязывает упомянуть о недавно вышедшем шестом томе книги Laborie de Lanzac’a «Paris sous Napoléon» (Paris, 1910), где находим главу, посвященную рабочим при Консульстве и Империи. В этой главе (на стр. 319) есть ссылка на документ 1807 г. по цитатам, сделанным в «Histoire socialiste» (т. VI), где в свою очередь эти цитаты сделаны на основании издания Turot и не дают полного представления о документе. Между тем самый документ настолько интересен и настолько полезен для характеристики положения рабочих, что мне представилось необходимым обратиться к этой рукописи и дать о ней в конце настоящей части моей работы более или менее обстоятельный отчет.
Источники
При таком состоянии разработки предмета мне необходимо было обратиться к документам не только за ответом на главный вопрос, который я себе поставил, но и за разрешением ряда тесно соприкасающихся с ним проблем. Вопрос о состоянии промышленной техники, вопрос о формах промышленной жизни во Франции в конце XVIII в., вопрос о влиянии максимума на обрабатывающую промышленность, — все это, можно сказать, насильно вторгалось в рамки работы, первоначально мной намеченные. Рукописи Национального и департаментских архивов, легшие в основу этой работы, ответили на мои запросы далеко не всегда с желательной обстоятельностью, и весьма может быть, конечно, что вина — не только в них, но и во мне; может быть, другим работникам удастся извлечь из них больше, чем извлек я. Из года в год я снова и снова перечитывал документы использованных здесь картонов, которые казались мне имеющими особое значение, характеризующими эпоху особенно ярко. Странной была бы претензия, что (решительно ничего в этих сотнях прочитанных мной рукописей не ускользнуло от моего внимания; во всяком случае в доброй воле недостатка у меня не было.
А. Национальный архив
Конечно, главную массу документов я нашел и для эпохи 1792–1799 гг., как и для 1789–1791 гг., о которых речь шла в первой части, в Национальном архиве, и для 1792–1799 гг. больше всего — в серии F12. Работа затруднялась тем, что единственный указатель — «Répertoire» Тютэ (см. первую часть) еще пока доведен до 1793 г.; трудности еще усугублялись и тем, что инвентаря серии F12, сколько-нибудь обстоятельного, пока еще не существует. Я уже выше сказал, как драгоценна была помощь архивиста г. Шмидта, поделившегося со мной более нежели тридцатью номерами картонов этой серии, опись которой при его деятельном участии подготовляется. Но для тех частей серии, которые еще не были обследованы архивной администрацией, приходилось, конечно, пускать в ход единственный остававшийся прием: систематически требовать картон за картоном из тех sous-séries, которые по общему инвентарю (inventaire sommaire) могли предположительно иметь какое-либо отношение к промышленности, рабочим и т. п. Поиски в других сериях были легче. Эти документы чрезвычайно разнообразны. Их можно разбить на следующие главные категории.
1. Отчеты инспекторов мануфактур за вторую половину XVIII в. вплоть до 1790 г., когда эта должность была уничтожена; докладные записки этих же инспекторов; доклады, коллективные прошения, жалобы промышленников той или иной местности, торговых палат и т. п. Эти документы дают некоторые поучительные указания, касающиеся как организации промышленного труда во Франции в конце XVIII столетия, так и общего состояния условий производства и сбыта в течение революции. (В частности, документы этой категории главным образом и могут дать понятие о промышленном труде деревенского населения.)
2. Административная переписка: письма, частные приказы, запросы высших властей (сначала интенданта торговли, затем министра внутренних дел, с 1793 г. — комиссии земледелия и искусств, комиссии снабжения припасами, комитета общественного спасения, «бюро торговли» при комитете общественного спасения, «бюро максимума», наконец, 4-го отделения министерства внутренних дел, циркуляры министра внутренних дел), обращаемые к местным властям — как к органам местного самоуправления, так и к местным представителям центральной власти, — ответы подчиненных властей начальству и т. п.
Документы этого рода дают между прочим сведения, позволяющие судить о степени распространенности технических усовершенствований во французской промышленности, об общих условиях, с которыми должна была считаться французская обрабатывающая промышленность в эпоху революции. Вопрос о недостатке сырья, вопросы о влиянии максимума, реквизиций, падения ассигнаций на промышленность и рабочий класс совершенно не могут быть изучены без документов этой категории. (Из документов этой категории изданы Оларом только донесения полицейских властей в Париже с 1794 до 1801 гг.; см. дальше).
3. Заявления, жалобы, просьбы и тому подобное, идущие непосредственно от самих рабочих. Документов этой категории очень мало; они регистрировались и сохранялись лишь в исключительных случаях. Нечего и говорить, насколько подобные документы ценны для исследователя. Весьма жаль, что эти документы не издаются: они писаны (почти все) на самой дешевой, серой бумаге, часто каракулями, бледными чернилами, которые выцвели в гораздо большей степени, нежели, например, чернила, которыми написаны документы первой и второй категорий.
4. Законы, общие постановления, относящиеся к промышленности и рабочим в течение 1789–1799 гг. Данные этого рода сами по себе не дают сколько-нибудь ясного представления ни о состоянии промышленности, ни о положении рабочего класса в рассматриваемый период. Но они, во-первых, уясняют отношение правящих сфер к промышленности и к рабочим, а во-вторых, дополняют собой документы вышеотмеченной второй категории. Документов этого рода не особенно много, и подлинники их (вернее, первые печатные экземпляры, ибо законы печатались и рассылались) разбросаны по разным картонам, относящимся к промышленности, иногда по поскольку экземпляров одного и того же закона в каждом.
Б. Департаментские и муниципальные архивы
Здесь я нашел вне всякого сравнения меньше нужных мне документов, чем в Национальном архиве. Серия L, в которую должны войти документы провинциальных архивов, касающиеся революционной эпохи, оказалась еще в довольно хаотическом состоянии даже там, где вообще какие бы то ни было документы были. (Нужно сказать, что из некоторых архивов таких местностей, где, казалось бы, можно было рассчитывать найти документы, касающиеся промышленности и рабочих, например, из Лилля, из Нанта, из Тулона, я получил ответ со стороны архивной администрации, либо что никаких документов подобного рода у них нет, либо что найти их пока невозможно.) В Лионе, в Амьене, в Руане, в трех крупнейших центрах Франции конца XVIII в., в Марселе, значительнейшем торговом центре, я нашел в департаментских архивах не особенно много, хотя именно в этих департаментских архивах серия L приведена более или менее в порядок и, значит, мало надежды, что что-нибудь найдется впоследствии. Что касается департаментского архива Жиронды (в Бордо), Луарэ (в Орлеане), Индры и Луары (в Туре), то здесь документы серии L также оказались немногочисленны.
Впрочем, еще до поездки по провинциальным архивам я знал, со слов таких знатоков департаментских архивов, как И. В. Лучицкий и Шарль Шмидт, что нельзя рассчитывать найти там особенно много именно по истории промышленности и рабочих: все главное, существенное из документов этого рода попало в Национальный архив. Поэтому я весьма рад был и тому, сравнительно немногому, что нашел в департаментских архивах, так же как в муниципальных архивах некоторых городов. Из муниципальных архивов меня прежде всего интересовали архивы двух портовых городов — Марселя и Бордо, так как после Парижа это были два главных центра скопления чернорабочей массы; по типу рабочего населения Марсель и Бордо решительно отличались, например, от центров разных отраслей текстильной индустрии (вроде Лиона, Амьена, Руана). И действительно, в обоих городских архивах я встретился с в высшей степени интересными документами, тогда как департаментские архивы и Устьев Роны и Жиронды дали немного. В общем же департаментские и муниципальные архивы пополнили мой материал некоторыми далеко не лишними данными. Документы, например, относящиеся к бумажным мануфактурам и находящиеся в архиве департамента Луарэ, или документы о стачечном движении, с которыми я ознакомился в муниципальном архиве Бордо, или прошения рабочих в архиве города Марселя, или докладная записка о шелковой промышленности в архиве департамента Роны (в Лионе), — все это дало прямо драгоценные, незаменимые указания. Этих документов достаточно для выяснения некоторых пунктов, остающихся темными после изучения бумаг Национального архива; они дают иногда весьма важные и интересные иллюстрации к отдельным выводам, которые можно сделать на основании рукописей главного государственного хранилища, но нечего и помышлять о том, чтобы только на основании их писать историю рабочего класса в той или иной местности. Для этой цели местных документов слишком мало, и подобные попытки, можно смело утверждать, были бы осуждены на полную неудачу. Что касается характера этих документов департаментских и муниципальных архивов, то больше всего тут представлены вторая и третья категории (отмеченные выше, при классификации документов Национального архива): административная переписка и прошения рабочих преобладают.
Наконец, отдельно от документов Национального, департаментских и муниципальных архивов, нужно упомянуть копию неизданных записок Ballainvilliers, последнего интенданта Лангедока, которая принадлежит г. Камиллу Блоку, нынешнему главному инспектору архивов, и была им любезно предоставлена в мое распоряжение.
Bernard de Ballainvilliers (1760–1835) происходил из весьма богатой и знатной семьи, из служилой аристократии. Отец его был интендантом в Оверни; сам он 26 лет от роду был назначен интендантом в Лангедок, где и пробыл в этой должности три года (1786–1789) (о семье Ballainvilliers см., между прочим, Ардашев П. Н. Провинциальные интенданты, т. II). В бытность свою интендантом Лангедока он снискал себе огромную популярность, так что в начале революции жители Монпелье даже выбрали его мэром. Но он отказался, эмигрировал, в 1801 г. был вычеркнут Наполеоном из списков эмигрантов и вернулся во Францию.
Свои записки о Лангедоке он составлял во время службы там. Они остались неизданными. Г-н Камилл Блок собирался издать эти записки, но не исполнил пока своего намерения.
Эти записки очень интересны для характеристики организации промышленного производства в Лангедоке.
В. Публикации документов
Кроме этого рукописного материала, я должен указать и некоторые издания документов.
В 1899 г. французское министерство торговли и промышленности (которым управлял тогда Мильеран) издало нечто вроде сборника законов, правил, а также официальных сведений, касающихся всевозможных рабочих ассоциаций от времен революции до нынешней эпохи [10]. В первом громадном (905 стр.) томе этого издания 15 страниц (стр. 1–15) заняты временем 1789–1791 гг., а одна страница (16-я) — остальными годами революции. Издатели ограничились упоминанием и отчасти перепечаткой текста закона от 2 марта 1791 г., отменяющего цехи, закона Ле Шапелье от 14 июня 1791 г. и упоминанием о предшествовавшем ему движении, причем ссылаются на книгу Левассера, упоминают о декрете от 26 июля 1791 г. относительно рабочих бумажных мануфактур, о законе от 6 октября 1791 г., касающемся земледельческих рабочих, и о постановлении от 12 сентября 1796 г., касающемся опять рабочих бумажных мануфактур. Совсем недавно, в августе 1910 г., комиссия, издающая документы по экономической истории революции, издала сборник правительственных распоряжений, касающихся промышленности и относящихся к 1789–1799 гг. [11] Я ознакомился с этим сборником, уже когда моя работа была закончена, и лишний раз убедился в том, с какой щепетильной добросовестностью и точностью г. Шарль Шмидт исполняет порученное ему ответственное дело.
Оба эти издания (1899 г. и 1910 г.) дают, впрочем, перепечатку тех актов правительства, которые, как сказано, уже в первый момент появления своего печатались и рассылались циркулярно по департаментам, рассылались, добавлю, весьма аккуратно (в обоих сборниках не оказалось ни одного документа, который бы не попал в один из просмотренных мной картонов, либо в Национальном архиве, либо в департаментах). Перепечатаны также (и прекрасно изданы) Оларом постановления Комитета общественного спасения (среди которых попадаются относящиеся к промышленности и рабочему классу).
Весьма важно и другое издание, предпринятое Оларом по поручению муниципалитета города Парижа, «Paris pendant la réaction thermidorienne et le directoire». Это пять томов донесений чинов парижской полиции отчасти центральному полицейскому бюро, отчасти министру внутренних дел за время 1794–1799 гг. (документы, изданные в этих пяти томах Оларом, хранятся также почти все в Национальном архиве). Среди этих ежедневных рапортов есть некоторые в высокой мере интересные сообщения, касающиеся рабочих.
Что касается до изданий документов, которые упомянуты в первой части моей работы (Chassin’a, Sigismond’a Lacroix), то они ничего не дают для периода 1792–1799 гг.
Конечно, необходимым для справок всякого рода изданием явились печатавшиеся в 1789–1799 гг. протоколы законодательных собраний (печатание велось под наблюдением особых комиссаров этих собраний). Procès-verbal Учредительного и Законодательного собраний, Конвента, Совета пятисот и Совета старейшин — единственно надежный источник подобного рода [12]. Пользованье им значительно облегчено имеющимся в Национальном архиве (рукописным) многотомным, очень обстоятельным предметным указателем.
Говоря о печатном материале, нужно упомянуть о газетах. Вообще говоря, для периода 1792–1799 гг. они дают исследователю, интересующемуся промышленностью и рабочим классом, еще меньше, чем для периода 1789–1791 гг. Даже такие органы, как «Journal des arts et des manufactures» (цитируемый в дальнейшем изложении) и «Journal des mines», заняты почти исключительно вопросами узко техническими (да и затеяны они были исключительно для распространения технических познаний среди промышленников). Общеполитическая пресса не дает почти ничего: даже газеты Бабефа, о которых будет в своем месте речь, характерны больше всего для уяснения вопроса о содержании пропаганды Бабефа, о том, что он считал полезным или бесполезным в агитационных целях.
* * *
Таковы материалы. Достаточно ли их? Конечно, на ряд вопросов нельзя добиться от них ответа. Не следует забывать, что французские архивы всегда были лишь справочными, так сказать, отделениями при присутственных местах, и когда то или иное министерство наконец распоряжалось, за недостатком помещения, сдать уже ненужные ему старые бумаги в Национальный архив, то туда поступало далеко не все, что побывало в министерстве, а лишь то, что министерство в свое время сочло полезным сохранить для возможных справок. Я уже сказал, что прошения рабочих — большая редкость среди этих бумаг (в провинциальных архивах их относительно больше, чем в Национальном, но абсолютно все-таки чрезвычайно мало). Точно так же уничтожена, например, масса полугодовых отчетов инспекторов мануфактур (сохранились лишь случайные, вне всякого хронологического или географического порядка документы подобного рода) и т. п.
Далее. Сохранившиеся документы не дают определенных данных для сколько-нибудь точных статистических вычислений. В следующих главах я останавливаюсь подробнее на том до какой степени сами дававшие цифровые показания лица часто не верили в свою статистику.
Но зато они дают ответ на ряд других вопросов: они показывают нам, какие формы промышленного производства существовали во Франции конца XVIII столетия; они ярко освещают вопрос о судьбах промышленной регламентации, еще до законодательной ее отмены; они объясняют происхождение закона о максимуме, влияние этого закона на промышленность и рабочий класс; они уясняют степень технической отсталости Франции от Англии во всех отношениях, а от западной Германии, Швейцарии, Голландии — в некоторых отношениях; они проливают свет на причины экономической слабости Франции в течение всей долголетней и отчаянной борьбы ее против Англии; наконец, они и только они — могут помочу нам проследить судьбы рабочего класса Франции в течение самого критического периода ее истории, проследить если не в деталях, то хоть в главных чертах и в основных моментах.
Я не мог напечатать целиком весьма многих документов, боясь увеличить непомерно размеры приложений. Но, цитируя неизданные и притом ни в каких инвентарях не отмеченные рукописи, я считал себя обязанным по возможности приводить подлинный текст того места документа, на которое ссылался. Конечно, всюду я указываю не только номер картона, но и название документа.
Как и в первой части работы, я и здесь сохраняю в ссылках и в приложениях орфографию подлинника.
Глава I
ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ФРАНЦИИ В КОНЦЕ XVIII СТОЛЕТИЯ
1. Вопрос о статистике французской промышленности с конце XVIII в. 2. Формы промышленного производства в городах. 3. Роль деревни и формы промышленной деятельности в деревне
1
Франция накануне и во время революции рисуется в наших документах страной мелкого производства. Мануфактуры, дающие работу 100–150 лицам, считаются крупными; дающие работу 500–600 человекам, попадаются редко; еще реже те, которые дают работу тысяче человек или более тысячи. Но даже в тех случаях, когда речь идет о ста, двухстах, тысяче и более человек, эти рабочие в громадном большинстве случаев не работают в здании мануфактуры, они получают заказы на дом и работают на дому при помощи орудий, иногда принадлежащих им, иногда принадлежащих хозяину; иногда они живут в том же городе, где находится мануфактура, иногда — в соседних или даже отдаленных деревнях.
Рядом с этими мануфактурами работает небольшая мастерская — в городе и деревне, — дающая заработок семье хозяина и двум, трем, четырем, десяти рабочим. Кроме мануфактур и мелких мастерских, существует (и пользуется громадным распространением) та форма домашней промышленности, которая характеризуется работой мелкого самостоятельного производителя, работающего только с членами своей семьи и непосредственно на рынок.
Таковы главные факты, о которых красноречиво свидетельствуют дошедшие до нас документы. Но раньше чем дать более детальную характеристику главенствовавших форм промышленной жизни во Франции конца XVIII столетия, необходимо указать на то, что мы совершенно лишены возможности пустить в ход тот прием, который современная статистика позволяет теперь использовать относительно целого ряда стран: нет данных, которые давали бы точную цифру промышленных заведений и количества рабочих, нет данных и об отдельных самостоятельных производителях и т. д. Ничего похожего на сколько-нибудь точные и повсеместные исчисления у нас относительно тогдашней французской промышленности не имеется. Начать с того, что в те времена если подобными исчислениями и интересовались, то прежде всего, если не исключительно, с точки зрения общей «ценности» производства, и в такие подробности как число мануфактур, число мастерских (не говоря уже о числе рабочих), вовсе не входили. Но даже и выкладки, касающиеся суммы производства, весьма далеки от непогрешимости.
Общие исчисления того, что производит Франция, того, что она получает из-за границы, и тому подобные исчисления, очень занимавшие интенданта торговли Толозана в последние годы старого режима и еще в 1854 г. побудившие Moreau de Jonnès поместить в своей статье «Statistique industrielle de la France» (t. 27 «Séances de l’Académie des sciences morales et politiques») 3 страницы, касающиеся 1788 г., эти исчисления покоились на таком зыбком фундаменте, что глубокий знаток дела, знаменитый Ролан, еще в бытность свою инспектором лионских мануфактур категорически и с большой горячностью отрицал за подобными общими цифровыми выкладками какое бы то ни было значение [1]. Пессимистический вывод Ролана относится больше всего к внешней торговле, к исчислению торгового баланса, но, разумеется, нельзя сказать, что он в той или иной степени не касается всякой тогдашней попытки торгово-промышленной статистики, потому что все они так или иначе основывались на цифровых показаниях инспекторов мануфактур.
Так или иначе, приведем единственный общий подсчет «национального дохода» Франции, сделанный в конце XVIII столетия. Мы узнаем по крайней мере, как отвечали себе самим на вопрос — чем живет Франция — те лица, которые по своему положению считали себя наиболее компетентными в вопросе об экономическом состоянии своего отечества.
Толозан, «главный интендант торговли», издал (в начале 1789 г.) мемуар, в котором он пытается подвести итоги «национального дохода» Франции от земледелия и торговли в 1788 г. [2] Оказывается, по его расчету, что земледелие и скотоводство приносят Франции ежегодно 1826 миллионов ливров, а обрабатывающая промышленность и рыбная ловля — 524 950 тысяч ливров [3]. Кроме рыбной ловли (почему-то попавшей в отдел, озаглавленный Manufactures), сюда же отнесены все мелкие ремесла (каменщики, плотники, кузнецы, портные и т. д.). Если исключить цифру дохода от рыбной ловли, которую Толозан исчисляет в 20 миллионов ливров, то получится 504 950 тысяч ливров. Что должна, по мысли автора, обозначать эта цифра? Общий доход, получаемый как хозяевами, так и рабочими в обрабатывающей промышленности [4]; он не делит этой цифры, ему важен только этот итог, чтобы противопоставить его цифре дохода, который дает земледелие со скотоводством.
Эти цифры я привожу потому, что они представляют собой общепринятые в тогдашних правящих сферах суждения. Каково реальное значение этих цифр? Всякий историк знает, до какой степени осторожно и скептически нужно относиться к статистическим данным эпохи, предшествующей XIX столетию. Приводя один курьезный пример явной лживости и противоречивости статистических показаний, относящихся к Франкфурту в конце XVIII столетия, Бюхер восклицает [5]: «… wenn in einer uns verhältnissmässig so nahe liegenden Zeit… derartige Fehlschätzungen Vorkommen, wie viel mehr werden die aus dem Mittelalter auf uns herübergekommenen Ziffern von der Wahrheit abweichen!». В смысле статистической точности XVIII век в самом деле сплошь и рядом оказывается ближе к средним векам, чем к XIX столетию.
Справедливость требует заметить, что сам Толозан не настаивает на точности сообщаемых цифр и при своих исчислениях прибавляет нередко слово «environ». Дать цифру наемных рабочих в какой-либо отрасли промышленности он тоже не решается (если не считать брошенного вскользь предположения, что мелких «ремесленников» во Франции 200 тысяч человек). Если делать вывод из этих цифр, то можно формулировать его так: по мнению правящих сфер, в 1789 г. Франция в З½ раза больше получала от сельского хозяйства, чем от мануфактурной деятельности населения; что же касается мануфактурной деятельности, то текстильная индустрия составляла, безусловно, самую крупную статью; а из всех отраслей текстильной индустрии более всего население занималось производством полотен и бумажных материй, менее всего — шелковыми изделиями. Нужно тут же прибавить, что как преобладание текстильной промышленности над всеми другими, так и преобладание производства полотен и бумажных материй над производством шерстяных, а особенно шелковых материй отнюдь не опровергаются изучением документов. Напротив, насколько общие показания, характеристики и оценки могут подтвердить определенный вывод, делаемый на основании статистических данных, настолько документы серии F12 подкрепляют свидетельство Толозана. Тут поневоле вспоминается замечание, сделанное Lohmann’ом по поводу «официальной статистики» Англии и Франции в XVIII в. [6]: абсолютно цифры могут быть сплошь и рядом неверны, но соотношение между цифрами заслуживает внимания. Lohmann сказал это по поводу цифр торгового баланса, но это замечание, быть может, применимо и к цифрам Толозана.
Уже во время (революции изредка центральные власти пытались отдать себе отчет в состоянии промышленности, рассылали циркулярно вопросы, но из этих попыток ничего положительного ни разу не вышло. И виновны в этой неудаче были не только местные власти (которых центральное правительство горько укоряло в небрежности и неаккуратности), а также само правительство, сплошь и рядом бросавшее начатое дело, едва только его начавши.
Типичным образчиком правительственной анкеты может служить циркуляр 14 мессидора II года (2 июля 1794 г.). Комиссия земледелия и искусств (заведовавшая в 1793–1794 гг. мануфактурами) разослала всем администраторам округов предложение немедленно ответить на два вопроса: 1) «существуют ли в вашем округе мануфактуры, фабрики и промышленные заведения?» и 2) «укажите род этих фабрик, мануфактур и заведений». И тут же комиссия учит администраторов, как им следует отвечать на эти вопросы: «ответ на первый вопрос должен быть дан словом да или нет»] что же касается второго, то не требуется ни номенклатуры заведений, ни пересчета их всех, ни указаний на их размеры, словом, ничего, кроме простого обозначения, что в таком-то округе существует такое-то производство. Комиссия особенно подчеркивает «большую простоту» требуемой от администраторов работы и выражает надежду, что вследствие этой «большой простоты» получит ответ на свои вопросы еще до 1 фрюктидора (т. е. через полтора месяца [7]). Легко понять, что получилось: это была анкета без единой цифры, без каких бы то ни было ясных сведений и, конечно, без каких бы то ни было последствий. Зачем она понадобилась комиссии? В циркуляре это бегло пояснено; комиссии хотелось установить «правила и метод» в своей корреспонденции и в работах по «развитию и усовершенствованию индустрии». Другими словами, для последующих, более детальных, анкет, для рассылки запросов и циркуляров, относящихся к определенным ветвям обрабатывающей промышленности, комиссии в самом цело нужно было только знать, какого рода производство где существует, ибо и запросы, и циркуляры, и распоряжения посылались комиссией не заведующим фабриками и мануфактурами, но административным местным властям, на обязанности которых лежало дальнейшее оповещение соответствующих лиц. Далее. Из текста циркуляра явствует, что комиссия вовсе не думала ограничиться этим предварительным опросом: «мы еще не требуем у вас названия всех отдельных промышленных заведений, расположенных на вашей территории; теперь вы должны ограничиться» [8] и т. д. К сожалению, эти дальнейшие предположения остались не выполненными, и эти сведения, которые были комиссии нужны лишь для установления канцелярского обихода на случай будущей корреспонденции, никакой помощи исследователю оказать не могут. Нужно прибавить, что местная администрация к тому же в высшей степени небрежно отнеслась к этому циркуляру.
Циркуляр был разослан в самом начале июля 1794 г., а комиссия, ничего не получая, присуждена была 13 сентября (27 фрюктидора) опять разослать новый циркуляр; когда же и это не помогло, то уже 9 ноября был разослан третий циркуляр [9]. Комиссия выражала свое, удивление, что, несмотря на «большую простоту» требуемых ответов, их до сих пор нет. Семьдесят округов так и не ответили ничего на этот циркуляр [10]; ответы остальных, не значащихся в списке не ответивших, далеко не все сохранились. Мало того, в уцелевших ответах несколько раз мне пришлось натолкнуться на отсутствие показаний о производстве, которое, как явствует из других свидетельств, в данном месте существовало. При этих условиях рискованно было бы даже использовать этот материал для той единственной цели, для которой он мог бы пригодиться, — для составления карты распределения отдельных ветвей индустрии во Франции. Нечего, конечно, и говорить, что из этих ответов, где даже число промышленных заведений нигде не приводится, где абсолютно ничего не указывается относительно размеров того или иного предприятия, количества рабочих и так далее, для истории рабочего класса в точном смысле ничего извлечь нельзя.
Такая же неудача постигла и другую комиссию (la commission de commerce et d’approvisionnements), которая — тоже в середине 1794 г. — вздумала определить, на какие мануфактуры или, верное, на какие местности можно рассчитывать для заказа нужного армии сукна. Сама комиссия, проводившая эту анкету [11], не сочла возможным дать какие-либо цифровые итоги даже относительно интересовавшего ее вопроса о количестве сукна, которое возможно выделать во Франции для нужд армии. Нечего и говорить, что ни комиссия не спрашивала, ни местные власти ей не писали ровно ничего о количестве мануфактур, о количестве рабочих и т. д.
Сейчас же после отмены закона о максимуме Комитет общественного спасения (в начале 1795 г.) захотел было узнать, в каком положении находится промышленность, и разослал циркуляр с соответствующими вопросами. Характерно, что Комитет уже как бы наперед стремится успокоить опрашиваемых и добиться от них ответа: он уверяет их, что его намерения самые благие [12]. Этот циркуляр не имел даже тех ничтожных последствий, как предыдущие.
Наконец, уже в конце рассматриваемого периода министр внутренних дел Франсуа де Нефшато задумал в свою очередь опросить все департаменты о состоянии промышленности. Большой энтузиаст и оптимист, Франсуа де Нефшато видел в такого рода анкете первый шаг к принятию существенных мер, которые должны со временем поднять упавшую промышленность.
Но попытка общей анкеты, предпринятая в 1797 г. Франсуа де Нефшато, дала тоже совершенно ничтожные результаты. Всего 5 департаментов (Corrèze, Moselle, Creuse, Nord, Pas-de-Calais) ответили министру сколько-нибудь обстоятельно на его циркуляр, запрашивавший о состоянии промышленности во всех департаментах республики [13], но и они не дают никаких данных для каких бы то ни было статистических выкладок. И сам Франсуа де Нефшато тоже, по-видимому, по образцу предшественников, примирился с неудачей и оставил в покое своих подчиненных, не ответивших ему ничего или ответивших так общо и небрежно, что ровно никакой пользы из их ответов он извлечь не мог.
Даже в отраслях промышленности, которые были более сконцентрированы в городах, сосчитать рабочих оказывалось в высшей степени трудным.
Ролан, строго и очень недоверчиво относившийся к современной ему статистике, считает возможным утверждать, что (в 1784 г.) общее число людей, работающих в шелковой промышленности, равно (для всей Франции) 600 тысяч человек. Он исчисляет, что на каждый станок в любой отрасли текстильной промышленности нужно считать в среднем 6 рабочих. К сожалению, он не говорит нам, каким именно путем пришел он к подобному выводу, тем не менее самый вывод считает точным [14].
Но в шелковом производстве легче было узнать хоть число станков, ибо эта промышленность, как ниже будет сказано, сосредоточивалась в городах; можно было, следовательно, допуская правильность исчислений Ролана, приблизительно знать, сколько рабочих работает в шелковых мануфактурах. А как быть с хлопчатобумажным, с полотняным, с шерстяным производством, где даже и приблизительно нельзя было знать, сколько станков занято в деревнях данной местности? Тут, даже допуская правильность исчислений Ролана, добраться до цифры рабочего населения было совершенно немыслимо.
Следует заметить, что спустя несколько лет после того, как Ролан счел возможным определить цифру рабочих, занятых в шелковом производстве, он категорически отказался от мысли, будто возможно ее определить. И отказался именно тогда, когда сделался инспектором лионских мануфактур. Об этом мы узнаем уже из официального документа.
Когда в 1789 г. правительство запросило Ролана о числе рабочих лионских мануфактур, то он прямо отказался на подобный вопрос ответить [15].
У нас есть свидетельство современника, что в начале 1793 г. во Франции в общем в бумагопрядильном деле было занято около 200 тысяч рабочих — в 6 раз меньше, чем в Англии [16].
Авторы мемуара, откуда эта цифра мной взята, скорее стремились преуменьшить, чем преувеличить размеры французской бумагопрядильной индустрии.
Во всяком случае, положительно можно утверждать одно: эта цифра (200 тысяч человек) еще меньше заслуживает доверия, чем цифра в 600 тысяч человек, даваемая Роланом для рабочих шелковых мануфактур. Сосчитать рабочих бумагопрядильных мануфактур, которые были в значительной степени рассеяны по деревням, было еще труднее, чем сосчитать рабочих шелковых мануфактур, сконцентрированных больше в городах и предместьях городов. Вообще же подобные общие цифры интересны лишь для характеристики мнений современников о развитии той или иной отрасли промышленности.
В частности, совершенно невозможно было определить число рабочих, работающих в деревне; а при громадном развитии деревенской индустрии во Франции конца XVIII в, — развитии, которое, как увидим далее, является совершенно непреложным и ярким фактом всей экономической жизни страны, — не зная числа деревенских жителей, работавших на мануфактуры, нужно отказаться от мысли установить хоть что-либо вроде статистики промышленного труда.
Инспектора мануфактур неоднократно заявляли о совершенной невозможности подсчитать рабочих, работающих в текстильной индустрии, именно вследствие того, что они разбросаны по деревням [17], работают не круглый год, а только когда не заняты в поле [18], и т. д. Мало того, городские «фабриканты», дававшие в деревню заказы, умышленно скрывали число работающих на них людей, боясь увеличения налогов и поборов со стороны властей [19]. Конечно, подавно признается абсолютно невозможным определить количество ткачей или прях, работающих на «фабрикантов» деревень и местечек [20]. Здесь и число хозяев, и число наемных рабочих совершенно не поддавались никакому учету.
Обыкновенно никто и не пытался сосчитать ни предпринимателей и самостоятельных производителей, ни рабочих в данной местности, а если попытки изредка и делались, то сами инициаторы плохо в свое дело верили. В Турэнн инспекция пробует (в 1791 г.) составить списки «фабрикантов» и сама же предупреждает, что в эти списки не вошли все те, которые не являются в бюро для осмотра материй, и что таких не являющихся и совершенно не известных «много» [21].
Инспектора мануфактур не раз повторяют: деревенского-«фабриканта» беспокоит даже когда его спрашивают, как его зовут, особенно же нужно избегать всего, что напоминает о каких-либо подсчетах, ибо к инспектору начинают относиться с недоверием [22]. Немудрено, что сами инспекторы хороша понимали, до какой степени невозможна какая бы то ни было статистика при подобных условиях. И именно в последние времена старого режима даже в городах фабриканты избегали давать о себе какие бы то ни было сведения [23].
Громадное производство полотен и специально полотняных и бумажных платков, сосредоточивавшееся вокруг города Cholet (в Турэни) и работавшее не только на внутренний рынок, но и на Европу и на Америку, давало заработок 45–50 деревенским приходам, но высчитать, сколько человек работало, представлялось инспекции мануфактур, по ее собственному заявлению, немыслимым именно оттого, что эти рабочие были разбросаны в окружности на 5–6 лье от центра [24]. А между тем здесь все-таки владельцы мануфактур в Cholet раздавали работу деревням. Насколько же менее основательно было бы ждать более или менее точных подсчетов там, где деревенское население работало на себя или на хозяев, которые сами были рассеяны по селам и небольшим городам?
«Фабриканты» бумажных материй в Лангедоке «не богаты», разбросаны по деревням, но сколько их? Сколько у них рабочих? На это лучший источник не может нам точно ответить: интендант Балленвилье не мог узнать у них ничего точного касательно размеров производства, ибо, по его словам, они упорно отказывались [25] давать сведения. А он был интендант, снабженный громадными полномочиями, и к тому же интендант в высшей степени любимый и популярный именно среди лангедокского торгово-промышленного слоя населения (достаточно вспомнить, что его уже при революции выбрали мэром города Монпелье). Задача оказалась, однако, непосильной и для него.
Когда Неккер поинтересовался вопросом, сколько «фабрикантов» в области Aumalle, то инспектор ему ответил, что «весьма трудно» удовлетворить любопытство министра; даже попытка навести справки по деревьям «произвела бы сенсацию» между этими деревенскими «фабрикантами», которые всегда стремятся скрыть, что они делают [26].
Боязнь подвергнуться утеснениям со стороны инспекции, которая могла бы потребовать исполнения правил, застарелая подозрительность крестьянина, видевшего в каждом приближающемся чиновнике скрытого агента фиска, — все это, конечно, сделало бы всякую статистическую работу до крайности трудной, даже если бы подобная работа была предпринята. Но ничего подобного даже и не затевалось.
Вот почему, когда и начале 1788 г. правительство решило оказать помощь безработным и затребовало статистику их, инспекторы мануфактур оказались в жестоком затруднении, ибо они абсолютно не знали (и не хотели знать) ни числа работавших, ни числа безработных. Они принялись вычислять, но результаты получились такие, что они сами весьма скептически к ним относились. Исчисление основывалось на таких соображениях (берем руанскую инспекцию): «полагают», что один ткач может изготовить штуку полотна за время «от 10 дней до 3 недель», значит «в среднем» — 15 дней, значит за год он может изготовить в среднем 24 штуки.
Производство полотна (в 1788 г.) уменьшилось в руанской области сравнительно с 1787 г. на 83 527 штук, значит (если разделим 83 527 на 24), окажется, что 3480 ткачей осталось без работы. Но до и после того, как материя поступила к ткачу, она подвергается «различным манипуляциям», и «обычно полагают», что на каждого ткача нужно считать для этих манипуляций еще двух рабочих. Итого 10 440 человек без работы, ибо к 3480 прибавляется 6960. Эти фантастические соображения утрачивают и тень значения, если мы вспомним, до какой степени фиктивна самая цифра, выражающая якобы количество выделанных штук материй [27]. Любопытнее всего, что, уже произведя все эти вычисления, инспектор спохватывается и советует считать средней цифрой не 15 дней, а три недели для производства штуки полотна [28]. Только относительно городов можно было установить цифры безработных, являвшихся к властям за помощью. Но высчитать число безработных в данном округе путем каких-либо выкладок представлялось совершенно немыслимым.
Столь же бессильной оказалась и наполеоновская администрация при попытке учесть представителей деревенской индустрии.
Префект Северного департамента в эпоху консульства, Dieudonne, оставивший статистическое описание своей префектуры, отказывается определить даже приблизительно количество лиц, занятых главной индустрией края — пряжей льна — именно потому, что большей частью это крестьяне, занимающиеся мануфактурным трудом, когда нельзя по условиям времени года заниматься земледелием [29].
И это до такой степени верно относительно указанной промышленной области, что, например, департамент Па-де-Калэ в 1797 г. прямо отказался на вопрос министерства обозначить число рабочих, занятых полотняной промышленностью, на том основании, что часть рабочего населения живет в деревнях [30].
Я нарочно привел эти свидетельства, чтобы показать, что вплоть до конца XVIII столетия сколько-нибудь точных статистических сведений о деревенской индустрии у нас нет и быть не может. Это бессилие статистики обусловливается также и самым существом дела, а вовсе не только несовершенством тогдашних статистических приемов и средств. Вспомним, что в России в конце XIX в., несмотря на превосходную постановку статистического дела, земство не везде могло сосчитать кустарей, т. е. тех же «деревенских фабрикантов».
Так обстоит дело со статистикой, относящейся к интересующей нас эпохе. Мы видим, что если накануне революции Толозан еще мог хоть льстить себя уверенностью, будто он знает в главных чертах состояние промышленности во Франции, то ни при Конвенте, ни при Директории правительственная власть не могла даже самое себя обманывать в этом отношении. У Толозана хоть были аккуратно присылавшиеся отчеты инспекторов мануфактур; эти отчеты были весьма недостоверны в своих цифровых показаниях, но они зато давали в своих «observations», которыми всегда заканчивались, общую характеристику промышленной жизни в данной местности, и сам Ролан, который, как мы видели, не верил в цифры этих отчетов, был долгие годы инспектором амьенских, а потом лионских мануфактур, приписывал очень большое значение своей должности и смотрел на донесения инспекторов как на материал очень важный для правительства, ибо он знал, что, кроме цифр, там есть многое такое, что только инспектору мануфактур и могло стать известно. Что же касается центральных властей времен революции, то они не имели ничего подобного в своем распоряжении; их агенты и подчиненные им органы наскоро отвечали или вовсе не отвечали на присылаемые им изредка циркуляры, и эти вопросы, и эти ответы забывались как вопрошающими, так и отвечающими весьма скоро: жизнь неслась таким быстрым вихрем, одни гнетущие проблемы дня так быстро вытесняли другие, что нет ничего мудреного, если ни одна попытка определить положение промышленности в стране не была доведена до конца.
Но если нельзя в цифрах представить картину французской промышленности, зато можно получить ответ на тот вопрос, который больше всего нас тут и занимает: какие формы промышленного труда существовали во Франции накануне и во время революции?
2
Терминология, обозначающая предпринимателей и рабочих, отличается во Франции XVIII в. большой сбивчивостью, что естественно для страны мелкого производства и широко распространенной домашней промышленности.
Начать с того, что под словом la fabrique, реже la manufacture, в наших документах часто понимается вовсе не одно определенное промышленное заведение, но целое производство, при этом иногда производство данного продукта, а иногда производство разных продуктов, приуроченное к данной местности. Когда мы читаем la fabrique de coton, это означает бумагопрядильное производство; la fabrique de soie — шелковое производство; а, например, la fabrique de Rouen — совокупность всех мануфактур, выделывающих самые разнообразные продукты и находящихся в Руане. Иногда родовое и географическое определения встречаются вместе: la fabrique de soie à Nimes, la fabrique de savon à Marseille — все шелковые мануфактуры Нима, все марсельские мыловарни. С этим словом больше всего и любят манипулировать авторы наших документов.
Слово la manufacture иногда употребляется в таком же смысле, как la fabrique, а чаще для обозначения определенного промышленного заведения; часто для больших заведений, а не только для мастерских пускается в ход обозначение l’atelier или, как его тогда писали, l’attelier. Далее. Если искать термин, который соответствовал бы понятию владелец мануфактуры, то можно было бы привести слово le manufacturier, но ни в коем случае не fabricant, ибо fabricant обозначает иной раз владельца мануфактуры, иной раз наемного рабочего. Документы конца XVIII в., на которых основана предлагаемая работа, словом le manufacturier обозначают уже исключительно собственника промышленного предприятия, но еще в середине XVIII столетия изредка под этим термином понимался и рабочий [31].
Неопределенность, расплывчивость терминов соответствует вполне отсутствию в общественном сознании резкой грани между предпринимателями и рабочими.
Вчерашний рабочий сегодня становится «предпринимателем», а завтра дела его пошатнулись, и он опять работает на хозяина. Рабочий Оберкампф становится владельцем мануфактуры в Jouy-en-Josas, и его продолжают называть то ouvrier, то manufacturier. Крестьянин в Пикардии, в Нормандии, в Лангедоке работает один сезон на мануфактуру соседнего города, а другой сезон выносит товар непосредственно на рынок и в обоих случаях он, в глазах инспекции, в глазах общества, — l’ouvrier de la campagne, fabricant de la campagne, manufacturier rural, безразлично.
По культурному уровню и по происхождению предприниматели и рабочие мало различались между собой (я не говорю об исключениях).
Когда в 1796 г. (законом 6 мессидора) было постановлено, что все бумажные фабриканты и книгопродавцы обязаны вести точные записи производимых и продаваемых товаров ввиду взимания установленных при этом налогов, то бумажные фабриканты, а с ними и типографщики, и книгопродавцы, и владельцы обойных мануфактур подали петицию против этого закона (за массой подписей). В качестве одного из главных аргументов они выставляли почти полную безграмотность большинства из фабрикантов; они большей частью — рабочие по происхождению, едва умеют имя свое подписать, они даже и протоколов не будут в состоянии читать [32]. Этот аргумент они считают весьма существенным и неоднократно повторяют его [33].
И это говорили о себе столичные фабриканты бумаги, владельцы типографий, книгопродавцы, т. е. промышленники, которые, казалось бы, должны были стоять не на столь уже низком культурном уровне.,
Но тем легче судить о среднем уровне массы провинциальных «фабрикантов» шерсти, шелка, мыла и т. д.; не только по происхождению своему, но и по воспитанию и по умственному развитию хозяин немногим отличался от рабочего в эту эпоху.
Я нарочно выбрал именно этот пример, ибо он весьма убедителен; можно было бы тут же привести совершенно аналогичные жалобы на собственную безграмотность со стороны «мануфактуристов» Дофине, Лангедока и других провинций, где деревня главенствовала над городом в смысле промышленной деятельности; можно было бы, например, указать, что хозяева полотняных заведений города Лаваля и прилегающих местностей тоже просили избавить их от обязанности давать письменные свидетельства уходящим от них рабочим; это правило стеснительно между прочим потому, что они, хозяева, часто не умеют писать [34]. Но все эти примеры не так показательны, как вышеприведенный пример столичных промышленников.
По господствующим и в обществе, и среди правящих сфер взглядам, заведение, дающее работу нескольким десяткам людей, уже считалось крупным, и сплошь и рядом владелец такой мануфактуры с гордостью указывает правительству, что он дает заработок массе «отцов семейств» [35].
Насколько можно судить по необычайно редким показаниям, дающим и число мануфактур, и число рабочих в данном городе, мелкое предприятие, безусловно, торжествовало над крупным.
Марсель вовсе не принадлежал в конце XVIII столетия к числу городов, славившихся широким развитием промышленности. Единственным исключением было мыловарение: в этом отношении Марсель не имел соперников не только во Франции, но и во всем мире.
За этим единственным исключением, Марсель не был промышленным центром, но во всяком случае, будучи первостепенным торговым портом, одним из средоточий торгового обмена Франции, французских колоний, Европы, Марсель не мог назваться захудалым в индустриальном отношении пунктом. И по имеющимся скудным показаниям оказывается, что мелкое предприятие, безусловно, являлось господствующим в Марселе, не исключая и главной отрасли местного производства — мыловарения.
Вот свидетельство, касающееся числа рабочих в некоторых производствах в Марселе, — единственное, которое имеет отношение к эпохе революции, хотя даны были эти сведения уже при империи [36] (относятся эти цифры к 1789 г.).
Свечных «фабрик» было в Марселе 12, и на них в общей сложности работало 150 человек; крахмал выделывало 35 фабрик, на каждой «3 или 4» рабочих; фаянсовых мануфактур 12, на них 250 рабочих; «фабрик» шерстяных изделий 8, на них 150 мужчин и 3 тысячи женщин (прях, работавших в окружающей местности); стекольных мануфактур 11, по 30 рабочих на каждой; число бумагопрядилен не приводится, но просто указывается, что было 200 станков, на которых работало 450 рабочих, ибо не все эти 200 станков были одновременно заняты; кожевенных мануфактур было 20, и на них работало в общей сложности 200 человек.
Мы видим тут полное торжество мелкого предприятия всюду, кроме шерстяного производства, где на каждую «фабрику» приходится около 20 мужчин (ткачей) и около 350–360 прях. Но не следует забывать, что эти пряхи нигде не работают круглый год, а особенно на юге, в Провансе и Лангедоке; более или менее постоянным элементом являются лишь ткачи (мужчины).
Цифру рабочих мыловаров дают другие документы. К сожалению, и из них мы узнаем лишь число рабочих высшего типа, рабочих-техников, а вовсе не всей массы марсельских мыловаров. Вот цифры, касающиеся числа мыловарен в городе Марселе, числа котлов в каждой из них и наконец (для одной только даты) числа рабочих [37].
Эти цифры относятся к четырем датам:
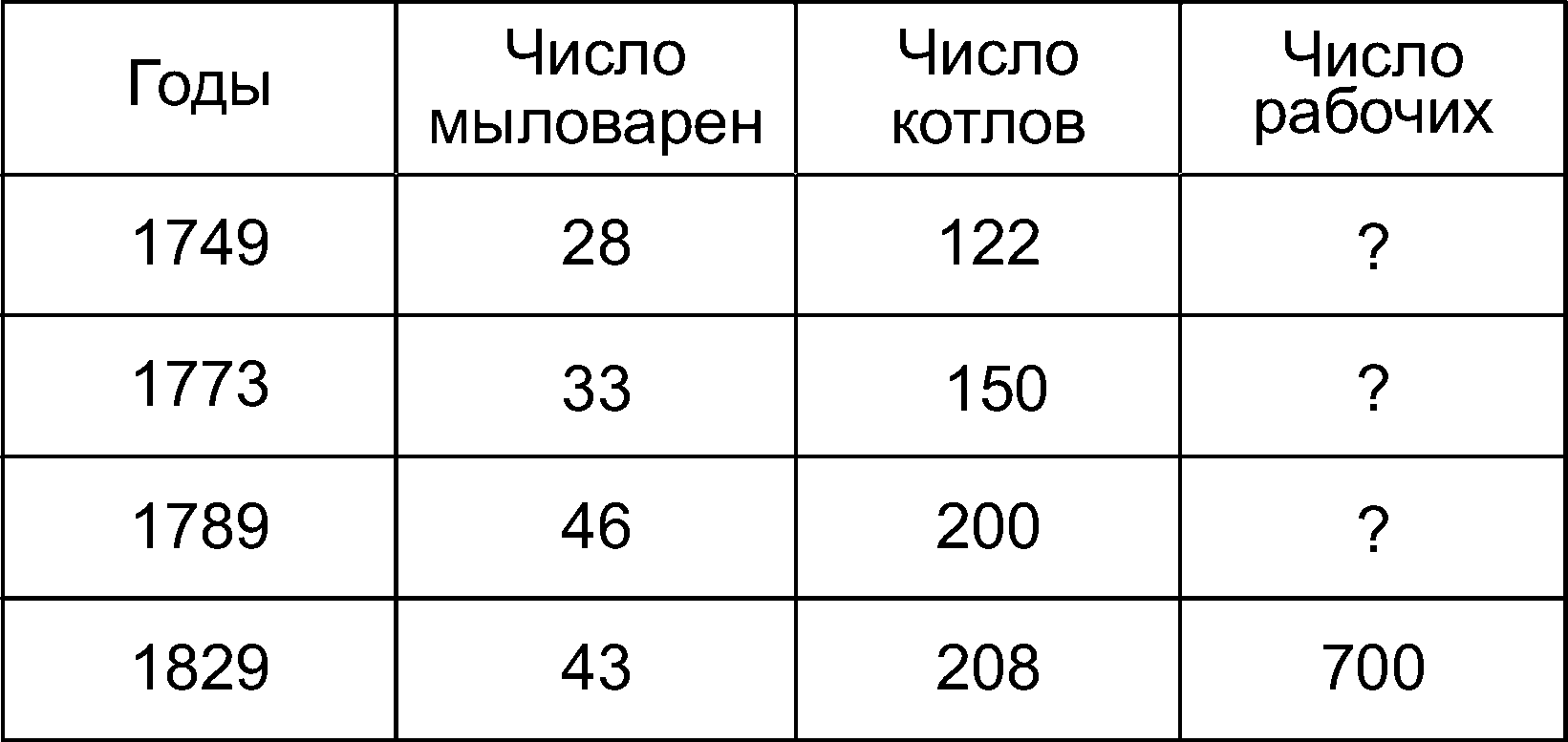
Вот и весь цифровой материал, которым мы располагаем. Из этих цифр явствует, что и в XVIII в., и в 1829 г. на каждую мыловарню приходилось 4–5 котлов, если предположить, что они были приблизительно одинаковы по размерам. Во всяком случае соотношение между числом предприятий и числом котлов приблизительно одинаково и для 1749, и для 1773, и для 1789, и для 1829 гг.
Это подтверждает, впрочем, тот факт, что прогресс техники в мыловаренном деле за первую треть XIX в. не двинулся настолько (сравнительно с концом XVIII столетия), чтобы обусловить сколько-нибудь значительные изменения в производстве [38]. И соотношение между числом котлов и числом рабочих в 1789 г. было приблизительно таким же, как в 1829 г. В таком случае можно было бы предположить, что если на 208 котлов, существовавших в 1829 г., приходилось 700 рабочих, то на 200 котлов, существовавших в 1789 г., приходилось около 675 человек, т. е. почти столько же. Эта небольшая группа была распределена (в 1789 г.) между 46 заведениями.
Можно сомневаться в полной точности этих цифр, но не подлежит сомнению, что слишком большого уклонения от истины они не представляют; ведь марсельские мыловарни были не только знамениты на всю Францию, но, как увидим, их гибель в эпоху революции приняла характер национального бедствия, ими очень интересовались и занимались: едва ли поэтому цифра предприятий и цифра котлов (для 1789 г.) слишком уже разнятся от действительности.
Кроме того, мыловарни все были в городе, и вся работа сосредоточивалась в городе, и поэтому статистические сведения, касающиеся мыловарения, легче было собрать, нежели, например, в любой области текстильной индустрии, где деревня играла такую огромную роль.
Эти несколько сот человек рабочих высшего типа, мыловаров-техников города Марселя, были в высшей степени важны, нужны (даже трудно заменимы) для всей страны, ибо они обладали технической выучкой, которой нигде больше не было; не потому ли, что они были разбросаны по нескольким десяткам заведений, потому ли, что число их даже в общей сложности все-таки было очень мало, по другим ли причинам, — голоса их не слышно вовсе за весь рассматриваемый период.
Пример Марселя весьма характерен. К сожалению, относительно других больших городов (Парижа, Лиона, Бордо, Руана, Амьена) совершенно отсутствуют даже и такие скудные цифровые показания; но, не имея цифр, касающихся всех производств и рабочих в данном городе, мы располагаем рядом указаний и характеристик, касающихся отдельных отраслей промышленности во всей стране. И эти указания непреложно свидетельствуют: 1) о громадном преобладании мелких мануфактур над крупными и 2) о том, что и в мелких, и в крупных мануфактурах в подавляющем большинстве случаев рабочие получали и заказы на дом, а не исполняли их в заведении хозяина. В течение всего XVIII в. и позже все мануфактурное производство, например, центром которого был Руан, было в руках мелких мануфактуристов, мелких самостоятельных производителей, вся руанская торговля — в руках мелких торговцев [39]. А пример Руана весьма убедителен. Руан был, бесспорно, центром одного из крупнейших промышленных районов Франции по выделке полотняных и отчасти шерстяных материй.
То же самое нужно сказать в общем о железоделательной промышленности.
В Понтадемаре (в департаменте l’Eure), в Вернейле, в Шамбре, Вогуене (в том же департаменте), в Мортани (департамент de l’Orne), в Алансоне, Донфроне (в том же департаменте) существовали в начале рассматриваемого периода довольно крупные железоделательные мастерские. У нас нет точных цифр для всех этих мест; они имеются только для одного округа Domfront. Там (в 1795 г.) существовало 18 таких мастерских (в двух работало по 400 человек, в одной — 200, в четырех — по 150, в одной — 130, в одной — 100, в одной — 70, в остальных — 40 и меньше). Существовали заведения этого рода также во Fresnay (департамент Сарты), в округе Quillau (департамент l’Aude) — 11 мастерских [40]; упоминаются и еще единичные заведения в некоторых округах северных департаментов. Но и тут нужно заметить, что в число рабочих входили не только работавшие в здании мастерской, но и окрестные жители, работавшие на дому.
Относительно центра оружейного дела — города Сент-Этьена — у нас есть указания на общее количество рабочих-оружейников, работавших на местных мануфактурах, но числа мануфактур не указано.
Вот цифры, касающиеся количества рабочих-оружейников в Сент-Этьене:
в 1786–1790 гг. (в среднем)……. 2850
в 1799 г…………………….. 2185
Как уже сказано во введении, эти цифры приводит местный сент-этьенский историк Peyret, писавший в 1835 г., и при этом он не говорит, откуда взял эти сведения, неопределенно ссылаясь на «recherches statistiques faites par l’administration» (Peyret. Statistique industrielle du département de la Loire. Saint-Etienne, 1835, стр. 80). Это вынуждает нас к сугубой осторожности; хотя в 1830-х годах у местной администрации департамента Луары еще могли быть в руках бумаги, впоследствии бесследно пропавшие, но мы уже высказались относительно степени доверия, которое заслуживает промышленная статистика в документах XVIII столетия.
Но работала ли эта масса в здании мануфактур и сколько было этих мануфактур в Сент-Этьене, — мы не можем судить.
На первый взгляд могло бы показаться, что к исключениям из данного правила принадлежит то железоделательное заведение, о котором упоминает R. Picard в своей книге «Les cahiers de 1789 et les classes ouvrières», ссылаясь при этом на наказ крестьян прихода Chailland в провинции Maine. Но на самом деле это не так. Обратимся к тексту наказа, на который ссылается R. Picard [41]. Прежде всего заметим, что этих заведений два, а не одно, хотя оба они принадлежат одному хозяину, так что если бы даже все рабочие (их 500) работали в здании мануфактуры, мы имели бы дело со сосредоточением не 500 человек, а меньшего числа. Но дальше оказывается, что, собственно, это люди, разбросанные по кантону, снимающие землю в аренду [42], имеющие лошадей для сельского хозяйства [43], и даже все это заявление крестьян Chailland’a о рабочих вызвано не столько (или во всяком случае не только) чувством сострадания, но и желанием избавиться как-нибудь от неприятных, нищих и опасных соседей по полю, производящих потравы и выпасы на чужой земле [44] и т. д.
И нужно заметить, что и местные, и центральные власти не особенно благоволили к типу заведения, сосредоточивающего рабочих в своих стенах. Орлеанский муниципалитет с удивлением и сдержанным порицанием относится к проекту одного предпринимателя, который хотел было устроить в городе Орлеане (в 1791 г.) такую мануфактуру, где работницы должны были бы работать в самом заведении, ибо подобный порядок вещей мешал бы им заниматься хозяйством [45].
Крупные мануфактуры, которые не только дают заработок нескольким сотням рабочих, но где рабочие работают в самом здании заведения, являлись редкими исключениями. Прежде всего нужно назвать мануфактуру сукон, основанную в конце XVII столетия голландским выходцем Ван-Робе в Аббевиле, в Пикардии (недалеко от Амьена). К сожалению, нет документов, которые бы дали нам сведения о том, что происходило в этом заведении в 1789–1799 гг. Ни в Национальном архиве, ни в архиве департамента Соммы (в Амьене) я не нашел решительно ничего, кроме указаний, что мануфактура работала и исполняла заказы военного ведомства. Архивист и библиотекарь города Аббевиля г. Godet уведомил меня, что и в Аббевиле абсолютно ничего нет, что могло бы пролить свет на жизнь мануфактуры Ван-Робе в течение революции (этого, впрочем, и нужно было ожидать, ибо все документы предшествовавшей эпохи, касающиеся Ван-Робе, были сданы в архив департамента Соммы).
Но есть прямые показания, относящиеся к более ранней эпохе и дающие понятие об организации труда в этом громадном заведении.
В средние десятилетия XVIII в. уже тогда знаменитая своими сукнами мануфактура Ван-Робе имела четыре здания в городе, где работало 1000–1200 прях; кроме того, она занимала еще несколько больших помещений, где работали ткачи и другие рабочие: все эти рабочие и жили и работали в зданиях мануфактуры (к сожалению, мы не знаем, сколько именно было ткачей и прочих рабочих: более или менее точная цифра дана только относительно прях [46]). Савари, дающий нам эти сведения в своем словаре, прибавляет, что другого подобного заведения во Франции не существует [47]. Незадолго до революции суконная мануфактура Ван-Робе располагала 100 станками и давала работу 1400 человек. К сожалению, мы не знаем, сколько человек из этих 1400 работало в здании мануфактуры, а сколько — по окрестным деревням, ибо в этом документе таких точных показаний, как даваемые словарем Савари, мы уже не находим [48].
Во всяком случае заведение Ван-Робе — единственное из больших промышленных предприятий во Франции XVIII столетия, относительно которого совершенно определенно известно, что большая масса рабочих работала в помещении мануфактуры. Это показание, относящееся к середине века, может иметь косвенное значение и для позднейшей эпохи, ибо известно, что все здания мануфактуры существовали и впоследствии.
Даже там, где были налицо кадры обученных ткачей, выделывавших особенно тонкие, высшие сорта материи, замечается лишь некоторый численный перевес городских рабочих над деревенскими, но дальше этого «концентрация» не шла. В цветущую пору седанского суконного производства (т. е. от войны с Англией 1778 г. до торгового договора 1786 г.) на седанские мануфактуры работало около 15 тысяч человек. Из этих 15 тысяч человек три пятых жило в городе Седане, а две пятых — в окрестных деревнях [49]. Мало того, местный инспектор торговли говорит, что не только деревенские жители, но и все эти 15 тысяч человек не отдают все свое время мануфактурной работе [50] (в частности, деревенские рабочие отрываются от производства ради сельского хозяйства), поэтому хозяевам приходится увеличивать контингент и на время брать еще 5 тысяч человек новых рабочих, заместителей. Но хотя мануфактура была не единственным средством к жизни для работавшего на нее люда, она давала главную статью дохода в их бюджете, так что без этого заработка они уже обойтись не могли [51].
Попадаются (правда, в виде единичных исключений) среди текстильных мануфактур Франции и такие, которые дают работу не сотням, а тысячам рабочих, но в смысле организации производства и это дела не меняет.
Громадная мануфактура в Бофоре, снабжавшая парусным холстом также королевский флот, дает работу массе лиц, но как организовал их труд? Всего 40 человек работает в здании мануфактуры, а более 2100 прях и других работниц и рабочих получают заказы на дом и разбросаны как в городе, так и по деревням по всей округе [52].
Рядом с мануфактурой Ван-Робе по количеству рабочих можно поставить мануфактуру ситцев и полотен вюртембергского выходца Оберкампфа в Jouy-en-Josas, в департаменте Сены-и-Уазы. Это заведение считалось самым огромным и самым лучшим в своем роде (Оберкампфу и теперь стоит памятник в Jouy-en-Josas как одному из крупнейших деятелей французской промышленности). Есть известие, относящееся к концу 1797 г., из которого мы узнаем, что в тот момент мануфактура давала заработок 1800 рабочим [53]. Но эти рабочие работали далеко не все в здании мануфактуры: на заведение Оберкампфа работала вся обширная округа, получавшая от хозяина материал для пряжи.
Мануфактура Оберкампфа показывает, что даже в тех редких случаях, когда текстильные мануфактуры обзаводились «машинами», концентрации рабочих не происходило.
В этой лучшей (в техническом отношении) мануфактуре цветных полотняных и бумажных материй употреблялось механическое приспособление, сначала (до 1793 г.) весьма несовершенное, а в 1793 г. замененное более целесообразным аппаратом. И для этого заведения работал не только городок Jouy-en-Josas, но и окрестности [54]; «цилиндр», которым славилась мануфактура, не сделал из заведения Оберкампфа фабрики нового типа.
Эти крупные мануфактуры не отличались по типу организации труда от мелких; разница была лишь в размерах оборотного капитала, размерах общей суммы производства, размерах сбыта. Но нужно прибавить, кстати, что мелкое предприятие ни в малейшей степени не чувствовало себя подавленным конкуренцией этих исключительных заведений. Вспомним показание лучшего знатока экономической жизни Франции в эпоху реставрации, академика Дюпена: еще во второй половине 20-х годов XIX столетия маленькое предприятие с 15 рабочими в текстильной промышленности весьма и весьма успешно выдерживало конкуренцию большой мануфактуры, где было на 100 тысяч франков машин и другие 100 тысяч франков стоило оборудование мастерских [55].
Причина этого факта — отсутствия влияния машин во французской промышленности конца XVIII в. — станет до очевидности ясна, когда мы обратимся к исследованию вопроса о степени распространенности технических усовершенствований в тогдашней Франции. Пока достаточно было лишь отметить самый факт.
Среди всех текстильных мануфактур XVIII в. заведение Ван-Робе является исключением.
Но было производство, которое, по существу дела, требовало сосредоточения рабочих в здании мануфактуры. Это было производство бумаги.
Судя по вышеприведенным цифрам Толозана, бумажное производство давало ежегодно дохода (промышленникам и рабочим вместе) на 7 200 000 ливров в год; с точки зрения распространенности этого производства его, следовательно, нельзя и сравнивать со всеми отраслями текстильной индустрии (101 250 000 + 92 500 000 + 41 000 000), а, как выше замечено, если цифры Толозана могут иметь какое-либо значение, то для определения не абсолютной, но относительной величины той или иной отрасли производства. И однако ни одна категория рабочего класса не занимала до такой степени собой представителей власти как при старом режиме, так и при революции, как именно эти не особенно многочисленные рабочие бумажных мануфактур; этот факт прежде всего объясняется именно сосредоточенностью рабочих в одном месте и проистекающими отсюда последствиями. И нужно заметить, что даже и тут, в сущности, не может быть речи о фактическом скоплении больших рабочих масс.
С давних пор рабочие бумажных мануфактур отличались большой сплоченностью; остались указания на несколько стачек, имевших место в течение XVIII столетия и даже раньше [56]. Это была, как сказано, одна из очень немногих отраслей промышленности, где рабочие по условиям производства должны были работать в здании мануфактуры, а не на дому, что сближало их и облегчало общие действия против хозяев. В 1739 г. был издан королевским советом регламент, касавшийся бумажного производства вообще и, в частности, регулировавший отношения между рабочими и фабрикантами бумаги. Пунктом 48 этого регламента рабочим запрещалось покидать хозяев, не предупредивши их в присутствии двух свидетелей за шесть недель; хозяевам воспрещалось принимать рабочих без письменного свидетельства от предыдущего нанимателя [57]. В 1784 г. инспектор Bryard, ревизовавший промышленные заведения Шампани и Пикардии, предлагал правительству обуздать своеволие рабочих бумажных мануфактур и дополнить регламент 1739 г., который он находил слишком мягким [58]. Как увидим далее, рабочие бумажных мануфактур продолжали привлекать к себе беспокойное внимание властей и в эпоху 1789–1799 гг.
Накануне революции бумажные мануфактуры в Annonay (в Лангедоке) считались самыми большими и лучшими во Франции [59]. Они принадлежали Монгольфье и работали на Париж и всю Францию, на Испанию, Италию и страны Леванта. Это наибольшее во Франции бумажное производство давало работу 600 рабочим (в 1788 г.); и тут нужно, конечно, помнить, что речь идет не об одном заведении, а о нескольких, хотя бы и принадлежащих одним хозяевам — семье Монгольфье [60], но во всяком случае эти 600 рабочих работали не у себя на дому, а в стенах этих мастерских, принадлежавших Монгольфье. Это нужно отметить именно вследствие редкости явления при царившем тогда типе промышленного производства.
Обыкновенно эти бумажные мануфактуры весьма невелики. В Дамбере и окрестностях его существовало в начале революции «48 бумажных фабрик», дававших работу 800 гражданам [61]. Десять, пятнадцать, двадцать человек, вот наиболее часто встречающиеся цифры рабочих, работающих на той или иной бумажной мануфактуре. В конце 1797 г. в департаменте Луарэ существовало 8 бумажных мануфактур, имевших в общей сложности 33 котла [62]. Самые большие две мануфактуры были: одна — в Montargis (15 котлов) и другая — в кантоне Corbeilliers (11 котлов); из остальных шести заведений одно имело 2, а пять — по 1 котлу.
В бумажном производстве мы наблюдаем наибольшую концентрацию рабочих, требовавшуюся условиями работы.
Если теперь мы будем располагать отдельные отрасли промышленности в порядке все более и более увеличивающегося распыления промышленного труда, в порядке убывающей связи между рабочим и зданием мануфактуры, на которую он работает, то сейчас же после бумажного производства должны будем упомянуть о шелковом.
В шелковом производстве рабочие находятся в гораздо более близком соседстве, в гораздо более частом общении с предпринимателем, на которого работают, и с товарищами, чем в других отраслях текстильной индустрии (суконная мануфактура Ван-Робе, по мнению современников, имела характер одинокого исключения).
Но и в шелковом производстве эту относительно бóльшую концентрацию рабочих нужно понимать только так, что рабочие жили в Лионе, в Туре, в Ниме — в городе, где жил их хозяин и заказчик, а не в окрестных деревнях. Нужно читать документы того времени, чтобы вынести глубочайшее убеждение о полной непривычке хозяев к такому порядку вещей, когда рабочие работают в здании промышленного заведения. И фабрикнты шелка в этом смысле не отличались от других: «опыт научил их, что почти неосуществимо собирать в одном месте большое число рабочих», ибо нужно поместить вместе с ними и жену, и 3–4 детей, и домашних животных, а для этого помещения не хватит. Так пишут о своем «опыте» Сула и Папион, компаньоны-совладельцы шелковой мануфактуры в городе Туре [63]. Они совершенно не видят среднего разрешения задачи между выполнением заказов рабочими на дому и постоянным пребыванием рабочих с их семьями в здании мануфактуры, и так как последнее неудобно, то, значит, остается держаться первого, общепринятого порядка. Таково их рассуждение. Мануфактур, где бы рабочие работали в здании заведения, в шелковой промышленности почти не было.
Одним из редчайших исключений являлась шелковая мануфактура Вокансона в Обена (Aubenas, в Лангедоке). По свидетельству одного инспектора мануфактур, относящемуся к 1774 г., заведение Вокансона представляло собой большое каменное здание, где были сосредоточены 120 размоточных станков [64]. Инспектор (Holker) говорит об этом заведении, особенно подчеркивая указанную исключительную черту — сосредоточение 120 станков под одной кровлей — и выражая именно по этому поводу особое свое удовольствие [65].
Но если мануфактуры этого типа были в высшей степени редки, то все же на заведения, выделывавшие шелк, работал в конце XVIII в. город, где они были расположены, а не деревня. Документы не только свидетельствуют об этом факте, но объясняют его причины.
Рабочие лионских мануфактур рассеяны по городу и предместьям Лиона, деревня в работе почти не участвует [66]. Это категорически утверждают, между прочим, лионские промышленники [67]. Хозяин не дает никогда дорогой материи рабочему, живущему не в городе; крестьяне, лишенные технической выучки, не справятся с работой, они слишком грубы для столь «деликатной работы», и вообще, полагают владельцы лионских шелковых мануфактур, тут не может быть такого положения вещей, как, например, в Нормандии, где деревня выделывает полотно. Там хозяин вследствие дешевизны сырья (которое он дает в деревню для обработки) рискует очень мало; совсем иное положение фабриканта лионского, который может понести значительный убыток от единственного пятна, появившегося на шелковой материи. Тут требуется чистота в работе гораздо большая, чем при выделке полотна [68].
Эти показания подтверждаются и другими данными. Вот почему, несмотря на отсутствие мануфактур, где бы рабочие работали большими массами в здании заведения, город Лион все же был средоточием большого количества рабочих.
Вглядимся теперь в ту организацию производства, которая была свойственна шелковой промышленности в Лионе, главном центре ее (относительно двух других городов, где существовали шелковые мануфактуры — Нима и Тура, — документы молчат).
Вот какие термины употребляются в документах XVIII столетия, когда речь идет об организации шелкового производства в Лионе [69]: 1) В центре, так сказать, промышленной деятельности стоят рабочие-фабриканты (как они сами себя называют: les ouvriers-fabricants d’étoffes de soye). Это — хозяева маленьких мастерских, имеющие свои станки и работающие каждый в своей мастерской. 2) Эти рабочие-фабриканты имеют наемных работников и работниц, которых они обозначают словом les domestiques [70]. Les domestiques работают либо в мастерской своего нанимателя, либо у себя на дому, но при помощи инструментов, которые дает им их наниматель. 3) Сами рабочие-фабриканты работают на купцов (leurs marchands, как они их называют). Эти купцы дают рабочим заказы и материал для работы. Платят они «рабочим-фабрикантам» поштучно. Таковы три слоя, которые различались современниками. Когда речь идет о лионских рабочих, то всегда понимаются два слоя: 1) les ouvriers-fabricants и 2) les domestiques. Оба эти слоя противопоставляют себя купцам, которых отождествляют с riches, les propriétaires, les capitalistes. Ни единого раза мы не встретили в документах указания на борьбу или какой-либо антагонизм между ouvriers-fabricants и domestiques, когда в октябре 1792 г. рабочие-фабриканты жалуются на бедственное положение и просят у Конвента принудительной для купцов высшей расценки труда [71]. Они в числе аргументов в свою пользу приводят тот факт, что они сами должны были увеличить заработную плату своим domestiques. Вообще же эти domestiques как бы совершенно безгласны. Весьма может быть, что пропали документы, которые исходили от этого слоя лионского рабочего класса. Но, с другой стороны, конечно, по своему социально-экономическому положению ouvriers-fabricants были гораздо ближе к своим domestiques, чем к marchands, на сотни тысяч ливров выписывавших шелкового сырца и продававших затем шелковые материи во Франции и за границей. В 1786 г. на 500 купцов приходилось 7 тысяч «рабочих-фабрикантов» и 4300 domestiques. Это, кажется, последние сколько-нибудь полные данные, дошедшие до нас. Уже относительно 1788 г. можно лишь высказывать предположения насчет численного соотношения между купцами, ouvriers-fabricants и служившими у последних наемными рабочими [72]. Что же касается десятилетия 1789–1799 гг., то все попытки мои найти в лионском архиве хоть какие-нибудь цифры для революционного периода остались совсем тщетными. Ничего в этом отношении не нашел я и в Национальном архиве.
Есть одно позднейшее показание (1794 г.), что накануне революции в городе Лионе жило около 40 тысяч человек (и существовало 12 тысяч станков), работавших в шелковом производстве. Но как они распределялись, сколько было marchands, сколько ouvriers-fabricants, сколько domestiques, об этом не говорится ничего [73]. Конечно, ряд свидетельств есть у нас относительно того, что цифра рабочих (и купцов) страшно снизилась уже в 1789–1792 гг. даже по сравнению с бедственным 1788 г. и что после разгрома 1793 г. шелковая индустрия влачила совершенно жалкое существование вплоть до первых лет империи. Но, как выразилось это в цифрах, хотя бы приблизительных, — мы не знаем. Во всяком случае, что шелковое производство в Лионе было организовано в конце XVIII столетия по типу домашней промышленности, в этом нет никакого сомнения (даже если бы, кроме трех цифр 1786 г., мы ничего не знали).
Итак, устанавливается прежде всего одно внешнее отличие между шелковым производством и прочими отраслями текстильной индустрии. Шелковая промышленность была организована как городская домашняя индустрия; выделка шерстяных, хлопчатобумажных и полотняных материй производилась тоже домашней индустрией, но как в городах, так в значительной степени и в деревне, причем для ряда местностей, как сейчас увидим, деревенское производство играло первенствующую роль. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что тут дело не только во внешней особенности.
Если бы мы должны были тут считаться с деревней только как с местом, где живут рабочие, работающие на городские мануфактуры, то задача очень упростилась бы: этот непреложно засвидетельствованный документами факт только подкрепил бы убеждение, что работа на дому была правилом во всех отраслях текстильного производства, а мануфактуры вроде Ван-Робе — исключением.
Но вопрос оказывается гораздо сложнее. О промышленных занятиях деревенского населения у нас есть свидетельства, которые при всей отрывочности и неполноте явственно говорят нам не только о громадном распространении и значении деревенского промышленного труда во Франции конца XVIII столетия, но и о том, что в деревне производство и сбыт были организованы вовсе не по одному шаблону, что мы имеем дело с различными типами промышленного производства.
Это вынуждает нас исследовать относящиеся сюда документы с тем вниманием, которого заслуживает самое явление.
Городское население Франции (в 1787 г.) принималось, насколько можно доверять тогдашней статистике, равным 1 949 911 человек. Всего два города имели население свыше 100 тысяч (Париж — 600 тысяч и Лион — 135 207); Бордо имел 75 824, Руан — 68 040, Лилль — 65 907, Нант — 51 057, Тулуза — 48 033, Метц, Ним, Страсбург и Орлеан — от 41 040 до 45 090; 21 город имел от 20 до 38 тысяч, остальные 44 города имели население меньше 20 тысяч человек.
Как совершенно верно заметил Левассер в своем специальном исследовании о населении Франции, невозможно знать распределение по профессиям населения накануне революционного периода, того населения, которое даже исчислить в точности нельзя [74]. В этом отношении мы в таких же потемках относительно этих 1 949 911 человек городского населения, как и относительно всех 23 052 375 жителей Франции, которых насчитывала накануне революции официальная статистика (прибавим, к слову, что в 1790 г. комитет по обложению полагал, что во Франции 26 363 000 жителей). Но если можно из этих цифр сделать хоть один сколько-нибудь прочный вывод, то, конечно, это будет вывод о громадном преобладании деревенского населения над городским.
Документальные показания, к которым мы теперь обратимся, покажут нам, что это огромное деревенское население являлось отнюдь не только потребителем мануфактурных товаров, но и само деятельнейшим образом участвовало в производстве.
3
Постановлением королевского совета от 7 сентября 1762 г. деревенская индустрия была легализована: крестьяне получили право заниматься выделкой всех сортов материй, не будучи членами цехов, но подчиняясь при этом всем правилам, регламентирующим промышленность [75]. Заметим кстати, что самое выражение в первой статье этого постановления указывает, что правительство хорошо понимало, что речь идет не о нововведении, но только о легализации уже существующего порядка [76]. Это постановление было подтверждено 13 февраля 1765 г. [77]
Левассер первый указал, что появление эдикта 1762 г. вовсе не означало, что промышленный труд был неизвестен в деревне до того времени [78]. Документы, относящиеся к началу XVIII в., дают нам в самом деле ряд свидетельств, что деревенская индустрия была широко развита задолго до 1762 г. [79] Это стало настолько распространенным явлением, что кое-где завелась особая графа в отчетах инспекторов: nombre des métiers travaillants dans les villages hors les manufactures et les fabriques. Нечего и говорить, что, подтверждая факт, инспектора в большинстве случаев отказывались определить число станков и число работающих. При всей скудости документов» относящихся к индустрии в начале XVIII столетия, можно сказать, что факт не только существования, но и широкого развития и, главное, обыденности промышленной деятельности в деревнях задолго до ее «легализации» не подлежит никакому сомнению.
Прямое свидетельство о широком развитии деревенской индустрии задолго до 1762 г. мы находим в показании инспектора лионских мануфактур Бриссона, который говорит, что начало полотняной промышленности в области Божолле теряется во мраке времен, но что уже в XVII столетии ее существование не подлежит никакому сомнению. Он, подобно большинству людей XVIII в., объясняет себе возникновение индустриальной деятельности в деревнях неплодородностью почвы и вообще неблагоприятными для земледелия условиями [80]. При этом он даже считает, что можно установить пропорциональность между степенью скудости почвы и степенью развития мануфактурной деятельности в данной местности: чем скуднее земля, тем больше население прибегает к мануфактурной работе [81].
Выделка полотняных материй уже с XV в. утвердилась в Бретани [82]; деревенская промышленность заметна с начала XVIII столетия в Нормандии [83].
Даже над обработкой шелка трудились деревенские жители задолго до 1762 г. — еще в XVII столетии, если не раньше. Во времена расцвета шелковой индустрии в Турэни, т. е. в конце XVII и в первой половине XVIII вв., в деревнях, окружающих Тур, женщины и дети деятельно работали над заказами, которые давали им владельцы турских мануфактур [84].
Не только разные отрасли текстильной индустрии существовали в деревне задолго до легализации 1762 г.: в Оверни, в области, окружающей городок Тьер, еще с XVI столетия процветала выделка металлических предметов, особенно ножей. При этом не только «фабриканты» Тьера давали работу жителям окрестных деревень, но последние работали и за свой собственный счет и сами являлись «фабрикантами», имевшими своих рабочих; в наших документах поэтому встречаются только: «la fabrique de Thiers» или даже «la fabrique de Thiers et des environs», a употребляют также более точное выражение: «la fabrique de la coutellerie répandue dans les campagnes» [85]. Это производство процветало еще во второй половине XVIII столетия, когда, по свидетельству Балленвилье (отца), тьеровские фабрикаты сбывались даже за границей, в Испании и Америке [86].
В 1762 г. было формально узаконено то, что практиковалось с давних пор: жителям деревень было позволено заниматься индустриальной деятельностью, не имея ничего общего с цехами и цеховым начальством. Самое разрешение это современники объясняли исключительно стремлением удешевить плату за труд и — со ipso — удешевить товар [87]. Правила, регламентирующие производство, клонящиеся к тому, чтобы производимый товар удовлетворял известным требованиям, остались в силе, конечно, и для этих деревенских рабочих, но на деле, как мы увидим дальше, надзор тут представлялся абсолютно невозможным. Деревенская индустрия, нанеся удар цеховой организации, подорвала и регламентацию промышленности, лишив ее всякого смысла.
Документы, относящиеся к эпохе Людовика XVI, говорят нам о широчайшем развитии деревенской индустрии на севере, северо-западе и северо-востоке — в Нормандии, Бретани, районе Фландрии, Cambresis, Beauvoisis, Hainault, на востоке в Trois-Evêchés, в Лотарингии, в Шампани, в Бургони, на юге — в Дофине и Лангедоке, на западе — в Турэни и т. д. Конечно, в подавляющем большинстве случаев деревня занята именно текстильной индустрией; пряжа и ткацкий промысел преобладают. Вглядываясь в разнообразные черты этого широко распространенного явления, мы замечаем, что в индустриальной жизни французской деревни конца XVIII столетия можно отличить несколько типов: в одних местах экономическая жизнь сохранила довольно первобытный характер, в других она является уже в более сложном виде.
Если мы попытаемся классифицировать все эти явления экономической жизни, положив в основу, например, предлагаемый Карлом Бюхером критерий, то окажется, что путь, который проходил продукт, вырабатываемый в деревне, раньше нежели попадал к потребителю, в одних местностях Франции был короче, в других длиннее; в одних провинциях, деревенская индустрия сохранила черты первобытного экономического развития, в других несколько удалилась от первоначальной фазы.
Самый факт громадного развития индустриального труда в деревне с безусловной ясностью выступает из всех показаний современников. Всякий раз, когда у нас есть сколько-нибудь обстоятельные цифровые данные, касающиеся той или иной большой мануфактуры, оказывается, что главную массу рабочих составляют крестьяне соседних деревень, а иногда даже деревень соседних провинций. Вот мануфактура хлопчатобумажных изделий некоего Brodes, в городке St.-Dye (близ Орлеана): там числится 2100 рабочих, но из них 1800 прях, 180 мотальщиц (dévideuses), всего 70 ткачей и 50 готовальщиков. Разбросаны все эти люди не только по деревням орлеанской области, но даже по соседним провинциям [88]. И это одна из исключительно больших мануфактур, работающая главным образом (на две трети) на иностранный рынок: на Брабант, Голландию, Швейцарию, Польшу и Россию [89].
Чуть ли не крупнейший парижский фабрикант газовых материй Сантерр, хозяин одного из очень немногих предприятий, относительно которых у нас есть приблизительные данные, касающиеся числа рабочих, дает работу 500 рабочим. Но где они работают? В деревнях, лежащих близ Сен-Кантена [90]. А между тем Сантерр живет и торгует в Париже и именуется fabricant de Paris.
Гудар — владелец бумагопрядильных и суконных мануфактур, на которых работало в Лангедоке 6 тысяч человек в 70-х годах XVIII в. [91], — может, конечно, считаться одним из исключительно крупных промышленников; но эти 6 тысяч человек сосредоточены не в трех его заведениях, даже не в трех городах, а разбросаны по всему Лангедоку.
Около 1789 г. двадцать пять деревень работало только на те большие аббевильские мануфактуры (в Пикардии), где занимались выделкой полотняных мешков (для нужд колониальной торговли) [92].
Собираясь завести большую полотняную мануфактуру, которая, даже по отзыву местных властей, должна оказаться в высшей степени полезной для всей области Труа, промышленники Aviat Polin и Fodrillon наперед заявляют, как они поставят дело: в здании мануфактуры будет работать 20 ткачей, остальных же рабочих дадут окружные деревни [93]. И тут дело идет об очень обширном предприятии, которое должно повлиять на экономическую жизнь всей местности.
Но, конечно, не эти редкие указания о числе рабочих на той или иной отдельной мануфактуре особенно важны для нас: документы прямо говорят о громадном участии именно деревенского населения в промышленной деятельности и всего южного индустриального района — Лангедока, и северного — Пикардии, Фландрии, Cambresis, Beauvoisis, Hainault и северо-западного — Бретани и Нормандии, и восточного — седанского и т. д.
Громадное развитие бумагопрядильной индустрии в Лангедоке (особенно в Монпелье, Альби, Кастре, всей альбигойской области, в Тулузе) констатирует интендант провинции Балленвилье [94]. И в мемуарах своих [95] и в дошедшем до нас письме он говорит, что не хватает уже рабочих рук для старинной и более, по его мнению, выгодной шерстяной индустрии; он передает даже пожелание заинтересованных лиц, чтобы правительство воспретило бумагопрядильное дело в Лангедоке. Но сам он видит единственный исход в распространении еще пока почти отсутствующих машин, которые восполнят живой труд. Прядильным делом в этой индустрии заняты крестьяне тех же Севенских гор, того же Gevaudan, тех же деревень и сел, которые работают и на шерстяные мануфактуры: немудрено, что конкуренция могла повысить заработную плату и вообще затруднить фабрикантов шерстяных материй в приискании рабочих рук… Бумагопрядильная работа была легче, и поэтому больше привлекала крестьян.
Балленвилье говорит, что Лангедок «полон мануфактур», выделывающих шерстяные, бумажные и шелковые материи [96]. Громадное количество людей занято мануфактурным трудом, — индустрия рассчитана на всю Францию, на Италию, Испанию, германские страны, на страны Леванта. Самая обширная ветвь лангедокской индустрии — шерстяная промышленность; шерстяные мануфактуры, выделывающие разнообразные материи, от наиболее грубых до самых тонких, разбросаны по всей стране. По показанию интенданта, главная отрасль шерстяного производства [97], выделка простых материй (cadis), организована так, что больших, принадлежащих одному лицу, мануфактур здесь нет, а в некоторых частях страны, именно в Gevandan, «каждый человек — фабрикант». Все крестьяне имеют станки, и в свободное от полевых работ время, особенно зимой по вечерам, крестьянская семья обрабатывает шерсть на продажу [98]. Выделанные материи крестьянин несет на рынок, где купцы (négociants-commissionaires) скупают их и отправляют в Лион, в Ним, в Марсель и т. д. [99]
Лангедок поставляет не только шерстяные, но и шелковые материи.
После Лиона главным центром французской шелковой индустрии являются Ним и окружающая Ним область. Но тут выделываются шелковые материи погрубее: крестьяне в Севенских горах заняты пряжей шелка и работают на Ним; по своему невежеству и полному отсутствию порядочных инструментов не могут изготовлять более тонкие сорта [100]. Здесь нет крупных заведений даже в том условном смысле, как это можно констатировать относительно Лиона, т. е. мануфактур, принадлежащих богатому хозяину и дающих заказы хотя и работающим у себя на дому, но большому количеству рабочих. В Лангедоке этой отраслью индустрии занимаются маленькие предприниматели в Ниме, в городках, местечках и деревнях Севенских гор [101], и единственное средство к улучшению качества местного шелка интендант Лангедока видит в том, чтобы правительство всячески способствовало появлению больших мануфактур [102].
В Пикардии, Фландрии, Hainault, Cambresis, Beauvoisis — та же картина.
Колоссальная промышленная деятельность северного района почти целиком была сосредоточена в деревнях, а не в городах: на этом особенно настаивают показания современников [103].
На амьенские и аббевильские суконные мануфактуры работает пикардийская деревня. Станки разбросаны по бесчисленным деревенским приходам, так что, признается инспектор мануфактур, нельзя в точности и сосчитать их [104]. Эта деревенская индустрия составляет для крестьян «полезное добавление к земледелию» [105].
Это же мы видим и в Нормандии. По мнению, весьма распространенному в последние годы старого режима, руанская область была первой во Франции по производству полотна. Она работала на Париж, на Лимузен, на Овернь, на Гиень и Гасконь, на Лион, на Прованс, на Дофине, на Лотарингию и Эльзас, на Беарн, на американские владения, на обширный заграничный рынок [106].
Но где выделывается все это полотно, которого даже по неверной оценке, основанной на заведомо неполном подсчете, продавалось каждые полгода в среднем более чем на 20 миллионов ливров? Обращаемся к графе lieux de fabrique в отчете инспекции за 1784 г., дошедшем до нас, и получаем ответ: на руанские мануфактуры работают Руан и «деревни на 15 лье в окружности, особенно же Pays de Caux (т. е. обширная приморская часть Нормандии, расположенная близ Гавра, Фекана, Ипора); на Больбек — город Больбек «и окрестные деревни»; на Сен-Жорж, Понтодемер, Урвиль, Дьепп, Гавр работает исключительно деревня; на Лувье — город Лувье и деревня; и только относительно маленького городка Evreux нет этой вечной пометки «dans les campagnes» [107]. Вот картина, не оставляющая ничего желать в смысле определенности ответа на вопрос о развитии деревенской индустрии. И это показание относится именно к деревенскому населению, работавшему не за свой счет, а на городских «мануфактуристов»: ведь это свидетельство исходит из мануфактурной инспекции, которая имела свои bureaux de visite в Руане, Больбеке, Сен-Жорже, Урвиле, Дьеппе, Гавре, Лувье и Эвре и хотя весьма неуспешно, но все же силилась учесть и проконтролировать попадающие в эти города куски материи и отметить их происхождение. Если даже по такому свидетельству деревня производила большую часть полотна всей области, то в действительности этот факт должен был сказываться еще ярче. Мы увидим ниже, что деревня не чуждалась самых трудных отраслей производства.
Выделкой кружев кормилось население громадного района, тяготевшего к центру этой промышленности на юге, — Puy-en-Velay; и эта индустрия была главной статьей в бюджете крестьян, населявших малоплодородную, гористую местность [108]. Падение этого промысла грозило всему району полным обнищанием и чуть не уничтожением какой бы то ни было платежеспособности населения [109].
Не только отдельные ветви текстильной промышленности были распространены во французской деревне.
Даже зеркальные мануфактуры давали заработок и постоянно нуждались в услугах жителей окрестных деревень, которые исполняли массу подготовительных работ у себя на дому по заказу мануфактуры или, уже зная наперед, что мануфактуре нужно, доставляли и продавали ей свои поделки. И таких рабочих очень много, иногда даже большинство среди тех, кого считает в своих списках та или иная мануфактура (вроде, например, громадной зеркальной мануфактуры du Jarry в местечке Руель в Бургони, где работало около 600 человек, «мужчин, женщин, детей») [110].
В деревнях, окружающих Laigle, население было занято выделкой игл; Е. Levasseur отметил факт, что не менее 25 местечек (localités) были заняты этим промыслом [111]. Не забудем при этом, что Laigle и до и во время революции считался центром игольного производства всей Франции.
Точно так же обстояло дело с известной во всей Франции железоделательной промышленностью в Raucourt (близ Седана), изделия которой продавались по всей стране, в том числе и в Париже; она была организована так, что население этого местечка работало не на одного хозяина, а почти исключительно за свой собственный счет [112]. Они продавали свои изделия непосредственно оптовым торговцам [113].
Главным стимулом к занятиям мануфактурным трудом являлось во французской деревне неплодородие почвы и, вообще говоря, неприбыльность сельского хозяйства.
Внимательный наблюдатель, видевший Францию накануне (революции, — Артур Юнг, рисует нам типичную картину замкнутого домашнего хозяйства [114]. Он, правда, относится отрицательно к этой системе и говорит, что если бы население Франции состояло только из крестьянских семей, которые сами все производят, что им нужно для жизни, то страна стала бы жертвой первого завоевателя. Но нам важно не столько отметить это наблюдение (потому что, конечно, не может быть и речи о том, чтобы считать Францию конца XVIII столетия страной исключительно самодовлеющего замкнутого хозяйства), сколько указать на другое наблюдение Артура Юнга, ближе касающееся нашей темы: пряжа льна, конопли, шерсти в крестьянской семье производится также для продажи на мануфактуры. Артур Юнг отмечает громадное распространение этой индустриальной работы в деревнях, но вывод делает совершенно неправильный. Он говорит, что местности, где сильно развита промышленность, становятся самыми нищенскими; сначала он не решается распространить на все промышленные области Франции тот вывод, который он сделал для части Нормандии (так называемой Pays de Caux), а именно, что земледелие находится в плохом состоянии, потому что там существуют мануфактуры [115].
Но эта его осторожность не мешает ему в конце концов все-таки сделать подобное заключение, только в несколько иных словах [116]. Наблюдение, что земледелие в упадке там, где распространена промышленность, сделано в общем правильно, но объяснение совершенно ошибочно. Не потому земледелие мало приносило в Дофине, в Эльзасе, в лионской области, что там индустриальная работа отвлекала население от сельского хозяйства, а потому там крестьянское население обратилось к индустрии, что земля мало давала [117]. Документы, к которым мы теперь обратимся, не оставляют в этом отношении никакого сомнения.
Во всей суассонской области индустриальная деятельность была совершенно ничтожна (и даже в главном городе Суассоне не было ни единой сколько-нибудь развитой отрасли промышленности). Двумя исключениями являлись местности Тьераш и часть округа близ города Laon, как раз самые бедные и обиженные природой. Констатируя это, местная мануфактурная инспекция даже обобщает явление и именно в прямо противоположном смысле, нежели Артур Юнг: чем труднее жителям прокормиться, тем благоприятнее условия для промышленности [118].
Очень часто одновременно с указаниями на то, что «фабрика» живет в значительной степени трудами этих рассеянных по окрестным деревням «рабочих», документы наши прибавляют, что это заработок вовсе не побочный, а главный в бюджете такого крестьянина-рабочего [119]. Так обстояло дело с суконными мануфактурами области St.-Gaudens’a и окрестных областей. Так обстояло в восточных областях, тяготевших к центру французской шерстяной индустрии — Седану; так было в Лионе и в области, работавшей на мануфактуры Труа, и т. д.
Мануфактурным трудом населению приходится заниматься, так как местная почва мало приносит, — вот обычное рассуждение людей XVIII в. во Франции. Нормандия и, в частности, руанский округ отличались в конце XVIII в. промышленной деятельностью. Зная, что теперь Нормандия считается одной из плодороднейших частей Франции, можно было бы счесть это опровержением популярного взгляда XVIII в.; но стоит обратиться к документах, и они сейчас же покажут нам, что современники не смотрели на эту провинцию как на исключение, а просто видели Нормандию XVIII столетия, но не XIX и не XX, и она далеко не поражала их тогда своим плодородием. Состояние тогдашнего сельского хозяйства не позволяло сделать из этой страны то, что мы видим теперь [120].
В кантоне Quesnoy (Северного департамента) выделка и продажа полотна есть «единственное занятие» для бедных семейств: «женщины, дети только этим и занимаются в течение 8 месяцев года в деревнях, а в городах — в течение всего года» [121].
В провинциях, где промышленность была мало развита, где работали исключительно на местный рынок, вроде, например, Пуату, не только пряхи и прядильщики, но в значительной мере и ткачи занимались своим промыслом только в свободное от полевых работ время [122].
Напротив, если земля приносила достаточно, крестьяне неохотно брались за индустриальный труд. И в таком случае даже близость верного и богатого рынка сбыта не заставляла их отвлекаться мануфактурной работой от сельскохозяйственных трудов. Лучший пример — область, расположенная вокруг столицы, généralité de Paris: в округе Ланьи нет никакой мануфактуры, и «жители деревни занимаются исключительно земледелием», в округе Сен-Клу есть только одна казенная Севрская мануфактура; в версальском округе — одна мануфактура (Оберкампфа, в Jouy-en-Josas); в округе Gerberoy, в округе Compiègne, в округе Elampes, в округе Pontoise, в округах Auxerre, Vezelay, Laferté, Seniis, Montlhéry, Monfort, Enghien — нет ни одной мануфактуры; в округе Coulornmiers существуют «мануфактура» сукон, имеющая всего два-три станка, и селитряная мануфактура; в Dreux, в Melun, в Fontainebleu есть небольшие мастерские; в Courlenay была довольно большая суконная мануфактура, но в 1778 г., к которому относятся наши сведения, она себя «дискредитировала» и пришла в упадок; совершенно ничтожные мастерские существуют в Nemours, Montes и Rosay. Только в округе St.-Germain есть кожаная мануфактура, имеющая 200 рабочих. Виноделие, земледелие дают столько работы, что для мануфактур времени не хватает. Это объяснение повторяется тут постоянно [123]. «Почти все» промышленные заведения находятся в столице или в предместьях ее и в ближайшей к ней местности [124].
Правительство старого режима именно потому часто и покровительствовало распространению мануфактур, что это могло не только удешевить производство, но и восполнить скудный крестьянский бюджет. Инспектор мануфактур монтобанского округа в 1778 г. так и мотивирует свои просьбы перед королевским советом о выдаче субсидий на поддержание промышленной деятельности во вверенной ему области [125]. Главным образом тут процветала выделка шерстяных и полотняных материй (преимущественно грубых сортов).
В Лимузене, например, власти деятельно насаждали домашнюю индустрию: за 15 лет (с 1760 до 1775 г.) интенданты роздали населению («бедным пряхам») более 1500 прялок. В Лиможе и его окрестностях женщины и дети от 6 до 7 лет «только пряжей и занимаются», и власти смотрят на этот труд (особенно на бумагопрядильный промысел) как на единственное средство пропитания в некоторых частях провинции [126]. В других округах Лимузена (типичной провинции мелкого, раздробленного крестьянского землевладения, как доказал И. В. Лучицким) крестьянская семья пряла шерсть и лен отчасти для удовлетворения своих потребностей в одежде, отчасти же на продажу. Но это было далеко не во всех приходах Лимузена.
Воззрение на мануфактурные работы как на существенно важную статью крестьянского бюджета характерно для французских властей и до, и во время революции. В 1783 г. промышленник Deladebat хлопочет о разрешении открыть полотняную мануфактуру недалеко от города Бордо, и прежде всего существенным аргументом в его пользу должно служить то, что в этой местности нет мануфактур, которые давали бы «мужчинам, женщинам и детям» заработок в свободное от земледельческого труда время [127].
В другой провинции тоже с мало развитой промышленностью, в так называемых Trois-Evêchés, повторяется то же самое. В этой области [128] деревня работает на фабрикантов [129], но кормится скудно именно потому, что индустрия развита слабо, и инспектор мануфактур Tricou обращал внимание правительства (в 1785 г.) на то, что хорошо бы больше развить здесь текстильную промышленность как подсобный промысел для деревенского населения [130]. Мец, Верден, Туль, Вик, Саарбург, Фальсбург, Саарлуи, Тионвиль, Лонгви со своей ничтожной промышленностью не могли дать большого заработка крестьянам.
Представители центральной власти как при старом порядке, так и во время революции, когда говорят о рабочих, о безработице и так далее, тоже понимают всегда под словами les ouvriers, les fabricants, les sans-travail жителей ннеодного только города, где расположены мануфактуры, а всей округи, иногда целого департамента. В 1792 г., когда бумагопрядильные мануфактуры стали ощущать недостаток сырья, министр внутренних дел Ролан пишет президенту Законодательного собрания просьбу о кредите с целью доставить владельцам мануфактур в городе Труа нужный им и сильно вздорожавший хлопок; в качестве главного мотива министр выставляет то соображение, что рабочие останутся без работы, но при этом он подчеркивает, что речь идет вовсе не только о жителях города Труа, но о всем департаменте Aube, о «ста» местечках и деревнях, для которых эта работа на мануфактуру есть главный ресурс [131]. Министр категорически утверждает, что все население департамента не может существовать без ежедневного заработка на ««фабриках».
И при Учредительном собрании, и при Конвенте, и при Директории чуть не первый довод, который пускается в ход, когда то или иное лицо желает получить субсидию для учреждения мануфактуры, одно из серьезных соображений, принимаемых в расчет властями, заключается в том, что в данной местности крестьяне бедны, почему-либо земледелие приносит мало, а потому новое промышленное заведение даст заработок окружным деревням. «Les communes environnantes», «la campagne», «les habitants des campagnes», «les pauvres des villages» и так далее, вот о ком идет речь [132]. Несравненно чаще говорится именно о том, что данное заведение даст заработок [больше] окрестному населению деревень, чем жителям того города, где, собственно, заведение существует или основывается. И это не только в тех случаях, когда речь идет о маленьком городке, который сам походит на село, но и когда вопрос касается большого торгового центра, вроде, например, Нанта [133].
Инспектора хотя и сочувствуют деревенской индустрии, но нередко досадуют на техническую отсталость и консерватизм крестьян. В Бургони шерстяная индустрия (составляющая главную отрасль промышленности в этой области) тоже почти вся в руках деревенских фабрикантов; но в Бургони шерсть гораздо лучшего качества, чем, например, в соседней Шампани, и инспектор мануфактур всячески доказывает этим деревенским фабрикантам, что хорошо бы позаимствовать у соседей, менее облагодетельствованных природой, их уменье выделывать более тонкие материи. Все эти убеждения тщетны: бургонские «фабриканты» ничего не перенимают у соседей, а следуют отцовским приемам и навыкам [134].
Власти, и прежде всего инспектора мануфактур, охотно возводили в идеал такое положение вещей, когда крестьяне-земледельцы занимаются вместе с тем мануфактурной работой, и постоянно указывали высшему правительству на необходимость поощрять и всячески поддерживать деревенское домашнее производство [135]. Это сделалось даже к концу старого режима довольно обычным мотивом в переписке инспекторов мануфактур с интендантом торговли [136].
Знаменитый Бертолле в одном докладе (поданном в комитет земледелия и искусств, при котором он состоял в качестве комиссара) с воодушевлением и похвалой говорит об этом «союзе» между землей и индустрией, об участии земледельческого класса в самых иной раз нелегких (с технической точки зрения) отраслях производства, о том, как «индустрия» рассеялась «под деревенскими кровлями» [137].
Каков был заработок деревенских рабочих?
Всем, занимавшимся историей рабочего класса в XVII–XVIII вв. (не только во Франции, но и в других странах), известно, как трудно вычислить сколько-нибудь точно реальный дневной заработок рабочего, получающего не поденно (à la journée), a сдельно (à la tâche). Особенно это применимо ко всем отраслям текстильной индустрии, т. е. именно той промышленности, которая была больше всего распространена во французской деревне в XVIII в. Это трудно, даже если есть достаточно данных о том, сколько предприниматель платил рабочему за известное количество материи; но в наших документах даже и этих данных немного. Мы уже не говорим, что совершенно немыслимо высчитать, сколько в среднем зарабатывала мануфактурным трудом в той или иной местности крестьянская семья, работавшая непосредственно на рынок или на потребителя-заказчика. Но даже когда речь идет о работе крестьянина на предпринимателя, и то сдельная оплата ставит огромные затруднения для исследователя, желающего уяснить себе, сколько рабочий получал в день, и не знающего сколько дней рабочий работал над данным куском материи. Тем интереснее привести здесь очень скудные, но все же попадающиеся кое-где в документах и показаниях современников данные, которые могут пролить некоторый свет в эту темную область. Лишь очень редко и случайно люди XVIII в. определяли сами цифру дневного, а не сдельного заработка рабочего, занятого в текстильной индустрии. Этих отрывочных и случайных показаний слишком мало, но только они и имеют для нас реальный смысл.
Нужно прежде всего отметить, что из двух главных категорий лиц, работающих в текстильной индустрии, прядильщики и пряхи рассеяны по деревням, иногда на очень далеком расстоянии от промышленного центра округи, а ткачи чаще живут либо в том месте, где живет предприниматель, либо в соседних деревнях. Дело объясняется в некоторых документах тем, что ткачи нуждаются в большей технической подготовленности [138]: знающие это дело, естественно, уже меньше чувствуют себя связанными с землей, им более сподручно работать неподалеку от своих заказчиков, владельцев мануфактур, да и хозяину необходимо иметь возможность непосредственно наблюдать за фабрикацией в этой ее стадии.
Заработная плата ткачей довольно резко поэтому разнится от платы, получаемой прядильщиками и пряхами.
Средний заработок французского рабочего мануфактуры Артур Юнг считает равным 26 су в день, женщины-работницы — 15 су, прядильщиков и прях — 9 су. К сожалению, Артур Юнг по своему обыкновению дает лишь конечный вывод, и мы совершенно не можем судить о том, насколько полны и доброкачественны были его материалы, которые он упорно не желал приводить в своей книге. Эта фраза: «the notes I took are too numerous to insert», повторяется у него постоянно там, где речь идет о данных, касающихся заработной платы [139]. Обратимся к документальным свидетельствам. Современники считали, что (в конце 1780-х годов) нормандская пряха зарабатывала около 20 су в день [140]. Лучшие ткачи в Пикардии зарабатывали в 80-х годах XVIII в. от 8 до 10 су в день, пряхи — 5 су в день [141]. К концу революционного периода плата в этом районе для ткачей сильно повысилась, даже если принимать во внимание вздорожание припасов; для прях — тоже повысилась, но в меньшем размере. Согласно показаниям префекта Dieudonné, в конце Директории и при Консульстве рабочие в Северном департаменте, работавшие в хлопчатобумажных мануфактурах, получали поденно от 1 франка 10 сантимов до 1 франка 30 сантимов, а наиболее способные и прилежные вырабатывали даже от 1 франка 50 сантимов до 2 франков 50 сантимов, иногда и до 3 франков в день. Дети от 6 до 12 лет зарабатывали от 30 до 75 сантимов в день, а работая поштучно (такая работа давалась детям, начиная лишь с 12 лет), могли заработать даже от 90 сантимов до 1 франка 10 сантимов [142]. Пряха в том же районе, занимавшаяся пряжей льна, зарабатывала от 30 до 60 сантимов в день [143].
На юге уже в 1779–1789 гг. заработная плата была гораздо выше, чем в Пикардии.
«Высчитывают, что ткач зарабатывает от 20 до 25 су в день, а пряхи — от 5 до 8 су, но нужно заметить, что эти рабочие всегда посвящают некоторое время своим домашним делам, а женщины занимаются и хозяйством; они кажутся довольными и существуют», — читаем мы в докладе инспектора провансальских мануфактур Сен-Поля [144].
Заметим кстати, что помещики в Провансе с давних пор недоброжелательно смотрели на индустрию, «отнимающую рабочие руки от земледелия», и еще в 1780 г. были этим очень недовольны [145]. И в эпоху революции они не перестают жаловаться на то, что не хватает рабочих рук. В тех местностях Прованса, где еще не было мануфактур, землевладельцы прямо боялись распространения привычки к индустриальному труду среди крестьянского населения и готовы были всячески этому препятствовать [146].
Это недоброжелательство крупных землевладельцев к сельской индустрии наблюдается и в Лангедоке.
По данным интенданта Балленвилье, относящимся к 1788 г., ткачи, занятые в шерстяной промышленности, зарабатывали в Лангедоке от 20 до 30 су в день; занятые выделкой более тонких сукон (в городе Каркассоне) — до 40 су в день; занятые в бумагопрядильной промышленности — 25–30 су в день; прядильщики — около 20 су в день; женщины-пряхи — от 6 до 12 су в день [147]. По его же данным, плата сельскохозяйственному рабочему была равна в среднем (кроме окрестностей Нима, где плата — 26 су) 12–18 су, доходя летом, во время сбора жатвы, до 36–40 су в день; женщины зарабатывали от 7 до 15 су в день. Мы видим, что мануфактурная работа недаром соблазняла деревенское население Лангедока настолько, что землевладельцы не переставали и до, и во время революции жаловаться на недостаток рабочих рук. Замечу, кстати, что, по-видимому, вражда землевладельческих слоев Лангедока к мануфактурной деятельности, широко развитой среди населения страны, ведет свое начало с очень отдаленных времен. Первое (по времени) проявление этой вражды, которое мне удалось найти, относится к 1727 г., когда провинциальные штаты Лангедока жаловались, «что фабриканты их провинции слишком много предаются фабрикации сукон для Леванта, отчего происходят большие неудобства», и одним из этих неудобств штаты считали то обстоятельство, что «в местах производства не хватает рабочих для возделывания земли» [148]. Эти же жалобы повторяются несколько раз на протяжении XVIII в., вплоть до революционного периода.
Недостатком рабочих рук для земледелия, грозящим земледелию в будущем от развития мануфактурного труда, обеспокоены и на севере, в Амьене: «Bientôt tout sera rempli de fabricants. La manufacture s’étendra de proche en proche; elle gagnera tous les jours de nouveaux sujets, et la terre perdra tous les jours des cultivateurs». Как это случится? Более богатые крестьяне продадут скот, купят станки и сделаются хозяевами; более бедные поступят к ним в рабочие. Земледельческий рабочий получает всего 12–15 су в день, а рабочий на мануфактуре — 15, 20, 25 су: «il est donc plus avantageux d’être fabricant que cultivateur» [149].
Этому удивляться нечего: y нас относительно Пикардии «есть показание, относящееся к 1777 г. и говорящее нам, что за последние 50 лет заработная плата в сельском хозяйстве не увеличилась, тогда как жизнь вздорожала вдвое [150].
В Лианкуре (в 1784 г.) ткач зарабатывал 6 ливров в неделю, пряха — 3 ливра, т. е. мы видим те же цифры, что приводит Сен-Поль относительно Прованса; эти цифры даются одинаково как для рабочих, выделывающих сукна, так и полотно [151].
Приблизительно те же показания относятся и к центральной Франции. Прядением больше всего занимались именно женщины, в центральной области Франции пряхи получали 10–12 су в день (в 1789 г.), а мужчины-прядильщики — 24–30 су (1 ливр 4 су — 1½ ливра) [152].
Мы видим, что средний уровень заработка ткачей весьма невысок даже сравнительно с заработком, например, каменщиков и плотников; заработок прях совсем ничтожен. Недаром власти приписывали, как сказано, огромное значение деревенской индустрии, в смысле общего удешевления заработной платы. Этот заработок являлся (хотя и не всегда, но в большинстве случаев) не единственной статьей дохода деревенского ткача или пряхи; у них были [и другие] ресурсы, которых городскому рабочему недоставало.
4
Документы по большей части официального происхождения, на основании которых мы стараемся понять индустриальную деятельность французской деревни, говорят очень мало о предмете, который представляет громадный исторический интерес: о том, как организована была промышленная жизнь в деревне. Какой путь проходил продукт, вышедший из хозяйства производителя, пока он попадал в хозяйство потребителя? Насколько был распространен наемный труд сравнительно с трудом самостоятельного производителя, работающего за свой счет? Отчасти на эти вопросы, например на последний, современники и не могли ответить; мы видели уже, что инспектора мануфактур прямо уклонялись от каких-либо сообщений статистического характера; отчасти же эти вопросы не интересовали тогда ни общество, ни правительство, ни агентов правительства. Тем не менее из очень немногих, беглых и небрежных замечаний, брошенных в официальной переписке последних лет старого режима, а также из очень редких свидетельств другого рода можно убедиться, что французская деревня работала и продавала свой товар не по одному шаблону. Некоторое разнообразие типов промышленной организации в отдельных провинциях не подлежит сомнению.
Документы не позволяют нам и думать о составлении, так сказать, географической карты распределения этих отдельных типов деревенской промышленности во Франции XVIII в.: не говоря уже о крайней скудости указаний, сюда относящихся, все эти формы часто существовали рядом, в одних и тех же провинциях.
Все, что мы можем сделать, это отметить их существование и привести пояснительные примеры.
А. Ремесло
Современная экономическая наука признает одной из простейших и древнейших форм промышленной деятельности (предшествующих возникновению домашней промышленности в точном смысле слова) такой порядок вещей, когда между потребителем и производителем существуют прямые сношения без каких бы то ни было посредников, причем производитель работает всякий раз по специальному заказу потребителя.
Индивидуализация потребителя — коренная черта этой формы промышленной жизни.
Если при этом производитель работает при помощи собственных орудий производства и над принадлежащим ему (а не заказчику) сырьем, то мы имеем дело с ремеслом, в точном смысле слова, Handwerk — по терминологии Бюхера [153]. Существовала ли эта форма промышленного труда во французской деревне XVIII в.? Встречалась ли она в области именно текстильной промышленности? Бесспорно.
Инспектор мануфактур области Caen сообщает интенданту торговли (в 1780 г.), что во всех городах и деревнях этой области существуют такие «фабриканты» полотна, которые работают прямо на заказ, без всяких посредников, и граждане области (les bourgeois de généralité) даже привыкли именно путем таких заказов приобретать нужное им полотно [154].
Можно было бы насчитать еще несколько местностей (например, généralité de Montauban), где тоже была довольно распространена эта форма промышленности. Но, насколько можно судить по оставшимся документам, этот тип уже исчезал и уступал место более сложным формам.
Впрочем, относительно одной из центральных провинций есть показание вполне определенное. Во всей провинции Пуату организация полотняной промышленности такова: «буржуа», частные лица, заказывают ткачам, разбросанным по городам и деревням провинции, то, что им нужно для личного потребления; никакие правила при выделке материи тут не соблюдаются, и все делается «по фантазии» [155] заказчиков и самих ткачей. Это господствующая в провинции форма производства. Существуют, правда, там и такие ткачи, которые имеют несколько станков, работают не по специальному заказу, а на (рынок (и у которых есть свои наемные рабочие), но их «очень мало» вследствие полной финансовой беспомощности большинства [156].
Б. Домашняя промышленность
Следующей стадией является та, которая характеризуется работой производителя не на определенного потребителя, а на рынок. Товар здесь тоже переходит непосредственно от производителя к потребителю, но потребитель остается неизвестен производителю, пока не наступил момент продажи; работа рассчитана на неиндивидуализированного покупателя.
Мы находим во Франции XVIII в. разнообразные формы домашней промышленности, которые сводятся к четырем категориям.
1. В Бретани в большинстве округов в свободное от полевых работ время крестьянская семья, имела ли она земельную собственность или арендовала ее, пряла и ткала шерстяные материи и полотна, и то, что оставалось за покрытием собственных потребностей в белье и одежде, крестьянин продавал на рынке в Ренне и других городах [157]. То же самое мы видим в некоторых местностях Пикардии, Фландрии, Эно (Hainault), Камбрези, также в обширной области, экономическим центром которой был Saumur, и т. д. Это, по-видимому, одна из распространеннейших форм промышленной жизни во французской деревне конца XVIII столетия.
2. Весьма распространен был и другой тип: мы говорим о том, когда между производителем и рынком есть посредник, фабрикант или скупщик — все равно.
«Фабрикант» (причем слово это в документах употребляется в целом ряде случаев для обозначения мелкого предпринимателя), живет ли он в деревне или в городе, дает заказ крестьянину, работающему у себя на дому, причем иногда дает ему материал (matières premières), а иногда крестьянин работает над собственным материалом. Иногда посредником между крестьянином и рынком является не «фабрикант», дающий заказ, а торговец, скупающий товар и продающий его потребителю.
Этот тип отношений в некоторых местностях встречается наряду с предшествующим типом, а в других мы видим, что он уже вытеснил предшествующий тип и царит нераздельно.
В западной Франции мы застаем в конце XVIII столетия двоякую форму промышленной организации.
В Вандее центром торговли и промышленности в конце XVIII столетия был город Cholet, но почти все поселки на 6 лье в окружности работали на рынок или на негоциантов, дававших им определенные заказы. Пряжа льна, пряжа хлопка была широчайшим образом распространена в этой части Вандеи. В конце XVIII столетия в этом районе мы видим сосуществование двух типов домашней промышленности: производитель выносит продукт на базар, работая на неопределенный рынок, и рядом продукт скупается на дому у производителя торговцем, который заказывает известное количество товара (но не дает при этом ни материала, ни, конечно, орудий производства) [158].
Такое же сосуществование двух типов промышленной жизни мы наблюдаем и на севере Франции.
Одной из самых промышленных частей Франции, конечно, была (и до сих пор осталась) северо-западная область, которая до революции разделялась на пять провинций (Hainault, Flandres, Artois, Cambresis, Picardie), a теперь обнимает департаменты: Северный, Арденский, Па-де-Кале, Соммы, Эны-и-Уазы. Города Амьен, Камбре, Валансьен, Лилль были главными центрами производства тонких полотен, газовых материй, кружев и так далее (еще в XIII столетии житель области Камбрези, крестьянин Baptiste Cambray, научил своих односельчан выделке полотняной материи, названной в честь его батистом). Вся эта область работала и на внутренний, и на заграничный рынок, и, казалось бы, что если где можно ожидать встретить мануфактуру нового типа, «la fabrique réunie» не в виде исключения, а в качестве явления распространенного, то именно здесь. Но документы и тут категорически опровергли бы нас, если бы мы вздумали на основании априорных соображений это утверждать.
Вот как описывают организацию промышленного производства во всей этой огромной области члены совещательного торгового бюро в городе Валансьене в своем докладе, поданном члену Конвента Пересу, состоявшему с чрезвычайными полномочиями при армиях — северной и Самбры-и-Мезы, représentant du peuple auprès de l’armée de Sambre-et-Meuze, и местным властям [159], летом 1795 г. Доклад говорит о положении промышленности до и во время революции. Авторы доклада полагают, что в общей сложности во всей этой части Франции, т. е. в Эно, Фландрии, Артуа, Камбрези и Пикардии, производство полотняных товаров всякого рода дает средства к существованию с лишком полутора миллионам лиц обоего пола: они считают всех занятых возделыванием льна, обработкой его и продажей [160]. Уже это смешение воедино хозяев, рабочих, купцов, продающих товар потребителю, земледельцев, продающих сырье мануфактуре, весьма характерно для эпохи, а дальнейшие разъяснения доклада показывают читателю весьма отчетливо, что самая организация производства такова, что подобное смешение не только извинительно, но и неизбежно.
Доклад говорит нам о «фабрикантах» и поясняет, что в данном случае под этим термином надлежит разуметь. «Фабрикант» имеет хоть один арпан земли, а на этом арпане у него есть и жилище, и мастерская, и конюшня для нескольких коров, для одной лошади или мула, огород, и еще остается «количество земли, достаточное для произрастания такого количества льна, какое может выпрясть многочисленное семейство и которое потом поступит в обработку к шести или восьми рабочим-ткачам» [161]. Итак, не выходя из дома, такой «фабрикант» получает готовый товар. Но этого мало: он же может стать и негоциантом, тоже не выходя из дома [162], а если уже ему покажется, что он, выйдя, может продать дороже, то «часто достаточно ему только перейти через улицу или сделать прогулку в несколько лье». «Voilà donc une fabrique indépendante», — заявляют авторы доклада: это производство развивается и совершенствуется «из собственного зерна» [163].
А между тем на этой скромной основе зиждилась колоссальная внешняя и внутренняя торговля, создавался такой прочный рынок, что он позднее всего стал сокращаться при революции [164]. Но крестьянин тут продает не только местному потребителю: во всем этом громадном районе оперируют скупщики, представители торговых домов, продающих товар во Франции и за границей.
В других местах крестьянин уже работает исключительно на посредника-фабриканта (причем это слово употребляется уже в смысле предпринимателя) или на скупщика.
Вот организация громадного полотняного производства в Нормандии, которое местная инспекция мануфактур считала самым значительным в королевстве; производство это отчасти сосредоточивается возле Руана, отчасти разбросано по другим городам и деревням. Но даже руанские фабриканты большую часть работы отдают в деревни, и вовсе не только в соседние деревни, и даже не только в деревни руанской généralité, а в деревни и других областей Нормандии; так что на 727 руанских фабрикантов работают люди, рассеянные по громадной стране. Но руанское производство менее значительно, нежели производство маленьких городов, местечек и деревень остальной области: тут уже инспекция мануфактур отказывалась подсчитывать не только рабочих, но и хозяев, дающих заказы [165]. Мелкие предприниматели обыкновенно продают здесь товар непосредственно потребителю.
Это широко распространенный тип промышленной организации, встречающийся и на востоке (в седанской области), и на западе (в Гиени), и в других местах.
Во Франш-Конте, где индустрия в общем развита весьма слабо (особенно в плодородных округах) [166], тоже деревня работает на немногочисленных «фабрикантов» Безансона, Бома (Beaume), Лон-де-Сонье, занятых выделкой и продажей шерстяных и полотняных изделий.
В области городов Олорона и Saint-Gaudens вся индустриальная деятельность находит сбыт в этих двух городах — Олороне и Сен-Годансе, но «мануфактуры» разбросаны по городам и деревням всей области [167]. Крестьяне работают на «фабрикантов», которые продают товар потребителям.
Наряду с «фабрикантом», дающим крестьянину заказ и продающим товар публике, выступает часто и другой посредник: торговец, коробейник, le marchand qui court les provinces, непосредственно скупающий у крестьянина его изделия и продающий их публике. Что не продавалось на местах, то развозили коробейники по провинциям. Les marchands qui courent les provinces были обычным явлением, особенно на севере и западе Франции, в Пикардии [168], в Бретани [169].
С точки зрения типа экономической организации все эти разновидности суть явления одной и той же категории: продает ли крестьянин свой товар «фабриканту», который дал ему заказ, или коробейнику, который является к нему на дом и просто покупает у него то, что найдет по вкусу, все равно крестьянин работает здесь не непосредственно на рынок, а на посредника, который стоит между ним и рынком.
Можно отметить и дальнейшее развитие только что описанного типа.
Кроме коробейников, мелких торговцев, в деревню обыкновенно к местным мелким предпринимателям, а уже не просто к крестьянам, работающим за свой счет над выделкой шерстяных, полотняных или хлопчатобумажных материй, проникают так называемые négociants-commissionnaires, т. е. приказчики торговых фирм. Это явление наблюдалось и в северном промышленном районе: Пикардии, Фландрии, Hainault, округе Бове (Beauvoisis), области Камбре, и в северо-западном (в Нормандии) и в особенности в южном (Лангедоке).
Здесь перед нами открывается картина дальнейшего усложнения промышленной организации, удлинение пути, который проходит продукт, вышедший от производителя, пока попадет к потребителю.
Крестьяне Севенских гор, крестьяне деревень, лежащих в области городов Sommières и Anduze (в Лангедоке), работают над выделкой шерстяных материй (так называемых molletons), в области Bas-Vivarais — над более грубыми сортами сукна (cadisserie); они всецело заняты этим делом в названных округах, и интендант Балленвилье даже противопоставляет их крестьянам других, более плодородных частей Лангедока (Gevaudan, Haut-Vivarais), где население занимается отчасти мануфактурным трудом, отчасти земледелием. Все эти крестьяне в большинстве случаев работают на фабрикантов (так именно здесь чаще всего называются деревенские предприниматели); но сами фабриканты не сбывают товар непосредственно публике, а продают его целиком комиссионерам купцов, которые сбывают купленную материю отчасти в самом Лангедоке, отчасти же в других провинциях Франции. И эти фабриканты находятся всецело в зависимости от «комиссионеров» [170]. Тут в области деревенской индустрии мы встречаемся с порядком вещей, который ближе известен по организации шелкового производства в Лионе. Конечно, в смысле классификации этот порядок вещей является лишь дальнейшим развитием того типа, который был перед этим отмечен нами.
Хотя, как было уже указано в начале этой главы, термин le fabricant иной раз обозначает в наших документах рабочего или самостоятельного производителя, а иной раз предпринимателя, но в каждом случае значение термина поясняется текстом, так что почти всегда возможно безошибочно отнести описываемую форму производства к определенному типу.
Так как подобная организация сбыта была очень сильно распространена, особенно в некоторых областях Лангедока, то интендант провинции Балленвилье разъясняет нам точный смысл термина négociants-commissionnaires или только commissionnaires: это лица, скупающие товар по поручению богатых торговых домов и для этой цели объезжающие города и деревни. Заметим, что и они скупают деревенский товар вовсе не всегда затем, чтобы его немедленно продать публике: они отвозят материю в те места, где есть красильни, где есть мастера, которые заняты окрашиванием сработанной «белой» материи, и продают свой товар этим промышленникам, а те уже пускают в продажу окрашенную материю [171]. Бывает и так, что купцы только дают этим teinturiers заказ произвести над материей указанную операцию, а затем уже сами сбывают товар потребителям. Мы видим таким образом здесь уже довольно сложную сеть торгово-промышленной организации.
3. Как ни отличны друг от друга указанные только что типы предпринимателей, встречающиеся во французской деревне в конце XVIII столетия, одна общая черта характеризует их всех: сырье принадлежит производителю. Но рядом можно отметить третий тип: сырье дается предпринимателем («фабрикантом» или купцом) для обработки деревенскому рабочему. Эта форма промышленной деятельности встречается, например, в Лимузене — в провинции, где в некоторых приходах процветала выделка всех сортов полотна (особенно грубого): рядом с крестьянами, работающими над своим льном, есть другие, получающие материал от предпринимателя [172]. В седанской области предприниматели давали выписываемую ими из Испании и других мест шерсть отчасти пряхам и прядильщикам соседних деревень, а отчасти даже за границу (в Люксембург), и затем пряжу давали ткачам, жившим как в Седане, так и опять-таки в деревнях.
Чаще всего, конечно, этот строй отношений встречается в местностях, где население было занято бумагопрядильным промыслом (filature de coton): хлопок получался фабрикантами из колоний и раздавался для прядения крестьянам. Так обстояло дело в Турэни, в местности, тяготевшей к городу Cholet, который славился выделкой бумажных платков (mouchoirs de coton) [173]. То же самое мы видим и в орлеанской области (Orléanais), где хлопчатобумажная мануфактура (Brodes) в городе Saint-Dye раздавала сырье для обработки населению деревень [174]. Это же явление наблюдается и в Пикардии, и в Лангедоке, словом, всюду, куда только проникла в последней трети XVIII столетия бумагопрядильная индустрия. Хозяйственные операции предпринимателя состояли: 1) в покупке хлопка; 2) отдаче его в об работку крестьянам; 3) в окончательной переработке пряжи (окрашивании и т. п.) и 4) продаже товара.
Город Труа (в шалонской области) славился полотняным производством, которое считалось «бесспорно, одним из самых интересных в королевство по количеству и качеству фабрикуемых материй и по размерам заграничного сбыта» [175]. Как же было организовано это производство? В Труа существовало и последние годы старого режима 420 хозяев, располагавших двумя тысячами станков, на которых работало 2 тысячи «рабочих ткачей», а, сверх того, на этих 420 хозяев работала масса прях, белильщиков и так далее, так что инспектор мануфактур считал в 1782 г., что всего занято этим производством 24 тысячи человек. Эти 24 тысячи разбросаны по деревням: население в округе столь многочисленное, а земля настолько неплодородна, что оно не могло бы прокормиться одним только земледелием [176]. Во всех городах этой области — в Жуанвиле, Вокулере, Шомоне — то же самое: «соседние» или даже более далекие деревни работают на «фабрикантов» этих городов, преимущественно в зимние месяцы, когда нет полевых работ [177]. Но материал — леи, хлопок — доставляется им хозяевами [178].
4. Основываясь на том, что некоторые предприятия, например, аббевильские и амьенские мануфактуры на севере, седанские — на востоке иногда давали работавшим по их заказу крестьянам соседних деревень не только сырье, но и станки (métiers), можно было бы утверждать, что, кроме перечисленных трех типов домашней индустрии, французская деревня знала еще и четвертый, который характеризуется именно отсутствием у производителя не только сырья, но и орудий производства.
В первые десятилетия X (X в. уже стал широко распространенным явлением (например, в департаменте Соммы) такой порядок вещей, когда фабрикант давал ткачу и орудия производства, и материал для работы на дому [179]; но в XVIII в. этот вид домашней промышленности еще сравнительно редко встречался.
Принимая во внимание относительную примитивность техники во всех отраслях тогдашней французской текстильной промышленности (особенно в полотняном и шерстяном производстве), нельзя, впрочем, удивляться тому, что документы почти ничего не говорят нам о случаях, которые можно было бы подвести под эту категорию.
Таковы типы промышленной деятельности, которые можно подметить во французской деревне в последние годы старого режима. Их пять: ремесло и четыре разновидности домашней промышленности. Мы расположили их тут в порядке возрастающей сложности (четвертый и пятый типы, т. е. третья и четвертая разновидности домашней промышленности, отличаются от первых трех весьма важной чертой и вместе с тем они должны занять место после третьего типа, если даже считаться только о с основным признаком классификации: удлинением пути, который проходит товар, прежде чем попадет в руки потребителя).
Все эти формы промышленной организации являются (кроме (ремесла) подразделениями домашней индустрии: господство домашней индустрии и есть, следовательно, коренная черта всей промышленной жизни сельской Франции в конце XVIII столетия.
5
Если бы документы удостоверили нас только в таком громадном распространении деревенской индустрии, как констатированное выше, и если бы никаких дополнительных сведений мы не могли из них извлечь, то и тогда мы имели бы право a priori предполагать, что этот факт должен был оказать весьма серьезное воздействие на всю экономическую жизнь Франции.
Это воздействие не могло выражаться в резкой заметной форме, оно не могло вызывать такие события, какие порождает, например, борьба труда с капиталом, даже не слишком обостренная; после всего сказанного выше незачем распространяться, почему в сфере деревенской индустрии XVIII в. немыслимы были даже такие проявления стачечного движения, какие уже известны были городам в это время.
Этим отсутствием ярких событий, ярких проявлений борьбы объясняется и то обстоятельство, что весь процесс ускользнул от внимания публицистов XVIII в. Правительство, осведомляемое, как свидетельствуют наши документы, инспекторами мануфактур, могло видеть, что неминуемая гибель идет на регламентацию именно из деревни. Но говорить об этом вслух оно, конечно, не желало, а кроме него никто на это обстоятельство не обратил внимания. И при все возраставшем движении общественного мнения против регламентации производства в литературе конца XVIII в. совсем проглядели тот имевший колоссальное значение факт, что самую упорную и самую победоносную войну против регламентации вело вовсе не «крупное производство» и вовсе не городские промышленники, а деревенские производители. Тут повторилось явление, отмеченное по другому поводу историком французских крестьян [180]: конкретная действительность иногда ускользала от публицистов и теоретиков этой блестящей эпохи французской мысли.
Резкой, шумной борьбы не было, но деревенская индустрия самым фактом своего существования и распространенности, без резких слов и насильственных действий, молчаливо и быстро подтачивала и разрушала два главных установления тогдашнего экономического быта: цеховую организацию и регламентацию промышленности. И это — не априорное соображение: документы говорят нам об этой стороне влияния деревенской индустрии с такой отчетливостью, которая не оставляет ничего и желать [181].
Час пробил для цехов не 2 марта 1791 г., когда Людовик XVI подписал закон, уничтожавший их, а 7 сентября 1762 г., когда Людовик XV легализовал «деревенских фабрикантов», совершенно не зависимых от какой бы то ни было цеховой организации. Ceci tuera cela, можно было уже тогда предсказать, и представители цехов за время царствования Людовика XVI, по-видимому, ясно это понимали. Нельзя было рядом со стесненной всякими обязательными правилами промышленностью позволить свободно развиваться другой промышленности, чуждой каких бы то ни было уз. Деревенские «фабриканты» de jure были подчинены такой же регламентации производства, как и цеховые, но de facto первые ей вовсе не подчинялись, а вторые не так легко могли уклониться от исполнения этих правил.
В городе Мансе (в généralité Турской) городские цеховые суконщики и фабриканты полотна просят (в 1784 г.), чтобы и их избавили хоть от некоторых стеснений, ибо деревенские фабриканты никаких правил не соблюдают, а имеют обеспеченный сбыт. Мало того, деревенская индустрия могущественно влияет на изменение торговых путей, на падение одних рынков и возвышение других. «Нужно, милостивый государь, сообщить вам, как эта торговля полотнами происходит, — пишет интенданту торговли инспектор мануфактур области Тура [182], — вы, может быть, думаете, что фабриканты принуждены являться и представлять свои полотна в бюро для осмотра и пометки. Торговцы, купцы и комиссионеры являются в деревни, с деньгами в руках, к фабрикантам и рабочим, покупают у них их полотна, забирают товар лучшего качества, не подвергшийся ни осмотру, ни пометке, и оставляют лишь брак и товар дурного сорта. Вследствие этих действий рынки полотна, установленные в местах, где находятся бюро (для осмотра), сильно падают… а скупщики лучших полотен в деревнях… устраивают склады и затем предписывают законы публике и всей торговле» [183]. Рынки официальные уступают место новым, и, конечно, в решительном убытке оказываются городские цеховые фабриканты, производство которых приурочено к старым, официальным рынкам. Инспектор полагает, что нужно строжайше воспретить скупщикам ездить по деревням и скупать непомеченные полотна, иначе существованию всякого контроля грозит гибель [184].
Ничего в этом смысле по могло быть сделано и не было сделано. Но, конечно, сами власти не имели никакого основания рассчитывать, что городские фабриканты будут в таком случае разоряться, исполняя правила, на которые их конкуренты не обращают внимания.
Жалуются на коробейников (и совершенно безуспешно) вообще цеховые купцы центральной области. Купцы города Майенна (в Турэни) просят у властей защиты от этих опасных конкурентов, продающих полотно по домам, на улицах, в харчевнях, в неуказанные дни и часы [185]. Подобное явление замечается и в области города Cholet, к которому тяготела не только Вандея, но и западная часть Турэни [186].
Таким образом, деревенская индустрия подрывала в корне не только регламентацию производства и не только городские промышленные цехи, но и цехи чисто торговые. В ряде местностей на севере и в центре Франции коробейники покупали непосредственно у деревенского «фабриканта» его товар и развозили по стране. В Алансоне и алансонской области мы встречаемся с тем же самым явлением. Кочующие, вне города живущие купцы подрывают страшно торговлю, которую ведут городские негоцианты, торгующие суконными материями и имеющие свой особый цех. Себя, «marchands domiciliés», они противополагают этим вольным конкурентам, «marchands forains», которые покупают «неправильный товар» (т. е. не удовлетворяющий требованиям регламентации сукна) и с большим успехом продают ею потом. «Оседлые» цеховые купцы жалуются на «подавляющее их уныние» и просят защиты от счастливых соперников, указывая, что ведь они несут и налоги общие, и налоги цеховые [187]. Единственным выходом в глазах цеховых мастеров являлось уклонение per fas et nefas от требований регламентации.
Точно так же дело обстоит и на северо-западном конце Франции, в Бретани; в Нанте существует цех суконщиков, специально делающих саржевые материи; они прежде исполняли требуемые правила, но с 1762 г., узаконившего индустриальную деятельность деревенских жителей вне цеховой организации, они, по примеру своих деревенских собратьев [188], перестали накладывать на свой товар фабричное клеймо «marque de fabrique», другими словами, избавили себя от требований регламентации.
Полотна бретонские, выделывавшиеся во всей провинции, больше всего в деревнях, также совершенно ускользали от надзора, и недаром сознававшая свое бессилие инспекция мануфактур этой провинции просила о новом регламенте специально для бретонских полотен и холстов и в своих проектах предлагала категорически «воспретить» покупать эти материи «под каким бы то ни было предлогом» в деревне и вообще где бы то ни было, кроме указанных рынков [189]. Проекты так и остались проектами, а регламентация так и продолжала оставаться мертвой буквой; и не только потому, что правительство не могло осуществить подобных драконовских правил, но и потому, что не хотело это сделать, не хотело ни подрывать в корне крестьянский бюджет, ни увеличивать заработную плату в городах. И сами представители инспекций все это отлично понимали и решительно не знали, что им делать: преследовать ли крестьян, которые кормятся индустрией, или же оставить их в покое и спокойно смотреть, как закон ежедневно попирается [190]. Впрочем, эти колебания разрешались довольно просто явной физической невозможностью ни контролировать деревенских «фабрикантов», ни знать их по имени, даже при всем желании настоять на исполнении требований [191].
Оставалось признать свое полное бессилие, что инспекция и сделала: «неисполнение правил» стало «принципом фабрикантов», продающих купцам свои товары, никем не осмотренные [192], и инспекция с этим примирилась. Но тогда оставалось примириться и с тем, что и в городах никто с регламентацией считаться больше не станет.
Выше мы упоминали о старинном производстве металлических предметов (особенно ножей), которыми с XVI в. славились деревни области города Тьера в Оверни. Тут мы наблюдаем ту же картину, что и в текстильной индустрии: регламент существует, но деревенские «фабриканты» его знать не хотят, а городские жалуются и просят избавить ввиду этого и их от исполнения предписанных законом правил. Деревенские «фабриканты» представляют большинство, городские — меньшинство, говорит нам мемуар инспектора мануфактур за 1777 г., заставить это большинство исполнять правила он не советует, значит остается один логический вывод: примириться с фактическим уничтожением регламента также и в городе. Этот логический вывод инспектор овернских мануфактур и делает. Он приходит к мысли об уничтожении и цеха кожевщиков и правил, обязательных для производства [193].
Изредка еще в последние годы старого режима инспектора мануфактур арестовывали «незаконные» материи, случайно где-нибудь их увидев (причем владельцы приводили в свое оправдание, например, то обстоятельство, что бюро осмотра слишком далеко находится) [194]; но и тогда фактически штраф, налагаемый на виновных, сводился к нулю [195]. Но в подавляющем большинстве случаев инспектора видели полную невозможность бороться с нарушениями регламентации.
Инспектор мануфактур шалонской области, ревизовавший в 1782 г. хлопчатобумажные и полотняные мануфактуры в Труа (одном из центров текстильного производства Франции), констатирует господство «произвола», отсутствие соблюдения предписанных правил, несмотря на существование в городе bureau de visite с 24 чиновниками [196]. А» городах поменьше, занятых главным образом полотняным производством, например, в Жуанвиле (в той же шалонской области), даже нельзя сказать, что правила плохо соблюдаются: они там вовсе не соблюдаются, ибо фабриканты представляют в местное бюро для осмотра лишь ничтожнейшую часть фабрикуемых полотен, но и эта «ничтожнейшая часть» не регистрируется, не осматривается как следует вследствие небрежности и недобросовестности чиновников. Ревизор все это констатирует, говорит, что «увещевал» фабрикантов и чиновников быть впредь более аккуратными, но сам прибавляет, что плохо надеется на результаты своих увещаний [197].
Сведущие наблюдатели, вроде Latapie (от которого сохранилась объемистая рукопись, посвященная описанию промышленности в руанской области), еще в 1773 г., при Людовике XV, когда правительство и не помышляло об отмене или даже сокращении числа старых регламентов, заявляли прямо, что на правила не обращается внимания [198].
Это явление, особенно в текстильной индустрии, господствовало, еще когда существовала в полной силе регламентация промышленности, и власти должны были следить за тем, чтобы выделываемые ткани удовлетворяли определенным требованиям; сведущие люди прямо считали этот надзор явлением иллюзорным, ибо за деревенскими работниками уследить было невозможно. Но, констатируя это, приверженцы регламентации соглашались, что деревенская работа заработную плату вообще снижает в текстильной индустрии, а кроме того, служит серьезным подспорьем для крестьян [199]. Выходило, что уничтожить деревенскую индустрию невозможно. Но, терпя ее существование, нужно было примириться и с фатальными для регламентации последствиями этого факта.
Город легче было заставить повиноваться законам о цехах и о регламентации производства, чем деревню, но деревня влияла на город и подрывала уважение к этим законам также и в городах.
На юге вообще преобладание деревенской индустрии было выражено особенно ярко, и именно тут и цехи, и регламентация производства были совершенно подорваны еще до революции. В городе Монтобане, например, по признанию интенданта, «только ремесленники вроде столяров, сапожников, токарей» были подчинены цеховой организации, а вся промышленность в точном смысле слова («la fabrique») и прежде всего все отрасли текстильной индустрии совсем не знают ни цехов, ни каких бы то ни было стеснений [200]. И это весьма понятно: Монтобан — типичный «промышленный» город старой Франции; самый многочисленный слой населяющих его «фабрикантов», это люди, которые живут в городе или городских предместьях, работают понемногу, ибо не могут устроить «мастерскую, достойную внимания», и одновременно занимаются земледелием или лесоводством, или выделкой кирпичей и тому подобными промыслами, близкими земле. Это промежуточный слой между деревенскими «фабрикантами» и городскими: через их посредство влияние деревни и передается в город [201].
Правда, в области Монтобана власти заботятся больше всего о том, чтобы хоть в главном городе заставить соблюдать правила; они надеются повлиять таким путем на деревню и «на другие места производства, где самые полезные правила совершенно забыты» [202]. Но эти старания были тщетны: не город влиял на деревню, а деревня — на город и в смысле обратном тому, как это было бы желательно администрации.
Это влияние деревни, разрушающее регламентацию, отмечается инспекцией и в Нормандии. Уклоняются от исполнения правил, регламентирующих промышленность, также и нормандские «деревенские фабриканты». Руанская инспекция жалуется на это и указывает, насколько подобный «беспорядок» подрывает интересы других «фабрикантов», которые добросовестно исполняют правила; дело доходит до того, что из-за этого и в городах, и в предместьях правила начинают нарушаться вполне «открыто» [203]. А между тем именно деревня производит во всей этой области не только грубые, но и самые тонкие сорта полотняных и бумажных материй [204]. 13 этом отношении нормандские фабриканты поставлены в лучшие условия, чем пикардийские, которые, как мы увидим, должны прибегать к помощи иностранцев. Но именно поэтому при неисполнении правил со стороны деревенских «фабрикантов» вся регламентация становилась мертвой буквой, ибо деревня давала тон всей промышленной жизни провинции.
В области, тяготеющей к городам Caen, Bayeux, Vire, Condé, Saint-Lô, Valognes, центром которой являлся Шербург, — области очень промышленной и торговой — никакой регламентации никто и знать не желает. Всякая передача ослабит впечатление, которое производит следующая жалоба инспектора мануфактур этой области (généralité de Caen), де Феррье. О том, что деревенскую индустрию (весьма значительную, особенно в полотняном производстве) ни учесть, ни проконтролировать он не в состоянии, об этом нечего и говорить, но и тут Деревня заражает неповиновением город: «… суконщики Шербурга… по примеру фабрикантов полотна абсолютно перестали повиноваться правилам. Беспорядок на шербургских фабриках Дошел до такой степени, что уже не существует более бюро для осмотра… путь мягкости и убеждения есть принцип, который всегда руководил нижеподписавшимся инспектором мануфактур, но его представления были так дурно приняты в Шербурге во время его последней поездки, что он не желает туда вернуться без точного приказания министра [205].
В областях алансонской, орлеанской, где тоже почти сплошь деревня работает на мануфактуры, — та же самая картина: «фабриканты» не желают подчиняться правилам, и тщетно инспектор мануфактур взывает к их «чувству долга» и даже напоминает о присяге. Специальное производство этих двух généralités — выделка камлотовых материй (étamines) — фактически все более и более ускользает от всякого контроля [206].
На западе, севере, юге, востоке — нигде деревенская индустрия не желает считаться с регламентацией производства.
В Бретани уже в первой половине XVIII столетия администрация не может заставить представителей деревенской индустрии повиноваться регламентам, установленным для текстильной промышленности [207]. Конечно, подавно и позже в Бретани, но утверждению главного инспектора мануфактур, никакие правила не исполняются [208].
Такая же «полная свобода» производства царила и во многих других местах, и чем более преобладала где-либо промышленная деятельность крестьянского населения над промышленной деятельностью населения городского, тем решительнее превращались все регламенты в мертвую букву. Например, интендант провинции Дофине Pajot, когда он должен был в 1778 г. ответить главному директору финансов, какого он мнения о проектируемом смягчении регламентации промышленности, по-видимому даже и вопроса вполне не уясняет себе: и в самом деле, о каком смягчении может идти речь, когда в его провинции уже больше полустолетия никаких правил и регламентов не соблюдается? Все купцы и фабриканты, с которыми он совещался, заявили ему, что суконное производство все обретается в деревнях, а не в городах, и что малейшее стеснение крестьян уничтожило бы эту весьма распространенную в провинции индустрию. И что любопытнее всего, они все (и сам интендант) не то что указывают на желательность свободы в будущем, а констатируют ее наличность в прошлом и настоящем [209] и на самый запрос о смягчении регламентации смотрят с тревогой и просят только оставить их в покое, ибо у них никакой регламентации нет. Так далеко отстал либерализм центрального правительства в этот медовый месяц деятельности Неккера от реальной жизни.
И вместе с интендантом весь торгово-промышленный мир Дофине просит, чтобы «деревенского фабриканта» оставили в покое, чтобы его «не пугали» правилами, которых он по безграмотности своей даже и прочесть не в состоянии, ибо, если деревня перестанет работать, — конец индустрии, так как вся работа производится крестьянами, в горах [210].
В лимузенской области, где тоже деревня участвует в производстве грубого холста и шерстяных материй, регламентации точно так же фактически упразднена. В Лимузене (точнее, в Haut-Limousin) не только пряхи и прядильщики, но и ткачи разбросаны по деревням; по большей части у них свои земли, и они только 5–6 месяцев в году занимаются индустриальной работой [211]. Одни ткачи работают за свой счет, другие — получают заказы и материал от хозяина. Не только никаких правил, существующих относительно выделки холста, они не исполняют, но, по мнению местного инспектора мануфактур (высказанному в 1780 г.), и немыслимо в Лимузене вводить какие бы то ни было правила, именно вследствие «разбросанности» производства по деревням [212].
Нужно сказать, что общее экономическое состояние Лимузена перед революцией известно науке лучше, нежели весьма многих других провинций Франции, так как именно Лимузеном — ближе всего занялся Лучицкий в своих создавших эпоху трудах по крестьянскому землевладению. Сопоставляя данные по Лимузену с данными по области Laonnois, Лучицкий отмечает между прочим «различие, которое можно охарактеризовать как вытекавшее из процесса последовательного и усиленного в одних областях и даже приходах, по сравнению с другими, отрывания бывшего земледельца только, земледельца и кустаря или только кустаря — от земли». Как и в других частях, более непосредственно относящихся к его теме, так и тут, в вопросе, лишь отдаленно ее касающемся, Лучицкий из добытого им же самим, извлеченного впервые сырья тотчас обращает внимание на главное: «сопоставляя данные таблиц о распределении собственности как в élection de Tulle и Brive, так и в Laonnois… процентные отношения количества лиц каждой группы сельского населения всех этих местностей, и именно процентные отношения количества владельцев либо дома, либо клочка земли менее одного арпана, нельзя не заметить параллелизма между фактом развития сельской кустарной промышленности, вовлечения сельского населения в развивающуюся сферу индустрии и фактом умножения числа лиц, едва обеспеченных в земельном отношении» [213]. Тут мы имеем не только блестящее подтверждение переданного выше мнения современников о связи развития сельской индустрии с недостаточностью доходов от земледелия, но и превосходное разъяснение, почему именно из Лимузена шло гораздо меньше жалоб на нарушение крестьянами правил регламентации, чем, например, из Нормандии или Пикардии, или Лангедока. Крестьянин в Лимузене работает прежде всего на себя и семью, когда изготовляет грубые шерстяные и полотняные материи; и любопытно, что именно пред самым началом революции о Лимузене совсем не говорят как о провинции, где деревня работает на продажу, тогда как еще в 1760–1775 гг. инспектора мануфактур отмечали, что в некоторых приходах этой области индустриальный труд есть единственное средство пропитания, и, бесспорно, в те годы население этих приходов работало не только на покрытие потребностей семьи в одежде, но и на продажу [214]. Таков факт. Что-то в Лимузене случилось в промежуток времени между 1775 и 1789 гг. А что именно, — на это можно получить косвенный ответ у того же Лучицкого, стоит лишь внимательно прочитать всю его книгу: «В период времени с 1779–81 гг. по 1791 год она (буржуазия — Е. Т.) не только продала все то, что было приобретено ею за это время от дворянства и других сословий, но еще [ею была] отчуждена и часть той земли, которая до 1779 г. составляла ее собственность. Она, таким образом, не только не работала на пользу концентрации земель, а, напротив, являлась одним из факторов размельчения их в Лимузене» [215]. Скупали же ее земли крестьяне. Еще больше земель сбыли с рук привилегированные, и прежде всего дворянство. «Таким образом, — заключает Лучицкий на основании колоссальной массы открытых и проанализированных им данных, — в выигрыше оказалось в Лимузене одно лишь крестьянское население» [216]. Это перемещение очень значительного земельного фонда в руки крестьян за последнее десятилетие старого режима и могло приостановить рост индустриальной деятельности в лимузенской деревне. Но до тех пор, пока деревенская промышленность в Лимузене еще держалась, они, как мы видели из вышеприведенного показания местного инспектора мануфактур, и здесь не подчинялась никаким правилам.
В земледельческой по преимуществу Гиени, во всей области между Гаронной и Пиренеями (как ее определяет инспекция мануфактуры в 1779 г.) промышленная деятельность все-таки не только существовала, но местами, например, в Бордо и около Бордо, приобрела к концу старого режима немалое значение; особенно была развита выделка полотна. И по свидетельству мануфактурной инспекции, не было провинции во Франции, где бы до такой степени царили «злоупотребления», т. е. нарушения всяких правил [217].
И совершенно напрасно правительство стремилось новыми указами подкреплять цеховую организацию в городах [218], и тщетно пыталось оно, хоть в смягченном виде, поддержать регламентацию производства повсюду [219]: существование или, вернее, главенствующее положение деревенской индустрии делало невозможным успех всех этих усилий.
Указом 5 мая 1779 г. был провозглашен принцип необязательности ряда правил, установленных для произведений текстильной индустрии, но при этом, если фабрикант желал подчиниться правилам, каждая штука материи, представленной им, отмечалась по-прежнему; не желающие подчиняться правилам все же должны были представить каждую выделанную ими штуку, и эта штука тоже отмечалась, но иначе, соответствующим образом. В 1780–1781 гг. в ряде дополнительных указов был развит этот основной принцип (с известными, впрочем, ограничениями) [220]. Старые регламенты относительно выделки шерстяных материй были смягчены королевским указом от 4 июня 1780 г. [221] Главная черта этого указа — отмена обязательности для всего производства некоторых правил касательно качества, длины и ширины выделываемых штук; но при этом самые правила не отменялись, и кто желал, мог представлять материю в bureau de visite, где материя, в случае соответствия правилам, снабжалась пломбой; но и так называемые étoffes libres тоже должны были представляться для соответствующей пометки и для проверки, нет ли на них каких-либо «ненадлежащих знаков. Принцип, что всякая штука материи должна быть так или иначе помечена и осмотрена, таким образом сохранялся; предполагалось также, что фабриканты сами будут заинтересованы в получении пломбы, гарантирующей потребителя, и добровольно подчинятся отныне правилам. При этом все-таки известный минимум требований сохранялся и для étoffes libres [222].
Если бы мы тут писали историю экономической политики старого режима, мы бы подробно остановились на анализе этих указов и заинтересовались бы их внутренней противоречивостью, сопоставили бы мысль о необходимости дать простор промышленности и возбудить этим дух изобретений с плохо скрытой подозрительностью по отношению к тем фабрикантам, которые захотят этой свободой воспользоваться и от которых нужно поэтому оградить публику [223], и т. д. Но тут все это нас не интересует: мы должны только отметить, что этот смягченный регламент точно так же был для деревенской индустрии мертвой буквой, как и все прежние. С этой точки зрения не имеют существенного значения и все то отступление от либерального принципа 1779 г., какие были допущены после отставки Неккера (вроде, например, постановления 1782 г., разъясняющего, что подчинение правилам, регламентирующим качество и размеры материи, необязательно лишь для материи, стоящей дешевле 40 су за аршин, а для стоящих дороже все старые регламенты опять становятся обязательными [224], и т. д. и т. д.). Все это характерно только для реакции, возобладавшей в правящих сферах в 1781–1788 гг. Но хотя деревенская индустрия не подчинялась регламентации и в 80-х годах XVIII столетия, как не подчинялась ей и раньше, хотя это неподчинение подрывало регламентацию и в городах, все же нельзя сказать, что в предреволюционные годы постановления, регламентирующие промышленность, совсем никакого исторического значения не имели; если инспектора жалуются на то, что и в городах правила перестают исполняться, то владельцы мануфактур все-таки жалуются на стеснения и на то, что администрация ничуть не охраняет интересов лиц, желающих или принужденных ей повиноваться. Раздражение в промышленных слоях больших городов, где инспекции все же легче было требовать исполнения правил, усиливалось и от того, что деревенский «фабрикант» совершенно избавлен от всех досадных придирок и затруднений, от которых, как ни как, страдает отчасти промышленник Парижа или Лиона. Пользы казне от существования этих правил не было, но среди владельцев мануфактур в больших городах оставалось известное раздражение, которое сыграло свою роль впоследствии. Здесь тоже повторилось таким образом психологическое явление, обобщенное Токвилем: старый порядок перед своей гибелью меньше давил, но больше раздражал, нежели в былые времена своего всемогущества.
Эта мысль Токвиля невольно приходит на память, когда, например, в одной и той же рукописи, почти что на одной и той же странице читаешь: 1) что фабриканты в городах Прованса уклонялись от всякого контроля, и самые эти bureaux de visite находились «в страшнейшем беспорядке», а кое-где и вовсе не функционировали, и 2) что эти же фабриканты «ощущали помеху в своих делах» и горько жаловались на насилие и обиды из-за этих правил и этих же bureaux de visite [225].
И тщетно правительство силилось разъяснить фабрикантам (уже после введения регламента 1780 г.), что те формальности, которые от них требуются, оставлены для их пользы, что обязательное наложение «национальной марки» на каждую штуку сукна, шелка, полотна, хлопчатобумажной материи и тому подобное обеспечивает государство от контрабанды, а посему полезно французской индустрии [226], — ничего не помогало, и смягченные правила 1780–1781 гг. так же не исполнялись деревней, как не исполнялись прежние строгие регламенты, и так же откровенно, как и прежде, правительству разъяснялось, что только благодаря неподчинению никаким правилам производство и держится [227].
Инспекция, констатируя, что в Пуату регламентация не только не соблюдается, но что о ней даже понятия не имеют, указывает на полное свое бессилие в борьбе с этим явлением [228].
Нечего и говорить, что «смягченный» режим регламентации, проведенный в 1779–1781 гг. и в этой провинции, отнюдь не изменил положения вещей [229].
Официально было удостоверено (в 1782 г.), что во всей Оверни также новые правила не исполняются [230]. То же самое констатировал относительно всей Пикардии Ролан после инспекторского объезда в июле и августе 1782 г. [231], причем он не видит даже и средств бороться с этим явлением [232]. Мануфактуры шерстяных материй Ван-Робе в Аббевиле, а также и другие значительные промышленные заведения Аббевиля и Амьена уклоняются от исполнения правил, это Ролан заметил еще во время инспекторского объезда в 1781 г. [233] Если так дело обстояло в промышленных районах, на которые было устремлено все внимание правительства, если, в частности, успешно боролись против контроля Ван-Робе, Мартель, Hecquet, Homasset и другие крупные промышленники, которых называет Ролан, то можно смело утверждать, что во Франции перед революцией регламентация производства оказывалась совсем бессильной. Деревенская индустрия победила, деревня не только показала городу пример неповиновения, но сделала невозможным для города повиновение каким бы то ни было регламентам, тем, которые изданы были до 1780–1781 гг., или тем, которые вступили в силу после 1780–1781 гг.
В центральной Франции, в Турэни тоже «ни старые, ни новые правила» не исполняются [234].
То же самое слышим мы (тоже с официальной стороны) и относительно всей Шампани: земля тут дает мало, жители деревень поэтому очень много занимаются выделкой шерстяных и хлопчатобумажных изделий, а правила, регламентирующие текстильное производство, вовсе не соблюдаются. Промышленные центры провинции Труа и Реймс один только дают работу 50 тысячам человек, и недаром ученый [Н. И. Кареев], с которого, в сущности, начинается научная разработка истории французского крестьянства конца XVIII столетия, давно отметил, что именно около Труа были такие случаи, когда в деревне из 63 человек, занимавшихся еще в 1777 г. земледелием, к 1788 г. уже 60 человек оказываются работающими на фабрику [235]. Нет ни одной деревни в этой провинции, где бы население не занималось «индустрией» [236] и «фабриканты» усвоили полную свободу в деле производства [237].
В первой половине 1789 г. главный интендант торговли пожелал узнать мнение инспекторов мануфактур относительно результатов того смягчения старинных регламентов, которое, как выше было сказано, последовало в 1779–1780 гг. И вот, бросая взгляд на истекшее десятилетие, на последнее десятилетие старого режима, инспектор Бриссон категорически утверждает, что в смысле технических усовершенствований французская индустрия не только не сделала шага вперед, а, пожалуй, сделала шаг назад, и дух изобретений проявился разве лишь в порче фабрикатов [238].
В общем, как признали инспектора мануфактур, указы 1779–1780 гг. заключали в себе внутреннее противоречие: они провозглашали якобы полную свободу производства и в то же время налагали на фабрикантов, выделывающих эти свободные материи (étoffes libres), тоже ряд обязательных повинностей (надписи, клейма, представление в бюро осмотров и т. п.) [239].
Центральное правительство все это сознавало: и бессилие инспекторов, и напрасное раздражение, которое они вносят в среду промышленников, и пассивное, но упорное сопротивление, которое встречают все попытки провести правила регламентации в жизнь. Достаточно почитать предисловие к королевскому указу 1779 г., чтобы в этом убедиться [240].
Седан со всей обширной областью, к нему тяготеющей, был одним из средоточий суконной промышленности Франции (если не самым главным пунктом). В этой области господствовала деревенская индустрия, именно деревня работала на седанских фабрикантов; и после всего сказанного ничуть не удивимся тому, что в Седане не только требования регламентации не исполняются, но местные промышленники в почтительнейшем докладе администрации прямо объясняют свои успехи именно неисполнением некогда изданного специально для них (в 1743 г.) регламента. Пока исполняли регламент, промышленность падала; перестали его исполнять, все пошло прекрасно [241]. Они пользуются полной свободой (хотя регламент вовсе не отменен).
В Кагоре и всей области, тяготеющей к этому городу, «первоначальная работа» по выделке шерстяных материй (а это главная отрасль местной индустрии) производится «очень большим числом женщин и детей в Кагоре и в соседних маленьких городах и деревнях» [242]. И, конечно, правила, регламентирующие выделку материй, тут совсем не соблюдаются. Приверженцы регламентации жалуются на терпимость и снисходительность властей к нарушителям правил [243] и власти нерешительно, как бы чувствуя свою вину, признают факты, но ничем помочь делу не могут.
Инспекция не только сознавала свое бессилие, но прямо склонна была оправдывать это полное пренебрежение ко всяким правилам со стороны деревенского «фабриканта». Монтобанский инспектор Брюте, который (как мы уже видели) смотрел на мануфактурную деятельность прежде всего как на средство пополнить скудный бюджет крестьян гористой и не особенно плодородной местности, сообщал центральному правительству, что эти деревенские «фабриканты» не считаются (и никогда не считались) ни с какими правилами, и если «наказывать их за жадность и за склонность к обману потребителя», то они не извлекут никакой выгоды из своего труда [244].
Но если обычно власти могли еще смотреть на упорное неповиновение регламентации со стороны деревенских «фабрикантов» как на правонарушение (хотя и признавали полное свое бессилие в борьбе с этим явлением), были случаи, когда они и сами не знали, как им смотреть на это отношение крестьян к правилам. Например, как уже сказано выше, инспектор мануфактур области Caen сообщает интенданту торговли (в 1780 г.), что во всех городах и деревнях этой области существуют такие «фабриканты» полотна, которые работают прямо на заказ, и граждане области даже привыкли именно путем таких заказов приобретать нужный им товар. Эти деревенские «фабриканты» в цехах не числятся и никаких правил, регламентирующих индустрию, не исполняют. Как с ними быть? или, точнее, как на них смотреть? Должны ли они подчиняться или не должны? Интендант просит центральное правительство разъяснить ему это [245]. Конечно, вопрос имел чисто платоническое значение. Мы знаем из ряда других свидетельств, что деревня нарушала все правила даже в тех случаях, когда инспекция мануфактур всецело была убеждена в незакономерности таких поступков.
Интендант Балленвилье вполне положительно свидетельствует, что правила, установленные для производства, вовсе не исполняются в Лангедоке и что их бесполезность вполне доказана этим фактом [246]. Он с худо скрытым пренебрежением и досадой говорит при этом о совершенно пустых, по его мнению, и ненужных разговорах о регламентации, которые ни к чему реальному, положительному все равно привести не могут. Человек, так глубоко изучивший громадную область, которой он управлял три года и которая отличалась особенным развитием деревенской индустрии, понимал лучше всех, что фактически регламентация производства во Франции безнадежно подорвана и нет таких сил, которые могли бы ее спасти и подкрепить.
Нужно ли после всего сказанного прибавлять, что едва лишь началась революция, как, не ожидая никаких законов, отменяющих регламентацию, городские фабриканты перестали обращать на нее какое бы то ни было внимание? К этому выводу исследователю незачем даже идти путем логических заключений. Документы и тут дают самые категорические свидетельства. Вот что пишет, например, инспектор амьенских и аббевильских мануфактур в середине 1790 г.: «… l’inspection de cet état ne prouve rien autre chose que l’abandon presque absolu des bureaux de marque. L’oubli de toutes règles, la haine contre tout ce qui représente l’idée d’assujetissement et d’impôt sont les motifs de cet abandon» [247] и т. д. Единственное, что может сделать инспекция, — молчать и терпеть [248].
Последовавшее 27 сентября 1791 г. уничтожение должности инспекторов мануфактур и почти одновременно с этим полное освобождение мануфактурного производства от каких бы то ни было правил и контроля только узаконило окончательно воцарившийся уже давно порядок вещей [249].
В заключение два слова о том, что в XVIII в. называлось дисциплиной рабочих.
Нужно сказать, что по общепринятому в XVIII столетии толкованию всякие правила касательно поведения рабочих и тому подобное, столь часто издававшиеся при старом режиме, относились исключительно к рабочим, работающим в доме хозяина или в здании мануфактуры («ouvriers du dedans»); что же касается до других, до всей той громадной массы, которая работала у себя на дому («ouvriers du dehors»), то к ней эти правила совсем не относились [250]. Правда, со стороны хозяев была сделана (в 1735 г.) попытка стеснить свободу этих работающих вне мастерской рабочих, но постановление от 25 сентября 1735 г., изданное в этом смысле, совершенно никаких практических последствий не имело [251]: «les ouvriers du dehors» по-прежнему работали на какого им вздумается хозяина и меняли хозяев без всякого предупреждения, письменного разрешения и тому подобных формальностей. 13 февраля 1766 г. Трюден издал даже особый приказ, которым подтверждал эту полную свободу указанной категории рабочих [252].
Таким образом, вся огромная масса деревенских рабочих, входившая целиком в категорию «ouvriers du dehors», совершенно не знала никаких обязательных норм, которые бы регулировали ее отношение с нанимателями, и хозяева тоже понимали, по-видимому, всю тщету надежд на исполнение этих правил в деревне и даже не видели в неисполнении их никакой беды.
Сами хозяева признавали полную бесполезность постановлений, направленных против действий рабочих скопом. Существовало, например, постановление (от 2 января 1749 г.), что рабочий не может покинуть хозяина, не получивши письменного свидетельства об отпуске. Хозяева полотняных мастерских Лаваля и прилегающих местностей также находят (в 1777 г.), что это правило «более стеснительно, нежели полезно» для них, ибо у каждого из них есть 2–3 рабочих, которые живут в разных местах, сговориться между собой они не могут, ибо часто и не знают друг друга, так что нельзя ждать одновременного ухода с их стороны по уговору [253].
В этой области и правительство, и хозяева поняли с самого начала, что подчинить деревню правилам не удастся. В смысле же регламентации производства, как мы видели, это понято было не сразу, но результат был тот же: закон в деревне не исполнялся.
* * *
Выводы, которые можно сделать из всего изложенного, напрашиваются сами.
1. Промышленный труд французской деревни имел громадное значение в национальном производстве, прежде всего в текстильной промышленности, где его роль может быть признана первенствующей.
2. Правительственная власть во второй половине XVIII в. не переставала весьма покровительственно относиться к деревенской индустрии, видя в ней: а) силу, которая удешевляет заработную плату повсеместно, во всей Франции, и б) полезный подсобный промысел для крестьян, особенно в малоплодородных местностях.
3. Главным стимулом к занятию промышленным трудом в деревне являлось неплодородие почвы, недостаточность земледельческих работ для поддержания существования крестьянской семьи. Даже в счастливых в этом отношении провинциях промышленный труд больше всего был развит именно в сравнительно менее плодородных округах. Близость рынка, обеспеченность сбыта играли в этом отношении второстепенную роль.
4. Документы несравненно чаще говорят о крестьянах, которые занимаются промышленным трудом наряду с земледелием в свободное от полевых работ время, нежели о крестьянах, уже совсем оторвавшихся от земледелия и зарабатывающих средства к существованию исключительно промышленным трудом.
5. Во французской деревне второй половины XVIII столетия можно подметить наряду с простейшей формой промышленной жизни — с работой производителя по непосредственному заказу потребителя, четыре разновидности домашней индустрии в точном смысле: а) работу производителя на рынок; б) работу производителя на предпринимателя, заказывающего ему товар для продажи, или на купца, покупающего у него готовый товар, причем иногда купец обращается не непосредственно к производителю, но к предпринимателю, на которого работает крестьянин; в) кроме работы над своим материалом, деревенский производитель во Франции XVIII в. кое-где знал и работу над материалом, который доставлял ему фабрикант; г) реже попадаются следы и такого порядка вещей, когда деревенский производитель работает не только над сырьем, принадлежащим предпринимателю, но и при помощи станка, который тоже принадлежит хозяину.
6. Деревенская индустрия самым фактом своего существования наносила страшный вред цехам и разрушала регламентацию производства. Именно в значительной степени вследствие этого влияния деревни регламентация превратилась к концу старого режима почти в мертвую букву во многих городах. Reductio ad absurdum регламентации была проделана именно деревенской индустрией, которая совершенно освободила себя от исполнения каких бы то ни было правил и сделала тем самым исполнение их невозможным и в городе.
Глава II
СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНИКИ ВО ФРАНЦИИ В КОНЦЕ XVIII СТОЛЕТИЯ
Если мы теперь от организации промышленного труда во Франции конца XVIII столетия обратимся к данным, говорящим о степени распространенности машинного производства, то найдем ответ, почему la fabrique réunie была такой редкой случайностью, почему Франция в смысле развития форм промышленности так отстала от Англии.
Документы говорят нам с определенностью, не оставляющей желать ничего лучшего, что технические усовершенствования являлись для Франции до революции и в течение всего революционного периода в полном смысле слова редкостью. Состояние промышленной техники во Франции в эту эпоху не было таково, чтобы обусловить необходимость перехода от ремесла и домашней промышленности к системе крупных индустриальных предприятий, где главная масса рабочих должна была бы работать в здании заведения. Если документы, дошедшие до нас и положенные в основу настоящей главы, доказывают что-либо вполне неопровержимо, то именно этот тезис.
1
Активное содействие введению технических усовершенствований (les mécaniques, les machines) и щедрое финансирование всевозможных опытов, путешествий с научной целью и тому подобных предприятий, имеющих целью ознакомить французскую промышленность с техникой иностранцев, были в традиции старого режима, и эта традиция всецело сохранилась в течение революционного периода. Удешевить производство, выдержать успешно конкуренцию с англичанами — вот главная цель всех стараний правительственной власти.
При старом режиме правительство выдавало премии, отводило казенные помещения, не щадило ничего, чтобы поощрить изобретателей.
Национальное учредительное собрание стояло всецело на той же точно зрения, как и представители старого режима, когда 22 августа 1790 г. издало закон о поощрениях и наградах за полезные открытия и изобретения [1].
Точно так же всецело сохранилась и другая традиция. Это была одна из самых прочных традиций промышленной политики старого порядка (не в одной только Франции), и заключалась она в том, чтобы ни под каким видом не выдавать иностранцам технических секретов; в этом отношении революция также всецело шла по стонам низвергнутого ею абсолютизма.
Мы сейчас увидим, что в целом ряде промыслов Франция стояла технически ниже Англии, Бельгии, Голландии, даже западногерманских стран. Но там, где французское правительство чувствовало превосходство Франции, оно очень ревниво оберегало тайну этого превосходства. Изготовление шелковых и отчасти шерстяных изделий считалось стоящим во Франции выше, чем в Испании, и при старом режиме правительство особенно было озабочено тем, как бы станки, служащие для этой отрасли индустрии, не попали в руки «соседних наций». Главным образом тут имелись в виду именно испанцы, больше всего потреблявшие французский шерстяной и шелковый товар. Еще 5 марта 1779 г. королевским постановлением был воспрещен вывоз за границу из Франции каких бы то ни было станков, орудий и инструментов, употребляющихся на французских мануфактурах. Несмотря на это запрещение, испанцы контрабандным путем все-таки добывали французские станки [2], и даже испанские консулы активно участвовали в этой контрабанде [3]. Чтобы затруднить эту контрабанду, правительство не остановилось тогда перед запрещением вообще перевозить станки и инструменты из одного города в другой без формального письменного всякий раз на то разрешения властей; это делалось, как говорилось в новом постановлении, потому, что станки часто перевозились в приморские или пограничные города и оттуда переправлялись за границу [4].
Если испанцы нуждались во французских станках и инструментах, служащих для изготовления шерстяных и шелковых изделий, то англичане не только не стремились узнать французские технические секреты, но даже наводняли Испанию своими собственными станками и инструментами, чтобы подорвать французскую торговлю в Испании, лишив французскую индустрию большого рынка, и французы очень страшились последствий этого удачного враждебного хода со стороны Англии [5]. Усиленная подозрительность, тщательнейшее соблюдение постановлений о воспрещении вывоза станков — вот что казалось и фабрикантам, и правительству вплоть до начала революции делом государственной важности. Революция никаких изменений в этом отношении не внесла.
Желание сохранить и укрепить экономическую независимость Франции проявляется в эпоху революции и в форме болезненной подозрительности относительно возможных происков иностранных правительств. То Екатерина, «la despote du Nord», умышленно сманивает на русскую службу самых искусных рабочих, то иностранцы скупают и вывозят французское сырье, то стремятся лишить Францию орудий производства. Так, например, 17 брюмера III года (7 ноября 1795 г.) комиссия торговли разослала по всей Франции циркуляр, уведомляющий, что в разных местах территории республики появились индивидуумы, скупающие станки, которые служат для выделки чулок и других изделий. Тотчас же закипела переписка. Администраторы округов сообщили об этой опасности муниципалитетам, муниципалитеты ответили выражением патриотических чувств и уверениями в рвении и бдительности и т. д. Например, маленькая коммуна Ceyreste тоже понимает, что «можно опасаться, не стремятся ли гнусные скупщики лишить республику этих драгоценных предметов, чтобы обогатить чужие земли и разорить наши мануфактуры», и муниципалитет торжественно обещает бороться со столь преступными замыслами и «доносить на всех, кто попытается вывезти из республики как станки для выделки чулок, так и всякие иные полезные машины» [6]. Даже муниципалитеты таких городов, где и станков подобных никогда не было, обязаны были реагировать на указанный циркуляр. «Граждане, — пишет один такой муниципалитет администраторам своего округа, — мы получили ваше письмо касательно наблюдения за тем, чтобы ни один станок, нужный для выделки чулок, не был вывезен из Франции, и мы будем сообразоваться с этим, но, насколько нам известно, в нашем округе нет ни одного такого станка» [7].
Но и до, и во время революции правительство прекрасно понимало, что, желая удержать такие страны, как Испания, в экономической зависимости, еще более необходимо самое Францию избавить от «данничества», «порабощения» более развитым в экономическом отношении странам. Эти выражения: la nation tributaire, указания на необходимость выйти, наконец, из невыгодного положения относительно Англии, повторяются упорно и представителями старого порядка — Толозаном, Калонном и деятелями Конвента и министром Директории Франсуа де Нефшато. Англия — враг, которому завидуют, стараются подражать и которого боятся.
Беспредельное и завистливое почтение, которое чувствовали французские промышленники и французские власти к английской индустрии, лучше всего характеризуется словами инспектора пикардийских мануфактур, который советуя в 1783 г. известным способом упаковывать некоторые сукна, отправляемые за границу, прибавляет: «… il faut à cet égard, comme sur tous les points, se conformer aux usages des anglais» [8]. И если мы проследим историю этих попыток французских властей ввести во Франции машинное производство, то увидим, что англичане представлялись французам конца XVIII в. главными (но, тут же заметим, не единственными), сильно обогнавшими их в техническом отношении противниками. Конечно, эти попытки займут меня тут лишь поскольку, поскольку они способствуют уяснению вопроса: было ли в конце XVIII в. машинное производство во Франции настолько распространено, чтобы оно хоть отчасти, хоть в малой степени могло повлиять на изменения в организации производства?
1. Начну с той отрасли текстильной индустрии, в которой английская техника к тому времени сделала особенно быстрые и блестящие успехи, — с бумагопрядильного производства.
В 1783 г. для французского правительства и французской индустрии было еще совершенным секретом то, что давно практиковалось в Манчестере: приведение в движение прядильных машин водяной мельницей [9] и другие усовершенствования. Власти очень интересовались английскими машинами не только потому, что они давали изделия гораздо высшего качества, но и потому, что при английских машинах могли работать (и работали) дети, а это удешевляло производство; эта сторона дела тоже весьма интересовала французов [10].
Вот как намечаются даты первого проникновения во Францию английских технических изобретений по показаниям органов французского правительства, в ведении которых находилась индустрия и особенно техническая сторона ее. Эти даты указаны были бюро, состоявшим при министерстве внутренних дел, в докладе, поданном по одному частному вопросу министру внутренних дел 2 июня 1799 г. [11]. Документ таким образом относится к самым последним месяцам занимающего нас периода и дает ретроспективные указания, имеющие значение для всей этой эпохи.
Первый «механизм» (по терминологии доклада) — так называемая «дженни» — стал известен во Франции перед тем лет за 25 (т. е. около 1774 г.). Эти «дженни» вследствие незначительной стоимости и небольших размеров своих очень распространены во Франции, но не всюду они так хороши, как в мануфактурах в Сансе, Амьене, Руаймоне, Шоле. Второй механизм — машина Аркрайта, которая проникла во Францию в 1783 г. [12] Наконец, третий род механизмов — «mull-jenny» — является комбинацией первых двух; эта машина, представлявшая значительный шаг вперед в техническом смысле, Впервые проникла во Францию в 1790 г., когда английский механик Пикфорд по поручению французского правительства выстроил два экземпляра «mull-jenny». С тех пор во Франции существовали образцовые экземпляры как «mull-jenny», так и машины Аркрайта (выстроенной еще раньше, в 1785 г., тоже по поручению правительства англичанином Мильном). Но это были лишь даты первого проникновения во Францию новых машин; эти даты важны для истории распространения технических знаний во Франции. Но насколько важны они для французской экономической истории? Насколько быстро эти изобретения перестали быть предметами, хранящимися в Техническом музее, в «Conservatoire des arts», и сделались сколько-нибудь заметным фактором эволюции обрабатывающей промышленности во Франции?
Поищем ответа на этот вопрос в других документах. Там, где сохранились отдельные показания, касающиеся той или иной местности, они неизменно подтверждают отсутствие машинного производства.
По мнению директории департамента Соммы, в Пикардии в 1791 г. прядильное дело в техническом отношении не подвинулось вперед еще с эпохи Кольбера [13]. А Пикардия была одной из самых промышленных областей Франции: полотняное, шерстяное, а в конце XVIII в. и бумагопрядильное производство были там весьма распространены. Другие нации, читаем мы в том же документе, обогнали Францию в смысле совершенства производства [14].
Промышленники другого района, тяготевшего к городу Труа, тоже прекрасно понимали [15], что их бумагопрядильни ждет гибель, если они не введут английских машин, а особенно машину Аркрайта; они сознавали, что нельзя в этом деле «спать» [16], но в течение всего рассматриваемого периода никакого прогресса в этом отношении не последовало.
Такие же голоса несутся и с юга.
Знатоки дела, техники, выражают мнение, что лучших сортов бумажных материй французские мануфактуры выделывать не в состоянии и что во французской бумагопрядильной промышленности употребляются инструменты, из которых нет ни одного без очень серьезных недостатков [17].
Общее положение дел в смысле технических усовершенствований в бумагопрядильной индустрии было весьма неутешительно в течение рассматриваемого нами периода: кроме робких пионерских опытов, в сущности почти ничего не было сделано. Это впечатление, выносимое из изучения всех отдельных сохранившихся документов, вполне подтверждается тем подведением итогов, которое было сделано в 1790 г. главным интендантом торговли Толозаном. Весной 1790 г. президент комиссии Учредительного собрания, занимавшейся вопросом о состоянии продовольствия, торговли и индустрии, герцог Лианкур затребовал сведения о положении прядильного дела. Доклад Толозана Лианкуру сохранился, и вот какие сведения он дает о технической стороне дела (ни о чем другом, впрочем, документ этот и не говорит, несмотря на многообещающее заглавие рукописи) [18].
Толозан делит орудия прядильного производства на четыре вида. На первом месте он ставит обыкновенную стародавнюю прялку, распространенную «во всех частях королевства», нисколько не усовершенствованную с исконных времен; он полагает лишь, что хорошо бы ее как-нибудь усовершенствовать. Вторая категория инструментов — английские «дженни» [19]. Они имеются в Пикардии, Шампани, Лионе и лионской области, в Лангедоке, Нормандии, Анжу и в городе Париже; в общей сложности во Франции их «не более девятисот» штук. Но это «дженни» старого, первоначального образца, приводящие в движение от 24 до 48 веретен, и в Англии, как это известно Толозану, их уже никто не употребляет, ибо там употребляются усовершенствованные «дженни» — в 80 и более веретен. Эти усовершенствованные «дженни» во Франции почти вовсе не известны. Третий род механических орудий — машина Аркрайта. Первая машина Аркрайта во Франции была пущена в ход в 1784 г., в мануфактуре Мартена и Флесселя, в Эпине, недалеко от Арпажона; вторая машина существует в Лувье, и ею заведуют два англичанина; есть еще шесть машин Аркрайта, выстроенных при помощи английских механиков Мильнов, отца и сына; из них одна находится в Орлеане, и ею заведует Фокслоу («зять Мильна», — считает долгом сообщить Толозан), другой заведует сын Мильна (она находится в Монтаржи); наконец, четыре остальные расположены в Монвиллье, Дре, Нанте и Кресте, но они не значительных размеров. Итого, значит, во Франции в 1790 г. существовало 8 машин Аркрайта, введенных одной-двумя семьями английских механиков, которые ad hoc были выписаны и числились на службе у правительства.
Наконец, четвертый род машин — «mull-jennys», дающие самую тонкую материю и более сложные, чем все вышеозначенные, — еще почти вовсе отсутствует во Франции; единственная «mull-jenny» имеется в хлопчатобумажной мануфактуре Моргана и Массе в Амьене; она, правда, не лишена некоторых недостатков, но интендант торговли возлагает надежды свои на проживающего в Париже англичанина Пикфорда, который может ее исправить; тем более, что этот англичанин уже выстроил две машины в Лиможе, в заведении Леклерка. Какие именно машины, Толозан подробно не говорит, но прибавляет, что они заслужили одобрение местного инспектора мануфактур.
В конце доклада Толозан упоминает еще об имеющихся в Амьене (у владельца бумагопрядильной мануфактуры Генде) двух кардах, механических приспособлениях для чесанья и очистки хлопка, которые, по его мнению, хорошо бы распространить, и наконец о двух прядильных машинах (одной — в Руане, другой — в Париже), выстроенных Барневилем. Но над ними еще производятся опыты, чтобы определить достоинство их и «в особенности, чтобы решить, не обойдется ли работа на них настолько дорого, что употреблять их будет невозможно».
Вот и все, что имеется во Франции в 1790 г. по части машинного производства в текстильной индустрии. Я нарочно, не довольствуясь всеми раньше приведенными данными, привел этот подводящий точные итоги официальный документ, чтобы окончательно выяснить единственно интересующий нас тут факт: машинное производство даже в самой первоначальной его фазе, даже в смысле распространения простейших образцов «дженни» было к концу XVIII столетия настолько мало известно во Франции, что не могло сколько-нибудь существенно повлиять на положение рабочего класса, занятого в текстильной промышленности. С одной стороны, во Франции не могла развиться категория так называемых «квалифицированных» рабочих, рабочих высшего типа, полумехаников, с известной технической выучкой, которые должны были находиться при механических орудиях производства, хотя бы и в ограниченном количестве; с другой стороны, конкуренция женщин и детей как более дешевой «прислуги при машине» для отправления простейших обязанностей, связанных с функционированием машин, не угрожала еще французскому рабочему. Далее, домашнее производство старого типа, разбросанность рабочих не только по городским предместьям, но и по селам и деревням, окружающим Лион, Седан, Марсель, Амьен, Руан, по уединенным шале пиренейских и альпийских отрогов, по самым иногда глухим и далеким от городов местностям — все эти явления были еще, как мы видели, всецело господствующими во Франции и в начале, и в конце рассматриваемого периода. То, что Мирабо называл «une manufacture réunie» — мануфактура нового типа, собирающая рабочих на ежедневную работу в своих стенах, — еще было редким исключением; и теперь, познакомившись с технической убогостью французской индустрии в интересующую нас эпоху, мы совсем не в праве этому удивляться.
Эта слабость французского машинного производства особенно ярко выступает, если привести цифры, касающиеся Англии. Колоссальный прогресс английской индустрии, особенно бумагопрядильной, всегда беспокоил французское правительство, и интендант торговли не преминул поделиться с Лианкуром сведениями, касающимися Англии. Эти сведения он препроводил одновременно со своим докладом, как бы приглашая Лианкура сравнить.
Таким образом, во Франции (в 1790 г.) была одна единственная «mull-jenny», да и то нуждающаяся в исправлениях; в Англии в том же году было 550 «mull-jenny» [20]. Во Франции усовершенствованных «дженни» в 80 веретен каждая почти вовсе нет, в Англии их — 20 970 (во Франции даже и простых «дженни» было на всю страну, как мы видели, 900 штук). Во Франции — 8 машин Аркрайта, в Англии — 143. При этом нужно заметить, что французские цифры относятся не только к хлопчатобумажной, но и к шерстяной индустрии, а английские — исключительно к хлопчатобумажной.
Знаменитые машины «дженни» едва начинали распространяться во Франции, и еще в 1795 г. Комитету общественного спасения приходилось выслушивать советы промышленников, что надо содействовать большему распространению «дженни», и предуведомления, что нужно «тщательно» строить эти машины, «по хорошим моделям» [21]. Более усовершенствованные машины («mull-jenny») были еще до такой степени неизвестны [22], что даже владельцы большой бумагопрядильни, в качестве экспертов дающие советы Комитету общественного спасения, признаются, что знают о них понаслышке [23]. Но и те простые «дженни», которые начали во Франции распространяться, часто ломались и вообще причиняли очень много хлопот вследствие неумения рабочих с ними обращаться и трудности починки, ибо и уменья чинить испорченные машины тоже еще не было [24].
Главной целью стараний французского правительства было, как сказано, стремление удешевить производство и избавиться от подавляющей конкуренции англичан [25]. Приглашались английские рабочие, умеющие обращаться с «дженни», частным предпринимателям давались исключительные милости и привилегии, устроена была (в Париже) специальная образцовая прядильня, которая работала за счет правительства и должна была дать Франции кадры обученных рабочих [26]; частные предприниматели получали награды за то, что привозили из Англии рабочих [27], и т. д. Но все это плохо шло, и, например, в 1791 г., по имеющемуся у нас официальному свидетельству, в образцовой правительственной прядильне не оказалось ни единого рабочего [28].
В конце 1792 г. чиновник, который с 1786 по 1791 г. заведовал «кабинетом машин», т. е. был больше всех компетентным в вопросе о степени распространенности технических изобретений во Франции, подал доклад министру внутренних дел Ролану о некоторых бумагопрядильных машинах. И вот он заявляет министру, что долго изучал эти английские изобретения и «с каждым днем приходил к убеждению, что было бы важно распространить (в стране) познание этих машин и показать их употребление» [29]. Он пишет так, как если бы эти машины еще вовсе не были известны подавляющему большинству промышленников. Да и действительно в 1792 г. можно было чуть не поименно пересчитать все заведения, в которых применялись новые машины. Англичанин Мильн, как мы видели, еще в 1784 г. перенес во Францию изобретение Аркрайта и был за это награжден казенным помещением для своей мануфактуры, постоянной субсидией и т. д.; в 1789 г. амьенские фабриканты Морган и Массе (Massey) выписали английского механика, который построил усовершенствованную «mull-jenny», и это была такая редкость, что в Амьен был командирован Молар от правительства с целью изучить построенную машину; третья машина была поставлена тоже в Амьене в мануфактуре Гиде (Guidé) англичанином по имени Лордом; четвертая была выстроена Ломондом (Lhomond), и правительство ее приобрело для целей просветительных (pour l’instruction publique), но она не известно куда исчезла; наконец, есть еще усовершенствованная «дженни», сделанная Барневилем, — эта машина приобретена правительством в собственность [30].
Правительство и в первые годы революции продолжало брать на себя труды и заботы по части распространения во Франции английской техники, и дело доходило до того, что официальное лицо («интендант торговли») обращалось к частным промышленникам с просьбами вывезти из Англии контрабандным путем те или иные инструменты, вывоз которых был в Англии воспрещен: эти инструменты должны были быть доставлены за счет французского правительства и должны были быть употреблены для опытов в уже упоминавшейся образцовой прядильне в Париже [31].
За технической выучкой правительство обращалось не только в Англию, но и в Швейцарию. Так, всецело было поддержано в 1793 г. властями переселение во Францию (в департамент Марны) одной швейцарской бумагопрядильни, хотя из всех документов, касающихся этого дела, нисколько не явствует, что переселяющаяся компания промышленников имеет новые английские машины, которых так недоставало французам. Напротив, есть указание, что это была мануфактура всецело старого (и, конечно, наиболее распространенного в самой Франции) типа, где рабочие не работали в здании мануфактуры, а получали заказы на дом, и где, следовательно, технические усовершенствования последних лет (не считая первоначальной простой «дженни») роли играть не могли [32]. Нигде, кроме того, ни в прошении швейцарцев, ни в препроводительных бумагах властей, ни слова не говорится о машинах. Несмотря на это швейцарцы обещают «учить» французских рабочих бумагопрядильному делу и уже наперед требуют денежного вспомоществования, исключительных привилегий, например, воспрещения на 10 лет кому бы то ни было заводить в департаменте другую бумагопрядильню и так далее, и французские власти настолько верят в то, что даже и без новых машин швейцарцы обладают большими техническими познаниями, нежели французы, что обнаруживают полную готовность содействовать; и директория департамента Марны, и французский посол в Швейцарии, и министр иностранных дел, и министр внутренних дел — все они согласны, что «это заведение будет полезно как для республики, так и для бедных жителей департамента» [33], что «последствия (учреждения этой мануфактуры — Е. Т.) будут весьма полезны для национальной индустрии» [34] и т. д.
Бесспорная отсталость французов, полнейшее отсутствие во французских бумагопрядильнях механических английских усовершенствований, отсутствие механиков, которые могли бы строить эти машины, рабочих, которые умели бы с машинами обходиться, констатируются на каждом шагу не только правительством, но и всеми прикосновенными к делу лицами [35].
Английские станки признавались французскими властями настолько выше французских, что еще в середине 1792 г. правительство, узнав, что одна мануфактура в Попепкуре (предместье Парижа) раздобыла 30 английских станков, поторопилось скупить все эти станки и раздать их фабрикантам, которые могли бы «выучить рабочих и учеников» работать на них [36].
Перед самым началом революции в Руане и в Амьене были учреждены так называемые «bureau d’encouragement» с целью споспешествовать нуждам промышленности, и еще в конце 1791 г., например, амьенское бюро должно было дать субсидию владельцам прядильной мануфактуры в Амьене Моргану и Массе за то, что они выписывали рабочих из Англии и ввели у себя механические приспособления [37].
Те немногие механические приспособления, которые становились при посредстве английских выходцев известны французам, прививались крайне туго. Джон Маклуд, манчестерский рабочий, переселившийся во Францию, о котором с такой почтительной хвалой говорят французские власти и в 1792, и в 1793, и в 1795 гг., выстроил в 1790 г. три станка вроде тех, которые были в ходу в Манчестере и которые служили для выделки хлопчатобумажных материй. Он познакомил Францию с некоторыми первоначальными усовершенствованиями в прядильном деле, за что ему правительство было очень благодарно [38] и щедро его вознаграждало. Но в 1795 г. оказалось, что нужно эти же три станка дать тому же Маклуду и помочь ему открыть мануфактуру в Париже, чтобы этим дать ему возможность распространять приемы фабрикации, применяемые в Англии [39].
Несправедливо было бы утверждать, что французское правительство питало особенно розовые иллюзии относительно немногих имеющихся во Франции «машин». Например, механик Тюрк произвел в 1788 г. в правящих сферах большое впечатление [40], указав на негодность даже и тех немногих «машин», которые употреблялись как в хлопчатобумажной [41], так и в шерстяной промышленности. И Тюрк, и его сановный собеседник противопоставляют «настоящие», английские машины тем, которые имеются (и то в виде редчайшего исключения) кое-где во Франции: «… tant qu’on ne se procurera pas les vraies machines, parfaites, telles qu’elles sont en Angleterre, on perdra son temps et son argent» [42]. Эта фраза лучше длинных рассуждений показывает, как пессимистично смотрели власти на технику во французской текстильной индустрии. И Тюрк прибавляет еще, что, кроме «каких бы то ни было машин, нужно иметь еще рабочих, которые умели бы с ними обращаться», а этого во Франции тоже не было.
Машина Барневиля плоха; машина Гарнета «никуда не годится и портит хлопок»; машины, имеющиеся в Лувье и в Арпажоне, машины Мильна — «весьма несовершенны», и именно их-то он противопоставляет «настоящим» машинам.
И в конце рассматриваемого периода, как и в начало, при Директории, как и при Учредительном собрании, официально и категорически констатируется полная отсталость французов сравнительно с англичанами в техническом отношении; все так же власти бьются над вопросом, как бы привлечь и заполучить того или иного английского рабочего, и только прибавляется новое: указание на упадок, в котором находится бумагопрядильное дело во Франции в 1797, 1798, 1799 гг. [43] Эта пессимистическая нота все же не была так заметна в период 1789–1792 гг., до войны; теперь она слышится всюду, идет ли речь об отдельной ветви индустрии или о промышленности и торговле вообще [44].
Племянник, ближайший сотрудник и наследник уже упоминавшегося владельца большой мануфактуры цветных бумажных и полотняных материй (в Jouy-en-Josas) Оберкампфа считал, что даже опыты, касающиеся пряжи хлопка, начавшиеся до революции, стали производиться сколько-нибудь последовательно лишь с конца Директории [45].
2. От бумагопрядильного производства переходим к шерстяному и полотняному. Как ни скромны были успехи и уровень технических знаний в области бумагопрядильной промышленности, но была одна еще более важная по распространенности отрасль индустрии, где техника оказывалась еще первобытное и где английские открытия и усовершенствования еще менее были известны. Мы говорим о выделке шерстяных материй.
Власти, уже в 1795 г. производившие много частных анкет для того, чтобы составить себе понятие о положении отдельных отраслей промышленности, были убеждены, что выделка шерсти обстоит в смысле техники еще хуже, чем выделка бумажных материй. Летом 1795 г. «бюро торговли», незадолго до того учрежденное при Комитете общественного спасения, было озабочено обнаружившимся недостатком рабочих рук в обрабатывающей и в добывающей промышленности и подало Комитету общественного спасения любопытный доклад по этому поводу. К этому докладу нам еще придется вернуться, когда мы будем говорить о реквизиции рабочей силы, а теперь он нас интересует потому, что «бюро торговли» констатирует отсутствие «механических инструментов» в шерстяной промышленности. Бюро никак нельзя обвинить в излишнем пессимизме, ибо оно с надеждой взирает даже на то немногое, что сделано в смысле введения машин в области бумагопрядильной индустрии; мы только что видели, как ничтожны были все эти попытки, и бюро тоже больше употребляет будущее время и условное наклонение [46], но все-таки оно склонно ставить даже эти скромные успехи (если можно тут употребить столь громкое слово) в пример представителям шерстяной индустрии, которые уже ровно ничем в этом отношении похвалиться не могут. По мнению бюро, правительству еще только надлежит содействовать в будущем изобретениям в области выделки шерстяных материй, «побуждать гений искусств к открытию механических орудий для пряжи шерсти» [47], а для этой цели рекомендуется обратить серьезное внимание на имеющийся в распоряжении правительства склад моделей, образчиков машин и заботиться о том, чтобы эти попытки были продолжены, чтобы владельцы мануфактур приезжали учиться и пр. Скромному складу технических моделей (в так называемом Hôtel de Mortagne) придавалось таким образом значение своего рода «храма» [48], места, где должно родиться будущее величие французской шерстяной промышленности.
Но все это для будущего. Пока же бюро признает, что мануфактуристы стремятся приобрести машины, и бюро хочет им помочь, а помочь возможно единственно, «возбуждая гений к изобретениям». Машин же нет, их нет даже в таком скромном, в таком ничтожном количестве, которое необходимо в бумагопрядильном производстве.
И мануфактуристы, и правительство полагают, что в области шерстяного производства машины еще менее известны французам, нежели в области бумагопрядильной индустрии. «Как это столь драгоценные орудия не употребляются повсюду на наших мануфактурах?» — с грустью спрашивает в начале рассматриваемого периода один промышленник в своей докладной записке, поданной интенданту торговли; во всей Пикардии даже бумагопрядильщики работают лишь при помощи старых «дженни» первоначального, несовершенного образца, а о шерстяных мануфактурах и говорить нечего, — в Амьене суконщики все исполняют «ручной работой», без всяких механических усовершенствований. Новые изобретения, новые приемы в этой области если и проникают во Францию, то и забываются часто, и распространяются медленно [49]. «Медленное распространение» — это еще эвфемизм, по крайней мере относительно шерстяной индустрии: так выходит не только на основании самого же цитируемого доклада, но и на основании других документов.
У нас есть и еще прямое доказательство, что при всей убогости техники бумагопрядильная индустрия во Франции в конце XVIII в. стояла все же выше шерстяной промышленности; в 1786 г. интендант Лангедока Балленвилье жалуется интенданту торговли Montaran’y, что суконщики испытывают недостаток в рабочих из-за большого распространения в его провинции бумагопрядильной индустрии. В виде меры помощи суконщикам интендант предлагает возможно более стараться путем рассылки моделей и тому подобного о распространении механического бумагопрядения: это может понизить заработную плату, и тогда «пряхи принуждены будут вернуться в мастерские», работающие на суконные мануфактуры [50]. Помочь суконщикам, облегчая им самим переход к замене живого труда механическим, Балленвилье, глубокий знаток экономической действительности, даже не помышляет, по-видимому, считая это совершенно немыслимым.
Бумагопрядильщики хоть сознавали, что техника у них находится в неутешительном состоянии; шерстобиты и суконщики далеко не всюду убеждены в нужности механических усовершенствований и иной раз весьма самоуверенно об этом заявляют. Когда уже при Директории (в 1797 г.) правительство поинтересовалось и прямо поставило вопрос, «какими средствами можно улучшить производство», то в официальном ответе администрация департамента Сарты, одного из главных центров шерстяной промышленности во Франции, со слов представителей шерстяной индустрии весьма докторально ответила, что в департаменте не употребляют ни животной, ни механической силы для замены человеческого труда, так как в шерстяном промысле это невозможно [51].
До самого конца интересующей нас эпохи в области техники шерстяной индустрии почти ничего не было сделано, и еще при Консульстве в 1801 г. министерство внутренних дел тщетно взывало к изобретателям, обещая премию в 40 тысяч франков за чесальную или шерстопрядильную машину; и префекты вывешивали широковещательные воззвания по этому поводу [52].
В течение всего рассматриваемого периода механические изобретения в области шерстяной промышленности остаются для французов больше мечтой, чем реальностью. Все речь больше идет о разных сомнительных (и по мнению самих правительственных экспертов) отечественных изобретениях [53], которые в лучшем случае помещаются в технический музей в «Conservatoire des arts et métiers» — до 1798 г. так называемый «Hôtel de la maison Mortagne» — на поучение желающим; то выписываются иностранцы (даже из далекой Америки) вроде механика Джона Форда, от которых в конце концов никакой пользы для французской индустрии не проистекает [54] и которые иной раз оказываются обыкновенными авантюристами.
Берем один из самых промышленных районов, северный, — Фландрию, Артуа, Эно, Камбрези, — и там, как повсюду в других местах, та же первобытная техника в обработке шерсти и в выработке полотна. Амьенские фабриканты лет за 15–16 до революции вздумали выделывать тонкие сорта сукон; дело было до договора с Англией (1786), в эпоху обеспеченного внутреннего рынка, и можно было рассчитывать на хороший сбыт. Но тут оказалось, что без помощи иностранных рабочих решительно ничего нельзя сделать, и до самой революции, и при революции амьенские фабриканты не переставали пользоваться услугами немецких прядильщиков. Дело обстояло так, что амьенские фабриканты покупали в Саксонии готовую пряжу, и уже далее пряжа эта перерабатывалась в сукно в Амьене руками французских рабочих. Почему? — «Потому, что мы давно признали, что у нас нет достаточно тонкой шерстяной пряжи, чтобы конкурировать внутри и вне (Франции) с иностранцами» [55], — отвечает представитель амьенской индустрии и спешит подробно пояснить и подтвердить свои слова: французские пряхи, т. е. крестьянки деревень всего северного промышленного района, «несмотря ни на какие предложения и представления», не могут никогда сравняться с заграничными в смысле тонкости изделий, ибо они не употребляют даже той прялки, которая уже известна, но употребляется во Франции лишь при пряже льна: самопрялки, приводимой в движение ногой [56].
3. Нельзя сказать, впрочем, что и полотняные фабрикаты Франции считались в Европе конца XVIII в. первыми по своим достоинствам. Парусина, производимая во Франции, далеко не считалась первостепенной по своим качествам. Марсельские судохозяева даже предпочитали русский парусный холст тому, который производился во Франции; русский парусный холст шел также и на палатки [57].
Кружева французские, выделка которых была сосредоточена главным образом в Валансьене, на севере — в Puy-en-Velay, на юге — отчасти в Париже и Лионе, но отзыву французских промышленников, не могли быть сравниваемы по качеству с кружевами бельгийскими [58], до такой степени, что они даже просили не облагать бельгийские кружева большой пошлиной, ибо все равно французские кружева не конкурируют и не могут конкурировать с антверпенскими или брюссельскими, а между тем «публика привыкнет вовсе обходиться без кружев», если ей невозможно будет пользоваться и этими тонкими бельгийскими сортами, и в результате сократится также сбыт французских кружев [59].
То же самое было и в восточном промышленном районе. Инспектор эльзасских мануфактур Лазовский в последние годы старого режима употреблял усилия, чтобы довести ткачей этой провинции до той степени совершенства, на которой стояли ткачи соседней Швейцарии [60]. А между тем Эльзас, подобно Пикардии, Камбрези, Эно, Фландрии, принадлежал к числу тех провинций, которые считались наиболее высоко стоящими по качеству полотняного производства.
4. Единственная отрасль текстильной промышленности, в которой Франция считалась стоящей выше остальных наций, была выделка шелковых материй, и нередко в беглых характеристиках судеб шелковой промышленности можно натолкнуться на замечания вроде того, что механические усовершенствования в этой отрасли были в ходу уже с конца XVIII столетия; в подтверждение приводятся имена двух изобретателей — Жаккара и Вокансона.
Что касается Жаккара, то его станок был изобретен в 1801 г. (23 декабря 1801 г. изобретатель взял патент). Только с 1809 г. в Лионе стали понемногу распространяться эти механические приборы. Ни о малейшем влиянии этого изобретения на шелковое производство в эпоху революции, следовательно, не может быть и речи (хотя, по преданию, первая мысль об этом станке пришла Жаккару в голову еще в 1791 г.). Не нужно забывать, что, по мнению французских же техников, машина Жаккара вообще только после того, как (уже при Реставрации) она побывала в Англии и была весьма существенно изменена и усовершенствована, получила серьезное практическое значение [61].
Остается «машина Вокансона», как ее называют документы. Бесспорно, что уже в 1770-х годах изобретение Вокансона было не только известно, но и пользовалось признанием и почтением. Тем не менее оно отнюдь не могло повлиять на изменение в организации шелкового производства. Усовершенствования, внесенные Вокансоном в дело обработки шелка, были направлены к достижению более тонкой шелковой пряжи, но они отнюдь не могли повлиять в том или ином смысле на положение рабочего класса, не могли, например, вызвать сокращение спроса на рабочие руки, как это произошло уже в начале XIX в. после распространения машины Жаккара.
Что изобретения Вокансона с этой единственно тут нас интересующей точки зрения не имели социального значения, явствует, между многим прочим, из категорического утверждения инспектора мануфактур Holker’a, который говорит, что механические орудия Вокансона действуют крайне медленно, до такой степени медленно, что «рутинным способом» можно работать в три раза быстрее [62].
Ничуть не ускоряя производства, это изобретение нисколько и не удешевляло его. Машина Вокансона совсем не имела значения в смысле удешевления труда. В 1775 г. инженер Перрон заявлял публично, что при свободной конкуренции крупному фабриканту шелка никогда не выдержать конкуренции мелких, ибо последним производство обходится дешевле, и напрасны поэтому всякие вспомоществования со стороны правительства крупным предприятиям [63]. Это — особенно интересное признание именно потому, что автор стоит всецело на стороне крупных фабрикантов и с хвалой говорит о машине Вокансона (с точки зрения усовершенствования выделки шелка).
Совершенно отдельно от этих попыток стоит история введения цюрихских станков в ленточном производстве. Тут дело не ограничилось административной перепиской и единичными экспериментами. В конце 1760-х годов в город Сент-Этьен (в лионской области) переселился из Швейцарии Фридрих Гауссер. Он привез с собой так называемые цюрихские станки (les métiers à la zurichoise), которые сильно удешевляли фабрикацию лент: в среднем на таком стайке один человек мог выработать столько, сколько 9 человек, работающих без этого станка. К началу интересующей нас эпохи станки так усовершенствовались, что, по некоторым показаниям, они могли заменить 19–20 человек (и более) каждый. Гауссер обучил работе на станках первых французских рабочих, а вскоре эти станки приобрели широкое распространение, как в двух главных центрах этой отрасли производства — Сент-Этьене и Сен-Шомоне, — так и в Лионе, в Париже и др. [64]
Правительство отнеслось к этому нововведению в высшей степени сочувственно и с 1772 г. до 1782 го выдавало даже по 150 ливров вознаграждения за каждый новый станок, пущенный в действие. Но ввиду громадного сокращения числа нужных для производства рабочих рук рабочие-лентовщики подняли ропот и даже стали разбивать эти станки (к сожалению, наши документы ничего не говорят ни о точной дате, ни о месте этих рабочих бунтов) [65]. С другой стороны, против новых станков восстала и цеховая организация, увидевшая опасную конкуренцию и новшество, несовместимое с основами цеховой жизни. Возник процесс между цехом лентовщиков и владельцами новых станков; сначала выиграл дело цех, но потом вследствие вмешательства правительства, благоприятствовавшего изобретению, станки утвердились окончательно [66]. В начале усматриваемого периода их насчитывали около 3 тысяч штук, и как власти, так и рабочие полагали, что главным образом производство лент сосредоточивается (и чем дальше, тем все более) в руках владельцев этих механических станков, уничтожение цехов, конечно, еще ускорило этот процесс.
Так обстояло дело к тому времени, когда сбыт лент вместе со сбытом других предметов роскоши стал быстро падать. Немудрено, что если еще до революции рабочие в этом (и только в этом) производстве почувствовали реальную опасность для себя от введения механического производства, то в эпоху упадка сбыта (именно предметов роскоши), в эпоху обострившейся безработицы, они опять вернулись к наболевшему вопросу и пытались (конечно, совсем безуспешно) избавиться от грозной конкуренции станков. Но об этой попытке у нас будет речь, когда мы будем рассматривать общее состояние рабочего класса и отдельные проявления рабочего движения в эпоху, предшествовавшую максимуму. А пока нам нужно было лишь оттенить, что там, где механическое производство в самом деле получало реальное значение и начинало влиять на экономическую жизнь, рабочие еще при старом режиме пытались противодействовать, и точно таким же способом, как это (в грандиозных размерах) делали рабочие английские. После всего, что было сказано о шерстяном, бумагопрядильном, полотняном и шелковом производстве во Франции, мы совершенно не вправе удивляться, что за весь рассматриваемый период во Франции не было, за ничтожными исключениями, проявлений движения рабочих против машин. Скорее было бы удивительно другое, была бы удивительна сколько-нибудь упорная борьба против врага, не подающего почти никаких признаков жизни [67].
5. Если от текстильной промышленности перейдем к железоделательной и сталелитейной, то и здесь найдем свидетельства современников о решительной отсталости французской техники не только от английской, но и от немецкой. Мало того, не говоря уже об Англии и германских странах, и северные державы — Россия и Швеция — являются опасными конкурентами Франции. Специалисты в конце XVIII в. не считают нужным скрывать от правительства, что в железоделательной технике французы совсем не стоят выше шведов и русских [68], и они требуют воспрещения ввоза железных изделий из Швеции и России, прямо заявляя, что русский и шведский ввоз может совсем погубить эту ветвь национальной индустрии [69]. Конечно, развитие этой отрасли промышленности задерживалось и тем, что во Франции не было такой превосходной руды, как шведская, русская, штирийская. Но, помимо того, не хватало и технических знаний.
Отсутствие во Франции хороших сталелитейных мастерских всегда озабочивало французское правительство. Еще при Людовике XV Трюден посылал в Англию эмиссаров с тайным поручением выведать технические секреты, касающиеся изготовления стали. Еще за три с небольшим года до революции владелец кузнечной мастерской в Perollzet (в Дофине), человек, желавший попытаться завести усовершенствованную сталелитейню во Франции, считал себя вправе просить у правительства денег на поездку в Германию для изучения этого дела [70], и правительство весьма деятельно и с большими затратами поддерживало его [71].
Из этих попыток и стараний выведать секреты, касающиеся сталелитейного дела, долго ничего не выходило [72], и к началу революции во Франции собственно существовала одна большая сталелитейня (в Амбуазе), но и она была весьма и весьма далека от совершенства: плотники, которым (в 1788 г.) давали на пробу стальные орудия, вышедшие из этого заведения, заявляли, что немецкие лучше; а иными инструментами и вообще невозможно было пользоваться [73]. Инспектор мануфактур Браун докладывал интенданту торговли Толозану (в том же 1788 г.), что Sanche, один из совладельцев сталелитейни, обманул своих компаньонов, а те вознаградили себя, обманывая публику [74].
В 1788 г. «бюро торговли» признало, что во Франции не умеют делать такой стали и стальных изделий, как в Англии «или даже в Германии». Это «предубеждение», по мнению самого бюро, вполне основательно [75].
И промышленники, и правительственные власти открыто и неоднократно признают техническую отсталость Франции от Англии и от других стран в сталелитейном производстве вообще и в выделке оружия в частности; здесь слабость французской индустрии внушала властям живейшую тревогу ввиду нескончаемой войны против европейских коалиций. В 1794 г. Комитет общественного спасения обратился даже с особым воззванием к рабочим, занятым выделкой железа, разъясняя им, как следует фабриковать сталь. «Друзья, — читаем мы в этом любопытном документе, — нужно, чтобы наша энергия извлекла из нашей почвы все ресурсы, в которых мы нуждаемся, и чтобы мы показали Европе, что Франция находит в своих недрах все, что необходимо для ее мужества! Нам недостает стали, той стали, которая должна служить для выделки оружия, нужного всякому гражданину, чтобы наконец покончить борьбу свободы против рабства» [76]. Комитет общественного спасения знает, что и до войны Франция не была независимой от иностранцев по части получения этого товара: «До сих пор наши дружественные отношения к соседям и особенно препятствия, которые ослабляли нашу индустрию, заставляли нас пренебрегать фабрикацией стали. Англия и Германия доставляли ее нам для удовлетворения почти всей нашей нужды в ней, но деспоты Англии и Германии порвали с нами все сношения. Хорошо, будем сами делать сталь!». И дальше идет длинное изложение всех технических приемов, необходимых для получения стали: говорится об устройстве и расположении горнов, о природе железа, о плавке, об испытании полученной массы и т. д. Приводятся многочисленные и детальные рисунки горнов с пояснениями и подробнейшими указаниями. Текст этого разъяснения был составлен по приказанию комитета Вандермондом, Монжем и Бертолле.
Это воззвание говорит о зависимости Франции от других стран в деле покупки оружия и стали, нужной для выделки оружия. Но у нас есть свидетельство, что даже стальные плотничьи инструменты и земледельческие орудия высших сортов выписывались из Штирии и Каринтии, и только незадолго до революции Луи Муару, собственник сталелитейни в Перузеле (в департаменте Изеры), начал в присутствии тех же экспертов от правительства — Вандермонда, Монжа и Бертолле — производить опыты над железной рудой, получаемой из гор Дофине [77]. Но он не мог вести своего дела при помощи французских рабочих, а должен был выписывать рабочих из Австрии, так что, когда началась война (при революции) и эти рабочие удалились на родину, он должен был прекратить выделку земледельческих инструментов.
Другая большая сталелитейня (в Амбуазе), о которой уже шла речь, еще существовавшая в первые годы революции и тоже пришедшая впоследствии в упадок, точно так же обходилась при помощи иноземных рабочих и только по этой причине считала себя вправе хвалиться, будто достигла совершенства английских и германских изделий [78].
И вплоть до времен Директории, даже до конца рассматриваемого периода, не прекращаются заявления о том, что стальных инструментов во Франции нет и что покровительство сталелитейному делу совершенно необходимо. В 1795, в 1796 гг. рабочие в плотничьем промысле, в земледельческих работах и так далее вынуждены, за полным отсутствием новых стальных инструментов, выискивать заброшенные было давно старые инструменты и обходиться при их помощи, что, конечно, влечет огромную потерю времени, и даже казенные работы от этого много терпят [79], — это констатируется и частными лицами, и муниципальными властями.
В сталелитейном деле Франция вообще всецело зависела от заграничного ввоза, и власти это хорошо понимали [80]; в этом отношении война, прервавшая правильные торговые сношения между Францией и большинством европейских стран, нанесла сильный удар как промышленности, так и земледелию; инструменты, земледельческие орудия — все это в таких массах ввозилось из Англии и германских стран, что обойтись без этого ввоза казалось совсем невозможным [81].
В начале войны 1792 г. во Франции существовала всего одна сталелитейная мастерская (в Тюлле), оборудованная с помощью выписанных из Германии рабочих [82].
Почти совершенное отсутствие [83] частных сталелитейных мануфактур заставило Комитет общественного спасения декретом 16 прериаля (4 июня 1794 г.) учредить в Аннеси (в департаменте Mont-Blanc) мануфактуру стальных изделий. Директором был назначен уроженец немецкой Швейцарии Гольдшмид; рабочих, конечно, пришлось разыскивать в Германии, обещать им всякие блага, давать подъемные деньги [84], давать даже казенную мебель для жилищ и т. д. Дела на мануфактуре в Аннеси пошли, однако, плохо: производство временами совсем останавливалось, ибо материала нет, железо расхватывается кузнецами и тому подобное, несмотря ни на какие реквизиции. Директор Гольдшмид с середины 1796 г. «покупает» у правительства эту мануфактуру на таких условиях: правительство уплачивает ему 100 тысяч ливров, которые числятся за мануфактурой по разным обязательствам, а он берет на себя отныне вести ее на свой счет [85]. Но и при новом положении мануфактура не работает, и уже в сентябре 1796 г. немцы-рабочие просят правительство, «которое их пригласило», чтобы оно же позаботилось о дальнейшей их участи, они мечтают в крайнем случае, чтобы правительство хоть помогло им добраться до родины [86].
И все-таки нужны стальные изделия, прежде всего косы, и опять приходится обращаться к иностранцу, давать базельскому мануфактуристу Jaeger’y Schmidt’y субсидию, чтобы он переселился в Париж с 30 рабочими из Базеля и завел тут мастерскую для выделки кос [87].
Не раз, не два при Конвенте и Директории власти жалуются [88], что земледельческих орудий совсем почти нет, и с радостью ухватываются за всякий случай привлечь то того, то другого иностранца — немца или швейцарца, который бы хоть косы взялся выделывать: дают ему деньги на переселение, на выписку рабочих из-за границы и т. д. [89]
Франция сразу отодвинулась в этом отношении, в смысле техники сельскохозяйственных орудий, едва ли не ко временам Людовика XIV, и сообразно с этим явилась необходимость восполнить недостаток и несовершенство орудий большей затратой мускульного труда (мы увидим впоследствии, как отразилось это обстоятельство на рабочих в эпоху господства реквизиций).
Казалось бы, что затяжная война, начавшаяся в 1792 г., должна была сделаться причиной быстрой акклиматизации сталелитейного производства во Франции, но этого не случилось.
Железоделательные мастерские и кузницы должны были наскоро удовлетворять потребностям военного министерства. Те из них, которые пережили эпоху максимума, реквизиций, финансового кризиса, в конце концов, стали давать владельцам довольно хороший доход вследствие непрекращающихся правительственных заказов; а погибнуть все они не могли уже потому, что правительственные власти даже в 1793–1794 гг. принуждены были оказывать в самом деле существенную помощь нескольким из этих заведений и ради нужд военного дела предохранять их от конечной гибели. Эта помощь являлась либо в форме реквизиции топлива и сырых материалов, нужных для кузницы, либо в форме единовременных пособий, и хотя многие заведения погибли, но эта ветвь индустрии оказалась сравнительно меньше потерпевшей, чем другие. Но нечего и говорить, что уцелевшие счастливцы довольствовались своими барышами и абсолютно ничего не сделали для усовершенствования техники; это с горечью констатирует и представитель правительственной власти, от которого мы слышим категорическое утверждение, что в эпоху Директории во Франции стали абсолютно нет [90].
Правительство и при Конвенте, и при Директории, не смущаясь неудачами, продолжало не щадить никаких усилий, чтобы развить сталелитейное дело во Франции. Власти давали авансы лицам, желающим завести сталелитейню [91], оказывали им всевозможные милости, например, избавляли от военной службы рабочих, которые работали в подобных заведениях [92], но ничего не помогало, и сталелитейни спустя некоторое время после открытия начинали сбиваться на обыкновенные железоделательные мастерские и кузницы. Слишком еще неизвестна была техника, слишком дорого обходилось производство, слишком незначителен и главное необеспечен был сбыт, не вследствие отсутствия потребности, а вследствие общего экономического расстройства страны и, в частности, вследствие полного обесценения ассигнаций.
Нужно сказать, что такая милость, как избавление от военной службы, делалась также по отношению к рабочим, работающим и в железоделательных мастерских, и в простых кузницах [93]. Но тут и, кроме этой милости, власти оказывались чрезвычайно внимательными и готовыми идти навстречу нужде. Дело в том, что, вследствие ли дороговизны выделки стали, вследствие ли невозможности надеяться на быструю постановку в больших размерах сталелитейного производства во Франции, власти больше всего заботились (и при Конвенте, и при Директории) о том, чтобы хоть в смысле железоделательных мастерских быть достаточно обеспеченными. Сталь до конца Директории не переставала считаться чем-то вроде предмета роскоши. Как это ни парадоксально звучит, сталелитейное производство и оружейная техника за весь наполненный войнами период революции не сделали во Франции никакого успеха. Точно так же в конце, как и в начале рассматриваемого периода фабрикация жести ни в малейшей степени не могла идти в сравнение с английской, по собственному признанию французских мануфактуристов [94].
И еще в конце Консульства промышленники, учредившие в Сент-Омере жестяную мануфактуру «наподобие английских фабрик», просят у генерала Бонапарта субсидии за то, что они выучили 80–100 французских рабочих этого рода производству, которое доселе было им не известно [95].
Подобные ходатайства весьма естественны, так как и при Консульстве французские власти охотно признавали огромное преимущество английской и немецкой железоделательной и сталелитейной техники над французской. Во Франции уже в конце рассматриваемого периода и в первые годы Консульства существовало единственное заведение, выделывавшее проволоку. Но и оно было далеко от совершенства, потому что, как заявляло бюро торговли в одном докладе министру внутренних дел, «доказано, что один немецкий рабочий в один день делает то, что занимает французского в течение трех дней», и изделия французские нельзя сравнивать с немецкими [96]; по признанию властей, приходилось из-за этого ввозить во Францию из германских стран проволоку на 1 миллион ежегодно. И когда (в 1802 г.) один немецкий фабрикант (из Лимбурга) пожелал переселиться во Францию, то там это приняли с радостью, и в министерстве внутренних дел шли совещания о том, как помочь этому фабриканту «соблазнить» 12–15 немцев-рабочих переселиться во Францию [97].
Даже в конце 1820-х годов первоклассный знаток французской промышленности все еще только надеялся, что Франция «вскоре» не будет уступать Германии в выделке сельскохозяйственных орудий, а также стальных клинков [98], радовался, что «постепенно Франция со времени мира (с 1814 г.) перестает быть данницей заграницы» в этом отношении…
От отсутствия сталелитейных мастерских страдали все связанные с этим производством промыслы, прежде всего оружейное дело: когда начались революционные войны, то французское правительство испытывало не раз неудобства от этого. Громадная оружейная мануфактура в Тюлле (департамент Коррез), поставлявшая оружие правительству, не могла найти во Франции понимающих сталелитейное дело рабочих, так что пришлось, как уже выше было упомянуто, выписывать их в начале 1792 г. из Германии, из княжества Нассау [99]. Эти немецкие рабочие успели обучить нескольких французов, так что мануфактура обзавелась сталелитейной мастерской, первой во Франции [100]. Кроме сталелитейщиков, мануфактура нуждалась и в рабочих по части оружейного мастерства в точном смысле слова, так что когда в 1793 г. Комитет общественного спасения приказал предпринимателям увеличить, насколько лишь возможно, производство, то предприниматели, которые, впрочем, все равно не могли бы делать больше 20 тысяч предметов холодного и огнестрельного оружия в год из-за отсутствия сырья [101], не могли на первых порах даже и до этой цифры довести производство вследствие недостатка обученных рабочих, так что правительству предлагалось подождать, пока обучаемые ученики-рабочие приобретут достаточное умение [102].
К слову замечу, что в смысле оружейного дела Россия едва ли стояла в эту эпоху ниже Франции. Город Сент-Этьен — центр оружейного дела во Франции — находился в течение всей революции в весьма неблагоприятных (в смысле техники) условиях. А между тем, говоря даже о 30-х годах XIX столетия, старожил и патриот Сент-Этьена и панегирист местной индустрии все еще жаловался, что Россия «благодаря машинам» выделывает лучшее оружие, чем Франция и, в частности, чем Сент-Этьен [103]. Россия еще до революции считалась серьезным конкурентом Франции в железоделательном производстве.
В очень неутешительном состоянии находился и другой важный промысел, тоже тесно связанный со сталелитейным производством, — выделка игл. В конце 1794 г. официально было констатировано Комитетом общественного спасения, что во Франции никакой фабрикации игл не существует и что для удовлетворения спроса на этот товар приходится обращаться исключительно к ввозу из-за границы [104]. Комитет был озабочен не только тем, что «торговый баланс» в этой отрасли всецело в пользу заграницы, но также и тем, что в деле оборудования одежды солдат Франция оказывается в зависимости от других стран.
Едва только начались французские завоевания, едва только города западногерманских владений стали переходить в руки французской армии, как еще в разгаре военных действий Робержо, представитель Конвента при армии, экстренно, чуть не тотчас после занятия города Штольберга (близ Ахена), сообщил Комитету общественного спасения о приемах, практикуемых местными фабрикантами игл. Указании были тотчас же приняты к сведению. Прежде решено было командировать в Ахен агента для найма рабочих, опытных в игольном производстве; эти люди должны стать учителями французов в особой образцовой национальной мастерской для выделки игл, которая будет открыта в Париже [105]. Комитет общественного спасения решил таким путем насадить эту отсутствующую ветвь индустрии во Франции, или, как он выразился, «nationaliser l’art de faire des aiguilles» [106]. A что спрос во Франции на этот товар огромен, Комитет общественного спасения признал также самым категорическим образом [107].
Весьма характерен для беспомощности французской техники в эту эпоху тот факт, что Робержо счел нужным прислать Комитету общественного спасения мемуар, в котором он на пятнадцати больших страницах, очень убористым почерком исписанных, излагает все технические детали существующего в Штольберге игольного производства [108], за что и удостоился горячей похвалы и благодарности.
В конце 1794 г. специальная «национальная мастерская» для выделки игл наконец была открыта, и тут наблюдатели прямо поражались неумелостью, несовершенством работы, первобытностью французских инструментов, пользуясь которыми, рабочий должен был больше всего думать, как бы не искалечить пальцы [109], а эта мастерская именно и заведена была в качестве образцовой для формирования кадров умелых техников [110]. Ничего из этой затеи не вышло, и мастерская была закрыта 21 декабря 1797 г. [111].
Сельскохозяйственные орудия, оружие, иглы и нужные для мануфактурных работ стальные инструменты — вот в чем ощущался жестокий недостаток в течение всего рассматриваемого периода. Во Франции не умеют делать стали, так формулировалась одна из самых тяжких забот и Комитета общественного спасения при Конвенте, и министерства внутренних дел при Директории.
6. Не только в стальном оружии нуждалось французское правительство в течение всей революционной эпохи.
В области кожевенной промышленности также власти озабочены были в течение всего революционного периода тем, чтобы английские приемы поскорее проникли во Францию; и точно так же «в королевстве (Франции) не существует ни единой кожевенной мастерской, действительно английской», жаловался представитель правительства еще в 1792 г. [112] Между тем потребление этого товара — колоссальное и до 1792 г. [113] — не уменьшилось, а возросло после начала войн с европейской коалицией, и Франция, которая по официальному отзыву была в этом отношении данницей Англии до войны [114], должна была особенно серьезно подумать о том, как обойтись своими средствами. Отдельные промышленники, целые компании и перед началом, и во время революции подают просьбы о вспомоществовании, обещая завести «истинно английские» кожевенные мануфактуры [115]. Некоторым (например, мануфактуре Legendre в Понтодемере) удается даже получать крупные субсидии, доходящие до 150 тысяч ливров, но факт, констатированный только что приведенным свидетельством, остается верен не только для 1792 г., но и для всего рассматриваемого периода: английская техника не прививается во французской кожевенной промышленности. В 1794 г., жалуясь на конкурентов, хозяева кожевенной мануфактуры в Понтодемере — Лежандр и Мартен, — прося защиты у Комитета общественного спасения, в виде особой заслуги своей выставляют то обстоятельство, что они первые ввели во Франции некоторые английские технические приемы, что они выписали английских рабочих, и с гордостью заявляют, что если есть во Франции несколько англичан-рабочих, то это они — Лежандр и Мартен — их привлекли [116].
И что не только они сами на себя так смотрели, но и правительственные власти на них так смотрели, мы узнаем из другого документа — из письма министра внутренних дел к военному министру (в 1798 г.): министр просит дать Лежандру и Мартену несколько английских пленников, знающих кожевенное дело, и по этому поводу министр говорит об их мануфактуре («façon anglaise») как о наилучшем заведении и прибавляет, что очень важно привить и распространить во Франции этот род индустрии, ибо это может благоприятно повлиять на французский торговый баланс [117].
Этот документ, относящийся к 1798 г., не оставляет сомнений, что вплоть до конца рассматриваемого периода люди, знакомые с английскими техническими приемами в области кожевенного производства, еще считались редкими пионерами. Усовершенствования, сделанные за этот период во Франции (Сегином), в жизнь войти не успели [118].
7. В бумажном производстве Франция также оказывалась технически отставшей от некоторых других стран. Еще в 1793 г. бывший главный инспектор мануфактуры Desmaret просил и получил награду за то, что он первый ознакомил Францию с теми приемами, которые уже давно были в ходу на голландских бумажных мануфактурах. При этом французские власти с благодарностью отмечают, что этим он принес весьма большую пользу республике, невзирая на труды и опасности, с которыми были сопряжены путешествия этого пионера в Голландию [119], совершенные еще при старом режиме. Нужно заметить, что практические последствия деятельности Desmaret выразились лишь в том, что в Анноне, в Ангулеме и в Эссоне [120] возникли три мануфактуры, где стали практиковаться некоторые приемы голландской фабрикации.
Кроме голландцев, англичане и в бумажном производстве являются в глазах французского правительства учителями, но позаимствовать у них что-либо оказывается труднее. Однако достаточно найти образчик английской бумаги на одном английском судне, и уже специальная комиссия, которая следит за опытами усовершенствования некоторых сортов бумаги, принимает эту случайную находку самым серьезным образом и подвергает ее внимательному анализу, передает экспертам, производящим опыты, и т. д. Дело происходило в июле 1795 г., и речь шла о выработке бумаги, которая годилась бы для завертывания пороха: не пропускала бы влагу, легко не воспламенялась и пр. [121]
До конца рассматриваемого периода техника бумажного производства во Франции не делает никаких заметных успехов, и прогресс ее остается в полной зависимости от случайных причин вроде путешествия Desmaret в Голландию или находки английской бумаги на взятом в плен корабле.
Механические усовершенствования и в этой области еще не могли изменить положение рабочих или повлиять на сокращение числа рабочих рук.
Большая мануфактура цветной бумаги и обоев близ Тура дает работу сотне рабочих; ее владельцы (Deladroitière, Lefebre et Cie) пережили бедственные времена, додержались до конца Директории, но свободных средств для устройства механических приспособлений у них нет. Они понимают, насколько полезен для них был бы медный цилиндр (для тиснения), но, по собственному признанию, «они не могут пожертвовать 8–10 тысячами ливров», чтобы приобрести его. Казалось бы, объяснение вполне удовлетворительное. Но они считают долгом своим тут же, рядом с этим заявлением о причине, почему они не покупают полезного механического орудия, изложить соображение иного порядка: цель промышленности — кормить возможно больше людей; пока заработная плата держится на таком уровне, что не способствует сокращению сбыта, а механическое производство полезно лишь там, где не хватает людей, но не во Франции [122], и т. д. Другими словами: техника и в этой области к концу рассматриваемого периода (документ относится к 1798 г.) еще не стояла на таком уровне, чтобы промышленники могли ждать удешевления производства от введения новых усовершенствований. Подчеркнутые мной слова в выноске прямо указывают, что в этом смысле фабриканты обоев ничего от медного цилиндра не ждали. Тратить же деньги только ради улучшения качества товара они не хотели. Они считали нужным пускаться в размышления о филантропических целях промышленности и пр., это нас не удивит, если мы примем в соображение, что документ, который мы рассматриваем, представляет собой прошение о субсидии, адресованное министру внутренних дел в 1797 г., когда Директория была озабочена страшной безработицей и голодовкой рабочего люда.
8. И в области добывания химических продуктов Франция отстала от Англии, от Бельгии, от Голландии [123]. Из Бельгии уже после занятия ее французскими войсками Комитет общественного спасения получил рецепт усовершенствованного изготовления нашатыря [124], щелочи и поташа [125]; из Бельгии приезжали специально уполномоченные люди для доклада Комитету общественного спасения о бельгийских приемах изготовления квасцов [126]; голландцы еще в 1796 г. были в глазах французов единственными обладателями технических секретов по части выделки свинцовых белил, берлинской лазури и т. п. [127].
Английское превосходство в этой отрасли индустрии также было признано. И вплоть до конца рассматриваемого периода не прекращаются усилия французских промышленников, стремящихся если не сравняться с англичанами, то хотя бы не погибнуть от конкуренции с ними, ибо, несмотря на войну и все запрещения, те товары, которые во Франции не могли производиться, проникали со всех сторон контрабандным путем.
Там, где французам удавалось в этой области сказать новое слово, их открытия далеко не сразу получали практическое значение. Например, хотя в сущности добывание соды по способу Leblanc уже в 1791 г. было открыто, но утилизировать это открытие в промышленности начали лишь с 1807 г. [128].
Несомненно, одна из причин такого позднего использования этого открытия, например в мыловарении, заключалась также в том, что кадры марсельских мыловаров успели в это время уже рассеяться в разные стороны (под влиянием обстоятельств, о которых дальше будет речь), а уровень технических знаний в этой области был еще незначителен. Эту черту совершенно необходимо здесь отметить.
а) Если были области производства, в которых французы в конце XVIII в. не знали соперников, то, конечно, к ним прежде всего нужно причислить мыловарение. Но техническое совершенство марсельских мыловаров нигде более на всем протяжении Франции не встречалось: в остальной Франции понятия не имели о секретах марсельского производства. Дальше мы увидим, какие страшные бедствия пережила страна в 1793–1795 гг. от недостатка нужного для мыловарения сырья. Здесь отметим, что Франция пострадала не только от недостатка сырья, но и от полного отсутствия мыловаров, знающих свое дело.
Это отсутствие мыловаров во Франции, где бы то ни было, кроме Марселя, отмечает и орган комиссии земледелия и искусств, издававшийся с конца 1794 г. [129].
Стоило Марселю перестать поставлять мыло, и страна очутилась в беспомощном состоянии. Полное отсутствие технических знаний было одной из причин бедствия. Все попытки завести где-либо мыловарню кончались неудачей: публике предлагались куски какого-то отвердевшего месива, которое и в воде не распукалось и грязь не отмывало. Правительство решительно не знало, что ему делать: то принималось, не щадя сил и средств, поощрять мыловарение, то назначало строгие ревизии этих новых заведений, открытых исключительно благодаря его содействию, чтобы убедиться, стоит ли покровительствовать им, или лучше закрыть их. В начале 1794 г. было издано даже постановление о всеобщей ревизии этих злосчастных «новых фабрик», ибо в самом деле отовсюду слышны были возмущения и горькие жалобы [130]. И особенно характерно, что на эти «новые фабрики» и власти, и общество стали в конце концов смотреть не только как на бесполезное, но прямо как на вредное явление, ибо они только зря потребляли сало, которого не хватало на свечи, и вообще изводили сырье, которое могло бы пригодиться.
И так было всюду: даже в тех редких случаях, когда налицо оказывались и средства, и почти все условия для процветания заведения, не хватало техники, не хватало сколько-нибудь понимающих дело рабочих. Чуть ли не самая лучшая из этих наспех устроенных мыловарен возникла в 1794 г. в городе Туре. Она принадлежала предпринимателям «деятельным и богатым», имела обширное помещение и т. д., но… мыло, вырабатываемое ею, «еще не приобрело той степени совершенства, которая в самом деле необходима для пользы общества» [131]: это мыло не распускается в холодной воде, оставляет на белье жирные пятна и вообще ни в какое сравнение с «настоящим» мылом не идет.
Вследствие только что отмеченной общей ревизии, таких документов, свидетельствующих об абсолютной негодности этих мыловарен, сохранилось довольно много. Новое мыло не отчищает, а грязнит белье, — вот самая обычная формулировка мнения ревизоров, мнения потребителей.
б) Что касается других производств химических продуктов, если не столь настоятельно необходимых, все же в высшей степени существенных, то в этом отношении в конце XVIII столетия переживался период ученичества.
Вопрос об усовершенствовании способов окраски материи, как шерстяных, так и шелковых, бумажных и полотняных, занимал французское правительство до самых последних времен старого режима. Еще в 1784 г., приглашая Бертолле занять место химика при «администрации торговли», генеральный контролер Каллон подчеркивал, что его обязанности главным образом будут заключаться в изыскании всевозможных способов окраски материй и в составлении теоретического и практического руководства по этому вопросу [132].
Такие трактаты издавались за счет правительства и деятельнейшим образом им распространялись бесплатно [133] не только до революции, но и в течение революционного периода. Судя по сохранившимся документам, большей частью благодарственным письмам от директорий департаментов интенданту коммерции Толозану, в революционный период, особенно в 1791 г., эта правительственная пропаганда шла гораздо деятельнее, чем раньше; особенно усердно рассылался трактат Dambourney [134]. Издавало французское правительство и переводы иностранных технических руководств, например книги Пернера [135]. Бертолле признает, что, когда он только приступал к отправлению своих обязанностей, ему пришлось начать с изучения немецкой техники [136] и вообще иностранных книг. Со своей стороны, и он сам предложил некоторые технические усовершенствования в выработке красящих веществ, и в первые годы революции эти усовершенствования начали уже применяться в мануфактурах в Лилле, в Валансьене, в Армантьере, отчасти в Руане, Лавале, Орлеане, в Лионе, в Бретани (он не называет, где именно в Бретани). Но Бертолле не на всех этих пионеров возлагает свои надежды, ибо слишком еще ничтожны технические познания и подготовка лиц, стоящих во главе французских мануфактур [137], но он верит в прогресс, хотя и медленный.
Официально (и в согласии с мнением самих фабрикантов) признано было в середине рассматриваемого периода, в 1794 г., что искусство окраски материй находится во Франции в «колыбели» [138]; и, несмотря на очень стесненные финансовые обстоятельства, Комитет общественного спасения решил декретом 1 фрюктидора (18 августа 1794 г.) открыть особую школу для обучения рабочих окраске материй. И так же как в области игольного производства, французы стремятся перенять недостающие им технические познания у иностранцев, земли которых завоевывают: едва успевши занять Голландию, они тотчас заинтересовываются тем, как голландцы добывают красящие вещества из дерева, и признают, что голландский способ лучше французского, что французский «разорителен для фабрик, для торговли, так как увеличивает цену товаров» [139].
В конце 1794 г. комиссия земледелия и искусств была сильно занята изысканием средств выделывать чернила при помощи тех материалов, которые можно найти во Франции, и считала, что тот, кто разрешит эту задачу, окажет «истинную услугу искусствам и торговле» [140]. Но вопрос о том, как изготовлять хорошие чернила, противящиеся разрушающему воздействию времени и невытравляемые некоторыми кислотами, так и оставался неразрешенным в течение всего рассматриваемого периода, несмотря на ряд попыток отдельных изобретателей, обращавших на себя внимание правительства [141]. Этот вопрос и позже озабочивал власти, и даже Наполеону I писались доклады, относящиеся к этому предмету. Но за весь рассматриваемый период ни в выделке чернил, ни в изготовлении большинства красящих материалов существенного прогресса не было, и вопрос оставался открытым. Для полноты характеристики отмечу, что и тут, в производстве химических продуктов, современники усматривали так же мало технического прогресса, как в текстильной, сталелитейной, бумажной индустрии. Их пессимистические оценки обычно не снабжены никакими оговорками. «Il n’a pas été fait de découvertes utiles», — вот стереотипный ответ, который получил из ряда мест в 1797 г. министр внутренних дел, когда он пожелал отдать себе отчет о состоянии французской промышленности и разослал соответствующий циркуляр [142].
После всего сказанного немудрено, что «выставка», устроенная в видах поощрения промышленности стараниями министра внутренних дел Франсуа де Нефшато в 1798 г., не вышла особенно удачной, даже по (позднейшему) признанию лица, служившего в эти годы в том отделении министерства внутренних дел, которое заведовало мануфактурами, несмотря на большую склонность этого автора к оптимизму [143]. Даже жюри на этой первой «выставке», несмотря на свой официальный оптимизм, могло лишь выразить надежду, что отныне, в будущем, Франция избавится от «порабощения» иностранной промышленностью [144], для чего пока никаких оснований не было.
Французская промышленность была в течение всего рассматриваемого периода еще в стадии младенчества [145]; вот категорически высказанное по поводу именно прядильного производства суждение, которое Комитет общественного спасения выслушал в 1795 г. и которое, но мнению некоторых современников, оставалось в известных отношениях в силе не только до конца революционной эпохи, но и при Консульстве и в первые годы Империи. Это суждение при всей резкости характерно для взгляда, многократно высказываемого в наших документах.
Почти совершенное отсутствие во Франции механических усовершенствований свидетельствует о факте господства домашней промышленности, что объясняет и подтверждает этот факт.
Теперь нужно прибавить еще несколько слов о том, как отражалась на положении французских рабочих ярко выраженная техническая отсталость их в целом ряде производств.
Эти последствия были двоякого рода.
1. Французские промышленники и деятельно поддерживавшее их правительство стремились создать кадры квалифицированных рабочих из иностранцев, принадлежавших к опередившим Францию нациям.
Я уже говорил о попытках выписывать из Англии и из германских стран инструкторов, миссия которых заключалась бы в подготовлении французских рабочих. Но явление, о котором сейчас идет речь, другого порядка, хотя объясняется все той же основной причиной — технической отсталостью Франции. Во-первых, слишком неотложны были нужды текущего дня именно в 1789–1799 гг., чтобы можно было спокойно ждать, пока инструкторы доведут до благополучного конца порученное им дело; во-вторых, как уже отмечено выше, сплошь и рядом никаких реальных результатов от их деятельности не получалось.
Вследствие этого замечается тенденция выписывать рабочих целыми партиями и поручать этим выписанным иностранцам более сложную и ответственную часть работы. Выше уже рассказан случай, как из Швейцарии (в 1794 г.) был выписан директор будущей сталелитейни вместе со всем нужным для этого заведения рабочим персоналом.
Из Англии и даже из Германии приходилось выписывать рабочих всякий раз, когда хозяин заведения стремился получить стальные изделия высшего качества, и это считалось такой заслугой перед отечеством, за которую можно было надеяться получить денежную награду от казны [146].
Когда начали прибывать во Францию партии пленных англичан (особенно с 1795 г.), то промышленники самых разнообразных профессий непрерывно обращались в Комитет общественною спасения, а позднее — к министру внутренних дел с просьбой снабдить их этими пленниками, ввиду того что среди них есть рабочие, которым можно поручить трудную для французов работу.
В середине 1795 г. Комитету общественного спасения был даже представлен доклад, специально касавшийся английских пленных; указывалось на то, что среди этих пленников есть рабочие, работавшие в Англии на бумагопрядильных, сталелитейных, суконных, полотняных мануфактурах, и так как «бесконечно выгодно» было бы «привязать их к Франции», то хорошо было бы их поскорее женить тут; необходимо вообще поскорее их пристроить, пока еще нет слухов о мире между Францией и Англией и пока, значит, у пленников нет надежды на скорое возвращение [147]; всему этому делу придается колоссальное значение в смысле содействия французской индустрии. Что так склонен был смотреть на это и сам Комитет общественного спасения, — видно из других документов.
Просят и получают от правительства пленных англичан также кожевенные фабриканты Лежандр и Мартен (в 1798 г.) [148].
Из ряда свидетельств видно, что иностранцы-рабочие (особенно англичане) ценились очень высоко и в их техническое превосходство над французами верили обычно очень твердо и мануфактуристы, и члены комиссии земледелия и торговли. 6 сентября 1793 г. Конвент постановил арестовать всех иностранцев, подданных тех держав, с которыми Франция вела в то время войну, но в особом пункте оговаривалось, что этот декрет не распространяется на тех рабочих-иностранцев, которые представят рекомендацию двух граждан, известных своим патриотизмом [149]. Но подозрительность к Англии и ненависть к англичанам были так велики, что в первое время после издания этого декрета многие склонны были думать, что милостивая статья не относится все-таки к англичанам, и вот Конвент особым распоряжением подтверждает, что английские рабочие изъемлются из действия декретов, направленных как против иностранных подданных враждебных держав вообще (6 сентября), так и против англичан в особенности (9 сентября); при этом министру внутренних дел было предписано успокоить «мирных граждан» (les ouvriers, artistes et antres citoyens utiles, originaires d’Angleterre, vivant de leur industrie… les citoyens paisibles) [150]. При знаменитом провозглашении «революционного правительства», т. е. фактической диктатуры Комитета общественного спасения (10 октября 1793 г.), Конвент опять не забыл особой статьей оградить безопасность англичан-рабочих [151]. В самую грозную годину террора, когда было объявлено, что всякий подданный враждебной Франции державы, арестованный в Париже или в городе, где есть крепость, или в приморском городе, объявляется вне закона (т. е. предается смертной казни без судебного разбирательства), Конвент не забыл и тут изъять «рабочих-иностранцев, живущих трудами рук своих» [152].
Боязнь лишиться нужных рабочих рук сказывается не только в этих милостях относительно иностранцев-рабочих, но и в снисхождении к рабочим-эмигрантам, хотя в глазах закона положение эмигранта было гораздо хуже, чем положение иностранца. В последние месяцы своего существования Конвент декретом 22 нивоза (11 января 1795 г.), подтверждая в самых суровых выражениях приказ всем властям безотлагательно выискивать и судить по всей строгости законов возвратившихся эмигрантов, оговаривается, что «не считаются эмигрантами» рабочие и земледельцы, «обыкновенно работающие в мастерских, фабриках, мануфактурах или на земле», если они покинули Францию после 1 мая 1793 г.
Для их легализации требуется лишь подтверждение со стороны местных властей, что они действительно были рабочими до самовольного оставления отечества [153]. При этом совершенно не требовалось никаких обещаний, раскаяний, ручательств с чьей бы то ни было стороны: рабочие просто амнистировались, и это как раз тогда, когда, несмотря на «термидорианскую реакцию», власти менее, нежели когда-либо, склонны были прощать эмигрантов.
Целый ряд отдельных, но очень характерных черт ярко обрисовывает эту тенденцию правительственной политики. Министр внутренних дел пишет (25 февраля 1792 г.) бумагу военному министру: есть солдат, англичанин по происхождению, Гибсон, который, будучи в отпуску три месяца, работал на одной мануфактуре в Париже; и вот министр внутренних дел проведал, что солдат Гибсон не прочь обосноваться во Франции по окончании своей службы во французских войсках, — так не может ли военный министр его теперь же уволить? Ибо тогда можно было бы немедленно воспользоваться его познаниями, а это было бы очень важно для успехов национальной индустрии [154].
Идет переписка об этом, власти делятся между собой опасениями, как бы соотечественники не уговорили Гибсона уехать из Франции, как бы его удержать [155] и т. д. И ведь речь идет отнюдь не о каком-либо изобретателе и не об инструкторе, а об обыкновенном, среднем английском рабочем, за которым только та заслуга, что он работал в английской бумагопрядильне.
Но дело доходило до того, что власти по первому требованию владельцев бумагопрядилен предоставляли в их распоряжение пленных англичан, которые могли бы быть полезны своими техническими познаниями. Документы ясно нам говорят, что французское правительство времен Директории стремилось извлечь пользу из англичан, попавших в плен, такую же пользу, как, например, Петр I из шведских пленников. Траване, владелец бумагопрядильни в Royamont (департамент Сены-и-Уазы), обратился в Комитет общественного спасения с просьбой прислать к нему на работы пленных англичан, и тотчас же собирается соединенное заседание Комитета общественного спасения и комитета земледелия и искусств, и выносится постановление (13 флореаля — 2 мая 1795 г.) предоставить в распоряжение Траване всех пленных, каких он укажет, а подлежащим властям озаботиться, чтобы это было исполнено безотлагательно, ибо это важно для интересов французской торговли [156]. И это вовсе не было единичным случаем: английские пленники годами работали на французских бумагопрядильных мануфактурах [157].
2. Второе следствие технической отсталости Франции заключалось в том, что предприниматели нередко стремились часть нужной работы заказывать иностранным рабочим, давать заказы за границу, а французским рабочим давать лишь доделывать работу. При этом мануфактуристы руководствовались стремлением получить либо более дешевую работу, либо более тонкую, более совершенную.
Из Реймса в Шампани, как и из Амьена, из Бове, промышленники систематически отправляли шерсть для пряжи в германские страны и, уже получив оттуда пряжу, раздавали ее своим ткачам [158]. Амьенские шерстяные мануфактуры поступали точно так же. Амьенские фабриканты сукон для выработки тонких сортов закупали пряжу в Саксонии. Они, подобно другим предпринимателям, просили власти (в 1791 г.) не облагать эту саксонскую пряжу, выписываемую ими, никакой ввозной пошлиной, предупреждая, что это окончательно убьет суконные мануфактуры их района. (Нужно напомнить, что пряденая шерсть была обложена ввозной пошлиной в 36 ливров за квинтал.) Амьенские фабриканты мотивировали свою просьбу полной невозможностью достать во Франции тонкую пряжу вследствие первобытности техники, вследствие неумения французских прях обращаться со сколько-нибудь усовершенствованной прялкой.
Но не только техническая беспомощность французских прядильщиков ставила владельцев суконных мануфактур в необходимость обращаться за границу: там, где техника была приблизительно одинакова, фабриканты сукон искали и находили более дешевую пряжу за границей.
Мы сталкиваемся с подобным случаем, когда от северного промышленного района обращаемся к восточному, когда от Фландрии, Пикардии, Артуа, Эно, Камбрези, где все же выделка полотна стояла на первом месте, а выделка сукна на втором, переходим к Арденскому и окрестным департаментам, тяготевшим к Седану, где суконная промышленность играла исключительно огромную роль. Это был едва ли не главный центр суконного производства во Франции, и если где имелись хорошо обученные ткачи, то именно здесь; мы дальше увидим, как дорожили седанские фабриканты этими ткачами. Но пряхи и прядильщики, жившие по ту сторону границы (в Люксембурге, в прирейнских германских владениях), работали быстрее, работали дешевле французских, и десятки тысяч иностранцев получали регулярно заказы от седанских хозяев. Когда пряжа доставлялась в Седан, тогда она поступала в руки французских ткачей [159].
Мы увидим дальше, как жестоко отразился этот порядок вещей на французских рабочих в первые годы революции.
Не только суконные мануфактуры обращались к иностранцам за покупкой пряжи (как это делали амьенские фабриканты) или с заказами на пряжу (как это делали фабриканты седанские). Фабриканты цветных полотняных и бумажных материй, особенно жившие недалеко от границы, проделывали нечто аналогичное. Владельцы мануфактур этого рода, жившие в департаменте Верхнего Рейна, выписывали беленое полотно из Германии, а сами только красили («печатали») его и вообще подвергали дальнейшей обработке, превращая его в цветное. Это до такой степени вошло у них в обычай, что и они обратились в Учредительное собрание (в 1790 г.), моля спасти их от немедленного разорения и избавить выписываемые ими беленые полотна от ввозной пошлины [160], причем обращаются они от имени всех мануфактуристов этого рода, какие есть во французском королевстве.
Главный центр этой промышленности, департамент Верхнего Рейна (Эльзас), давал работу 30 тысячам рабочих и вывозил цветных полотняных и бумажных материй на 3–4 миллиона ливров за границу [161]. Именно потому Эльзас и сделался средоточием этой индустрии, что до революции по старым законам, особым для этой провинции, общефранцузский тариф не применялся к выписываемым эльзасскими фабрикантами беленым материям, которые должны были перерабатываться на эльзасских мануфактурах [162]. С 1790 г. положение в этом смысле переменилось, и это-то повергает фабрикантов цветных материй в живейшую тревогу. Они просят Учредительное собрание постановить, что сумма взятой за беленую материю пошлины должна возвращаться таможней фабрикантам, вывозящим потом такое же количество переработанной (цветной) материи за границу. Иначе «полная гибель» грозит всей этой промышленности. О том, можно ли обойтись при помощи французских рабочих и получать эти беленые материи, не может быть и речи.
Когда началась затяжная европейская война и давать заказы за границу стало затруднительно, обнаружилось, что владельцы суконных мастерских и красилен все-таки не могут обойтись без помощи иностранных рабочих. Они даже ездили за ними специально за границу, конечно, только в те страны, куда безопасно можно было показаться в эту пору затяжной войны, например в Швейцарию [163].
В 1790 г. Учредительное собрание издало декрет о новых тарифах, и французские предприниматели не переставали с тех пор осаждать правительство, умоляя его изъять из общего тарифного обложения ту пряжу, которую они получают от работающих на них иностранных рабочих из-за границы. Жалобы на невозможность продолжать работать, если нельзя будет пользоваться по-прежнему услугами заграничных прядильщиков, шли со всех сторон, и хозяева выиграли дело. От имени комитета земледелия и торговли Goudard (лионский депутат) представил в Учредительное собрание доклад, в котором указывал на необходимость удовлетворять просьбы мануфактуристов. Из Реймса, подтверждает докладчик, хозяева шерстяных мануфактур отправляют шерсть для пряжи за границу; из Седана — то же самое; из мусселиновых мануфактур в Tarare (департамент Устьев Роны) хлопок отправляется для пряжи в Швейцарию вследствие невозможности получить нужную пряжу во Франции; из всего Северного департамента (Лилль и так далее) пряденый лен отправляется тоже за границу для беления. Если прекратить этот порядок вещей, то все эти мануфактуры остановятся, ибо Франция не может дать им нужные (для дальнейшей работы) изделия, не может дать «cette première main d’œuvre»), как выражается докладчик [164]. Собрание с ним согласилось и изъяло из тарифного обложения товары, которые представляют собой обработку сырья, данного французскими предпринимателями иностранным рабочим, если эти товары служат для целей производства (т. е. если они поступают в дальнейшую переработку во Франции).
Итак, отсутствие машинного производства, слабость технических познаний и навыков у рабочих, стремление предпринимателей и правительственных властей пользоваться услугами более обученных и удешевляющих производство иностранцев, либо выписывая их во Францию, либо систематически давая заказы за границу, — таковы характерные черты экономической жизни Франции в рассматриваемую эпоху [165]; ремесло и домашняя индустрия в ее разнообразных стадиях — вот что дает тон, царит почти безраздельно по всему лицу страны.
Эти явления, тесно между собой связанные, сплетаются воедино в представлении современников: нет машин и незачем заводить соединенные мастерские, где бы рабочие работали в одном месте; рабочие работают каждый у себя на дому, получая заказ от фабриканта; мелкие производители работают тоже каждый в своем углу за свой счет и несут свой товар на продажу, — как же при этом требовать от них технических познаний? Для современников эти явления замыкались в порочный круг. «Не будем сравнивать себя с нашими торговыми соперниками (англичанами), мы отличаемся от них слишком во многих пунктах, чтобы сравнение было точно и чтобы можно было извлечь из него правильные заключения», — с горечью писали уже при Консульстве инспектора мануфактур, восстановленные в 1802 г.: у англичан — «соединенные мастерские», т. е. большие, богатые фабрики (где рабочие работают в здании заведения); напротив, во Франции этих «ateliers réunis» почти нет, рабочие работают изолированно в своих нищенских жилищах [166], и притом «рабочие» во Франции продают фабрикантам свои изделия и, понятно, всячески стараются «сэкономить на качестве и количестве материи», чтобы иметь возможность назначить наиболее дешевую плату и найти сбыт [167]. Эти рабочие, торгующие своими изделиями, находятся вечно в крайней нужде, и им не до того, чтобы думать об улучшении производства, они «машинально» следуют рутине [168].
Таков общий фон, без понимания которого неясны были бы перипетии, пережитые рабочим классом в эпоху революции.
Глава III
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВО ФРАНЦИИ ПРЕД ИЗДАНИЕМ ЗАКОНА О МАКСИМУМЕ
1
Уже в первой части было отмечено, что французская промышленность пережила в 1789 г. весьма критический момент, после чего 1790–1791 гг. были временем некоторого улучшения, а с 1792 г. началось уже не прекращавшееся вплоть до конца Директории и все более и более резко выраженное падение производства. Но в первой части, где речь шла о событиях, происходивших в Париже, в столичной рабочей среде, не было надобности останавливаться на этом факте подробнее. Парижская рабочая масса слагалась главным образом из двух элементов: 1) рабочих, занятых выделкой предметов роскоши, и 2) рабочих, занятых строительными работами — землекопов, кровельщиков, каменщиков, плотников, а также слесарей, столяров и т. д. Это главные категории. Что касается кожевников, разбросанных больше всего в Сен-Марсельском предместье, то часть их работала над дорогими кожаными изделиями, и может быть причислена к первой категории, а часть занималась изготовлением сапожного товара и т. п. Кроме них, можно назвать некоторые группы, не входящие ни в ту, ни в другую категорию, например, типографских рабочих, рабочих, служащих в бесчисленных парикмахерских (garçons coiffeurs), и т. п. Этот состав парижской рабочей массы выделял столицу и объяснял отчасти тот факт, что именно в Париже рабочие действовали совершенно отдельно от рабочих провинции. В самом деле, предприниматели, занятые [производством] предметов роскоши, испытали в 1789 г. внезапное падение сбыта, падение крутое и уже не останавливавшееся ни в 1790, ни в 1791 гг., когда в других областях производства переживалась, как сказано, как бы некоторая временная передышка. Это обстоятельство выбросило на улицу именно в Париже многие тысячи людей и создало для муниципалитета, как уже показано в первой части настоящей работы, весьма тревожную проблему, которую худо ли, хорошо ли власти пытались разрешить устройством благотворительных мастерских и т. д. А с другой стороны, вторая (гораздо более многочисленная) категория парижских рабочих, именно занятые строительными работами, в 1790–1791 гг. недостатка в работе не испытывали; напротив, в Париже наблюдалась своего рода строительная горячка: люди, испуганные уже начинавшимся падением ассигнаций, спешили изо всех сил вложить свои капиталы в недвижимую собственность. При этом положении вещей именно и стало возможно обширное стачечное движение, вспыхнувшее, как мы видели, весной 1791 г. и приведшее к изданию закона Ле Шапелье. Что касается других, менее значительных групп, тоже принявших участие в движении 1789–1791 гг., то, например, типографских рабочих нигде на всем протяжении Франции не было так много, как именно в столице, и для них первые годы революции были временем кипучей работы: бесчисленные брошюры, газеты, плакаты, издававшиеся в Париже, требовали такой усиленной работы от типографий, что типографские рабочие тоже могли принять (и приняли на самом деле) живое участие в стачечном движении против хозяев. Другие второстепенные группы проявляли поползновения к борьбе с хозяевами лишь мимолетно и под влиянием случайно сложившихся, быстро преходящих обстоятельств: портные — когда в августе 1789 г. их хозяева получили сразу громадный заказ по обмундированию национальной гвардии; парикмахеры — ввиду нежелания их хозяев считаться с фактической отменой цехов еще за полтора года до отмены их в законодательном порядке и т. д.
Теперь нам нужно вглядеться в положение вещей, существовавшее в провинции. Не предметы роскоши, не строительные работы, не типографии, а прежде всего и больше всего все отрасли текстильной промышленности — вот что кормило громадную массу рабочего люда в провинции. Что же переживала текстильная промышленность в первые годы революции?
Общая схема намечается так: 1) французская промышленность (больше всего шерстяное и бумагопрядильное производство, в меньшей степени полотняное) испытала страшный удар, когда в 1786 г. был заключен англо-французский торговый договор, и английские товары, не сдерживаемые уже запретительным тарифом, хлынули во Францию, которая оказалась совершенно неспособной выдержать конкуренцию. С этого момента начинается резкое ухудшение в смысле сбыта французских товаров. Единственная отрасль текстильной индустрии, в которой французы стояли выше англичан, — шелковое производство — не испытала от договора 1786 г. такого страшного вреда, но не получила и выгод, на которые надеялись лионские, нимские и турские фабриканты; англичане, невзирая на жалобы и представления французов, находили способы на практике препятствовать ввозу французского шелка, хотя в теории договор 1786 г. именно должен был облегчить этот ввоз; 2) в 1789 г. наблюдается в общем некоторое ухудшение сравнительно с 1787–1788 гг., но не особенно острое, так что этот год в области шерстяного, бумагопрядильного, полотняного производства вовсе не может считаться фатальным, начинающим скорбную эпоху и т. п.; исключениями (в текстильной индустрии) являются опять-таки шелковое производство, а также выделка кружев: оба производства испытывают именно в 1789 г. страшный удар, резкое сокращение сбыта, и разделяют в этом смысле участь всех отраслей промышленности, относящихся к предметам роскоши (вроде ювелирного дела и т. п.); 3) в 1790–1791 гг. наблюдается некоторый подъем во всех областях текстильной индустрии (сравнительно с 1789 г., но не сравнительно с эпохой, предшествовавшей договору 1786 г.); 4) в 1792 г. опять происходит падение сбыта, которое еще более обостряется с 1793 г., когда к европейской коалиции, направленной против Франции, присоединяется Англия; нет сбыта, нет сырья, начинается долгий период разорения и истощения обрабатывающей промышленности; как в этот период (1793–1799 гг.) влияли на нее финансовое расстройство, закон о максимуме, реквизиции — это все уже выходит из рамок настоящей главы. Указанная схема подтверждается рядом показаний.
Есть и отступления от этой схемы: в некоторых местностях промышленность, по свидетельству документов, стала падать еще до договора 1786 г., под влиянием иных причин.
Но в общем указанная схема, относящаяся к 1789–1799 гг., повторяю, подтверждается рядом показаний.
Если вообще с 1787 г. шерстяная промышленность уменьшилась сравнительно с предшествующим периодом, то у нас нет оснований считать первые два года революции временем резкого ухудшения сравнительно, например, с 1787–1788 гг. К тому, что уже было сказано, нужно прибавить специально относительно выделки шерстяных материй еще свидетельство инспектора амьенских и аббевильских мануфактур, который в конце 1790 г. отказывался констатировать уменьшение производства; что же касается бумагопрядильной промышленности, то он даже в этот момент мечтал об успешной борьбе против иностранной конкуренции, но при одном условии: чтобы были введены прядильные машины, ибо в его районе (как мы знаем, одном из самых промышленных во всей Франции) если есть какие-либо механические инструменты, то только «дженни» старого образца [1].
Современники, когда даже в конце революции говорили о падении текстильной промышленности, то датой, от которой началось падение, признавали часто вовсе не 1789 год, а 1786-й, не начало волнений внутри страны, а торговый договор с Англией. До торгового договора с Англией аббевильские шерстяные мануфактуры, производившие так называемую барракановую материю, имели в постоянной работе 2400 станков, «теперь» (в 1798 г.) там работает всего 200, — вот типичная формула при подобных сравнениях [2]. Если же поминается 1789 или 1790 г., то как время, еще сносное по сравнению с дальнейшим периодом [3].
Иногда страшные бедствия, пережитые в 1793–1799 гг., заставляли даже в розовом свете видеть то, что было непосредственно перед этой эпохой; и тогда временное облегчение 1790–1791 гг. превращается в период якобы совершенного благополучия.
Выборные сведущие люди, представители торгово-промышленного класса города Сомюра (в департаменте Mayenne-et-Loire), бросая в 1795 г. ретроспективный взгляд на судьбы промышленности в их департаменте и их городе, служившем главным складочным местом товаров и одним из средоточий экономической жизни для всей Вандеи, Анжу и Пуату, так и делят пережитые годы на две эпохи: до «второй революции» и после «второй революции», считая второй революцией 10 августа 1792 г. Их показание весьма интересно именно потому, что Сомюр был центром торговли трех провинций и 80 больших и малых сел и городов [4]. Они не только не жалуются на первые три года революции, но, указав на существовавшие в этой местности разнообразные виды промышленности [5], они утверждают, что до «второй революции» положение было блестящим [6].
Нормандские шерстяные и полотняные мануфактуры, например, пережили ту же эволюцию: падение производства и сбыта после англо-французского торгового договора 1786 г., некоторое дальнейшее понижение в 1789 г. и подъем, сравнительно с 1789 г., в 1790–1791 гг. [7], дальнейшее падение впоследствии. Уже эволюция всего этого громадного промышленного района была бы очень показательна и характерна, тем более что и промышленники, и инспекция мануфактур нормандских приписывали бедствие именно договору 1786 г.
Руанские фабриканты байковых материй жаловались в 1789 г., что из-за договора с Англией они разорены и должны были так сократить производство, что из 30 тысяч рабочих, которые работали на их мануфактуры, осталось всего 7 тысяч, а 22–23 тысячи человек лишились куска хлеба [8].
И представители нормандской промышленности категорически заявляют, что английская конкуренция убила всю местную индустрию, и «огромная масса рабочих» доведена до того, что ей остается либо умереть голодной смертью, либо эмигрировать [9]. На это генеральный контролер (Неккер) выразил интенданту Руана свое сожаление и указал, что единственное преимущество англичан — их машины [10]; в заключение он рекомендует «усердные изыскания» в этом направлении, т. е. стремиться дойти до английской техники и т. п.
Не только готовые изделия английской текстильной индустрии хлынули во Францию после договора 1786 г.
Английская пряденая шерсть стала продаваться во Франции, несмотря на пошлину, гораздо дешевле, чем французская, и, например, в Нормандии ткачи были поставлены в такое положение, что им нужно было предпочесть английскую пряжу туземной деревенской, если угодно было продолжать работу. Пр» и сходило это потому, что в Нормандии даже и простые «дженни» были мало распространены, а первобытная прялка царила почти исключительно [11]. И, по мнению знатоков, нужно было затратить «труд, заботы, деньги и время», чтобы увеличить число «дженни» в Нормандии. А ведь Нормандия была, по справедливому отзыву Артура Юнга (подтверждаемому всеми показаниями документального характера), одной из самых промышленных частей Франции.
Но нам нет нужды ограничиваться Нормандией: из других районов доносятся те же голоса. Седанское суконное производство было стародавним промыслом, славившимся во всей Франции. Война с Англией (1778–1783 гг.) сильно способствовала седанскому производству, открыв возможность сбыта в Америку; спрос приливал отовсюду, и мануфактуристы только заботились, как бы хватило рабочих [12]. Считалось, что с 1780 г. на седанских суконных мануфактурах работало в общей сложности около 15 тысяч человек обоего пола [13], станков работала одна тысяча, по 15 человек на каждом. Это длилось около восьми лет (с 1778 до 1786 г.). С 1787 г. начинается быстрый упадок. И фабриканты, и местный инспектор торговли приписывают это гибельным последствиям англо-французского торгового договора. Сначала седанские суконщики думали, что им удастся благодаря договору направлять часть своего товара в Англию, но ничего не вышло: англичане не желали покупать французских сукон (что французы приписывали английскому патриотизму [14], а также несоблюдению английской администрацией условий договора).
Напротив, английские мануфактуры наводнили Францию своими товарами, и их торговля пошла блистательно (что, опять-таки, французские фабриканты и даже официальные лица, вроде инспектора торговли, объясняли недостатком патриотических чувств у французского торговца, действующего из-за «гнусной надежды на временную прибыль», и англоманией потребителей) [15]. По откровенно высказанному мнению» инспектора торговли в Седане, эта англомания потребителей настолько во Франции велика, что француз только тогда станет покупать французское сукно, когда у него отнимут возможность покупать английское [16], и единственно лишь на восстановление запретительного тарифа уповали вплоть до революции и при революции седанские мануфактуристы.
При отсталости французской техники, при сравнительной дороговизне товара (этим же объясняемой) седанской суконной промышленности оказалось не под силу справиться с английской конкуренцией. Седан, бывший главным центром французского суконного производства, стал сильно жаловаться на застой в делах, начиная с 1786–1787 гг. [17] Промышленники приписывали беду сокращению сбыта в Испании, во владениях австрийского императора, где с 1780 г. были значительно увеличены пошлины на французские шерстяные изделия, я сокращению внутреннего рынка, которое они констатируют, начиная с 1786 г., наконец больше всего англо-французскому трактату 1786 г. На этот трактат не переставали жаловаться представители французской индустрии с первого момента и вплоть до начала войны с Англией уже при революции. Еще перед самым началом революции седанские фабриканты указывали правительству на проистекающую от сокращения сбыта безработицу: безработица их страшила главным образом потому, что могла повлечь массовую эмиграцию рабочих за границу [18].
Тут нам нужно внимательно вглядеться в одну черту, интересную для характеристики положения многотысячного рабочего населения этой части восточной Франции и небезразличную для понимания положения французских рабочих вообще. Только что мы сказали, что фабриканты боятся эмиграции рабочих за границу, а между тем у нас есть данные (приведенные выше), не подлежащие ни малейшему сомнению, что эти самые седанские фабриканты (не один и не два, а все, и не один случайный год, а всегда, по крайней мере во все последние годы старого порядка и в первые годы революции) систематически отдавали заказы, пользуясь близостью границы, немецким рабочим, жителям Люксембурга и пограничных местностей за границей. Как эти факты совместить?
Объясняется это тем, что седанские фабриканты не могли получить достаточно дешевую пряжу во Франции; что же касается второй стадии производства, ткацкого дела в точном смысле слова, то в Седане и вблизи Седана были ткачи, которых совершенно незачем было заменять иностранными; вспомним, что ведь и в Англии того времени, где машины успели так могущественно повлиять на прядильное дело, положение ткачей изменилось еще очень мало. Обученные, стародавние кадры седанских ткачей были ценны для фабрикантов, и не на их работе можно было экономить, а на стоимости той пряжи, которая поступала в их руки. Не забудем, что и англичане удешевили производство, экономизируя на оплате пряжи, но не тканья.
Английский ткач в среднем получал около двух гиней в неделю в последние годы XVIII и в первые 5–6 лет XIX столетия; французский в это же время не получал и половины этой суммы [19]. Огромная экономия, которую давали именно прядильные машины, позволяла английским фабрикантам сравнительно дорого оплачивать труд во второй стадии производства, когда пряжа поступала в распоряжение ткача.
Во Франции же, где машин не было, пряжа стоила гораздо дороже английской, но зато труд ткача оплачивался почти так же низко, как труд прядильщика.
В Англии в это время тяжкие страдания переживались рабочим классом вследствие того, что в текстильной промышленности машины лишили работы массу людей; но там, где еще машины не могли всецело изгнать живую силу, в тех стадиях производства рабочие оплачивались лучше, чем во Франции. Что касается Франции, то, оставаясь в общем чуждой машинного производства, французская индустрия потребовала бы большого количества рабочих рук, если бы не те обстоятельства, о которых идет речь и которые в рассматриваемый период вызвали резкое сокращение производства и безработицу.
И седанские фабриканты, изнемогая в непосильной борьбе с английской конкуренцией, именно о том и говорят, что основа промышленности — кадры ткачей — уничтожится, если правительство не примет мер, не отменит прежде всего трактат 1786 г.
После Седана и седанского округа одним из главных центров выделки шерстяных материй (более грубых, чем седанские сукна) был департамент Сарты и прежде всего город Mans, считавшийся как бы столицей в этом отношении не только департамента Сарты, но и трех окружных департаментов (Mayenne, Maine-et-Loire и Eure-et-Loire). Кроме большого внутреннего сбыта, шерстяные материи (особенно так называемые «étamines de Mans») в огромном количестве шли до середины 1780-х годов за границу: в Италию, Испанию, Португалию, германские страны, Швейцарию, Голландию и Вест-Индию. В центре этой области, городе Мансе, во второй половине XVIII столетия было 200 владельцев шерстяных мануфактур, причем числилось, что на эти мануфактуры работает 800 станков.
После англо-французского торгового договора сразу упал сбыт, и в 1788 г. уже из 200 мануфактур осталось лишь 54, а вместо 800 станков — 274. В хорошие времена до договора в этих четырех департаментах шерстяная индустрия давала заработок 35 тысячам рабочих; к началу революции их было всего 12 тысяч человек, считая в том числе около 9 тысяч женщин и детей, занимавшихся пряжей [20] (так что ткачей взрослых и обученных работников нужно считать не более 3 тысяч человек). После всего сказанного в первой главе о статистике незачем прибавлять, что ко всем этим цифрам следует относиться весьма критически, но любопытно мнение администрации о соотношении между числом прях и числом ткачей.
Мануфактуристы этой области (департамента Сарты) уже это еще до революции происшедшее падение шерстяной промышленности приписывали по только английской конкуренции после договора 1786 г. и вообще не только недостатку сбыта, но прежде всего недостатку сырья: «мошенничество продавцов шерсти» они ставят перед англо-французским торговым договором, когда перечисляют причины кризиса; к числу важнейших причин они относят также слишком большое обложение заграничного сырья и прежде всего испанской шерсти. Конечно, война, начавшаяся уже в революционную эпоху, в этом смысле довершила дело, и вместо 54 мануфактур, все-таки работавших еще до начала революции, в городе Маисе осталось 7–8 [21].
На юге это «наводнение английским сукном» прямо убивает французскую индустрию: англичане в среднем продают сукно на 25 % дешевле французов [22], не говоря уже о лучшем качестве материи. «Увлеченные своим патриотизмом, фабриканты сукон департаментов Aude, Hérault, Tarn уже давно приносят разоряющие их жертвы, чтобы сохранить эту отрасль торговли и воспрепятствовать эмиграции рабочих [23], но все их усилия тщетны. И не только южная Франция покупает английские (а также «немецкие и саксонские», как выражается наш документ) сукна, но и африканский рынок завоевывается англичанами, и фабриканты сукон южных департаментов просят Учредительное собрание о стеснении английской торговли во Франции и английского транзита. Жалобы на бедственное состояние суконной промышленности на всем юге Франции не перестают раздаваться с самого начала рассматриваемого периода [24].
Горько жалуются на последствия англо-французского договора и на быстрый упадок суконных мануфактур также и промышленники северного района: Пикардии, Фландрии и Артуа. Одни только тонкие сорта сукон требовали работы 3 тысяч станков в городе Амьене, промышленном центре этой области. «Времена этого процветания теперь весьма изменились и являются сновидением — с момента английского торгового договора», — жалуются амьенские мануфактуристы [25]. Из 3 тысяч станков в 1791 г. работало 800–900. Им тоже совершенно невмоготу было бороться с английской конкуренцией. «Notre malheureuse fabrique — à l’agonie», — вот тон и содержание речей представителей амьенской шерстяной индустрии уже в 1791 г. [26]; особенно эти жалобы учащаются в конце 1791 г. и в 1792 г.
Иногда, констатируя падение мануфактурной деятельности в том или ином районе, документы 1789–1791 гг. приписывают это прискорбное явление даже и не англо-французскому договору, а другим причинам (небрежности или недобросовестности производителя и т. п.); но весьма часто указывается на процветание в более или менее отдаленные времена и революция не поминается в числе причин, подорвавших индустрию. Вот собрание представителей округа Амбуаза (в департаменте Индры-и-Луары, недалеко от города Орлеана) жалуется в 1790 г., что в их местности выделкой шерстяных материй занимается всего 20 человек, а «некогда промышленность была весьма оживлена». Но когда именно? «Около 1764 года», когда над выделкой шерстяных материй работало 1800 человек. И виновны в этом не революция, и даже не договор 1786 г., а сами «фабриканты» [27]. И у нас есть прямые свидетельства, исходящие как от интенданта Terray [28], так и от самого герцога Шуазеля [29], и относящиеся к 1770 г., что действительно промышленность в этой области (с главным городом Туром включительно) была в полном упадке еще за два десятка лет до революции. В частности, местные люди жаловались тогда же (в 1770 г.) на страшный упадок шелкового производства [30].
Владельцы полотняных мануфактур также указывали иногда в своих жалобах и петициях, что еще до 1786 г. полотняное производство испытало страшный удар: они считали печальной датой бедственного периода 1784 год, когда был смягчен запретительный тариф относительно иностранных полотен [31]. При этом они так мало приписывали свои беды революционному взрыву, что просили только восстановить былой запретительный тариф и ручались, что тогда производство удвоится и даже утроится [32].
Точно так же не только договору 1786 г., но и более ранним обстоятельствам того же порядка приписывали свое тяжелое положение и фабриканты изделий, тесно связанных с текстильной индустрией, представители так называемой bonnetterie.
Фабриканты шерстяных, полотняных и шелковых изделий еще до революции жаловались на сокращение рынка сбыта за границей. Мануфактуры, выделывавшие шапки, чулки и т. п., должны были констатировать к концу старого режима сокращение вывоза даже в те страны, которые еще в середине XVIII столетия были данницами Франции в смысле потребления этого товара: Россия и Испания стали освобождаться от этой зависимости.
Около 1758 г. мануфактуры этого рода (так называемые manufactures de bonnetterie), существовавшие в Париже, Лионе и в Лангедоке (больше всего в Ниме), продавали в Россию треть всех своих изделий, но уже в 1779 г. положение вещей изменилось: в Россию было вывезено около 800 станков; русское правительство, не щадя обещаний, вызвало «значительную эмиграцию» французских рабочих [33], и французский сбыт в России чрезвычайно пал, и французские фабриканты боялись, что этот огромный рынок совсем от них ускользнет [34].
Что касается Испании, то серьезный удар этой отрасли французской индустрии был нанесен запретительным эдиктом испанского короля, изданным в 1778 г. и прекращавшим доступ французским товарам в испанские колонии Южной и Центральной Америки. Особенно горько жаловались на грозящее им разорение мануфактуры в Лангедоке. Например, половина всего количества шелковых чулок, выделываемого в мануфактурах города Нима, шла именно в испанские колонии, и испанский эдикт выбрасывал на улицу и мануфактуристов и рабочих [35]; выделка шерстяных изделий пострадала не меньше. Удар был так страшен, что французские фабриканты думали даже, что испанское правительство [36] действовало так, желая сразу разорить всю промышленность Лангедока и вызвать массовое переселение французских рабочих, оставшихся без дела, в Испанию [37]. Англо-французский торговый договор 1786 г. нанес Лангедоку еще более страшный удар. Жаловались на этот договор и бумагопрядильни.
Уже в 1791 г. владелица бумагопрядильни в Гамаше (близ Аббевиля) Юлия Буржуа просила вспомоществования ввиду того, что будто бы и заведение свое она открыла еще до революции единственно вследствие желания помочь безработным [38]: в 1789 г. у нее работало 50 человек, в 1790 — 25, а в 1791 г. заведение очутилось на краю гибели. Тут характерна и мотивировка, ибо в период 1789–1792 гг. вопрос о безработице гораздо более волновал власти, чем в последующий период (хотя последующий период был в этом отношении гораздо хуже), и самый факт (далеко не единственный), указывающий, что бумагопрядильная промышленность еще и до наступления войны стала падать даже в северных мануфактурных областях, в Пикардии, где, например, шерстяная индустрия даже бедственную эпоху 1792–1799 гг. выдержала несколько лучше, чем в других местах. В 1792 и следующих годах кризис все более и более возрастал, и отчаянные мольбы о спасении все чаще поступали в комитет земледелия и искусств и другие места [39]. Но, повторяю, хуже всего пришлось именно шерстяной промышленности.
Французские промышленники прекрасно сознавали, почему именно англо-французский трактат столь вреден для французской шерстяной индустрии: если даже оставить совершенно в стороне вопрос о качествах материй французских и материй английских, машинное производство (отсутствие которого констатируют сами французы) настолько удешевляло товар, что свободная конкуренция неминуемо должна была окончиться для французской промышленности полным поражением всюду, где только англичане пожелают конкурировать [40]. Дешевизна и быстрота механического производства, вот что в мечтах французских промышленников могло бы единственно помочь им выдержать страшную борьбу с наплывом английских товаров [41], и они горько жалуются на то, что англичане ревниво скрывают от всех свои изобретения.
2
Сбыт продуктов текстильной индустрии с начала войны 1792 г. пал еще больше, конечно. Разрыв с Англией, правда, возвратил до известной степени (не нужно забывать всесильную английскую контрабанду) внутренний рынок французской индустрии, но зато он лишил Францию чуть не всего ее внешнего рынка: накануне революции Франция вывозила только в Китай, Индию и Турцию 100 тысяч штук сукна; в одну только Турцию ввозилось французского сукна на 12 миллионов ливров (ровно треть всего французского ввоза в Турцию), и вся эта восточная торговля была совершенно уничтожена английским флотом, закрывшим для Франции все Средиземное побережье и вообще всякую возможность торговых сношений морем [42]. Вывоз в страны континентальной Европы был одновременно подорван войной с коалицией.
Что касается предметов роскоши, то, как сказано, для них именно 1789 год, вызвавший панику среди аристократии, видевший начало эмиграции, явился фатальной датой.
О страшном кризисе шелковой промышленности уже упоминалось. То же самое переживали и лица, занятые выделкой кружев, и ювелиры и т. п.
Шелковая промышленность стала падать уже в первые годы революции, а с 1792 г. лионские мануфактуры, так же как и турские, и нимские, закрывались одна за другой, и в 1793 г. эта отрасль французской индустрии была разорена вконец. Трудно сказать даже, что преимущественно губило ее: отсутствие сбыта или отсутствие сырья. Первая причина была налицо уже в 1789 г., вторая давала себя чувствовать с начала войны 1792 г., а особенно с 1793 г. Казалось бы, что, так же как относительно других отраслей фабрикации предметов роскоши, можно было бы и тут a priori предположить, что именно закрытие заграничных рынков сбыта было для шелковой промышленности гораздо тягостнее, чем что бы то ни было другое. Но у нас есть показание, относящееся ко второй половине XVIII столетия, что Франция вывозила шелковых материй за границу почти на такую же сумму, как та, которую она уплачивала за ввоз нужного для этого производства заграничного сырья. Во Франции в 60-х годах XVIII столетия ежегодно производилось 10 тысяч квинталов шелкового сырца и почти столько же, около 10 тысяч квинталов, приходилось покупать за границей, до такой степени своего сырья не хватало; так что Франция продавала за границу своих шелковых фабрикатов на 26 миллионов ливров, а покупала заграничного сырья на 22 миллиона в год [43], причем нельзя даже считать, что от этой торговли Франция получала чистой прибыли 4 миллиона, ибо в счет 26 миллионов входят также все шелковые изделия с серебряными, золотыми и тому подобными украшениями; так что и эта скромная сумма чуть де вся поглощалась прибавочными расходами по производству [44]. Главным рынком сбыта шелковых материй был рынок внутренний; в 1760-х годах считалось, что внутри страны шелковых материй продается на 126 миллионов. Этот рынок, конечно, весьма сократился уже в 1789–1792 гг., но война и полное прекращение подвоза сырца из-за границы, без которого чуть не 50 % всех французских мануфактур абсолютно лишено было возможности работать, нанесли этой отрасли промышленности страшный удар. Лионские рабочие прежде всего его почувствовали. Когда в 1789 г. правительство затребовало от инспекторов мануфактур сведений о состоянии промышленности, о безработных и так далее, то Ролан, бывший тогда инспектором в Лионе, дал самую мрачную картину полного падения мануфактур, нищеты и разорения их [45].
Выделка тюлевых кружев в городе Тюлле (в Лимузене, нынешний департамент Corrèze, город Tulle, откуда и товар получил свое название), процветавшая с конца XVII столетия, совершенно пала в первые же годы революции. Только во второй половине XIX в. эта фабрикация воскресла в Тюлле [46] (но уже ее в виде исключительно ручной выделки, как в старину).
Французские кружева, уступавшие бельгийским по качеству, еще во второй половине XVIII в. находили довольно крупный сбыт за границей вследствие большей дешевизны.
Сбыт французских кружев в Италии, в Испании начал сильно сокращаться еще до революции вследствие запретительного тарифа, введенного в державах Апеннинского и Пиренейского полуостровов. В Германии распространялись собственные кружевные мануфактуры. В 1789 г., по удостоверению владельцев кружевных мануфактур, главным иностранным рынком сбыта для них являлась Англия, но и там торговля становилась все труднее и труднее. С первых же моментов рассматриваемого периода фабриканты кружев уже говорили о гибели, грозящей этой отрасли в близком будущем; на внутренний рынок они совершенно не рассчитывали [47]. Когда с 1793 г. оборвались сношения с Англией, эта отрасль промышленности захирела окончательно как в северном районе, тяготевшем к Валансьену, так и в южном, тяготевшем к Puy-en-Velay. Ибо англичане могли контрабандным путем ввозить во Францию и после 1793 г. свои товары, а французы, для которых море было закрыто, не имели, этой возможности (не говоря уже о том, что англичанам обойтись без французских кружев было легче, чем французам без английских сукон и бумажных материй).
До революции в области выделки предметов роскоши Франция и, в частности, не только Париж, но и Лион не имели конкурентов во всей Европе; предметы роскоши и прежде всего ювелирное дело требовали массы рабочих рук. Считалось, что в последние 3–4 года старого режима в Париже и Лионе, двух главных центрах этой промышленности, ювелирное дело давало заработок 70 тысячам рабочих [48], и французские ювелиры работали в самом деле на мировой рынок [49], включая Индию и Китай, и в торговом балансе именно эта статья способствовала больше всего перевесу Франции над другими державами [50]. Пышный расцвет этого рода промышленности был пред началом; революции таков, что даже Англия отказалась от конкуренции и сделалась в этом единственном отношении данницей Франции.
Как же отразилась революция на торговле предметами роскоши и особенно на ювелирном деле? Ответы тут весьма категоричны и единодушны: ни один промысел так не пострадал с самого начала революционного периода, как именно обработка драгоценных камней и металлов. Разом прекратились колоссальные заказы, спрос страшно пал, и, что хуже всего, началось переселение части рабочих в Англию [51], бедственное положение промысла гнало их из Франции, а между тем именно в этой индустрии выучка, практика, тончайшее знание разнообразных технических приемов, личные таланты были незаменимы, и если седанские суконщики боялись растерять кадры обученных рабочих, то парижские и лионские ювелиры в самом деле имели право смотреть на эту беду как на горшую из всех. Ювелирное дело уже через 5 лет после начала революции очутилось в таком отчаянном положении, такая масса мастерских погибла за то время, так бесследно рассеялись по лицу земли рабочие, что те же лица, которые утверждали, что до революции в Париже и Лионе 70 тысяч рабочих рук было занято ювелирным промыслом, признают (в ноябре 1794 г.), что даже если правительство придет как-нибудь на помощь ювелирному промыслу, то Париж и Лион вместе могут выставить 20 тысяч рабочих рук [52]. К точности этих цифр можно и должно относиться скептически, но они показывают, в каких размерах представлялось сокращение производства современникам, близко стоявшим к делу.
Положение промышленников, фабрикующих предметы роскоши, стало совсем отчаянным, когда была объявлена война и когда их испанские, русские и голландские (а затем и английские) клиенты прекратили платежи. Дело в том, что в этой отрасли индустрии и торговли долгосрочный кредит был в порядке вещей, и 6, 9 месяцев, даже год заграничные фирмы не платили парижским фабрикантам [53]. Вот почему пострадавших, не предвидевших войны за столь долгий срок оказалось весьма много, и эти огромные денежные потери, можно сказать, прикончили производство предметов роскоши на несколько лет (вплоть до первых годов XIX столетия); масса рабочих и именно больше всего в Париже не получила даже своих уже заработанных денег [54].
Иностранная конкуренция и техническая беспомощность французской промышленности в борьбе с ней, сокращение рынков сбыта — вот бедствия, на которые, как мы видели, чаще всего жалуются представители французского промышленного мира в первые годы революции. С 1792 и особенно с 1793 г. начинает сказываться губительное влияние и других факторов, прежде всего недостаточности и вздорожания сырья, а также вздорожание рабочих рук; и то, и другое явления вызваны были финансовым кризисом — обесценением ассигнаций, а первое сверх того еще и войной, закрывшей для Франции рынки, где она закупала часть нужного сырья. Сказывалось это, как уже замечено, на шелковой промышленности, сказывалось иной раз и в других отраслях производства.
Если рассматривать всю революционную эпоху (17891799 гг.) как целое, то придется в числе причин, способствовавших падению индустриальной деятельности во Франции, на первом месте поставить скорее недохваток сырья, чем сокращение рынка.
Начать с того, что там, где французская индустрия вовсе не зависела от подвоза сырья из-за границы и где, кроме того, она находила нужное ей сырье на месте, не нуждаясь в подвозе из других частей страны, производство вплоть до 1792 г. не то, что держалось, не то, что боролось с невзгодами, а прямо процветало. Так, укажем на всю северо-восточную Францию, на 6 департаментов (или 5 старых провинций), о которых шла речь, когда мы говорили об организации производства: в Эно, Фландрии, Артуа, Камбрези, всей Пикардии, по категорическому утверждению выборных представителей местной индустрии и торговли, торговля еще в 1791 г. была очень цветущей, и они с гордостью говорят о своей независимости (в смысле получения сырья), о том, что нужное для производства сырье, цен, они получают у себя дома, и подчеркивают всю выгодность своего положения сравнительно с фабрикантами шелковых материй, которые зависят от Италии, Испании и Индии, с ювелирами, которые зависят от рудников Перу, Потози и Чили, с фабрикантами шерстяных материй, которые зависят от Англии и Испании, и т. д.; что касается до них, фабрикантов полотен, батиста, кружев, то они все имеют под рукой, не выходя из дома [55].
Только страшная бомбардировка, которую выдержал Ватансьен, когда его осадили войска первой коалиции, и общее разорение, которому подвергся весь этот край, бывший театром войны, нанесли тяжкий удар полотняному производству.
Был способ избежать убытков и даже разорения от обесценения ассигнаций, но к этому способу могли прибегнуть лишь единичные мануфактуристы, в самом деле обладавшие большим капиталом, финансовой устойчивостью. К этому способу прибегнул владелец мануфактуры цветных полотен и бумажных материй в Jouy-en-Josas Оберкампф; когда (в 1790 г.) ассигнации только начали падать в цене, он сделал колоссальную, рассчитанную на много лет вперед, закупку материй (которые его мануфактура должна была окрашивать) в Нормандии и других местах. Это был совершенно обдуманный [56] и дальновидный акт, благодаря которому Оберкампф не нуждался в сырье и в материале для работы впоследствии. Но, конечно, при ничтожестве запасного капитала у подавляющего большинства тогдашних фабрикантов много последователей у него не могло найтись.
Что касается хлопка, привозимого из французских колоний, го казалось, что это единственное преимущество французов пред англичанами, которые, как уже сказано, старались скупать французский хлопок целиком вследствие его исключительных качеств. Законодательное собрание обложило вывоз хлопка залогом в 50 ливров (за квинтал), но французские промышленники не переставали требовать увеличения налога.
Дело в том, что действительно англичане в эту пору не могли обойтись без сортов, производимых Бурбонскими островами, французской Гвианой, Иль-де-Франсом, и для их мануфактур (особенно для выделки мусселиновых материй) им нужен был, по возможности, весь хлопок этих высших сортов. Еще в 1786 г. квинтал этого хлопка стоил 180 ливров, в 1788 г. уже цена дошла до 352 ливров, причем англичане заплатили однажды за квинтал (в том же 1788 г.) 1200 ливров, перекупив его у французских купцов; в 1791 г. французам хлопок достался на месте по 400–450–500–600 ливров за квинтал, в 1792 г. — до 800 ливров, причем, конечно, соответственно повышалась цен» и при перекупке хлопка англичанами [57]. Англичане давали прямо поручения своим французским контрагентам скупать хлопок по любой цене; в 1792 г. в Англии существовало столько заведений, специально работавших именно над французским (колониальным) хлопком, что ничего другого им делать не оставалось. Монопольное положение английской бумагопрядильной индустрии вознаграждало их потом за все эти расходы [58]. Против этого-то положения вещей (очень выгодного для французских скупщиков и судохозяев) и протестовали французские промышленники, добиваясь повышения вывозной пошлины или, полного воспрещения вывозить хлопок.
Недостаток сырья, страшное вздорожание съестных припасов, вызывающее совершенно неизбежно дороговизну (рабочих рук, — вот что часто губило в 1792–1793 и следующие годы даже такие заведения, которые вовсе не жаловались на недостаток сбыта. Вот огромная по количеству изделий бумагопрядильня и мануфактура цветных материй Pernod, находящаяся в Мелене, недалеко от Парижа, и имеющая 300 рабочих; администрация департамента Сены-и-Марны, прося у правительства поддержки этой мануфактуре, прямо заявляет, что именно огромное потребление, обусловливаемое близостью колоссальной столицы, делает не только эту, но и все мануфактуры, находящиеся в этом департаменте, особенно ценными [59]. Но почему же владелец попал в тяжелое положение? Ответ дается самый точный: недостаток сырья и обусловленная дороговизной припасов дороговизна рабочих рук [60].
Так, уже в конце 1792 и в начале 1793 г. начинает ощутительно проявляться влияние того фактора, которому суждено было сказаться, как увидим, во всей своей силе уже со второй половины 1793 г., после издания закона о максимуме.
Уже в апреле 1792 г. один из центров французской бумагопрядильной индустрии, город Труа (в департаменте l’Aube) оказался в весьма затруднительном положении вследствие быстро надвигавшегося оскудения запасов хлопка. Этот город, в котором считалось до 30 тысяч жителей, занимался в значительной мере выделкой хлопчатобумажных товаров, и администрация департамента считала, что на бумагопрядильных мануфактурах Труа работает больше двух третей населения этого города [61], причем эти рабочие живут исключительно своим ежедневным заработком на мануфактурах. Местная администрация не скрывает от Ролана своего беспокойства, указывая, что отсутствие хлопка лишит куска хлеба массу людей, и это вызовет беспорядки. С большой тревогой они смотрят на будущее [62].
И министр внутренних дел не только вполне разделяет их беспокойство, но еще обращает внимание на то, что, не говоря уже о городе Труа, почти все население департамента Aube, работавшее на бумагопрядильные мануфактуры в городе Труа, останется без куска хлеба, ибо владельцы мануфактур должны прекратить работы вследствие непомерной дороговизны хлопка [63].
17 января 1792 г. Законодательное собрание ассигновало 2½ миллиона ливров для «временного вспомоществования» промышленности, и немедленно представители центра французской выделки игл и булавок города Легля (департамент l’Orne), просят ассигновать в пользу рабочих этого города и окрестных городов, сплошь занимающихся этим промыслом, известную сумму для устройства благотворительных работ. Шесть тысяч рабочих обыкновенно заняты этого рода индустрией в департаменте, а между тем именно из-за недостатка материала, производство сократилось до такой степени, что вместо 6 тысяч в мастерских департамента работает всего 2 тысячи человек. Просьба о вспоможении помечена 6 февраля 1792 г., и там указывается, что к концу месяца материала абсолютно не будет, а между тем новый запас этого материала фабриканты рассчитывают получить из Швеции не раньше июня [64]. Рабочая масса департамента очутилась в страшнейшей нужде из-за этой вынужденной праздности [65]. и министр внутренних дел ходатайствует перед собранием об ассигновании хоть 30 тысяч ливров для того, чтобы дать рабочим какой-либо заработок. Тут тоже нет жалоб на недостаток спроса, нет просьбы о том, чтобы помочь самим фабрикантам денежно, а единственно категорическое указание: работы останавливаются оттого, что нет материала, и ни правительство, ни кто другой этому помочь не могут, а нужно ждать получения запаса из Швеции. Прибавим, что спустя два месяца с небольшим после этого прошения вспыхнула война с первой коалицией, и ждать из Швеции нужных товаров стало немыслимо…
Сырье, нужное для кожевенных мастерских, уже в 1792 г. сделалось очень редким и дорогим, а местами совсем стало исчезать с рынка. Кожевенные мастера жаловались Законодательному собранию, обвиняя мясников в том, что они заключили между собой беззаконное соглашение с целью повысить цены на сырую кожу. Количество, стоившее еще в 1760-х годах 18 ливров, постепенно дорожавшее и дошедшее к началу 1792 г. до цены в 30–32 ливра, вдруг весной 1792 г. вздорожало до 60–65 ливров. «Позволительно ли одному классу людей удваивать таким образом ценность кожи?» — с негодованием спрашивает в своей жалобе, обращенной к Законодательному собранию, известный в те времена и влиятельный кожевенный мастер Рюбиньи [66], приписывающий беду стачке мясников. Париж так страшно нуждался в 1792 г. в сырой коже, как еще никогда; то же самое было в провинции, и жалобы на отсутствие сырья, проекты спасения кожевенной индустрии от этой беды непрерывной чередой продолжаются в 1793, 1794 и следующих годах [67].
Нуждаются в сырье и перчаточники, и из центра этого рода индустрии, из города Гренобля, несутся в Париж мольбы о принятии мер к удешевлению кож, служащих для выделки перчаток. Немудрено, что именно Гренобль говорит от имени всей этой отрасли промышленности: в этом городе треть жителей кормилась выделкой перчаток [68]; заработная плата равнялась в подавляющем большинстве случаев 1½–2 ливрам в день, изредка бывала и больше. Недостаток сырья уже в 1791 г. ставил перчаточников в высшей степени тяжелое положение и ввергал в нищету многотысячное население в Гренобле и окружающей его местности, а также рабочих, занятых этим промыслом в Париже и Лионе.
Уже с 1792 г. учащаются жалобы на недостаток материалов для производства бумаги; в половине 1792 г. тряпье, из которого выделывалась бумага, становится настолько редким, что производство сокращается, бумага быстро дорожает [69], и приходится задумываться весьма и весьма серьезно над вопросом, как помочь этой беде. Частные лица, бумажные фабриканты, представители правительства — все согласны, что необходимые для бумажной индустрии материалы исчезают из обращения, а некоторые констатируют при этом, что, с другой стороны, потребление бумаги возрастает [70]. Франсуа де Нефшато еще тогда публично заявил с трибуны, что бумажным мануфактурам грозит полное отсутствие материалов [71]. Современники теряются в догадках, не зная, чем объяснить это явление, ибо, казалось бы, в данной отрасли индустрии революция и война меньше могли бы повлиять на отсутствие сырья, чем в других областях. Но, не объясняя причин, большинство просто констатирует факт и указывает меры: более тщательное собирание тряпья, лучшая организация покупки его и т. п. (С конца 1793 г. к упорно повторяющимся жалобам на отсутствие материалов для бумажного производства присоединяются просьбы, чтобы власти сделали продажу тряпья обязательной, ибо тут одним распоряжением о максимуме помочь было невозможно; но об эпохе максимума речь будет идти в пятой главе.)
Чем больше значения имел тот или иной продукт для интересов национальной защиты, тем больше самого пристального внимания возбуждало в правящих кругах все, что его касалось. И когда нужно было для преимущественного покровительства какой-либо ветви промышленности поступиться основными принципами, провозглашенными конституцией 1791 г., это делалось без малейших колебаний.
На этой почве решительно и непримиримо столкнулись интересы двух отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности, по существу тесно между собой связанных. Еще 28 сентября 1791 г. Учредительное собрание воспретило ввоз во Францию иностранной селитры, вернее, подтвердило и до того существовавшее воспрещение. Фабриканты химических продуктов самых разнообразных специальностей были весьма чувствительно задеты этим распоряжением: вследствие этого запрета фунт простой селитры обходится им в 10 су, а фунт селитры высшего качества — в 13 су, даже 17 [72], а между тем заграничная селитра высшего качества обходилась бы им лишь в 8 или 9 су [73]. Фабриканты совершенно не мирились с тем, что это сделано во имя интересов государства, и с горечью говорили, что «довольно долго во Франции это служило предлогом» к угнетению торговли и промышленности, что это стоит в решительном противоречии с декларацией прав, ибо нарушает свободу и создает привилегии. Они указывали на то, что в Англии [74] торговля селитрой свободна, что там правительство ограничивается взиманием только известного налога на заграничную селитру, и благодаря этому лучшие сорта селитры обходятся английским фабрикантам в 6½–7 су на французские деньги.
Представители правительственной власти, несмотря на эти жалобы, отстаивали свою точку зрения. «Прежде чем Национальное учредительное собрание решилось подтвердить воспрещение ввоза иностранной селитры в королевство, оно зрело взвесило, какие неудобства получились бы, если бы ввозу этого продукта была предоставлена свобода», и оно приняло в расчет, насколько необходимо для государства иметь постоянно в своем распоряжении «средства к защите и к охранению спокойствия», — так объясняет фабрикантам правительственную точку зрения подлежащее ведомство [75]. Собрание хотело обеспечить выделку пороха от всяких случайностей и для этой цели устроить так, чтобы не зависеть «от случайностей моря или войны». А для этого нужно было не нуждаться в привозе селитры из Индии и вообще из-за границы. Для этой цели, конечно, нужно было приносить некоторые жертвы, а именно «платить за национальную селитру в мирное время дороже, чем сколько пришлось бы платить за заграничную», что правительство и делает, заставляя это делать и всех других покупателей «национальной селитры». Зато, поощряя таким образом добывание селитры, правительство ставит защиту Франции вне всяких случайностей. Стоит допустить ввоз иностранной селитры, и добывание французской прекратится, ибо правительство «не скрывает от себя», что индийская селитра дешевле французской (и притом лучшего качества). Следовательно, все французские селитроварни должны были бы закрыться за недостатком покупателей. Ввиду всех этих соображений и решено было искусственным путем поддержать селитроварение.
Искусственное вздорожание селитры страшно вредило не только фабрикантам химических продуктов, но и мыловарам, и стекольным мануфактурам; указывается в прошениях на то, что некоторые химические продукты во Франции не добываются, а привозятся, между тем, будь селитра доступнее, их можно бы изготовлять, не нуждаясь в иностранцах. Но все жалобы фабрикантов, несмотря на намеки, что подобные утеснения «ведут к неблагоприятным для нового режима размышлениям», оставались бесплодными [76].
Нужно сказать, что невзирая на это покровительство, селитры во Франции было так мало, что ее уже в 1791 г. еле хватало для изготовления пороха [77], и, конечно, фабриканты химических продуктов страдали уже тогда не только от дороговизны, но временами прямо от отсутствия этого нужного им продукта.
***
Все эти жалобы показывали ясно, что вопрос о недостатке сырья угрожающе вставал во Франции еще до той поры, когда война с первой коалицией отрезала Францию от большей части европейских стран и заперла ее порты. Война же не только лишила Францию рынков сбыта, но и сразу ухудшила положение французской промышленности относительно получения сырья. Все эти приведенные здесь жалобы касались пока только некоторых производств; это были лишь симптомы грядущих бедствий.
Окончательный же и роковой удар в этом отношении нанес французской промышленности закон о максимуме.
Но раньше, чем говорить о последствиях закона о максимуме, нужно коснуться тех социально-политических условий, которые сделали возможным его появление на свет.
Среди этих условий, как сейчас увидим, требования, шедшие от городской бедноты и, в частности, от рабочей массы, сыграли весьма видную роль.
В ближайших двух главах и будет рассказано сначала, как после отдельных, разрозненных проявлений рабочего движения целью стремлений стал закон о максимуме и как затем этот закон в действительности привел к результатам, прямо противоположным тем, какие рабочими ожидались.
Глава IV
РАБОЧИЙ КЛАСС В 1792–1793 гг.
(до издания закона о максимуме)
1
Как уже замечено в предисловии к этой части работы, до 1791 г., точнее, до конца 1791 г., кроме Парижа, проявлений рабочего движения почти нигде во Франции не наблюдается.
Теперь, приступая в этой главе к рассказу об эпохе 1792–1793 гг., мы увидим, что и в эти годы, когда безработица уже свирепствовала, когда обесценение ассигнаций и вызванное им вздорожание припасов уже приняли грозные формы, опять-таки движение больше всего было заметно в Париже, а из провинциальных городов — в тех местах, которые могли считаться скорее торговыми, нежели промышленными центрами. После всего сказанного этот факт не нуждается в пояснениях: сотни тысяч людей, разбросанных по нормандским, пикардийским, фландрским, эльзасским деревням, по Севенским горам, по долине Сарты и работавших на руанские, амьенские, седанские, сомюрские, лангедокские мануфактуры, не в состоянии были думать о каком бы то ни было коллективном шаге, массовом выступлении и т. п. Они часто жесточайше страдали от ухудшившегося состояния промышленности, с одной стороны, от вздорожания съестных припасов, с другой стороны, но даже в форме просьб, в форме петиций очень редко удавалось им довести до сведения властей о своем бедственном положении. Здесь нужно учесть, разумеется, и то обстоятельство, что среди деревенской массы, занятой промышленным трудом, для многих этот труд являлся не главным, а подсобным промыслом, и для них лишиться этого побочного заработка все-таки было не так ужасно, как для городских рабочих. Но, во-первых, как говорят нам документы (рассмотренные в главе I настоящей части), даже в деревне — в некоторых местностях — промышленный труд был главным, а земледельческий, скорее, подсобным промыслом; а, во-вторых, население маленьких городов и городских предместий, не имевшее связи с землей и работавшее на мануфактуры промышленных центров, было лишено каких бы то ни было ресурсов, кроме этого заработка. И почти полное отсутствие каких бы то ни было коллективных действий со стороны этих людей объясняется больше всего трудностью, чисто физическими, можно сказать, препятствиями, мешавшими этой распыленной, разбросанной массе предпринять те или иные действия сообща. Ибо снова и снова — слова: промышленный центр в старой Франции обозначают город, где находятся мануфактуры, раздающие заказы в окрестные города и деревни, а иногда и в далекие местности и затем рассылающие товар по Франции, по колониям, иногда и по Европе.
Присмотримся к тем редким случаям, когда провинциальные рабочие находили все же возможным, невзирая на все естественные, так сказать, препятствия, предпринять те или иные коллективные шаги.
Насколько можно по редким свидетельствам судить, главным образом в эти первые годы усилия рабочих были направлены к тому, чтобы, насколько возможно, предупредить безработицу. Борьба с иностранной конкуренцией, которая была не под силу их хозяевам, ожесточала их весьма сильно. Вражда к англичанам владела не только промышленниками, но и рабочими, и, например, в Аббевиле, городе, где шерстяная промышленность была главенствующей и где поэтому английская конкуренция особенно жестоко отозвалась на рабочих, дело дошло до того, что рабочие сожгли большой груз товаров, который они (ошибочно) приняли за английский. Случилось это весной 1790 г. [1].
Там, где дело шло о ввозе уже готовых заграничных товаров для продажи во Франции, интересы хозяев и интересы рабочих совпадали: сокращение производства означало усиление безработицы.
Но, как уже рассказано в предшествовавшем изложении, были случаи, когда хозяева обращались к иностранным рабочим с заказами, когда, следовательно, часть заработной платы уходила из Пикардии в Саксонию, из Лангедока в Швейцарию, из Седана в Люксембург. Против этого-то зависящего, как полагали рабочие, всецело от воли предпринимателей искусственного усиления безработицы и протестовали рабочие. Из всех районов, где практиковалась подобная отдача части работы за границу, до нас дошли только известия, касающиеся именно седанского округа. Произошло ли это потому, что в седанском округе (как уже замечено в главе о формах промышленной деятельности) наблюдалась несколько большая концентрация рабочих в городе и предместьях (Седана), нежели, например, в Пикардии или Фландрии, или Лангедоке, где рабочие были рассеяны по громадному пространству, или просто исчезли другие документы такого же порядка, но только относительно населения, работающего на седанские мануфактуры, можно сказать утвердительно, что оно пыталось бороться с указанным явлением и бороться путем коллективных петиций в Национальное учредительное собрание.
Положение рабочих, работавших на суконных мануфактурах в Седане и седанском округе, стало в высшей степени критическим: спрос, как сказано, быстро падал, мануфактуры останавливались, — происходило ли это в самом деле главным образом от английской конкуренции, от последствий торгового договора 1786 г., как единодушно жаловались фабриканты шерстяных материй, или еще от других причин, но из одной тысячи станков, которые были в полном ходу в Седане и его окрестностях еще в 1786 г., в 1788 г. оставалось едва 400 штук, так что 9 тысяч рабочих, работавших на остановленных 600 станках, остались без куска хлеба [2]. Правительство отпустило 10 тысяч ливров, но, конечно, при такой массе безработных эта помощь была каплей в море. Между тем и инспектор торговли в Седане, и фабриканты больше всего страшились, как бы контингент обученных рабочих не растаял во время голодовки и безработицы. «Наши рабочие убегают и уносят в другие места свои таланты и свое уменье», — такова единственная подчеркнутая писавшим фраза во всей большой рукописи доклада инспектора торговли интенданту [3], где самыми мрачными красками рисуется состояние седанской промышленности. Фабриканты в своем (уже цитированном выше) докладе генеральному контролеру в 1788 г. тоже настаивают, что это выселение рабочих есть трудно поправимое зло [4]. Они так серьезно были обеспокоены этим явлением, что, несмотря на тяжелые времена, не довольствуются мольбами за рабочих перед правительством, но сами устраивают складчину, настолько значительную, что они могли содержать некоторое время часть нуждающихся (3,5 тысячи человек из 9 тысяч безработных). Синдики седанских суконщиков также указывают правительству на опасность, что рабочие уйдут за границу и их уменье обратится во вред французской промышленности [5].
Но, дорожа ткачами, они не желали пользоваться услугами местных прях и прядильщиков.
По прочно установившемуся обычаю фабриканты сукон отдавали в пограничные земли, особенно в Люксембург, ту часть работы, которая заключалась в изготовлении из шерсти пряжи, требовавшей особого уменья, и поступали они так потому, что заработная плата в этих местностях по ту сторону границы была ниже, нежели по сю сторону [6]. Пока суконное производство процветало, этот порядок вещей не возбуждал никаких неудовольствий: ведь документы нам говорят, что тогда прямо не хватало рабочих рук и фабрикантам приходилось чуть не перебивать друг у друга («se disputer») рабочих.
Но когда наступили тяжелые времена и производство пришлось очень сильно сократить, то седанские фабриканты поставили пред собой двоякую цель: с одной стороны, сохранить совершенно необходимый минимум обученных французских рабочих, даже если бы некоторое время пришлось поддерживать их чисто благотворительным путем, подвергая себя специальному обложению для этой цели [7], а с другой стороны, ни в коем случае не отказываться от дешевого труда пограничных соседей (особенно жителей Люксембурга). Тогда французские рабочие, выброшенные на улицу вследствие сокращения производства, стали роптать и в 1790 г. подали в Учредительное собрание петицию, в которой умоляли запретить фабрикантам отдавать работу за границу [8]. Жалуются именно те полурабочие, полукрестьяне сельских округов, которых неурожай поставил в особенно тяжелое положение. Они указывают на то, что три четверти работы сдается теперь за границу седанскими фабрикантами и что еженедельно туда же идет в виде заработной платы 12–15 тысяч франков. С характерной и уже отмеченной нами в другом месте наивной хитростью, присущей петициям рабочих в это время, просители стремятся указать на вред, проистекающий для государственных финансов от такого отлива денег из Франции за границу [9]. Дальнейшее движение дела в высшей степени любопытно. Сначала комитет торговли Учредительного собрания (куда была переслана эта петиция) отнесся сочувственно к петиционерам и ответил им, что вскоре положение изменится (вследствие того, что будут взиматься пошлины на ввозимую и вывозимую шерсть, тогда как до той поры шерсть, отдаваемая седанскими фабрикантами для обработки за границу и оттуда ими получаемая, была избавлена от всякого обложения).
Дело окончилось вовсе не этим. Седанские мануфактуристы отнюдь не желали лишаться дешевого заграничного труда и пустили в ход все пружины, чтобы добиться от Учредительного собрания сохранения прежнего порядка вещей. Средств для этого у них, конечно, было больше, чем у рабочих, которые только тем и ограничились, что послали в Париж серый лист бумаги с нескладно и неграмотно изложенной петицией, написанной неразборчивыми каракулями. Промышленники заставили и седанский муниципалитет [10], и директорию департамента [11] возбудить пред Учредительным собранием надлежащее ходатайство. Речь шла о том, чтобы избавить как сырье, переходящее через границу для обработки, от вывозной пошлины, так и (частично) обработанную шерстяную материю от ввозной пошлины, ибо, конечно, если бы существовавший тариф был применяем в данном случае, то этот обычай отдавать в немецкие деревни сырье из Седана не продержался бы и одного дня. До революции власти делали для этого случая исключение из общего правила. Седанский генеральный совет указывал в своем ходатайстве, что, если не сохранить эту льготу и на будущее время, суконные фабрики погибнут в скором времени. Фабриканты сукон сами якобы только по необходимости прибегают к отдаче части работы за границу: во-первых, французских прядильщиков слишком мало в этой местности; во-вторых, плата дешевле, а происходит это потому, что немецкие крестьяне живут в лучшем климате и поэтому могут существовать и помимо заработной платы. Конечно, первый мотив несостоятелен уже потому, что именно окрестное население и жаловалось на голод и безработицу и на то, что фабриканты дают работу иностранцам; второй мотив неясен, ибо «климат» пограничных местностей, лежащих у самого рубежа, был совершенно одинаков. Но у муниципальных властей есть в запасе третий аргумент, и самый существенный: если собрание не смилуется, то суконные мануфактуры закроются, и «12–15 тысяч» французских ткачей останутся на улице. Нужно по-прежнему позволить фабрикантам давать прясть шерсть иностранцам, чтобы дальнейшие работы по превращению этой пряжи в сукно продолжали кормить французских ткачей в Седане и окружающей местности [12].
Такова теория генерального совета города Седана; эти взгляды одобрила также директория Арденского департамента. Когда дело перешло в Париж, то заключение центральной инстанции, управления таможнями, оказалось тоже всецело в пользу седанских мануфактуристов [13], и «временно» было решено изъять шерсть, пересылаемую седанскими фабрикантами для обработки и получаемую ими после переработки, от ввозной и вывозной пошлины. Надежды французских прядильщиков и прях на помощь со стороны правящих властей оказались совершенно тщетными.
С попыткой сократить конкуренцию посторонних рабочих рук встречаемся мы и в Марселе. Но здесь все дело носит не тот характер, что в седанском округе. Следует прежде всего сказать, что Марсель, который в общем не был крупным промышленным центром [14], являлся: 1) главным торговым портом всего Средиземного побережья и 2) средоточием мыловарения.
Производство мыла было в конце XVIII в. одним из главных нервов торгово-промышленной жизни Марселя, и оно давало работу массе рабочих рук; непрерывная доставка морем изо всех портов Средиземного моря оливкового масла и других материалов, нужных для этого производства, непрерывное движение судов, увозивших мыло за границу и во французские северные порты, — все это сильно способствовало тому, что Марсель сделался цветущим торговым городом, столицей юга Франции [15]. Могущественно содействовали преуспеянию марсельской морской торговли и привилегии, существовавшие вплоть до революции и делавшие Марсель обязательным этапом для всей вывозной торговли Прованса и Лангедока.
Но мыловарение в Марселе, как увидим дальше, стало терпеть жестокий кризис главным образом лишь тогда, когда начал ощущаться недостаток в сырье, т. е. со второй половины 1793 г.; о недостатке сбыта не могло быть и речи в период 1789–1793 гг. (Марсель не имел конкурентов не только во Франции, но и в Европе, и мы еще увидим, какие бедствия пережило население Франции, когда за недостатком сырья марсельское мыловарение сократилось.) Поэтому ли или по другим причинам рабочие-мыловары не подают голоса в течение всего рассматриваемого периода, и речь тут идет не о них, а о той рабочей массе, которая была занята в порту нагрузкой и разгрузкой кораблей, которая работала в бондарных, плотницких, столярных мастерских, расположенных тоже в порту и около порта, словом, которая кормилась от марсельской морской торговли и марсельского судостроения. Марсельский порт сосредоточивал рабочую массу в таком количестве, как это не могло иметь места нигде, ни в одном промышленном городе тогдашней Франции, кроме столицы. И мы встречаемся тут не только с коллективными петициями, но и с рядом гораздо более решительных действий. Началось движение с конца 1791 г.
В ноябре 1791 г. в Марселе произошел ряд сборищ рабочих, причем обсуждался вопрос о тяжелом положении рабочего люда и говорилось о дороговизне съестных припасов, о слишком низкой заработной плате, о невыгодном для рабочих способе самой расценки. 28 ноября они составили петицию (к сожалению, не сохранившуюся ни в Национальном архиве, ни в архиве департамента Устьев Роны) и подали ее муниципалитету. Муниципалитет высказался по этому поводу в том смысле [16], что он не может вмешиваться в сделку между рабочими и хозяевами, и тотчас же сослался на закон от 17 июня (закон Ле Шапелье). Напомнив о категорическом запрете, наложенном этим законом на какие бы то ни было совместные действия рабочих и прежде всего на сборища их, муниципалитет внушительно подчеркивает, что верит в спасительность этого закона, и что, как это ни прискорбно, пришлось бы преследовать всех тех людей, которые оказались бы нарушителями закона. Но вместе с тем муниципалитет «приглашает» всех работодателей (ceux qui sont dans le cas de faire travailler les ouvriers) принять в соображение дороговизну съестных припасов при решении вопроса о величине заработной платы.
Затем после некоторого перерыва брожение возобновилось в начале 1792 г. На этот раз оно приняло характер резко выраженной ксенофобии. Стремление избавиться от конкуренции посторонних рабочих привело к попытке со стороны марсельских рабочих подвести под понятие «étranger» не только тех собратьев, которые происходят из иностранных земель, но всех вообще немарсельцев.
По самому существу дела эта тенденция должна была коснуться не одной какой-либо категории рабочих, а всего рабочего населения данного города; и действительно, мимоходом брошенные указания говорят именно о такого рода общем характере движения. Но оно оставалось для меня не совсем ясным, пока мне не удалось найти три документа, бросающие свет на обстоятельства дела. Один документ представляет собой петицию рабочих-чужестранцев, обращенную к марсельскому муниципалитету, другой — петицию рабочих-марсельцев; по указаниям, содержащимся во втором документе, легко уже было найти и третий — мотивированную резолюцию муниципалитета. Обе эти петиции хранятся в архиве города Марселя, но в самом неподходящем месте в картоне, обозначенном единственным словом «Corporations», и где в самом деле больше ничего почти и нет, кроме дел о долговых обязательствах упраздненных цехов. Этим и объясняется полнейшая неизвестность указанных документов [17].
На основании этих документов дело рисуется в таком виде. Рабочие, марсельские уроженцы (бондари), обратились в муниципалитет с просьбой, чтобы городские власти предложили хозяевам уволить всех рабочих немарсельского происхождения. Муниципалитет внял этой просьбе, и рабочие-марсельцы стали ходить из мастерской в мастерскую, требуя изгнания немарсельцев и, по словам последних, терроризуя хозяев. Рабочие немарсельцы очутились, по их собственному выражению, «на мостовой» [18] и обратились к муниципалитету с просьбой о помощи. Муниципалитет заявил им, что хозяевам будет дано понять, что «приглашение, которое было им сделано, не есть суровое приказание». Однако это делу нисколько не помогло, и уволенные, по-прежнему находясь в отчаянном положении, снова обратились к муниципалитету. В этом втором своем обращении (текст которого именно и дошел до нас) уволенные просят муниципальные власти составить «мудрую и отеческую» прокламацию, которая призвала бы к порядку рабочих марсельского происхождения и успокоила бы хозяев (терроризованных последними). Жалобщики указывают, что не только они, бондари, но и все вообще рабочие из других департаментов, работающие в Марселе, встревожены происшедшим и имеют основание бояться таких же притязаний со стороны своих товарищей по ремеслу, марсельских уроженцев, и только муниципалитет может их успокоить.
Получив эту петицию, муниципальный совет через два дня, 22 марта 1792 г., обсудил ее и пришел к таким заключениям [19]. Все граждане должны пользоваться свободой и равными правами, которые закон за ними обеспечивает. А поэтому «без нарушения всех принципов справедливости, свободы и равенства, торжественно провозглашенных и признанных декларацией прав человека», нельзя даровать одним лишь марсельским уроженцам право на труд. Если же муниципалитет и пригласил заведующих мастерскими предпочитать граждан, служащих в национальной гвардии, иностранцам, то он имел в виду не французских граждан, а лиц, посторонних французскому королевству. А потому, желая облегчить тягостную участь «массы полезных и ценных для общества людей», муниципалитет приглашает заведующих мастерскими какого бы то ни было ремесла «смотреть на всех французских рабочих как на братьев и граждан, имеющих одинаковые права на их доверие», и различать их только по заслугам и талантам. Что касается рабочих-марсельцев, то муниципалитет, обращаясь к рабочим всех профессий, приглашает их отказаться от несправедливых претензий, несовместимых с принципами, лежащими в основе конституции. Резолюция кончается призывом обеих враждующих сторон к миру и согласию.
Эта резолюция, как явствует из самого документа, должно быть, была распубликована (хотя в картонах, содержащих марсельские официальные публикации за этот период, печатного экземпляра этой резолюции не сохранилось). Спустя несколько дней муниципалитету была подана новая просьба — со стороны рабочих марсельского происхождения [20]. Они, конечно, недовольны состоявшимся постановлением, хотя изъясняются самым почтительным образом. Они напоминают, что когда они обратились к муниципалитету в первый раз, то сделали это потому, что их, марсельцев, увольняли с работы под предлогом отсутствия заказов, а в то же время на их место брали чужестранцев. И теперь они снова просят из жалости к отцам семейств, лишенным заработка, обратиться вновь к заведующим мастерскими с приглашением, аналогичным первому. По-видимому, никаких официальных последствий это прошение не возымело. Ни в протоколах заседаний муниципалитета, ни в других местах следов в этом смысле не осталось. Теперь посмотрим, что дают эти документы для характеристики момента. Прежде всего даже из этих документов, а и особенности из резолюции муниципалитета можно усмотреть, что движение коснулось далеко не одних лишь бондарей, но в самом деле «рабочих какой бы то ни было профессии», и что именно сокращение производства вызвало эту обостренную борьбу за существование в рабочем классе. Далее, не подлежит сомнению, что рабочие марсельского происхождения старались совершить некоторую подтасовку со словом étranger: под это понятие они подводили вовсе не всех нефранцузов, как подумал было муниципалитет, а всех немарсельцев. Это явствует, во-первых, из признания самого муниципалитета, что он вовсе не так распространительно понимал слово étranger [21]; во-вторых, из категорического заявления их противников [22], которые даже указывают на присутствие в своей среде активных граждан [23], долгие годы живущих в Марселе и там женившихся; в-третьих, сами марсельцы не решаются уже в своей последней петиции особенно настаивать на своем толковании слова étrangers и в одном месте уже противополагают понятия étrangers и marseillais [24], так что можно было бы думать, что тут мы имеем дело не с подтасовкой, а с неточностью в выражениях, сбившей с толку муниципалитет, если бы в этом же самом дошедшем до нас втором прошении марсельцы не попытались опять внести неясность, говоря: «le vingt de ce mois… les ouvriers étrangers… vous ont présenté une pétition, tendant à les faire jouir des droits des français» [25]. Цель становится совершенно ясна, если принять во внимание, что муниципалитет только тем и объясняет свое первоначальное действие, что он думал, будто речь идет не о французах. Значит, если бы удалось в самом деле доказать иностранное происхождение уволенных, то отмены этого первоначального решения ни в коем случае не последовало бы.
Далее. Какова аргументация обиженных? Как стараются они воздействовать на муниципалитет? Они указывают на то, что неполитично (impolitique) и вредно для торговли создавать такого рода монополию для рабочих марсельского происхождения, ибо в таком случае, избавившись от конкуренции иногородних рабочих рук, рабочие-марсельцы «сделались бы деспотами мастерских и мануфактур и могли бы предъявить самую крайнюю цену за свой труд и поставить самые суровые условия» [26]. А это не в интересах торгового города, «который призывает к себе рабочие руки», и если угодно избежать этих последствий, то нужно противиться неосновательным претензиям рабочих-марсельцев.
Обиженные исходят из этой точки зрения — точки зрения интересов хозяев, ибо имеют основания считать ее наиболее в данном случае убедительной. Апеллируя далее к чувству справедливости муниципалитета, к обязательным принципам Декларации прав гражданина и человека, они вместе с тем предваряют, что окажут беспрекословное повиновение властям, каково бы ни было решение их участи. В столь же почтительном духе обращается к властям и другая партия (которая считает нужным присовокупить еще уверение в готовности «энергично защищать святую конституцию» [27]). Это тон и приемы, известные уже нам по событиям в парижской рабочей среде в 1789–1791 гг. Самое характерное в этой марсельской истории — лишь угрозы и готовность к насильственным действиям, обнаруженные рабочими относительно хозяев, медливших расстаться с «иностранцами», которые у них работали. Но и тут их действия (в их собственных глазах) находили формальное оправдание в первоначальном решении муниципалитета, ставшего было на их сторону.
Гораздо более резкий характер получила вспыхнувшая в Марселе вскоре после этого (в мае 1792 г.) стачка столяров. Рабочие устроили ряд не разрешенных властями (и формально запрещенных законом Ле Шапелье) собраний и выработали сообща новый тариф заработной платы, а также новый устав, который должен был регулировать отношения между рабочими и хозяевами. Затем инициаторы движения отправились по мастерским и путем угроз и насилий (как жалуются хозяева) заставляли других рабочих примкнуть к их требованиям и прекратить работу. Стачка охватила все столярные мастерские и существовало опасение, что она распространится и на другие промыслы. Судя по единственному сохранившемуся документу, откуда я узнал об этой стачке [28], в этом движении были следы влияния рабочего товарищества (compagnonnage «du devoir»), о котором уже была речь в первой части этой работы. К сожалению, трудно сказать совершенно утвердительно, насколько в самом деле здесь реально проявилось влияние товарищества (в общем подававшего за все время революции весьма мало признаков жизни), и насколько хозяева в своей жалобе воздержались от желания представить всю стачку делом рук этой уже давно и безусловно воспрещенной и гонимой властями корпорации. Правда, товарищества были в XVII–XVIII вв. более всего сильны именно среди рабочих, занятых строительными работами, среди плотников, столяров, слесарей и т. д. Но, с другой стороны, во время (рассмотренного в первой части) стачечного движения в Париже весной 1791 г., где именно рабочие этой категории играли выдающуюся роль, никаких следов влияния компаньонажа заметно не было. Возможно, конечно, что в Марселе корпорация оказалась крепче, нежели в Париже, и проявила себя во время конфликта.
Муниципалитет в своем решении по этому делу высказал негодование, что «граждане, к которым революция была наиболее благосклонна, так как она дала им право работать за свой счет, обусловив это только взятием простого патента», что эти самые граждане нарушают новые законы, уничтожающие всякого рода корпорации. Все тарифы и условия, выработанные стачечниками, были объявлены не имеющими никакой силы, подтверждено было воспрещение собираться, воспрещено было как хозяевам харчевен, так и церковнослужителям позволять рабочим скопляться либо в харчевнях, либо в церкви [29]. Поведение стачечников, по мнению муниципалитета, было соткано из закононарушений и проступков, при повторении которых им опять угрожают «законом 17 июня 1791 г.» (законом Ле Шапелье). Одновременно муниципалитет предупредил командира национальной гвардии о необходимости принять меры к аресту рабочих, которые попытаются собраться в числе свыше 10 человек.
Никаких данных о дальнейшей судьбе этой стачки у нас не имеется.
Если Марсель был торговой столицей юга Франции, то Бордо играл такую же роль для запада и отчасти центра страны. Через Марсель шла вся торговля с Левантом, с Турцией, с североафриканскими странами, с Италией, со Средиземным побережьем Испании. Через Бордо торговля направлялась в американские колонии Франции, в Северо-Американские штаты, в Индо-Китай, в Индию.
Что касается промышленности, то относительно Бордо можно гораздо решительнее, нежели относительно Марселя, сказать, что он не был промышленным городом: в Марселе процветала одна ветвь индустрии — мыловарение, в Бордо нельзя назвать ни одного производства, которое достигло бы подобной степени развития.
В первой четверти XVIII столетия как город Бордо, так и вся провинция Гиень не имели почти ни одной мануфактуры (кроме одной небольшой — фаянсовых изделий и кое-каких мастерских шерстяных изделий), и торговая палата города Бордо дает нам весьма категорическое в этом смысле свидетельство [30]. И накануне революции при громадном развитии морской торговли с американскими колониями, когда город рос и богател не по дням, а по часам, Бордо оставалось все же лишь передаточным пунктом, торговой столицей юго-западной Франции, но не промышленным центром [31].
И несмотря на это, именно в Бордо наблюдается некоторое стачечное движение в 1791–1792 гг., т. е. тогда, когда ничего подобного не было в больших промышленных районах. Подобно другому торговому центру — Марселю, Бордо сосредоточивал в своих стенах массу рабочих, занятых работами в порту, а также в мастерских, необходимых для судостроения. Кроме того, Бордо был одним за многолюднейших городов Франции, и непрерывный проезд торговцев и путешественников еще способствовал тому, что после Парижа едва ли где-либо шла такая кипучая торговля предметами потребления: съестными припасами, одеждой, как именно в Бордо.
Мы увидим в дальнейшем изложении, что и в 1793, и в 1794 гг. рабочее население города Бордо было неспокойно; здесь нас интересуют лишь события, происходившие до издания закона о максимуме.
Впервые некоторое брожение среди рабочего населения города Бордо, особенно среди портных, проявилось весной 1791 г. Рабочие требовали увеличения платы, покидали мастерские, принуждали товарищей оставить работы, брали паспорта и уходили из Бордо в соседние города искать новых хозяев [32]. Директория департамента даже обеспокоилась довольно серьезно относительно сохранения порядка в городе, но муниципальные власти не придавали особенно грозного значения этому брожению. Хозяева, жаловавшиеся властям, не могли даже назвать зачинщиков; они не в состоянии были даже привести какие бы то ни было положительные улики, что в самом деле с рабочих кто-то берет «клятву» не работать [33]; вообще, ища признаков какой-либо организации среди рабочих, местная администрация ничего не нашла. События показали, что муниципалитет был более прав, чем директория департамента: порядок нарушен не был, и все окончилось бесшумно, без каких-либо резких осложнений; по крайней мере ни в архиве департамента Жиронды (в Бордо), ни в Национальном архиве никаких следов этого брожения я не нашел, а если принять во внимание, какая оживленная, нескончаемая переписка поднималась между местными властями, а также между директорией департамента и Парижем по поводу малейших беспорядков в эти годы, то можно думать, что в самом деле ни на какое сколько-нибудь резкое выступление рабочие Бордо в 1791 г. не отважились (как и предвидел муниципалитет) и что в данном случае отсутствие документов говорит об отсутствии событий. Остается лишь пожалеть, что и цитированные два документа архива департамента Жиронды ничего не говорят обстоятельнее о причинах неудовольствия рабочих, не приводят указаний относительно их заработка, их пожеланий и т. д.
Портными дело не ограничилось.
Стачка захватила и булочников города Бордо в том же апреле 1791 г.; по-видимому, протекала она не вполне спокойно. До нас дошел документ, показывающий, что между местными властями происходили некоторые несогласия по вопросу о том, что предпринять: администрация округа стояла с самого начала за крутые меры, а муниципалитет (в распоряжении которого находилась непосредственно полиция) не видел повода к административному вмешательству.
Так шло дело до 19 апреля, когда до сведения властей дошло, что булочники намерены устроить собрание. Муниципалитет тотчас же воспретил это собрание и известил об этом администрацию округа, подчеркивая при этом, что теперь, когда есть налицо намерение нарушить положительный закон, он, муниципалитет, знает свои обязанности [34].
Муниципалитет при этом даже язвит высшую инстанцию ссылкой на слова Мирабо («… d’ailleurs, vous le savez, messieurs, un des principes favoris du grand homme public dont la France porte le deuil étoit que le plus grand défaut des gouvernements est de trop gouverner…» etc.). Кроме этого документа, y нас нет никаких указаний, касающихся стачки булочников в Бордо в 1791 г.
Но если бы могло показаться на первый взгляд, что в самом деле бордосский муниципалитет держался выжидательной политики (вплоть до попытки стачечников устроить собрание) потому, что еще не существовало закона Ле Шапелье; если бы могло показаться, что тут действовало строжайшее чувство законности, то последующие события бросают на поведение муниципалитета несколько иной свет.
Через год, весной 1792 г., стачечное движение в Бордо возобновилось. Оно захватило сначала плотников; муниципалитет вмешался и уладил дело так, что плотники добились повышения заработной платы. Но сам муниципалитет с беспокойством отнесся к успеху своего посредничества. «Ce n’est jamais sans inconvénient qu’une classe de manouvriers parvint à quelque succès dans ses réclamations. Toutes les autres sont bientôt seduites par exemple», — читаем мы в письме, которое муниципалитет отправил бордосским депутатам в Национальном учредительном собрании [35]. Вслед за плотниками забастовали рабочие, работавшие в хлебопекарнях. Булочники требовали повышения заработной платы ввиду непомерного вздорожания всех предметов первой необходимости. Чтобы добиться успеха, они решили без столкновений и открытых выступлений (sans éclat, как пишет об этой их тактике муниципалитет) партиями в 25–30 человек покинуть Бордо. Сначала муниципалитет не хотел вмешиваться в распрю, дабы на этот раз «не уклоняться от великих принципов» [36]. Между тем конфликт не улаживался, и городу грозила опасность остаться без хлеба. Муниципалитет обратился за советом в директорию департамента; оттуда ответили указанием на закон Ле Шапелье [37] и рекомендовали действовать на точном основании этого акта. Но муниципалитету это показалось «не весьма подходящим к обстоятельствам» [38], и он решил из городских средств приплачивать булочникам по 20 су в неделю, так что вместо прежних 13 су в день булочники стали получать 16 (по подсчетам муниципалитета) [39]. Зато «дело рабочих-булочников совершенно умиротворено» («entièrement apaisée»), — пишут мэр и его товарищи бордосским депутатам в Париж и прибавляют: «вы видите, какие жертвы должны нести все большие города в деле снабжения продовольствием, чтобы поддержать спокойствие!» [40].
При свете событий 1792 г. становятся понятнее и происшествия 1791 г.: охрана общественного спокойствия требовала в Бордо и в 1791, и в 1792 гг. особой осторожности в борьбе со стачечниками. Нигде во Франции в эти годы мы не встречаемся с такого рода опасениями властей перед бастующими рабочими, опасениями, доходящими до готовности нести самые серьезные материальные жертвы, лишь бы потушить конфликт.
В 1791 г. Бордо было в этом смысле совершенным исключением.
Как с беспокойством предвидел муниципалитет, успех стачечников не закончил эру рабочего движения.
Уже в первых числах сентября 1792 г. в городе Бордо происходило брожение, очень беспокоившее местные власти [41]. Вскоре разразилась стачка дрягилей (gabarriers), требовавших увеличения заработной платы [42]. В ноябре возобновилась стачка портных. Муниципалитет предложил командиру национальной гвардии разгонять сборища рабочих вооруженной силой, а депутации, пришедшей просить позволения собраться, было отказано со ссылкой на «закон 17 июня 1791 г.», т. е. закон Ле Шапелье [43].
Тогда же, осенью 1792 г. и зимой 1792/93 г., волновались я рабочие большой веревочной мастерской Руссо (как впоследствии показывал их хозяин, жалуясь на стачку в январе 1794 г. и прибавляя, что уже 16 месяцев рабочие нарушают законы) [44].
Так, спокойствие не водворялось в рабочей среде в Бордо. Закон о максимуме, как увидим в свое время, подлил масла в тлевший огонь.
Временное отсутствие безработицы и скопление рабочих в одном месте (в портах) сделали таким образом возможными стачки в Марселе и Бордо в 1791–1792 гг.
Оба эти условия встретились и на берегу Йонны среди рабочих, сплавлявших лес в Париж. В департаменте Йонны произошел чуть не вооруженный бунт рабочих, сплавлявших лес. Дело в том, что этот сплав производился подрядчиком по заказу парижского муниципалитета. При всей небрежности и неаккуратности расплаты муниципалитета с рабочими вообще (о чем речь еще будет впереди) в данном случае и подрядчик, и рабочие могли быть вполне уверены, что деньги будут им уплачены аккуратно и полностью, так как передача леса делалась лишь по получении денег. Работа была поэтому весьма завидная и редкая в годину безработицы.
Но рабочие, занятые этим делом, находили заработную плату слишком скудной. Положение подрядчика было, однако, весьма выгодно именно вследствие огромного перевеса предложения рабочего труда над спросом. Тогда рабочие, служившие у него, начали с того, что силой противились работе вновь приглашаемых лиц, причем дело доходило до массовых побоищ, и хозяин обращался к полиции, прося оградить его право приглашать тех рабочих, каких он найдет нужным [45]. Это побоище было как бы предвестником надвигавшихся серьезных беспорядков. В конце марта 1792 г. рабочие, занятые сплавом леса и составлявшие большую часть населения [46] четырех общин (Coulanges, Lucy, Crain и Mailly-le-Château), потребовали сообща прибавки платы. Они силой заградили реку, воспрепятствовали отправке леса в Париж и воспретили всем вообще рабочим, работающим на реке, продолжать работу. Они бросились затем на подоспевшую стражу, на отряд национальной гвардии, и обезоружили солдат. Один из поставщиков леса еле спасся от ярости рабочих, а дом его был разгромлен. В конце концов, впрочем, гвардия осталась победительницей, при помощи самых решительных мер порядок был восстановлен, и те, кого местные власти признали зачинщиками, были арестованы [47].
Едва лишь получив известие об этих событиях, министр внутренних дел (Ролан) в тот же день обратился с письмом на имя председателя Законодательного собрания. Он сообщает между прочим, что эти рабочие, сплавляющие лес из департаментов Йонны и Ньевра, уже давно неспокойны и уже не раз администрация просила высшее правительство принять меры к ограждению порядка. Но ничего не помогало: добиваясь увеличения платы, рабочие затрудняли отправку леса. Была сделана попытка удовлетворить их, и лесоторговцы согласились на увеличение платы, но Ролан не уверен, прекратятся ли из-за уступки эти продолжительные беспорядки [48]. Движение затихло. Министр передал дело собранию, и этим все кончилось. Он пишет обо всем этом деле но так, как писал об аналогичных происшествиях несколько месяцев спустя, во второе свое министерство. Здесь мы подходим к моменту, когда рабочим суждено было сыграть политическую роль.
Чтобы понять эту роль, необходимо обратиться от рабочих провинции к положению и настроению рабочих столицы. Но раньше, чем это сделать, нужно отметить еще одно явление, которое при всей своей исключительности не может быть обойдено молчанием.
2
До сих пор речь шла о стачках, затевавшихся в больших портовых городах и на берегу реки, по которой сплавлялись громадные партии леса, и имевших целью повышение заработной платы, а также о попытках сократить конкуренцию рабочих рук.
Теперь нужно отметить те немногочисленные случаи проявления вражды рабочих к «машинам», следы которых сохранились в рассматриваемую эпоху.
Предварительно нужно заметить, что в отмеченной (во введении) книге Picard’a «Les cahiers de 1789 et les classes ouvrières» приводятся (стр. 110–111) примеры враждебного отношения к механическому производству, встречающиеся в наказах. Но эти места наказов показательны для настроения цеховых хозяев, а не рабочих, и филантропическая окраска ничего тут не меняет. Закоренелая вражда цехов к каким бы то ни было техническим усовершенствованиям, доступным лишь большому предприятию, есть факт общеизвестный. И стоит только, не довольствуясь цитатами Пикара, обратиться к подлинникам, проверить эти цитаты, чтобы удостовериться, что заявления в наказах не имеют того характера, который приписывается им автором.
В самом деле, обратимся к тексту тех наказов, на которые ссылается Пикар, и мы сейчас же увидим, в чем дело. Кто, например, жалуется на machines mécaniques в городе Труа? Хозяева плотничьих, токарных и тому подобных мастерских [49].
Далее, Пикар ссылается на издание нормандских наказов; Hippeau. Но, во-первых, вот текстуально три строчки наказа, относящиеся к машинам: «art. 87. Qu’on examine si les machines mécaniques pour carder et filer la laine et le coton sont avantageuses ou désavantageuses et au dernier cas qu’elles soient réprimées». Даже если бы эти три строки принадлежали в самом деле рабочим, они вовсе не могли бы назваться выражением протеста против машин. Но на деле рабочие тут вообще совершенно не при чем: представители цеховых хозяев и тут были единственными лицами, говорившими о вопросах промышленного труда [50].
Цеховые же хозяева протестуют против «машин» и в Каене (ссылка Пикара: А. P., t. II, стр. 498); наказ, откуда взята цитата, называется «Cahier de la corporation des marchands drapiers, merciers et quincailliers de la ville de Caen» [51]. И почему вдруг прониклись жалостью к бедному народу именно хозяева купеческого цеха? Потому, что эти механические усовершенствования, как они во Франции существовали, давали товар никуда не годный: довольно обратиться к тексту, чтобы понять, в чем дело [52].
Есть цитаты заявлений, исходящих в самом деле от рабочих. Но и тут текст не позволяет нам видеть в этих заявлениях доказательства, что машинное производство было хоть сколько-нибудь распространено.
Первая цитата взята Пикаром из наказа деревенского прихода Ocqueville — в Нормандии [53]. Жители прихода, подобно жителям множества других нормандских деревень, занимаются пряжей и тканьем. Они боятся машин как будущего врага и говорят о машинах лишь условно, предположительно, как о зле, которого еще не знают, о котором судят априорно; они говорят о людях, которые еще только собираются вводить «машины» [54].
Другое заявление, исходящее от рабочих, взято Пикаром из «Représentations des compagnons bonnetiers de Troyes (указанное издание Vernier. Cahiers de doléances du baillage de Troyes… etc., стр. 192). Но о чем тут идет речь? О ручных вязальных станках (métiers à bras), которые, как жалуются авторы «Représentations», особенно распространяются в деревне! Дело не в протесте против «машин», а в желании городских, цеховых рабочих избавиться от конкуренции деревни (конкуренции страшной, как мы видели). Достаточно вчитаться в текст, чтобы эта черта выступила совершенно ясно: рабочие отстаивают себя и своих цеховых хозяев от деревенской конкуренции [55].
Это отсутствие в наказах истинного протеста рабочих против машин весьма понятно. Мы видели, до какой степени ничтожно было проникновение во Францию машинного производства за весь рассматриваемый период. Немудрено также поэтому, что и так называемых «бунтов против машин» и вообще проявлений неудовольствия рабочего класса по поводу введения машин мы во Франции конца XVIII столетия находим очень мало.
Но на одном факте этого порядка следует остановиться. Когда речь шла о технических усовершенствованиях, проникших во Францию в последние годы старого режима, я отметил успех цюрихских станков для выделки шелковых и бархатных лент, введенных сначала в лионской области швейцарцем Фридрихом Гаусером, а потом распространившихся по всей стране [56]. Эти инструменты, в самом деле сильно сокращавшие количество необходимых для производства рабочих рук, и вызвали брожение среди рабочих в конце 1791 г., когда вопрос о безработице стоял особенно остро.
Представителями интересов лентовщиков всей Франции выступили парижские рабочие. Собравшись с разрешения муниципалитета, они выработали петицию к Законодательному собранию, которую они и подписали «индивидуально», как с ударением заявляют об этом, желая избавиться от обвинения в нарушении закона Ле Шапелье [57]. Действуют они от имени всех рабочих той же профессии, находящихся во Франции: им легче было собраться и сговориться, но речь идет вовсе не об одном Париже. Они просят защиты и покровительства у Законодательного собрания и заявляют, что их просьба касается интересов всех рабочих их специальности, находящихся во Франции; они насчитывают их 60 тысяч человек в стране.
По мнению петиционеров, «несчастье, угрожающее всем рабочим-лентовщикам королевства, происходит от введения во Франции механических станков», которые распространяются с каждым днем все более и более. Они считают, что каждый станок, управляемый одним человеком, вырабатывает приблизительно столько, сколько прежде вырабатывало 20 рабочих. Станки эти (а их в стране уже 3 тысячи) лишают куска хлеба около 60 тысяч граждан, которые «доведены до самой ужасной нищеты и до отчаяния».
В чью же пользу обращаются страдания этой массы граждан? В пользу 400–500 обладателей этих 3 тысяч станков. Петиционеры просят Законодательное собрание особым декретом воспретить ввоз во Францию, а также постройку этих станков и вместе с тем пользование уже имеющимися станками, так как станки «противны благу и выгоде этой отрасли торговли» и так как они «доводят до нищеты и отчаяния» тысячи рабочих. Рабочие предвидят, что «несомненно, собственники этих станков… будут ссылаться на свободу каждого гражданина делать то, что он считает нужным». «Да, несомненно, — отвечают наперед петиционеры, — но с условием, чтобы никто не страдал от этого» и «чтобы общий интерес торжествовал над частным».
Как бы чувствуя, что одного этого аргумента для Законодательного собрания может оказаться недостаточно, петиционеры прибавляют другой: изделия, вырабатываемые механическим способом, не могут быть столь совершенны, как вырабатываемые исключительно ручным трудом. Чтобы быть доказательнее, рабочие к своей петиции присоединили еще небольшую докладную записку, в которой развивают свои мысли несколько подробнее [58]. В этой записке они ссылаются на то, что еще в первое время после введения этих станков цехи возбудили протест, но «золотом и интригами» владельцам станков удалось склонить на свою сторону королевский двор и утвердиться во Франции. В высшей степени характерно, что в этой своей докладной записке рабочие говорят об уже уничтоженных цехах с почтительным сочувствием, как о корпорации, стойко боровшейся против введения механического производства; эта сторона цеховой организации была огромным достоинством в глазах рабочих не одной только Франции. Петиционеры предвидят также упрек, что они просто хотят задавить опасную конкуренцию. Они на это возражают, что, если бы публика умела различать хорошие изделия от плохих, они ничего не боялись бы; но публика не умеет разбираться, а между тем механические изделия продаются по очень дешевой цене (à vil prix), и в этом отношении изделия, сработанные ручным трудом, не могут с ними сравниться.
Кончая свою докладную записку уверением в своем совершенном повиновении законам, рабочие снова взывают к справедливости и милосердию законодателей и умоляют принять в соображение интересы и их, рабочих, и всей французской торговли и уничтожить станки [59].
Оба эти документа были представлены в Законодательное собрание и оттуда пересланы на заключение комитета торговли. Докладчик (Jovin Molle), выбранный комитетом для разбора этого дела, дал весьма неблагоприятное для петиционеров заключение. Он приписал их ходатайство ослеплению людей, которых мучает беспокойство, как бы не потерять заработок. Он утверждал в своем докладе, что главным образом выделка лент сосредоточена в двух городах: Сент-Этьене и Сен-Шомоне, а «все остальные фабрики в королевстве вместе взятые не выделывают и 1/20 часть того, что Сент-Этьен и Сен-Шомон». Но заведения этих городов, где так распространены механические станки, погибнут, если фабрикантам запретят пользоваться этими инструментами. Докладчик стоит на точке зрения, диаметрально противоположной той, с которой смотрят рабочие: по его мнению, тот, кто находит средство уменьшить число рабочих, есть благодетель рода человеческого [60], и отказаться от механического производства, от удешевления товаров значит погубить национальную индустрию на пользу иностранцам. Рабочие, констатирует докладчик, сначала сопротивлялись введению этих механических приспособлений, но потом раскаялись «в своем ослеплении», ибо увидели, что заказчики стали обращаться в Швейцарию (за более дешевым товаром). И теперь (в 1790 г.) рабочие-лентовщики получают в день 20–30 су, а прежде до введения новых инструментов получали 10–12 су. Докладчик, с другой стороны, не спорит, что теперь, когда новые инструменты распространились, работает рабочих меньше, нежели прежде, но он считает это неизбежным в видах удешевления производства. Он обращается (через головы членов комитета) к рабочим с речью, в которой доказывает, что единственным последствием упорства рабочих будет лишение Франции рынков сбыта в пользу иностранцев и вследствие этого прекращение всякого производства, лишение рабочих заработка [61]. Согласно заключению доклада, комитет торговли постановил оставить ходатайство лентовщиков без уважения [62]. Следует отметить, что и до, и после этого решения рабочие вели себя в высшей степени сдержанно и спокойно; разрешенное муниципалитетом собрание их протекло столь благополучно, что вызвало особую хвалу со стороны полицейского чиновника, председательствовавшего в этом собрании [63].
Этот случай — единственный, в самом деле точно установимый, из тех немногих проявлений вражды рабочих к механическому производству, которые можно отметить в рассматриваемую эпоху.
Кроме только что отмеченного случая с лентовщиками, есть еще показание, характеризующее ненависть рабочих к машинам как к будущему врагу, стремление уничтожить машину еще раньше, чем она начала действовать, раньше, чем с ней даже ознакомились.
В северном промышленном районе (особенно в Северном департаменте, куда вошли прежние три провинции: Hainault, Cambresis и Фландрия) даже простейшие изобретения (так называемые «простые дженни») стали распространяться лишь к концу Директории, когда вообще хлопчатобумажная индустрия начала успешно конкурировать с полотняной. Префект Dieudonné (служивший при Консульстве) сообщает, что еще в 1791 г. некий англичанин (которого он не называет), проезжая через Лилль, продал муниципалитету усовершенствованную бумагопрядильную машину, которая должна была служить моделью, но рабочие, боясь, что машина лишит их заработка, взбунтовались и успокоились лишь тогда, когда их уверили, что машина сломана [64].
Наконец следует упомянуть об одном темном происшествии, которое я колеблюсь причислить к определенным проявлениям интересующего нас тут порядка: неясны мотивы действий.
14 июля 1789 г. в Руане толпа разгромила механические инструменты в бумагопрядильне Garnett’a, «иностранца», как обозначает его документ [65]. Что это были за инструменты, подробно не говорится, если не считать общего обозначения: «5 machines à carder», «4 grandes Jennys», «une grande quantité des cordes, rouages et diverses-autres pièces» и т. д.; из этого перечня (содержащегося в другом документе) [66], можно только понять, что речь идет о четырех усовершенствованных «дженни», тогда еще вовсе почти не известных во Франции. Их часто обозначали словами «les grandes Jennys». Не известно, какая именно «толпа» громила бумагопрядильню, каковы были мотивы разгрома и т. д.
Сокращение производства и безработица, угнетавшая самые промышленные районы страны с конца 1791-го, а особенно с весны 1792 г., обострившиеся в это время сравнительно с периодом 1790–1791 гг., вызывали жалобы, мольбы о помощи, кое-где попытки ограничить рынок рабочего труда, сократить искусственно предложение рабочих рук. Но в общем, как мы видели, не в этих районах, а среди рабочего населения больших торговых портов, Марселя и Бордо, дело дошло уже в 1791–1792 гг. до попыток стачечного движения. Это объясняется, конечно, не только сосредоточением в обоих городах большой массы рабочих, но также и тем, что морская торговля пережила обострение кризиса позже, нежели промышленность: только с начала 1793 г., когда к коалиции примкнула Англия и моря сделались в высшей степени опасны для французского торгового флота, началось разорение Бордо и Марселя. А до тех пор рабочие, кормившиеся от морской торговли и судостроения, а также служившие в этих городах у булочников, портных, сапожников и т. п., еще не испытывали всех ужасов безработицы, их руки еще были нужны, и их движение поэтому еще могло принять форму стачек.
Но был город, который по составу рабочей массы и по общим экономическим условиям не походил ни на центры промышленных районов, вроде Руана, Амьена, Седана, Сомюра и тому подобные, ни на обе «столицы французской торговли».
1. Париж не походил на промышленные центры именно тем, что он в своих стенах сосредоточивал рабочую массу в громадном числе. Конечно, если бы текстильная промышленность была единственным или хоть главным занятием, интересовавшим парижские мануфактуры, то можно было бы с уверенностью сказать, что, подобно приведенному выше в другой связи примеру парижского фабриканта газовых материй, отдававшего работу жителям далеких сен-кантенских деревень [67], владельцы парижских мануфактур силой вещей обратились бы к дешевому деревенскому труду, и особенного скопления большой рабочей массы в столице не было бы. Но главным предметом парижской промышленности были предметы роскоши. В квартале Тампля, в районе Pont-Neuf, в других местах длинной вереницей тянулись ювелирные мастерские, магазины часовых дел мастеров и т. д.; в громадных кварталах Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместья были расположены мастерские, выделывавшие на всю Францию и отчасти на Европу дорогую мебель, зеркала, ковры, дорогие кожаные вещи; позументщики, мастера, выделывавшие галуны, золотильщики и т. п., совершенно не заметные нигде в других городах, в Париже насчитывались тысячами и подавали голос, писали петиции, считались очень заслуживающей внимания (в силу их многолюдства) частью рабочего населения; производство модных товаров (одежды, предметов комнатного убранства и так далее) также занимало тысячи и тысячи рабочих рук. Такова была главная масса постоянного рабочего населения столицы. Все эти люди работали в бесчисленных мелких мастерских, но они жили в одном городе и даже большой массой в определенных чисто рабочих кварталах города. В этом отношении условия для совместных шагов, для коллективных действий были гораздо благоприятнее в Париже, нежели в центрах текстильной индустрии; в этом отношении Сент-Антуанское предместье или улица Муффетар походили на Марсельский порт или на набережную Гаронны в Бордо.
2. Но в 1792 г. стачки, еще возможные в Марселе, в Бордо, были немыслимы в Париже. В смысле экономического положения в период первых лет революции эта масса постоянного рабочего населения Парижа переживала, как сказано, самые жестокие времена с 1789 г.; никакой передышки в 1790–1791 гг. она не знала, а с 1792 г. попала в самое отчаянное, безнадежное положение: сокращение сбыта, полное разорение множества хозяев, занятых торговлей предметами роскоши, — все это выбросило на улицу рабочий люд, кормившийся этим производством. Поэтому парижские рабочие указанной категории, т. е. главная масса постоянного рабочего населения Парижа, и не могли принять участие в стачечном движении весной 1791 г., — стремление их выйти из тяжелого положения не могло выразиться в форме стачки.
Стачку весной 1791 г., как тоже уже сказано, устроили и поддержали прежде всего рабочие, занятые строительными работами, пришлая масса, которая только весной и летом работала в столице и которая воспользовалась временной строительной горячкой, наблюдавшейся в Париже. Из постоянного рабочего населения столицы лишь типографские рабочие, заваленные работой, могли также принять участие в стачечном движении.
Но в 1792–1793 гг. и это временное строительное оживление упало, и для пришлой рабочей массы настала безработица, а следовательно, обнаружилась и невозможность, и ненужность стачечной формы движения.
В 1792–1793 гг. положение вещей в столице может быть охарактеризовано следующим образом: 1) Жесточайшее обострение нужды обеих главных категорий, составлявших парижский рабочий класс, — как постоянной рабочей массы, так и пришлой, как рабочих, занятых выделкой предметов роскоши, так и рабочих, занятых строительными работами. Эта нужда не смягчалась в столице тем условием, которое отчасти было налицо в крупных промышленных районах провинции. Париж имел дело с рабочими чисто городскими, утратившими какую бы то ни было связь с землей, для которых заработная плата была не подсобной статьей в бюджете (как кое-где в провинции) и даже не главной, а единственной. 2) Нигде во Франции такая масса рабочих не сосредоточивалась в одном месте, как в Париже; нигде коллективные действия не были поэтому настолько облегчены для подобного множества людей. 3) По условиям экономической действительности эти коллективные действия в Париже в 1792–1793 гг. ни в каком случае не могли принять форму стачечного движения.
При этих условиях взоры парижских рабочих обратились не к хозяевам, а к правительственной власти.
Посмотрим, каковы были последствия этого факта.
Для рабочих 1793 год весьма походил на 1792-й; только замечались прогрессирующее вздорожание съестных припасов и усиливающаяся безработица.
Но для правящих кругов, к которым обратились за помощью рабочие, это время — 1792–1793 гг. — было крутым переломом и прежде всего было историческим моментом, когда: 1) пала королевская власть и 2) яростная борьба между жирондистами и монтаньярами окончилась поражением и гибелью жирондистов. При этих условиях боровшиеся партии в 1792–1793 гг. должны были считаться с большой и изголодавшейся рабочей массой столицы, и считаться серьезнее, нежели, например, в 1791 г., в эпоху издания закона Ле Шапелье и закрытия благотворительных мастерских.
Нужно сказать, что в первые времена революции в правящих кругах замечалось некоторое, как бы опасливое отношение к этому элементу населения, во всяком случае известная осторожность не считалась излишней.
Еще в январе 1790 г., когда свежи были в памяти взятие Бастилии и октябрьские дни 1789 г., осторожные политики с некоторым опасением относились к рабочим. Приведу пример. Как известно, активным гражданином, имеющим избирательные права, считался тот, кто платит прямого налога сумму, равную стоимости по крайней мере трех рабочих дней. Некоторые муниципалитеты, пользуясь неопределенностью формулы, намеренно принимали за норму несуществующую, слишком высокую оценку рабочего дня, чтобы повысить таким образом избирательный ценз. И вот не кто иной, как Ле Шапелье, настоял 15 января 1790 г., чтобы Национальное собрание положило предел этому произволу и чтобы рабочий день при исчислении ценза не мог оцениваться выше 20 су; и это демократическое предложение (принятое Собранием) Ле Шапелье мотивировал тем, что отстранение массы граждан от пользования политическими правами противно конституции и может вызвать опасное брожение [68].
Конечно, и тогда эта осторожность не заходила дальше известных границ. Например, положение безработных в Амбуазе уже в 1790 г. было таково, что местное общество и местные власти опасались восстания, и главная мера, которую инспектор мануфактур советовал комитету торговли (Учредительного собрания) принять, заключалась именно в установлении низкой таксы на хлеб [69]. Но тогда, в 1790 г., последовала на это предложение суровая резолюция («… il n’y a pas lien à délibérer»).
Подавление стачечного движения в Париже весной 1791 г., полная покорность рабочих после уничтожения благотворительных мастерских — все это значительно умалило даже ту долю опасений относительно рабочего класса, какая существовала. Усмирение манифестантов 17 июля 1791 г. послужило к дальнейшему укреплению намечавшегося уже с весны консервативного течения в Национальном собрании.
В расплате с рабочими, работавшими над казенными заказами, с конца 1791 г. замечается особая небрежность, которой не было в такой мере ни в 1789, ни в 1790 гг.
По некоторым данным, касающимся производившихся в Париже с конца 1791 г. до 1792 г. «общественных работ», можно между прочим убедиться, что власти за этот период не испытывали никаких решительно опасений касательно спокойствия рабочей массы. Ничего подобного той тревоге, которая наблюдалась перед изданием закона Ле Шапелье и особенно перед закрытием благотворительных мастерских в июне 1791 г… мы тут не замечаем.
Эти «общественные работы» конца 1791 г. и первой половины 1792-го не имеют ничего общего ни с какой благотворительностью: власти (прежде всего муниципальные) для исполнения нужных им работ нанимают партию рабочих или поручают дело подрядчику. И, несмотря на все просьбы и рабочих, и подрядчиков, деньги выплачиваются в высшей степени небрежно и неаккуратно, хотя муниципальная казна в эту пору отнюдь не находилась в крайности.
Нужно читать относящиеся сюда документы, чтобы ясно уразуметь, до какой степени и муниципалитет, и министерство внутренних дел в эту нору не считались с отчаянным положением нанимаемых ими рабочих.
Был исполнен ряд работ в церквах и упраздненных монастырях, и подрядчик никак не может добиться не то что выдачи денег для расплаты с рабочими, но даже сколько-нибудь определенного обещания относительно того, когда можно этой выдачи ждать. Просит он в ноябре 1791 г., просит в декабре, — ничего не выходит. Его шаги пред начальством ни к чему не ведут, даже счеты его не рассматриваются месяцами; он берет то одних, то других рабочих, ибо одними и теми же нельзя пользоваться, не уплатив им, — рассуждает он в официальной бумаге [70]. «Я побывал дважды в бюро агентства (национальных имуществ — Е. Т.), — пишет он спустя некоторое время, — но никого не нашел». Впрочем, он сам прибавляет, что, если бы и нашел кого-нибудь, все равно ничего бы, кроме уклончивых ответов, не получил [71]. Проходит три дня. За эти три дня подрядчик десять раз побывал в бюро и ровно ничего не добился [72]. Его посылают то в одно, то в другое место и нигде ничего не дают, а просто отвечают, что для уплаты рабочим рассчитывали на фонды, которых теперь нет [73].
Нужно очистить и ремонтировать Тюильрийский дворец, работы поручаются Palloy — подрядчику, который в свое время заведовал разборкой Бастилии, но денег ему не платят, и он должен обращаться с просьбами в Законодательное собрание [74].
Муниципалитет не платит и подрядчику, которому поручены обширные работы по замощению столицы, и дело доходит до того, что подрядчику грозит прямо смерть от руки изголодавшихся рабочих, если проволочки будут продолжаться: он говорит, что только лаской и обходительностью ему удается пока их сдерживать [75].
То же самое с рабочими, которые наняты для переделки церкви св. Женевьевы в Пантеон. Их 700–800 человек, им долго не платили вовсе, а среди жестокой зимы в декабре 1791 г. им заявляют, что работы временно прекращаются. Рабочие обращаются с петицией в Законодательное собрание. Они апеллируют к «отеческой доброте» законодателей, указывают на безработицу, на страшное вздорожание съестных припасов. Что же им делать? — «Mourir de désespoir», — отвечают они сами [76]. Ряд документов, похожих один на другой, как две капли воды, свидетельствуют, что и в других местах правительство месяцами не платило денег рабочим, которые исполняли эти казенные работы [77].
С другой стороны, власти, где находят нужным, подчеркивают, что никаких отсрочек в прекращении работ они не потерпят и не позволят, чтобы хоть один рабочий самовольно сделал больше, чем ему приказано сделать. Против таких лиц, которые попытались бы как-нибудь увеличить свою работу, рекомендуется принимать полицейские меры [78]. Впрочем, не платя даже за заказанную работу, муниципалитет едва ли стал бы платить за работу, «самовольно» исполненную рабочим, даже если бы полицейской власти и не удалось помешать ему сделать больше, чем приказано. Тут интереснее всего свет, который подобные приказания бросают на положение вещей зимой 1792 г.: рабочие, которым так скудно и неаккуратно платят, все-таки хотят хоть обманным образом увеличить выпавший на их долю заказ работы, чтобы получить проблематическое право просить прибавки, ибо строгое распоряжение муниципалитета вызвано уже бывшими примерами, а вовсе не одними лишь предположениями [79].
Не месяц, не два и не три тянется в некоторых случаях дело об уплате рабочим жалованья. В сентябре 1792 г. Ролану (министру внутренних дел) докладывает секретарь комиссии, которая должна была заботиться о перенесении и сохранении памятников и произведений искусств, отобранных у духовных учреждений, что уже два года идут работы, счета подрядчиков строго проверены, он, секретарь, много раз напоминал и просил об уплате, еще 14 января сам министр внутренних дел заявил, что намерен платить, и вот все-таки денег не платят! Секретарь взывает об уплате рабочим во имя справедливости и интереса общества [80].
4
Совершенно не опасаясь каких-либо самостоятельных выступлений со стороны рабочих, власти и в 1789–1791 гг., и в 1792 г. предусматривали возможность, что рабочие станут орудием в руках той или иной определенной политической партии. И с этой точки зрения в 1792 г. полиция внимательно прислушивалась ко всякого рода разговорам об искусственном увеличении столичной рабочей массы, якобы происходящем по чьим-то таинственным проискам. Так, в марте 1792 г. наделало тревоги в полиции донесение [81], будто 1500 лионских рабочих отправлено на чей-то счет в Париж, где они в определенный момент получат приказ действовать.
Но отставка жирондистского министерства изменила политическую конъюнктуру. Демонстрация 20 июня (1792 г.), направленная против двора и наводнившая на несколько часов Тюильрийский дворец, была устроена при полном одобрении со стороны жирондистов и при благоприятном для демонстрантов бездействии со стороны муниципальных властей; что именно рабочие были главным элементом в толпе демонстрантов, не подлежит сомнению, достаточно почитать ряд донесений полиции, следившей за рабочими предместьями и констатировавшей между прочим очень быстрое успокоение предместьев после произведенной ими манифестации [82].
Если, с одной стороны, рабочие сыграли роль орудия, которым решено было испугать двор, то, с другой стороны, деятели, которые прямо или косвенно способствовали устройству манифестации, были некоторое время не совсем уверены в том, что это орудие не захочет предпринять какие-либо самостоятельные действия. 24 июня (1792 г.), через четыре дня после манифестации, мэр города Парижа пишет поздно вечером тревожную записку полицейскому комиссару с вопросом, правда ли, что в Сен-Марсельском предместье царит возбуждение, что рабочие вооружаются? Он требует, чтобы комиссар убедил заблуждающихся во имя закона, во имя властей не нарушать порядка [83]. Полицейский комиссар спустя несколько часов отвечает ему, что среди рабочих царит спокойствие, которое было только нарушено одной «частной ссорой», но что рабочие заявляют, что они примутся за работу; впрочем, и командир национальной гвардии занял опасные пункты достаточными вооруженными силами [84].
Но вот консервативно настроенная директория департамента временно устраняет мэра Петиона от должности (именно за его бездействие во время манифестации 20 июня). Тотчас же организуется петиция от имени «сорока тысяч рабочих», занятых строительными работами, в пользу Петиона [85]. Авторы петиции называют устраненного мэра «ангелом-хранителем столицы», просят Законодательное собрание вернуть его и устранить директорию департамента, заявляют о полном доверии народа к мэру, спрашивают, неужели можно поставить мэру в вину, что он не провозгласил военного положения и не обагрил столицу кровью, и т. д. Временно оказавшаяся сильнее мэра директория департамента тотчас справляется, каково в самом деле настроение рабочих? Полиция доносит, что, несмотря на все усилия якобинцев отвратить рабочих от их занятий, Париж и предместья спокойны [86].
События, однако, идут своим чередом. Неприятельская армия грозит вторжением, слухи о сношениях двора с коалицией распространяются все шире, еще до того как манифест герцога Брауншвейгского необычайно усилил республиканское течение. Мэр Петион восстановлен в должности. Он и его приверженцы считают пока ненужным продолжать поддерживать агитацию среди рабочих — агитацию, которая велась все время, пока Петион был устранен от должности. И, действительно, рабочие повинуются ему, порядок всюду легко восставляется при одном его появлении [87], и это обаяние длится, несмотря на все успехи агитации Дантона, в эти критические, последние дни монархии [88].
Но сам Петион не в силах, если бы и хотел, спасти монархию. Будущие смертельные враги, жирондисты и (названные так впоследствии) монтаньяры считают республику единственным выходом; Дантону удается увлечь колеблющихся; в учреждении республики широкие слои буржуазии начинают усматривать единственное средство отразить неприятельское нашествие, спасти приобретения революции, предотвратить восстановление старого режима, и опять рабочие предместья столицы вызываются на сцену, но уже не для простой манифестации, как это было 20 июня.
О живейшем участии рабочих в событиях 10 августа 1792 г. пишут почти все историки, сколько-нибудь детально останавливающиеся на этом дне. Решающее влияние на исход дня оказало именно выступление Сен-Марсельского и Сент-Антуанского рабочих предместий. Нужно сказать, впрочем, что участие рабочих в событиях 10 августа 1792 г. хотя и констатируется современниками вполне категорически, но, к сожалению, никаких деталей, никаких обстоятельных сведений, касающихся этого участия, у нас нет. Я не нашел в этом смысле ничего в тех документах, которые касаются так или иначе рабочих и которые легли в основание настоящей работы. Обратившись к историкам, специально занимавшимся событиями 10 августа, я убедился, что в данном отношении и им не посчастливилось найти ничего определительного среди всех свидетельских показаний и документальных свидетельств, на основании которых они восстановляли историю падения монархии.
День 10 августа 1792 г., естественно, привлекал с давних пор внимание историков революции. Мишле, Луи Блан, Мортимер Терио, Тэн, Жорес с разных точек зрения старались осветить одно из важнейших событий всего революционного периода. Но при всем несогласии отдельных авторов относительно оценки события все они (что касается интересующего нас вопроса) ограничиваются лишь указанием на факт участия рабочих и не дают почти никаких деталей. «De tous les faubourgs de Saint-Antoine, de Saint-Marceau, les fédérés, les ouvriers se formaient en colonne et marchaient sur les Tuileries», — говорит, например, Жорес, особенно внимательно следящий за всякими признаками выступления рабочих («La législative», стр. 1290). «Les ouvriers, les prolétaires qui allaient au combat avec la plus audacieuse fraction de la bourgeoisie révolutionnaire ne formulaient aucune revendication économique», — констатирует он по поводу участия рабочих в событиях 10 августа (там же, стр. 1286). И, кроме подобных беглых указаний, он не считает возможным сообщить хоть какие-либо детали, касающиеся участия рабочих в восстании. В 1909 г. вышла превосходная монография, посвященная исключительно событиям 10 августа 1792 г. и их непосредственной подготовке; эта монография написана одним из выдающихся знатоков истории революции — Саньяком (автором исследования «La législation civile de la Révolution française»), и представляет собой том в 330 страниц.
(«La révolution du 10 août 1792. — La chute de la royauté». Paris, 1909). Разумеется, это специальное исследование, опирающееся, на все материалы, какие только возможно привлечь, отодвинуло на задний план все, написанное раньше о событиях 10 августа; никогда еще эта тема не вызывала столь обстоятельного и всестороннего анализа. Но и Саньяк не может ничего нового сообщить нам относительно роли рабочих до и во время событий 10 августа. Он подтверждает, что к числу наиболее революционно настроенных секций летом 1792 г. принадлежали секция Гобеленов в Сен-Марсельском предместье и секция Quinze-Vingts в Сент-Антуанском предместье (стр. 9); что те же рабочие предместья Сен-Марсельское и Сент-Антуанское участвовали в манифестации 20 июня 1792 г. (стр. 11 и 14); что именно Сент-Антуанское предместье прежде всех устроило горячую встречу (30 июля 1792 г.) вошедшим в Париж марсельским волонтерам (стр. 84); что 3 августа секция Qiunze-Vingts постановила было соединиться 5-го числа на площади Бастилии с гражданами Сен-Марсельского предместья (стр. 106); что оба рабочих предместья хотели еще 6 августа расположиться лагерем вокруг дворца (стр. 110); что оба рабочих предместья прежде всего были готовы к бою 9–10 августа (стр. 205–207); что от секции Quinze-Vingts исходил призыв заменить существовавший муниципалитет специально выбранными комиссарами секций (стр. 209); что жители Сен-Марсельского предместья двинулись 10-го числа первыми к дворцу (стр. 254) и вместе с волонтерами были главным ядром атакующей массы (стр. 280), а жители Сент-Антуанского предместья подоспели на помощь в решительный момент (стр. 286). Но, кроме этих голых фактов, и у Саньяка нет ровно ничего, так или иначе касающегося роли рабочего населения. Указывая, что рабочие пали в сражении 10 августа наряду с мелкими промышленниками, Саньяк напоминает: «… petits patrons et ouvriers n’étaient pas séparés par les idées et les intérêts» (стр. 301); нужно заметить, что вообще сохранилось очень мало указаний на профессию павших в борьбе (Саньяк, впрочем, признает, что и этого достаточно для делаемого им вывода; стр. 300, примечание). Нет никакой нужды в этом материале, чтобы утверждать, что значительнейшая часть буржуазии в августе 1792 г. смотрела на коалицию держав как на грозную опасность для всех приобретений революции, а на двор как на препятствие к удачному ведению войны против коалиции; и что поэтому рабочие Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместьев были деятельно поддержаны в завязавшейся борьбе.
Саньяк констатирует в нескольких словах вышеуказанные факты, но не дает ни малейших деталей. Мы и от него не узнаем, например, каково было влияние, каковы были речи и выступления рабочих в собраниях секций в июле и в августе 1792 г. Да и откуда он бы взял эти сведения? Ведь почти все протоколы заседаний секций сгорели в мае 1871 г. вместе с префектурой полиции, где они хранились, и Саньяк при изучении деятельности секций должен был руководствоваться лишь теми перепечатками, которые успели сделать Бюшез и Ру в «Histoire parlementaire de la Révolution» и Мортимер Терно в «Histoire de la Terreur», a эти авторы не отметили ничего, что могло бы выяснить интересующий нас вопрос. Случайные сведения, что в числе избранных секциями комиссаров очутился один рабочий-ювелир и что перед 11 августа на собрания секций приходили и не имеющие права посещать их пассивные граждане (стр. 302), мало удовлетворяет нашему любопытству [89].
Зато у нас есть больше данных, чтобы судить о стремлениях рабочих после 10 августа; и факты позволяют нам предположить, что кое-какие ближайшие «revendications écomomiques» у рабочих и перед 10 августа все-таки были, хотя они их, идя на штурм дворца, и не формулировали, как заметил Жорес в вышеприведенной цитате, и хотя поведение их, конечно, объясняется не только этими непосредственными экономическими требованиями.
Сейчас же после победы политическая ситуация еще раз меняется. Жирондисты у власти, короля как активного фактора не существует, и для министра внутренних дел Ролана вопрос о полном восстановлении порядка среди разволнованной страны становится на очередь дня. Однако изголодавшаяся безработная масса просит и ждет от нового правительства сейчас же после победы какой-нибудь помощи. Отправить их в Сент-Антуанское и Сен-Марсельское предместья, ничего не дав, не так легко, как после манифестации 20 июня. Рабочие были орудием, но в то же время у них была своя совершенно определенная мысль, которая заставляла их всегда быть заодно с желавшими перемены режима и которую они впоследствии несколько раз высказывали: им нужен был хлеб, которого они ждали теперь от республики, как прежде от короля, а потом от генерала Бонапарта. Вопрос этот стоял после 10 августа 1792 г. не так, как он стоял после взятия Бастилии, и если бы Законодательному собранию после 10 августа 1792 г. заявили, что нужно опять выдумать какие-нибудь работы, лишь бы удовлетворить безработных, подобно тому как были выдуманы в 1789 г. ненужные земляные работы на Монмартре, то едва ли Собрание опять предприняло бы тот шаг, который в 1789–1791 гг. доставил властям столько затруднений и беспокойств, пока были ликвидированы его последствия.
Но теперь благоприятное решение вопроса о безработных весьма сильно облегчалось одним посторонним обстоятельством: военная комиссия ввиду угрожающего нашествия неприятельской армии решила устроить под Парижем укрепленный земляными валами лагерь. Для устройства лагеря и решено было утилизировать огромную безработную массу столицы, и через неделю после провозглашения республики, 17 августа 1792 г., Законодательное собрание согласилось с военной комиссией и отпустило деньги на это дело [90]. Одновременно с этим около 3 тысяч рабочих-портных получило работу у подрядчика, который должен был поставить обмундирование для внезапно увеличенных кадров армии [91]. Но главная масса безработных устремилась, конечно, в лагерь, на земляные работы.
Недолгая история этих работ окончательно выяснила позицию, на которой утвердилось жирондистское министерство, а также послужила прелюдией к началу борьбы за максимум. И этих двух точек зрения она представляет бесспорный интерес.
Для понимания всего последующего необходимо помнить, что уже очень скоро после начала работ выяснилось (по ходу военных действий, что парижскому лагерю не придется играть стратегической роли, которая ему было предназначалась. Уже этого момента прекращение работ стало лишь вопросом времени. Посмотрим теперь, какую форму приняли события.
5
Работы начались 29 августа 1792 г. Так как на первых порах все стремления были направлены к тому, чтобы ускорить сооружения, то уже 2 сентября Законодательное собрание решило ежедневно отправлять в лагерь на работу по 12 депутатов из своей среды, «чтобы те подавали пример усердия» [92]. Ревизоры, побывавшие на работах в первые дни, рассыпались в похвалах прилежанию и добросовестности рабочих, которых в начале сентября было там 600 человек [93]. Рабочие просили еще, чтобы им устроены были палатки для сохранения одежды и провизии: бездомный и голодный люд, работавший в лагере, не мог думать о квартирах в городской черте. Эта просьба, по-видимому, была уважена тогда же. Вообще муниципалитет был в высшей степени доволен, что лагерь дает заработок рабочим, и «возбуждение умов незаметно обращается на пользу общества, направляясь против общего врага», а «мирные граждане начинают успокаиваться»; мэр Парижа Петион находил, что работы в лагере «распространяют довольство среди рабочего класса» и что «это положение вещей благоприятно порядку» [94]. «Секции» города Парижа тотчас же ухватились за возможность сбыть с рук хоть часть безработных. Инициативу взяла на себя секция Фонтен де Гренель. Собрание этого участка предложило остальным 47 секциям Парижа обратиться к муниципалитету как можно скорее с просьбой о «распределении работ» между секциями, т. е. чтобы было определено, сколько безработных может поставить на лагерные работы каждая секция [95]. Но уже очень скоро начались жалобы и неудовольствия, укоры в напрасной трате казенных денег, указания на развращающее влияние, которое оказывают затеянные работы на парижских рабочих.
В заседании секции Quinze-Vingts 18 сентября (1792 г.) было доложено о «ежедневных злоупотреблениях, которые позволяют себе и рабочие, и их начальники». По словам жаловавшихся секции очевидцев, рабочие напиваются допьяна, спят, а если и бодрствуют, то все равно ничего не делают. Секция пришла к решению, что плату поденную нужно непременно заменить сдельной (платить à la toise). Но особенно негодовало собрание секции по тому поводу, что рабочие уже имеющие частную работу, тоже приходят в лагерь, бросая свое дело и соблазняясь перспективой легкого заработка в 42 су в день [96]. Рабочие сильно обеспокоились этим нападением. Слишком свежо было в памяти закрытие благотворительных мастерских (в июне 1791 г.), тоже мотивированное между прочим тем, что их существование отбивает рабочих у хозяев (как было мной рассказано в первой части этой книги); слишком скудно вознаграждаемым сделался бы и труд при сдельной работе. И вот уже через три дня после заседания секции Quinze-Vingts лагерные рабочие собираются и пишут коллективное заявление в Конвент (только что сменивший Законодательное собрание) [97]. Прежде всего они удостоверяют законодателей в своих гражданских чувствах, жалеют, что не могут даром трудиться для отечества, и с ударением говорят о своем заработке как о сумме скромной сравнительно с дороговизной припасов, хотя и признают, что эта плата избавляет их от крайней нужды. Но вот они боятся, что «несколько человек буржуа» (plusieurs bourgeois) назвали их тунеядцами, и, пожалуй, теперь будут приняты различные меры вроде введения сдельной платы. Это равносильно было бы бедствию, так как масса людей, привыкших к более тонкой работе, гибли бы от усталости, ничего не могли бы заработать и дошли бы до нищеты.
До поры, до времени их беспокойство не оправдалось, но нападения на эти явно уже ненужные и убыточные для казны работы не прекращались. 23 сентября в заседании секции Roule было постановлено довести до сведения остальных 47 секций города Парижа, что работы в лагере идут в высшей степени неудовлетворительно [98]. Нет ни порядка, ни общего плана действий, ни прилежания со стороны рабочих. Рабочие являются в 8, 9, 10 часов утра, работают очень мало, играют в карты и в большинстве случаев уходят домой в 3–4 часа. Заведующие заботами на вопросы по этому поводу отвечают, что они не в силах заставить повиноваться себе и что они не хотят быть зарезанными. Секция многозначительно напоминает, что «это язык мастерских 89, 90-го года» и что нужно избежать грозящей опасности. Весьма характерно это заявление: благотворительные мастерские начала революции оставили по себе очень недобрую и беспокойную память среди парижской буржуазии, и закон Ларошфуко-Лианкура, закрывший их [99], считался благодетельной мерой. Секция пока еще не рекомендует пустить в ход столь драконовскую меру, как совершенное упразднение лагерных работ: она предлагает лишь заменить поденную расплату поурочной, посдельной. По мнению секции, это заставит рабочих приняться за дело серьезно и будет иметь хорошие последствия в смысле экономии денег. Но «неисчислимая выгода» нового порядка будет заключаться в том, что работы «не будут привлекать толпу бродяг», которые только ищут места, где бы им «сговориться относительно своих разбоев». Работы должны отныне совершаться под ближайшим контролем представителей секций. В случае препятствий ко введению нового порядка вещей необходимо принять «весьма репрессивные меры»: нужно, чтобы главноначальствующий национальной гвардией посылал ежедневно отряд, особенно кавалерии, для наблюдения. Нынешним заведующим («directeurs des travaux», «inspecteurs») секция совершенно откровенно не доверяет и полагает, что и за ними необходим надзор. Кроме национальной гвардии, все 48 городских секций должны по очереди выставлять ежедневный патруль для надзора за рабочими; в присутствии этого патруля должна происходить (дважды в день) перекличка рабочих. Ни детей, ни женщин на эти работы более допускать не должно. Этот патруль установит возможность активного и реального контроля, борьбы с злоупотреблениями и т. д. Секция кончает свою резолюцию предложением выработать сообща (с другими секциями) соответствующее обращение к Конвенту. От Конвента она ждет «сурового и грозного декрета, который больше повлияет на злонамеренных рабочих, чем всякая вооруженная сила».
В первых числах октября лагерные рабочие опять жалуются Конвенту на «клеветнические обвинения» и приносят одновременно патриотический дар на покрытие военных издержек в размере 475 ливров [100]. Власти сами еще не совсем знали, что им делать с лагерными работами: вовсе ли прекратить их или в самом деле изменить только способ расплаты и вместо поденной платы ввести сдельную. А пока работы были вдруг приостановлены на несколько дней (декретом от 4 октября) после каких-то нарушений порядка со стороны рабочих. Рабочие отрядили делегацию в Конвент, где и просили возобновить работы, причем удостоверяли полнейшую свою покорность [101]. Тем не менее Конвент должен был уже в том же самом заседании, где были выслушаны делегаты, грозить, что труд тех лиц, которые вопреки декрету о приостановке продолжают работать, будет считаться добровольным и даровым. 8 октября рабочие, полагая, что приостановка окончилась, явились на работу и спросили, будут ли им платить поденно или сдельно? Но никто им не ответил [102]. Тогда «всегда ревностные в содействии благу отечества» (как с наивной хитростью излагают они сами свои мытарства) «рабочие принялись все-таки за свои труды и продолжали их с усердием и разумом», а через три дня (11-го) им вдруг сказали, что эта работа будет считаться даровой! Они, «отцы семейств», страшно нуждаются и вот в особом прошении обращаются с просьбой заплатить им и наперед покоряются, если власти захотят ввести сдельную расплату вместо поденной.
Ничего не помогло. Декретом от 18 октября (1792 г.) Конвент прекратил вовсе лагерные работы, о чем и оповещено было особыми афишами. Каждый рабочий получал единовременное пособие в виде платы за три дня, а все претензии рабочих были отвергнуты категорически [103]. Заведующие работами боялись каких-либо эксцессов со стороны увольняемых рабочих. Инженер Перроне обратился тотчас же к министру внутренних дел с просьбой «как можно скорее» принять меры к приисканию занятий для тех рабочих, которые работали сначала над прорытием бургонского канала, а затем были вызваны в Париж. Он говорит, что рабочие должны быть уверены, что получат заработок сейчас же после возвращения своего к бургонскому каналу, а иначе они обнаруживают довольно неспокойное состояние духа. И вообще даже отправить домой их лучше по разным дорогам, а не по одной и той же [104]. Мало того, один из четырех инженеров, наблюдавших за работами, подвергся угрозам со стороны рабочих и вынужден был не показываться им на глаза [105].
Министр внутренних дел Ролан совещался, со своей стороны, с членами военной комиссии о мерах к поддержанию порядка [106]. По его мнению, нужно позаботиться, чтобы у рабочих, отправляемых из Парижа к бургонскому каналу, было все необходимое; и вообще нужно обойтись с отправляемыми рабочими мягко и действовать на них убеждениями, что эти новые работы (над каналом) важны для процветания нации [107]. Словом, видно было беспокойство относительно того, как будет принято отправление к каналу, а с другой стороны, явное желание по возможности больше увольняемых в Париже рабочих занять этими новыми работами. 23 октября вспыхнули беспорядки. Большая толпа рабочих собралась на Вандомской площади и требовала, чтобы депутация из 20 человек их товарищей была допущена в Конвент. Муниципальный чиновник Мерсье явился в Конвент с донесением, что если угодно избежать восстания, нужно допустить депутацию [108]. Конвент постановил выслушать депутацию. Делегаты просили лучшей расценки за работу (т. е. за эти последние дни перед закрытием работ). Они заявляли, что при сдельной плате они вследствие дурной погоды и твердой почвы зарабатывали по 10–12 су в день, даже самые трудолюбивые. Вместе с тем они заявили, что хотят всецело повиноваться закону. Председатель Конвента ответил на это, что собрание одобряет их решение повиноваться закону, что к их жалобам отнесутся с гуманностью и справедливостью и что если претензии окажутся основательными, они будут удовлетворены. Затем дело было сдано в комиссию, а рабочие разошлись. Жалоба ни к чему не повела, да и ясно было, впрочем, что рабочие взволновались вовсе не из-за расценки, ибо работы все равно прекращались, а что просто такую форму приняло их стремление хоть как-нибудь повлиять на Конвент и заставить его взять обратно декрет об окончании работ. Тут были и решимость произвести нечто вроде демонстрации, и робость пред слишком резкой постановкой вопроса. Это было такое же движение бессильного отчаяния, как и то, которое я отметил в период времени после закрытия благотворительных мастерских в июне 1791 г. (см. первую часть, стр. 75–76).
Однако политические обстоятельства в конце 1792 г. совершенно не походили на обстоятельства середины 1791 г. Лагерные работы восстановлены не были, но на очередь дня стал вопрос гораздо более важный и общий, и рабочие, бессильные, когда они действовали самостоятельно, покорно пошли за той из боровшихся партий, которая посулила им если не прекращение безработицы, то хоть «дешевый хлеб».
6
Вопрос об удешевлении съестных припасов, а затем и всех предметов первой необходимости путем обязательной таксации стал на очередь дня уже в середине 1791 г., и тогда (20 июля 1791 г.) муниципалитетам было предоставлено таксировать хлеб и мясо. Но страшное падение ассигнаций так непомерно удорожило все предметы потребления, что с конца 1791 г. в народе не прекращались толки о необходимости распространить это право таксации на всю торговлю вообще. Власти решительно боролись с этой тенденцией и отстаивали свободу торговли при всяком случае.
В начале 1792 г. в городе Сансе толпа остановила груз товара (сахару, кофе, мыла), принадлежавший купцам Пеллетье и Клеману, и потребовала, чтобы этот товар был распродан по низкой цене. Власти стали всецело на сторону купцов, указывая, что препятствовать свободному передвижению товаров или требовать продажи их не по той цене, какую волен назначить торговец, составляет преступление, караемое по всей строгости законов. При этом администрация подлежащего департамента (Йонны) подчеркнула в своем постановлении по этому поводу, что, кроме хлеба и мяса, в силу закона 22 июля 1791 г. нельзя облагать принудительной таксой какой бы то ни было товар [109].
Осенью 1792 г. жалобы на дороговизну, на недоступность предметов потребления сделались настолько громкими во всей стране, что комитеты торговли и земледелия (в соединенном заседании) решили предложить Законодательному собранию меры к снабжению рынков хлебом (путем, между прочим, принуждения землевладельцев и арендаторов доставлять хлеб на рынок). Но вместе с тем было решено, что торговля хлебом в стране не должна подвергаться никаким стеснениям. О других предметах потребления не было и речи в заседании [110].
Удержаться на этой почве было еще не так трудно, пока шли работы в лагере, пока хоть часть столичной рабочей бедноты имела некоторый заработок. Когда работы были прекращены, вопрос о таксации принял гораздо более тревожный характер.
И правительство не замедлило занять в данном случае вполне определенную позицию. Ролан давно уже с тревогой смотрел на происходящее. Если у кого из жирондистских вождей была определенная, принципиально выдержанная точка зрения на домогательства рабочих, то именно у него. Нечего и говорить, что, например, на устройство лагерных работ он согласился исключительно потому, что вовсе не считал их предприятием филантропического характера, и деятельно способствовал прекращению работ, едва только они стали не нужны для стратегических целей. Ролан всегда принципиально был против филантропических мер относительно безработных: это он проявил еще в 1789 г., резко восстав против проекта раздачи безработным некоторого вспомоществования [111] тех же убеждений он придерживался и в 1792 г. Он прекратил и те работы, которые производились на казенный счет (в сентябре 1792 г.) в Лувре, хотя муниципалитет хотел продолжать их. Ролан жаловался собранию на то, что не хватает в столице достаточно вооруженных сил, чтобы сдерживать рабочих [112]; он лично являлся на работы и требовал прекращения их. Нечего было и думать, чтобы после прекращения лагерных работ он согласился на какую бы то ни было попытку открытия новых работ на казенный счет.
Но еще менее расположен он был уступить в гораздо более важном вопросе — в вопросе о таксации предметов потребления. Убежденный последователь физиократов, Ролан знал, что еще с 1789 г. начались стеснения хлебной торговли, и видел ясно, что парижский простой народ все свои надежды возлагает на дальнейшие принудительные меры в этой области. Принцип «свободы торговли» уже давно был нарушен: хлеб и мясо уже таксировались, правда, преимущественно лишь муниципалитетами больших городов, и такса эта была пока не особенно далека от средней, «естественной», рыночной цены. Дальнейшему вмешательству государства в эту область экономической жизни Ролан решил изо всех сил противиться.
31 октября 1792 г. правительство обратилось к населению с воззванием, в котором между прочим говорилось: «… сограждане, проникнитесь хорошенько той великой истиной, что торговля может сделаться процветающей только вследствие самой неограниченной свободы» [113]. Причина дороговизны хлеба это — именно препятствия, которые испытывает хлебная торговля (со стороны населения, мешающего свободному вывозу хлеба из департамента в департамент). Правительство внушительно подчеркивало при этом, что по закону чины муниципалитетов не могут под страхом увольнения таксировать какие бы то ни было предметы потребления, кроме хлеба и мяса. И поэтому злонамеренные лица, которые будут так или иначе противиться свободе торговли, должны быть немедленно арестованы и преданы суду как нарушители общественного спокойствия [114]. Это было предостережением по адресу не только «злонамеренных», но и муниципалитетов и прежде всего парижского муниципалитета, с которым Ролан находился в решительном конфликте.
Воззвание, указывавшее на «бесчисленные препятствия», которые испытывает торговля, имеет в виду частые нападения на обозы, жалобы и требования, предъявляемые к торговцам со стороны населения, и т. д. До Ролана долетали отзвуки все усиливавшегося в этом смысле народного движения. «Я не стану передавать всех удручающих деталей, которые мне доставляет моя корреспонденция, — докладывал он Конвенту в начале ноября (того же 1792 г.), — но я должен предупредить Национальный Конвент, что снабжение провизией производится всюду столь же насильственным, сколь и произвольным образом. Если груз хлеба должен быть провезен через несколько департаментов к месту назначения, то редко его не разграбят и не продадут по цене, установленной покупателями», и приходится вооруженной силой «напоминать заблуждающимся гражданам их долг». И есть уже примеры, говорит Ролан, когда администраторы бывали при этом убиваемы.
Голод свирепел все больше, чем дальше дело шло к зиме… Справиться с движением силой Ролан не мог. Он, казалось, чувствовал, что не только монтаньяры решительно против него, но что и поддерживавшее его пока большинство тоже колеблется. Если бы это сознание не выразилось в целом ряде других актов, то достаточно было бы прочесть новое его обращение к Конвенту (от 18 ноября 1792 г.), чтобы понять всю ситуацию. Чтобы быть убедительнее, Ролан просит забыть, что он министр, а считать его частным человеком [115]. Он с тревогой указывает, что комитет земледелия и торговли представил проект декрета, вредного для торговых сношений. Ролан и убеждает, и умоляет Конвент быть верным «великим взглядам Тюрго». По его мнению, может считаться доказанным, что правительственное вмешательство «в торговлю, в промышленность, в какое бы то ни было предприятие» всегда было убыточно и вредно для всех. Ролан совершенно откровенно подчеркивает, каковы были эти вредные последствия правительственного вмешательства: «… оно затрудняло промышленность, удорожало плату за рабочий труд и увеличивало стоимость вырабатываемых предметов». Насилие в экономической области вызывает недоверие и губит все: «… вскоре пришлось бы вооружить одну половину нации против другой». Он пугает Конвент страшными и всеобщими беспорядками, которые воспоследуют, если искусственным путем стараться уменьшить цены на съестные припасы, затрудняя торговцев в выборе времени и места для продажи. Ролан знал, что давление идет со стороны голодающей парижской народной массы и от муниципалитета, и в тот же день, когда он написал свое письмо Конвенту, он обращается и в муниципалитет [116]. Тут он хочет устыдить муниципалитет напоминанием о старом режиме, говорит, что он верит в возвышенность и бескорыстие парижан. «Долго думали, — пишет министр, — будто нужно, чтобы хлеб в Париже был всегда дешевле, чем во многих других местах республики, и все знают, что старый режим в нескольких случаях приносил значительные жертвы, чтобы поддержать эту систему, предосудительную во всех отношениях; но нынешний народ не то, что прежний народ; он сделал усилие, чтобы стряхнуть с себя иго рабства и завоевать свободу, ему незачем делать усилий, чтобы быть добрым, чтобы быть справедливым, когда он просвещен: и дело должностных лиц, которых он выбрал, ваше дело — успокоить опасения, которые постоянно внушают ему вероломные агитаторы».
Конечно, все это были бесполезные попытки задержать совершенно неизбежную грозу, надвигавшуюся на принцип свободы торговли. Ролан одновременно не переставал предупреждать Конвент, что и в самом Париже частная собственность не в безопасности [117].
Парижский муниципалитет должен был считаться все время с возраставшей нуждой и раздражением простого народа; муниципалитет все больше становился монтаньярским, все больше делался органом тех новых выступавших вперед слоев населения, о которых шла выше речь. Решительная борьба между Роланом и муниципалитетом, между жирондистами и монтаньярами завязалась именно на почве вопроса о снабжении Парижа хлебом; но это были первые стычки, и монтаньяры еще сами не решили для себя этого вопроса окончательно. Ролан жаловался Конвенту, что администрация парижской коммуны «способна окончательно уничтожить» ту уверенность, без которой немыслима свобода торговли, а потому немыслимо и снабжение Парижа съестными припасами. Муниципалитет стал закупать хлеб и по уменьшенной цене пускать его в продажу; Ролан говорит, что «с тех пор все закупки делаются жителями окрестностей в Париже», таким образом хлеб исчезает из столицы, а не прибывает [118], и ежедневные затраты (по 12 тысяч ливров) ни к чему не приводят. Ролан не может сдержать своего раздражения: «Я не хочу заподозревать намерения (муниципалитета — Е. Т.); я не предполагаю, что эти операции продиктованы желанием снискать популярность и намерением подготовить бедствия, которые потом можно постараться свалить на высшую администрацию» и т. д. Фермеры, земледельцы «не осмеливаются более появляться на рынке», не смеют выставить на продажу мешок хлеба из страха быть убитыми вследствие обвинения в скупке. Такое общественное настроение Ролан приписывает «беспокойству, агитации, вечным декламациям» и категорически заявляет, что дух парижского муниципалитета в конце концов «погубит столицу и Конвент», если не положить предел беспорядку.
Все это письмо его проникнуто трагической уверенностью, что верховной власти Конвента и правительства грозит неминуемая опасность со стороны столичного муниципалитета, поддерживаемого массой парижского населения. И он, человек, совершенно не привыкший к ораторским преувеличениям, говорит уже о своей гибели. Он предвосхищал события; но что именно этот вопрос сделается началом конца жирондистов, Ролан угадал со свойственной ему глубиной и проницательностью.
Почва колебалась под жирондистами; враги, от рук которых им суждено было погибнуть через три недели после прекращения лагерных работ, выступили в качестве сторонников таксации. Позиция, которую заняли монтаньяры в вопросе о таксации, выяснилась не сразу. Но зато уже в октябре 1792 г. определилось, что в предстоящей упорной борьбе их с жирондистами рабочая (или точнее безработная) столичная масса может сыграть чрезвычайно важную роль; ясно было также, что эта масса поддержит лишь тех, кто возьмет на себя решительную борьбу со «скупщиками», «богатыми», «вампирами», словом с лицами, которым слухи приписывали умышленное стремление ради наживы морить голодом народ (affamer le peuple — любимое выражение эпохи). Таксация предметов потребления намечалась как выход, как самое действительное орудие борьбы против «скупщиков», и если тактический интерес монтаньяров заставлял их стать на сторону таксации, то, с другой стороны, и доктрина, легшая в основу их убеждений, нисколько не противоречила этому мероприятию. Безусловное господство государственного интереса, отсутствие каких бы то ни было границ для вмешательства власти общества в сферу социально-экономических отношений — все это могло сделаться и сделалось вполне логической предпосылкой принудительной таксации предметов потребления.
Тактический интерес, отсутствие препятствий идеологического порядка объясняют, почему монтаньяры стали на сторону таксации. Но почему они победили? Почему поддержки столичного голодающего населения оказалось достаточным сначала для насильственного устранения жирондистских депутатов, потом для проведения закона о максимуме? Объяснять это явление якобы непреодолимой силой парижской рабочей массы или, шире говоря, голодающей безработной массы всего населения нельзя. Мы увидим, что монтаньяры, став у власти, не только вполне решительно, без малейших колебаний и сомнений требовали от рабочих безусловного и немедленного повиновения всюду, где рабочие пытались проявить хоть какое бы то ни было поползновение к отстаиванию своих интересов, но и что они в некоторых случаях обращались именно с рабочими как с живым инвентарем, насильственно распоряжаясь их трудом и грозя за ослушание тяжкими карами; мало того, мы увидим, что, когда самая таксация, самый «закон о максимуме» оказался в высшей степени вредным для интересов рабочей массы, все-таки Комитет общественного спасения продолжал требовать его исполнения. Следовательно, могучей, непреодолимой силой рабочая масса столицы не была, и только ее поддержкой победа монтаньяров весной 1793 г. объяснена быть не может.
Здесь сыграла роль не столько сила напора, сколько слабость сопротивления. Жирондисты попали в трагическое положение партии, покинутой теми слоями населения, которые за ней еще недавно стояли. Когда осенью 1792 г. парижские безработные начали со злобой говорить о «буржуа» и называть их «аристократами» [119], то они говорили о той громадной массе народа, мелких и крупных земельных собственников, торговцев, владельцев промышленных предприятий, мастерских и т. д., которая не только не была «аристократами», но которая именно в этот исторический момент, перед лицом неприятельского нашествия, начинающегося грозного контрреволюционного бунта, перед опасностью восстановления старого режима, соглашалась повиноваться лицам, обещавшим проявить наибольшую энергию, наибольшую беспощадность в этой опасной борьбе. Во имя этого обещания, этой будущей победы сначала были принесены в жертву жирондисты, затем оказано было беспрекословное повиновение диктаторской власти Комитета общественного спасения; во имя этого стало возможным и издание закона о максимуме при громкой и радостной (на первых порах) поддержке неимущих слоев столичного населения и прежде всего рабочих и при молчаливой покорности достаточных слоев буржуазии.
Уже с ноября 1792 г. монтаньяры обнаруживали стремление сделать вопрос о дороговизне хлеба вопросом борьбы между «богатыми», или «землевладельцами», и «бедными», или «поденщиками», или «рабочими». При этом доктрина о свободе торговли, доктрина физиократов, подвергалась нападениям именно как учение, защищающее интересы «богатых». «Эти жадные люди вступают между собой в соглашение, чтобы сделать цены на хлеб выше платежной способности рабочих», — заявил в Конвенте 15 ноября 1792 г. Беффруа [120]. Доктрина физиократов пользовалась, по его словам, поддержкой при старом режиме потому, что она благоприятна деспотизму, и уже поэтому она недопустима при свободном образе правления [121]. Оратор упрекает Учредительное собрание за то, что оно поддержало принцип свободы хлебной торговли, и объясняет это тем, что в этом собрании заседало много богатых землевладельцев [122].
Нужно заметить, что защита принципа свободы торговли со стороны жирондистских депутатов велась довольно неуверенно по мере усиления нападений; достаточно прочесть типичную в этом смысле речь Boyen-Frondrède’а, в которой он советует, не налагая запретов и стеснений на торговлю хлебом, выдавать правительственные премии на ввоз хлеба из-за границы [123].
Гораздо принципиальнее и решительнее были выступления самого министра внутренних дел Ролана. 8 декабря 1792 г. он провел декрет, согласно которому смертная казнь грозила всякому лицу, виновному в вывозе хлеба в зерне или муке, а также овощей за границу; половина имущества казненного шла в пользу казны, другая половина — в пользу доносчика. Но, с другой стороны, тоже смертная казнь грозила и всякому, кто покусится препятствовать свободному обращению хлеба внутри республики [124]; это было вызовом, брошенным приверженцам таксации.
Спустя полтора месяца жирондистское правительство пало.
7
Слухи о «скупках» и таинственных махинациях контрреволюционеров, желающих будто бы извести Париж голодом, не прекращались. Подозрительность и ожесточение голодавшей массы росли не по дням, а по часам. В самом Конвенте депутат департамента Индры взывал к собранию: «Граждане-законодатели, хотите ли вы уничтожить ужасные последствия искусственного голода, который дает себя чувствовать кругом? Имейте же мужество добраться до причины этого бедствия. Причина зла находится в стенах этого города, она находится в башне Тампля: срубите на эшафоте голову Людовика XVI — и народ будет иметь хлеб, и изобилие снова появится на наших рынках» [125]. В ожидании этого события положение вещей делалось все напряженнее; обозы с хлебом у самых ворот столицы подвергались открытому нападению и грабежу, и жандармерия принуждена была рассылать многочисленные патрули по дорогам, ведущим к Парижу, с целью защитить эти обозы [126]. Вывоз хлеба за границу давно уже был запрещен под страхом смертной казни; 8 декабря 1792 г. эта угроза, как сказано, была еще раз подчеркнута в особом декрете, но вместе с тем, по явному настоянию жирондистов, подтверждалась самая полная свобода торговли внутри республики и объявлялось, что все, противящиеся свободному передвижению съестных припасов, также подлежат смертной казни; министерство, проводя этот закон, думало, очевидно, оградить обозы от вынужденных остановок и грабежа.
Вначале мы уже сказали, что жирондистам суждено было силой вещей сделаться в 1793 г. партией, которую перестали активно поддерживать стоявшие за ней прежде слои населения. Еще в течение первых пяти месяцев продолжалась борьба между ними и монтаньярами, но их конечное поражение и гибель с каждым днем становились все яснее. Уже в самом начале 1793 г. жирондистские министры должны были уйти; вопрос о снабжении Парижа хлебом делался все более и более острым, и муниципалитет не удовлетворял уже голодавших.
Уже с конца 1792 г. все настойчивее и злобнее делаются нападки на так называемых «богатых», «les riches», и чем дальше, тем больше их отождествляют с былыми «аристократами». Возникает вопрос о составлении списков «богатых», которых должно обложить особым налогом [127], и парижская коммуна (муниципалитет) приказывает секциям приняться за это дело [128]; депутация от нескольких парижских городских секций является в комиссию Конвента и заявляет: «Есть другие аристократы… Это все крупные купцы, все скупщики… банкиры… и все имеющие что-нибудь… Нужно очистить от них землю отечества» [129]; а после падения жирондистов подозрения в богатстве было иной раз достаточно, чтобы попасть в тюрьму, как, например, попала туда в июне 1793 г. владелица одной мануфактуры «в числе прочих, вследствие репутации, будто она богата» [130]. Эта злоба против «богатых» приобрела, так сказать, совершенно конкретный вид: она направилась против так называемых «скупщиков», как действительных, так и предполагаемых.
В феврале 1793 г. дело дошло до беспорядков в самом городе. И в начале, и в конце февраля народ пытался грабить лавки, требуя хлеба, мяса и мыла. Конвент ассигновал муниципалитету (авансом) 3 миллиона на нужды продовольствия, но этого оказалось недостаточно. 12 февраля в заседание Конвента явились представители от имени всех 48 «секций» (участков), на которые была разделена столица [131], и прочитали адрес в высшей степени резкого содержания. «Граждане, — заявляла депутация, — недостаточно сказать, что мы — французские республиканцы, нужно еще, чтобы народ был счастлив, чтобы он имел хлеб… Мы являемся сюда, не боясь не понравиться вам, являемся затем, чтобы осветить ваши ошибки и показать вам истину». Спекуляции и ажиотажу они приписывают недостаток хлеба, и, по их мнению, виновны тут сами муниципальные власти, недостаточно строго наблюдающие за спекулянтами: «.. как хотите вы, чтобы купеческие муниципалитеты сами наблюдали за собой и сами доносили на себя?» Они требуют законодательного вмешательства и с ненавистью говорят о любимых философах жирондизма — физиократах (ces prétendus philosophes) — и о депутатах, которые полагают, что немыслимо издать «хороший закон о продовольствии». Если бы это было правдой, пришлось бы отчаяться в «высшей мудрости» Конвента, — прибавляют они. Петиционеры не ошиблись, признав в жирондистах учеников и последователей физиократической школы. Петиция кончалась требованием издать закон о максимуме, о максимальной цене на предметы первой необходимости, больше которой продавец не мог бы требовать с покупателя. Депутация непосредственного успеха не имела. Напротив, тон петиции раздражил членов Конвента. Даже Марат решительно протестовал, называл предлагаемые меры «крайними, странными, субверсивными». Другие депутаты говорили, что это — восстание против Конвента, вспоминали (Бюзо) слова депутата Верньо, сказанные еще до казни Людовика XVI: «Хлеб дорог, причина этого, говорят, — в Тампле, но придет день, и скажут: хлеб дорог, причина — в Конвенте». Особенно разъярился Конвент против одного члена депутации, который сказал, что являются они от имени «всех братьев в департаментах»; его даже велено было арестовать немедленно, и петиционеры понемногу стали скрываться во время этой бурной сцены. Петиция была отослана в «комитет надзора» для расследования.
Эта сцена показывает, что в феврале 1793 г. у монтаньяров Конвента далеко еще не было определенного намерения, ясной линии поведения в этом грозном вопросе, и они с Маратом во главе так же раздраженно отнеслись к предложению о максимуме, как и жирондисты. То же самое наблюдаем мы и в якобинском клубе в эти дни. 22 февраля (1793 г.) пришла в заседание клуба депутация женщин с просьбой, чтобы им дали на завтра помещение для обсуждения вопроса о скупках (скупки и скупщики, которым приписывалось все зло, были на языке у всего парижского народа). Брат Робеспьера заявил по этому поводу, что «слишком часто повторяющиеся обсуждения вопроса о припасах тревожат республику». Клуб решил отказать женщинам в их просьбе [132]. Тогда публика, занимавшая трибуны, подняла страшный шум, кричала, что среди самих якобинцев есть купцы, скупщики, обогащающиеся от общественных бедствий, и т. д. Шум был так велик, что пришлось прервать заседание. Когда оно возобновилось, присутствовавший как раз в клубе Дюбуа-Крансе, бывший тогда президентом Конвента, заявил, что в качестве президента Конвента он «с ужасом отвергнет петицию, которая будет говорить о таксации съестных припасов». По его мнению, «сначала необходимо завоевать свободу, а затем уже припасы станут дешевле». Опять поднялся шум со стороны публики. Один оратор сказал, что если женщинам позволить собраться тут, то их явится 30 тысяч человек. Другой (Жанбон де Сент-Андре) заявил, что нужно выгнать из народных обществ тех, которые возбуждают разговоры о съестных припасах, ибо это нарушает порядок: «Теперь не время возбуждать вопрос о продовольствии. Этот вопрос — не в порядке дня, он нарушил бы тишину и спокойствие, которые нам нужны. Общество должно невозмутимо заниматься рассмотрением конституции, и никакой другой предмет не должно ставить на очередь, пока этот вопрос не будет исчерпан».
Но ничто не характеризует так хорошо политический момент, как речь Сен-Жюста в Конвенте. Редко этот твердый, решительный, беспощадно прямолинейный человек так растерянно и запутанно высказывался, как именно по вопросу о продовольствии и о максимуме весной 1793 г. [133] С одной стороны, он выражает ряд самых мрачных опасений. «Нищета породила революцию; нищета может и погубить ее, — предупреждает он. — Наша свобода пройдет, как гроза, ее триумф — как удар грома» [134]. Но что делать? Этого он не знает. «Говорят, что заработная плата увеличивается в соответствии с ценами на припасы; но если рабочий не имеет работы, кто будет ему платить за его праздность?» Особенно Париж бедствует, Париж, где столько людей работало над выделкой предметов роскоши [135]. Сент-Жюст считает одной из причин бедственного состояния страны обесценение ассигнаций, но и тут не указывает способов борьбы со злом, отделываясь общими фразами. В конце концов он высказывается за свободу внутренней хлебной торговли (но с запрещением вывоза за границу).
Приведенные свидетельства ясно показывают нам, что инициатива «максимума» исходила не от Конвента и не от той или иной влиятельной организации, а от парижской нуждающейся массы.
Петиции и жалобы сменяли одна другую [136]. Монтаньяры, с одной стороны, не могли не видеть, что раздражение голодающей массы весьма легко может быть использовано для предстоящей решительной схватки с жирондистами; но, с другой стороны, именно вследствие отсутствия выработанного плана действий (в вопросе о голоде) они несколько опасались алармистской агитации по этому предмету. Когда (24 февраля 1793 г.) депутат Лесаж заявил с трибуны Конвента, что дело идет о спокойствии Парижа, ибо существует тревога по поводу недостатка в съестных припасах, то со скамей монтаньяров послышался решительный ропот, и оратора не хотели дослушать. А Тальен прямо заявил, что вопрос о продовольствии — «главное оружие, пускаемое в ход аристократами», и что неосторожно с трибуны заявлять о недостатке хлеба. Женщины осаждали Конвент просьбами о таксации не только хлеба, но и таких предметов, как мыло (этого домогались прачки), и вот Тальен, поговорив с ними, заявляет с трибуны, что эти женщины, как он заметил, «не патриотки, но орудия аристократов»… Когда другой депутат заявил, что парижский народ требует установления таксы на припасы, то раздались крики: «Неправда!»
В конце концов было решено, чтобы комитет земледелия и торговли, комитет общественной безопасности и комитет финансов немедленно собрались и спросили подлежащие власти — министра внутренних дел, администраторов департамента и прокурора парижской коммуны — о состоянии продовольственного дела и о том, какие меры приняты, чтобы столица не нуждалась в продовольствии [137]. Этой бумажной отпиской пока и ограничились.
Министерство внутренних дел могло только повторить то, что оно неоднократно заявляло [138]: муниципалитет покупает хлеб по рыночной цене на хлебном рынке и затем перепродает его по «умеренной цене» булочникам (которые зато обязаны уже подчиняться известной таксе при продаже хлеба публике). Эта операция обходится ежедневно муниципалитету в 12 тысяч ливров чистого убытка. Это было не только убыточно, по мнению властей, но и нецелесообразно, ибо жители соседних городов систематически являлись в Париж и скупали этот дешевый хлеб; пользовались этим не только бедные, но и богатые, и голод отнюдь не уменьшался.
Вопрос был не такого свойства, чтобы о нем можно было забыть. Муниципалитет с апреля (1793 г.) решительно стал настаивать на таксации; монтаньяры в Конвенте не могли не видеть, что от их позиции в этом вопросе зависит в весьма серьезной степени, будет ли их поддерживать парижский муниципалитет и народ в предстоящей развязке борьбы с жирондистами.
Необходимостью предупредить «частичные восстания», между прочим, мотивирует желательность таксации монтаньярский оратор, выступивший по этому вопросу особенно горячо, Лежандр [139]. Он указывает также на то, что при дешевом хлебе возобновится и расширится индустриальная деятельность, и от этого зависит «успех мануфактур». По его мнению, если Конвент колеблется еще, то вследствие продолжающегося «гибельного влияния» школы физиократов; от этого влияния нужно, полагает оратор, совершенно освободиться, ибо именно эта школа «научила правительство» старого режима устраивать искусственные голодовки [140].
Другие приверженцы таксации, даже признавая принципиально правоту физиократической доктрины относительно свободы торговли, указывали, что при данных обстоятельствах эта свобода приведет к голоду, бунту, гибели республики [141].
Член директории парижского департамента Моморо, видный член монтаньярской фракции, заявлял, что необходимо установить «справедливое соотношение между стоимостью хлеба и размерами дневного заработка». Исходя из этого принципа, он предлагал таксацию хлеба повсеместно во всей республике и в этом мероприятии видел «обеспечение спокойствия» и охрану собственности, так как злонамеренные подстрекатели утратят предлог к возбуждению беспорядков [142].
Чуть не во всех речах и заявлениях по поводу желательности таксации повторяется тот же мотив: нужно успокоить рабочих, успокоить голодающих; закон Ролана, закон от 8 декабря 1792 г. о свободе хлебной торговли не предупреждает «восстаний». «У вас просят закона, — восклицал 30 апреля 1793 г. в Конвенте депутат департамента Сены-и-Луары, Монжильбер, — пожелаете ли вы, чтобы этот закон тоже покровительствовал богатым против бедных, как закон от 8 декабря, или чтобы он «дал каждому гражданину республики одинаковое право на предметы первой необходимости… такова задача, решения которой ожидает Франция» [143]. Только таксация хлеба может «обеспечить священное уважение к собственности» [144]. Почти то же о фиаско закона от 8 декабря и о необходимости поэтому принять иные меры к предупреждению беспорядков повторяет и другие защитники таксации [145].
Депутат Сены-и-Уазы Лекуантр утверждал в Конвенте, что все рабочие, ремесленники, чиновники и вообще люди, живущие на определенное жалованье, если это жалованье меньше 2 тысяч ливров в год, обречены на совершенную нищету [146], до такой степени хлеб и другие предметы первой необходимости повысились в цене. Он предлагал таксировать хлеб, причем septier (240 фунтов) [147] пшеницы лучшего сорта должно было стоить не более 30 ливров, septier ржи — 20 ливров. Лекуантр настаивал особенно на необходимости это сделать ввиду «тревожных беспорядков, грозящих разразиться повсеместно» [148].
18 апреля 1793 г. все представители муниципального самоуправления парижского департамента в адресе, поданном ими в Конвент, просили об установлении повсеместно максимума на хлеб, и вице-президент департамента произнес тогда по этому поводу большую принципиальную речь [149]. Он настаивал на обязанности общества заботиться о существовании всех граждан и указывал, что положение вещей таково, что целой массе лиц угрожает голодная смерть. Хлеб во многих департаментах стоит 7½ су фунт, а рабочий получает там в день едва-едва 30 су; семейному рабочему существовать совсем немыслимо. За два месяца хлеб повысился в цене вдвое, и нельзя предвидеть, на чем этот процесс остановится. Оратор приписывал это и «алчности» скупщиков хлеба, и «неловкости» военного и морского министров, сразу закупивших огромную массу хлеба, а также обесценению ассигнаций, и главное средство к уврачеванию зла он видел в установлении определенной цены на зерно, больше которой продавец не имел бы права требовать с покупателя.
Конвент уже не решился так отнестись к этому предложению, как за два месяца до того. Вопрос был рассмотрен в комитете земледелия и торговли с участием представителей местного самоуправления и других лиц. На этом совещании исходили из пожелания, чтобы «цены на хлеб были пропорциональны заработной плате рабочего» [150]; что же касается до способов, то «первым и непогрешимым» средством было признано установление «максимума». По мнению членов совещания, «вопрос этот так важен, что от него зависит спасение республики. Нужны не паллиативы, а быстрое и действительное лекарство». Неурожая нет, амбары полны, и значит, если хлеба на рынках нет, то это происки внутренних врагов, тех самых, которые «тысячью уловок» обесценили и ассигнации. Совещание должно было столкнуться неминуемо и с принципиальным вопросом о праве собственности, о границах этого права. Было выдвинуто «два неоспоримых принципа: первый — что существование есть первейшая собственность гражданина, которую он получает от природы, и общество должно дать ему средства к сохранению существования, откуда следует, что общество должно давать пропитание всем своим членам без различия; второй принцип — что собственник не имеет права располагать своей собственностью вредным для общества образом». На этих принципах сошлись все члены совещания, но они разошлись только в выводах, которые отсюда можно сделать. Приверженцы установления таксы заявляли, что собственник лишь пользуется плодами своей собственности, но «продукты земли принадлежат всем, как воздух; общество может ими располагать посредством справедливого предварительного возмещения» (стоимости продуктов). Размеры этого возмещения легко определить на основании стоимости земли и ее плодородия. Эти исчисления и послужат базисом к установлению максимальной таксы на хлеб, которая таким образом и рассматривается как способ справедливого вознаграждения собственнику за понесенные труды и издержки. Если установить эту обязательную таксу, то собственнику не будет уже смысла прятать свой хлеб в амбарах (ибо все равно он его не будет иметь возможности нигде продать выше таксы), а сообразно с уменьшением цены на хлеб, которая «есть регулятор цен на другие предметы», и все понизится в цене. Приверженцы максимума выдвигали весьма существенный аргумент: возможность восстания голодающих против представителей земледелия и против всего политического строя. «Кто может исчислить бедствия, которые должны воспоследовать для земледельца, для всей республики, для свободы и для Национального Конвента, в этом ответственного?» Народ сохраняет «в своей душе внутреннее убеждение, что общество обязано обеспечить ему существование», и это может иметь «гибельные последствия», если не принять меры против голода. «Не надо скрывать от себя, что если бы народ поднялся под влиянием первейшей своей потребности, тогда ничто не могло бы остановить проявлений этого движения». Таким образом, такса необходима, «чтобы избежать распадения общества», и притом «завтра же нужно эту таксу декретировать, ибо уже невозможно и трех дней ждать».
Не соглашавшиеся с этими доводами заявляли, что хотя при правильной организации государства действительно необходимо обеспечение существования граждан, но такса на хлеб не может оправдать надежд, которые на нее возлагаются. Нужно стремиться не к тому, чтобы определить цену хлеба сообразно с размерами заработной платы, а чтобы заработную плату установить, применяясь к ценам на хлеб [151]; нужно изъять часть ассигнаций, чтобы повысить их реальную ценность. Если даже и понизить цену на хлеб, все равно заработная плата также понизится, и в окончательном счете бедняк ничего не выиграет. Далее, если установить эту таксу только относительно хлеба, оставив в покое продукты обрабатывающей промышленности, то эта явно несправедливая мера совершенно разорит сельское хозяйство, особенно мелких хозяев. Но в таком случае можно все предметы потребления подвергнуть таксации, а не только хлеб? Это будет гибелью всей промышленности, разорением торговли, банкротством для тех коммерсантов, которые сделали запасы, накупили товаров по обыкновенной, ходячей цене, а перепродавать их будут обязаны по искусственной уменьшенной цене. Итак, ни рабочим, ни торговцам и промышленникам, ни сельским хозяевам мера эта не принесет ничего хорошего. Так кому же она будет полезна? Капиталистам, имеющим большие запасы ассигнации. Они, «предвидя скорую отмену» этого закона, закупят по дешевой, искусственно установленной цене огромные количества хлеба, а когда этот гибельный закон будет отменен, перепродадут хлеб и еще более наживутся на этой спекуляции. Этот класс, «менее всего полезный для республики», только один и воспользуется законом; уже поэтому следует с недоверием отнестись к предлагаемой мере. Кроме того, определение максимума и технически невыполнимо вследствие слишком большой разницы в целой массе условий между отдельными департаментами. Розыскные и инквизиторские приемы, которые будут неизбежны при проведении этого закона, грубо нарушат право собственности, а без охраны этого права «не существует общества». Нечего и говорить, что всякая торговля с чужими странами станет совершенно невозможна; но и торговые сношения между отдельными департаментами также в высшей степени затруднятся, ибо ведь таксы придется установить различные. Это приведет к федерализму и распадению государства. (Не нужно забывать, что в эту эпоху — перед изгнанием жирондистов из Конвента — обвинение в федерализме было одним из самых грозных полемических средств.)
Ни комитет земледелия и торговли, ни Конвент еще не решились издать закон о максимуме. Фабр, докладывавший об этом деле в Конвенте (от имени комитета земледелия и торговли), не примкнул к мнению тех членов совещания, которые стояли за введение максимума. По его воззрению, таксация уморит голодом часть республики, а «инквизиторские приемы», неразлучные с максимумом, разорят класс земледельцев. Докладчик предлагал устроить магазины, куда все владельцы хлеба в зерне обязаны были бы его доставлять, а цены на этот хлеб устанавливались бы местными властями сообразно с той ценой, которая была на последней ярмарке в день св. Мартина. Обсуждение вопроса, начатое в Конвенте 25 апреля, продолжалось 27-го. Против максимума произнес большую речь жирондист Барбару, повторивший уже раньше приводившиеся доводы о нецелесообразности его. В Париже, по его заявлению, где хотят удержать цену на хлеб искусственным путем на известном уровне, мэру приходится прибегать к вооруженной силе, чтобы воспрепятствовать жителям соседних городов и деревень вывозить этот дешевый хлеб из Парижа; и в Париже муниципалитет еще берет на себя расходы, уплачивая «настоящую» цену владельцам хлеба и уже от себя перепродавая его по 3 су за фунт. А желать введения максимума, перекладывающего все убытки на владельцев, значит разрушать собственность, общество и т. д. Прения приняли страстный оборот, и в конце апреля дело дошло до того, что публика с трибун стала бурно прерывать ораторов, особенно жирондистов. Депутации не переставали являться в Конвент, то умоляя, то угрожая и в один голос прося о максимуме. 30 апреля явилась депутация из Версаля, выразившая свое отчаяние по поводу «двух бичей»: разбоев, опустошающих республику, и голода. Петиционеры просили не медлить с провозглашением максимума.
Конвент явственно колебался. С одной стороны, не только достаточные слои буржуазии, но и крестьяне-собственники были существенно заинтересованы в том, чтобы максимум не был объявлен; с другой стороны, поистине отчаянное положение городских рабочих, ремесленников и вообще всех городских жителей, получающих менее 2 тысяч ливров дохода [152], требовало каких-либо мероприятий. Твердого убеждения, что максимум полезен, не было и у монтаньяров, но факты показывали, что нужно действовать, а максимум являлся в глазах голодающего населения средством, сулившим хотя непосредственное, хотя для ближайшего момента несомненное улучшение. Рабочие прямо угрожали восстанием и подали 1 мая (1793 г.) соответствующее заявление в Конвент. Оно, к счастью, сохранилось в подлиннике в Национальном архиве [153] и весьма облегчает понимание психологии момента.
Тон рабочих совершенно не тот, что был еще в 1792 г., не говоря уже об эпохе Учредительного собрания. Свои заслуги пред революцией они сознают весьма хорошо и решительно об этом напоминают, называя себя «людьми 5 и 6 октября, 14 июня, 20 июня и 10 августа». Нет и тени былого смирения и подобострастия, характерного для первых лет революции. Они с того и начинают, что являются с целью говорить «суровую истину» законодателям [154] и указать им, каковы те средства, при помощи которых возможно спасти республику. Дальше тон документа становится еще резче. «Уже давно занимаясь только частными интересами и обвинениями друг друга, вы замедлились на том пути, по которому обязаны идти. Собравшись в этих стенах, чтобы спасти общество, чтобы создать республиканские законы… отвечайте, что вы сделали?… Вы много обещали и ничего» не сдержали…» Обыватели Сент-Антуанского предместья жалуются, что в то время, как многие из них ушли на войну или собираются идти, жены и дети лишены всяких средств к существованию. «Уже давно вы обещаете всеобщий максимум на все припасы, нужные для жизни; постоянно обещать и ничего не исполнять, удручать и утомлять народ — это значит лишать его возможности относиться к вам дальше с доверием». Петиционеры и в членах Конвента видят прежде всего собственников и подозрительно к ним относятся: «… подобно народу, принесите жертву; пусть большинство из вас забудет, что они — собственники». Дальше идет любопытнейшее место, показывающее, что, ненавидя собственников, считая их главным препятствием к установлению желанного «максимума», рабочие в то же время и не думают о низвержении самой собственности, и предлагают членам Конвента своеобразную сделку: «… пусть максимум будет установлен, и мы скоро сделаем для защиты вашей собственности еще больше, чем для защиты отечества». Петиционеры заявляют о готовности своей записаться в действующую армию, а также просят установить налог на «богатых». Вот каков должен быть этот налог: все собственники, получающие свыше 2 тысяч ливров дохода в год, обязаны вносить половину «излишка» (т. е. того, что они получают сверх 2 тысяч); если у этих собственников есть дети, то им позволяется удерживать еще по 500 ливров в год на ребенка (т. е. «излишек» считается уже сверх 2,5 тысяч ливров). Суммы, получающиеся от этого налога и собираемые по месту жительства «богатых» коммунами, а в больших городах секциями, должны делиться поровну, по числу нуждающихся в каждой коммуне или секции; из этого же налога должны покрываться издержки на вооружение защитников отечества. Петиционеры предвидят возражения на свои столь радикальные предложения, но это их не смущает: «… мы, конечно, наперед предупреждены, что умеренные и государственные люди (que les modérés, que les hommes d’état) будут кричать о произволе, но мы им ответим, что средства, пригодные в спокойное время, бесплодны в минуту кризиса и революции. Наши бедствия велики, и нужны большие средства. До сих пор революция ложилась тяжестью только на нуждающийся класс; пора, чтобы богатый, чтобы эгоист тоже стал республиканцем» и т. д.
Кончалась эта петиция прямой угрозой: «… вот наши средства к спасению общего дела, и их мы считаем единственно непогрешимыми. Если вы их не примете, мы, желающие это дело спасти, вам объявляем, что мы находимся в состоянии восстания» [155]. Затем следуют подписи трех президентов секций Сент-Антуанского предместья и двух секретарей.
Нет ни малейшего сомнения, что, будь подобная петиция подана не в мае, а несколько позже, петиционеры не отделались бы дешево. Осенью того же 1793 г. казнили и не за такие провинности, как прямая угроза восстанием. Но теперь Конвент был в состоянии некоторой растерянности; жирондисты были бессильны, а монтаньяры слишком нуждались в поддержке столичных рабочих в предстоящий критический момент. Преследования не было возбуждено.
4 мая 1793 г. Конвент издал декрет, вводивший частичный максимум — максимальную таксацию хлеба во всей республике. Цену на хлеб должны были отныне устанавливать директории округов, и эта цена должна была представлять собой среднюю цену на хлеб за период времени с 1 января по 1 мая 1793 г. [156] Эта цена должна была 1 июня уменьшиться на 1/10, 1 июля — на 1/20 (оставшейся цены), 1 августа — на 1/30 (оставшейся цены) и 1 сентября — на 1/40 (оставшейся цены) [157]. Всякое лицо, уличенное в умышленной порче или сокрытии хлеба, подвергается смертной казни [158]; за продажу или покупку хлеба за цену выше максимума виновный подвергается штрафу от 300 до 1 тысячи ливров. Все землевладельцы и торговцы хлебом обязаны были немедленно заявить местным властям о количестве имеющегося у них для продажи хлеба. Таким образом, право таксировать хлеб, данное органам местного самоуправления еще в 1791 г., ограничивалось указанием, как именно должна исчисляться такса.
Цель этого декрета была, по-видимому, успокоить голодающих и, не издавая закона о максимуме, сделать шаг все-таки в этом направлении [159].
Но декрет от 4 мая, изданный после долгих прений и долгой нерешительности, после молений, с одной стороны, и прямых угроз, с другой, конечно, не мог удовлетворить людей, желавших такой таксы, которая сообразовалась бы с их средствами, с их дневным заработком, а вовсе не с рыночной стоимостью хлеба; хотя декрет и полагал (или, точнее, казалось, что полагает) известный предел дальнейшему непрерывному вздорожанию хлеба, но и «средняя» рыночная цена была непомерно велика.
Бурные события конца мая и начала июня — арест жирондистов, решительная победа монтаньяров при полной поддержке муниципалитета — все это обязывало победителей сделать наконец то, чего от них так долго ждали и чего от них с такой раздраженной настойчивостью требовали. Недаром в критические последние майские дни некоторые депутаты (например, Пети) прямо связывали предложение о максимуме с тем явным влиянием на законодателей, которое получил муниципалитет, и, борясь против муниципалитета, они отвергли и максимум [160].
Рабочие Сент-Антуанского предместья, составившие значительную толпу в той народной массе, которая 31 мая 1793 г. по зову Марата окружила Конвент, требуя ареста жирондистов, возбуждали беспокойство [161] даже в тех, кто воспользовался их поддержкой: слишком ясно было, что они могут воспользоваться бурными событиями, в которых им пришлось сыграть решительную роль, для того чтобы выйти хоть временно из состояния хронической голодовки, которое они в это время переживали. В этот критический для монтаньяров момент громко заявлялось, что должна быть немедленно образована армия против внутренних врагов, что эта армия должна состоять из «санкюлотов» столицы, и что каждый санкюлот должен получать 40 су в день, а расходы на армию должны быть покрыты особым налогом на богатых [162].
В день схватки, решившей участь жирондистов, в Конвент передано было заявление от имени peuple de Paris levé en masse [163]. Здесь тоже выставлено требование создания «армии санкюлотов», но с жалованием не в 40, а в 25 су в день; еще и еще раз с возмущением говорится о «скупщиках», благодаря которым «жертвы ажиотажа» должны платить «8, 10, 12 и даже 15 су» за фунт хлеба; голод приписывается контрреволюционным проискам; требуется максимальная таксация хлеба — 3 су за фунт; обращается внимание на стариков и увечных, для которых можно было бы открыть благотворительные мастерские.
Кто бы ни сочинял этот документ, люди из рабочих предместьев или кто другой, но без этих требований, очевидно, автор решительно не считал возможным обойтись. Кроме указанных пунктов, выставляются требования общеполитического характера, сводящиеся к устранению жирондистов и к усилению бдительности против «внутренних врагов». Что именно рабочие поддержали этот адрес, явствует из дальнейшего.
Едва лишь победа была одержана и жирондисты арестованы, муниципалитет решил вознаградить всех рабочих, которые поддержали этот адрес, 6 ливрами каждого [164]. Муниципалитет при этом прямо рассчитывал на щедрость победителей-монтаньяров [165]. Кроме того, было постановлено, что городские секции учредят даровую раздачу хлеба «гражданам, находящимся под оружием».
К полночи 31 мая рабочие мирно вернулись в свои кварталы, но беспокойство победившей партии, спрашивавшей себя, сочтут ли они свою роль законченной, не сразу рассеялось [166].
Далеко не все монтаньяры были довольны, что в пылу борьбы ораторы их партии стремились отождествить жирондистов с богатыми, и едва лишь борьба окончилась, как и в среде победителей начались протесты против такого отождествления. Ненавидя жирондистов, с восторгом приветствуя их гибель, многие монтаньяры усматривали опасность в подобном отождествлении и объясняли отчасти этим «разбои» и «анархию» в стране [167].
Теперь муниципалитет имел право на благодарность со стороны монтаньяров. Тон их сильно переменился. Самая сильная организация — якобинский клуб — стала высказывать уже совсем не те взгляды на вопрос о продовольствии и о таксации, как за несколько месяцев до этого. В заседании клуба 9 июня высказаны были прямые обвинения купцов в том, что они стакнулись и произвольно увеличивают цены на предметы потребления; говорилось, что «пора обуздать их алчность», что «купцы — это настоящие аристократы»; предлагалось даже подать в Конвент петиции об установлении таксы на съестные припасы [168].
Дело быстро подвигалось к развязке. «Чем больше ропщут на дороговизну припасов, тем больше возрастает их цена; купцы как будто нарочно возвещают, что еще дороже нужно будет платить, так что эта порода меркантильной аристократии причиняет бесконечное зло, раздражает умы и заставляет несчастных проклинать революцию» [169], — читаем мы в одном донесении полицейско-служебного характера, помеченном 25 июня 1793 г. «Народ хотел бы примерного наказания за такие слова; народ встревожен слухами, что богатые купцы увозят свои товары из Парижа, что хлеба еще станет всего на месяц»; все это «утомляет народ».
Отовсюду поступали целыми десятками [170] донесения, что уже имеющиеся законы о продовольствии не исполняются вовсе; «… не уместно ли будет сказать тут: народ, спаси себя сам!» — говорит автор одной из таких бесчисленных жалоб. Слухи о скупках принимали фантастические размеры.
13 июля (1793 г.) Шарлотта Корде убила Марата. Сейчас же после ее процесса и казни вопрос об усилении репрессии против внутренних врагов [171] стал на очереди дня, и в числе первых же мероприятий решено было устрашить скупщиков.
8
20 июля 1793 г. Конвент издал декрет [172], по которому скупка предметов потребления объявлялась уголовным преступлением, караемым смертной казнью; а скупщиками объявлялись все те, которые «изъемлют из обращения товары или припасы первой необходимости, покупая и держа их запертыми где бы то ни было и не пуская их ежедневно и публично в продажу. Кто не объявит местным властям обо всех предметах потребления, какие у него имеются для продажи, в течение восьми дней по опубликовании этого декрета, подвергается также смертной казни, а имущество виновного должно быть конфисковано; те, которые дадут неверные показания о количестве товаров, а также чиновники, которые будут уличены в потворстве скупщикам, подвергаются тому же наказанию. Всякий гражданин, который донесет на нарушителей этого закона, получает в награду треть конфискованного имущества казненного, другая треть пойдет в пользу нуждающихся данной местности, а последняя треть отбирается в пользу республики. Приговоры по этим делам не подлежат обжалованию, а приводятся в исполнение немедленно».
Пощады скупщики ожидать не могли. Член Комитета общественного спасения Колло д’Эрбуа называл их в своем докладе «свирепыми животными», которые должны пасть жертвой собственных преступлений. «Природа обильна и щедра, но скупщики постоянно стремятся святотатственными поползновениями своими сделать ее скудной и бессильной, — жалуется Колло д’Эрбуа, — природа улыбнулась нашей революции и непрерывно ей покровительствовала, а скупщики сообща с тиранами, нашими врагами, подстраивают контрреволюцию» [173]. Колло д’Эрбуа боится вместе с тем неудовольствия торгового класса и думает утешить его словами: «… истинные торговцы (les vrais commerçants), т. е. люди честные и повинующиеся законам, первые будут рукоплескать» мероприятиям против скупок.
Требования максимума приобрели особую настойчивость.
Вот «Республиканская петиция», поданная Шантрелем в Конвент в начало сентября 1793 г. [174] Он возмущен, что «после четырех лет революции», после урожаев граждане должны по шести часов стоять в очереди у дверей булочных и покупать хлеб по безумным ценам. Он требует установления обязательных рынков, определенных такс и самых суровых кар против нарушителей этих правил. Он всецело убежден, что все зло — в хищниках-спекуляторах, злодеях, которых всего несколько тысяч человек и которые губят нацию в 25 миллионов. А поэтому он требует «истребительного декрета», который раз навсегда устрашил бы врагов народа.
Такие заявления следовали одно за другим. Ясно было, что одними строгостями против скупщиков Конвенту отделаться не удастся.
20 и 31 августа депутат от города Парижа Raffon произнес две речи, в которых настойчиво требовал таксации всех предметов потребления. «Быстрое и чрезмерное вздорожание предметов потребления, — заявил он, — не объясняется обыкновенными причинами». Это интриги Вандеи, эмигрантов, Питта [175]. Во второй речи он еще настойчивее требует у Конвента таксации товаров, грозя купцам при этом народной расправой. Тон парижского депутата почти угрожающий. «Вы не позволите, чтобы их (купцов — Е. Т.) так называемый конституционный разбой дальше приводил в отчаяние республику, вы декретируете, чтобы была такса, по крайней мере на главные товары. Я прошу этого для моих сограждан, которые с нетерпением ждут этого необходимого и спасительного декрета. Такса на мясо, вино, сахар, кофе, свечи, мыло, оливковое масло. Это слово такса вам неприятно, и нерешительность, в которой вы из-за него находитесь, служит причиной вашего опасного бездействия; ибо в это время народ страдает и ропщет… я думаю, что когда страдания не облегчаются, терпение не неистощимо» [176].
В начале сентября 1793 г. в Париже, в рабочих кварталах, происходили сборища каменщиков и других рабочих; они жаловались на дороговизну хлеба, говорили о прибавке заработной платы. Извещенный об этом парижский муниципалитет сейчас же приказал полиции рассеять сборища и вообще предложил подлежащим властям принять все меры к охранению порядка [177].
Каждый день можно было ждать новых беспорядков.
И неизбежное случилось. 19 августа 1793 г. был издан декрет, уполномочивавший местные власти таксировать топливо, уголь, растительное масло; декретом от 20 августа таксировался овес; декреты от 29 августа, 11 сентября, 27 сентября расширяли это право таксации на отдельные предметы потребления [178]. 11 сентября 1793 г. Конвент в отмену декрета от 4 мая установил повсеместную максимальную цену за квинтал пшеницы в зерне — 14 ливров; за квинтал «наилучшей пшеничной муки» — в 20 ливров; за квинтал помеси пшеницы и ржи (bled méteil, moitié froment et moitié seigle) — в 12 ливров; квинтал ржи наилучшего качества — 10 ливров; квинтал «сарацинского, или черного, хлеба» — 7 ливров [179]. Все мельники объявлялись под реквизицией, в распоряжении министра внутренних дел и местных административных властей; цена за их труд назначалась отныне по определению местной администрации [180]. Местная администрация получила право объявлять под реквизицией всех землевладельцев и собственников хлеба и требовать представления на рынок необходимого (по мнению администрации) количества хлеба [181].
21 сентября в заседании клуба якобинцев с радостью была принята новость, что подготовляется закон о таксации всех предметов первой необходимости, и наконец 29 сентября был в самом деле издан закон о «максимуме» [182]. Общий принцип закона таков. Берется цена данного товара, как она установилась на рынке на месте производства данного товара в 1790 г., и эта цена увеличивается на одну треть. Из полученной таким образом цены вычитается сумма всех пошлин на данный товар, которые в 1790 г. еще существовали, а теперь, в 1793 г., уже не действовали; остаток и есть та максимальная цена, по которой купец обязан продавать покупателю данный товар. Несколько позже Конвент видоизменил этот пункт закона в том смысле, что к только что упомянутой «максимальной» цене еще были прибавлены: 1) цена за перевозку данного товара из места его производства в место продажи и 2) 10 % барыша — для торгующих в розницу или 5 % — для торгующих оптом. И уже эта цена должна быть бесповоротно (irrévocablement) по тексту закона признана максимальной.
Предметы, подлежащие таксации, подробно пересчитаны в законе от 29 сентября. Все съестные припасы, все напитки, все материи для одежды, металлы, затем «сырые продукты, нужные для фабрик», — все это было объявлено подлежащим таксации. И рабочий труд был таксирован: к заработной плате, получавшейся в 1790 г. рабочим данной специальности, должно было прибавить половину этой платы, и сумма должна образовать максимум. Рабочие и фабриканты, которые «без законных причин» откажутся после опубликования этого декрета продолжать свои обычные работы, подвергаются тюремному заключению на 3 дня. Последующими декретами этот всеобщий закон о максимуме лишь дополнялся, и относительно некоторых (немногих) предметов несколько видоизменялся принцип исчисления максимума.
Вырабатывать и публиковать для каждой местности эти таксы было предписано муниципалитетам под верховным наблюдением министра внутренних дел. (Впоследствии заведование всем делом было отдано так называемому «комитету о продовольствии», который назначил в качестве исполнительного своего органа «бюро максимума».)
Вскоре (в начале ноября 1793 г.) тот же принцип определения «максимальных» цен был приложен и к хлебу. Мы видели, что декретом от 11 сентября 1793 г. Конвент установил единую цену на хлеб для всей республики. Это было найдено теперь неудобным, и по предложению Комитета общественного спасения и комитета земледелия и торговли Конвент решил, что необходимо предоставить местной администрации определять для каждого данного округа максимальную цену на хлеб, увеличивая в полтора раза цену 1790 г. [183]
Таксы, исчисленные и опубликованные данным муниципалитетом, становились обязательными для всей местности; самоуправлению была оттого и предоставлена такая роль в данном случае, что исчислять максимум нужно было на основании местных цен и местных условий. Конечно, сразу возникла большая путаница в понимании закона; когда Конвент издал новый характерный декрет, приказывавший министру внутренних дел предписать муниципалитетам «буквальное исполнение закона и воспретить им всякое его толкование» [184]. Но Конвент сам почувствовал необходимость как-нибудь предохранить от немедленного разорения торговцев; было постановлено, что Конвент вознаградит «купцов и фабрикантов, которые вследствие закона о максимуме потеряют все свое состояние или же состояние которых окажется меньше 10 тысяч ливров» [185]. Это, как читатель увидит дальше, никогда не было приведено в исполнение, да и не могло быть, ибо, по словам современников, потребовалась бы миллиардная затрата. Не особенно надеясь на благое действие своего обещания, Конвент постановил вместе с тем, что «с фабрикантами и купцами, которые после закона о максимуме прекратят производство или торговлю, будет поступлено, как с подозрительными». Для осени 1793 г. это обозначало высылку или тюрьму, для весны 1794 г. — смертную казнь.
* * *
День 29 сентября 1793 г. имеет серьезное значение не только для экономической, но и для политической истории революции. В области политической он создал условия, которые могущественно способствовали утверждению диктатуры Комитета общественного спасения; в области экономических отношений ему суждено было сыграть весьма значительную роль. История максимума еще не написана, и тут тоже исследователю истории рабочего класса приходится затрагивать весьма мало известную область. Нас тут это явление займет, конечно, исключительно лишь с точки зрения влияния, которое закон о максимуме оказал на положение рабочего класса.
Глава V
РАБОЧИЕ В ЭПОХУ ЗАКОНА О МАКСИМУМЕ
(29 сентября 1793 г. — 24 декабря 1794 г.)
1–3. Закон о максимальной таксации. Реквизиции. Влияние закона о максимуме и реквизиций на положение потребителей. 4. Влияние закона о максимуме на обрабатывающую промышленность. 5–6. Закон о максимуме и заработная плата. Реквизиции рабочей силы. Заключение
Отмечу прежде всего влияние закона о максимуме и реквизиций, тесно связанных с этим законом, 1) на условия, в которые был поставлен потребитель, и 2) на общее положение обрабатывающей промышленности во Франции. Первое важно потому, что рабочий класс именно в качестве неимущего потребителя и жаждал, как сказано, издания закона о максимуме. Второе поможет уяснить влияние, которое оказали эти мероприятия на свирепствовавшую уже в 1792–1793 гг. безработицу. Выяснив эти два вопроса, мы перейдем к третьему: 3) в какие условия поставили максимум и реквизиции рабочего как человека, продающего свой труд? При всей своей скудости документы дают довольно отчетливый ответ на эти три вопроса.
1
Документы показывают нам, что положение потребителя было не улучшено, но ухудшено законом о максимуме.
Закон о максимуме стал проводиться в жизнь путем административных постановлений, начиная с первых дней октября 1793 г. Всюду местная администрация, осуществляя веления закона от 29 сентября, издавала соответствующие постановления о таксации товаров, причем обыкновенно подчеркивала в своих обращениях к населению благодетельный смысл закона, который должен дать дешевую пищу, дешевое вино, дешевую одежду, дешевое отопление бедным людям [1].
Раньше чем приступить к свидетельствам, касающимся разнообразных влияний максимума на положение рабочего класса, необходимо отметить, что сейчас же после издания закона от 29 сентября 1793 г. обнаружилась невозможность для властей обойтись без широчайшего пользования реквизициями. Максимум и реквизиция оказались теснейшим образом связанными между собой. Реквизиции могли существовать (и существовали) до максимума и после максимума; максимум не мог существовать без реквизиций.
В юридической энциклопедии Dalloz слово «реквизиция» определяется так: требование со стороны государственной власти, отдающее известную вещь в распоряжение государства [2]. В старинном французском праве налагать реквизиции в своих владениях мог феодальный сеньор. При абсолютной монархии это право перешло к королю, но с XVII в. реквизиции пускались в ход лишь для нужд армии в местностях, занятых войсками, и преимущественно в военное время. При революции реквизициям суждено было сыграть важную роль.
Первым законом о реквизициях, изданным в революционную эпоху, французская юриспруденция считает декрет Законодательного собрания от 26 апреля 1792 г., вторым — декрет того же собрания от 18 июня 1792 г. Оба декрета предоставляют властям требовать от частных лиц в случае нужды по своему усмотрению все, что требуется для снабжения армии фуражом и для перевозки фуража. При этом частные лица сохраняли право на вознаграждение. Декрет Конвента от 24 августа 1793 г., имевший прежде всего значение принципиальное, объявлял под реквизицией все население Франции, а также весь хлеб, все оружие и лошадей. С тех пор, а особенно с 29 сентября 1793 г., со времени издания общего закона о максимуме, правом реквизиций начали пользоваться широчайшим образом и центральные, и местные власти.
Реквизиции пережили Директорию, пережили и Консульство, и Империю, но уже после переворота 18 брюмера они очень значительно сократились: как и в дореволюционный период, они получили смысл чрезвычайной меры для снабжения армии припасами в военное время, и при этом строго соблюдался принцип вознаграждения заинтересованных лиц за требуемые у них продукты, лошадей, перевозочные средства и т. д.
Таково было это явление. В рассматриваемую эпоху реквизиции накладывались как на предметы потребления, на перевозочные средства и тому подобное, так и на рабочий труд (о последнем будет подробнее сказано в своем месте).
Заставить торговцев подчиниться максимуму, заставить рабочих получать плату по таксе, насильственными мерами задержать обесценение ассигнаций — вот какова была цель реквизиций, ибо Комитет общественного спасения отчетливо сознавал всю невозможность ждать добровольного подчинения товаровладельцев явно разорявшему их закону.
Лишь к концу периода господства максимальной таксации реквизиционное право стало ограничиваться. 7 октября 1794 г. (26 вандемьера III года) Конвент издал декрет, которым воспрещалось налагать реквизицию на сырье, выписываемое фабрикантами из-за границы и необходимое для работ. Законом от 26 ноября 1794 г. (6 фримера III года) льгота, дарованная фабрикантам, которые выписывают сырье из-за границы, была распространена на все товары, легально полученные французскими гражданами из-за границы.
Но все эти послабления осуществлялись уже тогда, когда закону о максимуме оставалось жить всего несколько недель.
Реквизиции оказывались ужасающим злом для промышленников и купцов между прочим также вследствие того, что самые разнообразные представители власти имели право и полную возможность, не сговариваясь друг с другом, налагать реквизиции на одни и те же товары в одних и тех же местах. При этом, конечно, на первом плане всегда стояли интересы казны, но не потребителей.
У нас есть некоторые данные, касающиеся одной отрасли производства, но превосходно характеризующие общее положение вещей.
Неслыханная путаница, порождавшаяся этим широчайшим пользованием правом реквизиций, нигде так ярко не проявлялась, как именно там, где огромные запросы со стороны армии сталкивались с не менее огромными запросами со стороны населения; так обстояло дело, например, в области кожевенного производства.
Еще в январе 1794 г., а затем 1 марта того же года [3] были изданы декреты, касавшиеся вопроса о снабжении армии сапогами. Согласно декрету от 1 марта (14 вантоза) все сапожные мастерские, существующие во Франции, объявлялись под реквизицией, и каждый сапожник обязан был представлять местной администрации по две нары сапог в течение каждых 10 дней; в случае неаккуратности в доставке виновный подвергался штрафу в 100 ливров. Уплачивалось же ему за доставленный товар, конечно, согласно максимальному тарифу. Комитет общественного спасения поручил комиссии торговли и снабжения припасами озаботиться, чтобы сапожные мастерские имели достаточно выделанной кожи для исполнения наложенного на них реквизиционного требования. Но эта же комиссия должна была заботиться о снабжении выделанной кожей седельников и других мастеров, которые тоже должны были снабжать армию своим товаром.
Уже эти многосложные заботы ставили комиссию в весьма трудное положение, так как сырья по-прежнему было очень мало, но, кроме того, оказалось, что кожевенные мастерские вовсе не могут служить одним лишь нуждам правительства. Сама комиссия в особом докладе Комитету общественного спасения признается в своем бессилии и поясняет, в чем дело: она, комиссия, принуждена была наложить реквизицию на кожевенные мануфактуры (ибо необходимо было снабдить выделанной кожей сапожников, седельников и др.); но эти же кожевенные мануфактуры сплошь и рядом уже оказывались под другой реквизицией, а иногда и под двумя другими реквизициями. Дело в том, что депутаты Конвента, отправляемые в провинцию с чрезвычайными полномочиями, администраторы директорий дистриктов тоже имели право налагать реквизиции и, конечно, своим правом пользовались [4]. Поэтому ровно ничего из реквизиции, налагаемой комиссией, сплошь и рядом не выходило, кожевенные мануфактуры оказывались совершенно истощенными. Весьма понятно, что в этой своеобразной конкуренции преимущество всегда было на стороне местной власти, а не центральной: средства понуждения, полная осведомленность — все это было в большей степени в распоряжении местной администрации или приехавшего с диктаторскими полномочиями члена Конвента, чем в (распоряжении далекой парижской комиссии.
И беда заключалась не только в этой путанице, а в том, что в самом деле население находилось в отчаянном положении из-за недостатка кожи и кожаных товаров, и под внешней формой междуведомственной конкуренции и столкновения нескольких административных властей таилась борьба за предметы первой необходимости между армией и населением, причем представителями интересов армии были упомянутая комиссия, стоявший за ней Комитет общественного спасения и Конвент, а представителем интересов населения являлась местная власть. Но открытая борьба, конечно, была абсолютно не под силу местной власти, и приходилось пускать в ход хитрость. В своем докладе Комитету общественного спасения комиссия торговли говорит об одной такой хитрости: местная администрация умышленно преувеличивает размеры нужды в выделанной коже, когда просит ее для местных сапожников, обязанных в силу вышеупомянутой реквизиции представлять по две пары сапог в каждые 10 дней. Комиссия не может в этом отказать, ибо ведь местная администрация просит, якобы, исключительно на дело, нужное армии; в действительности же местная администрация именно затем и преувеличивает умышленно, чтобы хоть что-нибудь осталось для нужд местного населения; это делают администраторы местностей, где не существует собственных кожевенных мастерских. Обращается тогда комиссия к администрации тех местностей, где есть такие мастерские, а те тоже под предлогом, что для их сапожников не хватит выделанной кожи, значит также под предлогом общей реквизиции, наложенной на сапожников, отказываются прислать нужное количество. Проверить, где ложь, где правда, в каждом отдельном случае комиссия лишена всякой возможности [5].
Комиссия сама сознает, что тут прямо борьба за существование и что не может же местная власть оставить население совершенно беспомощным без необходимейших вещей и прежде всего без обуви. Вот почему разбираемый доклад ее так глубоко поучителен: она сообщает Комитету общественного спасения как его (и ее вместе с ним) обманывают, и не может не извинять этот обман. Вот только что мы с ее слов описали, как поступают местные власти с целью получить для сапожников больше выделанной кожи, чем нужно для изготовления каждым из них положенных двух пар сапог в 10 дней. Но не меньше обмана происходит и тогда, когда сами владельцы кожевенных мастерских требуют сырой кожи для выделки. Они просят у комиссии нужное количество сырой кожи, и комиссия должна им раздобыть, ибо кожевники мотивируют эту просьбу исключительно тем, что иначе они не могут представить выделанную кожу в нужных размерах ни сапожникам, ни другим мастерам, работающим по реквизиции на армию.
Комиссия, насколько в ее силах, раздобывает сырье и продает его (по максимуму, конечно) кожевникам. Кожевники, обманным образом с самого начала преувеличив потребное для нужд армии количество сырья и получив его по дешевой («максимальной») цене, конечно, выделывают товары для частных лиц и наживаются на этом. Местные власти видят этот обман, но не только не противодействуют, а благоприятствуют ему, и комиссия их не обвиняет, понимая, что они просто хотят удовлетворить нужде подвластного им местного населения [6]; мало того, комиссия признает, что местная администрация всецело заинтересована в том, чтобы этот обман и обход велений центральной власти продолжались [7].
Конечный вывод комиссии заключается в том, что все эти перекрещивающиеся реквизиции ничего, кроме хаоса, не создают и обессиливают центральную власть. Но что же делать? Доклад был подан уже после падения Робеспьера, в ноябре 1794 г., и поэтому можно было осмелиться предложить Комитету общественного спасения своего рода частичную уступку. Это еще не было окончательной капитуляцией пред силой обстоятельств, но уже намечался путь к ликвидации тех мер, которые до сих пор практиковались. Комиссия предлагает Комитету общественного спасения отменить полную реквизицию на выделываемую кожу и заменить ее реквизицией на три четверти всего количества, а одну четверть «возвратить торговле», т. е. позволить кожевникам продавать кому угодно. Комиссия полагает, что путем такой уступки ей удастся обеспечить за собой помощь со стороны местных властей, которые уже не будут иметь повод покровительствовать злоупотреблениям, так как потребности населения будут удовлетворены [8]. Контроль насчет действительно поступающей к кожевникам сырой кожи будет тем легче, что (как уже выше было сказано) почти вся (три четверти) сырая кожа доставляется кожевникам самим правительством.
Комитет общественного спасения принял ряд мер в желательном комиссии духе; была установлена реквизиция на три четверти, власть над всем, касающимся кожевенного производства, была сосредоточена в руках комиссии, был усилен надзор за кожевниками и усилены требования, предъявляемые к бдительности местных властей [9], но все эти полумеры остались мертвой буквой, и глухая борьба между местной администрацией и центральной продолжалась. Да и как она могла прекратиться, когда комиссия совершенно произвольно решила, что одной четверти выделанной кожи достаточно для покрытия нужд всего населения республики? Нечего и говорить, что и контроль при распределении сырья часто оказывался совершенно фиктивным [10].
Приведенные факты типичны; даже такое средство, как реквизиции, оказывалось бессильно там, где требовалось обеспечить действительное исполнение закона о максимуме.
Почти тотчас после издания общего закона о максимуме Конвент создал специально для заведования всеми делами, касающимися максимума, особую комиссию из трех членов [11]. Новая комиссия не замедлила обратиться с грозным циркуляром ко всем местным властям, требуя от них скорости, точности и неумолимой суровости в выполнении предначертаний закона и в борьбе с нечестивой лигой тех, которые вздумали бы уклониться от подчинения максимальной таксации. Хватать на месте, наказывать немедленно, грозить жезлом закона — вот что под личной своей ответственностью обязаны неуклонно делать все чины администрации на местах, чтобы преодолеть все «хитрости и обманы», которые предвидит комиссия [12].
Но все меры к обеспечению дешевизны товаров были тщетны.
Торговцы хлебом, а особенно мясом (даже в самых богатых убойным скотом провинциях) усвоили такого рода прием: они продавали все сорта по таксе, определенной для самого высшего сорта в таблице максимальных цен. Тщетно местные власти разъясняли, что «цель законодателя» была не та [13]; продавец в каждом отдельном случае стоял на своем, и так как спор шел о качестве продаваемого продукта, то уличить его в злостном обмане было нелегко. Не говоря уже о провинции, в самом Париже вся городская беднота жаловалась, что продавцы съестных припасов и предметов первой необходимости ссылаются на то, что они находятся под реквизицией, и на этом основании запрашивают с покупателей чрезмерные цены [14]. Мера дров в зимние месяцы продавалась по 30 ливров, и лес становился одним из главных предметов спекуляции [15]; мясо в хорошие дни продавалось по 1 ливру 75 сантимов, по 1 ливру 90 сантимов. Падение ценности ассигнаций до такой степени путало и сбивало с толку среднего потребителя, что предвидеть расходы не то что на неделю, а на день становилось все труднее и труднее. Рабочие не могли просуществовать безбедно даже и на 5 ливров в день, а средний заработок был ниже этой суммы. Не забудем, что сам Конвент, понимая, как страшно трудно существовать ввиду падения ассигнаций, назначил каждому своему члену ежедневное жалованье в 36 ливров; и эта цифра тоже была очень скудна, но и она вызвала горечь и нарекания со стороны голодающей массы, которая обвиняла депутатов в том, что они заботятся о самих себе [16]. Плата же за участие в заседаниях секций была определена в 40 су.
Неодинаковость такс, разница в степени соблюдения максимумов осложняли и запутывали положение весьма значительно. Весь юг, производящий оливки, больше других и страдал именно от отсутствия оливкового масла; максимальная такса была там установлена в низших размерах сравнительно с другими местностями, а поэтому торговцы и перевозили свой товар туда, где такса была выше или где она менее строго исполнялась; эти «lieux d’inobservation» были обетованной землей для коммерсантов, быстро узнававших, где легче обойти закон о максимуме, а где труднее. Население умоляло правительственную власть, раз уже максимум существует, то хоть добиться повсеместного соблюдения его и более однообразной таксации [17].
Такую же жалобу мы слышим и от хозяина одной из немногих работавших в 1793–1794 гг. стекольных мануфактур (Турлавилле, недалеко от Шербурга). Оказывается, что ему невозможно достать нужных для производства материалов по той причине, что торговцы отправляют весь товар в Руан, где максимальная такса выше [18].
Среди бесчисленных жалоб на максимум купцов и владельцев мануфактур довольно заметна эта нота, кое-где даже прямо настойчивая: жалобщики указывают властям на то, что закон о максимуме особенно гибелен именно потому, что далеко не всюду он одинаково неукоснительно проводится.
Надо сказать, что тут дело было вовсе не в одной только большей или меньшей бдительности и энергии, которыми одарены были от природы те или иные должностные лица: максимум поддерживался решительнее и репрессия была грознее в тех местах, где производились большие казенные работы, где государство, собирая рабочих реквизиционным способом и платя им по таксе, должно было в самом деле употреблять все меры, чтобы не довести их до скорой голодной смерти. Почему, например, нужно особенно заботиться о Гавре? Потому, что республика там содержит большое количество рабочих, отвечает член Конвента, посланный туда с чрезвычайными полномочиями в 1794 г. [19]
Дорог хлеб, дороги дрова, недоступно мясо, — жалуются потребители; ни свеч, ни светильного масла осенью 1794 г. не хватало до такой степени, что в некоторых городах муниципалитет не знал даже, как освещать по вечерам комнату, где он должен был заседать; о частных лицах и говорить нечего [20].
Но был вопрос, выросший в 1793–1794 гг. до размеров действительно национального бедствия, которое, по утверждениям современников, значительно усилило смертность в эти годы: мы говорим об отсутствии мыла.
С исконных времен, как уже было сказано в предшествующих главах, Марсель был центром выделки мыла. Даже в остальных городах Прованса, не говоря уже об остальной Франции, эта отрасль индустрии была развита чрезвычайно слабо. Одна из главных причин этого подавляющего преобладания Марселя заключалась в той привилегии, которой вплоть до революции пользовался этот город: за оливковое масло, соду и некоторые другие продукты, необходимые для производства мыла и доставлявшиеся из-за границы в марсельский порт, не платили пошлины, тогда как в других местах, например, в Тулоне, где некоторое время пытались конкурировать с Марселем, с заграничного оливкового масла взималась пошлина в размере 7 ливров за так называемый «millerole», который был равен около 140 фунтам; были обложены там и все другие заграничные провенансы. Дешевизна материалов для производства мыла в Марселе почти вовсе убила конкуренцию, не говоря уже об остальной Франции, даже на юге, в других городах Прованса, ибо обойтись одним лишь местным оливковым маслом они никак не могли [21].
Мыло марсельское славилось не только во Франции, но во всей Европе, и еще в 1791 г. недостаток спроса на мыло казался сведущим местным людям «невероятным»; еще в 1791 г. документы рисуют нам картину большой торговой деятельности по продаже марсельского мыла; марсельские фабриканты окружены «комиссионерами из всей Франции и из иностранных земель» [22], явившимися для совершения сделок. Марсель поставлял мыло в самые далекие части Франции, в южноамериканские колонии Испании, в Турцию, в Северную Африку, а высшие сорта марсельского мыла шли в огромных количествах также в другие страны Западной Европы и в Россию. Кроме огромного потребления в повседневной жизни общества, марсельское мыло шло на все текстильные мануфактуры — суконные, бумагопрядильные и так далее, где производство не могло без этого продукта обойтись. Уже в 1789 г. фабриканты мыла замечали, что необходимейший предмет для производства марсельского мыла — оливковое масло — появляется на рынке в меньшем количестве, и жаловались королю и Учредительному собранию на некоторых своих товарищей по ремеслу, которые начинают выделывать мыло при помощи других, более дешевых и доступных материалов и этим понижают качество и портят репутацию всего марсельского производства [23]. Оливковое масло и сода большей частью получались из-за границы: из Италии, Испании, из варварийских стран (Северной Африки), из стран, лежащих на восточном берегу Средиземного моря, и без них марсельское производство мыла не могло существовать, не могло давать работу «массе рабочих, которые требуют хлеба» [24].
Грозный вопрос о недостатке нужных материалов вставал тут же в 1789 г. Оливкового масла, нужного для выделки мыла, французские южные департаменты не производили в достаточном количестве [25], необходимо было покупать его в Генуе, Неаполе, Сицилии, Крите, Испании и вообще в странах, омываемых Средиземным морем; точно так же необходимые щелочные соли также получались из-за границы и тоже больше всего морским путем; все эти продукты, редкие уже в 1792 г., почти совсем перестали привозиться во Францию после издания закона о максимуме.
Непрерывные вопли о недостатке мыла больше всего характерны именно для Марселя, города, который и в XVIII и XIX вв. был и теперь остается центром французского производства этого продукта. Комиссия de subsistances et approvisionnements прямо взывала к генеральному совету марсельского округа, напоминая, что «вся республика ждет от Марселя снабжения этим продуктом» [26]. Комиссия, подобно едва ли не всем другим центральным органам тогдашнего правительства, склонна была видеть в отчаянном состоянии мыловаренной промышленности результат темных козней врагов республики. Кто виноват в кризисе? Промышленники, которые «коварно» прекращают производство теперь, когда существование максимума мешает им эксплуатировать народ (s’engraisser des sueurs du peuple, как энергично выражается комиссия). Комиссия обращается к патриотизму генерального совета, неопределенно грозит «вампирам», т. е. мыловарам, не желающим продолжать работы, но решительно никакого исхода сама не предвидит. Мыловаров, конечно, не могло не беспокоить столь раздражительное к ним отношение со стороны властей. Но они в докладной записке, которую подали в директорию департамента, решительно слагают с себя всякую вину и указывают на то, что они не могут работать по двум причинам: во-первых, с рынка исчез необходимый для фабрикации мыла продукт — итальянское оливковое масло, а во-вторых, оливковое масло, производимое на юге Французской республики, и дурно, и дорого [27]. Они с цифрами в руках доказывают, что продолжать работу в прежних размерах никак немыслимо, если не идти умышленно на банкротство.
Еще не так бы вредило делу дурное качество оливкового масла, производимого Провансом: если бы речь шла только об этом, то можно было бы сказать, что война, закрывшая французские порты и отрезавшая Францию от апеннинских держав, прекратила лишь производство прославленных высших сортов марсельского мыла. Но дело в том, что в самом деле продавцы местного оливкового масла под всевозможными предлогами уклонялись от каких бы то ни было сделок с фабрикантами мыла, лишь бы не быть вынужденными продавать свой товар по тарифу, установленному «максимумом». Ведь продавцу оливкового масла для того, чтобы избежать конечного разорения, прежде всего представлялось необходимым уклониться при заключении сделки от «максимальной» цены, а в таком случае это гораздо удобнее было сделать, имея дело с мелкими покупателями, чем с крупным покупщиком-фабрикантом; начать хотя бы с того, что при мелких сделках легче было выменять свой товар на другие хозяйственные ценности и избегнуть получения обесцененных ассигнаций, да еще в скромных размерах, установленных максимумом. Они, впрочем, и мыловарам предлагали такого рода меновую торговлю [28], но те не соглашались. Мыловары знали, что продавцы оливкового масла не посмеют coram populo настаивать на своем явно противозаконном желании. Тогда те стали пускаться на другие хитрости: ссылались на то, что весь товар уже продан в другие руки, требовали, чтобы купленное масло немедленно было убрано покупателями (а те не имели достаточных перевозочных средств, опять-таки оттого, что перевозчики прятались, не желая подчиняться ценам, установленным максимумом); словом, ставили такие затруднения на каждом шагу, так обманывали и лукавили, что совершение сделки становилось немыслимым.
Представитель центральной власти был бессилен бороться против этого явления, и ничто так ясно не обнаруживает этого бессилия, как выпущенная им прокламация, воззвание к согражданам [29]. Хотя непосредственным поводом к изданию этого воззвания был именно кризис в мыловаренной промышленности, но «национальный агент» признается попутно, что «несмотря на все его призывы к его братьям», согражданам, закон о максимуме вообще не исполняется. «Граждане, — продолжает воззвание, — республика страдает, она страдает от отсутствия предмета первой необходимости. У нее нет мыла, столь необходимого для человека, мыла, употребление которого так способствует сохранению здоровья, и нет его из-за алчных спекуляций и частных интересов». Ни население, ни армия не имеют мыла, и виноваты в этом продавцы оливкового масла, не желающие снабжать этим продуктом мыловаров. Пересчитав «преступные уловки» продавцов масла, воззвание обращается к гражданам с просьбой помогать властям уличать и карать виновных. Горе преступникам, обходящим закон, честь и хвала доносителям, которые способствуют пресечению зла [30], донос есть священный долг каждого республиканца, иначе он сам становится виновным [31]. Воззвание напоминает о смертной казни, которая грозит лицам, нарушающим закон о максимуме, и кончается новыми и новыми угрозами и жалобами.
Все это помогало весьма мало. Не имея возможности реально преодолеть пассивное сопротивление продавцов оливкового масла, правительство решило подойти к задаче с другой стороны. По докладу комиссии торговли Комитет общественного спасения издал 17 мессидора II года декрет, которым устанавливал максимальную цену мыла, несколько более высокую, нежели прежде, именно в 15 су и 3 денье за фунт [32], тогда как до того цена колебалась от 8 до 12 су за фунт. Это было сделано, чтобы все же хоть немного поощрить мыловаров к борьбе с обступающими их невзгодами. Но ничего из этого не вышло. Самые отчаянные жалобы, чуть ли не мольбы о спасении продолжали со всех сторон нестись к местным властям и к центральному правительству. Вот коммуна в 3 тысячи душ (Эвран), которая более года не видела мыла и жестоко страдает от этого. Доктор этого кантона в особом докладе удостоверяет, что жители страдают самыми жестокими накожными болезнями. Граждане умоляют прислать им хоть 6 квинталов мыла какого угодно, хоть самого низкого сорта, лишь бы облегчить страдания, и в самых патетических выражениях они наперед благодарят правительственного чиновника за исполнение их просьбы [33]. Это моление несется к «национальному агенту», живущему в Марселе, с другого конца Франции, ибо Эвран находится в департаменте Côtes-du-Nord (недалеко от Динара). Весьма понятно, что вся Франция ждала именно от Марселя спасения, но в это самое время Экс, Тараскон, Салон и другие места, находившиеся в двух шагах от Марселя, и сам Марсель, и армейские дивизии, расположенные в Марселе, в Тулоне, в Ницце, одинаково бедствовали от недостатка этого предмета первой необходимости.
Мыльные мануфактуры стоят без дела не только в Марселе: в таком же положении они всюду, и в двух шагах от Парижа [34], и в других местах, где вообще они были. В Диеппе уже в конце 1793 г. шла живая и тревожная переписка между местными властями относительно отсутствия мыла; одни хотят наложить реквизицию на одну мыловарню, другие утверждают, что там уже все равно почти ничего нет, и ни те, ни другие не знают, что им предпринять [35].
В течение 1794 г. эти жалобы все усиливаются. О своем «отчаянии» по поводу совершенного отсутствия мыла говорит летом 1794 г. и община Marck в департаменте Па-де-Кале, хотя эта община была расположена возле большого портового города, возле Кале [36]; лишен мыла и весь департамент Индры и Луары [37]. Париж и окружающие местности пробавляются продуктами каких-то жалких, наскоро устроенных мыльных мануфактур; на лучших из них вовсе нет оливкового масла и почти нет других нужных материалов; вырабатываемое мыло самого дурного качества, что весьма понятно ввиду того, что вдобавок заведующий делом не знает, как именно мыло делается [38]. И это все на лучшей из продовольствующих столицу и столичный департамент мыльных мануфактур: «… все остальные фабрики не заслуживают даже и названия этого» [39], и, по мнению ревизоров, самое лучшее, что может правительство сделать, это закрыть их. Ревизоры, отмечая невежество этих «фабрикантов», все время упоминают о способе, которым делается или делалось мыло в Марселе; Марсель до такой степени монополизировал эту отрасль индустрии, что, стоило ему уменьшить или временно прекратить производство, и в остальной Франции не оказалось (не говоря уже о сырье) достаточных технических знаний, требуемых для выделки мыла. Впрочем, об этой стороне дела уже сказано выше (см. стр. 320).
Комитет земледелия и искусств, сам Комитет общественного спасения серьезно озабочены этим тяжким несчастьем. С жадностью ловится всякий слух, подхватывается всякий проект того или иного изобретателя, предлагающего фабриковать мыло каким-либо простейшим способом, по возможности без оливкового масла и без соды [40]. Оливковое масло становилось менее и менее доступно: закон о максимуме совсем как бы изгнал его из рынка [41].
Национальный Конвент зимой 1794 г. сильно интересовался вопросом, нельзя ли делать мыло без соды, но специалисты давали неутешительные в этом отношении ответы [42]; проекты добывания соды из водорослей, из морской соли [43] и тому подобного оставались на очереди дня в течение всего рассматриваемого периода [44], и Комитет общественного спасения постоянно приказывал докладывать себе об этих попытках [45], даже требовал, чтобы «все граждане» посылали ему сообщения о своих опытах в этом направлении [46].
Комитет общественного спасения, видя полную невозможность строго держаться максимума, сам стал отступать от принципа, положенного в основу этого закона. Вопли о совершенном исчезновении мыла, доносившиеся со всех сторон, привели к тому, что комитет повысил цену на мыло, желая этим поощрить фабрикантов к возобновлению производства. И это было сделано в страшные дни пред самым падением Робеспьера, когда гильотина работала неустанно и когда тот же комитет готов был беспощадно карать всякого, уличенного в нарушении закона о максимуме [47].
Стоило властям хоть на минуту отвлечься каким-либо утешительным известием от вечных гнетущих забот о сырье, и оптимизму их нет пределов. В 1794 г. был на юге довольно хороший урожай оливок, и вот комиссия земледелия пишет сейчас же директориям южных департаментов приказ озаботиться насчет самого тщательного сбора оливок и возможно скорейшего получения оливкового масла [48]. «Вы поймете, как и мы, всю важность этой меры общественного спасения, которая в одно и то же время дает нам громадный запас превосходного масла для питания, для освещения и для удовлетворения нужд наших фабрик и мануфактур… Будем же продолжать доказывать деспотам и рабам, соединившимся против нас, что мы сами можем удовлетворять нашим потребностям и что свободный и земледельческий народ всегда непобедим». Все это писалось 22 сентября 1794 г… а отчаянные жалобы на отсутствие мыла, фабрикация которого приостановилась именно из-за недостатка оливкового масла, ничуть не прекращались до конца 1794 г. Оливковое масло было, но его прятали продавцы и не особенно усердно искали покупатели-мыловары: закон о максимуме тяготел над торговлей и нейтрализовал благие последствия урожая. Лица, даже радовавшиеся (и высказывавшие открыто свою радость) по поводу падения Робеспьера, ненавидевшие максимум, уже после 9 термидора продолжали утверждать, что оливкового масла без реквизиции не добьешься, так как владельцы спекулируют, и только силой можно у них вырвать этот товар [49].
Только с самого конца 1794 г. начинается некоторое (очень сначала слабое) улучшение в смысле притока сырья во Францию; объясняется это отчасти тем, что эксплуатация вновь завоеванных земель уже дает республике некоторые ресурсы. Для мыловарения, отчаянное положение которого мы старались выяснить выше, занятие Бельгии французскими войсками оказалось прямо благодатью: оттуда можно было получать минеральные масла, соду, рыбий жир [50]. Но лишь после отмены закона о максимуме бедствие стало несколько уменьшаться.
Ни мясо, ни хлеб не продавались в целом ряде департаментов по таксе; мыло исчезло почти вовсе, другие предметы цервой необходимости прятались владельцами. Таковы были итоги, констатированные властями в первые же месяцы после издания закона о максимуме.
В разгаре террора, в нескольких часах езды от Парижа, во всем департаменте Loiret, закон о максимуме, провозглашенный именно там, как мы видели, с такими широковещательными обещаниями, не исполнялся почти нигде, ни в деревне, ни в городах, и в главном городе этого департамента, в Орлеане, дело дошло до того, что как мясо, так и другие продукты стали необычайно редки и продавались почти втрое дороже максимальной цены (мясо — по 30 су вместо 12 су за фунт), и то достать их становилось все труднее [51]. Это все с гневом констатируется властями, которые, однако, ничего не могут поделать, кроме издания новых и новых суровых постановлений против нарушителей закона.
В ту же эпоху апогея террора, в последние дни перед 9 термидора, закон о максимуме не исполнялся в целом ряде округов, и тщетно власти грозили вновь и вновь мечом не только нарушителям закона, но и тем должностным лицам, которые проявят «преступную апатию» в деле репрессий; тщетно приравнивали недостаточность репрессий к государственной измене; тщетно прибегали и к увещаниям, указывая, что неисполнение максимума есть первый шаг к восстановлению старого режима [52], — ничто не помогало.
В конце июня 1794 г. Комитет общественного спасения счел себя вынужденным обратиться к комиссии торговли и снабжения припасами с укором, что закон о максимуме ежедневно нарушается и в магазинах, и на рынках. Комитет категорически предлагал комиссии озаботиться искоренением зла [53]. Комиссия после этого внушения разослала зависевшим от нее агентам, на обязанности которых лежало наблюдение за исполнением закона, циркуляр, в котором порицало этих должностных лиц за небрежное исполнение служебного долга, за недостаток суровости в репрессиях и напоминала, что такое поведение равносильно измене. В письмах не к агентам, а к органам местного самоуправления комиссия уже прямо не скрывала своего недоверия и грозно напоминала, что недостаточная суровость с их стороны к нарушителям закона навлечет на них самих подозрения [54].
Хотя, как мы видели, монтаньяры Конвента вовсе не были инициаторами закона о максимуме, но, издав его, они уверовали прежде всего в его спасительное значение с точки зрения хозяйственных интересов государственной власти.
Конвент сознавал, что осуществить этот закон возможно лишь при помощи совершенно исключительных условий, и мы, не колеблясь, на основании документальных данных утверждаем, что наравне с войной и внутренними бунтами необходимость поддерживать закон о максимуме была одной из самых существенных причин приостановки конституции и усиления террора. Торговцы продавали испорченные товары, прятали их, несмотря ни на что, и на каждом шагу закон нарушался, жалобы за жалобами сыпались со всех сторон [55].
Уже 10 октября 1793 г. Сен-Жюст от имени Комитета общественного спасения признавался, что закон о максимуме не приводит к желаемым результатам: богатые люди все, что могли, закупили, предлагая продавцам цену выше максимума. И получилось то, что хотя товары официально были дешевы, но их вовсе на рынках не оказывалось [56]. Эти тайные злоупотребления и были одной из существеннейших причин, почему Сен-Жюст (в этом самом докладе), Робеспьер и их друзья потребовали и добились приостановки всех конституционных гарантий и установления беспощаднейшей фактической диктатуры.
После издания закона о подозрительных Шометт потребовал еще, чтобы подозрительными были признаны между прочим «те, кто жалеет жадных фермеров и купцов, против которых закон вынужден принимать меры». Угроза тюрьмой, а иногда и смертной казнью повисла над всеми, кто обнаружил бы какое-либо сострадание к непосредственным жертвам максимума.
Особенно беспощадно преследовались те, кого подозревали в уничтожении части съестных припасов с целью вызвать искусственное вздорожание хлеба. Например, в октябре 1793 г. нашли близ замка, принадлежавшего члену академии надписей Лаверди, большое количество грязи [57]; заподозрили почему-то, что это хлеб, уничтоженный Лаверди. Лаверди был в это время в Париже, далеко от своего замка, и вообще за последние три года ни разу не был там. Грязь эта найдена была на дне бассейна, стоявшего на открытом месте и всем доступного. Никогда Лаверди хлебной торговлей не занимался и хлеба не покупал. Тем не менее он был арестован и предан суду. Его жена просила, чтобы эту кучу грязи хоть подвергли какому-либо анализу, и утверждала, что там ничего, кроме земли и песка, нет. Решительно никаких доказательств против Лаверди приведено не было, было в точности установлено, что действительно его уже несколько лет не было в замке. Несмотря на это, Лаверди был приговорен к смерти и казнен, а его имущество конфисковано. У некоего Гондье, жившего в Париже, нашли в сундуке в его квартире известное количество испорченного хлеба. Его арестовали и начали следствие. На допросе Гондье показал, что он болеет желудком, и что доктора посоветовали ему есть хлеб, изготовленный почти без дрожжей; булочник же соглашался готовить для него такой хлеб только, если он будет разом закупать по 30 штук (весом в 4 фунта). Он так и делал. Найденный же властями хлеб был положен в сундук, так как уже испортился и начал давать дух. Врач, аптекарь, булочник, прислуга — все подтвердили объяснение Гондье о его болезни. Кроме того, соседи засвидетельствовали, что обвиняемый — человек благонамеренный, «хороший патриот». Несмотря на все это, суд обвинил Гондье в желании создать искусственным путем голод в столице. 5 ноября Гондье был обезглавлен, а имущество его конфисковано. Себастьян Моди, виноторговец, «дурно отзывался» о первой реквизиции, другой вины за ним не было. 1 декабря 1793 г. он был за эти слова приговорен к смерти и казнен. Г-жу Марбеф обвинили в том, что она не засеяла хлебом около 300 арпанов своей земли, а отвела их под пастбища и не расчистила около 70 арпанов, которые можно было бы впоследствии засеять; это было главное обвинение, и ее казнили (в начале февраля 1794 г.). Спустя несколько дней судили и казнили Этьена Моссиона за то, что он навлек на себя подозрение в скупке хлеба, а когда толпа нагрянула к нему, то сопротивлялся (а между тем впоследствии двое из этой толпы были даже за это осуждены). В самом ли деле он занимался скупками, выяснено не было, так что он погиб исключительно по подозрению. 13 марта (1794 г.) казнен был арендатор Верье, на которого донесли, будто он жаловался на разорение всех собственников и фермеров и произносил еще другие преступные слова. Доносчиками явились лица, состоявшие его должниками; сам он отрицал это обвинение, но ничто его не спасло.
Даже отдаленное, самое, казалось бы, неосновательное подозрение в скупке съестных припасов оказывалось самой реальной, самой грозной опасностью для подозреваемых. Один из популярнейших демагогов среди революционно настроенных кругов, Эбер, редактор знаменитого листка, самого крайнего из всех революционных органов, «le père Duchesne», навлек на себя гнев Робеспьера. Но раньше, чем его арестовать, пускают слух, что Эбер — скупщик, и уже народ против него, уже женщины кричат на улице, что Эбер — виновник голода в Париже, и Эбера со всеми его товарищами арестуют, взводят на них небывалые преступления и между многим прочим приписывают им без всяких доказательств умышленную порчу съестных припасов, умышленное создание препятствий для торговли хлебом, желание подвергнуть Париж мучениям голода. Суд покорно исполняет волю Робеспьера, признает существование небывалого заговора, и Эбера казнят вместе с другими 18 обвиняемыми. Спустя две недели в один день казнят еще 17 человек, обвиненных (и тоже без всяких улик) между прочим в желании извести народ голодом, «affamer le peuple».
Робеспьер после казни Дантона, Камилла Демулена и всех, кого он мог только подозревать в желании хоть немного ослабить террор, остался хозяином положения. Ежедневно в одном Париже десятки лиц погибали на эшафоте, все распоряжения Комитета общественного спасения исполнялись немедленно и беспрекословно при всеобщем трепете и безмолвии, а с ценами на съестные припасы по-прежнему ничего не выходило, и всесильный робеспьеровский топор оказывался не в состоянии создать изобилие припасов и их дешевизну. Неуклонно идя по своему пути, Робеспьер приходил к заключению, что нужно еще и еще усилить грозу, разыскать неуловимых врагов в их убежище и истребить до последнего. 15 апреля 1794 г. его ученик и помощник Сен-Жюст докладывал Конвенту от имени Комитета общественного спасения [58], что во Франции с самого начала революции существует «заговор голода», что искусственным путем продолжается скупка припасов и т. д. Он жаловался вообще на «преступную слабость судей» [59], которые иногда оправдывают обвиняемых. В заключение он требовал сосредоточения всех политических дел в парижском трибунале и ряда других мер, окончательно упрочивавших диктатору Комитета общественного спасения. Все, чего он требовал, было декретировано, в том числе и особый пункт, категорически вменявший в обязанность всем гражданам доносить на все незаконные поступки и подозрительные слова кого бы то ни было. Интересно, что единственный пункт этого декрета, предложенного Сен-Жюстом, где говорится не о наказаниях, а о поощрении, относится к области экономических отношений: в пункте 24 Комитету общественного спасения рекомендуется «поощрять» промышленность и выдавать авансы «патриотическим негоциантам, которые будут предлагать провизию по максимуму». Мы видим тут косвенное признание бессилия, которое чувствовали диктаторы в области экономического строительства: они обещали денежные милости людям за исполнение тех самых предписаний закона, неисполнение которых фактически влекло за собой смертную казнь.
И обещания, и угрозы не помогали. Ограничимся несколькими образчиками репрессии из последних времен Робеспьера [60]. 9 июня 1794 г. судили и в тот же день казнили крестьянина и его жену за то, что они находились на ферме у своих родственников (братьев Шаперонов), убитых во время вооруженного сопротивления жандармам. Жандармы же явились удостовериться, нет ли незаконных запасов хлеба на ферме.
Отчаянный поступок убитых объясняется тем, что все равно подобный обыск грозил смертью. Ферму жандармы подожгли со всех сторон; найденные на ферме живыми, как сказано, были казнены. Неисполнение закона о максимуме, продолжающиеся скупки хлеба — все это хотя иногда и приводилось в связь с падением ценности ассигнаций, но самое это обесценение бумажных денег объяснялось зловредными слухами, коварной клеветой крамольников, и за непочтительные отзывы об ассигнациях погибло тоже немало людей. 8 июня казнили некоего Малье-Конта с несколькими товарищами по подозрению в «ажиотаже». На другой день были судимы два брата Вано: один — за то, что (еще в 1792 г.) писал, а письмо попало в руки властей, что хотел бы все продавать за звонкую монету; тогда же он писал своей сестре: «… мои дела не очень хорошо идут вследствие того, что мне уплачивают бумажными деньгами», и еще одну фразу в таком же роде; то же самое инкриминировалось и его брату. Хотя эти (и сами по себе невинные) фразы из частных писем были писаны еще за два года и очевидно вполне случайно дошли теперь до властей, но оба обвиняемые были казнены [61]. Спустя несколько дней судили Лобеспена, причем против него между прочим было выставлено такое обвинение: он советовал одному гражданину (прокурор Фукье-Тенвиль даже не мог привести фамилии этого гражданина), чтобы тот поскорее купил дом, ибо «вскоре ассигнации ничего не будут стоить». Лобеспен был обвинен и гильотинирован. Та же участь постигла и нотариуса Жарсуфле и других лиц.
Наказывались, впрочем, не только дурные отзывы об ассигнациях, но и вообще стремление запастись именно звонкой монетой, а не ассигнациями; например, уличенные в этом стремлении пятеро мелких торговцев были казнены (3 мая 1794 г.). На следующий день был судим мясник Авриль за то, что, по чьему-то доносу, он сказал, будто будет убивать телят «не для каналий, а для тех, кто платит цену больше максимума». Он спасся только благодаря абсолютной недоказанности доноса. Не рекомендовалось вместе с тем и жаловаться на недостаток хлеба: 2 июня 1794 г. судили некоего Бурде за то, что он (согласно доносу прислуги) сказал [62], «что революция служит только для каналий, что люди не стали более счастливы, ибо есть недостаток в хлебе». Он был осужден и тотчас же казнен.
Не проходило ни одного дня без нескольких десятков казней. Но Робеспьер желал во что бы то ни стало еще усилить устрашение, сделать орудие репрессии еще более быстрым, еще менее стесненным. Знаменитый закон 22 прериаля (10 июня 1794 г.), проведенный по желанию Робеспьера, довел террор до кульминационной точки. Правда, Конвент не дал Робеспьеру удовлетворения в том отношении, что не уполномочил Комитет общественного спасения предавать депутатов суду без предварительного разрешения Конвента; но с тем большей готовностью были приняты остальные пункты проекта. Уничтожались даже те слабые, фиктивные гарантии, которые в теории по крайней мере еще признавались за подсудимым. Отныне какие бы то ни были свидетельские показания, даже простой допрос подсудимого на следствии, признавались излишними, если у судей уже сложилось нравственное убеждение в виновности подсудимого; защита отменялась вовсе; смертной казни подвергались все «враги народа». Но кто такие — враги народа? Все стремящиеся к восстановлению королевской власти, к «унижению или уничтожению» Конвента и республиканского правительства, все изменившие на войне, все сносившиеся с неприятелем, и т. д.; «все стремящиеся затруднить снабжение Парижа припасами, а также создать голод в республике» [63]; те, кто будет распространять ложные слухи с целью смущать народ, и т. д., и т. д. Эта статья закона так обширна и неопределенна, что при безграничной власти трибунала, не связанного решительно ничем, кроме своего внутреннего убеждения, отныне казни должны были усилиться в исключительной степени. Так и случилось, и казни усилились в неслыханных размерах. Казнили булочников, выражавших даже только на словах свое неудовольствие по поводу надзора за ними; казнили земледельца (Фужера) за то, что он в отчаянии топтал ногами повестку о реквизиции хлеба, требовавшегося властями. Вследствие спешности и сокращенности делопроизводства в целой массе случаев не осталось никакого следа о процессах, кроме наименования казненных; и мы в точности не узнаем никогда, сколько было казнено именно за «скупки», нарушения закона о максимуме и тому подобные преступления из тех сотен и сотен человек, которые были гильотинированы только за полтора месяца: от закона 22 прериаля (10 июня) до падения Робеспьера (9 термидора — 27 июля 1794 г.).
2
Когда на другой день после переворота 9 термидора Робеспьера везли на казнь среди несметной толпы народа, кричавшего: «Долой тирана!», едва ли эта толпа, голодная, безработная, изверившаяся в спасительности для нее максимума, отдавала себе ясный отчет в том, что конец террора знаменует собой и близкий конец закона о максимуме. Но кто мог это уже тогда сказать с полной уверенностью, так это все должностные лица, которые с октября 1793 г. непосредственно стояли у дела и наблюдали, как функционирует закон о максимуме. Они знали, что этот закон, кое-как осуществляемый в Париже (где он тоже, впрочем, не приводил ни к каким осязательным результатам), почти вовсе сводился к нулю в целом ряде департаментов. Специальное учреждение (bureau du maximum) заведовало всем делом и распоряжалось из Парижа как из центра. У него были на местах агенты, которые обязаны были следить за исполнением закона, привлекать виновных к ответственности и сообщать центральному бюро о всех встречающихся затруднениях. Им приходилось жаловаться постоянно на нарушения этого закона, для осуществления которого даже террор ничего не мог сделать.
После падения Робеспьера, хотя все распоряжения о максимуме остались в прежней силе, глухая, но очень активная борьба против этого закона стала еще явственнее, и к вышеприведенным показаниям остается лишь прибавить еще некоторые совершенно аналогичные свидетельства, относящиеся к последним месяцам существования максимума.
Пред нами лежат два сохранившихся в Национальном архиве рукописных фолианта [64], наполненные изложением бумаг, исходящих от центрального бюро максимума к его агентам; изложение писем настолько подробное, что дает ясное представление о положении вещей (самые письма агентов пропали, а эти фолианты составлялись в канцелярии центрального бюро). Их еще никто из исследователей не трогал, и нам даже не пришлось встретить ни разу какое бы то ни было, хотя бы беглое, упоминание о них, а между тем они в высшей степени интересны; это красноречивый и непререкаемый ответ (и ответ отрицательный) на вопрос: исполнялся ли закон о максимуме? Тут, конечно, не место разбирать и анализировать подробно этот источник [65], достаточно сказать, что только что указанный вывод совершенно несомненен для всякого, кто будет эти рукописные томы читать. Бюро признается, что число жалоб агентов «бесконечно». Агент города Валансьена доносит, что судьи выносят суровые приговоры нарушителям закона о максимуме, но все «эти примеры бессильны против злонамеренности и эгоизма» [66]; жители Орлеана жалуются, что нельзя купить товары за установленные цены, ибо купцы пускают в ход такие «маневры» (слово взято из текста): они не соглашаются продавать, если покупатель им не даст взятки [67], которая иногда «вдвое и даже втрое больше цены» (т. е. иначе они заявляют, что товара у них нет); в Седане приходится строго наказывать чиновников, которые «преступной снисходительностью отнимают у закона всю его силу и обманывают народ» [68]; в Баньере происходят гнусные «эксцессы» на почве нарушения этого закона, так что члены бюро даже не могут «без волнения» об этом [69] писать; в Селере испытываются «большие затруднения» при получении съестных припасов вследствие «злонамеренности» и «вероломнейших средств» преступных нарушителей закона [70]; агент из Монмеди доносит, что «в его округе закон о максимуме стал уже пустым словом» вследствие «злоупотреблений» [71]; а в ответ на это донесение центральное бюро делает драгоценнейшее и авторитетнейшее для историка признание, что закон о максимуме не исполняется почти ни в одном округе [72]. И, повторяем, это единственно правильный вывод, который исследователь был бы вправе сделать, даже не будь налицо столь категорического и ясного признания, такого «ты победил, галилеянин!» Для нас особенно ценны такого рода обобщающие заявления бюро.
В начале 1794 г. бюро пишет циркуляр ко всем агентам, считая, значит, его содержание относящимся ко всей Франции, и вот как этот циркуляр начинается: «Мы узнали, гражданин, что закон о максимуме не исполняется в твоем округе» и что не исполняется он в самых существенных пунктах; бюро признает, что там, где закон этот плохо исполняется, «царит изобилие», а страдают именно те округа, где закон исполняется лучше. За этим любопытным признанием следует квалификация этого факта как «злоупотребления, имеющего опасные последствия», а посему агенту предлагается принять меры против этого «беспорядка»; рекомендуется «удвоить усердие» в охране интересов народа и подавлять усилия «злонамеренных» и эгоистичных людей всеми мерами [73]. Но эти меры оказываются совершенно бесплодны. Загромождать дальше эту главу бесчисленными выдержками из указанных регистров было бы совершенно излишне.
Итак, голый факт установлен незыблемо: закон о максимуме потерпел полную неудачу, несмотря на то, что правительственная власть, искренним и живейшим образом желавшая его исполнения, была вооружена самыми грозными средствами репрессии и ежедневно прибегала к смертной казни за малейший намек на сопротивление или даже за простую словесную оппозицию, за неосторожное слово, вырвавшееся в кругу семьи и подслушанное доносчиком. Далее, не только щедрые награды были обещаны, как мы видели, доносчикам, которые раскроют нарушение закона о максимуме, но и по существу дела, казалось бы, немыслимо было укрыться от кары: ведь в 1793–1794 гг. Франция была покрыта сетью «революционных комитетов», «наблюдательных комитетов» и других официально признанных местных организаций, не говоря уже о филиальных отделениях якобинского клуба, и члены этих организаций зорко следили за всей местной жизнью, постоянно донося властям о всем, что казалось им законопреступным или даже просто подозрительным, и арестовывая виновных. При этих условиях и речи не могло быть о слабости или фиктивности надзора. Весьма редки бывали в истории такие всесильные de jure и de facto правительства, как Конвент; весьма редко они так решительно и сурово пользовались своим могуществом, как Конвент в 1793–1794 гг.; немного было законов, которым Конвент придавал бы такое огромное значение, как закону о максимуме, и в результате полная неудача, констатируемая не только непререкаемыми официальными данными, но и всеми показаниями современников.
Какова же причина? Официальные данные говорят о злонамеренных лицах, преступниках, вероломных врагах народа, которые своими кознями и злоупотреблениями мешали осуществлению закона. Кто же такие все эти «malveillants, criminels, perfides» и т. д.? Назвать их по имени — значило казнить их, и кого можно было назвать, тех и казнили. Но в том-то и было дело, что против закона о максимуме боролся могучий, неуловимый и анонимный враг, с которым ничего нельзя было сделать: весь уклад экономической жизни европейского человечества в конце XVIII столетия. Отъединить Францию от Европы герметически, наглухо, так полно, как в гневе своем желает отделить Москву от Литвы пушкинский Борис Годунов, было абсолютной невозможностью даже для всесильного Конвента, а без этого закон оказывался парадоксом. Товары должны были всякими правдами и неправдами стремиться за границу, где за них платилась не фиктивная, а рыночная цена и притом не фиктивными ассигнациями, а звонкой монетой; а там, где этот сбыт за границу становился совершенно уже невозможным, там выгоднее было под каким угодно предлогом сократить или прекратить производство; хотя за прекращение производства без достаточных мотивов и грозила тоже кара, но, например, банкротство являлось мотивом, конечно, непреложным и уважительным, и в большинстве случаев этот мотив, разумеется, был вполне реален. Далее, если в отношении вывоза правительство и очень хотело бы, да не могло сделать границу непроходимой стеной, то, напротив, для ввоза иностранных товаров оно готово было распахнуть настежь дверь во Францию; но нечего, конечно, распространяться, почему закон о максимуме делал нелепой всякую надежду на возможность ввоза. Идти на верное и безусловное разорение, подчиняясь фиктивным, искусственным ценам, или подвергаться смертельной опасности, исподтишка стараясь нарушить эту максимальную таксу, — таковы были перспективы, ожидавшие иностранного купца, приехавшего с товаром во Францию.
Итак, производство неминуемо должно было сократиться, товары имели тенденцию выйти из страны, ввоз из-за границы был немыслим. Противоречие между ценами «максимальными» и ценами, которые установились бы на рынке, не будь этого закона, становилось все разительнее, и тут выступало второе обстоятельство, сделавшее закон о максимуме парадоксом. Конвент не только не уничтожил частной собственности, но даже много раз подчеркивалось уважение к этому принципу во время обсуждения закона о максимуме. Тем не менее при полном господстве принципа частной собственности и — eo ipso — неравенства в обладании денежными средствами, то, за что закон так беспощадно карал, скупки становились совершенно неизбежными. Речь шла со стороны покупателей о том, чтобы обменять возможно больше и возможно скорее совсем обесцененные ассигнации на предметы потребления, всегда сохраняющие реальную ценность, а со стороны продавцов, — конечно, получить больше той иллюзорной цены, которую назначал закон, не считавшийся ни с издержками производства, ни особенно с обесценением ассигнаций (ведь, как мы видели выше, за одни разговоры о падении ценности ассигнаций людей неуклонно подвергали смертной казни). И если не всегда могли обойти закон профессиональные торговцы, зато на их разорении наживались посторонние лица, за которыми надзор был послабее и которые занимались тайной торговлей, но все равно результат был один: потребитель редко где и едва ли не в виде исключительной удачи получал то, что ему было нужно, за цену, определенную «максимумом». Средств борьбы у продающего было в распоряжении много: от сокрытия товара до предложения товара попорченного; уловок для видимого обходы закона было тоже немало (вспомним вышеприведенное донесение, где говорится о взятках, которые покупатель должен давать продавцу).
Вот главные условия, превратившие, как выразился один агент, закон о максимуме в «пустое слово». Утопией был бы план произвести во Франции 1793–1794 гг. коренной экономический переворот на основе уничтожения частной собственности; не неменьшей утопией было делать такие эксперименты, как с законом о максимуме, оставляя незыблемыми самые основы хозяйственной жизни как Франции, так и всей Европы. Вот почему смерть потеряла тут свое жало, и гильотина оказалась бессильной.
3
После падения Робеспьера стало возможным заговорить вслух об отрицательных сторонах максимума.
Что закон о максимуме в высшей степени произволен в самой основе своей и разорителен для торговцев, — это понимали, собственно, и власти, непосредственно призванные осуществлять его; их тревожила не участь представителей торговли, а сокращение числа лиц, которые решались заняться этим опасным делом. Уже через две недели с небольшим после падения Робеспьера центральное бюро по делам о максимуме так изъяснялось в письме к своему руанскому агенту [74]: «Прежде всего с принципиальной точки зрения бесспорно, что, так как закон от 29 сентября 1793 г. положил в основу максимума цену 1790 г. с прибавкой на одну треть, уклоняться от этой основы нельзя; тем не менее Конвент, налагая узду на алчность, не желал чинить препятствия торговле и вредить купцу, который ограничивается честной прибылью», а посему бюро сообщает, что Комитет общественного спасения согласен рассмотреть те проекты облегчения участи торгового класса, какие будут ему представлены. Но стоило террору вообще ослабеть после падения Робеспьера, стоило печати получить хоть какую-либо возможность высказываться, и жалобы на закон о максимуме посыпались со всех сторон. Публицисты, писавшие о максимуме после 9 термидора, осуждают его единогласно: ни в Национальной библиотеке, ни в Архиве, где собрана масса брошюр, писавшихся в эпоху революции (в так называемой серии Rondonneau — AD), мы не нашли в пользу максимума ни единой строки, которая была бы написана после падения Робеспьера (если не считать Бабефа, о чем см. в главе VI). «Должен ли быть сохранен закон, наименьший недостаток которого заключается в том, что он абсолютно ниспровергает самое священное право свободы торговли, всякое почтение к собственности, должен ли быть он сохранен, несмотря на вызванные им злоупотребления?» — спрашивает один из публицистов [75] и, конечно, отвечает отрицательно. Публицистика констатировала также, что когда этот закон был издан, магазины, фабрики, мелочные лавки были взяты чуть не штурмом, товары расхватаны за одну треть и одну четверть своей стоимости, и хотя Конвент обещал вознаградить за это, но ничего не дал, «да и был прав», ибо не хватило бы и миллиарда [76]. Цены за товары затем платились в 5 и 6 раз больше, чем следовало, ибо начались злоупотребления: торговлей занялись «слуги, носильщики, хозяева гостиниц, парикмахеры», словом все, кому было не лень, кроме только настоящих профессиональных торговцев, за которыми был строгий надзор; а эти новые, потаенные торговцы благополучно наживались. Агенты администрации тоже оказывались весьма часто (один публицист даже говорит: «всегда») [77] недобросовестными и наживались на почве этих злоупотреблений. Эти злоупотребления вошли в правило; например, колониальные товары, привозимые во французские порты, там же скупались и перепродавались по неслыханной цене: хлопок согласно максимуму покупался по 230–240–250 ливров за квинтал, а перепродавался по 1200–1600 ливров, а в тех департаментах, где были хлопчатобумажные фабрики, он продавался и по 1800, 2000, 2200 ливров за квинтал, т. е. почти в 10 раз дороже «законной» цены. То же самое наблюдалось и относительно продуктов, добываемых и обрабатываемых внутри страны, и, конечно, «гораздо менее страдал от этого зажиточный гражданин, который мог переносить это повышение цен, сокращая свои другие расходы, чем человек, доход которого ограничен, например рабочий, живущий своим ежедневным трудом, бедная мать, обремененная детьми, нуждающийся человек, который ничего не ест, кроме хлеба, но именно поэтому должен потреблять хлеба больше». Так оценили современники закон о максимуме, едва только стало возможно высказаться против него, не рискуя немедленно погибнуть на эшафоте. Кожевник Дерюбиньи, сидевший при старом режиме в Бастилии, человек, преданность которого делу революции была выше сомнений, тоже принял участие в публицистическом походе против закона о максимуме, который он называл главной причиной упадка торговли и промышленности [78], и вместе с тем, как и другие, он подчеркивал невозможность провести эту меру целесообразно.
Ни одного голоса не раздалось в защиту максимума: рабочие парижских предместий и их провинциальные товарищи не встали на защиту меры, которая оказывалась тем жестче, чем человек был беднее: ибо логика вещей именно это сделала из закона, который был отчасти вызван желанием помочь нуждающемуся классу и не менее искренним убеждением, что правительственная власть все может. Новое течение торжествовало в Конвенте, и представитель этого течения (Буасси д’Англа) обвинял даже бывший Комитет общественного спасения в том, что он убил торговлю физически, избивая купцов, и морально, устанавливая максимум, реквизицию и «восточный» деспотизм [79].
На осуждении максимума сходились люди, отправлявшиеся от самых различных точек зрения. Возмущенные максимумом публицисты и слышать не желают ссылки на исключительное положение, которым объяснялись крупные революционные мероприятия и диктаторские распоряжения. «Эта диктатура порождает людоедов, питающихся трупами» [80], — пишет один из таких публицистов, Барбе. «Отсюда эти реквизиции, которые выкачивают (pompent) все богатства торговли, истощая ее до конца; отсюда этот инквизиторский «максимум», который преследует даже тень коммерческой свободы вплоть до домашнего очага, у которого она пытается укрыться; отсюда эти тысячи коршунов, которые одни за другими насыщаются народной кровью; отсюда эти тучи хищных птиц, которые ежедневно прибирают плоды наших трудов». Термидорианская реакция позволяет автору дать волю давно сдерживаемой злобе. Он обвиняет (задним числом) Робеспьера в желании возбудить войну между неимущими и собственниками: «Современный Кромвель и его круглоголовые, намечая свой план войны против общественной свободы, вооружают не собственников против собственников, они провозглашают себя отцами и кормильцами нуждающихся, единственными друзьями санкюлота; они ставят торговлю, так сказать, под Дамоклов меч». И еще, и еще раз мы встречаемся со злорадным констатированием полного и безусловного провала закона о максимуме. «Что же случилось? Все припасы исчезли из публичного обращения, но только затем, чтобы вновь появиться чрез подпольные каналы, уже приобретя ужасающе высокую цену». Мало того: зерно из таких хлебородных провинций, как Фландрия и Артуа, «посредством тайных и неуловимых каналов» переправляется в Бельгию. И никакие наказания, самые страшные, прекратить это не в силах. Не может назваться демократическим такой закон, который благоприятствует интересам правительства, изолируя его от «народа», закон, против которого восстают все частные интересы; и если в последние годы (речь идет, конечно, о 1793–1794 гг.), хотя жатва была обильна, хлеба все-таки не было, то виноват именно этот несчастный закон о максимуме, который необходимо отменить как можно поспешнее. Конвент, в эту пору «термидорианской реакции» охотно ломавший и уничтожавший то, что сам же он делал в годину робеспьеровского владычества, не имел никаких причин настаивать далее на сохранении максимума. Бессилие этого закона обеспечить интересы казны было доказано.
Наконец в декабре 1794 г. Конвенту был представлен доклад о необходимости покончить с максимумом. Докладчик считает максимум мерой гибельной, но полагает нужным как бы напомнить извиняющие обстоятельства, заставившие прибегнуть к этой мере. Он напоминает о бегстве короля в Варенн, о том, как подняла голову аристократия, затем об эмигрантах, о войне, которую Европа объявила, когда Франция была неподготовлена, о вандейском восстании, о страшном обесценении ассигнаций [81]. Но он спешит признать, что закон не достиг цели: вздорожание предметов первой необходимости прогрессировало чудовищным образом, несмотря на террор. Товары стали быстро исчезать, и одно зло породило другое: максимум породил реквизицию [82], правительство сделалось распорядителем и хозяином, поставщиком всех товаров. Но как исполнить эту задачу? Как «снабдить 25 миллионов человек… всеми необходимыми предметами потребления?» Это было невозможно. А между тем, отказывая сплошь и рядом людям, просившим снабдить их всем необходимым, правительство не могло воспрепятствовать тому, что его собственные агенты широчайшим образом пользовались (особенно в провинции) правом реквизиции, налагали реквизиции иной раз на все товары, так что купец на законном основании отказывался продавать кому бы то ни было. Купец при этом разорялся, продавая правительству по максимуму, но потребителю от этого не было легче. Сырье исчезло, потому что земледелец, обескураженный максимумом и непрерывными реквизициями, либо не работал, либо скрывал продукты. Итак, значит, закон о максимуме привел к прямо обратным результатам, нежели те, о которых мечтали законодатели в 1793 г.: закон этот открыто и повсеместно нарушается, между волей правительства и интересами большинства народа существует гибельное в моральном отношении противоречие [83].
Читая доклад, можно подумать, что он окончится предложением отменить не только максимум, но и реквизиции, ибо докладчик громит оба эти мероприятия. Но нет: он предлагает в заключение (в проекте декрета), отменив максимум, удержать реквизиции. Конвент так и поступил. 24 декабря 1794 г. закон о максимуме был отменен [84].
Конвент, не довольствуясь отменой закона о максимуме, постановил разослать всем властям для распространения особую прокламацию [85]. «Французы! — так начинается этот любопытный документ. — Разум, справедливость, интересы республики уже давно противились закону о максимуме. Национальный Конвент его отменил: и он тем более будет иметь прав на ваше доверие, чем более станут известны мотивы, которые продиктовали этот спасительный (отменяющий) декрет… Наименее просвещенные умы знают теперь, что закон о максимуме изо дня в день уничтожал торговлю и земледелие; чем суровее становился этот закон, тем он становился неисполнимее; тщетно притеснения принимали тысячу форм, закон встречал тысячу препятствий, от него постоянно уклонялись», и он привел Францию к разорению.
Всякий, изучавший историю этой эпохи, знает, как разительно непохож Конвент после 9 термидора на Конвент до 9 термидора. Падение Робеспьера, которое было моментом крутого перелома в истории Франции, «началом конца» революции, до такой степени изменило самый Конвент, что собрание сделалось совершенно неузнаваемым. Это были те самые люди, которые сидели тут в грозные робеспьеровские времена, но теперь, когда им приходилось отменять собственные свои распоряжения, изданные при Робеспьере, они проявляли не покаянный пафос, а красноречивое негодование, будто исправляли ошибки, сделанные кем-то другим. «Соображения, которые уже не существуют, может быть оправдывали (этот закон — Е. Т.) при его зарождении; но неизбежным его результатом был бы совершенный голод, если бы конвент, отменив его, не сбил оков с промышленности». Это подчеркнутое мной «может быть» есть единственное снисхождение, которое Конвент в декабре 1794 г. оказывал себе самому, своим поступкам, совершенным в 1793 г. и в первой половине 1794 г. «Конкуренция и свобода, единственные основы торговли и земледелия», поправят зло, причиненное максимумом, — так надеется Конвент, и он предостерегает французский народ от «злонамеренной клеветы», которая будет стараться опорочить этот декрет. Это воззвание обнаруживало как бы некоторые опасения, как будто Конвент боялся вспышки народного недовольства по поводу отмены максимума. Но на деле ни малейшего протеста, конечно, ниоткуда не последовало.
Так окончился этот опыт вооруженной борьбы против непреодолимых сил экономической эволюции. Неясность, половинчатость, противоречивость, недоговоренность в основных принципах совмещались тут с резкой безоглядочной системой осуществления тех практических мероприятий, которые были признаны неотложными. Век рационализма, век веры во всесильное и всеустрояющее законодательство довел тут до логического конца некоторые коренные предпосылки, раньше выдвинутые; для понимания психологии целой исторической эпохи закон о максимуме неоценим и незаменим.
Я проследил судьбу закона о максимуме за 15 месяцев его существования в связи с вопросом о том, как он отразился непосредственно на интересах потребителей. Это та сторона дела, которая была больше всего на виду, ведь и издан закон был прежде всего по требованию потребителей (рабочих и городской бедноты вообще).
Но закон о максимуме имел последствия, которые должны тут особенно остановить наше внимание, хотя источники говорят о них гораздо меньше: максимальная таксация гибельно отразилась на общих условиях производства, вызвала крутое сокращение его и этим могущественно способствовала усилению безработицы.
4
Современники утверждали, что и обесценение ассигнаций, и закон о максимуме разоряли именно обрабатывающую промышленность, а вовсе не представителей земледелия, ибо нарушить закон о максимуме земледельцу было легче, чем всякому другому, а налоги и другие платежи он производил обесцененными бумажками. Он меньше мануфактуриста нуждался в покупках чего бы то ни было, а уклониться от продажи продуктов сельского хозяйства можно было, несмотря ни на какой террор. Это категорически, как общеизвестный, факт, констатировалось с трибуны Совета пятисот в 1797 г. [86], спустя всего 2½ года после отмены максимума, когда факты еще были свежи в памяти, и возражений ниоткуда не последовало.
И действительно: положение обладателей сырья — представителей сельского хозяйства — оказалось гораздо лучше, чем положение покупателей сырья — промышленников.
Сплошь и рядом мы слышим жалобы промышленников, разоренных законом о максимуме тотчас же после его издания; их жалобы построены на одном и том же мотиве: закупив сырье по рыночной цене до издания закона о максимуме, они вынуждены теперь продавать выработанные из этого сырья продукты по ценам, установленным максимумом. Получается дефицит, который сразу же и наносит страшный удар всему предприятию [87]. По этой же причине, вследствие внезапности введения максимума, потерпели серьезные убытки, например, и кожевники в городе Эксе, средоточии провансальской кожевенной промышленности; многие из них сразу потеряли до трех четвертей своего состояния [88]. На разорение вследствие внезапности введения максимума жалуется и кожевенный фабрикант Жак Гудар (в Фалезе) [89] и др.
Мы уже видели, что и до 1793 г. в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности стал обнаруживаться недостаток сырья, угрожавший весьма серьезными последствиям. В расчеты законодателя в эпоху издания декрета о максимуме явственно входило также уврачевание и этого зла: максимальной таксации должны были подвергнуться и сырье matières premières, служащее для мануфактурной работы. Конечно, и правительство, и местные власти прекрасно понимали [90], что принуждая фабрикантов продавать товар не выше известной цены, они обязаны обеспечить и фабрикантов от слишком высоких цен на сырье.
Но тут власти оказывались еще более бессильны, чем в тех случаях, когда стремились поддержать продажу по таксе предметов первой необходимости. И тут действительность опять радикально опровергла все расчеты. Если невозможно было добиться от лавочника, от рыночной торговки, от владельца небольших партий хлеба в зерне или в муке, чтобы они подчинялись таксации, то несравненно легче было уклониться владельцам сырья, нужного для мануфактур.
1. Продавцы предметов потребления были все-таки под контролем потребителей, раздраженных и готовых подать жалобу властям в случае слишком явного нежелания торговца продать требуемый предмет; что же касается продавцов шерсти, льна, шелкового сырца, оливкового масла, то здесь ведь в большинстве случаев сам владелец мануфактуры с момента издания закона о максимуме только о том и мечтал, как бы прекратить разорявшее его производство. Отсутствие сырья было законным предлогом для этого, и ни о каких жалобах при подобных обстоятельствах часто не могло быть и речи.
2. Там, где владельцы мануфактур в самом деле желали продолжать производство и жаловались властям, из этих жалоб обыкновенно ничего не выходило. Конечно, бывали случаи, когда оказывалось возможным предпринять решительные (другой вопрос, насколько целесообразные) шаги; например, когда владельцы лесов уклонялись от продажи древесной коры, нужной для дубления кож, и кожевники обратились зимой 1794 г. с жалобой к властям, то комиссия снабжения припасами уполномочила местную администрацию в целом ряде департаментов объявить леса под реквизицией и предоставить дубильщикам самим доставать нужную кору [91]. Да и то дубильщики не перестают жаловаться, что максимум их разорил [92]. Но что было делать с купцом, который до 29 сентября 1793 г. с трудом провозил еще хлопок из колоний, рискуя десятки раз встретиться с англичанами, а теперь не желает, кроме этого риска на море, еще подвергнуться верному разорению по приезде, ибо продать хлопок по таксе было почти все равно, что отдать его даром? Что делать с купцом, который прежде привозил итальянское оливковое масло для марсельских мыловарен или шведскую сталь для игольных мануфактур города Легля, или испанскую шерсть для седанских мануфактур, или голландские красящие вещества для текстильной индустрии? После всего, что раньше было сказано о технических средствах Франции, нет нужды настаивать, что французская промышленность во многом и многом зависела от чужих земель. Весь заграничный подвоз сырья или продуктов, нужных для производства, должен был прекратиться, ибо покупать за границей по рыночной цене и продавать во Франции по фиктивной «максимальной» не было никакой возможности.
Мало того. Владельцы сырья, производимого Францией, тоже были неуловимы: нельзя было уличить человека в том, что его хозяйство дало ему меньше льна или шерсти, или сала, или оливок, нежели могло бы дать; нельзя было доказать, что он этому сокращению способствовал умышленно, не желая торговать по таксе.
Все это было бы понятно и a priori, если бы даже не было положительных фактов; но факты дают самое красноречивое подтверждение. Свидетельства об этом нигде не сведены воедино; они разбросаны по разным картонам, сохранились они лишь случайно в виде отдельных, частных жалоб, донесений, ходатайств. Циркуляры центральной власти, имея по существу обобщающее значение, также немало помогают разобраться в том хаосе, каким представляется история обрабатывающей промышленности в годину максимума. Не обо всех отраслях промышленности сохранились эти свидетельства (например, шелковое производство было уже так страшно разорено отсутствием сбыта в 1789–1793 гг. и усмирением города Лиона в конце 1793 г., что еще до того, как закон о максимуме успел сказаться во всех последствиях, оно считалось как бы не существующим; впрочем, и о нем есть специальное показание, см. ниже). Но сохранившиеся показания совершенно единодушны, о какой бы отрасли промышленности ни шла речь.
1. Когда давалась характеристика состояния промышленности в 1792–1793 гг., уже было указано, как трудно приходилось со времени войны мануфактурам, получавшим сырье из-за границы, особенно морским путем. Но даже среди мануфактур этого рода, больше всего пострадавших от недостатка сырья, среди бумагопрядилен, были такие, которые держались и даже шли сравнительно недурно еще в 1793 г., и гибель их владельцы приписывали именно закону о максимуме [93].
Как мы видели, бумагопрядильная промышленность в рассматриваемую эпоху во Франции только еще зарождалась, и младенчество [94] этой ветви обрабатывающей индустрии совпало как раз с таким тяжким для всей промышленности периодом, когда и более старые и упрочившиеся во Франции промыслы были в совершенно угнетенном состоянии. Собственно, до войны Франция была поставлена в смысле получения сырья для этого рода индустрии в очень благоприятные условия: хлопок, привозимый с Бурбонских островов и из французской Гвианы, считался настолько высокого сорта, что англичане должны были покупать его во Франции. Англичане даже делали до войны так, что, не останавливаясь перед ценой, они скупали почти все сырье высшего сорта у французов, чтобы обеспечить за собой как бы монополию производства, и потом сбывали французам же выработанную материю.
Война дала громадное преимущество англичанам и сразу нанесла страшный удар французам: доставать хлопок тогда, когда все моря были в руках англичан, сделалось немыслимо. Колониальная торговля с 1793 г. стала страшно падать, и еще быстрее шло падение бумагопрядильной индустрии. «Большая часть мануфактур и бумагопрядилен испытывает гнетущую нужду в сырье, и каждый день фабриканты обращают наши взоры на нанимаемых ими рабочих, мужчин, женщин и детей, которые скоро лишатся хлеба вследствие невозможности добыть для них работу», — свидетельствует комиссия торговли 1 июля 1794 г. [95] Правительство делало все, что только было в его власти, чтобы добыть сырье, невзирая на войну, и этим спасти бумагопрядильную промышленность: делались заказы за границей, казна покупала по высокой цене всякий груз, который подданные нейтральных или союзных стран привозили во Францию, фабриканты получали субсидии, благодаря которым они не сразу прекратили производство, а только постепенно сокращали число рабочих [96], но, «несмотря на такие заботы и усилия», хлопок все реже и реже попадал в руки промышленников.
Комиссия отдает себе совершенно ясный отчет, что «пока длится морская война», нет никакой надежды спасти бумагопрядильную промышленность, и что рабочие, занятые работой на этих мануфактурах, неминуемо и в самом близком будущем должны очутиться на улице; и правительственные власти заботятся уже только о том, как бы приискать для этой категория безработных занятие и тех отраслях промышленности, которые имеют «какое-либо отношение» к бумагопрядильному делу, и где эти рабочие будут в состоянии работать.
Громадный торговый дом фирмы «Бастид и сын» обладал пятью большими бумагопрядильными мануфактурами в южной, западной и юго-восточной Франции: в Монпелье, в Вабре (департамент Тарн), в Камалье (департамент Тарн), в Шоле (департамент Mayenne-et-Loire) и Ремирмоне (департамент Вогезов). Рабочие целых деревень в окрестных горах работали на эти мануфактуры, не говоря уже о рабочих городских. В общей сложности во всех пяти мануфактурах еще в 1790 г. работало 5774 рабочих, а в 1794 г. в этих же пяти заведениях работало всего 1526 человек. Почему? Ответ — в другой паре цифр: в 1790 г. эти мануфактуры имели в качестве сырья 2385 квинталов хлопка, а в 1795 г. они могли достать лишь 472½ квинтала [97]. И хозяева вовсе не жалуются на оскудение рынка, на отсутствие сбыта, ничего подобного: они в виде первой причины выставляют отсутствие сырья [98], которое грозит всем их пяти мануфактурам близкой и окончательной гибелью; и рядом с этим основным злом ставят усиливший его закон о максимуме.
Бастид и сын пишут уже в конце 1794 г., когда о максимуме стало возможно рассуждать (их заявление помечено 24 фримера III года, т. е. 14 декабря 1794 г.), и они считают закон о максимуме самым ужасающим злом. Они тоже, как и многие другие, отмечают, что этот закон передал всю торговлю из рук купцов в руки случайных спекулянтов, которым именно легче всего было систематически обходить этот закон [99]. Кроме того, они отмечают еще одну черту, которая бросает свет на бытовую, так сказать, историю максимума: рабочие повадились требовать, чтобы из каждых двух вырабатываемых ими штук материй одна уступалась хозяевами им, рабочим, по цене, обозначенной в максимальных таблицах; а потом рабочие перепродавали эти штуки потребителям по повышенной цене, иногда по удвоенной цене и больше, чем по удвоенной [100].
Это показание любопытно, во-первых, потому, что показывает, до какой степени закон о максимуме плохо исполнялся. Ведь на что жалуются (и жалуются властям) Бастид и сын? На то, что их рабочие требуют у них товар по максимуму, т. е. именно по расценке, выше которой фабриканты и не имеют права требовать с покупателя. Что рабочие перепродают затем и выручают вдвое за эту самую материю, не должно было бы, казалось, тревожить Бастидов: кто же стал бы покупать в таком случае у рабочих, переплачивая им, вместо того, чтобы купить по максимуму у самих фабрикантов? Но в том-то и дело, что Бастиды как будто подразумевают само собой понятным, что и сами они вовсе не по максимуму продают свой товар обыкновенным покупателям. Значит, они жалуются на то, что рабочие, пользуясь тем, что вырабатываемый их руками товар фабриканты не могут успеть припрятать, оказываются в выгодном положении сравнительно с другими покупателями: рабочие, не выпуская, так сказать, только что выработанного товара из рук, отдают хозяевам половину товара, а за другую половину предлагают законную, максимальную цену. Во-вторых, это показание говорит нам о том, каким образом рабочие иной раз старались использовать закон о максимуме для увеличения своего заработка, явно, всенародно и ежедневно нарушая его и основывая все свои расчеты именно на том обстоятельстве, что им, неофициальным, случайным продавцам известного товара, обойти этот закон весьма легко.
Бастиды, как и другие промышленники, после падения Робеспьера не особенно и скрывали от властей, что, не получая нигде нужного им сырья по установленному максимуму, они и выработанный товар ни в коем случае не могли продавать по установленной законом норме. Но бичом для них этот закон был именно потому, что из-за него сырье окончательно исчезало с рынка, продавалось спекулянтами по неслыханной цене, а им, промышленникам, обходить закон было гораздо труднее и хлопотливее, чем кому бы то ни было; не обходить же его, по глубокому своему убеждению, они не могли, если не желали идти быстро навстречу банкротству.
Одна из уловок, позволявших владельцу сырья сохранить его, заключалась в том, что он покупал кое-какие инструменты, будто бы для пряжи, и делал вид, будто сам желает стать фабрикантом. Правительство по мере сил боролось, писало грозные циркуляры (например, против владельцев хлопка в Амьене, пустившихся весной 1794 г. на подобную хитрость) [101], но реального значения эти циркуляры не имели. «Хлопковый голод» свирепствовал все больше и больше.
Положение города Труа, особенно тягостное именно потому, что он много занимался бумагопрядильной промышленностью, становилось в 1793–1794 гг., по мере того как война затягивалась, все хуже и хуже. Закупать хлопок по максимальным ценам в морских портах, куда он приходил, было еще труднее, чем закупать по этим ценам сырье туземное. Муниципалитет города Труа жаловался Комитету общественного спасения (в августе 1794 г.) на то, что максимум при продаже хлопка не соблюдается, что бесконечно трудно раздобыть этот продукт в морских портах, и что без хлопка 20 тысяч граждан в их городе остается без куска хлеба [102]. Они умоляют Комитет общественного спасения как-нибудь им помочь, ведь иначе что же сказать рабочим, лишенным всяких средств к существованию [103]? Но тут Комитет общественного спасения был еще более бессилен, чем когда речь шла об отсутствии сырья, производимого почвой метрополии.
Такой же недостаток хлопка ощущается и в Дюнкирхене, и в других местах [104].
Максимум так страшно опустошил рынки сырья, что почти одновременно с отменой этого закона правительство приняло ряд мер к уврачеванию нанесенного вреда.
Стремление сохранить для французских мануфактур возможно большее количество сырья вызвало декрет 12 плювиоза III года (31 января 1795 г.), согласно которому был воспрещен, между многим прочим, также вывоз хлопка [105]. Это воспрещение, не принося никакой пользы промышленности, губило еще не совсем уничтоженную колониальную торговлю высшими сортами хлопка. Один негоциант, занимавшийся продажей высших сортов хлопка, производимых Бурбонскими островами, обратился в Комитет общественного спасения с просьбой дозволить ему вывоз этих сортов из французских владений. Он основывал свою просьбу прежде всего на том, что эти сорта всегда были и остались слишком тонкими для французской индустрии, которая не умеет ничего из них извлечь и выделывает из них материи столь же грубые, как и из обыкновенных сортов [106], а потому французские мануфактуристы и платят за эти тонкие сорта столько же, сколько за более грубые. «Бюро торговли», на заключение которого было передано Комитетом общественного спасения это прошение, признало, что в самом деле во Франции еще не умеют обрабатывать тонкие сорта хлопка, ибо нужные для этого усовершенствованные машины («jenny-mull») еще «в очень небольшом количестве» существуют во Франции; бюро не называет при этом ни одного заведения, где бы «jenny-mull» существовали, и, кроме того, само плохо верит в то, что эти французские, хотя бы и «в очень небольшом количестве», существующие «jenny-mull» — настоящие; ибо оно тут же высказывает убеждение, что их еще надо усовершенствовать, и тогда только они могут из высших сортов хлопка выделать в самом деле товар высшего качества [107]. А потому бюро склонилось в пользу просителя, обязав его только доставлять во Францию каждый раз такое количество обыкновенного хлопка, которое было бы равно количеству вывозимого им из французских владений тонкого хлопка. Конечно, проситель не посмел сказать, что он именно англичанам будет продавать тонкий хлопок, хотя на основании всего раньше сказанного почти не может быть сомнений, что именно в их руки этот тонкий хлопок должен был попасть. Возбуждался, правда, в бюро вопрос, — не лучше ли правительству самому весь этот тонкий хлопок приобрести, чтобы лишить его Англию, но эта мысль сочувствия не встретила [108]. Так щекотливый для просителя вопрос и был благополучно для него спят с обсуждения.
Характеризуя зависимость французской фабрикации цветных полотен и бумажных материй от заграницы, я уже отметил, что французские владельцы некоторых мануфактур такого рода стремились получать из-за границы готовые белые полотняные и бумажные материи, а у себя только производили дальнейшую переработку. Конечно, при революции и после начала войны, когда сношения с германскими странами оборвались и когда, как уже сказано, получать хлопок из колоний стало тоже в высокой степени затруднительно, эта отрасль промышленности попала в чрезвычайно тяжелое положение. В сущности, оставался, если не считать всегда случайных и неверных результатов контрабанды, один выход: получать белые полотняные и бумажные материи из Швейцарии. Это и практиковали немногие уцелевшие мануфактуры в 1794–1795 гг.
Едва ли не самая крупная (после заведения Оберкампфа) мануфактура цветных материй в этот период находилась в городе Нанте и принадлежала Петипьерр и КО. На ней еще в 1795 г. работало около 300 человек. Как же они вели свои необходимые сношения с Швейцарией? Покупать за наличные деньги бумажные материи в Швейцарии они не могли: ассигнаций никто в Европе не признавал за настоящие деньги. Во Франции они в 1795 г. потеряли больше 5/6 своей нарицательной стоимости, а в Европе совсем никакой цены не имели. И вот единственный выход: вести меновую торговлю. Но как ее вести? Какой товар предложить швейцарцам? Швейцарцы нуждались в одном: в колониальных товарах и прежде всего в кофе и в сахаре. Но ведь колониальные товары, опять-таки, проскальзывали во Францию лишь там и тогда, где и когда им удавалось благополучно миновать англичан, крейсировавших на Атлантическом океане, на Средиземном море и пресекавших сношения метрополии с колониями. «Заколдованный круг» замыкался. Но оказывался, по крайней мере в теории, один исход, и к нему-то промышленники обратились. «Законодатели! мы повергли на ваше усмотрение, что у нас есть одно только средство добыть бумажные материи, производя обмен со Швейцарией, у нас есть одно только средство уплатить там за 6 тысяч штук, которые мы 8 месяцев тому назад оттуда вывезли;… мы просим вас прислать нам приказ о реквизиции, который уполномочил бы нас потребовать реквизиционным способом 150 тысяч фунтов кофе. При помощи этого мы будем в состоянии достать еще 6 тысяч штук бумажных материй, нужных нам для фабрикации, и мы ликвидируем все, что мы должны за (прежние) 6 тысяч штук, которые дали работу нашим рабочим на весь прошлый год» [109]. Так взывали в сентябре 1794 г. упомянутые нантские фабриканты цветных материй Петипьерр и КО.
Мы видим, что при господстве максимума эти лица совершенно не надеялись достать без принудительного реквизиционного приказа кофе, хотя если где кофе и могло случиться в больших количествах, то именно в Нанте, старом порте, имевшем такое значение в колониальной торговле. И, не надеясь получить по (фактически ничтожной, особенно при обесценении ассигнаций) максимальной цене нужный им товар, они просят Комитет общественного спасения прислать им приказ о реквизиции, налагаемой в их пользу на обладателей запасов кофе, все равно как в былые времена короля просили в виде большого одолжения прислать lettre de cachet. Но, если бессилен был закон о максимуме, бессильными оказывались и реквизиции, особенно когда дело шло о наложении реквизиции на колониальные товары: заставить привозить их из Америки и Индии было трудно.
Перейдем теперь от хлопка к другим видам сырья, нужного для текстильной промышленности.
2. Лен и конопля еще были на рынке вплоть до введения максимума: едва только закон о максимуме был издан, эти продукты стали исчезать, но далеко не так быстро, как хлопок. Мануфактуристы жаловались, правительство прибегало к реквизициям, но ровно ничего из этого не вышло [110]; так было в Париже, так было и в провинции. Работы стали останавливаться на полотняных мануфактурах.
Комитет общественного спасения счел нужным в мае 1794 г. изъять из действия закона о максимуме целый ряд так называемых étoffes de luxe, которые первоначально подпали под действие этого закона: батистовые, мусселиновые, газовые, кружевные ткани и тому подобные материи отныне могли продаваться лишь по цене, на которой добровольно сойдется продавец с покупателем [111]. Мотивом к изданию этого декрета послужило между прочим то соображение, что искусственное уменьшение цены на предметы роскоши выгодно для одних только богатых потребителей и идет вразрез с интересами «нуждающегося класса рабочих». Комитет общественного спасения прибавлял еще, что он изданием этого декрета желает выразить «доверие» лицам, занимающимся упомянутой индустрией, и дать им поощрение.
Но все эти полумеры только показывали, что сам Комитет общественного спасения был не вполне уверен в возможности осуществления закона о максимуме в том законченном и бескомпромиссном виде, как он был замышлен и проведен осенью 1793 г. После предметов роскоши пришлось приняться за пересмотр вопроса о всем полотняном производстве.
Эта отрасль промышленности была все же в лучшем положении, нежели, например, бумагопрядильное дело или мыловарение; нужные для фабрикации материалы легче было достать, правительство нуждалось в огромных массах холста как для нужд кораблестроения, так отчасти и для экипировки войск, и все это не давало данной отрасли промышленности захиреть окончательно. Но зато в 1793–1794 гг. закон о максимуме произвел здесь любопытную, хотя и вполне обусловленную логически, пертурбацию: уровень производства быстро упал до последней крайности. Сам Комитет общественного спасения прекрасно понимает [112], что иначе и быть не могло при том способе установления максимальных цен, который с самого начала был принят.
Когда составлялись таблицы для максимума, то административные власти департаментов в громадном большинстве случаев либо вовсе не установляли различий сортов полотна, либо различали только весьма неопределенно первый сорт и второй сорт, причем еще покупатель был лишен какой бы то ни было возможности проверить, предлагают ли ему первый сорт или второй. А так как максимальная цена для первого сорта была установлена в высшем размере, нежели для второго, то естественно, что настоящий первый сорт быстро исчез из обращения, а единственным продававшимся еще оставался второй сорт, который однако сплошь и рядом продавался в качестве первого. Нечего и говорить, что и в этом втором сорте тоже были прежде известные градации, но, конечно, при максимуме все эти градации исчезли, и фабриканту был прямой расчет выделывать и пускать в продажу лишь самую худшую категорию второго сорта.
Такое положение вещей возбуждало массу жалоб со стороны наиболее терпевших, т. е. со стороны потребителей.
Прочность холста оказывалась в эту эпоху в два или даже в три раза меньшей, нежели прежде: это официально признал и сам Комитет общественного спасения. Комитет в данном случае больше всего встревожился именно тем, что вследствие малой годности и непрочности холста скоро может не хватить сырых продуктов для его выделки, и Франция окажется в этом существенно важном отношении экономически зависимой от других стран [113].
Что же делать при данных обстоятельствах? Когда жаловались фабриканты, на это следовало указание, что отечество требует жертв, но тут фабриканты молчали, удовлетворенные тем вполне успешным пассивным сопротивлением, которое они оказывали закону о максимуме, а жаловалась (и очень сильно и настойчиво жаловалась) публика, и, кроме того, сам Комитет видел серьезное неудобство в том, что творилось перед его глазами. Но отменить закон о максимуме для всей этой отрасли производства нельзя было так легко, как это было сделано относительно батистовых и тому подобных материй. Здесь это означало бы сдачу на капитуляцию, ибо, освободив холст от максимума, не было никакого основания сохранять этот закон для шерстяных, кожаных изделий, для съестных припасов и т. д. И вот Комитет общественного спасения опять хватается за полумеры. Во-первых, расценка холста увеличивается на 10 %; во-вторых, принимается ряд мер с целью фактически контролировать производство и отличать выделываемые холсты и полотна по их качеству; а для этого вводятся регламентация и строгий надзор. Регламентация должна состоять в том, что на каждом куске должны быть обозначены число нитей, ширина, а также имя фабриканта, причем еще Комитет не находит ничего лучшего, как воскресить общеобязательность старинных правил промышленной регламентации, и дважды подчеркивает, что эти старинные правила (большинство которых относилось еще к временам Кольбера) должны остаться в полной силе. Даже самые правила не напоминаются, не приводятся текстуально; это как бы еще более ярко рисует полную веру в спасительную силу «des anciens réglemens». Декрет подписан Робеспьером, Сен-Жюстом, Кутоном, Колло д’Эрбуа, Бильо-Варештом [114].
К таким последствиям привел закон о максимуме в области полотняного производства..
3. Как сказано в этой же главе, несколько выше, шелковая промышленность еще до закона о максимуме была вконец разорена, так что трудно даже добыть какие бы то ни было сведения о ней за 1793–1794 гг. Но мне удалось найти прямое свидетельство, что, помимо всего, шелковая промышленность ощущала жестокий недостаток также в сырье. По показанию одного документа, хранящегося в архиве департамента Роны (в Лионе), но говорящего о шелковом производстве всей республики, одна треть шелкового сырца доставлялась обычно югом Франции, а две трети «Италией и Пьемонтом», — как выражается автор [115]. Но из-за войны Франции против Пьемонта и из-за максимума стало немыслимо получать эти две трети сырца, что же касается остальной трети, то из-за максимума добывать сырец на юге было трудно. Красящих веществ, нужных для окраски шелка, которые исчезли с рынка при максимуме, не было и нет. Почему? Потому, что их получали обычно из-за границы, а к заграничным продавцам нельзя и подступиться без звонкой монеты, ассигнаций Французской республики они не берут. Векселями тоже нельзя расплачиваться, ибо французские заграничные торговые сношения подорваны и французские векселя нигде за границей учесть нельзя [116].
Да и, кроме того, если бы даже иностранцы и продавали свои товары за ассигнации, сами французы не отважились бы покупать их, ибо человека ждало бы дома, где он обязан продать этот товар по максимуму, верное разорение [117].
Что же делать? Автор (явственно говорящий от имени лионских фабрикантов) полон надежд: падение Робеспьера приободряет его [118]. Он пишет в те месяцы, которые прошли между падением Робеспьера и отменой максимума. Для него отмена максимума — желанное будущее, и он убеждает правительство поскорее этот шаг сделать. Он не верит, чтобы сырья в самом деле не было: многие, по его предположению, просто припрятали сырье и ждут отмены максимума, чтобы пустить в продажу [119].
4. Оскудение сырья в шерстяной промышленности сказалось прежде всего в исчезновении высших сортов испанской шерсти. Мануфактуры, вроде большого заведения Лебретона (впоследствии Прево) в Париже, дававшего заработок 600 рабочим и известного своими превосходными изделиями не только во Франции, но и в Европе, должны были приостановить производство именно из-за полного исчезновения всех высших (испанских) сортов шерсти [120]. Такова же была участь многих седанских мануфактур.
Сукон до такой степени не хватало уже весной 1794 г., что в Конвент поступали петиции, просившие запретить женщинам иметь суконную одежду в течение всего времени войны, так как сукна нет на обмундирование армии [121].
Даже владельцы очень крупных заведений, вроде большой шерстяной мануфактуры в Ажане (департамент Lot-et-Garonne), жалуются, что должны прекратить производство вследствие невозможности достать шерсть [122].
Пред нами лежит нечто вроде сводки тех ответов, которые были присланы в комиссию земледелия и искусств на разосланный комиссией циркуляр; этот циркуляр, обращенный ко всем местным властям Франции, запрашивал о состоянии шерстяной индустрии. Конечно, тут нечего искать каких бы то ни было цифровых и вообще точных данных о количестве заведений или о числе рабочих в каждом из них, но ответы фабрикантов дают в общем довольно выпуклую картину. Циркуляр был разослан 25 жерминаля, т. е. 14 марта 1794 г.; ответы относятся к весне и лету того же года. Мы имеем дело с эпохой разгара максимума, реквизиций и финансового кризиса [123]. Этот документ представляет полный список всех имеющихся во Франции округов, расположенных в алфавитном порядке, с пометкой на полях, которая передает сущность ответа фабрикантов. Против большинства округов никакой пометки нет; это должно значить, что шерстяное производство там не существует (но на самом деле едва ли это не означает, что ответа из данного округа не получено; хотя в общем таких сомнительных мест мне бросилось в глаза немного). Вопль о недостатке сырья несется со всех концов Франции. В Ажане (департамент Lot-et-Garonne) фабриканты вовсе прекратили производство из-за недостатка сырья; недостаток его ощущается и в Булони (Pas-de-Calais), в Бодедюи и в Гранвилье (Oise), в Сере (Ryrenées-Orientales), в Фалезе (Calvados), в Жуанвиле (Haute-Marne), в Партне (Deux-Sèvres), где «почти ничего теперь не производится из-за недостатка сырья», в По (Basses Pyrenées), где фабрики «в состоянии полного ничтожества из-за недостатка сырья», в Ретеле и в Седане (Ardennes), в Ромартене (Côtes du Nord), в Сен-Годансе фабриканты заявляют, что они не могут получить шерсть по установленной максимальной цене, и поэтому просят объявить шерсть в реквизиции; на то же самое поведение продавцов шерсти жалуются и фабриканты Сен-Марселена (Isère), Сен-Мексана (Deux-Sèvres) и Иссудена (Indre).
Наряду с этими 16 округами, где производство погибает из-за недостатка сырья, мы видим 19 округов, где фабриканты объясняют бедственное свое положение недостатком не только сырья, но и рабочих рук [124].
В Эксе (департамент Bouches-du-Rhône) фабриканты заявляют, что работа на некоторых фабриках останавливается из-за недостатка рабочих и шерсти, и национальный агент замечает, что нужно было бы шерсть объявить под реквизицией и снабдить ею фабрикантов; в Ангулеме (Charente-Inférieure) производство сильно уменьшилось из-за недостатка рабочих и сырья; в Бенфельдене (Bas-Rhin), в Каркассоне (Aude) фабриканты «нуждаются во всем, особенно в рабочих руках», в Chateaubriant (Loire-lnférieure) заявляют, что у них работы прекращаются из-за недостатка сырья и рабочих; в Шательро (Vienne) — то же самое, причем фабриканты просят объявить рабочих под реквизицией; в Кольмаре (Haut-Rhin), в Куароне (Ardêche), в Драгиньяне нет ни сырья, ни рабочих, и драгиньянские фабриканты тоже просят добыть для них рабочих реквизиционным способом; в Фонтене-ле-Пепль (Vendée), в Шатору (Indre), в Сент-Эньяне (Loir-et-Cher), в Люневиле (Meurthe), в Метце и в Саар-Луи (Moselle), в Миркуре (Vosges) нет ни шерсти, ни рабочих так же, как в Монтаржи (Loiret), в Труа (Aube), в Вьенне (Isère).
В большинстве округов из-за недостатка сырья или рабочих рук, или того и другого шерстяная индустрия находится в угнетении или даже вовсе погибает; исключения вроде Шалона-на-Марне и Аббевиля (департамент Соммы) [125] попадаются редко.
В Аббевиле (департамент Соммы) шерстяные мануфактуры работают хорошо, хотя фабриканты и жалуются на то, что сукна, объявленные под реквизицией, правительство у них не берет (а продать его частным лицам они, конечно, не имели права).
Кроме фабрикантов Аббевиля, только на реквизицию жалуются еще в Кресте (департамент Дромы); не слышно никаких жалоб в Маконе, (департамент Соны-и-Луары), в Монпелье (департамент Hérault) и в Прельи (департамент Индры-и-Луары).
Не только шерсти не хватало для этой отрасли промышленности. Все обширное производство сукон Нормандии и прежде всего мануфактуры городов Dernethal, Elbœuf и bouviers уже в ноябре 1793 г. жестоко страдали от недостатка мыла, и некоторые фабриканты уже тогда прекратили работу именно из-за этого [126]. В 1794 г. страдали от недостатка мыла уже не только нормандские, но и все уцелевшие еще шерстяные мануфактуры.
Вопрос о мыле, острый для промышленников, еще острее был для потребителей, и повторять тут, до каких размеров дошло это бедствие, не приходится: в этой же главе уже пришлось о том подробно говорить.
5. К Комитету общественного спасения со всех сторон несутся жалобы, что бумагопрядильная, шерстяная, шелковая промышленность гибнет также и оттого, что нет красящих веществ. «Хотя ажиотаж довел до чрезмерных цен стоимость этих припасов, но Лион, Руан, Ним, Тур, Париж не могут добыть себе их ни за какие цены» [127]. Дело в том, что «алчность» владельцев этих веществ так сильна, что они сбывают все за границу (вместо того, чтобы продавать во Франции, подчиняясь максимальным ценам). Больше всего ощущается недостаток в индиго, кошенили, шафране, сандаловом дереве, купоросе и т. д. Мануфактуристы просят воспретить вывоз этих товаров из Франции. В округе Guerande (в департаменте Loire-Inférieure), славившемся своими красильнями, 22 мастерские, еще уцелевшие к концу 1794 г., вынуждены были обходиться при помощи жира, за полным отсутствием оливкового масла [128].
В области красильного дела намечаются стремления удешевить, возможно более облегчить добывание сырья. Таковы проекты и усовершенствования, предложенные Блонделем в 1792 г., Стефанополи, который продолжал свои опыты, начатые еще в 1732 г., относительно замены уэльского ореха дубовой корой в окраске материй, и другие в том же роде [129]. Летом 1794 г. одним из мотивов к открытию школы для обучения рабочих окраске материй послужило то соображение, что эта школа может послужить для опытов, которые, «вероятно», поведут к замене «красящих веществ, дорого покупаемых за границей, отечественными материалами» [130]. Правящие власти не перестают чутко относиться ко всем действительным или мнимым открытиям в этой области и даже освобождают от военной службы лиц, которые заняты работой над добыванием красящих материалов [131]. Но все эти опыты и начинания весьма затруднялись отсутствием нужных химических материалов.
При завоевании западной Германии Робержо, член Конвента, состоявший при армии, посылает в Париж известие о том, что можно в завоеванной стране получить еще продукты, в высшей степени важные для французских мануфактур: белила и другие красящие вещества [132]. Комитет земледелия выражает этому члену Конвента живейшую благодарность за его труды и говорит о значении этих трудов для национального преуспеяния. Тотчас же был послан агент для закупок в Ахене и прилегающих местностях. Но только с конца 1795 г. можно было начать пользоваться этим притоком германских товаров. О том, как французов заинтересовали (в тот же период) технические приемы голландцев при добывании красящих веществ, уже было сказано выше, в другой связи (см. стр. 321–322).
Не было красящих веществ, не было и химических продуктов, нужных для красилен, нужных вообще для промышленности. Гибель мануфактур химических продуктов пошла так быстро и безостановочно, что уже в июле 1794 г., например, во всей Франции оставалось всего одно-два заведения для выделки купороса и серной кислоты, да и то владелец одного из них просил помочь, жалуясь на то, что иначе он должен будет прекратить производство, ибо у него совершенно нет нужного сырья [133].
Химические продукты, быстро исчезавшие из обращения, составляли предмет живейшего беспокойства и вечных поисков со стороны правительства. Узнал, например, Комитет общественного спасения, что в Руане у одного аптекаря есть известное количество поташа, и тотчас издает декрет: наложить реквизицию на этот поташ, захватить его, перевезти в надежное место, а аптекарю возместить по закону, если же он попытается утаить свой товар, то немедленно арестовать [134]. Узнал Комитет, что в Марселе существует в некоторых магазинах сера, сейчас же новый декрет: объявить серу под реквизицией и перевезти в надежное место («pour qu’il reste sous la main de la République»), a собственникам уплатить по максимуму [135].
Один из очень немногих уцелевших заводов, выделывавших между прочим квасцы и серную кислоту, принадлежал Албану (Alban), власти (комиссия земледелия и искусств), понимая, что его в высшей степени было важно оградить от гибели, ввиду того что именно он снабжал главным образом чуть не всю французскую индустрию этими продуктами, очень интересовались вопросом, как обстоят его дела; и несмотря на это, хотя владелец завода указывал, что ему недостает селитры и просил дать из казенных складов, он получил решительный отказ ввиду полной невозможности для правительства пожертвовать хоть частью этого материала [136]. Еще была некоторая возможность доставать селитру из Швейцарии, уж теперь правительство ничего против этого не имело бы, напротив, приветствовало бы приток столь нужного продукта, но закон о максимуме делал закупку селитры за границей абсолютно немыслимой: ведь швейцарскую селитру пришлось бы получать по рыночной цене, а выработанные продукты продавать во Франции по максимуму; выручка не покрыла бы расходов на сырье; фунт квасцов стоил им самим 30 су, а продавать его пришлось бы за 8 су, и единственное, о чем просит хозяин мануфактуры, это об изъятии его товара из-под действия максимума [137].
В ноябре 1794 г. Комитет общественного спасения уже требует от члена Конвента, находящегося при северной армии, чтобы он немедленно принял меры для снабжения Франции возможно большим количеством квасцов, выделываемых в Бельгии, ввиду огромной важности этого продукта для разных отраслей промышленности и прежде всего для выделки кожевенных изделий [138] (hongroyeurs). Одновременно представители Конвента, находящиеся при оккупационных армиях, спешат уведомить Комитет общественного спасения о приемах, практикуемых в Бельгии, в Германии, в Голландии при добывании нашатыря [139], белил и т. д.
6. Обработкой сахарного песка заняты были большие портовые города, непосредственно получавшие сырье из колоний. Нечего и говорить, что максимум, убивший колониальную торговлю, весьма серьезно подкосил и сахарную промышленность. Там, где у нас есть сколько-нибудь точные данные о состоянии сахарной промышленности в конце Конвента и во времена Директории, эти данные всецело подтверждают безотрадный вывод об общем положении французской индустрии в этот период.
26 фримера III года (16 декабря 1794 г.) национальный агент в Марселе объявил сахар в реквизиции и потребовал данных о состоянии сахарной промышленности в этом городе. Вот что оказалось: в Марселе числится 15 сахарных или рафинадных фабрик, из них одна (Roubeau) «малодеятельна вследствие недостатка сырья», другая (Garnier) «действует», остальные тринадцать не действуют. Четыре запечатаны («inaction, sous les scellés»), одна лишена орудий производства («inaction, sans ustensiles»), хозяин другой эмигрировал («inaction, émigré»), остальные просто не работают, без объяснения причин [140].
7. Правительство с большим трудом могло помочь себе самому в том, что для него являлось наиболее существенным. Оружейные и железоделательные мануфактуры жестоко страдали от недостатка сырья. Одна из тех отраслей промышленности, которые ни в каком случае не нуждались в сбыте в эти годы, — выделка оружия — страдала от недостатка железа и страдала до такой степени, что, например, в декабре 1793 г. большие мастерские Лефрансуа (в Нормандии), уже имея заказ от правительства на 5 тысяч солдатских котлов, вынуждены были прекратить работы вследствие совершенного отсутствия железа [141].
Другой пример еще поучительнее. В городе Тюлле (департамент Коррез) существовала большая оружейная мануфактура. По весьма понятным причинам рассматриваемая тут эпоха для оружейной мануфактуры была золотым временем: до начала революции мануфактура выделывала 5 тысяч штук холодного и огнестрельного оружия в год; в 1790 и 1791 гг. требования возросли настолько, что пришлось выделывать 7200, в 1792 г. — 7700. Наконец, в 1793 г. Комитет общественного спасения приказал усилить производство до самых крайних пределов, стали выделывать по 15 тысяч и более; предприниматели купили три новых мастерских, дома, землю и так далее, чтобы их дело никаких стеснений не испытывало. Положение было таково, что верный и колоссальный сбыт, постоянные заказы от правительства были вполне обеспечены, и чем более затягивалась и осложнялась война, тем более блестяще шли дела мануфактуры. Но тут-то и сказались препятствия, столь характерные для всей французской индустрии: во-первых, не хватило обученных рабочих, но еще большей бедой явилось отсутствие сырья; оказалось, что, даже когда будет достаточное количество рабочих, все равно больше 20 тысяч штук в год ни в каком случае изготовлять нельзя, несмотря ни на какие приказы Комитета общественного спасения. Сырье далеко и дорого, перевозочные средства плохи, и ничего с этим поделать нельзя [142]. В 1792 г. при этой мануфактуре открылась сталелитейня, которая была тогда, по официальному признанию, единственной во Франции (существовавшая еще в 1789 г. сталелитейня в Амбуазе пришла в упадок, а большое железоделательное заведение Муару, тоже называвшееся «сталелитейней», только производило опыты по выделке стали; см. выше стр. 310–312). И в 1794 г. еще они нуждались в стали, и в следующие годы, до конца Директории; каменного угля того качества, которое необходимо, у них тоже нет [143]. И эти обстоятельства ставят предпринимателей оружейной мануфактуры, несмотря на совершенно исключительные благоприятные условия в смысле сбыта, в такое положение, что им против воли приходится остановить дальнейшее развитие производства. И всесильный Комитет общественного спасения ничего не может для них сделать, хотя прямо заинтересован в возможно большем расширении этого предприятия.
В Руане и во всем департаменте Нижней Сены уже в конце 1793 г. ощущался жестокий недостаток в железе и железных орудиях, несмотря ни на какие реквизиции. И именно земледелие больше всего страдало от этого, как жалуются современники [144].
В Дьеппе нет ни угля [145], ни железа [146], и единственным выходом является, по мнению местных властей, реквизиция; но и в реквизицию они сами, судя по переписке, плохо верят.
Отсутствие нужного для работ материала, прежде всего леса, вырубленного населением окрестных деревень, заставило уже в 1793 г. сильно сократить производство и хозяина большого железоделательного заведения в департаменте Изеры — Луи Муару [147]. Много других заведений, менее крупных, уже в начале 1794 г. погибло. Нет леса, но нет и каменного угля, и на этот недостаток не перестают жаловаться, не перестают ломать себе голову, чем бы заменить уголь [148].
Правительство готово было наложить сколько угодно реквизиций, чтобы достать сырье для нужных ему железоделательных мануфактур, но тут-то и обнаруживалось, до какой степени обоюдоострое оружие представляют собой реквизиции.
История заведения Муару показывает это как нельзя более ярко. Железоделательная мануфактура Муару в департаменте Изеры, как только что сказано, сильно уже в 1793 г. сократившая свое производство вследствие недостатка топлива, вынуждена была к концу 1794 г. вовсе закрыться из-за максимума и реквизиций; ему, например, приказано было Комитетом общественного спасения в 1794 г. изготовить 20 тысяч сабель для кавалерии, а заплачено было ассигнациями и по ценам, совершенно разоряющим владельца, так что он не мог и заказа этого окончить. Не успел он оправиться от этого удара, как его постиг другой: опять реквизиционным порядком приказано было ему изготовить большой заказ для артиллерии, а заплатили всего около одной седьмой условленной суммы. Тогда он должен был закрыть свое заведение [149], а это была едва ли не самая значительная из железоделательных мануфактур во Франции.
Таким образом, реквизиции, бессильные добыть сырье, были достаточно сильны, чтобы погубить любую мануфактуру.
Все естественные, так сказать, причины дороговизны леса давали себя чувствовать гораздо острее именно со времени издания закона о максимуме.
Люди, прикосновенные к железоделательной промышленности, жалуются иной раз на то, что, если при громадных площадях леса во Франции ощущается такой сильный недостаток в топливе, виноваты в этом расстояния, дурные дороги, неорганизованность и дороговизна транспортирования леса [150]. Эти причины, конечно, должны были оказывать еще большее влияние, когда начались реквизиции лошадей и перевозочных средств и когда началось систематическое уклонение перевозчиков от занятия своим промыслом вследствие нежелания подчиняться максимальным ценам.
Даже энергия изобретателей направляется больше всего на борьбу против недостатка топлива. Парруас представляет проект, по которому расходы на топливо в кузницах уменьшаются на 50 % [151]; владелец кузниц близ Намюра (Жомен) представляет в 1795 г. свое открытие касательно обработки железа, причем также обещает огромную экономию топлива [152], об этом же говорит и другой изобретатель, который в том же 1795 г. представил свой мемуар об усовершенствованиях в пушечном производстве; сам он был хозяином мастерской для выделки пушек в Вернейле [153]. Члены Конвента, командированные в Брест и Лориан, с восторгом доносят Комитету общественного спасения, что некто Рошон нашел способ заменить недостающий республике каменный уголь (получавшийся до войны отчасти из Англии) торфяным углем и что этот суррогат вполне может заменить для всех отраслей индустрии английский уголь, только будет несколько медленнее идти работа в мастерских и кузницах [154]. В 1798 г. заведующие кузнечными мастерскими в Бельфоре обращают внимание министерства (внутренних дел) на немца Jaeger-Schmidt, который изобрел способ экономизировать топливо при работе [155], и просят прикомандировать его с назначением жалованья от казны к бельфорским кузницам.
Недостаток материалов для игольной индустрии, для выделки проволоки и т. п. не перестает тревожить население и правительство в течение всего рассматриваемого периода. Когда начались завоевания западных областей Германии, то французы с громадным интересом следили за тем, возможно ли из той или иной завоеванной местности извлечь нужное сырье или вообще нужные для обрабатывающей промышленности материалы. Поэтому едва только армия Самбры и Мезы заняла город Штольберг (близ Ахена), как Робержо, член Конвента, находившийся при армии с официальной миссией, спешит донести Комитету общественного спасения в длиннейшем и подробнейшем послании, что из всей завоеванной местности этот город — единственный, где выделывается проволока; что там есть 38 мастерских, которые получают сырье из Норвегии, из Венгрии, из восточных стран, из Корнуэльса в Англии, из некоторых стран Германии и перерабатывают его. Робержо настаивает на том, что именно из-за этого необходимо Штольберг во что бы то ни стало удержать за Францией [156].
Меди было еще меньше, чем железа. Поэтому в самом деле начавшиеся завоевания были своего рода манной небесной для французской промышленности, но вовсе не в том отношении, что они расширяли рынок сбыта (об этом в 1794–1799 гг. вовсе еще не говорят), а прежде всего вследствие прилива сырья, недостаток которого так жестоко чувствовался. «В то время, когда наши армии только что завоевали Ахен и его окрестности, мы узнали, что вся медь, находившаяся в Штольберге… была объявлена под реквизицией представителями народа (т. е. членами Конвента, находившимися при армии). Мы тогда большей частью были без единого ящика латунной проволоки», — пишут в конце 1794 г. (в коллективном заявлении) владельцы булавочных мастерских в городе Rules, [157]. Хотя объявление под реквизицией и было препятствием для них (по крайней мере непосредственной помехой), но все же самый факт завоевания давал им радостную надежду на получение сырья из завоеванной немецкой области, если не сейчас, то со временем.
8. Недостаток нужных материалов, прежде всего топлива, а также поташа, селитры, которая шла на выделку пороха, страшно подрывал также и стекольные мануфактуры. Был один момент (в сентябре 1794 г.), когда уцелела чуть не единственная большая стекольная мануфактура (в Турлавилле, близ Шербурга), которая даже Париж должна была снабжать стеклом, но и она не могла обойтись без крупной казенной субсидии [158]. В 1795 и следующих годах жалобы на исчезновение сырья не прекращаются. Положение стекольных мануфактур в этом отношении было особенно плохо потому, что их конкурентом являлось само правительство, отбиравшее реквизиционным способом для выделки пороха как раз те материалы, которые нужны были для фабрикации стекла, не обращая внимания на все представления со стороны фабрикантов, что это лишает стекольщиков работы [159].
Нет сырья и в департаменте Шер ни для стекольного производства, ни для обработки селитры [160], хотя до закона о максимуме выделка стекла продолжала там производиться.
Гибнут все по той же причине и южные стекольные мануфактуры, снабжавшие бутылками и посудой Прованс и Лангедок [161].
9. Мы видели, что бумажное производство принадлежало к тем отраслям промышленности, которые уже в 1792 г. начали испытывать затруднения из-за недостатка сырья.
Со времени издания закона о максимуме и тут положение быстро и резко ухудшается. С конца 1793 г. к упорно повторяющимся жалобам на отсутствие материалов для бумажного производства присоединяются просьбы, чтобы власти сделали продажу тряпья обязательной, ибо тут одним распоряжением о максимуме помочь невозможно. Фабриканты просят, чтобы было приказано каждые 15 дней делать заявления муниципалитету о количестве тряпья, которое данное лицо может продать [162], другие указывают на необходимость ввиду этой беды тщательно собирать все тряпье, оставляемое армейскими частями, и направлять его в мануфактуры [163].
Жалобы на отсутствие тряпья, на невозможность получить его по ценам, установленным максимумом, продолжаются в течение всей эпохи господства этого закона. Местные власти, бумажные фабриканты наперерыв доносят, что нужных им материалов не то что по максимуму, а ни за какие деньги раздобыть нельзя [164].
Ни в Гавре, ни в Руане, ни в меньших городах северо-западной Франции бумаги уже в начале 1794 г. нет, и делопроизводство в местных присутственных местах от этого должно приостановиться. Маленькие города обращаются за помощью к большим, но те сами не знают, где им достать бумагу [165].
Владельцы бумажных мануфактур один за другим прекращали вовсе производство вследствие полного отсутствия нужных материалов [166]. Но правительство нуждалось в сохранении хоть нескольких мануфактур для печатания ассигнаций, для печатания законов и других официальных актов, для присутственных мест и т. д.; поэтому гнетуще необходимо было принять самые решительные меры для борьбы со злом. 30 ноября 1793 г. комиссия снабжения припасами обратилась к патриотам с воззванием, в котором увещевала их поэкономнее тратить бумагу на письма, сохранять исписанную и печатную бумагу, потому что из нее можно выделать новую и т. д. Комиссия указывала на огромную важность вопроса о грозящем отсутствии бумаги и делала это в самых патетических выражениях [167].
Но опасность все росла. Тогда (1 апреля 1794 г.) Комитет общественного спасения в один день издал два распоряжения: первое — об обязательном собирании и сохранении тряпья в госпиталях и т. д., и второе, возлагавшее на всех граждан обязанность ежемесячно доставлять в указанные места по крайней мере по одному фунту тряпья, причем с каждой семьи требовалось столько фунтов, сколько есть членов семьи [168].
Хотя приказ исполнялся беспрекословно (в провинциальных архивах, например в архиве Нижней Сены, в архиве Луарэ, в архиве Индры и Луары, сохранились бесконечные записи «граждан, доставивших тряпье», ибо им велась строгая регистрация), но бумажное производство все-таки страдало. Комиссия снабжения припасами грозно напоминала местной администрации, что приказы правительства должны не только исполняться, но срочно исполняться [169].
Однако бороться с силой обстоятельств оказывалось невмоготу и Комитету общественного спасения. Приказано было собирать тряпье, но, чтобы свозить его на мануфактуры, нужны были перевозочные средства, а перевозчики прятались, чтобы не работать по максимуму. Когда же их выискивали, они заявляли, что взяты властями в реквизицию. И вот владелец одной из самых больших бумажных мануфактур во Франции, Монгольфье, в Beaujeu, в департаменте Роны, не имея возможности нанять перевозчиков, сам заводит лошадей и повозки. Но тут власти берут этих его лошадей и повозки в реквизицию. Монгольфье просит Комитет общественного спасения оставить ему эти перевозочные средства, потому что иначе он должен будет прекратить производство. Целые томы теоретических рассуждений о максимуме и реквизиции не вводят нас так в сущность вопроса, не дают такого ощущения жизненной реальности, такого понимания всей обстановки, среди которой жила французская индустрия в рассматриваемую эпоху, как эти две выцветшие страницы прошения Монгольфье [170]. А что вопрос о том, как бы избавить от реквизиции хоть эти перевозочные средства, без которых бумажные мануфактуры должны будут остановиться, что вопрос этот вовсе не одного только Монгольфье заставлял крепко задуматься, показывает нам другая аналогичная по смыслу бумага, исходящая от администрации целого департамента [171].
Хотя и в скудных количествах, но бумага производилась; — фабриканты, однако, угнетаемые максимумом, старались производить исключительно бумагу низшего качества; всякий работавший во французских архивах, знает, какая поражающая разница между бумагой, на которой написаны многие документы 1793–1795 гг., и бумагой предшествующей и последующей эпохи. Грубейшие сорта серой оберточной бумаги не всегда могут дать представление об этом материале.
Правительство должно было, чтобы добиться более пригодной бумаги, уклониться от первоначальной расценки.
Эта необходимость считаться с полным падением качества производства заставила Комитет общественного спасения (еще при Робеспьере) издать после жалоб потерпевших фабрикантов и указаний комиссии торговли особое постановление, касающееся высших сортов бумаги; установленная раньше в общих таблицах расценка повышалась. Конечно, и это повышение было произвольным, размеры его устанавливались довольно случайно, и можно сомневаться, привела ли эта поправка к желаемым последствиям, но нас тут интересует лишь то, что сам Комитет сознавал невозможность выдержать нивелирующий принцип, легший в основу закона о максимуме [172]. И даже в эти страшные времена, в последние месяцы Робеспьера, фабриканты осмелились однажды заявить в своем прошении, что именно закон о максимуме губит «высшее производство» [173].
10. Не менее, чем вопрос о бумаге, беспокоил правительство и вопрос об исчезновении сырья, нужного для кожевенного производства.
Комиссия торговли писала грозные циркуляры по поводу «спекуляций» мясников, предпочитающих прятать сырые кожи, нежели продавать их кожевникам для выделки; мясникам приписывались «преступные побуждения», администрация призывалась к беспощадной суровости, говорилось о народной мести против изменников [174], но ничего не помогало.
Реквизиции и тут оказывались бессильны.
Затруднения с реквизицией и максимумом необычайно путали всю коммерческую деятельность страны, и правительство тщетно боролось с неисходными противоречиями, которые жизнь выдвигала на каждом шагу. О том, как шла в этой именно области борьба между интересами населения и интересами армии, я уже рассказал в начале настоящей главы, характеризуя вообще практику реквизиций. Здесь отмечу иную сторону дела. В своем стремлении избегать необходимости подчиниться максимуму как владельцы сырья, так и кожевники были неистощимы в своей изобретательности. Кожевники, конечно, не смели предлагать правительству свой товар не по максимальной цене, а, кроме того, сплошь и рядом выделанные кожи объявлялись в реквизиции, следовательно, и вообще нельзя было думать ни о каком ином покупателе, кроме правительства. Прекратить производство без объяснения причин сопряжено было, как уже сказано, с грозной опасностью быть объявленным «подозрительным» и попасть в тюрьму, а может быть, и на эшафот. Но тут им на выручку приходили поставщики сырья, т. е. мясники и торговцы сыромятными шкурами. Они обязаны были продавать кожевникам свой товар тоже по ценам, установленным в максимальных таблицах, и тоже изо всех сил желали этого избежать. И вот поставщики сырья объявляли, что их товар находится якобы в реквизиции (хотя на самом деле сырье правительству не было нужно), а потому продано частным лицам быть не может. Доказать лживость этих утверждений, доказать, что реквизицию тут именно и нужно понимать как обязанность продать сырье местным кожевникам, конечно, было бы в каждом данном случае очень легко, ибо кожевник-покупатель мог бы потребовать официального удостоверения или просто пожаловаться властям; но сами кожевники желали ухватиться за любой предлог, чтобы не работать себе в убыток, и к обоюдному удовольствию покупка сырых шкур на основании подобного голословного заявления продавцов расстраивалась. Хотя подобное происходило и в целом ряде других отраслей промышленности и потребители жестоко от этого страдали, но тут страдал прежде всего самый крупный потребитель, военное ведомство, и нужно было предпринять какие-нибудь меры. 31 июля 1794 г. комиссия, заведывавшая снабжением припасами, издала циркуляр ко всем администраторам округов [175]. «Граждане, — пишет комиссия, — мы со всех сторон получаем жалобы [176] кожевников, которые не могут запастись сырой кожей, и, по-видимому, всюду они наталкиваются на заявление о реквизиции. Напрасно мы писали жалобщикам, что не существует законной и от нас исходящей реквизиции на такого рода кожу; затруднения, на которые жалуются кожевники, не прекращаются». Категорически заявляя, что сырая кожа не находится в реквизиции, и что продавцы обязаны ее продавать, комиссия не находит никаких иных средств бороться со злом, как приглашая публику и администрацию усилить бдительность и доносить неукоснительно на всех тех, которые будут умышленно уклоняться от продажи имеющегося у них сырья. Безнадежность такого рода приема борьбы бросается в глаза: ведь жалоба или донос прежде всего именно и могли изойти от кожевников, главных покупателей сырой кожи, а они, как сказано, всецело сочувствовали обману и покрывали его. И, конечно, дело осталось и после этого циркуляра в столь же печальном положении, как до того, и заключительное пожелание комиссии осталось оптимистической, по совершенно бессодержательной фразой [177].
Из сырья, необходимого для кожевников, еще ощущался сильный недостаток (особенно с 1793 г.) в дубовой коре (для дубления). В 1794 г. было признано, что виновата в этом «злонамеренность» (la malveillance des riches) богатых владельцев лесов, которые прекратили работу с тех пор, как должны продавать древесную кору по максимуму. На этом основании, принимая во внимание жалобы кожевников, Комитет общественного спасения издал декрет, предписывающий собственникам лесов приступить к рубке леса, к снятию дубовой коры, под страхом конфискации их лесов [178]. Было, как уже замечено в начале этого параграфа настоящей главы, предоставлено дубильщикам добывать себе кору из лесов тех владельцев, которые будут уклоняться от продажи этого продукта; именно это распоряжение я и привел как пример решительного, но все-таки не достигшего цели мероприятия. В течение 1794–1799 гг. и даже дальше кожевники не перестают жаловаться на отсутствие как материалов, нужных для дубления, так и сырых кож.
А между тем кожа принадлежала к категории таких материалов, без которых правительство ввиду войны абсолютно не могло обойтись, и поэтому ее приходилось с огромными материальными затратами раздобывать на казенный счет и с прямым убытком уже от казны продавать (по максимуму) кожевникам для выделки. У нас есть официальное свидетельство, что в 1794 г. правительство доставляло кожевникам три четверти нужного им сырья, покупая его отчасти за границей за собственный счет [179]. И ряд отдельных указаний говорит нам, что и в течение всего периода Директории правительство не переставало являться очень крупным поставщиком сырья (конечно, заведомо себе в убыток) [180].
В течение всей рассматриваемой эпохи, добавлю кстати, и даже при Консульстве и Империи кожевенная промышленность чувствовала недостаток в сырье, и весьма характерно, что, когда (уже при Империи) война 1807 г. окончилась благополучно, кожевенный фабрикант Дерюбиньи (которого нам уже приходилось цитировать и который в течение всей революционной эпохи неоднократно обращался к властям по поводу тех или иных нужд кожевенного производства) напечатал нечто вроде хвалебного слова Наполеону, причем просил победоносного императора потребовать от Александра I 60 тысяч коровьих и 20 тысяч телячьих шкур, «в которых нуждается истощенная Франция» [181].
Но никогда этот недостаток так жестоко не ощущался, как именно в эпоху максимума.
* * *
Закон о максимуме изгнал сырье с рынков, погубил индустрию — жалуются и представители отдельных отраслей промышленности, и представители целых районов. Яркой картиной, которую рисуют вскоре после отмены максимума промышленники западной Франции, я и дополню настоящий параграф этой главы.
Промышленники и торговцы Сомюра, которые говорили о положении вещей в трех больших провинциях (Вандее, Анжу и Пуату) — в 80 больших и малых городах и селах этих провинций, решительно считают максимум наряду с вандейской войной и усмирением коренной причиной гибели промышленности, состояние которой еще в начале 1792 г. они находили «блестящим»; максимум они, подобно многим, совершенно не отделяют от реквизиций. Продукты прятались, товары прятались, спекулянты вчетверо и впятеро получали за все, что силой вырывали у законных владельцев [182]. Выборные члены торгового бюро города Сомюра, которые пишут этот доклад правительству, рисуют очень мрачную картину; по их словам, индустрия в стране совершенно уничтожена; совсем уничтожено, например, производство оливкового масла, ибо по максимальным ценам абсолютно немыслимо было его продавать. И тут, как и в других местах, торговать было невозможно настоящим профессиональным торговцам, за которыми следили, а те, которые тайком промышляли торговлей, прекрасно обходили закон о максимуме: кузнец торговал материей, сапожник — кофе и сахаром, булочник — водкой и вином [183] и т. д. Процветала меновая торговля, происходившая в трактирах, и зачастую одна и та же вещь в несколько минут меняла владельцев: таким путем избегали подчинения максимуму [184]. И занимались этого рода меновой торговлей именно рабочие, это подчеркивает и отмечает наш документ [185]. Только отмена максимума позволила вздохнуть свободно, уверяют авторы доклада: сразу появились спрятанные припасы, все подешевело, но тем не менее индустрия осталась в состоянии летаргии во всей этой стране [186].
Когда закон о максимуме был отменен, предметом «спекуляций» сделались ассигнации.
И не только из Сомюра шли вести, что именно рабочие принимали большое участие в этих ежедневных «спекуляциях» и «ажиотаже». Бюро торговли, состоявшее при Комитете общественного спасения, летом 1795 г. в своем докладе Комитету о состоянии торговли во Франции с раздражением указывало, что именно рабочие и ремесленники занимаются скупкой и продажей товаров, надеясь разжиться на повышении или понижении ценности ассигнаций. Бюро весьма раздраженно пишет об «алчности» этих спекулянтов [187]; оно изображает дело так, что рабочие и ремесленники бросают работу, для того чтобы отдаться «спекуляциям». Все наши документы рисуют картину такого упадка всех главных отраслей промышленности, что правильнее будет переставить причину и следствие; эти грошовые «спекуляции» были (или казались) одним из очень немногих шансов избежать голодной смерти от безработицы. Не потому пустовали мануфактуры, что рабочие погрузились в «ажиотаж», а потому так заметно стало участие рабочей бедноты в этих спекуляциях, что мануфактуры погибали одна за другой. Но если это нужно сказать относительно спекуляций как в эпоху максимума, так и в позднейшее время, то одну черту приходится подчеркнуть относительно спекуляций в эпоху максимума. Что именно рабочий люд активно участвовал в незаконной перепродаже по цене больше максимальной предметов первой необходимости, купленных по максимуму, это объясняется также том, что смертельная опасность, грозившая в 1793–1794 гг. за подобные проделки, не была в некоторых местах столь неотвратима для рабочего, как, например, для всякого купца. Если не повторять даже того, о чем уже говорилось выше (относительно более зоркого присмотра за профессиональными купцами), рабочий в конце 1793 г. и вплоть до 9 термидора 1794 г., даже попавшись, пока дело не дошло до суда, скорее мог избавиться от эшафота или от тюрьмы, чем другой; «революционные комитеты», «собрания секций» — все это было в указанные месяцы заполнено представителями городской бедноты, теми же рабочими, и у нас есть указания, что это обстоятельство очень учитывалось заинтересованными.
Это участие в «спекуляциях», конечно, ни в малой степени не могло вознаградить рабочий класс, взятый в целом, ни за те невзгоды, которые он претерпел в эпоху максимума наравне с другими неимущими городскими потребителями, ни за отсутствие работы вследствие остановки целого ряда промышленных заведений.
Но это еще было не все. Не только в качестве потребителей и не только от безработицы страдали рабочие в эпоху максимума. Посмотрим, в какое положение попали рабочие в качестве лиц, продающих свой труд.
Этим и будет закончено рассмотрение вопроса о том, как закон о максимуме и реквизиции повлияли на положение рабочего класса.
5
Бедствия рабочих в эпоху максимума и реквизиций не ограничивались полным бессилием закона удешевить жизнь и пагубным влиянием его на обрабатывающую промышленность: и максимум, и реквизиции в одном весьма важном отношении оказались прямо против рабочих направлены. Рабочий есть продавец такого товара, который называется трудом; в качества продавца и обладателя этого товара он подчинен таксации и подлежит реквизициям. Эта точка зрения твердо выдерживалась и Комитетом общественного спасения, и всеми прочими властями. И если вообще история максимума еще не написана, то, в частности, не известна та своеобразная страница ее, которой я хочу (в § 6) закончить настоящую главу. Я вполне убежден, что общая оценка руководящих течений эпохи 1793–1794 гг. должна будет считаться с фактами, о которых сейчас пойдет речь, и что при этом окажется необходимым произвести некоторый пересмотр вопроса как о природе демократизма правящих лиц эпохи, так и о степени реальной силы в эти годы демократических элементов населения и прежде всего рабочей массы.
Впрочем, не будем предвосхищать выводы и предоставим пока слово фактам.
Характерно, что, еще когда только подготовлялся общий закон о максимуме, из провинции уже доносились до Конвента голоса, требовавшие, чтобы и рабочий труд также подвергся нормировке, и чтобы рабочие были подчинены особой максимальной таксе; так, об этом еще в августе 1793 г. просило республиканское общество коммуны Сен-Флорантен (в департаменте Йонны) [188].
В общем законе о максимуме особая статья уполномачивает муниципальные власти объявлять о реквизиции и, кроме того, наказывать трехдневным заключением всех рабочих, которые «без законных причин» откажутся работать у своих хозяев [189]; а другая статья распространяет закон о максимуме на заработную плату [190] и устанавливает принцип расценки: заработная плата по максимуму должна быть в полтора раза больше, нежели была в 1790 г. Так как в разных местах плата была разная, то исчислить ее размеры для каждого данного места предоставлялось местным властям.
Среди мнений, раздававшихся в 1793–1794 гг. относительно максимума, я могу привести только одно (других не знаю), где рекомендуется не таксировать заработной платы. Это мнение принадлежит члену Конвента Isoré [191], и высказал он его в сентябре 1794 г.
«Цель максимума, по-моему, та, чтобы поставить преграду алчности купцов и владельцев продуктов земли, но не та, чтобы уменьшить заработок рабочего, работающего посдельно или поденно: часть граждан не имеет права налагать максимальную таксу на другую часть, которая работает на них». Но исключение он делает для государства как работодателя: республика имеет полное право реквизиционным образом забирать нужных ей рабочих и заставлять их работать по таксе.
Но этот частичный протест ни малейшего успеха не имел. С самого начала господства закона о максимуме рабочий труд таксировался наравне с предметами потребления. Документы этого рода (о таксации труда) попадаются несравненно реже, чем те, которые относятся к таксации предметов потребления. Самые полные сведения имеются относительно столицы.
В силу статьи 8 закона от 29 сентября 1793 г. совет парижской коммуны распубликовал немедленно после издания этого закона тариф, в котором произвел расценку заработной платы. В этом тарифе приведены: 1) цены 1790 г. и 2) цены, устанавливаемые впредь по максимальной таксе. Приведем из этого тарифа некоторые данные [192].





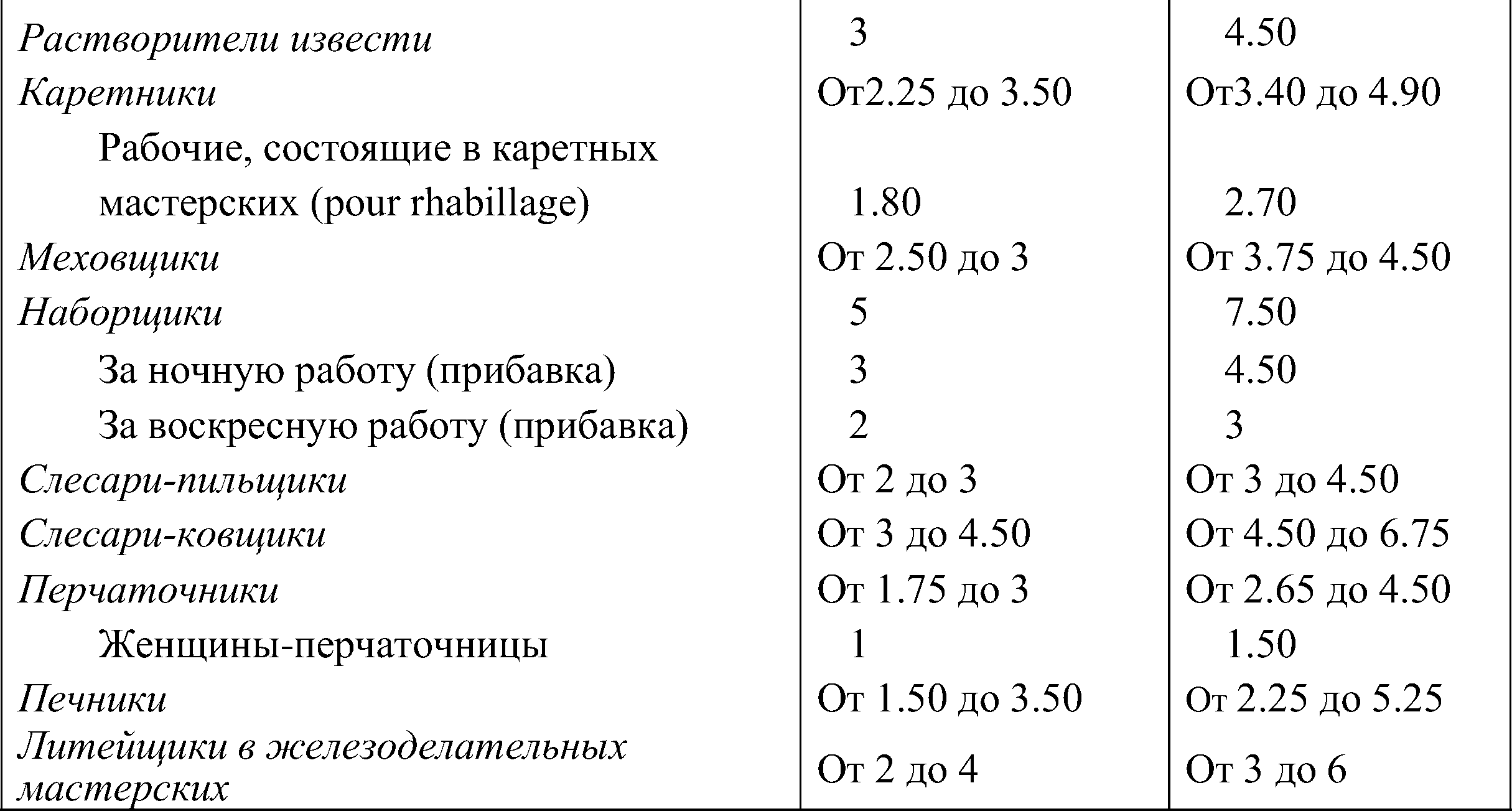
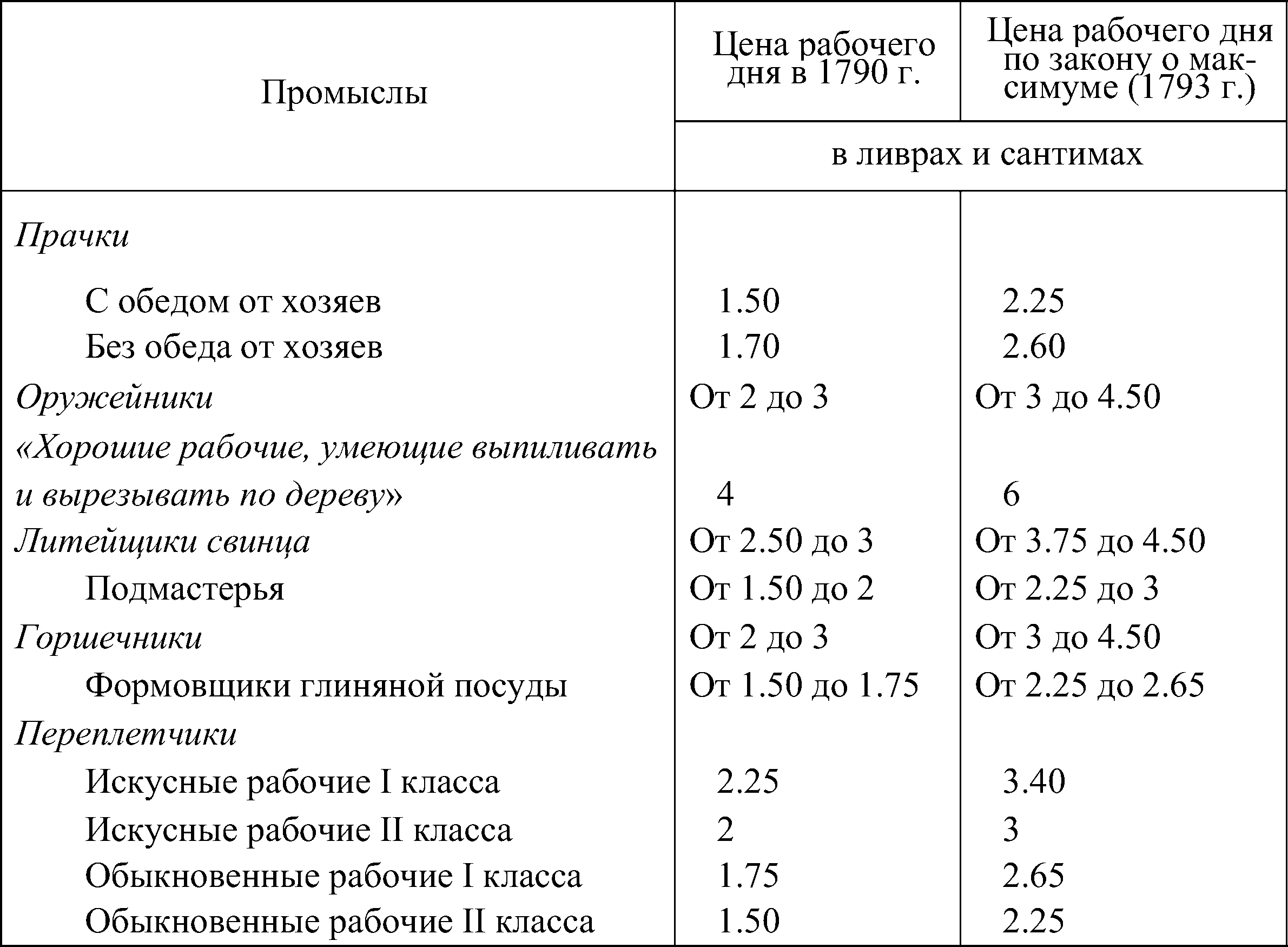
Таковы показания таблицы относительно рабочих, которые получают поденную плату. Получать плату поденно, а не сдельно было мечтой всех рабочих с первых лет революции, но далеко не во всех промыслах им удалось этого достигнуть.
После того, что было нами уже сказано относительно организации французской промышленности до и во время революции, незачем повторять, почему именно сдельная расплата должна была преобладать в ряде промыслов; фабрикант, заказывающий рабочему работу, которую тот должен исполнить на дому, как это, например, было в текстильной индустрии, конечно, должен был предпочесть сдельную расплату поденной. Та же таблица дает далее для шерстяной промышленности, для ряда других промыслов цифры, касающиеся расплаты за определенное количество сработанных фабрикатов. Для нашей цели, для определения дневного заработка рабочего, эти цифры никакого прочного базиса не дают, ибо даже приблизительно не указывается времени, которое рабочий должен употребить для работы над данной вещью. Что можно извлечь из такого, например, показания, что за выделку шерстяной шапки в 1790 г. платилось рабочему от 1 до 2 ливров, а отныне (с 1793 г.) должно платиться от 1 ливра 50 сантимов до 3 ливров? Или, что за «шерстяное одеяло, весом в 11 фунтов» рабочий получал в 1790 г. 1 ливр 70 сантимов, а теперь должен получать 2 ливра 55 сантимов? Или, что за пряжу 13 фунтов шерсти в 1790 г. платилось 3–4 ливра, а теперь должно платиться от 4 ливров 50 сантимов до 6 ливров? Или, что за выделку «дюжины больших кокард» платилось в 1790 г. 12 ливров, за дюжину «средних» — 10, за дюжину «маленьких» — 8 ливров, а теперь должно платиться: 18, 15 и 12 ливров?
Мы знаем только, что рабочие, получавшие плату посдельно и всегда жаждавшие поденной расплаты, жаловались иногда, что они зарабатывают 2/3—½ того, что могли бы получать при поденной расценке. Но, повторяем, никакого прочного общего базиса для исчислений тут у нас нет. Только там, где приведены цифры и поденной, и посдельной платы для одного и того же промысла, мы можем делать приблизительные исчисления, сколько времени требовалось для той или иной работы. Например, рабочие-портные у одних хозяев работали поденно, у других посдельно. По показаниям нашей таблицы, портной получал в 1790 г. за день 2 ливра (в 1793 г. должен получать 3 ливра), а у хозяев, где была принята посдельная плата, рабочий получал (в 1790 г.) за сюртук 2 ливра, за жилет — 1 ливр 50 сантимов, за брюки — 2 ливра (в 1793 г. — 3 ливра, 2 ливра 25 сантимов и 3 ливра). Выходило, как будто, что изготовление этих трех вещей должно было бы потребовать у рабочего несколько менее трех дней труда. Но мы знаем (ср. первую часть), что портные между прочим жаловались на свою участь еще в 1789 г. и прежде всего были недовольны именно сдельной расценкой труда. Если же допустить, что изготовление вышеуказанных вещей требовало не трех, а четырех дней работы, то выходило, что портные получали в день меньше 1 ливра 40 сантимов.
Не говоря уже о том, что при показаниях относительно сдельной платы мы не можем определить сколько-нибудь точно реального дневного заработка рабочего, составители нашей таблицы сами явственно теряются среди технических деталей и оставляют широчайший простор для толкований со стороны хозяев. Есть пять родов сапогом, и рабочий получает (в 1790 г.) от 3 до 8 ливров за пару, а отныне должен получать от 4 ливров 50 сантимов до 12 ливров. Еще больше колебаний в расценке разных сортов шерстяных и бумажных чулок, шапок, шляп, поясов, щеток и т. д. Все это делает показания относительно сдельной платы крайне мало пригодными для определения реальной заработной платы.
Зато разбираемая таблица содержит некоторые данные, в высокой степени для нас ценные, и ценные именно с той точки зрения, что они позволяют нам составить себе некоторое понятие о бюджете рабочего в 1790 и в 1793 гг.
Нужно сказать, что попытки определить бюджет рабочего делались еще в 1790 г.: я нашел в «Moniteur» (от 17 сентября 1790 г.) небольшую статью (Régnier), в которой автор исчисляет, что в среднем рабочий зарабатывает в Париже от 26 до 30 су в день, а расходы его выражаются в таких цифрах: 2 фунта мяса (в день) — 18 су, 3 фунта хлеба — 9 су, на одежду — о су, итого 29 су в день. Автор даже выражал пожелание, чтобы законодательным путем была установлена минимальная такса заработной платы: минимум дневного заработка должен всегда равняться цене трех фунтов хлеба лучшего качества + цена двух фунтов мяса + еще 2 су на одежду, и этот минимум должен изменяться по мере изменения цен на мясо и хлеб [193]. Конечно, говорить о произвольности этих исчислений излишне, и сам автор признает, что он берет нарочно двойное количество мяса и хлеба, ибо нужно же рабочему платить за квартиру, кормить семью и т. д.; но почему он считает возможным путем этого удвоения определить расходы на квартиру и на семью, почему он исчисляет расходы на одежду в 2 су в день, он не говорит. Во всяком случае это — мнение современника о бюджете рабочего и мнение, высказанное им в заседании «общества земледелия», интересовавшегося экономическими вопросами текущей действительности; при скудости каких бы то ни было показаний относительно этого предмета упомянуть о нем не излишне.
Вопрос о бюджете рабочего в конце XVIII в. осложняется еще и тем, что до сих пор нельзя сколько-нибудь точно установить реальное отношение тогдашней покупательной силы денег к нынешней.
По мнению (d’Avenel, покупательная сила денег в 1789 г. была в общем вдвое больше нежели в 1910 г.; Р. Sagnac полагает, что скорее уже можно было бы сказать, что в 1789 г. покупательная сила денег была втрое, а не вдвое больше. Со свойственной ему осторожностью Р. Sagnac замечает, что он вовсе не настаивает на точности своего исчисления, мало того, что он убежден в тщетности даже приблизительных сравнений такого рода [194]. И кто решится назвать подобный взгляд слишком пессимистичным? А между тем, если разнообразие, неоднородность изменений в покупательной силе денег становятся на дороге, когда исследователь хочет только определить средние цифры, выражающие эту покупательную силу, то во сколько же раз вырастают трудности, когда речь идет об определении бюджета того или иного класса общества на основании данных о заработной плате, с одной стороны, и о цене предметов потребления, с другой? Если даже относительно XIX–XX вв. приходится слышать от статистиков, что при определении бюджета исследователь оперирует не при помощи фактов, а при помощи мнений о фактах, то что же сказать о материалах XVIII в.?
Разбираемая максимальная таблица дает нам данные наиболее авторитетные, какие вообще при этих условиях только возможны: мы из нее узнаем, как исчисляли рабочий бюджет муниципальные власти, оперировавшие на основании показаний, шедших как со стороны хозяев, так и со стороны рабочих. Данных такого рода весьма немного в нашей таблице; тем внимательнее нужно к ним отнестись.
Меховщики (первого класса) получали в 1790 г. 3 ливра в день (а в 1793 г. должны были получать 4 ливра 50 сантимов). Но на полном содержании (помещение, стол, стирка белья nourri, logé, blanchi) они получали в 1790 г. 300 ливров в год (а в 1793 г. должны получать 450 ливров). Так как власти, составлявшие таблицу, всюду понимают рабочую неделю как 6 дней и считают лишь 52 праздника в году (воскресенья), следовательно, рабочих дней в году они считают 313, и меховщик первого класса, работающий без содержания от хозяев, должен был (в 1790 г.) зарабатывать (313 X 3) = 939 ливров в год. Следовательно, считалось, что полное годовое содержание рабочего-меховщика первого класса должно стоить (939–300) = 639 ливров в год.
Здесь кстати будет заметить, что при Консульстве (после конкордата) исчислялось, что рабочих дней в году 250 [195], и не нужно забывать, что, по многочисленным свидетельствам, старые церковные праздники начали праздноваться уже вскоре после падения Робеспьера, во второй половине 1794 г., несмотря на неодобрительное отношение властей к этому явлению.
Но предположим, что составители таблицы правы, что рабочих дней в году 313.
В 1793 г. при введении максимума власти считают, что без хозяйского содержания меховщик (первого класса) должен впредь получать (313 X 4½) = 1408½ ливров в год, а с содержанием от хозяев — 450 ливров в год; следовательно, по мнению муниципалитета, бюджет рабочего в 1793 г., после введения максимума, составляет (1408½–450) = 958½ ливров в год. Далее, меховщик второго класса в 1790 г. получал на полном содержании 250 ливров в год, а без содержания — 782½ ливра, значит, его бюджет предполагался равным 532½ ливрам в год; в 1793 г. на полном содержании он должен был получать 375 ливров, а без содержания — 1173 ливра 75 сантимов; значит, бюджет его предполагается равным (в 1793 г.) 798 ливрам 75 сантимам.
Кроме этих двух показаний, есть еще три, касающиеся рабочих бумажных мануфактур.
Рабочий первого класса с содержанием от хозяев получал в 1790 г. 300 ливров, а без содержания — 939 ливров в год; в 1793 г. он должен получать с содержанием 450 ливров, без содержания — 1408½ ливров. Значит, бюджет его для 1790 г. исчисляется в 639 ливров, а для 1793 г. — в 958½ ливров. Рабочий второго класса получал с содержанием 200 ливров (в 1790 г.), без содержания — 782½ ливра, а в 1793 г. с содержанием — 300 ливров, без содержания — 1173 ливра 75 сантимов, значит, бюджет его в 1790 г. составлял 582½ ливра, а в 1793 г. — 873 ливра 75 сантимов. Наконец, рабочий третьего класса на бумажных мануфактурах получал в 1790 г. без содержания 626 ливров в год, а с содержанием — 150 ливров; в 1793 г. без содержания — 939 ливров, с содержанием — 225 ливров; бюджет его, следовательно, для 1790 г. исчислялся в 476 ливров, а для 1793 г. — в 714 ливров. Больше у нас данных такого рода нет.
Сделаем сводку.

Таковы цифры рабочего бюджета, какие возможно вывести на основании разбираемой таблицы. При полном отсутствии других данных, при необычайной трудности и ненадежности всякого рода приблизительных исчислений на основании предполагаемых потребностей и так далее, нам в высшей степени важно познакомиться с тем, как исчислял муниципалитет на основании показаний рабочих и хозяев бюджет рабочих в 1790 г., в каких размерах власти считали возможным определять цифру бюджета рабочего в 1793 г., при введении максимума. Мы видим, что для разных категорий и цифры даются разные и что минимальная (из имеющихся у нас) цифра годового бюджета рабочего в 1793 г. предполагается равной 714 ливрам. Это бюджет людей, которые получают по максимуму 939 ливров в год, 3 ливра в день. Следовательно, получая 3 ливра в день, если предположить, что закон о максимуме в самом деле соблюдается (а власти именно из этого соображения и исходили) и что в году 313 рабочих дней, рабочий может просуществовать, и на содержание семьи, если она у него имеется, у него должно остаться 225 ливров, т. е. в 3 раза с лишком меньше, чем нужно для содержания одного человека. Но, обращаясь к нашей таблице, мы видим, что далеко не все получали — даже по максимуму — 3 ливра в день. Для таких положение должно было оказаться критическим, даже если у них и не было семьи. Мало того. Власти исчисляли, что в неделе — 6 рабочих дней, в году — 313. Но ведь мы из целого ряда свидетельств знаем, что далеко не все рабочие работали круглый год; например, рабочие, занятые строительными работами, землекопы, кожевники, красильщики, мыловары часть года предавались вынужденному бездействию, работы в этих промыслах в известное время года останавливались. Кроме того, как выше замечено, как до 1793 г., так (несмотря на все запреты) и после введения революционного календаря в 1793 г., кроме воскресений, праздновались под разными предлогами и при помощи ухищрений, ибо это было в 1793–1794 гг. опасно, некоторые церковные праздники (а в 1795–1799 гг. это уже делалось почти открыто). При этих условиях едва ли мы можем принимать, что действительно рабочий получал плату за 313 рабочих дней.
Итак, даже получая 3 ливра в день, рабочий мог прокормиться, только не имея семья. Но у нас в целом ряде случаев, где рабочему полагается (по закону о максимуме) 3 ливра в день, эта цифра поставлена не как минимальная, а либо как максимальная, либо в середине расценочной шкалы. В таких случаях, как и вообще при анализе этой таблицы, мы должны считать совершенно бесспорным фактом, что в подавляющем большинстве случаев реальное значение получили именно минимальные цифры. Оценка того, считать ли данного рабочего принадлежащим к «первому классу», или ко второму, или к третьему, считать ли его «habile», или «très habile», принадлежала всецело нанимателю. Колебания в оценке обусловливались не только степенью искусства, но и степенью силы; «les forts)», «les moins, forts», «les plus forts» — от этих обозначений именно и зависят указываемые в нашей таблице колебания заработной платы, и тут тоже решение вопроса всецело было предоставлено нанимающему хозяину. Все это уже a priori заставило бы нас придавать главным образом значение низшим цифрам расценки, если бы даже у нас не было прямых свидетельств, что дело обстояло именно так и что именно низшие цифры в течение всего времени существования максимума имели реальный смысл.
Принимая все это в соображение, мы воочию, так сказать, видим, что и минимальный годовой бюджет в 714 ливров был недостижим для многих рабочих уже с самого начала, т. е. с первых же дней после введения максимума, с октября-ноября 1793 г.
По этой наиболее полной парижской таблице можно составить себе некоторое представление о положении вещей в других местах.
У нас есть исходящее с официальной стороны указание, что в эпоху Директории заработная плата в Париже была выше, чем в провинции [196]. Хранящийся в архиве департамента Устьев Роны документ, относящийся к Марселю, отчасти лишь подтверждает это показание.
Вот некоторые цифры заработной платы, установленной согласно закону о максимуме для Марселя и марсельского округа в день:
Каменщики………. 4 ливра
Столяры……….. 3 ливра
Слесари………… 3 ливра 75 сантимов
Оружейники………. 4 ливра 50 сантимов
Плотники……….. 6 ливров
Бондари……….. 3 ливра 75 сантимов
Чернорабочие-поденщики…. 1 ливр 90 сантимов
Конопатчики………. 5 ливров 50 сантимов
Шаночники………. 3 ливра
Стекольщики……… 3 ливра 40 сантимов
Красильщики…….. от 77 до 90 ливров в месяц
Кузнецы……….. 2 ливра 50 сантимов
Седельники………. 3 ливра 75 сантимов
Ножевщики………. 5 ливров
Рабочие железоделательных мастерских……….. 4 ливра
Таковы цифровые данные этого порядка, сколько-нибудь обстоятельные, какие мне удалось найти. При довольно большом количестве таблиц, относящихся к предметам потребления, указания, касающиеся таксации заработной платы, крайне редки.
Но и они дают нам общее представление о положении вещей. Законодатель рассчитывал оказать известную льготу рабочим, устанавливая таксу на их труд в 1½ раза выше против 1790 г., а на предметы потребления — всего в 1/3 раза выше. Теоретически положение рабочих должно было стать лучше, нежели было в 1790 г. Но фактически, как выше отмечено, предметы потребления ускользали от подчинения таксации и продавались (сообразно с быстро прогрессировавшим обесценением ассигнаций) в 3 и 4, а в середине 1794 г. иногда и в 5, и в 6, и в 10 раз дороже, чем в 1790 г. Поэтому для рабочих подчинение таксе сделалось решительно невозможным: оно было для них хуже безработицы, ибо заставляло еще как бы зарабатывать в поте лица право на голодную смерть. И рабочие стали уходить.
Уже в первой половине 1793 г. усиливаются жалобы не только на крайнюю дороговизну сырья, но и на дороговизну и недостаток рабочих рук. При этом в высшей степени характерно следующее явление: в рабочих начинают нуждаться прежде всего мануфактуры, расположенные в чисто деревенских округах и дающие заказы на дом окрестному населению. Вот мануфактура шерстяных изделий, расположенная в коммуне По (Раи), в бедном горном департаменте Нижних Пиренеев. Ее владелец (Prudent) дает работу 600 рабочим обоего пола; уже весной 1793 г. оказывается следующее положение налицо: он терпит убытки, потому что дорого сырье и дороги рабочие, а между тем местные власти, горячо поддерживая его просьбу о вспомоществовании перед министром внутренних дел, ставят Prudent в особую заслугу, что, «невзирая на суровость обстоятельств, он дает средства к жизни такому же количеству рабочих, как и раньше» [197], и подчеркивают, что в их бедном департаменте эта работа на мануфактуре (или, вернее, на мануфактуру) имеет в высшей степени существенное значение и что даже большинство жителей По заинтересовано заработками от этой мануфактуры [198]. Во имя отчаянного положения, в котором очутится население По в случае закрытия мануфактуры Prudent’a, местные власти больше всего и хлопочут о субсидии. Но в таком случае как же примирить с этим фактом другой, не менее неопровержимый факт — крайнюю дороговизну рабочих рук, которая наряду с дороговизной сырья разоряет мануфактуру? Выход из этого кажущегося логического противоречия указывается самими документами: там, где вообще производство еще уцелело, рабочая плата фактически удвоилась сравнительно с недавним временем, и удвоилась она из-за непомерного вздорожания съестных припасов [199]. Финансовый кризис, скудость сырья приводили к вздорожанию жизни, к фатально необходимому поднятию того минимального уровня заработной платы, о котором говорит «железный закон» экономистов. А это вздорожание рабочих рук в свою очередь становилось привходящим фактором, тоже способствовавшим сокращению производства. Так замыкался заколдованный круг, в котором бились представители и покупатели наемного труда во Франции в эти годы.
Недостаток рабочих рук беспокоил правительство с 1793 г. Оружейников и оружия не хватало уже в 1793 г. до такой степени, что Бильо-Варенн настойчиво предлагал Конвенту воспретить слесарям работать над чем бы то ни было, кроме оружия [200].
Закон о максимуме страшно ускорил этот уже начавшийся процесс оскудения рынка труда, как он уже ускорил процесс оскудения товарного рынка.
Рабочие, конечно, стремились изо всех сил уклониться от подчинения максимуму, и там, где их было мало, они добивались получения высшей платы. Фабриканты жаловались на это и просили запретить не только требовать, но и давать заработную плату выше той, которая обозначена в законе о максимуме. Например, уже в начале 1794 г. стал ощущаться весьма сильный недостаток рабочих рук как в бумажном производстве, так и в типографском деле, и к Конвенту обращались с жалобой на повышенные требования со стороны рабочих и просили об обуздании их [201]; указывали на их стремление уйти на сторону, на отсутствие дисциплины между ними [202] и т. д.; просили доставить им рабочих реквизиционным путем; хозяева руанских бумажных мануфактур просили не отбирать у них рабочих, которые у них работают, ибо иначе мануфактуры закроются [203].
Получалось такое положение: часть предпринимателей, разоряемых дороговизной сырья, жаждущих прекратить поскорее производство и вместе с тем боящихся подпасть под страшный закон о подозрительных, видела в исчезновении рабочих законнейший предлог к желанному прекращению работ. Сообразно с этим поступили, например, марсельские мыловары и целый ряд владельцев шелковых мануфактур в Туре, в Лионе, в Ниме, хлопчатобумажных мануфактур в Лангедоке и т. п.
Но другие по тем или иным причинам еще не отчаялись окончательно (к таким принадлежали, например, владельцы некоторых шерстяных мануфактур, бумажных, железоделательных, получавших большие казенные заказы). Они обращались к правительству с просьбой добыть им рабочих. С другой стороны, правительство и непосредственно нуждалось в рабочих руках для ряда казенных работ.
Поэтому эпоха максимума совпала со временем самых частых реквизиций рабочего труда. Рабочих хотели насильственным образом заставить подчиняться максимуму, а они всеми мерами стремились уклониться от работ. Посмотрим, в каком виде рисуют наши документы эту борьбу.
6
Еще при старом режиме не только в идее существовало право верховной власти на труд рабочего, но и на самом деле это право иногда осуществлялось. Например, в наказах марсельского сенешальства (в 1789 г.) рабочие, призываемые время от времени на обязательную работу в казенных арсеналах, жалуются на нужду [204]. Физиократы решительно протестовали против этого порядка вещей.
Дюпон де Немур еще за 15 лет до революции выработал свою «Table des principes de l’économie politique», где он в графе прав, которые дает человеку «обладание его собственной особой», поместил: «… le droit de n’être pas troublé par les autres hommes dans son travail on dans la recherche be ce qui peut satisfaire ses besoins» [205].
Этот принцип решительно был отвергнут Комитетом общественного спасения, провозгласившим, что во имя блага государства может отчуждаться всякая собственность, в том числе и личный труд, который тоже есть собственность.
Еще до максимума начались реквизиции рабочей силы. Например, все каменщики, плотники, кровельщики, рабочие железоделательных мастерских, находящиеся в Париже, были еще 21 августа 1793 г. объявлены под реквизицией [206]. Они обязаны были находиться в распоряжении местных властей и работать там, где им будет приказано. Закон 15 флореаля II года объявлял под реквизицией всех рабочих, которые заняты изготовлением, перевозкой и продажей предметов первой необходимости.
Реквизиции накладывались на рабочий труд всякий раз, когда правительственным органам это представлялось желательным. Декрет, изданный 15 марта 1794 г., объединял все общественные работы (т. е. все работы без исключения, ведущиеся за счет правительства) в руках особой комиссии общественных работ, которая непосредственно должна была подчиняться Комитету общественного спасения, и особым пунктом декрета комиссия уполномочивалась забирать реквизиционным образом необходимое для ее целей количество рабочих [207].
Случалось и так, что например, в известном месте обнаруживался недостаток в рабочих той или иной профессии; хозяева обращались к надлежащей власти (чаще всего к депутату Конвента, прикомандированному к местной администрации или армии, стоявшей в данном округе, ибо его приказы исполнялись скорее всего), и эта власть просто объявляла под реквизицией требуемых рабочих, проживавших совсем в другом департаменте, иногда далеко от того города, куда их вытребовали. Таким способом, когда в Бресте (в начале 1794 г.) оказался недостаток в бондарях, то в Брест были вытребованы бондари из Бордо (где как в центре виноторговли их, по предположению брестских властей, должно было находиться достаточное количество) [208].
Относительно же рабочих, работавших над выделкой шерстяных материй, было констатировано в середине 1794 г., что их осталось мало по двум причинам: 1) масса людей взята в армию и 2) многие взяты реквизиционным способом на разные казенные работы и прежде всего в пороховые мастерские, в мастерские по выделке оружия и т. д. [209] Выше было уже замечено, что владельцы шерстяных мануфактур в 19 округах жаловались не только на отсутствие сырья, но и на недостаток рабочих рук. Таков был прочно обоснованный результат анкеты, предпринятой комиссией торговли, которая пожелала узнать, на какие местности она может рассчитывать, чтобы заказать нужное армии сукно.
Но есть 12 округов, где жалуются только на недостаток рабочих рук. В Альби (департамент Tarn) фабриканты просят, чтобы им вернули рабочих, и тогда они могут производить 3816 aunes шерстяных материй, нужных для одежды солдат; в Амбуазе (Indre-et-Loire) несколько мануфактур не работает из-за отсутствия рабочих; в Анжере (Mayenne-et-Loire) рабочие покинули мануфактуру и ушли в войска, — хозяин просит вернуть; в Арпе-сюр-Арру ответ подчеркивает, что сырья у них вдоволь, но что фабрикация может оживиться только, если рабочие не будут столь редки; в Обиньи (департамент Шер) тоже недостает рабочих, и национальный агент объясняет это тем, что «им не платят достаточно»; Шалон-на-Марне — один из очень немногих пунктов, где шерстяные мануфактуры весьма деятельно работают и «однако жалуются на недостаток рабочих»; хозяева в Шательро (Vienne) просят, чтобы им добыли рабочих реквизиционным образом; в Шербурге (Manche) — нужда в рабочих; в Эвре (департамент Eure) нет рабочих, потому что они уже взяты в реквизицию; в Эрви (Aube), в Нарбонне нет рабочих, и хозяева просят, чтобы рабочих заставили при найме подчиняться максимуму; в Тулузе — та же жалоба на отсутствие рабочих.
Рабочие укрывались, убегали на более или менее продолжительное время из дома, словом, всячески уклонялись от реквизиций. Подрядчики и вообще лица, заинтересованные в скорейшем и успешном окончании казенных работ, увидели в конце концов себя вынужденными, не полагаясь на успешность реквизиций, просто повышать заработную плату рабочим сверх таксы, установленной законом о максимуме. Но тогда ввиду того, что повышение платы ставилось в счета, подаваемые правительству, Комитет общественного спасения категорически воспретил это делать [210]. Получался опять заколдованный круг, откуда выхода не усматривалось.
В Орлеане чернорабочие решительно не желали подчиняться таксации и брать плату по максимальной расценке (т. е. в 1½ раза против платы 1790 г.). Местные власти с укором констатируют их «алчность» и «несправедливость», ибо, не желая отдавать свой труд за плату, определенную таксой, они в то же время требуют, чтобы предметы потребления продавались им непременно по таксе. Это было констатировано уже в конце 1793 г.; речь идет о грузчиках, о рабочих, занятых перевозкой тяжестей, пилением дров, перевозкой зерна. О других рабочих не говорится ничего, и кого надо понимать под неопределенным et autres — мы не знаем [211]. Во всяком случае отмеченное явление вовсе не было свойственно одному только Орлеану и одной только категории наемных рабочих.
В Бордо рабочие веревочной мастерской Rousseau (работавшей на военный флот) отказались в январе 1794 г. подчиниться закону о максимуме. Они составили стачку и грозили другим рабочим, продолжавшим работать, физическим воздействием. Те испугались и прекратили работу так же, как ученики, бывшие в мастерской. Хозяин, жалуясь на все это, прибавлял, что вот уже «16 месяцев» рабочие бунтуют. Они собираются в харчевнях, стараясь, чтобы их сборища не были заметны, и там устраивают совещания. Муниципалитет «принял в большое соображение» жалобу Руссо и постановил направить дело к военному комитету, который и потребует в реквизиционном порядке, чтобы рабочие веревочной мастерской продолжали работать; что же касается харчевен, где устраивались сборища, то их владельцев постановлено было привлечь к уголовной ответственности [212]. Рабочие сделали попытку избавиться от преследований хозяина. Четверо из них, уже успевшие поступить в другую мастерскую, явились в городскую ратушу и просили не возвращать их прежнему хозяину ввиду того, что и новая мастерская, где они служат, тоже работает над правительственными заказами. Муниципалитет прежде всего осведомился, являются ли они от имени своих товарищей или говорят лишь от своего имени. Рабочие ответили, что от имени товарищей. Тогда им было поставлено на вид, что они действовали путем угроз, насильственно мешали работать тем, которые не примкнули к стачке, и даже грозили убить (противившихся) [213]. На этом основании совет решил, что рабочие виновны в нарушении закона, что интересы государства и общественного спокойствия требуют прекращения стачки [214]. Немедленно вся депутация рабочих была арестована.
Не довольствуясь этой мерой, муниципалитет спустя несколько дней (21 февраля 1794 г.) обратился к рабочим с особым воззванием. По смыслу своему и даже по прямому обращению к рабочим всех профессий это воззвание является объяснением городских властей со всем рабочим населением города Бордо, хотя в регистре на полях приписано: avis aux ouvriers cordiers [215]. По содержанию отчасти этот документ близко сходится с аналогичными воззваниями парижского муниципалитета, выпущенными во время стачечного движения весной 1791 г. и разобранными в первой части моей работы; но есть и фразы, которые свойственны только 1793–1794 гг. и которые были бы немыслимы в 1791 г.
Прежде всего (и тут разбираемый документ больше всего походит на памятники 1791 г.) делается попытка приравнять всякие рабочие стачки и действия скопом к воскрешению старинных цехов [216]. Рабочие веревочной мастерской обвиняются в открытом нарушении закона, уничтожающего цехи, и вместе с тем в преступлении против общественного строя [217]. Преступление рабочих веревочной мастерской было вызвано их алчностью: они стали утверждать, будто имеют право отказаться от работы, если хозяин не даст им платы, которую они по жадности своей хотели бы получить. Они, сверх того, требовали платы за те дни, когда они отказались работать, не желая подчиняться таксе, установленной законом. Тут мы имеем дело с новым фактом, которого не было в других документах, относяшихся к истории этой стачки; очевидно, значит, стачка не продержалась, рабочие вернулись в мастерские, но, отказавшись от надежды на повышение платы, требовали, чтобы им было уплачено за дни стачки. Муниципалитет с особым раздражением подчеркивает, что рабочие вообразили, будто они имеют право собираться и действовать сообща [218].
Муниципалитет приглашает граждан оценить по достоинству это ужасное [219] поведение рабочих; это поведение столь ужасно, что не наказать рабочих было бы преступлением со стороны властей. Стачка рабочих приравнивается далее к политическому преступлению, к нападению на государственный строй; разница, по мнению муниципалитета, между стачечниками и «врагами общественного блага» лишь та, что враги республики действуют во имя известных политических убеждений (d’après un système politique), a рабочие — только из-за личных выгод (… n’étoient mus que par un intérêt personnel). Это грозные слова, напоминающие, что стачечники весьма легко могут очутиться под ножом гильотины: в 1794 г. приравнение стачки к политическому преступлению могло в самом деле иметь весьма и весьма устрашающий смысл. Муниципалитет спешит пояснить свою мысль: веревочные мастерские работают для флота, следовательно, вредить им — все равно, что вредить государству. За неподчинение максимальной таксе, за предъявление хозяину собственной, произвольной таксы власти будут карать.
Все воззвание до этого места построено как обвинительный акт против стачечников, как призыв других граждан или, частнее, других рабочих в свидетели беззаконного поведения стачечников [220], но к концу муниципалитет уже обращается к непосредственным виновникам: он напоминает им о любви к отечеству, о законах и заканчивает новой угрозой, в случае, если эти увещания не помогут [221]. Это воззвание решено было напечатать и при звуках труб провозгласить и расклеить по городу (к сожалению, ни одного печатного экземпляра этого воззвания в городском архиве я не видел, так что пришлось цитировать его по полуобгорелым листам рукописного протокола).
21 марта 1794 г. национальный агент доложил муниципальному совету Бордо проект регламента, на котором сошлись хозяева и рабочие [222]. Агент прежде всего жалуется на излишнюю уступчивость хозяев, которая, по его мнению, и сделала возможным упорное сопротивление рабочих закону о максимуме; к сожалению, он не говорит обстоятельнее, ни в чем выразилась эта уступчивость, ни в какой форме проявились «темные» происки рабочих [223]. Но, «чтобы прекратить эти злоупотребления», агент выслушал обе стороны, и в конце концов было выработано соглашение. Это соглашение касается двух вопросов: 1) продолжительности рабочего дня и 2) заработной платы. К счастью, хотя именно та часть страницы этого регистра (45-й), где изложены условия, касающиеся продолжительности рабочего дня, и пострадала от огня, но не настолько, чтобы нельзя было на основании этого обгоревшего клочка пополнить страшно редкие достоверные показания о продолжительности рабочего дня в XVIII столетии. Продолжительность рабочего дня изменяется по временам года. В период от 1 апреля до 31 августа работа должна начинаться в 5 часов утра и кончаться в 7 часов вечера; с 1 сентября до 31 октября работа начинается в 6 часов утра и кончается в 6 часов вечера; с 1 ноября до 31 января работа начинается в 7 часов утра и кончается в 5 часов вечера; с 1 февраля [224] до 31 марта работа будет начинаться в 6 часов утра и кончаться в 6 часов вечера. При этом на завтрак дается час и на обед — час.
Что касается платы, то она остается такой, как ее определил закон о максимуме: рабочие веревочных мастерских получали в 1790 г. 40 су в день (2 ливра), значит теперь должны получать 3 ливра (в 1½ раза больше). При этом в случае пропуска часов работы из платы производятся вычеты. Конец документа заключает в себе условия о каких-то особо утомительных работах, но эта часть страницы так обгорела, что осталось по 3–4 слова на каждой строчке, но все же понять, в чем дело, возможно.
Муниципалитет утвердил этот регламент и постановил ввести его в действие.
Таков финал стачки рабочих веревочных мастерских в Бордо (по документам ясно, что конфликт вышел с самого начала из пределов заведения Руссо и распространился на другие мастерские). Мы видим из только что цитированного документа, что плата (о которой все время только и шла речь) осталась без перемены, в размерах таксы, установленной законом о максимуме. А с другой стороны, мы слышим, что представитель административной власти с явной горечью и укоризной говорит об уступчивости, слабости хозяев, да и самый регламент, по прямому его заявлению, оказывается плодом компромисса.
Ясно значит, что какая-то уступка со стороны хозяев была сделана. Но где ее искать? Либо 1) в той части регламента, где речь идет о продолжительности рабочего дня, либо 2) в сгоревших почти целиком последних строках, касающихся сверхурочной работы, tertium non datur.
1. Ни единого слова, касающегося продолжительности рабочего дня, ни в одном из предшествующих документов, касающихся этой стачки, мы не находим, — даже не упоминается, что рабочие недовольны чем бы то ни было, кроме скудной заработной платы, и вся эта часть регламента является для исследователя совершенной неожиданностью.
Правда, может быть в двух часах, даваемых на завтрак и на обед, тоже была некоторая уступка со стороны хозяев. Нужно сказать, что вообще относительно величины рабочего дня в рассматриваемую эпоху сведения наши очень неполны. Продолжительность рабочего дня, например, на бумажных мануфактурах, исполнявших казенные заказы и поэтому подчиненных правительственным комиссарам, была определена в 11½ часов. Работа должна была начинаться в 4 часа утра. Это распоряжение относится к концу 1794 г.; сделано оно было не владельцами мануфактур, а правительственными комиссарами [225]. Любопытно, что одновременно продолжительность работы женщин в этих самых заведениях была определена в 10 часов в день [226]. Это, насколько мы знаем, первый и единственный случай (за весь революционный период), когда правительственная власть во Франции признала нужным ограничить продолжительность рабочего дня женщины.
В конце рассматриваемого периода и при Консульстве правительством принималось как бы за типичную, общую норму, что рабочий день продолжается от восхода до заката солнца [227]. Так говорилось, когда речь шла о рабочих в самом общем смысле. Нужно заметить, что в некоторых промыслах по крайней мере стремление уменьшить рабочий день на два часа проявлялось, по-видимому, настолько, что борьба с этой тенденцией послужила одним из мотивов закона 22 жерминаля (12 апреля 1803 г.), регламентировавшего положение рабочих при Консульстве [228].
Но, так или иначе, в данном случае, в истории рассматриваемой бордосской стачки, едва ли эти два часа отдыха (о которых решительно ничего не говорилось раньше) сыграли роль главной уступки; ведь борьба затеяна была исключительно из-за заработной платы, из-за неподчинения максимуму. Поэтому центр тяжести компромисса едва ли лежал в этой уступке двух часов отдыха (если даже предположить, что тут была сделана уступка, было введено нечто, до тех пор не существовавшее).
2. Остается, значит, обратиться к тому обгоревшему клочку, на котором еще можно прочесть уцелевшие части строк [229], и тут искать разрешения загадки.
Насколько можно судить, речь идет о том, что рабочие должны быть вознаграждаемы особо за изготовление из простых веревок (les cordes, les cordes courantes, как они назывались) толстых канатов (les câbles). Сгоревшую часть третьей строчки (в приводимой выноске) не трудно восстановить с большой долей вероятия, и тогда третья и четвертая строчки читаются так: et qu’il ne se fait ordinair (ement que quand ils) ont fini leur journée… Следовательно, речь идет не только об утомительной работе (fatiguant — см. вторую строчку), но и о сверхурочной, исполняемой вне того рабочего дня, который определен в начале регламента. За эту работу они и должны получать особое вознаграждение. Но какое? Об этом, конечно, и говорили сгоревшие части пятой, шестой, седьмой, восьмой и девятой строчек (особенно свидетельствует об этом уцелевшее начало восьмой строки: il leur sera payé).
Что именно это вознаграждение за прибавочную работу и было уступкой со стороны хозяев, на которую с горечью намекает представитель администрации, явствует еще из слов, уцелевших на пятой строке: pour les indemniser de ce. Если бы речь шла о чем-либо общепринятом и до тех пор, то зачем эта мотивировка? Зачем как бы указание на справедливость этого вознаграждения? Эта черта сообщает всему пункту регламента характер некоего нововведения, которое еще необходимо было пояснить и обосновать. Это соображение отчасти подкрепляется и двумя уцелевшими словами седьмой строки (septembre dernier). Дело в том, что закон о максимуме в документах 1794 г. почти всегда называется так: la loi du 29 septembre dernier. Рабочие забастовали, не желая подчиняться закону о максимуме; регламент подчиняет их этому закону, но делает тут оговорку: они будут получать за сверхурочную работу особую плату, кроме той, которую должны получать согласно «(loi du 29) septembre dernier». Если эта догадка справедлива, то разбираемый пункт регламента еще больше приобретает характер нововведения, характер впервые предлагаемого изъятия из общего правила.
Какое заключение можно сделать из этого анализа? То, что компромисс, бесспорно, в большей степени мог удовлетворить хозяев, нежели рабочих. Максимальная такса была всецело удержана, а, соглашаясь на плату за особую работу, хозяева построили этот пункт регламента так, что утомительная, особая работа не должна была ничуть укорачивать оплаченного по таксе рабочего дня, ибо исполнялась сверх обычных рабочих часов. Судя по слову ordinair (ement) в третьей строке, до стачки эта работа иногда производилась и в течение обычного рабочего дня; отныне хозяева, соглашаясь платить за нее особо, выводили ее зато уже окончательно из рамок рабочего дня, ибо, 1) вводя в регламент точное расписание рабочих часов и 2) именно сверхурочностью этой работы мотивируя свое согласие платить за нее, они уже делали совершенно немыслимым для рабочего заниматься ею в течение рабочего дня.
Вообще говоря, как и в предшествовавшую эпоху, рабочее население, сосредоточенное в торговом порту Бордо, волновалось больше, чем в промышленных округах. 9 июня 1794 г. рабочие, работавшие в бордосской гавани в казенных мастерских, предъявили заведовавшему работами должностному лицу (agent maritime) требование, чтобы им позволено было пользоваться деревянными обрубками, остающимися каждый день после работы. В противном случае они угрожали бросить работу. Муниципалитет, приняв во внимание, что эти рабочие принуждены работать всего за 50 су в сутки (2 ливра 50 сантимов), тогда как частные «негоцианты» платят 3 ливра и даже иногда 3½ ливра в день, решил удовлетворить их просьбу [230]. Главным мотивом милостивого решения явилось сознание крайней дороговизны всех припасов (в том числе и топлива).
В середине июня 1794 г. в Бордо заволновались также работавшие в казенных складах бондари: они домогались новой таксации их заработной платы ввиду того, что в 1790 г. им тоже позволялось пользоваться дровами, которые они уносили после работы вечером, а теперь, в 1794 г., это воспрещалось. Муниципалитет согласился, что рабочие правы, и повысил их заработную плату до 3 ливров (в день); к сожалению, не говорится, сколько именно они получали до этой меры. Вместе с тем муниципалитет счел нужным откомандировать особое лицо к бондарям для братских увещаний с целью поддержания порядка [231]. При этом муниципалитет уполномочил своего представителя сделать рабочим такого рода заявление: auprès des magistrats du peuple pour obtenir un acte de justice il suffit de réclamer [232].
В конце ноября 1794 г. вспыхнула стачка в гвоздильной мастерской в городе Бордо, принадлежавшей Буйану, который поставлял гвозди отчасти для военного флота. Рабочие требовали повышения платы. Хозяин обратился к муниципалитету за помощью, и муниципалитет постановил принять полицейские меры против тех лиц, которые откажутся работать [233].
Нечего и говорить, что плотники, слесари, столяры, каретники, кузнецы и так далее объявлялись под реквизицией огулом, сколько их ни было в данной местности, всякий раз, когда администрации, заведовавшей казенными работами, это казалось нужным [234].
Когда Комитету общественного спасения казалось необходимым для нужд правительства, чтобы рабочие были налицо, тогда никакая мера не казалась ему достаточно крутой, когда ему представлялось нужным предупредить возможность даже временного прекращения работ, он действовал самым решительным образом.
Документы производят совершенно определенное впечатление крутой и решительной борьбы властей против рабочих и упорного нежелания последних подчиняться реквизициям.
В самом начало 1794 г. (3 января) были объявлены состоящими в реквизиции все рабочие, имеющие по своей профессии какое-либо касательство к судостроению (война с Англией оказывалась не под силу наличному французскому флоту) [235].
Рабочие стекольных мануфактур, тоже принадлежавшие к категории рабочих, которых нельзя было заместить первыми попавшимися людьми, стали исчезать с конца 1793 г., и уже 19 июля 1794 г., вняв жалобам уцелевших фабрикантов, Комитет общественного спасения объявил всех рабочих-стекольщиков под реквизицией, обязывая их возвратиться в мастерские и продолжать свои работы [236].
Тотчас же провинциальные власти принялись производить дознание о тех лицах, которые «имели обыкновение» заниматься стекольным мастерством, чтобы заставить их явиться в мастерские и мануфактуры [237]. До отмены максимума этот декрет остался мертвой буквой; осенью 1794 г. официально было признано, что «все стекольные мануфактуры бездействуют», кроме одной-единственной (в Турлавилле, близ Шербурга), и бездействуют из-за недостатка нужных для производства материалов.
А когда в конце 1794 г. кое-где (например, в Bezu-Laforêt) начинают воскресать закрывшиеся было мануфактуры, то жалобы на отсутствие рабочих не прекращаются [238]. И нужно сказать, что фабриканты теряются в соображениях, как им выйти из положения, созданного максимумом и реквизициями; просьба братьев Vaillant, владельцев некогда большой стекольной мануфактуры, весьма характерна в этом отношении. Вот последняя фраза их прошения: «… ils sollicitent d’être autorisés à mettre en réquisition les artistes et les ouvriers qui peuvent être utiles à leurs manufactures», — a дальше тем же почерком, но другими чернилами прибавлено: «ou qu’ils soient exempts de toute réquisition» [239].
Первая часть фразы могла бы привести в недоумение: ведь и без всяких частных просьб стекольщики находились под реквизицией с 19 июля 1794 г., когда было издано соответствующее постановление Комитета общественного спасения. Зачем же еще раз об этом просить? Мы бы имели право недоумевать, если бы не знали, что фактически эти отдельные реквизиции превращались часто в пустой звук, и, например, стекольщик, которого уже успели реквизиционным путем поверстать в военную службу или угнали в какое-либо отдаленное имение на работы, или определили на казенные работы куда бы то ни было, ни за что уже не будет возвращен в стекольную мануфактуру, особенно если он не желает этого и употребит все усилия, чтобы не быть насильственным образом возвращенным к покинутому им ремеслу. И позднейшая прибавка как нельзя лучше рисует это сознание бесцельности реквизиций. Только что владельцы мануфактуры хотят своей частной просьбой особенно воздействовать на власти, обязанные реквизиционным путем добыть им рабочих, а потом, как бы подумав, вдруг прибавляют: «или пусть они будут изъяты от всяких реквизиции», т. е. они, фабриканты, как-нибудь уже попытаются раздобыть себе рабочих по частному соглашению, но только просят, чтобы уже этих людей сами власти не отобрали от них под предлогом какой-нибудь другой реквизиции. Вся неисходная путаница, порождаемая реквизициями рабочего труда, обнаруживается здесь весьма реально.
Еще 26 июля 1791 г. Учредительное собрание решило стеснить свободу передвижения рабочих, работавших на бумажных мануфактурах: рабочие этой категории под страхом штрафа в 100 ливров не имели права покидать своих хозяев, не предупредив их об уходе за 6 недель в присутствии двух свидетелей; ни один бумажный фабрикант не мог принимать рабочего без письменного удостоверения от предыдущего нанимателя [240].
12 января (23 нивоза) 1794 г. Национальный Конвент издал декрет, которым объявлялись в реквизиции все фабриканты и рабочие, занятые бумажным производством [241]. Все они обязаны были продолжать работу, причем хозяева тех заведений, которые поставляли бумагу для ассигнаций, а также для печатания текста законов, получали право требовать от властей в случае надобности доставки им нужного числа рабочих из других бумажных мануфактур [242].
Декрет издан именно затем, чтобы правительство для печатания ассигнаций и для публикации законов всегда имело потребное количество бумаги. Рабочих мало, они бегут от работы по максимуму, их забирают в военную службу, их уже забрали в другие реквизиции (на общественные работы и т. д.). Откуда взять контингент? На это отвечает статья 9 декрета [243]: «… предприниматели бумажных мануфактур могут употреблять для службы в своих мастерских всех граждан без различия, которых найдут годными», они приглашаются брать в обученье учеников, «которые также будут браться безразлично из детей всех граждан» [244]. Рабочие обязаны, не уклоняясь ни под каким предлогом, показывать этим детям приемы ремесла, причем за выучку платят родители забранных детей; плата не должна превосходить 50 ливров в год. Таков способ набора рабочего контингента: недостаток в рабочих руках устранен радикальнейшим способом.
Теперь — вопрос о стачках. «Стачки между рабочими различных мануфактур… с целью вызвать остановку работ будут рассматриваться как покушение на спокойствие, которое должно царить в мастерских. Каждый рабочий может индивидуально подавать жалобы и предъявлять просьбы; но он не может ни в каком случае прекращать работу иначе, как по причине болезни или немощи, засвидетельствованной в должном порядке» [245]. Воспрещаются не только стачки, но и вообще какие бы то ни было совместные действия, направленные против хозяина или против кого-нибудь из их же среды. Всякие наложения интердикта [246] и тому подобное будут караться тюремным заключением. Хотя рабочие по реквизиции и обязаны непременно заниматься именно бумажным производством, но все же за ними сохраняется право перейти от одного хозяина к другому, но и тут рабочий обязан предупредить хозяина за 6 недель в присутствии двух свидетелей; при этом еще он должен получить паспорт от местных властей.
Этот декрет делал, конечно, в высшей степени опасным для хозяина делом немедленное закрытие бумажной мануфактуры; но он ни в малейшей степени не разрешал самого больного и настоятельного вопроса: откуда достать рабочих и материал для производства?
Рабочих, подготовленных к работе на бумажных мануфактурах, было в высшей степени мало. Когда (в конце 1794 г.) две работницы, работавшие на мануфактуре в Курталене (исполнявшей казенные заказы), захотели уйти ввиду того, что готовились выйти замуж, то правительственный комиссар так обеспокоился, что должен был писать в столицу и спрашивать: как ему поступить? Отпустить ли их или нет? (вспомним, что все рабочие бумажных мануфактур были под реквизицией). Свои сомнения комиссар мотивирует трудностью заместить двух уходящих работниц [247].
Немудрено, что рабочие уцелевших бумажных мануфактур знали себе цену и неохотно подчинялись таксе. Особенно это сказывалось именно на мануфактурах, выделывавших бумагу для ассигнаций и для печатания официальных актов.
На бумажной мануфактуре в Бюже (в департаменте Loiret, недалеко от города Montargis) выделывалась в 1792–1795 гг. бумага для ассигнаций (а в 1796 г. для «мандатов»), и уже поэтому дела тут шли не так плохо, как в других местах. В середине рассматриваемого периода, в 1794 г., на этой мануфактуре работало 298 человек (150 мужчин, 148 женщин) [248].
Рабочие бумажных мануфактур в Курталене и Маре (в департаменте Сены-и-Марны), выделывавших (вместе с двумя другими заведениями — в Бюже и в Эссоне) бумагу для ассигнаций, жаловались в ноябре 1794 г. на недостаточность заработной платы ввиду вздорожания съестных припасов. Эти заведения весьма интересовали правительство; хотя они и принадлежали частным владельцам, но ввиду важности казенных заказов там находились постоянно специальные комиссары от правительства. К такому комиссару (Frezet) и явились гурьбой 16 брюмера (6 ноября 1794 г.) рабочие мануфактуры в Маре и заявили, что им невозможно существовать, получая 3 ливра 15 су (3 ливра 75 сантимов) или 1 ливр 20 сантимов (последнюю плату получали женщины). Они просили повысить плату для мужчин до 5 ливров, для женщин — до 1 ливра 80 сантимов в день; если же это не будет сделано, то, заявляли рабочие, им останется бросить мануфактуру и искать других занятий. Комиссар вытребовал директора мануфактуры и спросил его, какого он мнения о желании рабочих. Директор ответил, что «просьба рабочих не лишена оснований» ввиду крайней дороговизны припасов, но что он не может повысить расценки труда, если Конвент в свою очередь не согласится повысить плату за заказы, которые он даст мануфактуре. Одновременно с подобной же просьбой обращались и рабочие в Эссоне.
В Эссоне, на третьей бумажной мануфактуре, дело дошло, по-видимому, до серьезных столкновений, и местному комиссару пришлось для восстановления порядка прибегнуть к полиции; по крайней мере об этом упоминает, к сожалению, не давая никаких подробностей, специальный ревизор, назначенный Комитетом по поводу всех этих жалоб рабочих бумажных мануфактур. Ревизор Sergent нашел жалобы по существу заслуживающими удовлетворения, но вместе с тем решительно и громогласно в присутствии рабочих одобрил подавление силой движения, начавшегося было в Эссоне. Sergent беседовал с рабочими в Маре, в Курталене и даже в Эссоне весьма дружественно, а усмиренные рабочие в Эссоне даже просили его уверить Конвент в полнейшем с их стороны повиновении законам, просили «не напоминать им более об их ошибке» и проводили криками: «Vive la république! Vive la convention!», и вообще их покорность произвела на ревизора самое отрадное впечатление. В своем докладе он указывал на решительную необходимость повысить заработную плату, что и было сделано. О собственниках даже не упоминается в этом докладе.
Тоже с массовой петицией обратились и рабочие мануфактуры в Курталене к своему комиссару (Guerin). Комиссары согласны были с рабочими и с директором, что на существующую заработную плату жить становится невозможно. «Я не могу вам высказать, до какой степени необходимо дать им удовлетворительный ответ, — писал комиссар Frezet в Париж в самый день приема рабочих, — цена на припасы и на материю повышается с каждым часом; например, масло вчера стоило 2 ливра фунт, а сегодня — 50 су (2 ливра 50 сантимов); яйца стоили 3 ливра 25 штук, а сегодня продаются по 4 ливра; пара сапог стоит 15 ливров, локоть местной грубой шерстяной материи, стоивший год тому назад 5 ливров, продается по 25 ливров. Я не могу ручаться за спокойствие на этой мануфактуре, если заработная плата не сделается вскоре пропорциональной жизненным потребностям» [249]. Такого же мнения был и комиссар другой мануфактуры.
Как видно из другого документа, поехавший с целью ревизии член Конвента Projean согласился утвердить определенную комиссарами продолжительность рабочего дня (11½ часов, а для женщин — 10 часов), но решил, что прибавки платы не будет [250].
Но и тут жизнь шла своим путем: в 1794–1795 гг. отсутствие сырья приводило к закрытию то одной, то другой мануфактуры; рабочие убегали или поступали в военную службу, или наконец подпадали под действие какой-либо другой реквизиции, и документы прямо полны жалоб и молений бумажных фабрикантов уже не столько о том, чтобы правительство пригнало к ним нужное количество рабочих, сколько о том, чтобы оно само не забирало рабочих в набор или в другую реквизицию [251]. И уже когда в конце 1795 г. при Директории был издан закон, отменивший реквизиции, раньше наложенные, и впредь предоставлявшей право объявлять реквизицию лишь одной Директории [252], то власти не сочли нужным, несмотря на просьбы фабрикантов, сделать какое-либо исключение в пользу бумажных мануфактур. Но вернемся к эпохе максимума.
Уклонения рабочих от реквизиций сделались таким обычным явлением, что Комитет общественного спасения стал прибавлять чуть не при каждом объявлении реквизиции: «… les ouvriers qui ne se conformeront pas à la réquisition seront considérés comme suspects» [253]. Тюрьма на неопределенный срок, а при стечении некоторых неблагоприятных условий эшафот грозили рабочим, уклоняющимся от реквизиций.
Интересно отметить, что и после падения Робеспьера рабочим, уклоняющимся от работ, на которые их требуют реквизиционным способом, по-прежнему продолжали грозить страшным «законом о подозрительных» [254].
И все-таки ничего не помогало. Рабочие продолжали убегать, хитрить, скрываться, поступали под чужим именем в действующую армию (хотя рабочим некоторых профессий это было прямо воспрещено), а на работы не шли.
Осмеливаясь пассивно, но упорно сопротивляться грозному Комитету общественного спасения, они сопротивлялись еще упорнее частным лицам. Но власти с неуклонной суровостью продолжали борьбу; особенно характерно эта политика сказалась в вопросе о сельскохозяйственных рабочих.
О реквизициях рабочего труда вообще в эпоху максимума нельзя составить себе ясного понятия, не упоминая о сельскохозяйственных рабочих. Но не только по этой причине мы не можем оставить без рассмотрения документы, о которых сейчас пойдет речь: реквизиция рабочих для сельского хозяйства была одним из обстоятельств, сильно ухудшавших положение рабочих обрабатывающей промышленности, так как множество их подлежало этой реквизиции и должно было бросать работу и либо скрываться, либо отправляться в назначенное место. Кроме этого непосредственного интереса с точки зрения темы настоящей работы, упомянутые документы в высшей степени характерны для той административной практики, которая была в ходу в эпоху диктатуры Комитета общественного спасения.
Нужно сказать прежде всего, что в 1794 г. землевладельцы оказались в затруднительном положении в том отношении, что обнаружился недостаток рабочих рук, нужных в сельском хозяйстве. Жаловались на это преимущественно в южных областях республики, в департаменте Устьев Роны, в департаменте Вьенны, отчасти на севере, в департаменте Соммы и некоторых других (о стародавней неприязни южных землевладельцев к обрабатывающей промышленности, отбивающей рабочих, см. и главе I этой части моей книги).
Не нужно удивляться, что решительный недостаток в рабочих руках особенно обнаружился в 1794 г.; ведь и по части инструментов и орудий, нужных в сельском хозяйстве, Франция очутилась к этому времени поистине в отчаянном положении. Документы воскрешают иной раз перед нами историческую действительность в такой реальной полноте, что совершенно ясно можно как бы наблюдать причинную связь явлений. Мы уже видели, когда речь шла о технической отсталости Франции, что именно в сталелитейном деле страна всецело зависела от иностранного ввоза и что когда сношения с Германией и Англией были прерваны, промышленность и земледелие оказались лишенными нужных инструментов и орудий.
Не хватало даже простейших орудий, даже серпы и косы нужно было с огромными издержками выписывать из единственной страны, откуда еще можно было их получить, — из Швейцарии, по непомерным ценам, и то в количестве «гораздо меньше необходимого» [255].
Чем хуже обстояло дело с орудиями, тем необходимее оказывалось восполнить их недостаток большей затратой мускульного труда. Комитету общественного спасения нужно было выбирать между интересами сельских хозяев, желавших достать рабочих, которые обязаны были бы работать по максимуму, и интересами этих самых рабочих, для которых работать по максимуму было почти равносильно работе даром. Мало того, эта реквизиция неминуемо должна была прежде всего распространиться на рабочих, работающих на уцелевших мануфактурах, так как их легче было разыскать и отправить по назначению. Вопрос фактически шел, следовательно, и о том, чьи интересы принять преимущественно в соображение: сельского хозяйства или обрабатывающей промышленности?
Принципиально вопрос о том, что для Франции важнее, земледелие или обрабатывающая промышленность, ставился уже и раньше в правящих сферах в рассматриваемую эпоху. И нужно сказать, что в этом вопросе физиократические влияния оказались весьма устойчивыми.
Еще в 1791 г. в комитете земледелия и торговли существовало мнение, что Франция должна быть чуть не исключительно земледельческой страной; сохранились даже весьма интересные следы полемики по этому поводу [256]. Полемист не согласен с теми членами комитета, которые полагают, что Франция должна быть страной только земледельческой. Он ставит вопрос: может ли страна быть «первостепенной державой» и процветать без торговли? И отвечает отрицательно. Переходя далее к вопросу: «достаточно ли одной торговли для споспешествования земледелию?», он отвечает: «нет, нужны и фабрики». Тут любопытнее всего, почему он считает их необходимыми: «они пускают в дело шерсть, коноплю, лен и так далее, и они содержат многочисленных рабочих, которые потребляют питательные продукты, производимые почвой, или по крайней мере большую часть их», — это прежде всего, это главная выгода, которой можно ждать от фабрик. И это говорит лицо, полемизирующее в пользу индустриальной деятельности, отстаивающее права обрабатывающей промышленности на существование от слишком исключительных сторонников земледелия! Прошли годы, Учредительное собрание сменилось Законодательным, Законодательное — Конвентом, но и в робеспьеровские времена, и при Директории те же суждения не переставали повторяться, не переставали считаться либо бесспорными, либо заслуживающими поправок только разве с той точки зрения, что не следует преувеличивать значение индустрии. И это — несмотря на оговорки о том, что нужно себя обеспечить от экономической зависимости, несмотря на завистливые хвалы английской промышленности (от которых не свободен и только что цитированный нами полемист). Мы видели, что монтаньяры в эпоху, предшествующую максимуму, громили физиократов за высказанный ими принцип свободы торговли; но зато другие воззрения физиократов оказалось несравненно более живучими.
Можно сказать, что в эпоху Конвента окончательно утвердилась теория, что Франция — страна земледельческая, а потому и мануфактуры ей нужны прежде всего, чтобы было куда сбывать производимое ее почвой сырье [257]. Это стало считаться даже аксиомой, не требующей доказательств, и отчасти отсюда тоже выводилась обязанность правительства содействовать размножению мануфактур [258].
Ничего нет странного, конечно, что при подобных взглядах власти за всю рассматриваемую эпоху не переставали заботиться о том, чтобы землевладельцы по возможности не страдали от дороговизны рабочих рук.
Нечего и говорить, например, о том, что закон Ле Шапелье был распространен и на сельскохозяйственных рабочих. Статья 20 закона от 28 сентября 1791 г. (о сельской полиции) воспрещала сельскохозяйственным рабочим вступать в какие бы то ни было соглашения между собой с целью добиться повышения платы; этот проступок карался пеней и содержанием под стражею (срок в законе не был обозначен). Закон от 28 сентября 1791 г. был подтвержден 24 октября 1793 г. в декрете, изданном Конвентом [259].
После этих предварительных замечаний нельзя удивляться, что там, где ощущался недостаток в рабочих руках и где обрабатывающая промышленность вступала на этой почве как бы в конкуренцию с сельским хозяйством, власти всегда становились на сторону сельского хозяйства. И в 1794, и в 1795 гг. правящие сферы, прежде всего Комитет общественного спасения, были серьезно озабочены, чтобы сельские хозяева не очутились без рабочих. Бюро торговли, состоявшее при Комитете общественного спасения, как-то высказало в одном докладе основной принцип, что сельское хозяйство ни в каком случае не должно терпеть помехи со стороны мануфактурного производства [260]. Бюро констатирует, что в некоторых департаментах, особенно на юге Франции, в этой борьбе из-за рабочих рук победа остается не на стороне сельского хозяйства. Чем это объяснить, бюро не знает (более высокую плату, предлагаемую мануфактурами, оно в этом месте обходит молчанием) и отделывается моралистическими рассуждениями в духе XVIII столетия о силе порочных городских наслаждений, отвлекающей от мирного сельского труда, и пр. [261].
Что было делать? Бюро видело исход в возможно большем распространении машинного производства как в сельском хозяйстве, так и в обрабатывающей индустрии, особенно в шерстяной промышленности [262]: только это может «увеличить число механических рук», как выражается бюро в своем докладе. Но все это могло бы иметь значение лишь в более или менее отдаленном будущем, ибо сейчас машин и усовершенствований, о которых мечтало бюро, ни в сельском хозяйстве, ни в обрабатывающей индустрии не было. Не мог же Комитет общественного спасения смотреть как на серьезный выход из положения на тот совет, которым кончается доклад бюро торговли: усилить изучение образцовых машин и моделей инструментов, имеющихся в правительственном «Hôtel de Mortagne», работать над этими образчиками, давать награды за новые открытия и изобретения, споспешествовать тому, чтобы мануфактуристы приезжали «в этот драгоценный склад» учиться [263] и т. д. Все это звучало чисто академически. В одном только Комитет общественного спасения был совершенно согласен со своим «бюро торговли», это в том убеждении, что «священные права земледелия» не должны были страдать от того, что мануфактуристы предлагают рабочим более высокую плату [264].
При полном торжестве подобных воззрений во всю рассматриваемую эпоху вообще Комитет общественного спасения весной 1794 г., когда он обладал всей полнотой диктаторской власти, не мог долго колебаться. Интересы рабочих и интересы обрабатывающей промышленности вообще должны были отступить на задний план.
И отраслью наемного труда, которая испытала на себе самым чувствительным образом последствия режима установленного закона о максимуме, оказался именно труд сельскохозяйственный.
Собственно, тот закон, о котором сейчас пойдет речь, представляет собой проявление тенденций, вызвавших к жизни и реквизицию, и, вообще говоря, установление фактической диктатуры. Здесь мы слышим отголосок мнения, что голод создается происками врагов революции, и отзвук формулы: «salus populi suprema lex esto», и серьезнейшее опасение, как бы не остаться среди войны без хлеба; все это при привычке считать трудящийся люд не целью, а средством и сделало возможным интересующее нас тут постановление о сельскохозяйственных рабочих.
Постановление Комитета общественного спасения было издано 11 прериаля II года, т. е. 30 мая 1794 г., за два месяца до падения Робеспьера, в самый разгар террора и неограниченного владычества Комитета, в эпоху абсолютной невозможности даже самой сдержанной критики распоряжений, свыше исходящих [265]. Первым пунктом постановлялось, что все поденщики, рабочие, все те, которые «обыкновенно» занимаются полевыми работами, если только они не объявлены под реквизицией со стороны военного ведомства, объявляются под реквизицией для работ по сбору предстоящего урожая (другими словами, они объявляются в полном распоряжении властей). Тотчас же по получении этого распоряжения муниципалитеты должны составить списки рабочих, обыкновенно занятых сельскохозяйственным трудом либо в своей коммуне, либо в других местностях, и объявить всем этим лицам о том, что они находятся под реквизицией; те лица, которые обнаружат неповиновение, будут судимы, и с ними будет поступлено, как с подозрительными (art. III). Муниципалитеты тотчас же должны определить срок, когда обязаны отправиться на работу те лица, которые обыкновенно работают не в своей коммуне, а в других местах (art. IV). Изъятие из реквизиции допускается лишь для больных и немощных, для тех, которые на своих землях заняты работой, «признаваемой необходимой», и те, которые где бы то ни было уже заняты таким же трудом, как требуемый реквизицией (art. V). Национальные агенты обязаны предавать суду всех не повинующихся реквизиции (art. VI). Поденщики и рабочие, которые отправятся в другие округи, будут снабжены паспортами, выданными их коммуной. Эти паспорта должны быть предъявляемы для визирования во всех коммунах, где их владельцы остановятся больше, нежели на три дня. В паспортах будет обозначено, какого рода реквизиция имеется в виду. Не предъявивший паспорта объявляется подозрительным (art. VII). Размеры заработной платы в каждой коммуне определяются местным генеральным советом по такому способу: берется плата, получавшаяся в 1790 г., и увеличивается в 1½ раза (art. VIII). В окончательном виде эта плата утверждается директорией округа. Кроме лиц, «обыкновенно» занятых сельскими работами, муниципалитеты имеют право в тех случаях, когда найдут это полезным, приглашать «всех хороших граждан» работать над уборкой урожая в назначенных местах (art. XI). Поденщики и рабочие, которые вступят между собой в соглашение с целью отказаться от работ, требуемых реквизицией, или с целью требовать прибавки заработной платы вопреки постановлению, будут преданы суду революционного трибунала (art. XII).
Таковы главные пункты рассматриваемого постановления. Комиссия земледелия разослала его с сопроводительным циркуляром [266], в котором между прочим говорилось: «… мы посылаем вам, граждане администраторы, постановление Комитета общественного спасения, относящееся к заработной плате и работам по сбору урожая; оно затрагивает интересы всего народа, существование которого оно обеспечивает. Будьте скоры и суровы в исполнении этого распоряжения и отдайте нам скорый отчет в ваших стараниях. Всякое промедление, всякая слабость были бы преступлением. Быстрота и сила составляют душу республиканского правительства».
Администрация на местах не заставила повторять дважды, что ей нужно делать. Кое-где она сделала некоторые дополнения к постановлению от 11 прериаля, причем эти дополнения ничуть не шли вразрез с общим духом всего акта, а только поясняли его внутренний смысл. В самом деле, Комитет общественного спасения объявляет целую категорию граждан в своего рода подневольном положении, причем так неопределенно обозначает их, что как бы прямо приглашает местные власти к распространительному толкованию. Кто подлежит реквизиции? «Les journaliers, manouvriers, tous ceux qui s’occupent habituellement des travaux de campagne», «les ouvriers habitués à travailler à la terre», «ceux qui ont coutume» и даже просто «tous les bons citoyens», если муниципальные власти сочтут полезным их «пригласить», ибо по смыслу всего акта это «приглашение» снабжено достаточной долей принудительности. Но в пользу кого все эти люди временно лишаются свободы? Кто ограждается от всяких требований прибавки заработной платы со стороны этих подневольных наемников до такой степени, что за стачку им грозит смертная казнь? На все эти вопросы Комитет общественного спасения не отвечает, хотя, конечно, ответ подразумевается. Но, если мы хотим выслушать ответ expressis verbis, мы должны поискать его в другом месте.
Еще до того, как постановление Комитета общественного спасения могло быть получено в отдаленной провинции, член Конвента Maignet, посланный с чрезвычайными полномочиями на юг (в департаменты Устьев Роны и Воклюз), издал обязательное постановление, которое кое в чем повторяет, а кое в чем развивает дальше принципы, легшие в основу акта от 11 прериаля. Совершенно очевидно, что, отправляя Менье в провинцию, Комитет дал ему общие директивы, и это обстоятельство позволило Менье не ждать получения текста нового акта из Парижа.
Менье, конечно, нигде и не ссылается на постановление Комитета; да и его собственное постановление помечено 12 прериаля (31 мая), когда парижский документ, изданный накануне (11 прериаля — 30 мая), еще не мог дойти в Авиньон (где в этот момент находился Менье).
Менье предпосылает своему постановлению общие соображения, которые должны показать рабочему всю разумность того, что от него требуется [267]. Он напоминает, что для успешного сбора урожая может не оказаться достаточного количества рабочих рук вследствие того, что война отвлекла массу народа, и указывает, что должен же закон о максимуме иметь и обратную сторону для рабочего: «… в то время, когда составление всеобщего максимума низводит до истинной их стоимости все предметы, которые поденщик должен покупать для поддержки своего существования, в то время и расценка его собственного труда должна претерпеть предписанное законом уменьшение; гражданин, живущий своим поденным трудом, должен быть настолько рассудительным, настолько принимать в расчет собственные свои интересы, чтобы понимать, что собственник покупаемых им предметов может ему уступать их по определенной цене лишь тогда, если сам он в свою очередь отдаст свой труд за плату, определенную законом…», «… ни один класс граждан не может подняться выше закона, и чем больше революция сделала в пользу того, кто живет лишь своим трудом, тем больше права имеет законодатель требовать, чтобы такой человек не останавливал ее поступательного хода ложными мерами и неповиновением, которое имело бы самые гибельные последствия для его же счастья», и т. д.
После этого вступления Менье переходит к отдельным пунктам. В первой статье предписывается составить не только список лиц, занимавшихся в 1789 г. или позднее поденным трудом, но и всех земельных собственников данной коммуны. В составлении этого второго списка должны принять участие сами собственники, которые дадут муниципалитету сведения о количестве своей земли, об ее природе, о количестве посевов. Всякий раз, когда собственники будут иметь нужду в поденщиках, они обратятся за получением таковых к муниципалитету [268], укажут, какие работы им необходимы, и муниципалитет даст им то или иное количество, принимая во внимание и общее число рабочих, и количество собственников в данной общине. При этом каждый собственник получит карточку с обозначением числа данных ему рабочих, срока, на который они ему даны, характера работ, для которых они даны, их имен и так далее; категорически запрещается рабочему наниматься где бы то ни было без разрешения муниципалитета, а собственнику нанимать без получения вышеуказанной карточки. Нарушение этого воспрещения рабочим или собственником карается двухлетним заключением в тюрьме и выставлением у позорного столба. Сверх того, собственник уплачивает штраф в 300 ливров, из коих половина идет в пользу бедных, а другая половина — доносчику. Всякий рабочий, который окажется не записанным в списки или который потребует заработной платы выше установленной, а также всякий собственник, который даст ему эту высшую плату, также подвергается выставлению у позорного столба и двухлетнему заключению. Все чины муниципалитета, которые небрежно будут исполнять эти правила или в срок не предадут суду виновных, будут сами объявлены подозрительными и взяты под стражу впредь до заключения мира (с державами, с которыми Франция вела войну, — это была обычная формула при аресте «подозрительных»). Следить за муниципалитетами обязан был национальный агент, который сам подвергался той же участи, если недостаточно строго следил. Наконец, цена рабочего дня устанавливалась по такой расценке: к цене платившейся в 1789 г., прибавлялась треть. Впрочем, спустя несколько дней этот пункт постановления был изменен самим Менье, когда он получил наконец текст распоряжения Комитета общественного спасения и увидел, что там плату увеличили не на одну треть, а на половину против платы 1790 г.; он переделал данный пункт своего постановления в этом же смысле [269].
Таково это постановление. Вглядываясь в него, мы видим, что оно лишь ярко развивает мысль Комитета общественного спасения.
Рабочие делали все от себя зависящее, чтобы уклониться от этой отдачи в работники тому или иному землевладельцу. Трудно сказать, насколько им это удавалось. Но есть одно свидетельство, показывающее, что сам Комитет общественного спасения не счел возможным ограничиться одними репрессиями.
По-видимому, в области таксации заработной платы отчасти повторилось то же самое, что мы видели, когда речь шла о таксации бумаги и мыла: там, где Комитет общественного спасения должен был во что бы то ни стало добиться положительных результатов немедленно, он отступал от своих принципов и сам нарушал изданный им закон. Земледельческие рабочие, особенно молотильщики, прятались, уклонялись всячески от работы по максимуму, а между тем откладывать уборку и молотьбу было решительно невозможно. И вот в августе 1794 г. Комитет издает постановление, в котором молотильщики объявляются изъятыми из действия закона о максимуме: отныне они, не в пример прочим, должны получать не в 1½, а в 1 3/4 раза больше, чем получали в 1790 г. «La présente fixation n’aura lieu que pour les grains et la récolte de l’année présente», прибавляет Комитет, явно подчеркивая этим всю вынужденность подобной меры [270].
От реквизиций в пользу сельских хозяев рабочие не избавились и при Директории, но это уже выходит из рамок настоящей главы.
Подводя итог тому, что было сказано во всех шести параграфах этой главы о влиянии максимума на положение рабочего класса, приходится прийти к таким заключениям:
1. Максимум как регулятор цен на предметы потребления оказался мерой совершенно неудачной и не улучшил, а ухудшил положение потребителя.
2. Максимальная таксация нанесла тяжкий удар всей обрабатывающей промышленности вследствие естественно ускорившегося оскудения рынков сырья.
3. Закон о максимуме (которого горячо желала и добивалась рабочая масса с конца 1792 г.), не улучшив положения рабочих как потребителей, значительно ухудшил их положение как представителей наемного труда. Реквизиции оказались оружием, направленным против рабочих, со стороны Комитета общественного спасения и подчиненных ему властей во имя хозяйственных интересов государства. При этом под интересами государства понимались как непосредственное обеспечение правительства нужным для его хозяйственных нужд количеством рабочих рук, так и поддержание частных промышленных предприятий, необходимых, по мнению Комитета общественного спасения, для экономической независимости страны.
4. В подобных же видах представители правительственной власти желали насильственным образом заставить рабочих работать у сельских хозяев за плату, установленную таксой.
5. Комитет общественного спасения и подчиненные ему власти еще до падения Робеспьера начали мириться с некоторыми отступлениями от принципа закона от 29 сентября 1793 г. ввиду полной невозможности силой побороть общее пассивное сопротивление этому закону; отступления от принципа, которые проявились в области распоряжений, касающихся полотняного, бумажного, мыловаренного производства, обусловливались прежде всего неслыханным падением качества фабрикации.
Конец террора стал естественной предпосылкой к отмене закона о максимуме. Как уже сказано, 24 декабря 1794 г. закон о максимуме был отменен.
Изнуренным безработицей и голодом, отчаявшимся в средстве, которое еще 15 месяцев тому назад он считал панацеей от всех зол, вступал рабочий класс в начинавшийся новый период. 1795–1799 годы оказались для рабочих продолжением бедствий. Максимум ухудшил положение рабочих, и они без тени протеста смотрели на казнь Робеспьера; отмена максимума не спасла их от голода, и они стали ждать человека, который бы их избавил от новых владык, низвергших Робеспьера и севших на его место. Но и в том, и в другом случае они были уже не актерами, а только зрителями.
Глава VI
РАБОЧИЙ КЛАСС ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ЗАКОНА О МАКСИМУМЕ (Конец Конвента и Директория, 1795–1799 гг.)
1. Общее состояние обрабатывающей промышленности в 1795–1799 и. Ассигнационный кризис. Недостаток сырья. Влияние контрабанды на сокращение сбыта. 2. Экономическое состояние рабочего класса с конце эпохи Конвента и при Директории. Безработица. Эмиграция рабочих при Директории. Понижение заработной платы хозяевами. Попытки рабочих бороться с этим явлением. Брожение в Париже. Брожение в Бордо. 3. Постановления Директории относительно рабочих стачек. Циркуляр Футе. Реквизиция рабочей силы при Директории. 4. Продовольственный вопрос и столичные рабочие при Директории. 5. Данные, касающиеся политическою настроения рабочих в конце Конвента и при Директории. Подозрительность властей. Апатия и покорность со стороны рабочих. Жалобы на дороговизну хлеба и на безработицу. Толки о временах Робеспьера в рабочих кругах. 6. Дело 1796 г. Специальная точка зрения, с которой оно может интересовать историка французскою рабочего класса при революции. Документы этою дела. Что они дают для характеристики рабочих. 7. Рабочие в последние годы Директории. Толки о необходимости «военного правительства»
1
Закон о максимуме и реквизиции страшно расшатали все устои экономической жизни, которая, как мы знаем, и до сентября 1793 г. переживала в высшей степени тяжелые времена. В декабре 1794 г. максимум был отменен. Но остались налицо условия, которые решительно не позволяли французской обрабатывающей промышленности оправиться. Сбыт по-прежнему был возможен почти исключительно лишь внутри страны, но и тут французской промышленности приходилось считаться с могущественно развитой контрабандой; сырье не было так недоступно, как при максимуме, но все же его не хватало очень много, так как неслыханное обесценение ассигнаций препятствовало торговым сделкам; разгром некоторых промышленных городов иностранными армиями (Амьена, Валансьена, Лилля) или усмирительными отрядами (Лиона, Шоле) довершил дело.
Безработица поэтому в 1795–1799 гг. была ничуть не менее жестокая, нежели в 1793–1794 гг. Чудовищное вздорожание всех предметов первой необходимости, бывшее прямым следствием или, вернее, лицевой стороной жестокого финансового кризиса, делало положение людей, живущих своим трудом, поистине отчаянным. Таков общий характер экономической действительности в последние годы интересующей нас эпохи. Документальные показания, относящиеся к концу Конвента и к эпохе Директории, в высшей степени скудны. Обратимся к ним и рассмотрим: 1) что говорят о падении производства, о безработице и дороговизне припасов промышленники, рабочие, правительство; 2) как реагировала на эти бедственные явления рабочая среда в провинции и столице; 3) как боролась правительственная власть с немногими проявлениями рабочего движения; 4) и наконец каково было отношение рабочих к существовавшему политическому строю.
Современникам последовательность событий представлялась в таком виде: сначала максимум, потом реквизиции и наконец обесценение ассигнаций разорили промышленность и оставили рабочих без куска хлеба. Для нас все три причины представляются действовавшими одновременно, но переживавшие революцию иной раз разделяли эти три момента [1].
Во всяком случае, быть может, именно отчасти потому, что максимум был попыткой (весьма неудачной) нейтрализовать гибельные последствия общего экономического и финансового кризиса, как только эта мера перестала привлекать к себе внимание обесценение ассигнаций выступило ярко на первый план. Сырье недоступно, владельцы его не хотят продавать за бумажки, не имеющие никакой цены; рабочие предпочитают не работать и голодать, ибо, работая и получая за труд бумажки, они все равно голодают. Вот повторяющийся мотив этой эпохи.
Следует заметить, что отсутствие сырья, обусловливаемое тем, что и после отмены максимума сырье продолжало «прятаться» ввиду полного недоверия к ассигнациям, а также уже констатированная нами выше техническая отсталость французского производства были двумя главными, коренными причинами страшного кризиса 1795–1799 гг. Они порождали дороговизну и малую продуктивность французской промышленности, логическим последствием чего являлось сокращение сбыта или точнее, переход части внутреннего рынка в руки иностранцев.
Сбыт мог сократиться и даже почти уничтожиться в области шелковой промышленности, но, например, относительно шерстяного, полотняного и особенно бумагопрядильного производства был предел сокращению потребностей населения, был минимум, ниже которого не могли пасть требования внутреннего рынка, несмотря ни на что. И вот тут-то и обнаруживалась полная невозможность для французской промышленности конкурировать с английской, швейцарской, голландской, западногерманской. Все запреты ни к чему не приводили: контрабанда приобрела поистине фантастические размеры, и потребности внутреннего рынка удовлетворялись в 1795–1799 гг. в значительной мере иностранными провенансами, более дешевыми, нежели французские.
На особенное, неслыханное развитие контрабанды французские промышленники обращали внимание правительства уже с 1791 г. [2], когда сырье еще не было так страшно редко, когда еще не было такого обесценения ассигнаций, когда закон о максимуме еще не существовал и не успел так глубоко и на столь долгое время потрясти всю экономическую жизнь страны. В 1793–1799 гг. контрабанда быстро прогрессировала. И прав был бордосский негоциант Порталь, когда он писал (в начале 1793 г.), что контрабанда приняла размеры и характер регулярной коммерческой деятельности, вроде деятельности страховых обществ, с премиями и пр. [3]. Не он один говорит это. В 1797 г. министр полиции с раздражением указывает, что существуют многочисленные страховые общества, отвечающие не только за ввоз, но и за доставку товара по адресу [4]; это «страховое дело» так процветало, так солидно было поставлено, что страхующие брали даже довольно умеренные цены [5].
При Директории контрабандисты дошли до того, что содержали целые вооруженные отряды и давали победоносные сражения таможенным чинам. Эта маловероятная вещь с гневом была констатирована как часто повторяющийся факт министром полиции в 1797 г. в только что цитированном документе [6].
И необходимо учесть еще одно обстоятельство, может быть более сильное, чем даже эта контрабанда, чтобы понять переполнение французского рынка иностранными товарами. В самом деле, ведь только торговля с Англией и с другими врагами была воспрещена вовсе. Вообще же не было решительного запрета, существовали только очень высокие ставки. Эти ставки в громадном большинстве случаев, были таковы, что в нормальное время обозначали фактически полный запрет. Но ведь теперь, в 1795 и следующие годы, они уплачивались ассигнациями по номинальной цене (ибо правительство должно было их брать по номинальной цене, чтобы не уничтожить вовсе их значение); следовательно, при обесценении ассигнаций эти запретительные ставки оказывались равны или почти равны нулю. На это горько жаловались французские фабриканты, указывая, что швейцарцы, немцы, англичане (последние чрез вторые руки) ввозят громадные массы товаров и вконец губят французскую промышленность [7].
Полотняные и бумажные материи, наиболее дешевый материал для одежды, доставлялись во Францию из-за границы в огромных количествах.
К концу рассматриваемого периода мануфактуры байки дошли до полнейшего упадка; голландцы и швейцарцы, поставив на широкую ногу дело контрабандного ввоза этого товара, почти вовсе добили эту отрасль французской индустрии. В 1798 г. мануфактуристы Бове и прилегающих мест в Пикардии жаловались, что они никак не могут вырабатывать так дешево свой товар, как голландцы или швейцарцы: французская байка стоит на 25 % дороже заграничной, ввозимой контрабандным путем и распространяемой по всей Франции [8]. И расходы по контрабандному ввозу обходятся всего в 7–8 франков за квинтал ввозимого товара [9]. Административные власти департамента Уазы подтверждали, что мануфактуры байки, прежде широко распространенные в этой местности, погибают, и что огромное число рабочих — без работы и доведены до крайней нищеты [10]. И нет возможности успешно бороться с контрабандой, вливающей новые и новые массы товаров во Францию.
Главными «соперниками» считают швейцарцев в эту эпоху и фабриканты цветных бумажных материй центральной Франции (департаментов Сены и Сены-и-Марны) и западной (Нанта и тяготеющего к нему района). Они просят в 1799 г. Совет пятисот и Совет старейшин спасти французскую индустрию и указывают, что во Франции производство обходится гораздо дороже, чем за границей: та же штука материи, которая обходится французскому мануфактуристу в 93 франка, за границей обходится в 66 франков [11]. Они просят о повышении тарифных ставок, но мы знаем уже, что контрабанда весьма успешно боролась с этим препятствием.
Потребление цветных бумажных материй было и оставалось весьма большим за весь рассматриваемый период. Своих изделий не хватало, так как недостаток сырья и недостаточное уменье французских рабочих мешали делу и заставляли, как мы видели, мануфактуры добывать белые бумажные материи за границей, а когда это становилось трудно, то закрываться.
Но зато ввоз готовых цветных материй из-за границы — из Швейцарии, из Германии — не прекращался [12]. Контрабанда достигла чудовищных размеров, и все драконовские таможенные меры оказывались совершенно недействительными: реальные нужды населения, повелительная экономическая необходимость разрушали все преграды [13]. Не говоря уже о Швейцарии и Германии, Англия, вопреки самому строгому надзору за побережьем, вопреки особенно суровым мерам французских властей, продолжала в течение всего рассматриваемого периода контрабандным путем переполнять Францию своими фабрикатами и делала это явственно для всех [14].
И не только продукты текстильной индустрии успешно провозились во Францию из Англии; едва ли была хоть одна значительная отрасль промышленной деятельности, которая бы не чувствовала жестоких последствий контрабанды.
Товары, которые во Франции производились мало или производились плохо, особенно успешно проникали на территорию республики из Англии, и поделать тут ничего нельзя было; к числу таких товаров относились именно некоторые химические продукты [15], которых так мало было во Франции, стальные орудия и т. д.
Правительство знало все это. Но воспрепятствовать фактическому ничтожеству запретительных ставок оно не могло, пока оно было бессильно покончить с ассигнациями и перейти к звонкой монете. А помешать контрабанде оно пыталось грозными циркулярами к местным властям об усилении бдительности. При этом правительство сознавало, что бороться приходится не только с контрабандистами, но и с молчаливо помогающим им населением, с потребителями, которым нужен был дешевый заграничный товар.
В этом смысле интересен уже цитированный мной циркуляр министра полиции от 1 мессидора V года (19 июня 1797 г.). Министр пишет, что его приказы не исполняются, что закон о воспрещении английских товаров открыто нарушается (la loi est publiquement et scandaleusement violée); он громит местную администрацию за бездействие власти, констатирует, что английские товары свободнейшим образом циркулируют по всей стране и т. д. Но чему он приписывает, между прочим, бессилие власти в данном случае? «Алчности» купцов, сбывающих контрабандные товары, и сообщничеству потребителей, не желающих понять, что необходимо споспешествовать национальпой, а не английской промышленности [16].
Картина ясна: население искало дешевого товара и находило его. Иностранные товары хлынули во Францию, едва только отмена закона о максимуме сделала торговые сделки свободными, и не было силы, которая бы остановила этот поток. Отсутствие сырья было бедствием, страшно усилившимся при максимуме; после максимума это бедствие ослабело, но не настолько, чтобы позволить французскому производству сколько-нибудь конкурировать по дешевизне с иностранным, не говоря уже о том, что и до оскудения сырья примитивность французской техники очень затрудняла в этом отношении конкуренцию. И вот в 1795–1799 гг., когда, с одной стороны, для иностранцев открылась перспектива сбыта по рыночным, а не по принудительным ценам, с другой же стороны, давать полотна, сукна, бумажные материи по более дешевой цене (сравнительно с заграничным производством) французская промышленность оказалась еще менее способна, нежели прежде, иностранные товары должны были, побеждая все препятствия, устремиться во Францию.
Так, недостаток сырья, примитивность техники, последствия потрясений 1793–1794 гг. не позволяли французским мануфактурам ни отравиться, ни удешевить производство; а явившаяся прямым последствием этого победоносная иностранная конкуренция окончательно подкашивала французскую промышленность, отнимая внутренний рынок, единственный, который у нее еще оставался после потери внешнего рынка в 1792–1793 гг., при начале войны с коалицией. Жестокий финансовый кризис, со своей стороны, еще более расстраивал всю торгово-промышленную жизнь страны и усугублял страдания рабочего класса.
К Конвенту сначала, к Директории, Совету пятисот и Совету старейшин, к министрам впоследствии несутся со всех сторон вопли о гибели промышленности. Все отрасли ее переживают самые тяжкие невзгоды. Отдельные (случайно лишь уцелевшие) показания обыкновенно весьма категорически говорят не только о данной местности, но и о всей Франции. Правительственные заявления всецело подтверждают подобные обобщения.
Шерстяное производство департамента Индры-и-Луары, сосредоточенное вокруг коммун Loches и Beaulieu и кормившее полторы тысячи семейств, очутилось к концу 1798 г. в таком положении, что местные власти обратились к министру внутренних дел с мольбой о помощи, о спасении. И в документе, который сохранился в архиве департамента Индры-и-Луары, констатируется ужасающее общее положение промышленности в этот момент во всей Франции, бесчисленные крахи кажутся испуганному воображению результатом какого-то «гнусного заговора», имеющего целью уничтожить все промышленные заведения и лишить французской народ всяких средств к существованию [17].
В то же бедственное время (летом 1799 г.) граждане города Амбуаза (в Турэни) в своей петиции к Совету пятисот умоляют что-нибудь сделать для «многочисленнейшего класса» рабочих: мастерские пустуют, кожевенные, железоделательные, суконные мануфактуры заперты; сырья нет ни для первых, ни для вторых, ни для третьих мануфактур. Граждане Амбуаза пишут об этом положении дел как о характерном не только для их города, но для «многих мест» республики [18].
И эти показания действительно не были одинокими, они имели общее значение. Уже в 1795 г. официально было засвидетельствовано, что ни одна отрасль промышленности не дошла до такого глубокого и трудно поправимого упадка, как именно выделка шерстяных материй [19], и официальное объяснение этого факта таково, что окончательная гибель этой индустрии прежде всего объясняется максимумом и реквизициями [20], от которых все еще трудно оправиться.
Полотняное производство переживает также тяжкий кризис. В начале 1799 г. администраторы департамента Соммы, некогда одной из самых промышленных частей Франции, доносят министру внутренних дел, что мануфактуры гибнут, хозяева рассчитывают рабочих; le discrédit est à son comble, добавляют они, указывая на совершенное расстройство всей торгово-промышленной жизни Амьена и всего департамента [21].
Относительно шелковой промышленности и ее центра, Лиона, у нас есть несколько показаний, относящихся к этой эпохе (тогда как относительно 1793–1794 гг., эпохи бунта и усмирения города, нет почти ничего).
Еще до осады и усмирения Лиона шелковая промышленность там страшно пала. Достоверных цифр, конечно, нет. По свидетельству комитета торговли, из 60 тысяч рабочих, которые работали на лионские мануфактуры, 30 тысяч уже с конца 1792 г. были «без работы и без хлеба» [22]. Комитет был этим серьезно обеспокоен, тем более что весь юг Франции, поставлявший для лионских мануфактур ежегодно от 35 до 40 тысяч квинталов шелкового сырца ценностью около 80 миллионов ливров [23], был очень серьезно заинтересован в предохранении шелковой индустрии от гибели. Комитет особенно настаивал перед Конвентом, что указываемая цифра — 30 тысяч безработных — будто бы тщательно проверена [24].
В 1797 г. официально признавалось даже, будто до августа 1793 г. на лионских шелковых мануфактурах еще работало около 40 тысяч человек, а число станков было 18 тысяч [25]. После осады и усмирения, после господства максимума и реквизиций осталось всего около 2 тысяч станков, и масса рабочих рассеялась по свету. Многие эмигрировали за границу, многие были забраны в армию; даже и то, что «осталось», 2 тысячи станков, нужно понимать так, что столько уцелело их от разгрома, но и они работают далеко не все: нет рабочих [26], нужно делать специальные затраты из казны, чтобы опять подготовить исчезнувшие кадры знающих технику дела людей. И в стране, стонавшей от безработицы, лионские фабриканты не могут найти нужные для их 2 тысяч станков рабочие руки… Дело в том, что безработные толпами покидали Лион, ища себе пропитания где придется.
Рабочие шелковых мануфактур в 1793–1794 гг., когда производство окончательно пало, рассеялись как по Франции, так и по всей Европе; эта эмиграция подтверждается рядом показаний, и даже чрез 2½ года после отмены максимума представители промышленного мира города Лиона не только вспоминают об этой эмиграции [27], но констатируют, что и теперь, в 1797 г., если мануфактуры возобновят свою деятельность, то не хватит рабочих [28].
Рабочие вследствие полного своего обнищания не могут обзавестись новыми станками и инструментами, а «купцы», т. е. предприниматели, дававшие заказы рабочим, тоже разорены [29]. При таком положении вещей едва ли можно было ожидать существенной пользы от ассигнования в помощь лионской промышленности 100 тысяч ливров, что было решено сделать уже при Директории (в заседании Совета пятисот, 25 августа 1795 г. [30]). Это ничуть не помогло, и в своем послании к Совету пятисот спустя несколько месяцев президент Директории Баррас констатировал ужасающую безработицу и полный упадок производства в Лионе, где тысячи рабочих, по его словам, погибают от отсутствия занятий, от голода [31].
Летом 1797 г. «бюро торговли» города Лиона констатировало, что необходимо для подъема лионской промышленности: следить, чтобы цены на предметы первой необходимости не повышались; чтобы порядок и спокойствие не нарушались; неуклонно препятствовать вывозу из Франции сырья; поощрять ввоз сырья из-за границы; заключить «хорошие договоры» с державами, с которыми Франция примирится. Бюро Просит, например, чтобы в Лионе не были расположены на постой войска, между прочим потому, что это обстоятельство повышает цены на припасы и тем самым на рабочие руки. Эпоху террора и максимума бюро вспоминает с ужасом, говоря о хозяевах мануфактур, которые «убегали или погибали на эшафоте», о рассеянии рабочих по свету, об исчезновении звонкой монеты, которую припрятывали капиталисты, и т. д. При этом с беспокойством указывается, что и теперь (в 1797 г.) вследствие колебаний в правительственной политике прочной уверенности в будущем нет в Лионе: водворение полного спокойствия внутри и мир извне — вот что необходимо им больше всего [32].
Но до конца рассматриваемого периода в этом отношении обстоятельства не изменились.
Все показания в один голос говорят, что усмирение Лиона совершенно прикончило шелковую промышленность, и без того подорванную революцией и войной, недостатком сырья и сокращенном сбыта [33].
В 1795–1799 гг. лионская шелковая индустрия — это тяжкий больной, которого нужно искусственным способом заставить еще протянуть некоторое время; правительство поддерживает субсидиями еще уцелевших фабрикантов, но имеет при этом больше в виду будущее, чем текущий момент.
Некоторое улучшение в делах начинается лишь с последних времен Консульства; покорение германских стран при Империи расширило рынок сбыта шелковых материй, а подчинение Италии обеспечило приток сырья. Но до конца рассматриваемой эпохи полнейшая безработица продолжала царить в Лионе (о второстепенных пунктах сосредоточения шелковой промышленности — Туре и Ниме — нечего и говорить; они и при Наполеоне не оправились от испытаний революционной эпохи). Следует заметить, что к бедствиям Лиона власти в 1795–1799 гг. относились с особенным участием: этот город слишком тяжко пострадал от усмирения.
Коллективная петиция фабрикантов Лилля тоже говорит об особых причинах разорения: бомбардировка (австрийцами) их города, пожар и прочее страшно повредили им; они прибавляют, правда, что закон о максимуме, наряду с обесценением ассигнаций докончил их разорение [34], но министерство только потому вняло их просьбе о помощи, что они ссылались именно на особые причины (бомбардировку); это отличало их петицию от массы других, где речь идет только о максимуме и обесценении ассигнаций [35].
Бумагопрядильная промышленность переживала также тяжкие времена. Нужно заметить, что в эпоху Директории положение ее еще было все же несколько лучше, чем состояние шелкового или шерстяного производств. Начавшиеся завоевания несколько облегчили получение (через вторые и третьи руки) хлопка.
Правительство, понимая огромную важность сохранения этой отрасли текстильной промышленности при полном упадке шерстяного и полотняного производств, с полной готовностью раздавало пособия, субсидии, казенные здания. Субсидия и казенное здание дается 27 ноября 1794 г. (le 7 frimaire, an III) Барневилю, имеющему бумагопрядильную мануфактуру в Париже, Фокслоу в Орлеане, Югану (Hugand) в Лионе (в марте 1795 г.); льготная покупка казенного здания устраивается для мануфактуриста Ранка (в Гавре, июнь 1795 г.), та же милость оказывается Ришару (в Тренкевилле, близ Монтаржи) [36] и т. д. Отказы крайне редки и бывают больше в тех случаях, когда проситель желает получить денежную субсидию, чем в том случае, когда он просит об отводе или продаже казенного здания. Дело доходит даже до готовности на казенный счет перестроить мост, перекинутый через реку, если владельцы бумагопрядильни жалуются, что в настоящем своем виде мост им мешает [37]; правда, речь шла о единственной бумагопрядильне, которая в это время во Франции стала приводиться в движение гидравлическим способом [38], и эта бумагопрядильня на реке Эссоне (близ Арпажона) имела в глазах властей значение опыта, важного для всей национальной индустрии [39].
Начиная с 1796 г. учащаются просьбы лиц, желающих открыть новую бумагопрядильню и просящих у правительства по этому поводу пособия. Общественное значение своих начинаний они мотивируют двояко: во-первых, они хотят дать пропитание голодающим безработным и, во-вторых, «вырвать из рук у англичан» эту отрасль индустрии [40]. Но к этим прошениям правящие власти относятся гораздо более холодно, чем к просьбам уже существующих мануфактур, явно не доверяя, по крайней мере относительно некоторых из этих неизвестных просителей, осуществимости этих затей. Да и трудно было ожидать чего-нибудь от новых предпринимателей, когда и старые бумагопрядильни, даже пережившие почти весь этот бедственный для них период, оказывались, после неоднократных оказаний помощи со стороны правительства, все-таки в конце концов в отчаянном положении вроде, например, уже упоминавшейся бумагопрядильни в Тренкевилле, близ Монтаржи, которая в 1798 г. очутилась лицом к лицу с банкротством [41]; как было поощрять людей к открытию новых заведений, когда и старым на все их мольбы о самом главном для них — о сырье — приходилось отвечать отказом, как было отвечено Saget; (в 1796 г.) или Fouque (в 1799 г.) [42].
Вообще можно лишь относительно говорить о том, что бумагопрядильная промышленность не находилась в полном упадке. И в этой области дело обстояло неутешительно. Города, где это производство было прежде распространено, тяжко страдали от закрытия мануфактур, от ужасающей безработицы.
Так, рабочие города Нанта не перестают (1798–1799 гг.) посылать отчаянные моления всем властям: и министру внутренних дел, и Совету старейшин, и президенту Директории. Они пишут, что их осталась 1/15 часть того количества, которое было до революции, и те погибают от безработицы и страшной нищеты [43]. Содержать взрослого рабочего хозяева не в силах. В конце 1797 г. владельцы бумагопрядильни близ Арпажона обращаются к правительству с просьбой дать им несколько детей, призреваемых в благотворительных учреждениях, и просьба эта тотчас удовлетворяется: владельцы обязываются лишь содержать этих детей на свой счет [44]. С такой же просьбой (тоже в 1797 г.) обращаются к министру внутренних дел владельцы полотняной и бумагопрядильной мануфактуры Тирион и К°. Они также просят дать им призреваемых [45], и это явление до такой степени учащается и входит в норму, что в министерстве внутренних дел (которое с полной готовностью все такие просьбы удовлетворяло) был составлен образец нормального договора, который обязаны подписывать владельцы мануфактур, получающие от министерства призреваемых [46].
Просят правительство уступить им для работы на мануфактурах призреваемых девушек 15–16 лет и бумажные фабриканты, обещая со временем платить им по 12 франков в месяц, а через год 24 франка, но требуя, чтобы они работали даром первые четыре месяца [47]; фабрикант Hubert, например, прямо заявляет (летом 1796 г.), что рабочие разбегаются, и что он отчаялся найти их, а потому просит правительство дать ему человека 24 детей на шесть лет, и они будут у него работать над выделкой бумаги и красок [48].
Весь трагизм положения хорошо освещают отчаянные мольбы рабочих о помощи, сохранившиеся в редких уцелевших документах этого рода (так как движения в официальном порядке такого рода общим жалобам не давалось, то и в папки эти бумаги не вкладывались и сохраниться могли среди других канцелярских бумаг только совершенно случайно). Прошениям из Нанта посчастливилось, они уцелели. Вот опять пишут коллективное прошение президенту Директории в 1798 г. 300 рабочих всех мануфактур города Нанта [49]. Голод сделал их смелыми: они говорят о «глухоте» Директории к их жалобам, но тут же сбиваются на обычный для той эпохи тон рабочих петиций. Они умоляют сжалиться над ними, их женами и детьми, взывают к отеческим чувствам Директории. Свои несчастья они приписывают войне и заграничной конкуренции и просят воспретить ввоз иностранных товаров во Францию. Они хотят, в случае если помощь не будет оказана, поступить в солдаты и в этом видят последнее средство к существованию. Они утверждают, что «всюду в республике мануфактуры уничтожены», и в этом отношении их показание близко сходится со многими другими. Рабочие Нанта в особенности настаивают на том, что мануфактуры бумажных материй, дающие работу, по их утверждению, «миллиону» лиц обоего пола и всех возрастов во всей Франции, заслуживают поддержки. Эта цифра, конечно, меньше нас может интересовать, нежели показание рабочих, что они тщетно бродили по всей республике, ища работы. Впрочем, все уцелевшие свидетельства этого рода, относящиеся к эпохе 1795–1799 гг., носят такой обобщающий характер.
Окончательно погибали те предприятия, которым посчастливилось пережить даже эпоху максимума кое-как, с тяжкими убытками, с бесчисленными трудностями. Сырья опять иной раз решительно не хватало, если нужно было везти морем.
Большой торговый дом Leleu et C°, который в течение 40 лет занимался снабжением города Легля и окрестных городов материалами, нужными для игольного и булавочного производства, еще делал время от времени попытки провезти во Францию закупленный в скандинавских странах груз стали, а также медной и латунной проволоки, но удавалось это очень плохо, и в 1796 г. торговый дом очутился в отчаянном положении [50]; чтобы спастись от банкротства, он обратился к правительству с просьбой о выдаче беспроцентной ссуды в размере 500 тысяч ливров для расплаты со стокгольмскими кредиторами, но получил отказ; министерство внутренних дел мотивировало отказ между прочим истощением казны.
В полном упадке находились и те отрасли производства, о которых правительство особенно заботилось. Мы видели, что и до, и во время эпохи максимума власти делали ряд шагов, чтобы обеспечить бумажные мануфактуры нужным материалом. До какой степени правительство горячо продолжало интересоваться вопросом о недостаточности сырья для бумажных мануфактур, доказывают и те ликующие циркуляры, которые разослала 3 января 1795 г. комиссия земледелия и искусств по поводу «драгоценного открытия» и «счастливых опытов» касательно использования исписанной бумаги для выделки новой [51]. Это случилось уже после отмены закона о максимуме, но никаких благих последствий указанное открытие в 1795–1799 гг. еще не возымело. Бумажные мануфактуры, несмотря на все преимущественное покровительство со стороны властей, оказались к концу рассматриваемого периода в очень большом упадке. Министр внутренних дел Франсуа де Нефшато, делясь (в 1798 г.) с Директорией своими соображениями по этому поводу, приписывает упадок и этой отрасли индустрии все тем же общим причинам: «… максимуму, различным реквизициям, недоверию к ассигнациям, редкости и дороговизне сырья и рабочих рук, сокращению рынка сбыта» (что в свою очередь он приписывает упадку книжной торговли, а чем объясняется это явление, он не говорит) [52]. И цифры, касающиеся общей массы производства, явившиеся результатом анкеты, предпринятой им по этому поводу, не оставляют в нем сомнения насчет того, какую именно эволюцию пережило бумажное производство за весь интересующий нас период. Весьма жаль, конечно, что эта статистика и неполна (министерство жалуется, что некоторые департаменты вовсе ничего не ответили), и необстоятельна; например, вовсе и не ставился вопрос о числе рабочих на каждой мануфактуре; и из тех ответов, которые, судя по всем указаниям, были даны, далеко не все сохранились, нет и общей сводки. Но общее впечатление в правительственных кругах было угнетающее [53]: эта отрасль оказалась почти уничтоженной.
Производство бумаги совершенно пало в самом деле, между прочим, вследствие прекращения больших книгоиздательств и воспрещения вывоза бумаги за границу; это официально было засвидетельствовано еще в 1797 г. [54] Останавливаться на других причинах упадка этого рода индустрии составители официальной бумаги сочли излишним. Впрочем, как только что сказано, сам Франсуа де Нефшато хорошо понимал, что дело было не только в сокращении сбыта.
Общее отчаянное положение обрабатывающей промышленности в эпоху Директории неоднократно признается и правительством как факт совершенно очевидный.
Декретом 8 флореаля IV года (27 мая 1790 г.) Совет пятисот ассигновал на вспомоществование шелковым, шерстяным и полотняным мануфактурам 4 миллиона ливров. В докладе, предшествовавшем этому декрету, Coupé констатировал плачевное состояние всех французских мануфактур. Мануфактуры Валансьена, Куртре, Седана, Лиона докладчик причисляет к наиболее пострадавшим [55].
Но все это ни к чему не приводило, и вплоть до последних дней своего существования Директория должна была выслушивать сообщения о всеобщей безработице, о неслыханном упадке всех производств без исключения.
Министры времен Директории охотно признавали, что финансовый кризис, закон о максимуме, реквизиции нанесли страшный удар промышленности; они даже подчеркивали это в своих ответах отдельным просителям [56], но существенной помощи оказать не могли, не взирая на все свое желание.
В 1799 г. Директория, освобождая владельцев мануфактур и промышленных заведений от общего налога на окна и двери, констатирует тяжелое состояние французской индустрии и говорит лишь о «смягчении» их судьбы, о спасении «остатков» мануфактурной деятельности страны [57].
20 сентября 1799 г. в Совете пятисот был поднят вопрос об ужасающей безработице; депутат Фабр предлагал даже начать какие-нибудь общественные работы, чтобы помочь беде [58]. Но, конечно, положение финансов было таково, что сделать это было немыслимо даже в таких размерах, чтобы хоть сколько-нибудь помочь безработным в столице, не говоря уже о всей стране.
Вопрос был сдан в комиссию. Это было последнее упоминание о рабочих, имевшее место в законодательном учреждении за рассматриваемый исторический период; спустя 6 недель Директория перестала существовать.
2
При том состоянии обрабатывающей промышленности, как только что констатированное, положение рабочего класса не могло не оказаться самым плачевным.
Безработица — тайный бич рабочих в 1795–1709 гг.
Безработица заставляла рабочих, сколько-нибудь располагавших техническими знаниями или навыками, искать себе пропитания за границей, там, где в них могли нуждаться. Центральное бюро парижской полиции в июне 1797 г. с беспокойством доносило правительству, что рабочих сманивают иностранцы, желающие у себя «основать новые мануфактуры к ущербу для республики» [59].
Разбрелись многие и многие рабочие лионских шелковых мануфактур [60], уходили куда глаза глядят и последние марсельские мыловары, товарищи которых начали исчезать уже с 1793 г.; уходили и более способные и опытные ткачи суконных мануфактур.
Уходили и рабочие, сколько-нибудь сведущие в судостроении, и правительство этим было очень озабочено. Даже было оказано особое снисхождение рабочим, замешанным в восстании Тулона и укрывшимся на английских судах: они были отнесены в категорию граждан, которым позволено было вернуться на родину (декретом 2 вандемьера IV года, т. е. 24 сентября 1795 г.) [61]; это снисхождение и тут объясняется прежде всего утилитарными целями: достаточно вспомнить, что ведь для того, чтобы снабдить тулонский порт сколько-нибудь умелыми или знакомыми с морским судостроением рабочими, Конвенту пришлось еще в январе 1794 г. объявить находящимися в реквизиции всех рабочих и ремесленников, прикосновенных к судостроению. Немудрено поэтому, что властям необходимо было во что бы то ни стало вернуть в Тулон этих нужных республике беглецов. Вот почему они и попали в вышеприведенный список амнистированных счастливцев, наряду со столь же нужными военными медиками и булочниками.
Скудость в сколько-нибудь умелых рабочих руках проявляется в эту эпоху (приблизительно с конца 1794 г.) и в кожевенном производстве, с огромными затратами, через силу поддерживаемом властями ввиду нужд армии. Рабочих, сколько-нибудь обученных, хозяева сманивают один у другого [62].
Хозяева-кожевники обращаются к Комитету общественного спасения с просьбой не забирать в военную службу их рабочих и получают удовлетворение [63]. Рабочих, имеющих сколько-нибудь серьезную выучку, так мало, что даже владельцы больших кожевенных мануфактур жалуются, что им придется закрыть заведение, если их рабочих заберут в военную службу.
К концу рассматриваемого периода последствия эмиграции французских промышленников и рабочих стали сказываться. Конечно, прежде всего воспользоваться этой эмиграцией могли только нации, у которых промышленность стояла в техническом отношении ниже французской. Мы видели, как еще при старом режиме испанцы старались раздобыть французские станки, нужные для изготовления некоторых (шерстяных по преимуществу) товаров. Когда Седанская суконная индустрия окончательно пала, то в Испанию, откуда в Седан до революции шли лучшие сорта шерсти, переселилось много и мануфактуристов, и рабочих из Седана, так что уже в 1800 г. в Испании выделывались сукна не хуже и дешевле, чем во Франции [64]; в Италии и тоже в Испании вследствие переселения рабочих из Марселя стало выделываться превосходное «марсельское» мыло [65], о котором во Франции из-за недостатка сырья уже стали забывать, заменяя его третьестепенными сортами и суррогатами.
Но эмиграция могла спасти лишь немногочисленные кадры французских рабочих, обладавших какими-нибудь техническими навыками, тайной каких-либо особых приемов производства. Для подавляющего большинства этот исход не существовал. Нужно было оставаться на родине и либо голодать вплоть до голодной смерти или самоубийств, принимавших, как увидим, кое-где эпидемические размеры среди рабочего класса, либо в лучшем случае довольствоваться ничтожнейшим вознаграждением, не стоявшим ни в каком соотношении с непомерным вздорожанием съестных припасов. Брать приходилось все, что дают, толпы голодающих осаждали немногие уцелевшие промышленные предприятия, и размеры заработной платы устанавливались всецело хозяевами.
В своей книге «Thermidor et le Directoire» (составляющей часть коллекции «Histoire socialiste») Deville делает ссылку на мемуары Dufort de Cheverny и приводит фразу:… le peuple fait la loi pour son travail. Эта фраза совершенно не соответствует действительности, как она рисуется по приведенным документальным данным. В 1798 г. в Турэни (к которой относится замечание мемуариста), как и во всей Франции, стон стоял от безработицы, которая даже в 1794–1795 гг. не достигала таких неслыханных размеров, как в 1798–1799 гг.; настроение рабочих было самое подавленное, ни малейших признаков профессионального или какого-либо другого движения не было. Вот почему к словам Dufort’a нужно было бы отнестись с большой осторожностью, даже если бы он их пытался как-либо подкрепить, а не бросил мимоходом. Но мало того: убежденный роялист граф Dufort de Cheverny не переставал отмечать признаки темной стороны всех правительств и режимов времен революции. Так, если мы не удовольствуемся одной фразой, цитируемой Deville’м, а обратимся к подлинному тексту, то увидим что Dufort на протяжении десятка строк обвиняет народ и в «слепом подчинении» властям, и в том, что le peuple fait la loi pour son travail, услышим, что землевладельцам (сам граф Dufort был крупным помещиком) живется хуже, чем поденщикам, что народ весьма усердно посещает кабаки, словом, мы найдем тут общее клише, повторяющееся в мемуарах представителей того политического лагеря, к которому принадлежит наш автор [66]. К слову заметим, что и вообще, как ясно по контексту, тут речь идет о сельскохозяйственных рабочих, поденщиках, journaliers, ибо: 1) они противопоставляются тут классу земельных собственников и 2) когда нужно было обозначать одним словом класс рабочих, занятых в обрабатывающей промышленности, то никогда не употребляли слова journaliers; напротив, если это слово употребляется без дальнейших пояснений, оно всегда относится в документах XVIII столетия именно к наемным сельскохозяйственным работникам. Конечно, и относительно сельскохозяйственных рабочих неверно, что они «предписывают законы» своим нанимателям; напротив, урожай 1798 г. был вовсе не велик, и решительно ниоткуда мы не слышим о недостатке рабочих рук для земледельческих работ; но во всяком случае в приведенной фразе еще могло сказаться ворчливое недовольство помещика-аристократа. Применять же это мимолетное замечание к рабочему классу, занятому обрабатывающей индустрией, которым Dufort абсолютно не интересовался и с которым никогда никакого дела не имел, у нас нет ни малейших оснований. Прибавим еще черту: как явствует из приведенной (см. последнее примечание) нами выдержки, граф Dufort de Cheverny считает положение поденщиков, зарабатывающих «30–40 су», прекрасным и не удивляется, что «народ» посещает кабаки; а через две страницы относительно той же осени 1798 г. он констатирует нужду, от которой страдают «все классы» [67]. Все эти противоречия ничуть не должны удивлять исследователя, привыкшего читать партийные мемуары той эпохи: и фраза о поденщиках, наполняющих кабаки, нужна была нашему автору, чтобы вопросить: cet état de choses peut-il durer [68], и слова о всеобщей нужде тоже должны в конце концов привести читателя к убеждению, что «подобное положение вещей не может держаться» иначе, как хитростями Директории [69]. Автору решительно все равно, как доказать этот тезис, и он ничуть не заботится о том, что его аргументы противоречат один другому. Но именно поэтому к его утверждениям следовало бы относиться с большой осторожностью.
Рабочие «диктовать закон» хозяевам не могли при тех экономических условиях, о которых выше шла речь.
Скорее возможны были обратные явления. В середине ноября 1797 г. в Париже хозяева увеличили рабочий день плотников на ½ часа, одновременно уменьшив заработную плату. Плотники стали собираться и, как полиции показалось, намеревались «затеять борьбу со своими хозяевами». Полиция прибавляет, что будут приняты меры против смутьянов [70].
Наличность массы безработных могла не только в плотничьем промысле, но и в других промыслах побудить хозяев понизить плату, хотя и той, которую получали в среднем рабочие в 1797–1798 гг., совершенно не хватало на покрытие насущнейших нужд. Рабочие должны были покоряться; никакая стачка не могла быть успешна при том отчаянном состоянии, в котором находилась индустрия в это время. Но попытки противиться уменьшению рабочей платы в начале мая 1798 г. были. Мы узнаем о них из постановления центрального бюро парижской полиции от 7 мая 1798 г. [71] Бюро, ссылаясь на закон Ле Шапелье, воспрещает рабочим разных профессий собираться и вступать между собой в соглашения касательно размеров заработной платы, грозит зачинщикам карой закона и указывает на то, что никто не имеет права мешать другому работать по какой угодно цене. Бюро говорит об угрозах и насилиях, которые пускают в ход некоторые рабочие «разных профессий», желая помешать своим товарищам работать [72]; внимание рабочих обращается при этом еще на то обстоятельство, что подобный образ действий может «самих же рабочих довести до самой ужасной нищеты», так как все это «может способствовать прекращению работ или перерыву в работах» и т. д. Это соображение имело вполне реальный вес в глазах рабочих, ибо колоссальный перевес предложения труда над спросом бросался в глаза; если они все-таки сделали попытку, то, конечно, только вследствие безвыходного положения.
Нечего и говорить, что никаких последствий эта попытка не имела. Полицейское постановление является первым и последним дошедшим до нас известием об этом начинавшемся и сейчас же замершем движении. Постановление центрального бюро кончалось предложением полицейским комиссарам и коменданту Парижа пустить в ход силу в случае надобности. Но до этого не дошло. Ежедневные полицейские рапорты больше не упоминают об этой стачке.
Об увеличении заработной платы в громадном большинстве отраслей промышленности нельзя было и думать, так как мы уже видели из предшествующего, что производство сокращалось. Но в тех редчайших случаях, где почему-либо хозяевам было выгодно продолжать свое дело, рабочим удавалось иной раз путем стачки добиться некоторого повышения платы: когда наборщики газеты «Courrier républicain» потребовали увеличения сдельной платы за одну форму с 200 ливров до 450 ливров ассигнациями, то владельцы сначала отказались, а потом уступили ввиду немедленно начавшейся стачки [73]. Конечно, подобное повышение платы все-таки не было соразмерно с чудовищно поднявшимися ценами на предметы первой необходимости; но и оно было возможно только в этом случае, где немедленно требовался штат подготовленных технических людей. Настаивать на повышении заработной платы в промышленных заведениях, которые осаждались толпами безработных, умолявших взять их, было, повторяем, совершенно немыслимо.
Положение таким образом для рабочей массы создавалось совершенно безвыходное.
И ропот, по отзыву полиции, стал приобретать слишком серьезный характер. Рабочие не переставали приписывать правительству свои бедствия [74]. В конце декабря 1795 г. произошло еще резкое падение ценности ассигнаций: за золотой луидор стали давать по 5200 ливров ассигнациями, другими словами, один металлический ливр стоил уже даже не 185, как в начале месяца, а 260 ливров ассигнациями. Рабочие тогда собирались потребовать, чтобы им вместо 100 ливров ассигнациями, которые они получали, хозяева платили 1 ливр металлический [75], заявляя, что иначе они все прекратят работу. Конечно, им не сделали этой уступки, которая равна была бы увеличению их платы в 2 3/5 раза, и угроза рабочих тоже осталась невыполненной, а между тем припасы вздорожали еще более сообразно с этим новым падением ассигнаций. Отчаянные проекты перерезать поголовно всех спекулянтов, махинациям которых приписывалось обесценение ассигнаций, не прекращаются с тех пор в рабочей среде; рабочие хотели начать истребление менял, находившихся в Пале-Рояле [76], и полиция принимала меры к их охране.
Все попытки собраться большой массой в зародыше пресекались полицией. Да рабочие и ограничивались предположениями. Так было, например, и с предполагавшимся собранием относительно самоубийств. Самоубийства с целью спастись от мук голода настолько участились, что рабочие именно под влиянием этого [77] хотели было собраться (еще 19 мая 1795 г.) в Сент-Антуанском предместье; они растерянно говорили только, что «рано или поздно нужно, чтобы их страдания окончились», не выставляя никакой программы действий или даже порядка дня. Предположенное собрание и не состоялось.
Полиция не спускала глаз с Сен-Марсельского и Сент-Антуанского предместьев.
В провинции положение было не лучше: в Бордо хлеб стоил весной 1795 г. (еще до неслыханного падения курса, разразившегося в конце 1795 г.) 20 су фунт, в других департаментах — 20, 30, даже 40 су (в Конвенте раздавались голоса, утверждавшие, что цена хлеба в департаментах доходила уже в марте 1795 г. до 50 су фунт [78]); к сожалению, нет точных указаний, где именно хлеб оказался дороже всего. В Бордо было неспокойно.
Брожение в мастерских скобяных товаров началось в январе 1795 г.; 24 января 1795 г. четверо лиц, владевших этими мастерскими, явились в муниципалитет с жалобой, что рабочие не дают им покоя, требуя возвышения платы, хотя и теперь уже они получают в 3 раза более, нежели в 1790 г. (а не в 1½ раза, как требовалось согласно закону о максимуме, отмененному всего за месяц до того [79]). Муниципалитет никаких мер против рабочих не предпринял и даже хозяевам не разрешил (на основании закона Ле Шапелье) собраться, чтобы обсудить меры борьбы с рабочими.
В течение ноября и декабря 1795 г. волновались в Бордо рабочие, служившие у предпринимателя, заведовавшего городским освещением. В середине декабря они объявили, что забастуют, если предприниматель откажется платить по 10 ливров в день и выдавать по фунту хлеба каждому рабочему. К ним примкнули и трое заведующих работами, которые требовали ежедневной платы в 40 ливров, и даже главный управляющий (régisseur), потребовавший 80 ливров в день [80]. Предприниматель обратился к муниципалитету, и было решено передать дело на заключение финансового комитета. Полная невозможность существовать на 3–4–5 ливров в день бросалась в глаза: угрозы ни к чему не привели бы, ибо в самом деле рабочим грозила голодная смерть ввиду полного обесценения ассигнаций.
В мае 1797 г. опять началось стачечное движение среди рабочих веревочных мастерских в Бордо. Муниципалитет выслушал рабочих, пришедших «в большом количестве» с целью изложить требования, предъявленные к хозяевам (речь опять, как и в 1794 г., шла о повышении заработной платы), и «статья за статьей» прочел им вслух и снабдил разъяснениями закон Ле Шапелье, воспрещающий стачки [81]. Но это не помогло. Стачка (начавшаяся прежде всего в мастерской Ravezie) продолжалась. Тогда муниципалитет на основании того же закона Ле Шапелье постановил предать суду стачечников. Стачки муниципалитет называет при этом «самым губительным для промышленности беспорядком», истощающим народное богатство. «Непропорциональное» повышение заработной платы может лишь сделать предметы первой необходимости дорогими и затруднять конкуренцию французских товаров с заграничными; всякое регулярное правительство борется с такими злоупотреблениями, как стачки и т. д. [82]
Тотчас после падения Робеспьера прорвалось долго сдерживаемое неудовольствие и в Париже.
В Париже рабочие не скрывали своего неудовольствия по поводу максимальной расценки заработной платы, установленной муниципалитетом, и Комитет общественного спасения сам признал, что эта расценка не находится в соответствии с ценами на предметы первой необходимости [83].
Дело дошло до того, что рабочие, работавшие по сплаву леса, возмутились и забастовали, требуя увеличения заработной платы, и полиции пришлось восстановлять порядок. Их примеру последовали рабочие-булочники, которые объявили, что не могут работать за меньшую плату, нежели 18 ливров в неделю. «Они доставляют больше всего забот полиции», — читаем мы в полицейском рапорте 1794 г. [84].
Было движение и среди оружейников, но оно было быстро локализовано усилиями заведующих мастерскими [85]. Тут речь шла не столько о слишком низкой плате, установленной максимумом (которому оставалось жить еще несколько дней), сколько о том, что Комитет общественного спасения решил передать правительственные оружейные мастерские в руки частных предпринимателей, а это влекло за собой замену до сих пор существовавшей поденной платы платой сдельной. А если максимум казался слишком низким даже при поденной расплате, то последняя расплата, тоже предусмотренная максимумом, была в самом деле совершенно ничтожна: при этой расценке рабочий в среднем мог заработать 1½ ливра в день, а жизнь стоила самое меньшее 2–2½ ливра в эту пору. Рабочие одной из оружейных мастерских и пытались, но безуспешно, вызвать движение и внести сообща петицию в Конвент.
Как уже сказано, эта попытка не удалась, а Комитет общественного спасения опубликовал (13 декабря 1794 г.) против них особое воззвание, к которому примкнули также Комитеты общественной безопасности, законодательства и военный [86]. Воззвание грозно обращается к рабочим этой мятежной мастерской, которые «позволили себе вызвать сборище» и насильно хотели принудить других последовать своему примеру. Но большинство рабочих, констатирует Комитет, согласилось «скорее подвергнуться последствиям угроз» своих товарищей, чем «нарушить общественное спокойствие необдуманной выходкой». Воздавая хвалу рабочим, не согласившимся принять участие в движении, угрожая нарушителям спокойствия [87], Комитет предостерегает рабочих от «западни», которую подставляют им агитаторы — «внутренние и внешние враги» республики. Обращение кончается снова угрозой: напоминает, что Конвент «с энергией будет держать бразды правления», сумеет предохранить «добрых граждан от опасных заблуждений» и с твердостью подавить происки злонамеренных [88].
Оружейники не осмелились более повторить свою попытку; они бродили вокруг Конвента и говорили, что не знают, что с ними будет [89]. Некоторые из них хотели прибегнуть к тайной порче фабрикуемого оружия и начали в этом смысле агитацию между товарищами, но полиция проведала обо всем, и мы не знаем, осуществилась ли эта мысль [90]; нужно заметить, что в случае обнаружения виновный подлежал смертной казни.
С конца июня 1796 г. (после того как уже был прекращен выпуск бумажных денег) начинаются попытки рабочих заставить хозяев платить им металлическими деньгами, но полиция строго следит и не дает им собираться [91]. А в то же время правительство (особенно с июля 1796 г.) совершенно бессильно заставить торговцев принимать в уплату за товар бумажные деньги [92]. Голод среди рабочих свирепствовал со страшной силой; это нежелание торговцев считаться с бумажными деньгами вовсе грозило рабочим совершенной гибелью [93]. Единственный выход был все-таки в отказе работать иначе как за металлические деньги. И это было сделано: в последние дни июля 1796 г. без стачек, без сборищ, без общих решений — всему этому немедленно положила бы конец полиция — силой вещей рабочие остались лишь у тех хозяев, которые соглашались платить металлическими деньгами [94]. Конечно, сейчас же это отозвалось сокращением производства и увеличением числа безработных, так как хозяева сами не располагали еще достаточным количеством металлических денег; но те рабочие, которые имели работу, получали за нее с конца июля плату либо отчасти, либо целиком металлическими деньгами [95].
С тех пор, т. е. с середины лета 1796 г., больше безработица, чем дороговизна припасов, становится господствующей темой жалоб [96]; владельцы мастерских и мануфактур, которые сочли возможным продолжать работы, жаловались на рабочих и высказывали желание, чтобы правительство их обуздало [97]. Так как это было абсолютно немыслимо, ибо получать плату бумажными деньгами было равносильно тому, что работать даром, то единственной угрозой в этом отношении являлась угроза закрытия промышленного заведения. И в самом деле, осенью 1796 г. и зимой 1796/97 г. сокращение производства продолжалось.
Редкость металлических денег, закрытие мануфактур служили главной темой разговоров. Рабочие склонны были объяснять финансовый кризис казнокрадством, говорили, что Директория стремится обогатиться и что нужно военное правительство [98].
Масса безработных увеличивалась притоком из деревень; на зиму тянулись в большие города и прежде всего в Париж люди, кое-как кормившиеся на сельскохозяйственных работах весной и летом. Достать работу — вот что единственно занимало столичную рабочую массу, и полиция подчеркивает в своих донесениях, что общественные дела их нисколько не занимают [99]. Но работы не находилось; «… безработными кишат мостовые», — констатировали власти в ноябре 1796 г. Лишь с конца 1796 и начала 1797 гг. заметнее стали появляться металлические деньги.
3
Только в исключительных случаях, именно там, где: 1) производство еще держалось, еще не дошло до полного упадка, и 2) где по условиям труда рабочие работали в помещении самого заведения, могли проявиться коллективные действия, надавленные к увеличению заработной платы. Оба эти условия были налицо, например, в бумажных мануфактурах, и хотя мы лишены сведений о том, где и какие стачки на бумажных мануфактурах в эпоху Директории происходили, но по энергии, с которой правительство боролось против подобных явлений, можно догадываться, что самый факт не был редкостью и в эти годы (впрочем, это совершенно гармонирует со всем тем, что было сказано о рабочих бумажных мануфактур в предшествующих главах).
Постановлением 18 фрюктидора IV года (4 сентября 1796 г.) Директория подтвердила воспрещение каких бы то ни было рабочих ассоциаций и при этом обратила серьезное внимание именно на рабочих бумажных мануфактур. Директория констатирует, что, невзирая на закон от 17 июня 1791 г. (закон Ле Шапелье) и другие запреты, рабочие бумажных мануфактур продолжают «соблюдать обычаи, противные общественному порядку»: они празднуют свои особые праздники, налагают друг на друга штрафы, позволяют себе прекращать работу в мастерских, причем запрещают и другим работать, требуют чрезмерной платы от хозяев за избавление хозяев от заложения интердикта на их мастерские [100].
Что касается явления по существу, то весьма естественно, что движение проявилось именно там, где сбыт был обеспечен: ведь бумажные мануфактуры работали на правительство и уцелевшие всегда имели работу.
Директория рассматривает эти действия рабочих как злонамеренный беспорядок, затрудняющий «торговлю, промышленность и право собственности» [101]. В резолютивной части своего постановления [102] Директория, опираясь главным образом на: 1) закон Ле Шапелье, 2) на специально относящийся к рабочим бумажных мануфактур закон 23 нивоза [103] (1794 г.) и 3) на регламент от 29 января 1739 г. [104], самым категорическим образом подтверждает эти предшествующие законоположения и подкрепляет их некоторыми новыми пунктами.
Подчеркивается, что всякие соглашения и действия скопом законопреступны; что рабочий может «индивидуально» подать жалобу, отнюдь не имея права при этом прервать работу. Подтверждается, что всякие штрафы, налагаемые рабочими на товарищей или хозяев, будут караться как воровство (comme simple vol), в первый раз — двухлетним, а второй раз — четырехлетним заключением в тюрьме. Точно так же караются и «интердикты», налагаемые на мастерские, ибо это рассматривается тоже как нарушение права собственности; при этом виновные должны быть арестованы тотчас же после того, как местные власти получат соответственное донесение хозяев (art. V). Под страхом штрафа (в 100 ливров) воспрещается рабочим покидать хозяев, не предупредив их за 40 дней, а фабрикантам — принимать рабочих без письменного удостоверения предыдущего нанимателя (под страхом штрафа в 300 ливров). Независимо от этого письменного удостоверения, рабочий бумажной мануфактуры должен еще быть снабжен паспортом от местной администрации, без чего он не может перейти из одной мануфактуры в другую (art. X). Заработная плата определяется по соглашению между хозяином и рабочим. Рабочий, на время отлучившийся в течение рабочего дня без разрешения хозяина от работы, подвергается штрафу в 3 ливра. Всякие утеснения вновь нанимаемых лиц со стороны старых рабочих, всякие поборы с них и так далее караются штрафом в 20 ливров «и большими наказаниями, если потребуется». Это неопределенная формула («et de plus grandes peines, s’il y échoit») совершенно развязывала руки администрации, и до конца рассматриваемой эпохи власти не переставали подозрительно относиться к рабочим бумажных мануфактур.
27 сентября 1799 г. министр полиции Фуше обратился к комиссару департамента Loiret с указанием, что среди рабочих бумажных мануфактур вообще существует брожение: они стремятся к независимости для себя, угнетают тех своих товарищей, которые не желают подчиняться «вожакам ассоциации» [105]. Фуше утверждает далее, что эта «ассоциация» имеет сношения с разными мануфактурами, устраивает собрания, налагает интердикты на ту или иную мануфактуру, запрещая рабочим работать там, и т. д. Хозяева платят налагаемые этой ассоциацией штрафы, иначе их заведения по капризу ассоциации уничтожаются. «Эти беспорядки возбуждаются и поддерживаются, без сомнения, Англией с целью совершенно разорить наши мануфактуры», — умозаключает Фуше. А поэтому он требует особой бдительности и энергии со стороны властей, обязанных разоблачать преступные происки. Ссылаясь на отмеченное выше постановление Директории от 18 фрюктидора (4 сентября 1796 г.), он требует энергичной репрессии и предлагает точно осведомлять его о результатах наблюдений.
На следующий же день комиссар департамента сообщил циркулярным письмом во все кантоны, где существовали бумажные мануфактуры, о существовании этой указанной Фуше преступной ассоциации. В сущности это письмо оказывается почти буквальным повторением сообщения Фуше. Комиссар требует от кантональных властей сообщения «об этом важном предмете» [106]; министра же он одновременно удостоверяет, что, если что-либо будет замечено в департаменте, меры к осведомлению министерства будут приняты [107]. Работа закипела. Администрация кантонов департамента Loiret в ряде донесений удостоверила, что на бумажных мануфактурах все обстоит благополучно; если в этих донесениях попадаются указания на не совсем спокойный дух в рабочей среде, то одно относится к кузнецам, а другое — к какому-то булочнику, так что оба указания никакого серьезного значения не имеют [108].
Следует заметить, что постановление касательно рабочих бумажных мануфактур послужило как бы образцом для другого акта того же рода. Среди очень скудных известий, касающихся рабочего класса при Директории, одно говорит нам о требовании, предъявленном рабочими шляпных мастерских в Париже своим хозяевам. Требование касалось увеличения заработной платы. Хозяева, после того как движение продолжалось около месяца, принесли жалобу в Совет пятисот 19 прериаля V года и заявили при этом, что если бы они уступили своим рабочим в их требовании, последствием этого было бы вздорожание шапок для солдат на 40 су за штуку. Поэтому они просили Совет принять меры к тому, чтобы заставить рабочих работать по прежней цене. Совет отослал это дело в Директорию для соответствующего распоряжения [109].
По поводу этого случая и, может быть, других аналогичных, сведения о которых не дошли до нас, Директория издала 11 июля 1797 г. постановление, касающееся рабочих шляпных мастерских и аналогичное тому, которое в 1796 г. было издано относительно рабочих бумажных мануфактур [110]. Мотивируется постановление тем, что «в шляпных мастерских или фабриках» в различных местах республики царит своеволие, которое показывает, что и фабриканты, и рабочие полагают, будто вместе с отменой цехов отменены также все старые законы, касавшиеся ремесл. «От этого убеждения происходит бесчисленное множество злоупотреблений и беспорядков», ежедневные нарушения закона. Необходимо поэтому «просветить рабочих и учеников, установить их права и права хозяев». Директория категорически заявляет, что все законы, прямо не отмененные конституцией, продолжают сохранять свою силу. И действительно, все постановление опирается главным образом на законы 1748, 1749, 1777, 1782 гг.; конечно, есть ссылки и на закон Ле Шапелье 1791 г. и, что следует отметить, ссылки на постановления, касающиеся бумажных мануфактур и уже приведенные нами выше.
В этом постановлении от 11 июля 1797 г. мы замечаем две тенденции: 1) прежде всего, конечно, оно стремится внести порядок, поддержать субординацию в мастерских и воспрепятствовать стачкам; 2) рядом с этим Директория желает воскресить некоторые существовавшие до уничтожения цехов правила, которые клонились к поддержанию данного производства на известной высоте.
О первой тенденции много говорить в данном случае не приходится: пункты, относящиеся сюда, почти дословно взяты из постановления касательно рабочих бумажных мануфактур. Те же правила об удостоверениях от предыдущего нанимателя, без которых рабочие не могут поступить на новое место (art. VIII, IX и X); то же требование, сверх того, еще и паспорта («отпуска») от местных властей при переходе в другую мастерскую (art. XII); те же угрозы карой за стачку или действия скопом (art. XVII, XIX, XXII); то же приравнение штрафов, налагаемых на хозяев или товарищей, к воровству (art. XX); те же меры против запрещений, налагаемых рабочими на мастерские (art. XXI). Эти пункты постановления от 11 июля 1797 г. совершенно ясно показывают, что постановление 1796 г. касательно рабочих бумажных мануфактур Директория склонна была считать как бы нормой, которую надлежит распространить на рабочих других производств в случае обнаружения ими строптивости. В конце этой работы мы увидим, чем закончилась указанная тенденция уже при Бонапарте, в эпоху Консульства, и как завершилась эволюция, сделавшая в конце концов боевой, диктаторский приказ Конвента о рабочих — бумажных мануфактур (от 23 нивоза) в главных частях общим законом для всего рабочего класса. Постановление 1797 г. о шляпочниках — только звено в этой эволюции.
Что касается второй идеи, заключающейся в постановлении от 11 июля 1797 г. — это забота о поддержании данной профессии на должной высоте.
Директория (ссылаясь на постановление королевского совета от 13 июля 1748 г.) во имя поддержания на должной высоте и увеличения технических знаний в шляпном мастерстве обязывает каждого «фабриканта» даром готовить ученика в своей мастерской. Ученик должен оставаться в мастерской не менее двух и не более четырех лет, причем за время ученичества ученик не вправе покинуть мастерскую без разрешения хозяина.
О движении, вызвавшем этот циркуляр, мы уже больше ничего не слышим. И вообще редки становятся даже замечания полиции о каких бы то ни было попытках рабочих сборищ.
21 июля (1797 г.) 500–600 рабочих (не известно какой специальности) собрались с целью потолковать об увеличении платы; собрались они в трактире. Полиция окружила трактир, арестовала зачинщиков (les instigateurs) и разогнала остальных [111]. Тем все и окончилось.
Группа рабочих собралась (в апреле 1798 г.) на острове Лувье и жаловалась на плохие заработки; все они были арестованы и отведены в полицейское управление [112]. В чем было дело — подробнее не говорится.
Едва ли не последнее сообщение такого рода относится к осени 1798 г. В двадцатых числах октября 1798 г. рабочие местности la Râpée собирались требовать увеличения заработной платы. Известившись об этом намерении, власти послали туда сильный кавалерийский отряд [113], и на этом все окончилось. Больше о попытках профессионального движения в Париже мы не слышим. «Рабочий класс в общем спокоен; несмотря на жестокость зимы, в его среде не произошло ничего, что могло бы нарушить общественное спокойствие» [114], — констатирует полиция в феврале 1799 г., когда ко всем бедам, угнетавшим рабочий класс, прибавилась необыкновенная стужа.
«Рабочие спокойны, хотя страшно страдают», — повторяют донесения и весной, и летом 1799 г. «В округах, населенных рабочими, именно в XII, мало занимаются политическими вопросами; мануфактуры, большие и малые, почти пусты; особенно каменщики без занятий. Рабочие много жалуются» [115], — вот типичная для 1799 г. отметка.
После рассказа об этих немногочисленных, слабых и совершенно безуспешных попытках рабочих к совместному отстаиванию своих интересов необходимо упомянуть, что им в эти годы пришлось считаться не только с понижением заработной платы, но также с продолжавшимся и при Директории широчайшим пользованием реквизициями.
В 1795–1796 гг. реквизиции рабочей силы отнюдь не прекращаются, и иногда мануфактуры останавливаются вовсе вследствие того, что все рабочие забраны реквизиционным порядком [116].
Они забирались таким путем на казенные работы, где плата назначалась по усмотрению властей и в таких размерах, что существовать на нее было в высшей степени трудно. Рабочие, доведенные до крайности, начали отказываться от работ, куда их реквизиционным способом отправляли, и эти случаи ослушания сделались к 1796 г. столь часты, что Директория решила реагировать на это явление.
25 марта 1796 г. Директория обратилась в Совет пятисот с посланием, в высшей степени любопытным [117]. «Часто случается, — читаем мы в этом документе, — что закон остается неисполненным, так как он не предписывает ни наказания, ни понудительных мер. Рабочие, требуемые властями или комиссарами Исполнительной Директории для работ, необходимых для общественного дела, часто отказываются повиноваться реквизиции; вызываемые к суду, они упорствуют в своем отказе» и таким образом класс рабочих может вступить в соглашение, чтобы провалить меры, требуемые общей пользой или общественной безопасностью. Труд рабочего есть его собственность, как поле — собственность земледельца, который его унаследовал от своих отцов. А так как республика имеет право лишать гражданина его земельной собственности, если общественная необходимость этого требует, при уплате справедливого вознаграждения, таким же образом, вознаграждая рабочего, она может временно располагать его трудом. Мы вас приглашаем внести закон, который уполномочивал бы суды подвергать исправительным карам, а в случае рецидива телесным наказаниям [118] всех рабочих, которые, будучи в свою очередь вытребованы, отказались бы повиноваться комиссарам исполнительной власти» и т. д.
Тут мы видим подтверждение того принципа, который в 1793–1794 гг. неоднократно провозглашался и проводился в жизнь: государство есть верховный распорядитель собственности и личности гражданина. Но теперь, в 1796 г., Директория принцип этот прилагала уже единственно к труду рабочего, который она считает формой частной собственности.
В начале апреля (1796 г.) был издан Советом пятисот закон, который, правда, не заходил так далеко в смысле репрессии, как желательно было Директории, но все же оказался проявлением той политики неослабной суровости относительно рабочего класса, которая была на очереди дня.
Комиссары Директории должны были привлекать к ответственности уклоняющихся от реквизиционных работ рабочих. В первый раз виновные подвергались заключению на 3 дня; в случае рецидива — заключению от 10 до 30 дней [119]. Это — последнее по времени (за всю рассматриваемую эпоху) действие законодательной власти, направленное к поддержанию реквизиций.
Правда, люди, доведенные голодом до того, что их не страшил уже в 1793–1794 гг. закон о подозрительных, едва ли могли особенно испугаться в 1796 г. тридцатидневного ареста. Во всяком случае больше не слышно о сопротивлении реквизициям: сократились ли реквизиции, или не сопротивлялись рабочие, или просто утерялись документы, говорящие об этом, — решить трудно.
Все это были слабые, разрозненные попытки борьбы с одолевавшими бедствиями. Посмотрим теперь, какова была в конце Конвента и при Директории повседневная жизнь рабочей массы. Сведения, которые характеризуют материальное положение рабочих, относятся к столице и давались полицейскими агентами.
Эти сведения разбросаны там и сям в рапортах парижской полиции, подававшихся по начальству (и изданных, как сказано во введении, Оларом) [120]. Ничего похожего у нас нет относительно какого бы то ни было другого пункта. Во всяком случае по положению столичной рабочей массы можно составить себе приблизительное представление о рабочих провинциальных городов.
Приблизительное, но не точное: при всей безотрадности своего положения парижские рабочие были в исключительно привилегированном положении.
Дело в том, что, желая поддержать порядок в столице, правительство обеспечивало Парижу около 1600 мешков муки (по 3½–4, иногда несколько больше квинталов, т. е. 350–400 фунтов в каждом), и зимой в конце 1794 г. член Комитета общественного спасения высчитывал, что «каждый человек в Париже может получать 1 фунт хлеба». Мало того: с февраля 1795 г. каждый рабочий получал 1½ фунта хлеба ежедневно; остальные граждане всякого возраста и пола — по фунту [121].
2 апреля 1795 г. Конвент декретировал, что при распределении хлеба и других съестных припасов «рабочим, ремесленникам и нуждающимся» должно быть оказываемо преимущество перед всеми другими [122]. Это — последний (по времени) декрет Конвента, касающийся рабочего класса.
Организовано это было так, что граждане, снабженные удостоверительными карточками из своих полицейских участков, являлись в булочные и тут получали приходящийся каждому 1 фунт или 1½ фунта за определенную цену, которая, впрочем, при обесценении ассигнаций была так ничтожна, что можно было приравнять эту операцию к даровой раздаче хлеба: плата в 3 су за фунт в те времена, когда фунт хлеба при обыкновенной купле-продаже стоил 10–12 (а позднее и 50) ливров, конечно, была почти совершенно нулевой величиной; иногда же — это было в известных случаях предоставлено участкам — выдавались удостоверения на даровое получение фунта или 1½ фунта хлеба. Уплачивало булочникам правительство, оно же доставляло им муку. Доставало оно эту муку: 1) закупая ее за границей и 2) путем продолжавшихся и в 1795, и в 1796, и в 1797 гг. реквизиций в провинции.
Правительство с весны 1795 г. не переставало увеличивать запасы муки для столицы: Комитет общественного спасения уже давал Парижу не 1600, а больше 1900 мешков, и Буасси-д’Англа высчитывал, что из 636 тысяч человек, составляющих население столицы, 324 тысячи получают 1½ фунта в день, а 312 тысяч — 1 фунт [123].
Но далеко не всегда старания правительства в этом отношении увенчивались успехом. Реквизиции в провинции наталкивались на ряд препятствий, на единодушное, хотя и пассивное сопротивление землевладельцев, да и прочих классов общества, боявшихся остаться совсем без хлеба. Далее, по признанию самих властей, бесчисленные злоупотребления сопутствовали этой организации продовольствия за все время ее существования. Хлеб, раздававшийся по удостоверениям, бывал часто такого качества, что им боялись отравиться, и при всем желании его иногда невозможно было есть; булочники прибегали ко всякого рода ухищрениям, чтобы продать возможно более на сторону по рыночной цене (поставив в то же время на счет правительства этот хлеб, якобы выданный по удостоверениям).
Эти исключительные милости таким образом весьма мало облегчали положение столичных рабочих.
Рабочие в Париже не переставали роптать также на недостаток других предметов первой необходимости: мыла, масла, свечей, не переставали жаловаться на то, что все предметы потребления сделались объектами спекуляции [124]. Вера в Конвент была еще в 1794 г. так велика, что рабочие говорили, что, если есть злонамеренные (спекулянты), Конвент сумеет их найти [125]. Но с наступлением зимы положение делалось все труднее, особенно тяжело ощущался недостаток свечей, ибо рабочие, работавшие на дому, были лишены возможности что-либо делать по вечерам [126]; между женами их, стоявшими в очереди перед свечными лавками, происходили побоища из-за права первенства в покупке; ропот по поводу дороговизны припасов не прекращался в течение всей зимы 1794/95 г. [127]; и именно на недостаток леса, угля, мыла жалуется городская беднота более всего [128]; 10 декабря 1794 г. в Париже у склада угля произошло большое побоище, длившееся целый день и потребовавшее вмешательства полиции и жандармов [129]. Полиция принуждена была, между прочим, удостовериться в декабре 1794 г., что все «с нетерпением ожидают отмены максимума» [130].
Рабочие стали поговаривать, что существовать становится немыслимо, ибо работы нет, а припасы все дорожают и дорожают, и что придется направить пики против булочников [131]. Рабочие были тем более взволнованы, что у них было убеждение, будто в Париже должны быть припасы, ибо «Париж истощил провинцию реквизициями» [132]. В конце января 1795 г. рабочие уже довольно открыто стали говорить, что, когда у них ничего не останется, они потребуют у купцов и сумеют заставить тех дать, что нужно, так как их, рабочих, 30 тысяч человек [133]. «Как же Конвент хочет, чтобы мы существовали? — толковали рабочие между собой, — закрывают работы в такое суровое время года; хозяева хотят уменьшить нашу плату в то время, как все вздорожало сверх меры, но это окончится» [134]. Чуть не ежедневно полиция регистрировала подслушанные горькие жалобы рабочих [135].
Топливо к концу зимы 1795 г. истощилось до такой степени, что рабочие в Париже жаловались на невозможность продолжать работу из-за недостатка угля [136]. Они, впрочем, одновременно прибавляли, что и вообще они не работают из-за недостатка сырья [137].
Не было леса, не было угля, и правительство тщетно пыталось снабдить Париж рисом за недостатком хлеба: риса не хотели брать, так как нельзя было его варить вследствие отсутствия топлива [138].
Дров в 1795 г. до такой степени не хватало, что Комитет общественного спасения должен был думать о замене леса торфом, т. е. о том, чтобы в Париже и «других больших городах» внести торфяное отопление; об этом был подан доклад комиссии, заведовавшей оружием и порохом, так как она была прямо заинтересована в сохранении леса для нужд оружейных и пороховых заводов [139].
Было подтверждено приказание булочникам продавать рабочим не менее 1½ фунта хлеба ежедневно каждому, но это распоряжение не исполнялось сплошь и рядом, ибо булочники ссылались на недостаток хлеба.
Масса безработных, бедствовавшая в Париже, еще в конце зимы 1795 г. не переставала возлагать свои надежды на Конвент, хотя эта надежда не формулировалась ясно [140], да и нельзя было ее определенно формулировать: причины безработицы, обесценения ассигнаций и вздорожания съестных припасов слишком мало могли поддаться какому-либо внезапному воздействию со стороны власти.
Бедствие в эту зиму дошло до крайней степени; на улицах, в рабочих предместьях раздавался плач женщин, жаловавшихся, что их дети умирают от голода, безработные толпились на улице; но собрания эти, по отзыву полиции, обыкновенно нисколько не нарушали порядка [141]; если доходило до насильственных действий, то обыкновенно между женщинами, чуть не на смерть дравшимися у дверей булочных из-за хлеба [142].
Случаи насилия над булочниками, над торговцами овощами были, но полиция принимала меры и сопротивления не испытывала. Меры были быстрые и очень суровые, и власти полагали, что это — единственное средство сдерживать голодающих [143]. Это решительное вмешательство властей порождало новые толки: «… конституция создана только для богатых» [144], и именно среди рабочих эти толки, как начала опасаться полиция, могли найти почву. «Невозможно передать все ругательства, которые слышатся против правительства… рабочие предместья Марсо (Сен-Марсельского предместья — Е. Т.) говорят, что они восстанут, если их еще 24 часа оставят без хлеба…», — вот однообразное содержание полицейских наблюдений с ноября 1795 г. Ограбления булочников рабочими и их женами все учащались, и не всегда возможно было предупредить это [145].
Положение все ухудшалось. Резкое ухудшение наступило в самом конце 1795 г. В начале декабря 1795 г. за металлический ливр давали уже не 150, а 185 ливров ассигнациями, а в конце — 260; картофель худшего сорта стоил 200 ливров четверик. Такса на хлеб и мясо не соблюдалась, хлеб даже худших сортов нельзя достать дешевле, чем по 50–55 ливров фунт. А рабочий день в конце 1795 г. расценивался в 100 ливров ассигнациями в среднем.
С января 1796 г. стали особенно часто закрываться промышленные заведения в Париже и провинции, и рабочие, на которых все эти беды сыпались без перерыва, говорили, что, может быть, это новая хитрость со стороны аристократии, которая «решительно хочет вызвать восстание», оставляя без заработка бедняков, которые [146], «даже и работая, с трудом могут прокормиться». «Рабочие — на мостовой», — констатируют в это же время посторонние наблюдатели [147]; громадное число закрываемых мануфактур бросается в глаза и полиции [148].
Хозяева, закрывая мануфактуры, уверяли иногда рабочих, что они делают это потому, что правительство, налагая на них «принудительный заем», разоряет их. Рабочие хотели даже собраться в Сент-Антуанском предместье, чтобы протестовать против меры, выбрасывающей их на улицу; и из этой угрозы ничего не вышло [149]. Но самое намерение показывает, как растерянно и беспомощно металась мысль рабочих от «богатых» и хозяев к правительству, от правительства — к «богатым», ища виновников бедствий.
Полная безучастность рабочих при аресте и затем при казни Бабефа имела между прочим то последствие, что полиция перестала особенно интересоваться настроением рабочего класса [150], и для 1797–1799 гг. сведений этого рода у нас очень мало.
Безработица усиливается, припасы дороги — положение в 1797, 1798, 1799 гг. ничуть не лучше, по собственным отзывам полиции, нежели в 1795–1796 гг., но о рабочих, их настроении и прочем почти ничего не говорится. Иногда только полиция упоминает, что теперь уже рабочие в своих разговорах «принуждены не выходить за пределы приличия» [151]. Иногда небрежно упоминается, что по вечерам рабочие толпятся на бульварах и что хотя «более, чем когда-либо, они жалуются на недостаток средств, но их дух» — в пользу правительства; тем не менее полиция даже и эти мирные сборища разгоняет [152]. О том, что рабочие «всех промыслов», вполне «спокойны», прибавляется в эти годы чуть не всякий раз, как вообще заходит речь о бедствиях рабочего класса [153]. Замечания вроде того, что безработные могут в случае какого-либо «толчка» стать очень опасными, крайне редки и случайны [154].
Власти окончательно убеждаются в политической инертности рабочего класса, но они зорко следят, чтобы рабочие, вопреки закону Ле Шапелье, не предъявляли скопом каких-нибудь требований хозяевам. В середине июля 1797 г. ходят слухи о сборищах рабочих, большей частью кузнецов, желающих — полиция хорошенько не знает — не то уменьшить рабочий день, на один час, не то увеличить заработную плату. Принимаются меры наблюдения, — беспокойство оказывается напрасным [155], последствий движения нет.
Эту повесть о материальном положении рабочего класса в 1795–1799 гг. можно было бы закончить несколькими словами о положении рабочих национальных мануфактур в указанный период. Посвятив рабочим этой категории особую книгу [*19] я не вижу нужды входить тут в подробности. Достаточно ограничиться несколькими выдержками, дополняющими ту общую картину, о которой только что шла речь.
Еще в начале сентября 1794 г. рабочие национальной мануфактуры Гобеленов (их было 106 человек) были разделены на 4 класса (то же самое было сделано и на мануфактуре la Savonnerie). «Критерием служила степень таланта». Было решено определить плату рабочим первого класса по 7 ливров в день, второго — по 6 ливров, третьего — по 5 ливров и четвертого — по 4 ливра в день; «apprentifs» делились на 3 класса, причем в первом каждый «apprentif» получал в день 2 ливра, во втором — 1 ливр 5 денье и в третьем — 1 ливр 25 сантимов [156]. Нельзя сказать, что плата, установленная этими распоряжениями, была низка сравнительно с гонораром, получавшимся другими служащими. Директор мануфактуры получал 6 тысяч ливров в год, так что рабочие первого класса, жалованье которых документы исчисляют в 2555 ливров в год [157], получали, значит, всего в 2½ раза (приблизительно) меньше своего директора, рабочие третьего (самого многочисленного) разряда получали всего в 31/3 раза меньше него и т. п. Но страшное падение (в 1794 и следующие годы) ценности денег делало всю эту расценку иллюзорной. Рабочие умоляли ввиду «удивительного увеличения» цен и «страшной быстроты» [158] вздорожания предметов первой необходимости, чтобы им помогли, так как они, особенно низшие классы, не могут существовать. На это прошение последовал суровый отказ [159]. Им было отвечено, что их просьба даже доложена не будет комитету, потому что это неминуемо привело бы к тому, что заведение закрыли бы, так как оно поглощает непроизводительно слишком много денег у республики. Но вздорожание припасов так быстро прогрессировало, что нужно было в самом деле или немедленно закрыть, все национальные мануфактуры, или что-нибудь сделать для рабочих. Директор просил [160] применить к рабочим закон об увеличении содержания лицам, находящимся на государственной службе, но министерство не согласилось с этой точкой зрения. Рабочим было заявлено комиссией, что закон о чиновниках к ним применен быть не может [161]; относительно их был издан особый акт, согласно которому их жалованье было увеличено на одну треть «ввиду дороговизны съестных припасов» [162]. Но цены на предметы первой необходимости неудержимо подымались, и уже спустя 31/3 месяца пришлось снова подумать о спасении рабочих от голодной смерти. Директор мануфактуры доносит комиссии земледелия и искусств, что с вентоза (т. е. с конца февраля), когда содержание рабочих было увеличено на одну треть, все цены «бесконечно» возросли, и, например, мера картофеля, стоившая тогда (т. е., значит, в конце февраля) 4 ливра, теперь (в середине мая) стоит 25 ливров [163]. Комиссия в ответ на это посоветовала рабочим вооружиться терпением и с мужеством переносить нужду, которую с ними разделяют все граждане [164]. Тем не менее комиссия должна была признать, что этим советом ограничиться нет никакой возможности, если не согласиться на то, чтобы 90 рабочих мануфактуры Гобеленов и 25 рабочих мануфактуры Savonnerie [165] разбрелись в разные стороны, ища спасения от голода. В рапорте, представленном комитету земледелия и искусств, исполнительный орган этого комитета — комиссия земледелия и искусств — признает, что «вздорожание цен довело рабочих до невозможности долее существовать, ибо прибавки в 1/3 теперь уже недостаточно» [166]. И комитет решил увеличить дневной заработок рабочих Гобеленов и Savonnerie на 3 ливра (без различия классов).
Ввиду отчаянного своего положения рабочие подали в конце июля (1795 г.) умоляющую петицию, в которой заявляют, что, невзирая на недавнюю прибавку в 3 ливра в день, им дальше жить невозможно, что они все продали, все, что могли, заложили и так далее, но ввиду беспрерывного увеличения цен им совсем не хватает на пищу. Петиция была направлена в комиссию [167]. Комиссия сделала комитету земледелия и искусств доклад, предлагающий еще увеличить на 3 ливра дневной заработок рабочих. В докладе говорится, что действительно плата, получаемая рабочими Гобеленов, стала недостаточной и что они получают меньше, чем рабочие на частных фабриках [168]. Комитет 27 июля 1795 г. согласился с предложенным увеличением платы. Теперь рабочие первого класса получали 15 ливров и 34 сантима, второго класса — 14 ливров, третьего — 13 ливров и 67 сантимов и четвертого — 12 ливров, вместо 7, 6, 5 и 4, которые они получали к концу 1794 г. Но так как цены на пищу и одежду росли гораздо быстрее, все эти увеличения мало помогали им. Рабочие не перестают жаловаться, что жизнь стала «в 20, в 40 и даже в 100 раз дороже», чем была еще недавно, что хлеб стоит 12–16 су за фунт, мясо — 8–10 франков, пара сапог — 100–120 франков, рубаха — 200 франков и т. д. [169] Комитет земледелия и искусств решил 5 сентября 1795 г. снова увеличить дневную плату рабочих всех четырех классов на 5 ливров. Все знали коренную причину зла — полное обесценение ассигнаций, делающее иллюзорным всякое новое «благодеяние» правительства относительно рабочих, но тут уже ни комиссия, ни сам оканчивавший свое существование Конвент не знали, на что решиться и как бороться с финансовым хаосом. В силу постановления Комитета общественного спасения от 1 брюмера IV года (23 октября 1795 г.) было постановлено выдавать рабочим (кроме жалованья) по ½ фунта хлеба, по ½ фунта мяса и по одной мере дров. Вскоре документы говорят уже о выдаче мяса и хлеба по числу «ртов» в семье каждого рабочего. Спустя полгода, 27 апреля 1796 г., министр внутренних дел уполномочил директора Гобеленов и Savonnerie возмещать деньгами [170] эту выдачу съестных припасов и дров, но, конечно, администрация мануфактур не торопилась воспользоваться этим разрешением, и выдача съестных припасов натурой продолжалась еще целый год [171]. Финансовый кризис продолжался и в 1796 г., и отказываться от выдачи натурой значило вернуться к прежним испытаниям. Но беда была в том, что, кроме этой скудной пищи, все остальные потребности оставались очень плохо удовлетворяемыми. В 1796 г. Совет пятисот постановил выпуск «mandats», государственных билетов, которые, как известно, должны были служить (к прямому и откровенно наносимому ущербу для ассигнаций) кредитными знаками, обеспеченными национальным земельным фондом, причем всякий владелец мандатов мог явиться для получения земельного участка из государственного фонда; оценка земли устанавливалась двумя экспертами, от департамента и от покупщика. Предполагалось, что мандаты, более непосредственно и, так сказать, наглядно обеспеченные национальными имуществами, нежели ассигнации, окажутся более твердыми в своем курсе. Один франк (ливр) в мандатах равнялся 30 франкам в ассигнациях. Рабочие Гобеленов должны были воспользоваться этой предполагавшейся «твердостью» новых кредитных знаков: в силу решения Директории от 29 жерминаля (18 апреля 1796 г.) [172] они стали получать две трети своего жалованья в мандатах и всего одну треть — в ассигнациях. Но и мандаты в несколько месяцев упали в цене так же низко, как и ассигнации, и рабочие оказались по-прежнему в страшно стесненном положении. У Директории до такой степени не было средств, что она уже принялась гобеленовскими шпалерами уплачивать государственные долги [173]; были сожжены драгоценнейшие гобеленовские произведения, чтобы получить некоторое количество золота и серебра, входившего в состав материалов.
На другой национальной мануфактуре (ковровых тканей), так называемой la Savonnerie, до выдачи съестных припасов положение было такое, что рабочие, их жены и дети чуть не ежедневно лишались чувств от голода [174]. Но и после этой раздачи положение их было крайне печально. В самом конце 1795 г. рабочие жаловались на нужду, но министерство отказало (2 января 1796 г.), ибо ему показалось, что, получая ежедневно (в это время) minimum по 20 франков ассигнациями, они получают также по фунту хлеба и ½ фунта мяса, и, кроме того, пользуясь («все или почти все») помещением на мануфактуре, рабочие la Savonnerie могут обойтись и без дальнейшей помощи [175]. Рабочие ввиду полного обесценения ассигнаций были лишены возможности купить одежду и молили выдать им и на одежду натурой, но и тут получили отказ [176]. Летом они снова обращаются к министру внутренних дел, умоляя помочь им, и спрашивают, зачем же Конвент решил сохранить их заведение, если теперь они погибают от нищеты, от невозможности жить на выдаваемые правительством рационы [177]. И на это прошение последовал отказ. Когда наконец с лета 1796 г. часть заработной платы стали выдавать звонкой монетой, то и для Savonnerie, как и для других национальных мануфактур, наступила новая полоса бедствий: правительство стало месяцами задерживать выдачу платы. Уже 17 сентября 1796 г. рабочие жалуются на свое бедственное положение ввиду того, что 1½ месяца не получают ничего. «Граждане артисты, рабочие национальной мануфактуры, называемой la Savonnerie, видят себя в необходимости снова вас обеспокоить, чтобы представить вам, что они не получили ни одного су с того времени, как вы были столь добры и решили, чтобы часть их платы уплачивалась им серебром» [178], — читаем мы в поданном рабочими по этому поводу прошении. 22 ноября 1796 г. они снова жалуются, что им за 2 месяца не уплачено [179] и что они «абсолютно умирают от голоду». В 1797–1798 гг. — та же однообразная картина: «нет хлеба, нет денег, нет кредита», 4 месяца не получали жалованья [180]; в январе 1797 г. директор Duvivier обращает внимание министра на задержку платы рабочим [181]: о страшной нужде, неполучении жалованья напоминают и рабочие, прося выдать хоть дров, на покупку которых у них нет денег [182], на что и получают отказ; 27 июля 1797 г. рабочие посылают одновременно две умоляющие петиции: Директории республики и министру внутренних дел [183], они говорят (и директор Duvivier подтверждает их слова), что уже 4 месяца ничего не получали, истощены голодом и т. д. Зимой, 17 ноября 1797 г., они опять прибегают к Директории с новой просьбой об уплате, ибо они 5 месяцев ничего не получают, нет кредита, нет хлеба и т. д. Прекращение выдачи припасов натурой делало положение рабочих ввиду этих задержек совершенно невыносимым. Правда, хотя еще с 1 флореаля (20 апреля 1797 г.) должна была прекратиться раздача съестных припасов натурой, но директору Duvivier удавалось еще на несколько месяцев оттянуть исполнение ужасного для рабочих декрета, за что он и получил (15 декабря 1797 г.) суровый выговор из министерства внутренних дел за поведение, противное интересам республики [184]. Пришлось прекратить выдачу съестных припасов, и положение рабочих стало еще хуже с этого времени (т. е. с декабря 1797 г.). Жалованье продолжали задерживать. 17 февраля 1798 г. рабочие снова молят Директорию во имя гуманности уплатить им задержанную за 3 месяца плату [185], одновременно пишут о том же министру, о том же пишет и их директор в министерство [186], но скудные и частичные уплаты не мешают новым и новым дальнейшим задержкам; так, в начале октября 1798 г. министерство сознается, что рабочим не уплачено за 5 месяцев [187], в апреле 1799 г. — новая просьба уплатить, причем рабочие обращают внимание на то, что они не могут выдерживать этих опаздываний, так как не могли сделать никаких сбережений, самое крупное жалованье у них на мануфактуре — 79 франков в месяц, а иные не получают и 60 [188]. Конечно, о скромности размеров жалованья рабочие могли упомянуть только к слову, ибо о борьбе за увеличение его они и не мечтали, — они жаждали лишь действительно получать должные им суммы. Конец Директории был и для Savonnerie, конечно, временем особенно острых бедствий: в начале июля 1799 г. они доведены были до полной крайности, так как за последние 5 месяцев ничего не получали [189], в ноябре того же года они говорят уже о 8½ месяцах, за которые правительство им должно, и снова и снова жалуются на безвыходное свое положение [190], на полное истощение всякого кредита, на отсутствие одежды и т. д.
На Севрской фарфоровой мануфактуре задержки в выдаче жалованья в 1797–1799 гг. тоже делали положение рабочих совершенно нестерпимым, даже более тяжелым, нежели в 1795–1796 гг.; в эпоху падения ассигнаций, когда выдача припасов натурой по номинальной цене облегчала положение. С начала 1797 г. жалованье уже выдавалось звонкой монетой [191], но выдавалось в высшей степени неаккуратно. Осенью 1798 г. они жалуются, что им пришлось продать одежду, что 2 месяца им ничего не платят, и директор мануфактуры подтверждает, что в самом деле ждать более нет никакой возможности [192]. Все это ни к чему не приводило. Ни министерство внутренних дел, ни сама Директория республики, к которой в марте 1799 г. отважились обратиться севрские рабочие, не обращали на эти петиции почти никакого внимания. Несколько прошений, поданных разным властям в течение 1799 г. [193], показывают, до какого ужасающего состояния они дошли.
Этими немногими выдержками из моей специальной работы о национальных мануфактурах я здесь и ограничусь, отсылая интересующихся к названной книге [*20].
Небрежность Директории в этот период в расплате с рабочими, работавшими за счет казны, распространялась и на другие заведения, вроде, например, седельной мастерской в Версале, упраздненной в январе 1797 г.: рабочим не было уплачено за 4 месяца, предшествовавшие закрытию [194]. Они обращались к министру финансов и даже к самой Директории, но все их попытки получить свои деньги оставались совершенно тщетны. Совет пятисот, куда они пришли с последней мольбой, отослал прошение снова к Директории…
И в этом отношении Директория только следовала примеру предшествовавших режимов революционного периода: она была хорошо осведомлена, что в политическом отношении рабочих самих по себе страшиться ей не приходится. Рассмотрим теперь, по каким данным Директория могла судить о политическом настроении рабочей массы в 1795–1799 гг.
5
Как и относительно всего периода, если есть хоть какие-нибудь, хоть самые скудные известия о политическом настроении рабочих в 1795–1799 гг., то почти исключительно касающиеся рабочих столицы. И знакомимся мы с этим их настроением в 1795–1799 гг. исключительно почти по секретным полицейским рапортам. Эти две оговорки необходимо предпослать дальнейшему изложению.
Мы видели, что, начиная с 1789 г., рабочие ждали улучшения своей участи от всякой надвигавшейся политической перемены, и, не беря на себя никакой политической инициативы, они всегда с новой готовностью поддерживали людей, стремившихся к более и более радикальным переменам в государственном строе. 14 июля 1789 г. они брали Бастилию, 10 августа 1792 г. — дворец, 31 мая 1793 г. поддержали Марата и способствовали аресту и гибели жирондистов. И всякий раз они ждали от победителей помощи, но помощь в тех размерах и формах, как им было нужно, не приходила. Мы видели также, что 1793 год, когда столичная рабочая масса имела наибольший политический вес, принес рабочим закон о максимуме. Этот закон не улучшил, а ухудшил положение рабочих, вопреки всем их ожиданиям, и вместе с тем в 1793–1794 гг., вплоть до падения Робеспьера, рабочая масса всецело поддерживала диктатуру Комитета общественного спасения, но не смела и думать о каких бы то ни было самостоятельных требованиях, которые можно было бы предъявить ко всесильным диктаторам. Когда на другой день после переворота 9 термидора Робеспьера везли на казнь, то среди криков толпы «смерть тирану» совсем не слышно было слов сочувствия или сожаления, не говоря уже о полнейшей апатии рабочих предместьев столицы. Все это сделалось помимо рабочих и без всякого их вмешательства. И они тотчас же покорились победителям, как они раньше покорялись Робеспьеру, еще раньше Ролану, до Ролана — властям, действовавшим от имени Учредительного собрания или парижского муниципалитета. На этот раз, в 1795–1799 гг., решительное движение прочь от робеспьеровских времен было на очереди дня, возвращались к своей политической роли те элементы общества, которые, как выше сказано, самоустранились еще в эпоху борьбы жирондистов с монтаньярами, предоставив монтаньярам покончить с внешними и внутренними врагами «принципов 1789 г.». Самоустранение этих элементов в 1792–1793 гг. погубило жирондистов и вознесло монтаньяров на высоту; возвращение этих же слоев общества к политической жизни погубило диктатуру Комитета общественного спасения, создало так называемую «термидорианскую реакцию» и Директорию. Рабочие, разумеется, были вполне бессильны бороться против этого могущественного течения, если бы даже они пытались предпринять подобную борьбу. Но они были чрезвычайно далеки от такого намерения. Они покорились победителям 9 термидора без тех надежд, которые одушевляли их, когда они шли за Дантоном против короля или за Маратом против жирондистов, но покорились столь же безусловно [195].
В течение всех этих лет они страдают ужаснее, чем прежде, ждут избавления и избавителей, но не решаются ни на какой шаг против установленных властей.
В политическом отношении рабочие были в эту эпоху апатичнее и индифферентнее еще, чем другие слои населения; и даже когда еще замечались сборища вокруг Конвента во время последних замиравших споров «за и против якобинцев», рабочие отсутствовали [196]. И только дойдя до совершенного отчаяния, выброшенные на улицу вследствие недостатка работы, рабочие иногда начинали в своей среде отзываться о Конвенте «мало прилично»; так, когда в ноябре 1794 г. правительство из-за недостатка сырья должно было прекратить работы в одной селитроварне, то рабочие уничтоженного заведения вспомнили о побежденных якобинцах и стали с хвалой о них отзываться [197]. Но свидетельства и полиции, и прессы в общем совершенно единодушны и однообразны: «… в Париже царит спокойствие. Напрасно некоторые агитаторы стремятся возбудить рабочих против Конвента. Патриотизм этих добрых граждан заставляет их замечать западню, расставленную перед ними злонамеренностью» [198]. Тут же, впрочем, прибавлено, что «многочисленные патрули разъезжают по городу», дабы повлиять на тех, у кого могли бы возникнуть предосудительные намерения. Все поползновения возобновить роялистическую пропаганду между рабочими на почве голодовки и безработицы оказывались совершенно безнадежными [199]: сами роялисты, по-видимому, это понимали и, в противоположность тому, что они делали в 1789–1791 гг. [200], ограничивались больше высказыванием намерений [201].
Нужно заметить, что роялистически (или, общее говоря, антиякобински) настроенная молодежь (знаменитые в те годы muscadins) всегда являлась ожесточенным врагом рабочих, предлагала полиции полнейшее свое содействие (хотя полиция ее об этом не просила), разгоняла палками группы рабочих, если удавалось подслушать слова революционного характера, и на этой почве между этой молодежью и рабочими иногда дело доходило до драки и свалки [202]. Эти молодые люди нападали на рабочих среди города с криками: «Да здравствует Конвент, долой якобинцев!» [203], хватали их за шиворот и били палками, когда оказывались в достаточно большом количестве. Иногда молодые люди («les jeunes gens, les muscadins», — как их называют полицейские отчеты) братались с некоторыми рабочими, приглашая их сообща бороться против изменников, за республику (под изменниками подразумевались якобинцы).
Но рабочая масса в общем была сильно раздражена против этих молодых людей, которые являлись всегда на помощь полиции, когда она арестовывала или разгоняла рабочих [204]. А делалось это часто; карались больше неосторожные слова, чем действия, направленные против общественного порядка, ибо до действий не доходило.
И кончавший свое существование Конвент, и впоследствии Директория, невзирая на эту покорность и апатию рабочих, относились к ним с подозрительностью.
16 июня 1795 г. Конвент издал декрет, вводивший новую организацию национальной гвардии. Хотя статья 2 этого декрета устанавливала принцип общедоступности службы в национальной гвардии для всех граждан от 16- до 60-летнего возраста, но статья 4 исключала рабочих, не имеющих определенного места жительства. Речь идет не о рабочих, скитающихся за неимением занятий, а о лицах, работающих на той или иной мануфактуре, но не живущих постоянно в определенном месте: таков смысл статьи, но составлена она в не совсем ясных выражениях [205]. Слово «ambulans» тут обозначает рабочих, отправляющихся на заработки то в одно место, то в другое; «sans domicile fixe» не может тут означать бродяг, как обозначают их эти слова в других декретах, ибо человек, работающий на мануфактуре хоть временно, имеет в этот период место жительства, известное властям. Достаточно вспомнить, что такая многолюдная категория столичных, например, рабочих, как рабочие, занятые строительными работами (так называемые ouvriers de bâtiment), была преимущественно пришлым элементом из других департаментов, достаточно это вспомнить, чтобы видеть, как при недоброжелательном для рабочих толковании этой статьи декрета возможно было лишить их участия в национальной гвардии. Следующая статья декрета [206] исключает наименее зажиточные слои городского населения вообще и рабочего класса в особенности: поденщиков, чернорабочих. Текст статьи, правда, включает оговорку, которая должна смягчить общий смысл законоположения: эти люди не вносятся в списки, если с их стороны не последует жалобы против подобного распоряжения.
Все это обнаруживает некоторую подозрительность относительно рабочих, подозрительность, не исчезнувшую и при Директории, но совершенно не оправдываемую фактами.
Вообще говоря, полицейские рапорты о состоянии умов в Париже в 1795–1799 гг. пестрят отметками, что рабочие ведут себя спокойно и не нарушают общественного порядка. Но по тем же рапортам ясно, как начинает отчаиваться городская беднота в помощи со стороны властей. Приблизительно с весны 1795 г. можно подметить этот процесс. С начала марта 1795 г. полиция не перестает доносить об «иронических словах» по адресу правительства, раздающихся в толпе [207]; угрозы рабочих против купцов, угрозы «будущим восстанием» не прекращаются [208], но говорится об этом между собой, в небольших, отдельных группах. Время от времени назревала мысль идти всей массой к Конвенту просить хлеба и работы, но на такой шаг рабочие не решались; характерно, что они обращались к полицейскому комиссару, чтобы он позволил им звонками или барабаном собирать рабочих, но когда комиссар отказал, мысль эта была оставлена [209]. «Нам нужно хлеба, или мы посмотрим, как оно выйдет!» [210] — эти угрозы, столь же неопределенные, как недавние надежды на Конвент, не перестают отмечаться следившей за рабочими полицией, и за такой отметкой читаем неизменно другую: «… впрочем, ничего противного общественному спокойствию» [211].
Жалобы все более и более заменяются угрозами, особенно под влиянием ужасающих сцен голода и отчаяния женщин [212]. Полиция особенно часто поэтому арестовывала в рабочих кварталах именно женщин за неосторожные слова против властей [213]. Рабочие жаловались на патрули национальной гвардии, производившие аресты на улице, говоря, что «эти патрули состоят только из купцов»; женщины говорили, что «существует только свобода кричать: долой якобинцев» [214]. 31 марта (1795 г.) депутация граждан секции Quinze-Vengts жаловалась Конвенту: «… девятое термидора должно было спасти народ… нам обещали, что уничтожение максимума повлечет за собой изобилие, а голод (между тем) дошел до крайности. Заточения в тюрьму продолжаются. Народ хочет наконец быть свободным… Почему только фанатики и молодежь Пале-Рояля имеют возможность собираться?.. Мы просим употребить все меры, чтобы помочь страшной нищете народа, возвратить ему его права, быстро ввести в действие демократическую конституцию 1793 г.» и т. д. Рабочие одобряли в своих частных разговорах эту петицию и полагали, что напрасно с ее авторами обошлись как с бунтовщиками [215]. Полиция с некоторым беспокойством доносит, что женщины в рабочих кварталах дошли до последних пределов отчаяния, что они проклинают Конвент, проклинают собственное существование. Они желают, чтобы хлеба уж совершенно не стало, говоря: «… тогда наши мужья, трусы, принуждены будут потребовать его!» [216] Чуть не ежедневно на улицах люди падали без чувств, изнуренные голодом; это было, судя по отзывам полиции и газет, делом самым обыкновенным [217], и женщины, несмотря на соглядатайство и аресты, уже прямо призывали мужей своих к восстанию, говорили, что нужно посадить на престол короля; и вместе с тем в те же дни рабочие жаловались, что после 9 термидора они стали жертвами чужой алчности [218]. Политика по-прежнему была чужда им и менее чем когда-либо их интересовала, но, переживая бедствия, которых даже в 1792–1793 гг. они не испытывали, рабочие или часть их отчаялись в существовавшем строе и вспоминали всех врагов его — то дофина, то Робеспьера… Один полицейский агент доносил по начальству, что «много кричат против республики, но что невозможно арестовывать людей, которые бранят правительство, так как пришлось бы арестовать более половины жителей Парижа» [219]. Впрочем, отмечая ропот, полиция не переставала с удовлетворением отмечать также, что дальше ропота дело не идет [220].
Летом 1795 г., несмотря на продолжавшийся недостаток в работе, в жизненно-необходимых припасах, несмотря на продолжавшееся обесценение ассигнаций, рабочий класс («la classe ouvrière», — как его точно называют полицейские рапорты) страдал, конечно, меньше, чем зимой [221]. Но полиция, с удовлетворением констатируя, что стало слышно меньше «угроз, проклятий, воплей и обвинений», не перестает отмечать как одно из последствий повального обнищания и голода крайнее развитие разбоев [222]. Говоря о полном спокойствии рабочих, полиция ничуть не обманывает себя насчет чувств, которые часть рабочих питает к правительству, и знает, как смотрят рабочие на то, что их уже не берут в национальную гвардию: «… на набережных и в сборищах говорят, что рабочих считают спокойными, потому что их обезоружили, но они скоро употребят те же средства, как и в начале революции, чтобы добыть себе хлеба» [223].
Хлеб и мясо продолжали таксироваться и после отмены максимума; но, конечно, при этом правительство принимало во внимание обесценение ассигнаций, и, например, когда (в феврале 1796 г.) такса на хлеб была определена в 40 ливров за фунт, а на мясо — 145, это вызвало ропот против Директории.
Чем ближе становилась эта наперед всех пугавшая зима, тем чаще опять среди рабочих раздавались жалобы на Конвент. «Конвенту мы обязаны нашими страданиями и ежедневной нуждой», — говорили рабочие [224]. Когда выходили вечерние газеты, то толпа окружала их, торопясь узнать, нет ли какого-нибудь нового декрета относительно съестных припасов, относительно понижения цен на предметы первой необходимости, и, так как в газетах ничего об этом нет, «все расходятся с печалью, высказываясь против Конвента». Провинциальные агенты доносили, что такое же настроение царит и в департаментах [225]. «В царствование Робеспьера люди были счастливее», — говорилось в народе [226]. И в те же дни в тех же кругах слышались и другие речи: «… на углах улиц, на рынках громко говорят, что при короле были счастливее… правительство проклинается, его обвиняют в дороговизне припасов» [227]. Сборища голодающих рабочих небольшими кучками продолжались, по-прежнему бесцельные и бессистемные.
Как раз в это время происходила важная перемена: после трехлетнего владычества Конвент уступал свое место Директории и Советам пятисот и старейшин. «Конституция III года» вступила в действие. Можно было бы думать, что выборы внесут какое-нибудь политическое оживление в рабочую среду, пробудят надежду на выход из отчаянного положения. Но этого не случилось. Выборы прошли при полном равнодушии со стороны рабочих. Единственная партия, решившаяся в этот критический момент на революционное выступление, — роялистическая — среди рабочих поддержки себе не нашла [228]. Но до какой степени вопрос о форме правления сам по себе не интересовал рабочих, явствует из того, что после роялистического восстания 13 вандемьера (5 октября 1795 г.), усмиренного Бонапартом при помощи артиллерии, говорилось не о том, что спасена республика и прочее (о чем писалось в правительственных газетах), а высказывалась надежда, что «ажиотаж» (обесценение ассигнаций) будет теперь прекращен, и что воспоследуют суровые меры против виновников голода (les affameurs du peuple), хотя восстание 13 вандемьера ничего общего с этими вопросами не имело, как не имело с ними ничего общего и жестокое усмирение восстания [229].
Настала зима, и худшие опасения рабочих оправдались: «… они готовы восстать, если правительство не уменьшит цены на припасы, тысяча проклятий против правительства в нескольких кварталах», — доносит полиция. Ассигнации упали до неслыханной степени: в ноябре 1795 г. пара сапог стоила 250 ливров (ассигнациями); за 1 металлический ливр давали 140–150 ливров ассигнациями [230]; мера картофеля — 130 ливров; фунт хлеба с осени почти нельзя было достать дешевле нежели за 6–8 ливров; в середине ноября были дни, когда он доходил до 24 ливров (11 ноября), лучшие сорта — по 45–50 ливров, а в конце ноября — по 60 ливров.
Правда, и рабочий день расценивался в среднем зимой 1795/96 г. в 100 ливров, но, конечно, этого было мало. Разбои и воровство с вооруженными нападениями усиливались с каждым месяцем. В рабочей среде сильно поговаривали о том, чтобы толпой напасть на купеческие склады и магазины [231].
Новое правительство не имело причин ждать со стороны рабочих какого-либо серьезного шага. Директория знала, что абсолютно никакого плана действий, никакой программы, никакого нового политического идеала у рабочей массы не имеется: это был единственный вывод, который делали наблюдатели, знавшие, что все разговоры политического характера о короле или о Робеспьере в рабочей среде являются лишь случайной формой ропота по поводу дороговизны припасов и недостатка работы [232]. По всем донесениям, эти слова и выражения политического характера вырывались под непосредственным впечатлением отчаяния: «На площади Мобеж, где картофель продавался по 180 ливров за четверик, женщины кричали: к чорту республику! Царствование Робеспьера было лучше; по крайней мере, тогда не умирали от голода» [233]. Вот типичная сцена на улице.
Еще более ярко рисует нам это душевное состояние другое показание, на этот раз частного лица (дело было в конце ноября 1795 г., среди ужасов этой зимы): «В Сент-Антуанском предместье женщины обращались к солдатам, говоря, что у солдат есть хлеб, в то время как они умирают от голода… В некоторых группах требуют снова режима Робеспьера, так как тогда было, что есть; другие требуют старого режима; все, наконец, такого режима, при котором едят…» [234].
Безработные толпились на набережных, у мостов и толковали о том, что власти ничего не хотят для них сделать. «Все соглашались, — доносит полицейский агент об одном таком сборище, — что, так как Конвент не думает о бедняках, то им становится все равно, прийдут ли англичане, или шуаны в Париж, так как англичане или шуаны не сделают их несчастнее» [235].
Среди рабочих распространялись соблазнительные слухи, что вандейские бунтовщики дают перебегающим к ним солдатам по 50 ливров за каждый заряд [236].
С ужасом рабочий люд ждал наступления зимы. Еще с середины июля толковали: «Как нам быть этой зимой с дровами, углем, свечами?» Дороговизна хлеба продолжалась, а зимой нужно было ждать еще больших страданий, чем в зиму 1794/95 г.
«Громко кричат, что невозможно долее жить, что готовится большой удар» [237], — вот как резюмировала полиция настроение рабочих еще 30 января 1796 г. [238]
«Мысль о будущем заставляет содрогаться, когда подумаешь, что купец не продает, рабочий не работает, и что к довершению несчастья у рабочего отнимают средства к существованию», — признают полицейские агенты [239].
Толки о каком-то заговоре, который готовится, не прекращались [240]. Полиция с беспокойством отмечала, что рабочие говорят, что не испугаются войск, потому что лучше быть убитыми, чем умереть голодной смертью [241]. Говорили о заготовке оружия в Сент-Антуанском предместье [242], ожидали «толчка», который откуда-то должен воспоследовать; «рабочий класс, страдающий от непогоды и от недостатка работы, позволяет себе самые оскорбительные выражения по адресу Директории, Совета пятисот и всех депутатов», — постоянно доносила полиция [243].
В некоторых слоях рабочего класса тайная полиция отмечала ненависть к действовавшей конституции, на которую они начали сваливать вину [244]. «Пусть бережется шайка, которая нас изводит голодом 18 месяцев», — повторялось в рабочей среде [245] (счет велся с падения Робеспьера, с конца июля 1794 г.). В Сент-Антуанском предместье [246] вспоминали 14 июля 1789 г. и 10 августа 1792 г. — полиция учитывала отчаяние рабочих и сурово разгоняла самые небольшие группы, останавливавшиеся на улице.
Полиция явственно начинала что-то чуять: разговоры о конституции 1793 г., сравнения ее с действовавшей конституцией (1795 г.), разговоры об общности имуществ гораздо более частые, нежели прежде, угрозы взяться за оружие, таинственные намеки («le choc», «le grand coup qui se prépare») — все это наводило ее на мысль о посторонней рабочим руке, которая хочет ими воспользоваться… «Кажется, что приближается какое-то событие», — читаем мы в рапорте от 10 мая 1796 г. [247].
И полиция не ошиблась в своих гипотезах: это были дни напряженнейшей деятельности Бабефа, дни, предшествовавшие его аресту. «Газета Бабефа «Tribun du peuple», появившаяся сегодня, открыто проповедует восстание, возмущение и конституцию 1793 г.», — отмечает полицейский рапорт 18 ноября 1795 г. [248]. «Газета Бабефа, которая завтра должна появиться, оживляет их (рабочих — Е. Т.) дух», — читаем мы в докладе от 15 декабря 1795 г., и уже речь идет о необходимости вернуть в законодательный корпус якобинцев [249]. Популярность Бабефа в рабочей среде растет; в конце декабря (1795 г.) революционно настроенные лица вместо с рабочими с «живейшим нетерпением ожидают номера (газеты — Е. Т.) Бабефа, в котором он пригласит народ с энергией вернуть себе свои права» [250]. 10 апреля 1796 г. неизвестные руки расклеивают по стенам города афиши «Analyse de la doctrine de Babeuf, tribun du peuple» [251]. Полиция срывает эти прокламации, но 12 апреля в предместьях идут толки о том, «как хорошо было бы, чтобы собственность была общей, и чтобы все доходы от промышленности принадлежали всем» [252]. Бабувистская пропаганда становится все заметнее; но очень характерно, что больше всего — она направлена в сторону политическую: обещается прекращение дороговизны и безработицы в случае восстановления конституции 1793 г., а рассуждения вроде только что приведенного (об общей собственности) попадаются весьма редко, в виде исключения.
Это последнее обстоятельство, ясное уже по рапортам полиции, показалось мне достойным дальнейшего расследования. Дело в том, что для полноты характеристики рабочего класса в рассматриваемую эпоху далеко не лишнее дать себе ясный отчет: считали ли заговорщики 1796 г. рабочих таким элементом общества, который способен подняться во имя уничтожения права собственности? Полагал ли Бабеф, что обещание социального переворота будет более привлекательно и понятно для рабочих, нежели чисто политические пункты его программы? Ведь если удастся уяснить себе это, перед нами будет важное и очень авторитетное свидетельство современника, касающееся воззрений рабочей среды на общественный строй.
Но Бабеф нигде об этом предмете, т. е. о воззрениях рабочей среды, прямо не говорит. Нужно рассмотреть содержание его пропаганды, чтобы получить косвенный ответ на поставленный тут вопрос.
6
Имеющаяся скудная литература о Бабефе вовсе не может, к сожалению, служить нам подспорьем для выяснения этого вопроса.
Старая книга Buonarotti «Conspiration pour l’égalité dite de Babeuf», вышедшая еще при Реставрации (в Брюсселе, в 1828 г.), очень ценна уже потому, что принадлежит перу участника заговора и является одним из источников. Буонаротти занят прежде всего внешней историей заговора и процесса и перепечаткой некоторых документов из напечатанных по приказу Директории перед процессом. Правда, внешняя история заговора именно здесь для нас была бы весьма интересна, но Буонаротти ничего не говорит о пропаганде в рабочих предместьях и об успехе или неуспехе этой пропаганды, а, излагая идеи Бабефа, не анализирует, какие именно из них Бабеф считал наиболее пригодными для возмущения народа против Директории, а какие — менее.
Решительно ничего в этом смысле не дает и «Biographie de Babeuf», написанная Ed. Fleury (подзаголовок «Etudes révolutionnaires». Первое издание — без даты, предисловие помечено 1849 г.).
В 1883 г. вышел первый, а в 1884 г. второй том работы Advielle «Histoire de Gracchus Babeuf et le babouvisme».
Второй том занят: 1) перепечаткой защитительной речи Бабефа на суде (впервые напечатанной еще при Директории, в 1797 г.) и 2) перепиской, которую Бабеф вел в 1785–1788 гг. с Дюбуа де Фоссе, секретарем аррасской академии. Что касается первого тома, то он содержит биографию Бабефа и отчасти анализ его доктрины. Автор пользовался как газетами Бабефа, находящимися в Национальной библиотеке, так и отдельными работами и летучими листками, издававшимися Бабефом еще с 1789 г., а также всеми документами, которые Директория сочла нужным напечатать в 1796–1797 гг., отчасти после ареста, отчасти после казни Бабефа. Рукописями, захваченными у Бабефа при обыске и почему-либо не напечатанными Директорией, он не пользовался, быть может потому, что «Etat sommaire» Национального архива, где отмечены номера соответствующих картонов, вышел в свет позже появления книги Адвиелля. Книга Адвиелля гораздо полнее и осведомленнее работы Флери, но интересующего нас тут вопроса и она не затрагивает. Что касается популярных мелких очерков, статей, брошюр о Бабефе, то они основываются, старые — на Буонаротти и Флери, новые — на Адвиелле. Ничего интересного с нашей специальной точки зрения не дает и новейшая книжка Robiquet «Buonarotti et la secte des égaux» (Paris, 1910).
В общих историях революции подавно почти ничего по этому вопросу нет.
В книге Deville «Thermidor et Directoire» (пятый том из коллекции «Histoire socialiste») заговору Бабефа отведено больше места, чем в любой другой общей истории революции (стр. 302–335). Но интересующий нас тут вопрос затронут мельком лишь в двух местах: на стр. 304 отмечается невнимательность Бабефа и его друзей к попыткам рабочих бороться против хозяев, а на стр. 335 упоминается, что рабочая масса Парижа «симпатизировала движению», но была утомлена и неспособна действовать.
Еще меньше можно было ожидать найти по интересующему нас тут вопросу в больших и малых работах, посвященных истории коммунистических и социалистических идей: авторы трудов такого рода, если находили нужным ввести Бабефа в рамки своего исследования, считались с ним, конечно, исключительно как представителем идеи борьбы против собственности в XVIII столетии. Ни история заговора вообще, ни анализ действий Бабефа как пропагандиста их совершенно не занимали (и на самом деле не могли много дать для уяснения интересовавшего их предмета).
Бабеф не был автором «Manifeste des Egaux» (этот документ составлял, по-видимому, Сильвен Марешаль). Но во всяком случае этот манифест излагал идеи Бабефа.
В «Manifeste des Egaux» автор стремится оттенить отличие фактического равенства от равенства конституционного, от равенства перед законом. Первое не существует во Франции, и к нему-то автор призывает сограждан; второе существует, но автор «манифеста» считает его фикцией, не имеющей реального значения. Он стремится к уничтожению права владеть земельной собственностью; он противопоставляет свой идеал «аграрному закону», т. е. земельному переделу вроде того, представление о котором связывается во всей французской публицистике конца XVIII в. и с воспоминанием о смутах конца римской республики, и с именем Гракхов. Вот самое важное место «манифеста», где говорится о собственности: «La loi agraire ou le partage des campagnes fut le vœu instantané de quelques soldats sans principes, de quelques peuplades mues par leur instinct plutôt que par la raison. Nous tendons à quelque chose de plus sublime et de plus équitable, le bien commun ou la communauté des biens, plus de propriété individuelle des terres; la terre n’est à personne. Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des fruits de la terre: les fruits sont à tout le monde» [253]. Здесь, собственно, вполне ясно и категорично говорится лишь об уничтожении частной собственности на землю. Но примем за вполне доказанное, что в словах «le bien commun ou la communauté des biens» (даже так поставленных, как они поставлены в выписанной выше фразе) содержится принципиальное отрицание всякой частной собственности вообще. Признаем далее, что социальный момент в этом документе преобладает над политическим: манифест распространяется о необходимости «реального равенства», об уничтожении деления на «богатых и бедных, господ и слуг, управляющих и управляемых». Наконец, укажем, что в этом документе вполне ясно указывается, какая, по мнению автора, связь между этим будущим «реальным равенством» и восстановлением конституции 1793 г., причем эту конституцию Бабеф считает еще не достижением идеала, но большим шагом вперед по направлению к этой цели [254].
Вполне понятно, что историки социалистических и коммунистических учений неоднократно интересовались именно этим «манифестом», который давал Бабефу право запять место среди предшественников позднейшего коммунистического движения.
Но так как тема наша — не Бабеф, а анализ состояния рабочего класса при революции, то нас заинтересует тут больше всего следующий вопрос: насколько Бабеф считал целесообразным, считал уместным идти к народу и прежде всего к рабочим Парижа с пропагандой отмены частной собственности? Что он рассчитывал главным образом на солдат и, правда, лишь отчасти на рабочих Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместьев [255], это может считаться фактом совершенно точным.
Допросим же документы: они ответят нам совершенно ясно, что сделать уничтожение частной собственности центральным пунктом пропаганды Бабеф не решился ни в казармах, ни в рабочих предместьях.
Обратимся к материалам, которые остались после Бабефа и которые могут дать нам искомый ответ. Это материалы двух категорий: во-первых, статьи и печатные обращения, рассчитанные на пропаганду, и, во-вторых, те данные из захваченных у Бабефа бумаг, которые показывают, как оценивал сам он (и его товарищи) борьбу против собственности в качестве агитационного средства.
Так как нас тут интересует, повторяю снова и снова, не деятельность этого человека, взятая в целом, не генезис и эволюция его идей, то хронологические рамки расследования должны быть ограничены последними полутора годами его жизни, начиная с того времени, когда в нем постепенно стала созревать мысль о возможности вооруженной борьбы против установленных властей.
После падения Робеспьера он издавал (от начала сентября до начала октября 1794 г.) газету «Journal de la liberté de la presse», в которой боролся против наступившей «термидорианской реакции». С конца января 1795 г. до 24 апреля 1796 г. он издает газету «Tribun du peuple ou le défenseur des droits de l’homme», которая является, как указывает ее подзаголовок [256], прямым продолжением предшествовавшей. Сохранена нумерация (первый номер «Tribun du peuple» помечен цифрой 29; пагинация тоже сохранена; первая страница новой газеты считается 259-й; ибо последний номер «Journal de la liberté de la presse» окончился 258-й страницей). По-прежнему темы политической действительности, борьба против «термидорианцев» поглощают почти все его внимание. Но и вопросы социально-экономического порядка время от времени привлекают его внимание. Так, в первом же номере новой газеты он посвящает несколько строк распоряжению Комитета общественного спасения от 16 фримера, которым, как выше было уже сказано, поденная плата, принятая до сих пор в оружейных мастерских, заменена была сдельной и одновременно сокращались штаты рабочих, причем те оружейники, которые окажутся лишними, должны были отправиться в действующую армию. Бабеф с состраданием говорит об участи их семейств [257]. Уничтожение закона о максимуме вызывает у него несколько слов порицания относительно «торгашеских душ» (toutes les âmes boutiquières et marchandes) [258], но он только регистрирует самый факт, не вдаваясь в анализ этого мероприятия. Несколько иронических строк посвящает он также (приведенному нами в главе о максимуме) воззванию Конвента, сопровождавшему отмену закона [259].
Он даже склонен считать положение правительства непрочным именно потому, что масса, по его мнению, страдает. Любопытно, что он еще в начале 1795 г. считал Робеспьера тираном, но полагал, что тирания его была устойчива вследствие того, что народ при нем не нуждался (как полагает Бабеф) в предметах первой необходимости и в работе [260], и заработок рабочего был хорош. Все это и сделало тиранию Робеспьера устойчивой (on pouvait par ce moyen stabiliser la tyrannie). Мы знаем, что экономической идиллии, которую рисует здесь Бабеф, при Робеспьере не было, но не в том дело: это место интересно для нас в высшей степени потому, что оно дает как бы ключ, разгадку Бабефа в последней фазе его деятельности, к которой он уже приближался. В том же 1795 г. Бабеф перестает окончательно считать Робеспьера тираном.
Тут кстати будет заметить, что, судя по некоторым заявлениям Бабефа, можно было бы заключить, что и в самом деле он еще в 1796 г. недалек был от взгляда на конституцию 1793 г. как на идеал социальной справедливости, а не только как на орудие для достижения «фактического» равенства, и что падение того же Робеспьера он рассматривает как событие, помешавшее упрочению вечного счастья народа [261]. По его мнению, чуть ли не один только Робеспьер желал дать народу не фикции, а реальное благополучие [262]. Как упомянуто выше, уже в «Манифесте» Бабеф более определительно придал конституции 1793 г. лишь значение «большого шага» к установлению всеобщего счастья и фактического равенства. И еще незадолго до своего ареста он с жаром отстаивал экономическую политику Комитета общественного спасения 1793–1794 гг. и считал законы о максимуме и реквизициях спасительными; а все зло пошло, по его мнению, с 9 термидора, ибо после падения Робеспьера максимум был отменен и наступила дороговизна. Все это высказывается без каких бы то ни было доказательств [263], но нам тут важно отметить, что эпоху господства максимума и реквизиции он считал, вопреки фактам, временем благополучия, и даже такого, когда «все шло как нельзя лучше».
Но обратимся к программной статье «Tribun du peuple». Тотчас после рассуждения о том, что материальное положение народа, рабочей массы при Робеспьере было хорошо и что это сделало его тиранию устойчивой, Бабеф излагает свою социальную философию: это было со стороны Робеспьера, может быть, единственным средством упрочить свое владычество, ибо «большинство граждан по природе любит покой, только и хочет уйти от дел и жить спокойно у своего очага», и если жизнь у очага хороша и есть довольство, то охотно предоставляет дело управления тому, кто поддерживает такой порядок вещей, а на попрание великих принципов легко закрывает глаза [264]. И вот почему он называет людей, находящихся у власти теперь, после Робеспьера, «самыми неловкими из всех тиранов», ибо у народа нет работы, цены непомерно растут и т. д. «24 миллиона» голодающих он противопоставляет «одному миллиону богатых» и находит положение правителей трудным. Тут же он ставит в своей газете впервые прямой вопрос: должен ли и может ли народ восстать, и отвечает утвердительно. Пример легкости революционной победы в 1789 г. соблазняет его, и он многократно к этому примеру возвращается.
Итак, низвержение ненавистного ему строя он уже с начала 1795 г. связывал логически с необходимостью заинтересовать в этом деле голодающую массу, причем был убежден, что только материальная нужда и надежда на улучшение материального положения могут подвинуть на это народ.
Бабеф понимал свою историческую роль так, что он призван разъяснить народу смысл и революции уже совершившейся и той, которую, по его мнению, еще надлежало совершить [265], а смысл этот он видел в установлении строя, при котором «удовлетворялись бы нужды народа». Он признавал, что «пока» (т. е. вплоть до 1795–1796 гг. и в эти годы) народ не только ропщет на революцию, но с грустью вспоминает о временах королевского владычества [266]. И первоначальный план кампании Бабефа именно и основывался на том, чтобы поддержать республиканский принцип в глазах народной массы, а это, по его мнению, возможно было сделать, только осуществив «реальное» равенство взамен «химерического» [267], в которое народная масса не верит и которого не понимает. Для него идеал политический — демократическая республика — и идеал социальный — уничтожение экономического неравенства — связываются неразрывной связью. По мнению Бабефа [268], революция 1789 г. была «войной между бедными и богатыми, между плебеями и патрициями», эта война не прекратилась, но для «плебеев», для «бедных» она затрудняется тем, что их противники внушили им убеждение, будто существование бедности — в порядке вещей, нечто вроде закона природы [269]. Главное установление, обусловливающее преимущество богатых над бедными, есть право собственности.
«Фактическое равенство не есть химера», полагает Бабеф и приводит такое доказательство: «… опыт был счастливо предпринят великим трибуном Ликургом. Известно, как ему удалось установить эту восхитительную систему, где общественные повинности и выгоды были распределены равным образом, где довольство было неутрачиваемой долей каждого и где никто не мог получить излишнее» [270]. От Ликурга он непосредственно переходит к Христу, затем к Жан-Жаку Руссо, с хвалой отмечая принцип, высказанный Руссо: «… pour que l’état social soit perfectionné, il faut que chacun ait assez et qu’aucun n’ait trop». Эти слова Руссо кажутся Бабефу «элексиром общественного договора».
От Жан-Жака Руссо он переходит к Дидро, который протестовал против честолюбия и алчности [271], а от Дидро — к Робеспьеру и Сен-Жюсту (Робеспьера он считает автором слов, содержащихся в «Декларации прав», предпосланной конституции 1793 г.: «… цель общества — всеобщее счастье», а из Сен-Жюста цитирует фразу: «несчастные — это сила на земле, они могут говорить как господа с правительствами, которые ими пренебрегают») [272]. Кроме всех этих лиц, он цитирует еще депутата Армана, который в апреле 1793 г. говорил о «фактическом равенстве» и между прочим сказал: «… не будем доискиваться, могут ли существовать по естественному закону собственники и не имеют ли все люди одинаковое право на землю и ее плоды».
После этих цитат он развивает собственные мысли о реальном равенстве, высказывается против наследств и против права частного владения землей и за установление полного равенства на основе принципа: всякий должен иметь возможность удовлетворять своим потребностям, но не больше и не меньше; человек должен вознаграждаться не в меру того, что он дает обществу, не в меру своего труда, ибо один одарен больше, другой меньше, один силен, другой слаб, — а в меру того, что ему нужно для поддержки своего существования. Частная собственность должна быть уничтожена; это одно из немногих мест из всех писаний Бабефа, где ясно и точно требуется уничтожение всех видов частной собственности [273]. Он даже намечает способ распределения в новом обществе: будет установлена администрация (une simple administration de distribution), которая будет отправлять на дом каждому гражданину нужную ему долю продуктов; а производство будет организовано так, что каждый должен будет заниматься тем промыслом, которым может, а все, что выработает, обязан будет сдавать в натуре в общий склад.
Что касается перехода к этому новому строю, то Бабеф находит справедливым отобрать у тех, которые имеют больше, чем им лично нужно для поддержки существования, все излишнее. Кончается эта статья (и этот номер газеты) призывом к войне бедных против богатых, к «плебейской Вандее» и к общему грандиозному перевороту, к «хаосу», откуда выйдет «новый мир» [274].
Бабеф всего только один раз так высказался. Он в этом же 35-м номере обещает, что выпустит вскоре «Манифест» [275], в котором будут развиты те же мысли. «Манифест» он выпустил, но уже в этом документе повторил далеко не все из того, что только что нами приведено. Прежде всего никаких призывов к всеобщему перевороту, к смешению стихий, к «хаосу» и так далее в «Манифесте» нет и в помине: в виде непосредственной цели предлагается восстановление конституции 1793 г. Мысли о собственности переданы в значительно более сдержанных выражениях, да и содержание их не совсем то же самое.
В № 36 не находим ничего, кроме ожесточенных нападений на Директорию и апологии революционной борьбы.
В № 37 (вышедшем 30 фримера — 22 декабря 1795 г.) в полемике с Антонелем Бабеф повторяет свои мысли о собственности; все, что не необходимо для удовлетворения личных потребностей собственников, захвачено ими неправым путем [276]. Собственность «есть ненавистная причина всех страданий, всех несчастий» народа. Бабеф пытается доказать, что именно теперь, в момент, когда он пишет и когда хлеб стоит 60 ливров фунт, когда «народ» совершенно разорен, право собственности, может быть, близко к уничтожению [277]: «Сделайте многих несобственниками, предоставьте их в жертву пожирающей алчности кучки захватчиков, и корни фатального установления — собственности — уже не окажутся неистребимыми» [278]. На указание полемиста Антонеля, что некоторых вещей не следует говорить [279], Бабеф гордо отвечает, что скрывать своих мыслей не станет.
Чаще всего, если он обращается к определенной части народа, то именно к армии. Гораздо реже он прибавляет: обращение к рабочим. «Солдаты! рабочие! — читаем мы в 38-м номере газеты, — вы все, ограбленные и доблестные плебеи, мужайтесь! Вы будете иметь демократию, равенство, общее счастье, по которым вы столь давно вздыхаете! Шесть лет ваших героических трудов не пропадут даром! Ни вы, ни мы, не будем более игрушкой и посмешищем мошенников, которые нас угнетают еще» [280], и т. д. и т. д. В чем это равенство и общее счастье должно заключаться, не говорится, но обращение, как всегда, заканчивается указанием, что единственно законная принятая народом конституция — это конституция 1793 г., а не существующая «патрицианская» 1795 г. № 39 (от 31 января 1796 г.) посвящен анализу события 13 вандемьера (восстания и усмирения роялистов 5 октября 1795 г.).
Нападениям на правительственный деспотизм и на «контрреволюционные» стремления Директории, а также оптимистическим корреспонденциям из департаментов, где будто бы растет число «патриотов», жаждущих установления «равенства», посвящен № 40. Больше всего публицист заинтересован в том, чтобы отметить положительные стороны робеспьеровского режима сравнительно с порядком вещей, наступившим после 9 термидора: например, подчеркивается, что ассигнации при Робеспьере не пали так в цене, как после него [281].
Весь 41-й номер газеты (вышедший 10 жерминаля — 31 марта 1791 г.) «Tribun du peuple» занят обширной прокламацией Бабефа к солдатам, в которой он убеждает их не помогать Директории держать народ в рабстве, которое, по его мнению, гораздо хуже старого режима [282].
Бабеф не верил в то, что народ готов к политическому перевороту, к восстанию против Директории, и это ясно высказывал в последних номерах своей газеты. Предпоследний номер (42-й) занят исключительно нападками на правительство, но публицист предостерегает от необдуманных, преждевременных движений [283].
Последний номер (43-й) газеты «Tribun du peuple» [284], вышедший за две недели до ареста Бабефа, целиком посвящен филиппикам против законов 27–28 жерминаля, против полного уничтожения последних признаков политической свободы, которое он усматривал в этих законах. Он тут говорит о голоде, который косит народ все больше и больше, и все беды приписывает Директории, «ужасному режиму, который только увеличивает население кладбищ» [285].
Не только нет ни единого слова относительно разделения или уничтожения собственности, но Бабеф горячо оправдывается в брошенном против него обвинении, что он проповедует «грабеж маленьких лавок». Напротив, утверждает он, его цель укрепить, поправить положение «маленьких лавок» и «маленьких хозяйств» [286], защитить их от «ажиотажа» скупщиков и «позолоченных мошенников», поддерживаемых, по его словам, Директорией. Он всецело стоит на робеспьеровской точке зрения, на защите мелкой собственности от крупных финансистов и богачей: он прямо утверждает, что, напротив, владельцы «обыкновенных состояний» должны быть совершенно успокоены его заявлениями, ибо он всегда был лишь против «колоссальных состояний» [287].
На бой против Директории он призывает «не только тех, которые ничего уже не имеют, но всех тех, у которых есть средних размеров состояние», а также тех, которые хотят спасти остатки своего состояния от гибели (причем и тут он эту грозящую в будущем гибель приписывает «отвратительному режиму» Директории) [288].
Что Бабеф именно с «тиранией» Директории связывал бедственное состояние низших слоев населения, явствует также из его ответов министру полиции на допросе спустя несколько часов после ареста. На вопрос министра полиции: «Не на завтра ли, не на 22-е (флореаля — Е. Т.), назначили вы день восстания?» обвиняемый отвечал: «… если бы зависело только от моих желаний, то первый благоприятный момент был бы использован, чтобы низвергнуть тиранию, избавить народ от позорного рабства, от гнусной нищеты, которая его угнетает» [289].
Со 2 марта 1796 г. до 27 апреля того же года Бабеф также издавал еще (подписываясь тут Sebastian Lalande, soldat de la patrie) газету под названием «Eclaireur du peuple ou le défenseur de 24 millions des opprimés» [290]. Всего вышло 7 номеров. В этом органе Бабеф предался исключительно политической агитации (повторяя те же мысли и часто в тех же выражениях, что и в «Tribun du peuple»). По-видимому, Бабеф хотел сделать этот орган более доступным, более легким для чтения. Тут между прочим Сильвен Марешаль помещал свои, направленные против Директории, стихотворения [291]. Эта газета затевалась им для «народа»; ибо, по мнению Бабефа, все органы печати, кроме «Tribun du peuple», продали себя либо роялистам, либо правительству. «Пора народу иметь свою газету», — говорит он [292]. Относительно же своего «Tribun du peuple» он тут выражается так: «… если бы это издание могло в достаточной степени читаться народом, то быстро рухнула бы гора софизмов, воздвигнутая тиранией» [293]. Итак, значит, «Eclaireur du peuple», был в еще большей степени, чем «Tribun du peuple», рассчитан на широкую народную массу; и во всех семи номерах этой газеты ровно ничего нет о праве собственности; мало того, тут, говоря общее, вопросы социального порядка, вопросы материального состояния народа не затрагиваются вовсе (если не считать беглых фраз об ажиотаже и обесценении ассигнаций, № 6) и т. д. Агитация вращается вокруг вопросов характера политического, и только. Если делать вывод на основании сравнения этих двух газет, то пришлось бы признать, что, чем популярнее стремился Бабеф сделать свою агитацию, чем ближе силился он подойти к народной массе, тем старательнее избегал затрагивать проблему общественного переустройства, тем охотнее прятал свои социальные убеждения, тем исключительнее предавался полемике против Директории и против конституции 1795 г.
Переходим теперь от систематического обзора газет Бабефа к документам иного рода.
Бабеф в своей тайной переписке с участниками заговора не скрывал от них, что мало верит в силы «демократов», в силы врагов правительства, и еще за неделю до раскрытия заговора предостерегал от слишком поспешного выступления [294]. Как человек весьма наблюдательный и близко видевший события 1794–1795 гг. он на силы рабочих не особенно полагался.
Главным образом усилия устной агитации Бабефа и его товарищей были также направлены на солдат парижского гарнизона и гарнизонов близких к столице местностей. Документов, подтверждающих это, весьма много. Что же касается до рабочих, то, собственно, было найдено одно прямое указание в бумагах Бабефа, и обвинитель заговорщиков на суде мог сослаться в этом отношении только на одно это показание [295].
Во всяком случае, кроме солдат, его пропаганда была обращена, как уже выше было указано, именно к столичным рабочим. И последние действия Бабефа всецело подтверждают факт, который только что мы старались установить, характеризуя его журнальную деятельность: вплоть до конца он совершенно не помышлял не только о немедленном социальном перевороте после победы, но даже о возможности содействовать этой победе пропагандой против собственности.
В акте, которым учреждалась центральная тайная организация заговора — «директория», ни единого слова не говорится об уничтожении собственности, а речь идет только о страшной нищете и политическом порабощении народа как о причинах к восстанию [296]. Эта «тайная директория общественного спасения», которая должна была стать во главе дела, обратила все свое внимание на пропаганду в войсках. Можно даже сказать, что создание сети агитаторов, «военных агентов», разных рангов и инструкция, разосланная им, были главными проявлениями кратковременной деятельности «тайной директории». И в этой инструкции, где преподаются советы, как вести пропаганду, что именно внушать слушателям, тоже ни единого слова о праве собственности нет. Мало того. «Тайная директория» начинает свою «инструкцию» с указания, что там, где народ пользуется свободой и может высказываться, никакой заговор не может быть оправдан, и заговорщик при таких обстоятельствах становится узурпатором; что «тайная директория» вступила на путь заговора лишь — вследствие тирании правительства [297]. Указав на то, каким способом будут соблюдаться правила необходимой конспирации и охраны от правящих властей, «тайная директория» переходит к тому, что должно составлять содержание пропаганды: прежде всего они должны всячески распространять народные газеты, «которые им будут доставляться» (доставлялся им «Tribun du peuple», уже рассмотренный выше с интересующей нас точки зрения), а затем с солдатами надо специально говорить об их нищенском положении. Нужно солдату указывать, что на его жалованье (30 су ассигнациями и 2 су звонкой монетой в день) прожить невозможно [298]; что немудрено, если солдат — без сапог, оборван, если на нем грязная рубашка, ибо за мытье ее прачка берет 30 франков; нужно указать ему на то, что вследствие жестокой дисциплины положение солдата теперь хуже, «чем при благородных министрах Людовика XVI; что солдат превращен в автомат, в движущуюся машину»; что если некоторым полкам, именно охраняющим правительство и расположенным в Париже и близ Парижа, живется лучше, так это именно потому, что при их помощи порабощен народ [299], и т. д. Все это, учит инструкция, нужно говорить солдату об его настоящем. Что же касается будущего, т. е. того времени, когда он окончит службу и придет домой, то его ожидает еще худшее. «Нищета, в тысячу раз большая», нежели до революции. Но почему? Прежде всего потому, что революция обещала им увеличить их собственность (из национальных имуществ) и не исполнила своих обещаний [300]; их ждут нищета и выпрашивание милостыни. Вот единственное место «инструкции», где вообще мы встречаем слово la propriété. Наконец, инструкция рекомендует агитаторам указывать солдатам (но делает это в самых общих выражениях), что если они пойдут за заговорщиками, тогда ни в чем больше не будут нуждаться и будут вполне счастливы. Но, как именно это сделается, — обойдено полным молчанием [301].
Все прокламации Бабефа, обращенные к солдатам (и сохранившиеся в картонах AF III-42 и AF III–43), оказываются переложением другими словами этих основных мыслей «инструкции» [302]. Точно таковы и прокламации, рассчитанные на прочих граждан: нигде ни слова о собственности, и всюду только речь о восстановлении «истинного» народного представительства, о замене Директории, которая «господствует при помощи эшафотов, голода, скоро, быть может, будет господствовать при помощи чумы», — другим правительством, при котором настанет «изобилие» [303].
В прокламации, расклеенной по стенам Парижа и носящей название «Analyse de la doctrine de Babeuf, tribun du peuple, proscrit par le directoire exécutif, pour avoir dit la vérité» [304], мы читаем, что природа дала каждому человеку равное (с другими) право на пользование всеми благами; что цель общества — защищать это равенство, на которое часто нападают в естественном состоянии сильные и злые, и увеличивать общими силами общие наслаждения; что природа возложила на всех обязанность работать. Никто не может уклониться от труда, не совершая этим преступления; что труд и наслаждения должны быть общими для всех; что угнетение — там, где один истощается в труде и нуждается во всем, а другой утопает в изобилии, ничего не делая; далее говорится, что никто не может, не совершая этим преступления, присвоить исключительно себе плоды земли или промышленности; что в «истинном обществе» не должно быть ни богатых, ни бедных; что богатые, которые не хотят отказаться от излишнего в пользу нуждающихся, суть враги народа; что никто не может, присваивая все средства, лишить другого образования, необходимого для его счастья: образование должно быть общим; что цель революции — уничтожить неравенство и восстановить общее счастье; что революция не кончена, так как богатые забирают все блага и повелевают исключительно, в то время как бедные работают как настоящие рабы, прозябая в нищете, и ничего не значат в государстве; что конституция 1793 г. есть истинный закон французов: так как народ ее торжественно принял; так как Конвент не имел права ее изменять; так как, чтобы добиться этого, Конвент расстреливал народ, требовавший исполнения (конституции); так как Конвент изгнал и перерезал депутатов, которые исполняли свой долг, защищая конституцию; так как террор, направленный против народа, и влияние эмигрантов руководили составлением и мнимым принятием конституции 1795 г., которая не имела за себя и четвертой части голосов, полученных конституцией 1793 г.; так как конституция 1793 г. освятила неотчуждаемые права каждого гражданина — право утверждать законы, собираться, требовать того, что считаешь полезным, получать образование и не умирать от голода; права, которые контрреволюционный акт 1795 г. открыто совершенно попрал; поэтому всякий гражданин обязан восстановить и защищать — в образе конституции 1793 г. — волю и счастье народа; все власти, созданные так называемой конституцией 1795 г., беззаконны и контрреволюционны; те, которые занесли руку на конституцию 1793 г., виновны в оскорблении народного величества (lèse-majesté populaire).
Вот самый важный с нашей специальной точки зрения акт всего заговора Бабефа: эта прокламация, представлявшая собой старый пересказ главных социально-политических идей Бабефа, должна была познакомить рабочие предместья Парижа, где она в огромных количествах должна была быть расклеена, со стремлениями заговорщиков и побудить их поддержать лиц, бравших на себя инициативу нападения на Директорию.
Мы и тут видим характерные черты всего дела: 1) совершенную определенность непосредственной политической программы: требование замены существовавшей конституции конституцией 1793 г. и 2) неясность программы социальной. Тот, кто ознакомился с доктриной Бабефа только по этой прокламации, вправе был недоумевать: 1) считает ли Бабеф, что конституция 1793 г. уже сама по себе способна уничтожить имущественное неравенство, или нет; 2) как понимать требование, чтобы «богатые» отказались от излишнего в пользу «нуждающихся»? Что такое le superflu в этой фразе? Это во всяком случае не есть требование отказа от права собственности, ибо всюду в прокламации виден протест лишь против «исключительного» присвоения богатыми «всех» средств, и пункт I прокламации тоже в этом отношении мало выясняет дело, именно потому, что мысль, в нем выраженная, не развивается в последующих пунктах.
Зато пункты V и XI имеют непосредственное агитационное значение: Бабеф хочет в пункте V воспользоваться теми разительными контрастами времен Директории, которые, как мы увидим [305], смущали и беспокоили даже полицию; в пункте XI он стремится заменить разочарование в революции убеждением, что революцию надо еще доделать, что она не окончена и потому не дала еще нужных народу плодов. Этот пункт XI служит естественным переходом к политической программе, к пункту XII: если революция «не окончена», искусственно прервана введением конституции 1795 г., то, естественно, для ее «окончания» необходимо уничтожить конституцию 1795 г. и ввести конституцию 1793 г.
Общее впечатление от чтения этого документа то, что автор его больше всего заботился о том, чтобы связать в уме читателей восстановление конституции 1793 г. с представлением о золотом веке, когда не будет ужасающей нищеты «бедных» и когда «бедные» будут пользоваться всеми благами жизни наравне с «богатыми». Но как именно это произойдет, этот вопрос был оставлен тут совершенно в тени.
И нужно сказать, что не только в этом самом важном для нас в данном случае объяснении с народом Бабеф обходил молчанием вопрос о том, будет или не будет собственность уничтожена. В другой прокламации, уже отпечатанной в тысячах экземпляров и найденной у Бабефа при обыске, в прокламации, которая должна была быть расклеена уже после захвата власти заговорщиками, Бабеф прямо поручает охране народа все имущества государственные и частные [306]: речь идет об охране их в тревожный момент восстания. Зато ряд пунктов направлен к удовлетворению изголодавшегося парижского простого люда мерами государственной филантропии: «припасы всякого рода будут принесены для народа на общественные площади» [307], «все булочники будут объявлены под реквизицией, для непрерывного изготовления хлеба, который даром будет раздаваться народу; булочникам будет уплачено по их заявлениям» [308] (слово gratis подчеркнуто в подлиннике). Единственный пункт, касающийся конфискации собственности, направлен против эмигрантов и врагов народа: «их имущества будут розданы немедленно защитникам отечества и несчастным» [309].
Наконец, последний штрих: во вторичном, дополнительном донесении Гризеля, предавшего Бабефа, говорится о заседании вождей заговора, происходившем за два дня до ареста, и при этом ничего, касающегося вопроса о собственности, он не передает; речь шла о восстановлении конституции 1793 г. и (весьма характерная деталь) о сформировании специального отряда для обеспечения снабжения Парижа припасами [310]. Заговорщики, чтобы с самого начала обеспечить за собой поддержку населения, стремились поразить воображение бедного класса внезапным изобилием припасов.
Фактическое участие рабочего элемента в заговоре было весьма ничтожно, если вообще можно о таком участии говорить.
Всего по делу Бабефа судилось 65 человек. Из 65 подсудимых 15 принадлежали к рабочему классу.
Вот рабочие, отданные под суд по делу о заговоре Бабефа: Didier — слесарь; Cordas — вязальщик; Fossard — часовщик; Marie Monnard — работница в мастерской кружев; Muguier — портной; Boudin — токарь; Lambert — ювелир; Lamberté — портной; Dufour — столяр;. Lux — портной; Drouin — ткач; Roi — часовщик; Thierry — сапожник; Duplay — столяр; Crespin — столяр [311].
Все они не только были оправданы по суду, но подавали потом прошение в Совет пятисот с просьбою вознаградить их за пятнадцатимесячное пребывание в тюрьме, — и Совет пятисот даже согласился удовлетворить их просьбу [312]. Процесс выяснил в самом деле полнейшую их непричастность к заговору и случайность обвинений против них; и это вполне гармонирует со всеми прочими сведениями о равнодушном отношении рабочей массы к заговору.
7
После раскрытия заговора и опубликования нескольких правительственных сообщений о деле полиция внимательно следила за впечатлением в публике. Полиция с удовлетворением отмечает, что в общем рабочие либо недоумевают, либо высказываются отрицательно о заговорщиках. «Рабочий уже не смотрит на заговор как на выдумку; читая о грабеже, который ему обещали, он пожимает плечами; он хорошо понимает, что разбойники, неизвестно откуда явившиеся, ограбили бы самого рабочего. Вот их (рабочих) слова: «… лучше нам остаться, как мы есть, и отправить всех этих мошенников на эшафот» [313]. По показанию полицейских агентов, рабочих особенно раздражали слова из бумаг Бабефа, приведенные текстуально в одном из правительственных сообщений: «… нужно предупредить всякое размышление со стороны народа, нужно, чтобы он совершил действия, которые помешали бы ему отступить». При чтении этих слов «гнев овладевает читающими; они видят, что преступники хотели сделать их орудиями страшных преступлений, чтобы их же потом сделать жертвами, — говорится в донесении, — пусть Директория прикажет всех их повесить, и пусть ад поглотит их, таковы размышления» [314].
Рабочие предместья спокойны, большая часть рабочих занята своим делом, доносит полиция министру внутренних дел 18 мая, доказывая, что нечего бояться слухов о предполагаемой попытке заговорщиков, не открытых и оставшихся на свободе, освободить арестованных товарищей [315].
Впрочем, несмотря на этот оптимизм полиции, рабочие предместья в течение долгих дней после ареста Бабефа объезжались частыми и многочисленными кавалерийскими патрулями, разгонявшими все собиравшиеся группы. Друзья Бабефа пытались, разбрасывая рукописные прокламации, возбудить рабочих, но некоторые рабочие отдавали прокламации полицейским чинам [316]. Спустя несколько дней о Бабефе уже вовсе ничего не слышно.
И любопытно, что именно в мае, июне, июле положение рабочих и в Париже, и в провинции становилось все хуже: полицейские рапорты и газеты говорят в один голос, что рабочие дошли до последних пределов нищеты, что они даже победам французских армий на Рейне и в Италии, даже слухам о мире не радуются, ибо страдания «иссушили их сердца» [317], что они в таком же отчаянном положении, как были зимой; мало того: что они винят кругом Директорию во всех своих бедах. Буквально дня нет, чтобы полиция не отметила какую-либо черту, дополняющую эту картину неслыханных бедствий рабочего люда. Финансовый кризис свирепствует, мандаты потеряли 94 % своей ценности, а в провинции их и вовсе брать не хотят, безработица усиливается, такса на хлеб и мясо уже давно не соблюдается, и об этом только и говорят. Политикой, предстоящей казнью заговорщиков, победами французского оружия мало кто занят [318].
В среднем и высшем классах общества в начале зимы 1796/97 г. распространялось живейшее беспокойство по поводу этой массы безработных. Начали опять учащаться грабежи, разбои и вооруженные нападения, но на этот раз в обществе настойчиво говорили, что существующей полиции и патрулей недостаточно для охраны порядка, и что нужно эту охрану значительно усилить. Из провинции приходили слухи о нападениях на дилижансы, о чудовищно усилившихся и повсеместных разбоях; весь юг и запад Франции были терроризованы разбойничьими шайками, дававшими иной раз чуть не сражения правительственным войскам [319].
Одновременно, как и в минувшую зиму (1795/96 г.), самоубийства вследствие безработицы участились. Зима была очень суровая, и полиция в донесениях министру не переставала сопоставлять «роскошную жизнь богачей» со страданиями рабочей массы: ее несколько беспокоили эти контрасты, которые могли вызвать со стороны рабочих брожение [320].
И эти сопоставления голода 40 тысяч безработных, которых полиция насчитывала в середине декабря 1796 г. в одном только Сент-Антуанском предместье, со «скандальной роскошью» (le luxe scandaleux), какую позволяли себе некоторые, не два и не три раза повторяются в донесениях полиции времен Директории [321].
Но это беспокойство оказалось неосновательным. Сами рабочие принимают (часто возникавшие при Директории) слухи о новых заговорах, о попытках к восстанию с тревогой [322]: они изверились в Директорию, но ничего не могут выдумать другого, довольствуясь по-прежнему неопределенными сожалениями то о короле, то о Робеспьере и столь же неопределенными разговорами о военном правительстве. Ясно должно было стать и полиции, и Директории лишь одно: рабочие ни малейшей инициативы на себя не возьмут, но покорно примут всякое новое правительство, которому удастся каким бы то ни было путем водвориться на месте Директории. И мало того, что они не возьмут на себя инициативы, они и вообще никакого участия в возможной борьбе не примут, а до конца останутся посторонними зрителями. Полиция с 1797 г. все чаще ставит слова «les ouvriers» со словами: «les marchands de moyen ordre», «les rentiers» в одну скобку, когда говорит о смирном поведении населения и явственно перестает ими интересоваться. В ее донесениях о рабочих говорится реже и реже.
Сами рабочие в эти последние месяцы существования Директории говорят о своих республиканских чувствах, по-видимому, лишь тогда, когда, жалуясь на хозяев, обвиняют их в «роялизме». «Нужно же республиканцам жить и кормить свои семьи», — говорят между прочим марсельские рабочие, которые в начале 1799 г. жаловались, что «роялисты» не берут их на работу, и представляли себя страдальцами за республиканские убеждения [323], которые должны были бежать из Марселя от происков «réaction royale».
Но, конечно, сами власти ничуть не обманывались относительно реальной ценности подобных политических заявлений.
«1 мессидора (19 июня 1799 г.) рабочие Сент-Антуанского предместья собирались в публичных местах… много говорили о Директории и о министрах… говорили: пусть сделают, что хотят, предместья больше в это не станут вмешиваться» [324].
На этой ноте, совершенно гармонирующей со всеми другими показаниями, обрывается история рабочего класса во Франции в период 1789–1799 гг.
Дружественный нейтралитет рабочего населения столицы был обеспечен всякому, кто покончит с существующим положением вещей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Рабочие и переворот 18 брюмера. Законодательство эпохи Консульства, касающееся рабочего класса. 2. Воззрения властей на рабочих в начале Империи. 3. Общие выводы
Задача, которую я себе поставил, окончена, но мне представляется уместным сказать в заключение несколько слов как об отношении рабочих к захвату власти генералом Бонапартом, так и о тех взглядах на рабочий класс, которые были присущи правительственным властям в начале Наполеоновской эры и которые выразились: 1) в законодательстве и 2) в единственной по полноте характеристике рабочих, сделанной парижским префектом в начале 1807 г.
1
Переворот 18 брюмера был встречен рабочим населением столицы совершенно спокойно и даже с надеждой.
Чуть ли не первые известия, касающиеся настроения рабочих в эпоху Консульства, относятся к лету 1800 г.; «наилучший дух царит среди рабочих» [1] — констатирует полиция. А когда пришло известие о победе Бонапарта над австрийцами при Маренго, то парижские рабочие даже особенно неистово выражали свой восторг. Они большей частью бросили работу, едва раздался гром пушек, извещавший столицу о победе. «Рабочий класс опьянел от радости… они собирались на улицах, жадно слушая новости, крича: «Да здравствует республика! да здравствует Бонапарт!» [2] Даже среди всеобщих восторгов населения полиция как бы с некоторым удивлением (весьма попятным, если принять во внимание долголетнюю полную апатию и равнодушие рабочих к политике) отмечала, что именно рабочие вне себя от восторга и не хотят успокоиться: 2 июля (1800 г.) Бонапарт вернулся в Париж, и весь день столица праздновала; всюду были увеселения, иллюминации и т. д. Но на другой день все вошло в свою колею, кроме рабочих предместий. «Дня 13 мессидора (2 июля) оказалось недостаточно рабочим предместий, особенно Сент-Антуанского, чтобы выразить радость, которую им доставило возвращение первого консула», и они праздновали самым шумным образом еще и 3 июля. «Этот хороший дух есть верное ручательство бессилия попыток смутьянов», — замечает по этому поводу полиция [3]. Рабочие ликовали, ожидая скорого мира, конца безработицы, конца голода.
Все надежды перенеслись на победоносного диктатора, и новые власти деятельно этим пользовались.
Одним из самых обычных приемов местной администрации на первых порах после переворота, отдавшего Францию в руки генерала Бонапарта, было указание на то, что торгово-промышленная деятельность в скором времени возродится [4], и это привлекало к новому режиму не только предпринимателей и мелких самостоятельных производителей, но и массы голодающих безработных.
Рабочая масса надеялась на нового владыку, как она надеялась на прежних при каждой перемене режима. В правящих кругах между тем рабочими интересовались главным образом с точки зрения сохранения порядка и спокойствия; кроме того, с первых же лет Консульства вопрос об укреплении правительственного надзора и властной опеки в промышленном производстве не переставал привлекать внимание правительства.
В сущности, тенденция к восстановлению цехов, или, точнее, к восстановлению регламентации промышленности, тенденция, решительно проявившаяся при Консульстве, возникла и развилась на почве конкуренции с Англией и сознания технической отсталости Франции, а также всецело царившей во Франции системы домашнего производства.
«Одним из великих источников процветания наших мануфактур является заграничный сбыт их продуктов. Приносит ли в этом отношении им пользу свобода, которой они пользуются?» — спрашивает автор сводки «Observations des inspecteurs ambulans des manufactures» [5], писавший при Консульстве. Нет, — отвечает он, — «надо признать, если наши фабрики теперь дискредитированы»; если ипостранцы отняли у французов рынки сбыта, то произошло это вследствие того, что французские мануфактуры из-за недостатка надзора стали сбывать фабрикаты очень плохого качества (автор особенно останавливается на шерстяной и полотняной индустрии). Но ведь вот английская индустрия совершенно свободна, почему же ей свобода не вредит? Автор признает, что это часто говорят, но он отказывается считаться с подобным аргументом: «… не будем сравнивать себя с нашими торговыми соперниками, мы отличаемся от них в слишком многих пунктах, чтобы сравнение было точно и чтобы можно было извлечь из него правильные заключения».
Вот почему автор взывает к правительству, чтобы оно положило предел свободе производства, чтобы эти лишенные всякого надзора рабочие не могли далее подрывать репутацию французской индустрии и лишать Францию внешних рынков [6]. Почти совершенное отсутствие во Франции мануфактур нового типа «ateliers réunis», где рабочие работают в здании заведения, констатируется таким образом инспекторами мануфактур самым категорическим образом.
До восстановления цехов и регламентации дело все же не дошло, но было признано необходимым строго ограничить свободу рабочих в их сношениях с предпринимателями, в их передвижениях и т. д.
Вообще говоря, все, что касалось рабочих, рассматривалось при Консульстве и Империи прежде всего с точки зрения сохранения общественного порядка и спокойствия; например, даже безработица, проистекающая от недостатка сырья, интересовала власти именно с этой стороны, и это было возведено в принцип, вполне определенно провозглашавшийся во всеподданнейших докладах и других официальных документах [7] (впрочем, то же отношение к вопросу характерно и для предшествовавшего режима, особенно для Директории).
Самым важным памятником наполеоновского законодательства относительно рабочих, конечно, является закон 22 жерминаля. Законом 22 жерминаля (12 апреля 1803 г.) [8]: 1) подтверждался закон Ле Шапелье касательно воспрещения каких бы то ни было стачек, причем виновные подвергались тюремному заключению до 3 месяцев; в случае сборищ или применения насильственных действий виновные подлежали уголовному суду [9]; 2) ни один ученик или взрослый рабочий не мог быть принят хозяином без предъявления удостоверения того лица, у которого раньше находился ученик или рабочий; удостоверения, что все обязательства данным учеником или рабочим выполнены [10]; 3) все дела, касающиеся профессиональных отношений между хозяевами и рабочими (или учениками), рассматривались и решались безапелляционно в Париже префектом полиции, в других местах — мэром или его помощником [11].
Закон 22 жерминаля, всецело проникнутый духом предшествовавшего законодательства относительно рабочих, внес одну черту, которая все же как общее правило отсутствовала со времени отмены цехов: рабочий отчасти прикреплялся к месту работы. Самым существенным пунктом закона оказалась статья XII, трактующая о рабочих книжках. Опираясь на нее, правительство издало 1 ноября того же 1803 г. постановление [12], подробно разработавшее вопрос об этих книжках. Книжки выдавались отныне полицейскими властями в Париже, Лионе и Марселе, а в других местах — мэром или его помощником, и ни один рабочий не мог уклониться от обязанности иметь эту книжку; иначе он подлежал судебному преследованию по обвинению в бродяжничестве [13]. Книжка хранилась у хозяина, если хозяин этого потребует. Покидая свое место, рабочий должен был просить хозяина вписать в книжку, что все обязательства рабочего выполнены [14]. Никто не имел права дать работу рабочему, не предъявившему своей книжки. Если же хозяин увольнял рабочего, который оставался ему должен, то хозяин вписывал в книжку сумму долга, и новый наниматель должен был удерживать из заработной платы не более 2/10 ее впредь до погашения долга первому хозяину [15].
Это было как бы заключительной нотой, самым решительным проявлением той тенденции, которая намечалась в 1791 г. и затем в эпоху Директории.
Полиция времен Консульства и Империи зорко следила за рабочими, особенно там, где они находились в большом количестве, и прежде всего в столице. У нас нет (за единственным исключением) никаких данных, касающихся житья-бытья рабочего класса при Консульстве и в первые годы Империи; да этот период и выходит из хронологических рамок настоящей работы. Но, подобно тому, как нельзя было не упомянуть о законе 22 жерминаля, хотя он был издан в 1803 г., ибо он является логическим завершением тенденции правительственной мысли предшествующего периода, так мы не можем оставить без внимания едва ли не единственный документ, дошедший до нас от первых лет Наполеоновского царствования и дающий общую характеристику парижской рабочей массы.
2
После рассказа о главном мероприятии первого консула относительно рабочих познакомимся с тем, каково в глазах полиции было материальное и моральное состояние рабочих в первые годы после революции.
Как было сказано в начале второй части моей книги, ничего похожего на общую или хотя бы местную статистику рабочего класса за всю эту эпоху не существует. Но есть один документ, который хотя и относится ко времени, выходящему из хронологических рамок этой работы, но не может быть тут обойден молчанием. Датирован этот документ 1 марта 1807 г. и называется он «Statistique des ouvriers de Paris pour ce qui concerne les arts mécaniques» [16]. Происхождение этой рукописи таково. 25 февраля 1807 г. министр внутренних дел затребовал у префекта парижской полиции сведения о рабочих, проживающих в столице. Префект на основании книжек, выдаваемых рабочим, составил некоторый статистический опыт, присоединив к нему характеристику парижских рабочих «с точки зрения физической, моральной и политической». Насколько эти данные, относящиеся к 1806 и началу 1807 гг., пригодны для изучения положения рабочего класса, хотя бы в 1799 г.? Целый ряд показаний современников гласит, что упорядочение финансов, окончательное установление твердого порядка содействовало уже в первые годы правления Наполеона некоторому подъему промышленности; но, с другой стороны, те же современники еще более единодушно жалуются, что войны с Европой (и особенно с Англией) составляют такое страшное препятствие к развитию промышленности и торговли, что и Наполеоновская эра, особенно до Тильзитского мира, относится, с их точки зрения, к тому бедственному периоду, который начался еще в 1792 г.; таким образом, если они и признают некоторое улучшение в положении обрабатывающей индустрии в эпоху Консульства и в первые годы Империи, все же размеры этого улучшения считают весьма и весьма скромными. Вот почему исследователь, даже желающий самым педантическим образом не выходить за пределы 1799 г., не вправе отбросить в сторону этот любопытный документ; тем более, что это единственный документ подобного рода за всю историческую эпоху, начавшуюся в 1789 г. и окончившуюся в 1814 г. Нужно только пожалеть, что он относится лишь к столице, а не ко всей стране. Что же он нам дает?
Префект делит весь парижский рабочий люд на 11 категорий, по ремеслам, дает их число, размеры получаемой заработной платы и их характеристику.
В первую категорию он зачисляет рабочих, занятых в хлебопекарнях, мясников, служащих в винных лавках и т. д. («bouche»). Таких рабочих в Париже 13 183 человека. Получают они разно: пекари — 8, 9, 10 и 12 франков в неделю; мясники — 10, 12, 15 франков; служащие в винных лавках — 30 франков в месяц, служащие в мелочных лавках — 25, 30, 40 франков в месяц. Таковы указания относительно главнейших рубрик этой категории. В этой категории есть и другая рубрика: пирожники, рабочие шоколадных фабрик и т. п. («objets d’agrément»). Их 1079 человек. Пирожники (608 человек) получают от 6 до 15 франков в неделю; «chocolatiers» — 3–4 франка в день; кондитеры — 4–5 франков в день (их всего 215 человек); занятые выделкой вермишели (140 человек) получают 2–2½ франка в день. Всего, значит, в этой категории (занятых съестными припасами) 14 262 человека. «Рабочие этой категории в общем не представляют большого интереса в политическом отношении», — пишет префект полиции [17]. Впрочем, он не совсем уверен именно в булочниках и мясниках: первые грубы и невежественны, а вторые слишком все между собой согласны. Но и тут беспокоиться нечего: стачка булочников была бы опасна, но ведь она «может зародиться только среди праздных рабочих, пребывающих в харчевнях», а полиция особенно внимательно за такими людьми наблюдает, так что «всякое движение, которое бы зародилось в их среде, было бы быстро подавлено». Что же касается мясников, то если бы их было больше и они не были бы так разбросаны по городу, тогда они могли бы внушать иногда опасения, а теперь эти обстоятельства парализуют их. Но, впрочем, из-за царящего в их среде согласия они быстро сплачиваются в случае, если им нанесена какая-либо обида.
Вторая категория — рабочие, занятые земляными и строительными работами. Их 24 158 человек. Каменщики (5315 человек) получают от 2 до 4 франков в день; землекопы (1200 человек) — от 1½ до 2½ франков в день; плотники («menuisiers en bâtiment», 4383 человека) — 2½, 3 и 4 франка в день; каменотесы (1784 человека) — 3, 4, 5, 6, иногда и 7 франков в день; слесари (4231 человек) — от 2½ до 7 франков в день; минимальная плата, получаемая другими рабочими этой категории, также определяется в 2½ франка в день (только рабочие немногочисленной рубрики — мраморщики, скульпторы, золотильщики — получают минимально 3 франка в день).
В «политическом» отношении эта категория весьма беспокойна (префект всюду употребляет тут слово «политический» в смысле «полицейский»). Между рабочими этой категории стачки и сборища возникают весьма быстро [18], и их весьма трудно рассеять. Префект объясняет это тем, что эти рабочие по самой природе своего ремесла всегда находятся в большом количестве в одном и том же месте, и стоит одному смутьяну что-либо предложить, как другие «уже считают долгом чести присоединиться» [19]. Вообще же «мораль» этих рабочих различна, смотря по тому, из какого кто департамента, ибо многие из них — народ пришлый, на зиму возвращающийся к себе на родину. Именно среди рабочих этой категории больше всего распространена приверженность к «старинному учреждению» компаньонажа, которое «часто бывало запрещаемо, но никогда не могло быть уничтожено» [20]; это учреждение могло бы породить много стачек, если бы за ним не было большого надзора. Впрочем, префект согласен, что есть за этим учреждением и хорошие стороны: оно очень помогает нуждающимся собратьям и не допускает в свою среду людей безнравственных.
Третья категория («toilette») — рабочие, работающие в сапожных мастерских, портняжных, шляпных, перчаточных, цветочных, белошвейных и т. п. Всего их 17 806 человек (сюда не входит 12 тысяч портных и белошвеек, относительно которых нет также данных, касающихся их заработка). Сапожники (6960 человек) получают от 25 до 40 су за пару сапог [21]; портные — 3–4 франка в день; шляпочники — 2½, 3, 4 франка в день; перчаточники — 2½, 3, 4, 5 франков в день. Вообще 2½ франка является минимальной платой для тех рабочих этой категории, которые работают поденно, а не поштучно.
В «политическом» отношении обращают на себя внимание из всей этой категории лишь шляпочники, и то не все, а одно подразделение этой рубрики. Они склонны к стачкам и к инсубординации; в этом отношении они еще хуже плотников или каменотесов, ибо проявляют свое неудовольствие очень бурно [22]. Вообще же рабочим этой категории живется несладко вследствие ничтожных заработков большинства.
Четвертая категория — рабочие ковровых мастерских, столяры, зеркальщики, эбенисты и т. п. («meubles»). Всего их 5158 человек, большинство получает от 2 до 4 франков в день; лишь в двух рубриках заработок может дойти до 5 франков в день (а всего рубрик в этой категории 12). В «политическом» отношении «рабочие этой категории не представляют ничего интересного», и стачек они не устраивают.
Пятая категория — рабочие, работающие в кузнечных, седельных, каретных мастерских, шорники и т. д. («transport, roulage, équitation»). Их 3341 человек; заработок большинства 2, 2½, 3 франка в день, реже 4; у каретников и седельников может доходить до 5–6 франков. (В «политическом» отношении «rien de remarquable».)
Шестая категория — бондари, точильщики, tourneurs, граверы, «ouvriers en bois». Их 1112 человек. Зарабатывают: бондари — 2½ франка в день, точильщики — 2 франка, граверы — 4–5 франков. Стачки происходят изредка только среди бондарей, но они требуют много внимания, ибо отличаются далеко не мягкими нравами [23]. Точильщики пригнетены нуждой, ибо 2 франка — максимум их заработка.
Седьмая категория — рабочие, занятые в «металлических» промыслах. Их 11258 человек. Сюда префект относит также работающих над драгоценными металлами, ювелиров, часовых дел мастеров и т. д. Громадное большинство получает от 2½ до 3 франков; реже заработок начинается с 2 франков, еще реже доходит до 4 франков в день. Лишь в очень немногих группах заработок может доходить до 5 и лишь в одной группе — до 6 франков. В «политическом» отношении они вполне безопасны: несмотря на упадок и застой в делах, в их среде не возникло ни одного «зажигательного или опасного предложения». Никакого согласия, никакой дружбы между рабочими отдельных рубрик.
Восьмая категория — прядильщики и ткачи, рабочие, занятые в бумагопрядильных, шерстяных, полотняных мастерских, лентовщики и т. д. («tissus»). Их в Париже всего 3215 человек; из них 771 человек («fileurs») зарабатывают 1½–2 франка в день, другие (845 человек) — от 2½ до 4 франков, иногда даже 5 франков; третьи (1599 человек), работая поштучно, иногда зарабатывают до 1800 франков и более в год. Нужно сказать, что префект вообще очень небрежен и неопределителен в указаниях на размеры заработка, и из его показаний можно делать лишь приблизительные выводы. Тут, например, он ничего не говорит о том, каков обыкновенный средний заработок данной группы рабочих, а просто пишет, что некоторые зарабатывают 1800 франков и больше [24]. Из этой категории прядильщики обнаруживают «претензии и безграничную наглость относительно хозяев мануфактур». Стачки между ними происходили бы часто, если бы хозяева не приняли решения вывешивать в своих заведениях правила, которым их рабочие обязаны подчиняться, если хотят иметь работу. Но за ними надлежит следить самым тщательным образом. Ткачи и бумагопрядильщики задавлены нищетой, преданы пьянству и разврату.
Девятая категория — кожевники. Их 1993 человека, и получает большинство 2½ франка в день; у рабочих одной рубрики (252 человека) плата может подняться до 3 франков. Некоторые склонны к неповиновению и к устройству стачек.
Десятая категория — наборщики, брошюровщики, переплетчики, рабочие бумажных мануфактур и т. п. («imprimerie, papeterie»). Всех их 4467 человек. Наборщики получают 2–2½ франка в день (их 2231 человек), заработок метранпажа — 4 франка в день, брошюровщика — 2–2½ франка; рабочие бумажных мануфактур получают либо 24 франка в месяц на хозяйских харчах, либо 2½ франка в день; рабочие обойных мастерских (706 человек) — от 2 до 3 франков в день. Из этой категории — наборщики отличаются самым своевольным нравом, и нет рабочих, которые до такой степени были бы склонны к стачкам и беспорядку, как именно они. Префект допускает, что лишь случайно может между ними попасться хороший человек, но такой «должен ждать столь дурного с собой обхождения», что принужден будет все равно отказаться от своего занятия. Почти все наборщики преданы «антисоциальным порокам» [25], и даже метранпажи, «которые должны были бы быть более цивилизованы, более образованы», недалеко ушли от них.
Одиннадцатая категория — рабочие гончарных, фаянсовых, стекольных, фарфоровых мастерских («vases, cristaux»). Их 1475 человек. Горшечники (216 человек) получают 2–2½ франка в день, рабочие фаянсовых мастерских (500 человек) — 2½ — 3, 4, 5 франков, стекольных — 2½–3 франка, фарфоровых (694 человека) — от 2½ до 6 франков в день. В «политическом» отношении интереса не представляют («nul»).
Наконец, кроме этих 11 категорий префект насчитывает еще 2701 рабочего, которых он затрудняется зачислить в какую-либо определенную группу. Сюда он относит занятых в табачных мастерских (865 человек), заработок которых равен 2 франкам в день; красильщиков (535 человек), получающих от 2½ до 6 франков в день; рабочих свечных мастерских (185 человек), получающих 3 и 4 франка в день, и некоторые другие группы, относительно которых он не приводит никаких данных.
Всего рабочих в Париже, по его подсчетам, 91 946 человек.
Таковы показания префекта. Конечно, опрометчиво было бы верить в полную их точность.
Во-первых, цифра рабочего населения неточна уже потому, что подсчитаны только мужчины, — не сосчитаны ни женщины, ни дети. Об этом несколько раз в рассматриваемом документе поминает сам префект, иной раз оговариваясь, что число женщин и учеников в три раза больше, чем число мужчин [26]; и, например, упомянув вскользь, что портных и белошвеек 12 тысяч, он их не включает в число рабочих, занятых в портняжных и белошвейных мастерских. Ученики вообще нигде не входят в счет, хотя префект иной раз и приводит цифру [27]. Не включает он сюда и многих мастеров, хотя и снабженных самостоятельными патентами, но работающих на других вследствие неимения заказов [28]. Не включены в эту общую цифру также носильщики, грузчики, рабочие, занятые на рынках (les ouvriers des halles et marchés), хотя префект признает, что число их очень велико. На основании этого можно признать, что цифра 91 946 человек представляется минимальной для рабочего населения Парижа в начале Империи.
Во-вторых, цифры заработка рабочих, как уже сказано, предлагаются читателю не совсем определительно. Префект довольствуется в некоторых случаях тем, что пишет: «рабочие такой-то рубрики получают от 2½ до 6 франков в день». Но какой именно процент рубрики сколько получает, остается неизвестным. Правда, во многих других случаях данные более ясны: приводятся либо одна цифра: 2 франка, 2½ франка, либо две цифры: 2–2½ франка или 2½–3 франка, так что для гаданий остается меньше простору.
В-третьих, префект не дает нам никаких сведений о стачках, которые на самом деле могли происходить в эпоху Консульства и в начале Империи, — он только делает сжатую, деловую характеристику, предупреждая министра внутренних дел относительно того, какие рабочие склонны к стачкам, а какие несклонны.
Но, несмотря на все это, документ весьма для нас важен. Во-первых, даже и приблизительная цифра, составленная на основании пропавших для нас данных полицейской канцелярии, имеет огромное значение, ибо не только для того момента, когда этот документ был написан, но и для всей эпохи революции и Империи ни единого подобного общего показания нет. Во-вторых, при всей неопределенности касательно заработка парижского рабочего той эпохи, у читателя образуется убеждение, что для самых многочисленных групп парижского рабочего люда типичным средним заработком в первые годы XIX в. была ежедневная плата в 2½ франка в день. Там, где речь идет о меньшей цифре, префект в своих замечаниях оттеняет нищету и бедственность положения данной категории. Цифра — 3 франка встречается гораздо реже; относительно 4–5–6 франков можно с большей уверенностью сказать, что там, где эти цифры упомянуты, они могли относиться лишь к меньшинству данной рубрики (хотя мы и не знаем точного процента), именно — к рабочим квалифицированным.
Если средний заработок рабочих самых многочисленных групп был равен 2½ франкам в день, насколько он мог удовлетворять потребностям семьи рабочего?
Высчитывания бюджета того или иного класса в сколько-нибудь отдаленную эпоху, как уже было замечено, когда речь шла о временах максимума, всегда весьма затруднительны и часто бывают довольно произвольны. Но в этом же документе, который мы рассматриваем, есть некоторое прямое, хотя и неполное, указание на то, как в те времена высчитывали бюджет рабочего. По данным префекта, рабочий на бумажной мануфактуре получает: 24 франка в месяц на хозяйских харчах или 2½ франка в день. Если даже считать 26 рабочих дней в месяце — на самом деле их было меньше, — рабочий, значит, получал 65 франков в месяц. Следовательно, считалось, что месячное пропитание одного человека стоит 41 франк. Сюда не входит плата за квартиру, ибо в нашем документе сказано: «24 fr. par mois nourri», но не прибавлено, как это всегда писалось, когда речь шла о полном содержании: «et logé». Конечно, 24 франка было мало на наем квартиры и на содержание хотя бы семьи, состоящей из жены и ребенка; но, уже получая не 2½, а 2 или 1½ франка, трудно было прожить и одинокому. Немудрено, что рабочие, получающие меньше 2½ франка в день, рисуются у префекта как существа, задавленные нищетой, преданные «пьянству и отчаянию».
При всей лаконичности очень интересна графа «rapport politique». Уже и то любопытно, что политические в точном смысле опасения тут совершенно отсутствуют: царил Фуше, склонный видеть заговор против Империи там, где и признаков его не было, и несмотря на то, что, конечно, ко всякому указанию префекта в этом смысле отнеслись бы с полным вниманием, префекту, совершенно очевидно, и в голову не приходит искать среди рабочих каких бы то ни было антиправительственных или антидинастических тенденций: все его опасения касаются возможности стачки рабочих против хозяина. Это совершенно та же черта, которую мы уже отметили, говоря о Директории: правительство нисколько не боялось политических выступлений со стороны рабочих, и подозрительное внимание властей больше всего направлялось к неуклонному поддержанию порядка и спокойствия среди рабочих в чисто полицейском смысле и к предупреждению стачек против хозяев. Характерно, между прочим, что префект считает самым беспокойным элементом именно тех рабочих, которые, как мы уже видели, еще в 1791–1792 гг. были склонны к массовым действиям и к стачечному движению; плотники, землекопы, наборщики, бондари еще в начале рассматриваемого периода привлекали внимание властей. Наконец, еще одна черта, вполне гармонирующая со всем, что мы знаем о рабочих в эту эпоху, ясно выступает из показаний префекта: у рабочих нет никакой организации, кроме пережитков старинного компаньонажа, да и то преимущественно среди рабочих, занятых строительными промыслами.
Таковы главные заключения, которые сами собой напрашиваются при чтении этой рукописи. Этот документ, давая некоторые новые данные, подтверждает таким образом многое, уже нами почерпнутое из более ранних свидетельств.
Полон интереса и достоин детальнейшего рассмотрения вопрос, как далее, в 1807–1812 гг., отразились на французской обрабатывающей промышленности всеевропейское владычество Наполеона и одновременное распространение континентальной блокады на все завоеванные страны, но эта проблема уже далеко выходит за пределы настоящей работы.
3
Попытаюсь свести к немногим общим положениям то, что составило содержание обеих частей моей работы, не повторяя при этом всех частичных, хотя бы и очень существенных, выводов, которые были подробно формулированы в отдельных главах.
1. В 1789–1791 гг. преимущественно лишь среди парижских рабочих проявляется сколько-нибудь серьезное брожение. Это брожение в апреле 1789 г. имеет характер беспорядочного стихийного взрыва, вызванного безработицей, а в июле и августе того же года обусловливается больше всего, но не исключительно желанием получить работу от муниципалитета. Весной 1791 г. в столице происходит обширное стачечное движение среди тех категорий столичного рабочего населения, которые могли воспользоваться улучшившейся в 1790–1791 гг. экономической конъюнктурой.
2. Работы, устроенные с благотворительной целью в 1789 г. и продержавшиеся до середины июня 1791 г., за все время своего существования возбуждали беспокойство и неудовольствие властей, усматривавших в большом скоплении рабочих опасность для общественного спокойствия. Стачечное движение 1791 г. в Париже было одной из причин, обусловивших также закрытие этих работ.
3. Закон Ле Шапелье явился прямым и непосредственным последствием стачечного движения 1791 г.
4. В политическом отношении рабочие в 1789–1791 гг. не играли и не пытались играть никакой самостоятельной роли, идя сначала вместе с теми слоями населения, которые стремились к низвержению старого порядка, а потом всецело признавая авторитет новых властей. Документы открывают нам картину пропаганды против новых властей, которая велась в 1789–1791 гг. в рабочих кругах, но не увенчалась никаким успехом.
5. В период 1792–1799 гг. движение проявляется не только среди столичной рабочей массы, но и среди рабочих провинции; характер этого движения обусловливается особенностями промышленной жизни французской провинции в конце XVIII столетия.
6. Промышленное производство во Франции в конце XVIII столетия характеризуется следующими главными чертами:
а) отсутствием, за редкими исключениями, сколько-нибудь крупных промышленных предприятий;
б) господством различных форм домашней индустрии;
в) громадной ролью деревенского промышленного труда, особенно во всех отраслях текстильной индустрии, кроме шелкового производства, причем значение деревни сказалось еще до революции в полном фактическом уничтожении регламентации производства;
г) примитивностью промышленной техники сравнительно с Англией, отчасти с Голландией, немецкой Швейцарией и западногерманскими странами.
7. Благодаря вышеуказанным характерным чертам французской промышленной жизни конца XVIII столетия, скопление сколько-нибудь значительных рабочих масс в провинции было налицо не столько в промышленных центрах, сколько в двух главных торговых портах: Марселе и Бордо.
8. Коллективные шаги рабочих французской провинции в первые годы революции направляются прежде всего в сторону борьбы против конкуренции иностранных (иногда даже иногородних) рабочих; стачечное движение против хозяев проявляется в это время лишь в Бордо, Марселе и при сплаве леса на берегу реки Йонны.
9. Общее состояние промышленности, бывшее в 1790–1791 гг. лучше, нежели в 1789 г., ухудшается с 1792 г. Промышленность страдает не только от сокращения сбыта, но отчасти и от ощущающегося уже (в некоторых отраслях) недостатка сырья. Безработица усиливается и в Париже, и в провинции; ассигнационный кризис увеличивает бедствие.
10. После 10 августа 1792 г., в особенности после закрытия лагерных работ, на очередь ставится вопрос об обязательном тарифе на предметы первой необходимости. Рабочие в числе прочих неимущих слоев населения требуют таксации, министерство во главе с Роланом противится этой мере.
11. Распря между жирондистами и монтаньярами придает особое значение выступлениям рабочей массы. Жирондисты решительно противятся таксации, монтаньяры колеблются и высказывают в течение первых месяцев 1793 г. противоречивые суждения по этому вопросу. К моменту окончательной развязки борьбы между жирондистами и монтаньярами монтаньяры в глазах рабочего населения являются приверженцами таксации.
12. Отчасти для борьбы против вздорожания съестных припасов, отчасти ввиду необходимости считаться с хозяйственными нуждами правительства Конвент издает декрет о максимальной таксации.
13. Закон о максимуме приводит не к улучшению, а к ухудшению положения потребителей; уже в первые месяцы его существования обнаруживается невозможность последовательного проведения этого закона.
14. Бессильный остановить вздорожание съестных припасов, закон о максимуме оказывается достаточно силен, чтобы довершить расстройство промышленной жизни, он способствует: а) быстрому исчезновению сырья и б) закрытию промышленных предприятий, поставленных в невозможность продавать товар по максимальному тарифу. Реквизиции оказываются бессильны в борьбе с этими явлениями.
15. Хотя рабочие вместе с прочими неимущими слоями населения очень скоро после издания закона о максимуме убеждаются в полной невозможности ждать от него облегчения своей участи, но правящие власти и прежде всего Комитет общественного спасения желают во имя хозяйственных нужд правительства во что бы то ни стало поддержать этот закон, причем не останавливаются перед мерами самой суровой репрессии.
К концу существования закона о максимуме эта противоположность между желаниями правительства и интересами населения становится вполне очевидной и официально констатируется.
16. Комитет общественного спасения требует от рабочих полного подчинения расценке заработной платы согласно максимальному тарифу, причем объявляет рабочих той или иной специальности под реквизицией по своему усмотрению и насильно отправляет их как на общественные работы, так и к частным предпринимателям и сельским хозяевам.
17. Эпоха Директории несмотря на отмену закона о максимуме, оказывается для рабочих продолжением бедствий. Недостаток сырья и широко развившийся контрабандный, а также и легальный ввоз иностранных товаров, способствующий сокращению сбыта, угнетает промышленность; ассигнационный кризис 1795–1796 гг. усиливает бедствие; безработица доходит до апогея в 1797–1799 гг.
18. В политическом отношении рабочие после кратковременного подъема в 1792–1793 гг., обусловленного распрей между жирондистами и монтаньярами, не играют никакой самостоятельной роли ни в 1794 г., при падении Робеспьера, ни в 1795–1799 гг. В эпоху Директории они пассивно ждут перемены, возлагая надежды свои то на воскрешение режима Робеспьера, то на «военное правительство», которое их избавит от Директории; самая перемена им нужна потому, что, по их мнению, они дошли до последних пределов бедствий вследствие голодовки и безработицы.
19. Захват власти генералом Бонапартом приветствуется рабочими как начало лучшей для них эры.
20. За всю рассматриваемую эпоху рабочие не обнаруживают, вообще говоря, ни малейших признаков принципиально враждебного отношения ни к основам господствовавшего экономического строя, ни к какому-либо из политических режимов, начиная с Учредительного собрания и кончая Консульством. Сознание классовой обособленности, чувство товарищеской солидарности, за немногими исключениями, мало проявляются в рабочей среде в рассматриваемый период.
21. В течение всего периода 1789–1799 гг. в рабочей среде заметно весьма мало организованности. Стремление создать свои организации (под флагом благотворительности) замечается среди некоторых категорий рабочего класса весной 1791 г., но после закона Ле Шапелье о подобных попытках не слышно. Что касается пережитков цехового строя, старинных компаньонажей, то время от времени документы констатируют их продолжающееся существование; но известия эти слишком скудны и односторонни, чтобы можно было составить себе сколько-нибудь ясное представление о деятельности этих отживших свой век организаций.
22. Законодательство о рабочих в 1789–1799 гг. проникнуто тем же духом бдительной подозрительности, тем же решительным отрицанием за рабочими прав на какие бы то ни было коллективные шаги, как и законодательство старого порядка. Основными моментами этого законодательства являются: а) закон Ле Шапелье 1791 г., б) декрет Конвента 23 нивоза (1794 г.) и в) постановление Директории от 18 фрюктидора (1796 г.) о рабочих бумажных мануфактур, которое должно было стать образцом для других постановлений того же рода. Закон 22 жерминаля 1803 г. представляется естественным завершением законодательства этой эпохи, касающегося рабочих.
В основных принципах своих законодательство (касающееся рабочих) старого режима, законодательство революционного периода, законодательство наполеоновской эпохи ничем между собой не отличаются.
Приложения
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Неизданные документы Национального архива, архива парижской префектуры полиции, отдела рукописей Национальной библиотеки и архива «Библиотеки города Парижа».
В печатаемых рукописях сохранена орфография подлинников, а также все сокращения (особенно частые в полицейских и судебных протоколах: n-е вм. nommé, S-r вместо Sieur, compa-t вм. comparant а т. д.). Читатель заметит, как часты орфографические ошибки не только в документах, исходящих от рабочих или от частных лиц, но и в официальных бумагах.
I
Нац. арх. Y. 13016.
P. Y. de la garde, et empris-t du nom-e, Vieumer dit L’éveillé, l’un des chef de la cabale des chapeliers.
Le trente un may dernier vingt quatre compagnons chapeliers se nom-t entre eux des Bons enfants dirent au comp-t que s’il ne renvoyoit vingt deux autres compagnons chapeliers se nommant entre eux du devoir ils alloient quitter sa fabrique que n’ayant pu sacrifier les vingt deux compagnons du devoir qui remplissoient exactement leur état les vingt quatre comp-ons des Bons enfants sortirent de chez lui et sollicitèrent plusieurs autres de sortir pareillement assurant même de leur payer leurs journées comme s’ils travailloient qu’effectivement.
Danloux Dumesnils & comp.
12 juin 1789.
L’an mil sept cent quatre vingt neuf le 12 juin sept heures et demi du matin en l’hôtel et par devant nous Charles Alexandre Ferrand, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, est comparu Pierre François Marchand sergent de la garde de Paris, de poste à St. Jacques de L’Hopital.
Lequel nous a dit qu’a la Req-te d’un particulier ced, fabricant de chapeaux il a arrêté un particulier, qu’il a dit être l’un de ses ouvriers qui avec plusieurs autres cabaloreux pour f-re sortir leurs camarades des fabriques de Paris qu’il conduira pardev-t led. particulier pour être ordonné a quil-app-ra (et a signé) Marchand.
Est aussi comparu Nicolas Joseph Danloux Dumesnils m-d fabricant de chapeaux demeurand à Paris Rue St. Denis. Lequel nous a dit que depuis le quatre du présent mois, il est sorti de chez lui huit ouvriers approprieurs qui ont été gagné par les compagnons ouvriers dit les bons enf-ts qui leurs payoient leurs journées pour ne point travailler chez les autres entre autres le nom-e. Leveillé cy arrêté quils sont allés dans plus-res fabriques pour en f-re sortir les ouvriers et se sont attroupés en divers cabarets à l’effet d’augmenter le nombre de leur cabale nottam-nt Rue St. Denis chez Maler, Rue de la Gossonnerie à la Croix d’or et a Belleville; que le compa-t sait que led. Leveillé est un des ouvriers qui ont été payés pour ne point travailler et qu’il a reçu ses journées de quatre jours; que s’étant présenté il y a un instant chez lui ne sait dans quelle intention a fait arrêter et conduire pardev-t nous pour après que nous l’aurons entendu être ou ordonné ce qu’il appart-ra nous observe que les comp-ons des Bons enfants sont parvenus à faire sortir de chez le s-r Morel fabricant Rue des Bons Enfants seize a dix huit ouvriers et a signé (Rayé trois mots nuls) Danloux Dumesnils et comp-ie.
Avons ens-te f-t comp-re led. particulier arrête lequel sur les interpellations que nous lui avons faites nous a dit se nommer Léonard Vieumer dit Leveillé comp-on chapellier cy devant chez le s-r Danloux, demeu-t Rue Beaubourg chez la v-e Nivel logeuse qu’ayant été sollicité par le nom-e Blanchard et plusieurs autres comp-ons chapelliers de sortir de chez led. s-r Danloux et qu’on lui payeroit ses journées com-e s’il travailloit, et est vrai qu’il en est sorti et a déjà reçu quatre journées à raison de quarante cinq sols chacune dans un cabaret Rue S-te Avoye d’un particulier g-on chapellier qui est âgé et marqué de petite vérole; qu’il sait quil a eu lui grand tort mais prie led. Danloux de lui pardonner son intention lorsqu’il a été chez lui étant de lui redemander à travailler et a déclarer ne savoir écrire ni signer de ce interpellé.
Des quels comp-on rapport dires et déclarons cy dessus nous avons aux susnommés donné acte, en conséquence, attendu ce que dessus et que d’ailleurs ledet. Vieumer dit Leveillé est connu pour être l’un des chefs des cabales et attroupements qu’on eu lieu nous l’avons laissé a Marchand pour le conduire et faire écrouer de notre ordonnance en prisons de l’hôtel de la Force et avons signé.
Ferrand.
II
Нац. арх.
С. 134, 5–6, doc. № 36.
Messieurs, Suplie les ouvriers abitant de la villes de Paris quil vous plaise ordoner que les ouvriers que l’on oblige de quitter leurs ouvrage pour monter la garde et faire patrouille seront payés des fonds fournis par les bourgeois entitre, attendue qu’il impossible à un malheureux chargé de familles de continuer le service ce qui agrave sa miserre et le rend plus malheureux. Daignez ordonner le temps et heure que chaque personne sera tenue de servir, que la dite ordonnance soit envoyée dans chaque district (Delacourt. Ce 18 juillet 1789).
Адрес: A Messieurs les commissaires prévôts des marchands et Messieurs les Directeurs administrateurs généraux de Bureau permanent de la ville de Paris.
III
Нац. арх.
С. 134–12. 24 juillet 1789.
Un grand nombre de Particuliers résidant à Paris quittent dans ce moment ci leurs foyers, les consommateurs de cette ville diminuant, il se trouvera que les fléaux de la cherté du Pain et du deffaut d’ouvrages dont on n’éprouve déjà que trop les tristes effets vont, encore s’accroître et que la capitale devenant vide de gens riches ceux qui resteront se trouveront d’autant plus exposés de la part des gens forcés par les besoins pressants.
Ne seroit il pas possible par une invitation publique au nom de l’intérêt général d’engager tous les propriétaires de Paris et des environs de se décider à faire faire dans ce moment et préférablement à tout autre les ouvrages qu’ils pourroient avoir projetté en terrasses jardins, Bâtiments etc.
Que si quelques citoyens riches et vertueux en donnoient les premiers l’exemple, ils fussent cités et connus pour de véritables patriotes; peut-être cela exciteroit l’amour du bien public et de la véritable considération surtout quand on observera que les bienfaisances particulières telles qu’elles soient, deviennent toujours des moyens courts et insuffisants; qu’il est difficile que les répartitions en soient bien faites et qu’elles donnent souvent lieu à beaucoup plus d’abus qu’elles n’opèrent de biens.
Enfin ne seroit il pas possible d’annoncer que la nécessité pouvant forcer de retenir ceux qui désertent la ville et rapeler sous des peines rigoureuses et même d’infamie ceux qui l’ont déjà abandonnée; il est de l’intérêt de tout le monde de contribuer chacun selon sa position a faire reparoitre l’activité de l’industrie, la circulation et tout ce qui peut rétablir les moyens de confiance de bonheur et de liberté à quoi tient immédiatement le bon ordre de la société.
Perrard de Montreuil, Censeur Royal architecte du grand Prieuré de France.
IV
Нац. арх.
О1 500, р. 417.
Письмо министра двора к Bailly.
М. Bailly.
3 Août 1789.
М. Necker m’a communiqué, М., la lettre que le comité de Police lui a écrite relativement à la nécessité d’ecarter de Paris les ouvriers qui n’y sont pas employés et les gens sans aveu qui se sont réunis à eux. J’ai pris une lecture attentive du plan de M. Smith et du projet d’ordonnance qu’il y joint. Elle me paroit établie sur de bons principes et je n’aurai aucune difficulté d’écrire suivant le vœu de l’auteur à М. M. les intendants conformément aud. plan. Je ferai passer aussi aux affaires de Maréchaussée un modèle de certificat en leur prescrivant ce qu’ils auront à faire. II suffira de me prévenir du moment ou le parti sera pris et mis à exécution pour que j’agisse de mon coté.
V
Нац. библ., отдел рукописей
27 Juillet 1789.
f. fr. nouv. acq. 2678.
Demande à l’Hôtel de Ville.
Le district de St. Joseph vient d’être instruit par le district de St. Lazare et par la clameur publique que les ouvriers de Montmartre de barrières se repandent armés dans la plaine de St. Denis, détruisant les bleds et menaçant de se porter aux plus grands excès. Le district a rassemblé toutes ses forces; il a sollicité les districts voisins, il a demandé de gardes-françoises et des suisses. Mais il sollicite encore des secours surtout en Cavalerie. Le district Soumet sa position au C-te Milit. en l’Hôtel-de-Ville et le supplie d’envoyer promptement des forces auxiliaires.
VI
Нац. арх.
Y. 10530.
Cedule commencée le 7 Septembre 1786 et finie le 7 Septembre 1790.
Du 22 Oct. 1789.
En la chambre de l’instruction criminelle publique au châtelet de Paris.
Michel Adrien âgé de vingt cinque ans et demie, ancien soldat, natif de Paris et gagne denier, D-e rue des jardins, deffendeur et accusé, assisté de M. Antoine Marcel de Bruce, Procureur au Chatelet, son conseil, nommé d’office.
A dit qu’il n’a jamais excité d’emeute dans le faubourg S-t Antoine et le fbg. St. Marceau, qu’il est vrai qu’il a crié de se rendre à la porte de la Bastille pour avoir le pain plus librement, n’a point reçu d’ordre pour cette démarché, y a été excité par un nommé Pierre Bourguignon, qui lui a remis une carte qu’il n’a pas lue, ne sachant pas lire, qu’il étoit pris de vin, ne savoit ce qu’il fesoit, n’a jamais excité de tumulte, ni reçu d’argent pour cela, qu’il a une fois excité les habitants du faubourg S-te Antoine de se rendre aux portes de la B-lle mais sans mauvais dessein. A dit il est vrai une fois qu’il falloit aller aux filles de la visitation, soupçonnant qu’il y avoit de fusils. Est innocent du crime d’emeute et de sédition.
Conclusions du procureur du Roi. M-rs. Boucher d’Argis Rapporteur d’avis par jugement prévotal et en dernier Ressort de le declarer convaincu d’avoir le jour d’hier cherché à exciter une sédition en criant dans les rues qu’il falloit que le fauxbourg St. Antoine et les ouvriers de la Bastille se réunissent au fauxbourg St. Marcel pour aller dans les couvents indiquant à cet effet un lieu de rendez-vous dans un cabaret rue St. Paul et donnant à lire une carte portant invitation de ladite réunion et d’avoir par les propos et cris seditieux calomnié les habitants des susdites fauxbourgs qu’il supposoit capables de se porter à ses mauvais desseins; pour réparation-pendu, 200 fl. d’amende etc. (sic).
Dire que le nommé Pierre Bourguignon qui sera indiqué sera pris au corps et son procès fait et parfait suivant la rigueur des ordonnances. Le jugement imprimé lu, publié et affiché etc. (Следуют подписи). Arrêté par jugement prévôtal et au dernier ressort à l’avis du rappt.
VII
Письмо министра двора (копия)
Нац. арх.
О1 500. f°, 449.
М. le С-te de Clermont Tonnerre président de l’assemblée Nationale
Projet de detruire les Brigands
Versailles 23 août 1789.
Monsieur le président,
J’ai reçus avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le projet qui aurait paru mériter attention et dont l’objet serait de rétablir la tranquilité dans la capitale en procurant du travail à tous les gens qui en manquent actuellement et en leur donnant un salaire convenable; je communique sur le champ ce Mémoire à Monsieur le maire de Paris en le priant de l’examiner et de se concerter avec moi pour son exécution, si rien ne s’y oppose.
Je suis avec respect M. le Président.
Votre (подписи нет).
VIII
Нац. библ., отдел рукописен
f. fr., nouv. acq. № 307–3048.
Plans et propositions de M. Boudin en faveur des pauvres.
На полях: lorsque le comité sera formé il sera nommé sur le champ une commission pour examiner le plan intéressant de M. Boudin. Il lui sera donné connaissance du present arrêté en le priant de reunir jusqu’à ce moment les autres renseignements qu’il pourrait trouver sur le même objet. Au comité le 11 Octobre 1789.
George d’Epinoy, Président.
Ce 9 Octobre 1789.
Messieurs,
Je regrette bien que l’ordre du jour reclamé par quelques membres de l’assemblée ne m’ait pas permis de faire hier le développement de mes deux projets en faveur des pauvres de la capitale. — Je commencerai aujourd’hui une garde de 24 heures; je partirai mardi ou mercredi prochain au plus tard, pour un voyage de plus de 15 jours; et d’ici à mon départ je serai forcé de donner tout mon temps à beaucoup de courses et d’affaires. Cependant je crois mes deux projets très bons, indispensables mêmes; car nous venons d’être convaincus que ce n’est plus ni avec des canons, ni avec une garde nombreuse que l’on peut contenir le peuple manquant de subsistances; ce sera bien autre chose pendant l’hiver.
Je n’ai entendu faire aucune objection contre mon premier projet et je crois en effet qu’il n’en est pas susceptible. Il ne s’agit pas de forcer, mais d’inviter seulement les gens riches à se charger de la nourriture et entretien d’un pauvre pendant six mois. Je suis bien persuadé, Messieurs, qu’il y dans la capitale beaucoup plus de citoyens dans l’opulence que dans l’indigence; autrement les premiers n’auroient pas un moment à perdre pour se sauver. Et lorsque moi (qui ne réunit pas beaucoup plus de 3000 1. de revenu avec ma place et mon patrimoine, et qui ai une femme et deux enfans), je me charge exclusivement de la nourriture et de l’entretien du premier pauvre qui se fera enregistrer au district, je ne vois pas que le nombre des pauvres puisse l’emporter sur celui des particuliers opulens? Proportion gardée, la place Vendôme seule pourroit nourrir et entretenir tous les pauvres d’un district.
Je vous supplie donc, Messieurs de vouloir bien, dans le compte que vous devez rendre à l’assemblée de mes deux projets insister sur l’acceptation du premier qui peut, sur le champ, faire disparoitre la mendicité, et ôter au peuple tout sujet légitimé et même tout pretexte de mécontentement, seul moyen d’assurer l’existence des riches pendant cet hiver.
Vous voyez, Messieurs, que par ce premier projet il n’y auroit aucune administration, aucune caisse, aucun maniement de deniers, ce qui ôteroit tout pretexte de defiance et de soupçons, de prédilection — chaque pauvre seroit surveillé — assuré de sa subsistance, il reprendroit courage; car lorsque je vois tous les capitalistes se donnent tant de mouvement pour augmenter leur fortune, il m’est impossible de croire que dès qu’un malheureux est hors d’inquiétude pour sa nourriture et son entretien, il perd tout aussitôt le gout du travail. Ce reproche n’a été imaginé que par ceux qui cherchent des prétextes pour se dispenser de faire l’aumône.
Dans le faubourg St. Antoine, dans le faubourg St. Marceau, dira-t-on peut être, — il n’y aura pas assez de gens riches pour nourrir les indigens.
Je ne le crois pas, mais quand je me tromperois, ce ne seroit toujours pas une raison pour que dans tous les districts de Paris on n’y employât d’abord le premier moyen que je propose.
Si contre mon attente ce moyen était insuffisant, alors on pourra passer aux Bureaux et aux atteliers de charité contre lesquels on n’a pas formé nonplus aucune objection serieuse.
On nous a parlé des mesures de l’Hôtel-de-Ville. Eh, Messieurs! qu’en pouvons nous attendre en faveur des pauvres, à présent qu’il a épuisé tous ses fonds, puisque pour aides les boulangers d’un simple prêt de 300 mille livres, il est obligé d’avoir recours à la triste ressource d’une souscription? Croyez-moi, mes chers concitoyens, ceux qui ne peuvent pas nous donner du pain pour de l’argent, ne seront jamais en état d’en donner pour rien à tous les pauvres de la capitale. On nous a dit aussi qu’en adoptant les Bureaux de charité, il falloit rejetter de notre sein tous les pauvres des provinces. Si cela pouvoit s’executer, il ne nous resteroit pas beaucoup d’indigens car chacun sait que le plus grand nombre des habitants de Paris n’y ont pas pris naissance, — mais, Messieurs, je crois qu’un semblable triage auquel j’avois d’abord pensé seroit impraticable et dangereux dans la fermentation actuelle — il seroit même inhumain à l’entrée de l’hiver. Je me flatte de connoitre aussi bien qu’un autre, les ressources que les campagnes peuvent offrir aux indigents, mais le moment de les y repousser n’est pas encore arrivé, ainsi que vous pourrez vous en convaincre par la lecture de mémoire ci-joint sur les dessechements et les défrichements.
Un honorable membre a voulu nous faire entendre aussi que les pauvres du Berry se nourrissoient et s’entretenoient avec presque rien. Il m’a paru que l’assemblée me dispensoit de répondre a cette objections. Mais quand elle seroit fondée, il n’en seroit pas moins vrai que nous sommes toujours dans l’indispensable nécessité de nourrir et d’entretenir les nôtres de manière à les preserver de l’horrible extremité [1] de nous arracher de force ce qu’ils n’auroient pu obtenir de notre humanité, de notre premier intérêt même celui de notre existence. Encore un mot sur les pauvres du Berry — il y en a beaucoup et la province n’est pas riche, ce qui peut rétablir la proportion entre eux et ceux de la capitale.
Enfin j’ai aussi entendu un honorable membre proposer qu’en admettant les Bureaux de charité, on supprimât la quête des commissaires des pauvres et autres établissements de ce genre, afin de tout réunir dans la caisse du District — je suis bien du même avis; et j’ai cru que la chose arriveroit ainsi, parcequ’il est convenable d’appeller les curés aux Bureaux et aux atteliers que je propose d’établir.
J’oubliois encore une objection — c’est celle qu’on a tirée des risques que nous avons couru par les atteliers de charité de l’ancienne administration. Oh, rien de plus vrai, ces atteliers étoient très inutiles, très dangereux. Mais les bureaux et les atteliers partiels que je propose d’y substituer n’y ont nulle ressemblance, nul rapport et par conséquent cette objection tombe d’elle même.
A l’égard des semestriers qui vont traverser la capitale et qui pourroient être tentés de s’y arrêter, je ne crois pas que leur surveillance doive entrer dans la composition des Bureaux et des atteliers de charité. C’est la un des objets qu’on doit abandonner au comité de Police de l’Hôtel-de-Ville, ou plutôt au comité militaire.
Telles sont, Messieurs, les réflexions que je vous supplie d’opposer aux objections qui m’ont été faites. Je ne vous dissimulerai pas que j’ai la présomption de croire que mes deux projets sont très salutaires et seuls capables de prévenir les malheurs, dont nous sommes menacés. Mais si l’assemblée en juge autrement, elle n’a pas un moment à perdre pour exécuter le projet qu’elle adoptera, j’y souscris d’avance. Car si je tiens à mes idées, je tiens encore davantage à mon existence et à celle de ma femme, de mes enfans et de mes concitoyens.
Je suis avec respect, Messsieurs,
Votre très humble et très ebéissant serviteur
Boudin.
Rue Basse du Rempart.
IX
Нац. библ., отдел рукописей f. fr. nouv. acq. 3241 (f. 164).
Adresse au commandant général par les ouvriers de la Bastille, du 21 Oct. 1789.
Mon général,
Les ouvriers de la Bastille, toujours empressés à ramener le calme dans les momens de trouble, tranquils dans leurs travaux à la destruction du Colosse formidable de cette forteresse, s’appercurent que des gens mal intentionnés pour susciter une insurrection, arrêtèrent une voiture chargée de piques, y mirent le feu et se préparèrent à de plus grand dégât, lorsque nous accourumes et remediâmes autant qu’il fut en notre pouvoir à appaiser les furieux. Et l’effervescence qui s’étoit manifesté devint calme, nous nous retirâmes chacun, et nous continuâmes nos travaux.
Tel est l’exposé sincère et fidèle de notre conduite et celle dont nous sommes jaloux de conserver, sur ce nous vous prions de nous croire. Avec le plus profond respect Mon général
Vos très humbles et très obéissants serviteurs Noms des ouvriers députés pour se présenter chez M. Lafayette.
Guerard dit Tourangeau
Laserre Daix
Toussaint Liotet
Pierre Bounin
Chevillette
Bosthien dit Gambeau
За подписями черта, a под ней слова:
Copie de la lettre de Lafayette.
X
Нац. библ., отдел рукописей
Mss. nouv. acq. fr. 3241 (f. 165).
Ordre de M-r Jallier de Savault, conseiller adm-r de la Municipalité de Paris à l’entrepreneur de la démolition de la Bastille.
Je prie justement M-r Palloy comme la ville se trouve surchargée par des dépenses journalières, d’ordonner une suppression d’ouvriers, mais que cette supression ne frappe pas sur les hommes chargés d’une nombreuse famille, qui méritent tous égard et que la préférence demeure à ceux qui ont des droits par leurs ancienneté dans cette démolition, je m’en rapporte à votre zèle et à la surveillance de M-rs les inspecteurs.
A Paris ce 25 Octobre 1789.
Signé Jallier de Savault,
Cons-er Administrateur de la
Municipalité de Paris.
XI
Нац. арх.
D. IV. 49. Пачка 1425 (février à juillet 1790)
Сверху пометка:
«comités de constitution et imposition le 13 fevr.»
13 Févr. 1790.
Les ouvriers du Fauxbourg St. Antoine à l’Assemblée Nationale.
Messieurs!
Nous sommes français! notre liberté est l’œuvre honorable de votre sagesse. Votre inaltérable civisme nous inspira le noble et persévérant courage qui assure notre conquête: nous saluons dans cette auguste assemblée les patriotes généreux qui nous ont fait devenir des hommes, et qui ont applaudi avec allegresse lorsque nous avons brisé nos fers. Avant tout nous renouvelions le serment unanime de vivre et mourir pour la loi, nos frères et la liberté. Vous avez, Messieurs! proclamé les français pour un peuple d’amis et de frères; cette juste proclamation nous impose le devoir de vous assurer que de nouvelles preuves de notre valeur et de notre force vous seront toujours données avec un empressement plus vif et mieux entendu qu’en 1789. Nous déclarons qu’avant de. parvenir jusqu’à vous les ennemis auront dû s’ouvrir un passage à travers nos cœurs. Qu’ils se persuadent bien que les français sont libres, qu’ils ont formé la noble et vigoureuse resolution de ne pas cesser de l’être; pareeque nous savons qu’une nation qui perd sa liberté ne la recouvre jamais. Nos frères des départements s’accordent à penser comme nous; ils sont nos rivaux de zèle et de patriotisme; ils s’uniront à nos efforts ou plutôt ils nous permettront d’unir les nôtres aux leurs.
Nous venons déposer dans le sein de nos augustes représentants l’expression d’un vœu qui à l’œil de la nature doit paroitre simple autant que juste et qui étant accueilli, feroit évanouir la préseance des ainés sur les cadets c’est-à-dire des fortunés sur ceux qui ne le sont pas. Les ainés — ce sont les citoyens actifs; les cadets n’ont que le titre de citoyens français; et il nous semble qu’un droit d’ainesse détruit celui de l’égalité, de la liberté même.
Loin de nous toute volonté particulière! nous exprimons notre désir, dont nous souhaitons l’accomplissement, pourvu qu’il n’altère en rien le cours et les prudentes combinaisons de la volonté générale. Loin de nous tout esprit de division et d’intérêt privé! Si votre sagesse juge à propos de favoriser notre demande nous aurons eu le bonheur de ne pas nous être trompés. Si le contraire arrive, législateurs! notre zèle inviolable n’en sera que plus actif et plus civique; vous nous verrez toujours vos plus zélés défenseurs. Nous ne sommes pas citoyens actifs, pareeque nous ne payons pas une imposition directe. Cependant l’activité civique, ne le dissimulons pas à nos meilleurs amis est à nos yeux le plus beau titre qui puisse honorer de bons français: ah! si nous pouvions l’obtenir, l’indigence laborieuse souferte au sein d’une probité sévère annobliroit nos ames fières et naives qui ne connoissent ni les besoins de détail, ni les voluptés, ni les corrup-lions de la richesse. Les mœurs y gagneroient infiniment. Quand les hommes ont la conscience de ce qu’ils valent et une juste estime d’eux-même, la sphère de leurs facultés intellectuelles s’aggrandit; ils sentent bientôt une certaine majesté dont ils doivent soutenir l’influence; un impérieux instinct les dérobe au piège jadis coutumier, des souillures morales; ils reçoivent le sentiment délicat de la pudeur; et là, où le peuple aime a reconnoitre l’empire et le caractère de la vertu, commence le règne des mœurs.
Daignez, Messieurs! considérer que la pauvreté est le fléau de la multitude, et celle-ci compose les deux-tiers de la population françoise. Si le premier tiers est quelques chose ou peut le devenir et que les deux autres ne soient rien, l’un jouit de tous les bienfaits, insérés dans vos nouvelles loix, tandis que les deux autres entièrement passifs languissent dans la nulleté la plus absolue.
C’est le contraste de la richesse avec la pauvreté qui constitue l’utilité de l’une à l’égard de l’autre. Si personne n’était pauvre, personne ne seroit riche. Quelle différence y a-t-il donc entre celui qui a de la fortune, et celui qui n’en a pas, l’homme fortuné, fatigué de loisirs, achète de quoi satisfaire ses goûts, ses caprices, ses besoins superflus. Le pauvre qu’il paye, se donne la peine de lui vendre et d’executer ce qui plait à ses fantaisies. L’un sans talent, seroit bien à plaindre, si la fortune lui manquoit, l’autre qui éprouve peu de besoins scait quelquefois trouver le bonheur avec le salaire de son industrie. Tous les deux sont des hommes; et mis dans la balance de la vertu, l’indigent peut souvent l’emporter sur le riche; il ne lui manquera que de l’instruction; mais qu’on elève son âme il en aura bientôt acquis. Qu’on se rapelle que presque tous les hommes de génie on été pauvres.
Comment seroit-il donc possible de nous accorder l’activité civique? Nous formons le vœu le plus unanime en faveur d’une imposition capitale que l’on pourrait percevoir sur chacun de nous, comme la taille personnelle, établie sur les cultivateurs non propriétaires; il seroit facile de faire des retenues sur le prix de nos journées et de le (sic) verser, ensuite, au bout de chaque quinzaine et de chaque mois entre les mains d’un citoyen actif qui en compterait à la caisse du district. Ce que l’on feroit pour nous, pourroit être mis en pratique pour tous les autres ouvriers de Paris: et ce qui seroit possible dans les murs de la capitale pourroit l’être dans tous les départements. La quittance de notre imposition serviroit à chacun de nous de titre pour avoir une carte de citoyen actif. Ce seroit là le complément de l’Egalité fraternelle. Sans quoi notre existence rapelle celle des ilotes. Des Ilotes dans Lacedemone! Ils perdirent et deshonorèrent cette libre et majestueuse République. Nous demandons, si cela ne nuit pas à la chose publique qu’on fasse disparoitre jusqu’au nom flétrissant des impositions indirectes. Que chaque tête paye deux sols par jour; chacune d’elle acquittera alors par mois 3, et pour l’année 36 I. Il y a 25 millions de Français, vous aurez donc une recette annuelle et totale de 900 millions; mais supposons qu’un tiers échape à l’impôt, il vous restera toujours ce que vous désirez, Messieurs — le produit net de 600 millions. Quel citoyen ne donnera pas deux sols par jour, pour salarier la force necessoire qui s’aplique à la Loi!
Les impôts indirects ont des inconvénients remarquables; ils arment, dans une même patrie des frères contre des frères; ils produisent les mêmes scènes sanglantes que le fanatisme parmi nos ayeux; les uns veulent enfreindre les loix fiscales et les autres repoussent les violateurs, les armes à la main. Entre l’attaque et la résistance s’allument des haines implacables, aux extrémités des villes ou des départements, là où devroit veiller la sentinelle de la liberté, sous l’egyde de la Cocarde et du Patriotisme, on ne rencontre que des ennemis et des perturbateurs.
Si le droit et la liberté sont tout, pour que ce tout soit également partagé il nous semble qu’il faut diminuer, autant qu’il est possible, le nombre
des oppresseurs soudoyés afin d’être moins affligés par les plaintes, les misères et les larmes des opprimés.
Une taxe personnelle ne deshonore personne; au contraire chacun devra la supporter avec plaisir; chaque citoyen verra ce qu’il doit et ce qu’il donne à la patrie; il en surveillera l’emploi; il indiquera les abus; et avec le temps, l’or des subsides n’ira plus se perdre dans les canaux multipliés d’une fiscalité astucieuse, il y a une certaine facilité, un certain art a déployer dans le mode de perception. L’on peut tout avec les encouragements» persuasifs du Patriotisme et de l’Equité. Une imposition unique et personnelle! Tous les citoyens s’empresseroient d’y faire honneur en bénissant le sage decret qui l’aurait établie.
Nous avons exprimé librement notre vœu, nous laissons avec confiance à votre génie de raison et de l’equité le soin spontané de l’acueillir ou d’en motiver le danger, et comme vos loix sont pour nous les oracles de la sagesse même, ou vous accepterez notre doléance comme un principe d’utilité, cher à l’intérêt public, ou nous serons convaincus que si c’est une erreur le patriotisme — seul nous l’aura fait commetre de bonne foi, et quand vos lumières et votre justice nous l’auront indiquée, désabusés par vous, notre retour à la vérité vous donnera, augustes frères! de nouveaux droits à notre vive et affectueuse reconnaissance.
Signé.
(26 подписей).
Ses signatures aprouvé par tous les ouvriers du fb. St. Antoine.
XII
Нац. арх.
D. IV. 51, pièce № 20.
№ 1488. Vingt et D-re. Fol. 18. Paris, № 11.
Dupont de Nemours a l’honneur d’envoyer ce mémoire à Messieurs du Comité de Constitution. Il croit la pétition très bien fondée. Il a plusieurs fois été témoin en province de scènes violentes entre les compagnons menuisiers du devoir et ceux d’une autre corporation dont il a oublié le nom. 31 mars 1790.
Monsieur,
Les compagnons de toutes les professions, arts et métiers, tant pour eux que leurs camarades des Provinces, ont l’honneur de vous exposer, que depuis très longtemps un certain nombre d’entr’eux, et cependant la grande minorité, imaginèrent de former une espèce de corporation à laquelle ils donnèrent le nom du devoir; des signaux des mots qui ne sont connus que de ceux qui y sont initiés, des noms supposés sont les indices auxquels ils se reconnaissent dans tous les temps et dans toutes les villes du Royaume;: es compagnons du devoir se sont acharnés a persécuter ceux des autres compagnons qui refusent de faire corps avec eux, ils poussent même leurs vexations dans certaines villes jusqu’au point de forcer ceux ci à consigner une certaine somme d’argent avec promesse d’entrer dans leur société, sans quoi ils les empechent de travailler. Cette violence a occasionné à différentes époques les scennes (sic) les plus sanglantes. Les routes même ne sont pas respectées par ces perturbateurs du repos public, et souvent, il arrive que les compagnons qui ne sont pas du devoir, voiageant d’une ville à ’autre, sont arrêtés par ces derniers, qui ont soin d’aller à leur rencontre; 4 s’ils ne répondent pas aux signaux qui leurs sont faits ils sont conduits chez la mere de ceux du devoir. Là ils sont fouillés et dépouillés de leur argent et des effets. qu’ils ont dans leur sac et renvoiés, la moindre résistance suffit pour être assommé de coups.
Les exposans victimes de ce brigandage auquel il leur est impossible de se soustraire, parce que le plus souvent ils sont sans défiance et que leurs enemis au contraire sont toujours attroupés, se sont pourvus à différentes époques en justice pour le faire cesser; plusieurs arrêts de différons parlemens ont infligé des peines aux coupables de ces désordres, mais n’ont pu dissoudre cette corporation; les coupables ont toujours trouvé le moien de se mettre à couvert des poursuittes à la faveur de leurs noms supposés et des secours qu’ils se prêtent mutuellement.
Jamais l’antipathie qui a régné de tous temps entre ces doux classes d’ouvriers, n’a été portée a un si haut degré qu’aujourdhui; la fermentation est telle que plus de huit cent compagnons chapelliers fatigués des vexations odieuses que ceux du devoir exercent contr’eux, ont cessé toute espèce de travail; et il est à craindre que ceux des autres professions non moins persécutés que ceux-ci n’en fassent autant; ce qui peut avoir les suites les plus funestes, cette fermentation existe dans les différentes villes de province comme à Paris, les compagnons de cette capitalle viennent d’en recevoir des nouvelles très allarmantes et ils sont priés de solliciter auprès de l’assemblée nationalle un decret qui en anéantissant cette prétendue corporation, mettra fin a tous ces désordres et évitera les plus grands malheurs; ils osent esperer, Monsieur, que vous voudrez bien appuier leur pétition auprès des augustes représentons de la nation; toutes corporations ont été anéanties par leurs decrets même celles autorisées par la loi sous l’ancien régime, a plus forte raison s’empresseront ils de dissoudre celleci qui a toujours été illicite et toujours deffendue, un nombre prodigieux d’ouvriers les supplient d’ordonner que chaque compagnon sera tenu de porter son nom de famille, que ceux du ci-devant devoir rentreront dans la classe des autres, pour désormais travailler et vivre ensemble avec tranquilité, et d’en joindre aux municipalité de veiller à l’exécution de ce décret, leur reconnaissance sera éternelle.
XIII
Архив библиотеки города Парижа.
Bibl. de la Ville de Paris.
Mss. № 10441. 19 Avril 1790.
Municipalité de Paris.
Département des travaux publics.
En vertu du jugement de Tribunal de police et de la recommandation particulière de M. le lieutenant de Maire au département de la police par lesquels il est constaté que le nommé Cossé, tailleur de pierre, employé aux travaux de la démolition de la Bastille a été injustement renvoyé de cet attelier par des commis qui n’avoient pas le droit de le faire, sans en avoir reçu l’ordre des administrateurs chargés spécialement des travaux de la Bastille. Nous mandons au S-r Tirel de remettre le n-é Cosse dans ses fonctions et de porter ses journées depuis le jour de son renvoy, jusqu’à ce jour d’hui. sur les feuilles de cette semaine.
Fait au département ce 19 avril 1790.
Cellerier.
Это — подлинник; есть там же и копия, где приписано:
Je déclaré à Monsieur Tirel et autres que le S-r Cosse, sera payé aux frais de ceux qui l’ont empêché de rentrer à son travail conformément à ordre des lieutenants de Maire des travaux publics et de la police, et que la somme ordonnée au Mandat de M-r Cellerier du 1 Mai 1790 sera prelevée sur les appointements de M. Tirel, si c’est lui qui s‘y est opposé. Fait au département des domains ce 3 Mai 1790.
(Pitra).
XIV
Нац. арх.
Div. 51, № 1488 treize
f° 3 № 8
R. le 12 May (1790).
Comité de Constitution.
Nosseigneurs
Les députés en l’assemblée nationale.
Nosseigneurs
Dep-é de Paris,
Les compagnons charpetiers non du devoir, désignés sous le nom de Renards, osent venir se jetter aux pieds des augustes représentais de la nation. Vos glorieux travaux, Nosseigneurs, ont assuré la liberté a tous les individus qui ont le bonheur de composer la France, et cependant tous ne sont pas libres; les suppliants qui sont en grand nombre dans ce vaste Empire sont peut être les seuls qui ne jouissent pas de ce titre si cher à tous les. français. Les compagnons charpentiers qui se disent du devoir exercent des brigandages attroces contre les suppliants, qui ne peuvent travailler tant à Paris, que dans ses environs, même dans les grandes villes du Royaume; ils ne peuvent même faire leur tour de France, ils sont arrêtés par tout par les compagnons se disant du devoir, ils les volent, les battent et en tuent même un grand nombre sur les routes et dans les villes ou ils s’arrêtent pour travailler. Ces compagnons du devoir s’avertissent de ville en ville ou les suppliants doivent passer, font des attroupemens, et les attendent sur les routes, leur prennent leurs sacs, les dépouillent de leurs outils, les déposent dans une auberge, et boivent et mangent jusqu’à la valeur desdits sacs et outils; après cette opération ils les battent et les renvoyent, et ceux-ci dépouillés de tout sont obligés d’aller dans un hôtel-Dieu pour se faire panser de leurs blessures, et de mandier leur vie jusqu’a ce qu’ils trouvent (quelques fois par hazard) de l’ouvrage dans un village ou dans une bien petite ville ou il n’y a pas de compagnons dits du devoir ou drilles. Les suppliants se trouvent encore journellement exposés a cette tyrannie de la part des compagnons dits du devoir ou drilles; dernièrement ils furent obligés de prendre main forte pour aller délivrer, de leurs camarades détenus à Pantin pour cause qu’ils n’étaient pas du devoir, et cela arrive très souvent dans tous les environs de Paris [2], ils sont prêts d’en donner des preuves par les logeurs aubergistes ou ils logent.
Les compagnons dits du devoir ou drilles font des attroupements trois fois l’année dans les grandes villes, chez ce qu’ils appellent leur maire, et cola sous pretexte de visiter pour savoir ou sont les compagnons qu’ils appellent Renards, et la ils renouvellent le serment de gruger et exterminer tous ceux de la classe des suppliants; et ces abus subsistent encore malgré les décrets de l’auguste assemblée nationale qui rendent tous les individus libres et abolissent même toutes les assemblées en général.
Dans les circonstances fâcheuses ou se trouvent les suppliants, ils supplient le Sénat auguste, de vouloir bien dans sa sagesse rendre un décret qui abolisse le privilège absurde que s’arrogent les compagnons dits du devoir ou drilles, leurs faisant defense de plus à l’avenir troubler ni arrêter les suppliants sur les routes ni à leurs travaux même leur faire défense de s’attrouper chez leurs meres dans les grandes villes, sous pretextes de visites; afin qu’il soit libre à l’un et à l’autre de travailler partout ou ils trouveront de l’ouvrage.
Les suppliants attendent cette grâce des dignes représentons de la nation, et ils se soumettront a tout ce qui émanera de leur sagesse.
Je reconnais que plusieurs charpentiers dit renard sont mes locataire honnest jeans et tranquille, a Paris ce 8 mais 1790 Dublac.
Je soussignés certifie, qu’il est arrivé plussieurs faits à ma connaissance dans les travaux pour le service des Menus plaisirs du Roy, tant à paris, qu’a fonlainnebleau et notamment a Versailles lors de la construction De la; Salle nationale ou plusieurs de mes ouvriers ont été Blessé, et que les Malfaisants ont été traduit en prison. Fait à Paris le 11 Mai 1790.
Francastel
repy
je sertiffit quille seret fort juste de détruire. La but (sic) de compagnonage dit du devoir car il faut croire avec justisse que cest plustot au Brigandage qu’une chosse hutille jay été themoin dans mon chantiée de Baucoup de haine trais de méchanstee a laquelle j «ty mis ordre mes je désirerait que Ion, Labolisse temps pour la tranquilité des maitres que des ouvriers.
Bajeuerye
J’aprouve Le present memoire Sertifie par mes confrère.
Bullot.
J’approuve le present memoire veritable a paris ce 11 May 1790.
Martin.
J’aprouve Et certifie le present memoire trêt veritable. Et ces malheureuse assembleé sont Laperte des ouvriers Et font grand tord au maitre fort occupée par les caballe Excessive que cela occasionne a paris ce 11 May 1790.
François.
Japrouve que le present.
Memoire Et juste Et que tant quil y aura du Devoir dans Le compagnonnage des charpentier ils ne seront jamais da cors a paris le 11 Mai 1790.
L. Econef.
Nous ancien sindic comptable de la communauté des charpentiers de cette ville après avoir veu arrivée dans diferents travaux que j’ay fait plusieurs evenement d’angereux dans les diferents compagnons Bondrille et Renard a cause de leur pretendu roolle (совершенно неразборчиво написанное и потому непонятное слово), ce quy est très dangereux pour le service du bien publique nous en Repartant a la sagesse de l’auguste assemblée nationalle et après leur decret a se sujet. A paris ce 11 May 1790.
D’insard.
Landry plegnant
Rigolleau plegnant
Touet plegnant
Robino plegnant
XV
Нац. арх.
D. XXIX b 6.
Extrait des registres des délibérations de l’assemblée générale du district
de S-te Margueritte. Suitte des arrêtés pris le 4 Juin 1790.
Ledit jour dans la même séance sur la dénonciation faite par un membre, d’un article inséré dans le N 129-de l’Observateur de l’imprimerie de Guillaume Junior, comme inculpant grièvement un prêtre habitué de Ste Margueritte du fauxbourg St. Antoine, nommé Schalzel, M. le Président a demandé la représentation dud. №, Et d’apres la lecture dud. article,
L’Assemblée pénétrée d’horreur et d’indignation des propos aussi indécens que déplacés et incendiaires, prêtés par le rédacteur ad. S. Schalzel, touchée d’un autre côté du concours de circonstances dans lequel cet écrit a été lancé dans le public, le jour d’une fête des plus solennelles qui réunit une quantité prodigieuse de citoyens, jour où le d. S. Schalzel, en sa qualité de Prêtre allemand, ouvre procession du St. Sacrement à la tête d’un nombre très considérable d’ouvriers.
D’apres ces considérations et ces motifs, d’autant plus puissans que la detresse affreuse qui se fait sentir dans le fauxbourg semble devenir un appat de plus pour la séduction, employée sous mille formes différentes par les ennemis du bien public l’assemblée contenue par le respect et la soumission qu’elle a voués à la loi et au bon ordre a éloigné toutes voyes de fait et a arrêté: 1-o. qu’il seroit nommé par l’assemblée quatre commisaires qui se réuniront avec ceux nommés par les deux autres districts, pour informer contre une pareille dénonciation par toutes les voies que leur prudence et leur sagesse leur dicteroient, et remise ensuitte au ministère public. — 2–0. Que led. S. Schalzel qui en sa qualité de citoyen est sous la sauvegarde de la loi seroit en autre mis sous la protection spéciale de la commune du fauxbourg avec d’autant plus de justice qu’un très grand nombre d’ouvriers de la Manufacture des glaces et de chez M. Reveillon a rendu le témoignage le plus authentique à sa probité, a son patriotisme et à sa bienfaisance.
3-o Et que la présente délibération seroit desuitte portée aux deux autres Districts, inprimée et affichée dans tout le fauxbourg dans l’Espace de Vingt-quatre heures; signé Delaisille, président, De-Faux, vice-président et l’abbé Deladevéze, secretaire.
Délivré et collationné par nous, Secretaire soussigné, Le Seize juin septcent quantrevingt dix.
L. Deladeveze.
XVI
Нац. арх.
D. XXIX b 6, cote 94.
District des Enfants trouvés, Extrait du registre des délibérations. Assemblée générale du vendredi 4 juin 1790.
Des députés du District de St. Margueritte sont venus, annoncer que l’on venoit de dénoncer à l’Assemblée générale de leur district une feuille publique intitulée l’Observateur n° 129, dans laquelle on presenloit le sr. abbé Schalzel prêtre habitué de la paroisse de S-te Margueritte comme coupable d’avoir par des propos incendiaires cherché à engager les Maîtres Ebénistes du faubourg à cesser de donner de l’occupation à leurs ouvriers, d’avoir taché de diminuer dans l’esprit du peuple le respect dû à l’assemblée nationale et sa confiance en ses opérations. Que le District de S-te Margueritte avoit cru devoir s’occuper de l’examen des faits qui avoient pu donner lieu à des inculpations aussi graves contre un Ecclésiastique estimé dans la paroisse; qu’en conséquence il avoit nommé quatre commissaires pour faire les informations nécessaires et qu’en attendant le S. abbé Schalzel seroit mis sous la protection du Districts; il a été en outre arrêté que les Districts des Enfans trouvés et de Popincourt seroient invités à adhérer à cette délibération. L’assemblée considérant combien l’objet dénoncé par les Députés de S-te Margueritte peut intéresser l’ordre public a arrêté que M. Vatrin, Daridan, Cauthion et Pochet fils se réuniroient aux commissaires des deux autres Districts du faubourg St. Antoine, à l’effet de prendre les informations nécessaires pour veriffier si le S. Abbé Schalzel avoit donné lieu ou non aux inculpations inserées dans le n° 129 de l’Observateur pour, sur le rapport fait par d. Commissaires, être statué.
L’Assemblée considérant en outre que les bruits répondus contre le S. Abbé Schalzel pourraient; l’exposer, à déclaré quil devoit être regardé comme étant par sa qualité d’homme et de citoyen, sous la sauvegarde de la Loi, et qu’en outre il seroit mis sous la protection Spéciale du District. Délivré pour copie conforme à l’original par nous Greffier Secretaire Suppléant.
Печать.
Renel
XVII
Нац. арх.
O1 1183, — 352.
Carrières de Paris, Déclarations.
du 18 juin 1790.
На полях: N. B. Que cette pièce ayant été produite par M. Guillaumot à l’ex-maire de Paris, le tribunal de police a rendu le 22 Juin 1790 une proclamation destinée à contenir les ouvriers dans le devoir. Il y en a exemp. imprimé aux liasses de carrières.
Nous, Directeur et Ordonnateur Général des Bâtiments du Roi, nommé par arrêt du conseil du 4 Avril 1777 pour concourir avec l’ancien Magistrat de Police de la ville de Paris au premier exercice de la commission établie pour les carrières sous Paris et plaines adjacentes, concours que nous avons exercé jusqu’au moment où la déclaration du Roi du mois de 7-bre 1778, registré au Parlement, a introduit un nouvel ordre sur la matière.
Sur ce qui nous a été exposé par M. Guillaumot architecte du Roi, Contrôleur et Inspecteur général des travaux des carrières sous Paris et plaines adjacentes, que depuis quelque tems un nombre considérable d’ouvriers les uns actuellement en activité dans les carrières, les autres retirés volontairement ou renvoyés de ces atteliers, affectent d’avoir et de semer l’opinion que leur payement doit émaner directement du Roi et de l’administration à des prix qu’ils supposent fixés et indepedants de l’entrepreneur.
Qu’ils accusent cet entrepreneur de s’approprier à leur detriment les sommes qu’il reçoit en les réduisant, à des salaires insuffisants.
Que de ces propos dangereux et séditieux est née une insurrection qui s’est récemment manifestée auprès de la Mairie et de M-rs les lieutenans du Maire par les rassemblements d’environ 400 hommes dont la réunion a cela de singulier qu’en ce moment les carrières n’employent que 163 ouvriers dont 35 au plus ont participé à la démarché faite auprès de la Mairie; en sorte que l’on ne peut se réfuser à l’idée de cabales tendant à troubler l’ordre public qu’il est si essentiel de maintenir.
Déclarons que quand la commission des carrières a chargé le S. Guillaumot de la direction, contrôle et inspection générale des travaux à faire dans lesd. Carrières, il n’a jamais été question de faire payer les ouvriers qui y sont; employés, au compté du Roi, ni de leur fixer un prix absolu et determiné à raison de leurs qualités respectives, mais qu’il a été arrêté que ces travaux se feroient au compte d’un entrepreneur qui seul en répondroit et seroit payé d’après le Règlement qui en seroit fait au cours du tems sur la production de ses mémoires, ainsi qu’il est d’usage tant dans les Batimens du Roi que dans tous les autres travaux de Paris, sauf par cet entrepreneur à se procurer les ouvriers en quantités et qualités nécessaires, tels qu’ils seroient requis par led. S. Guillaumot, et ce à tel prix que lui, entrepreneur, en traiteroit avec ces ouvriers librement et de gré à gré, avec la faculté de renvoyer ceux qu’il ne jugeroit pas à propos de conserver.
Nous savons que cette forme d’administration conservée par l’ancien Magistrat de Police a été rendue publique par la voye de l’impression et de l’affiche, dans les atteliers et dans tout Paris en 1784, et il nous est justifié par un placard publiquement imprimé et affiché, que ce procédé d’administration a été renouvelle et confirmé par ordonnance de la Municipalité de Paris. Département de la Police, suivant une ordonnance du 24 Mars dernier.
En témoignage de quoi et pour seconder autant qu’il est en nous la sagesse de vues que l’Administration Municipale appliquera aux plaintes qui lui ont été et pourront encore lui être déférées, nous avons cru devoir expédier la présenté déclaration.
A Versailles 18 Juin 1790.
(Signé) Dangiviller.
XVIII
Нац. библ., отдел рукописей
Mss. 2666, Section Butte des Moulins, fol. 110 (nouv. acq. fr.).
Paris, 20 Sept. 1790, № 20.
Vous connaissez, Messieurs, les secours que la bienfaisance du Roi verse depuis longtems sur les pauvres de la capitale. Un des moyens qui ont paru propres à rendre ces secours utiles à l’industrie a été d’occuper les ouvriers en bois et en ebenisterie du faubourg St. Antoine, qui manquoient d’ouvrage.
Parmi ceux qu’ils ont faits il y a une quantité de chaires de paille, de tables, et lit, de saugle et de couchettes qui pourroient être aux approches de l’hiver d’une ressource precieuse pour les pauvres. Sa majesté touchée de cette considération et toujours disposée à donner à ses sujets des marques de bonté, m’a autorisé à faire une répartition gratuite et égale de ces meubles entre les 48 sections de la capitale. Je me fais un plaisir, Monsieur, de vous en informer. M. Gerdret commandant de bataillon de la 6 division, demeurant rue du Bourdonnier, est chargé de vous faire délivrer cent vingt cinq chaires de paille, vingt trois tables, vingt huit lits de saugle (sic) et trente couchettes en bois de différentes largeurs.
Je ne puis que m’en raporter à vous, Messieurs, pour la sage distribution de ces secours.
J’ai l’honneur d’être avec un sincere attachement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Du Fresne
Directeur général du Trésor-public.
XIX
Нац. арх.
D. 12, № 123.
Письмо Неккера к Vernie г.
A Paris le 24 Juillet 1790.
La demande, Monsieur, que font les ouvriers sculpteurs de l’eglise S-te Geneviève d’une somme de 14, 400 l. pour les travaux qu’ils ont fait, regarde M. le Directeur général des bâtiments qui distribue comme il le juge convenable les fonds que je lui fais fournir en masse. Je ne pourrois faire payer séparément l’objet auquel vous prenez intérêt, sans deranger l’ordre de ses dispositions; cependant, Monsieur, je vais chercher les moyens de concilier cet ordre avec le désir que j’ai de vous obliger.
J’ai l’honneur d’être avec un très parfait attachement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Necker.
За подписью следует приписка, сделанная рукой Неккера: Je tâcherai de manière ou d’autre de venir au secours de ces malheureux ouvriers.
XX
Нац. арх.
F-15 3592.
Особая папка: надпись «Cartouches reprises pour inconduite ou vol» на оборотной стороне этих билетиков. Образец:
Municipalité de Paris Atteliers de filature La nommée Victoire Dupré âgé de 36 ans, taille de 5 p. cheveux blonds, yeux bleux, nez gros, bouche moyenne, domiciliée District de la ville, admise à l’altelier de Filature de Recollet dirigé par Cocpuet.
A Paris ce Lundy 23 Aoust 1790
№ 324
На обороте: renvoyé pour avoir tenu de très mauvais propos envers les maitresses de salle et avoir cherché a soulever les autres disant que si on était douze comme elle on ce feroit payer a 15 s. par jour puis que les hommes le sont à 20 du 18 Sept.
XXI
Нац. арх. 1
A. F. 11–48 (f. 375).
Письмо Bailly к de Lajard’y.
Paris le 5 Juillet 1790 (пометка: executé le 6).
Le Bataillon des Petits Augustins, Monsieur, qui je propose d’aller ce soir au Champ de Mars vient à l’instant de me prévenir que les ouvriers qui y sont employés s’étoient portés ce matin à des menaces contre les
citoyens qui se proposoient de reprendre les travaux à la cloture de l’attelier. Comme plusieurs bataillons ont le projet de s’y rendre ce soir sans armes et qu’il seroit très fâcheux que leur zèle les exposât à quelque danger je vous prierai, Monsieur de vouloir bien donner des ordres pour qu’il se trouve au champ de Mars de la cavalerie en nombre suffisant pour y maintenir le bon ordre.
J’ai l’honneur d’être avec un très sincère attachement, Monsieur, votre très humble et très obligeant serviteur.
Bailly.
XXII
Нац. арх.
Nat. F4 1037.
1 января 1791 г.
Extrait du Registre des arrêtés et délibérations de la commission établie en 1780 pour l’administration des carrières sous Paris et plaines adjacentes Séance du 10 août 1780.
II a été fait lecture de différents placets adressés à M. le lieutenant général de Police par des ouvriers estropiés en travaillant aux carrières, et rendu par M. Guillaumot que plusieurs d’entre eux sont hors d’etat de travailler et de gagner leur vie et qu’il lui paroitroit juste d’accorder à ceux qui sont dans ce cas quelques secours pour les aider à subsister. Il a été arrêté que M. Le Contrôleur général des finances seroit supplié de destiner une somme fixe par an sur les fonds des carrières pour être distribuée en pensions à des ouvriers, estropiés dans ces travaux et qui se trouveroient hors d’état de gagner leur vie et aux veuves de ceux qui auroient le malheur d’y périr, à raison de quinze livres par mois pour chacun.
N-ta.
Cette proposition a été approuvée par le ministre et mise à exécution, et etendue aux ingénieurs et commis, dont plusieurs étant morts par suite de ces travaux, leurs veuves ont obtenu, savoir celle d’un des ingénieurs 360 1., celle de l’autre 400 1. et celle des commis 240 1. par an.
Далее: Etat des ouvriers estropiés ou devenus infirmes aux travaux des Carrières sous Paris et plaines adjacentes, et des veuves de ceu$ qui ont été tués ainsi que de celles des ingénieurs et commis qui sont morts des suites de maladies contractées dans ces travaux, auxquelles il a été accordé un secours annuel, pour les aider à subsister; ledit état tel qu’il se trouve au 1-er Janvier 1791.
(Указаны те же размеры пенсий, что решено было давать еще в 1780 г., когда жизнь была дешевле, а покупательная сила денег больше, вдовам инженеров — 360, вдовам commis — по 240, рабочим и их вдовам — 180 ливров.)
XXIII
Нац. арх.
D. XXIX b 16.
Paris le 2 Janvier 1791.
Messieurs
J’ai l’honneur de vous envoyer deux lettres incendiaires adressées de Toulouze à un particulier du faubourg St.-Antoine pour l’engager à exciter les ouvriers. Vous jugerez Messieurs dans votre sagesse quelle peut être leur importance, et les précaution qu’elles peuvent exiger.
Je suis avec respect Messieurs
Votre très humble et très obéissant serviteur
Bailly.
M. M. du comité des recherches de l’Ass. Nat.
XXIV
Нац. арх.
Div. 51, pièce № 9.
№ 1488, New R-ee
4 février
№ 8.
Comité de Constitution
refus
Messieurs. Paris
Vous nous aviez donné le decret du 23 dexemhre nous avions repris nos travaux, et nos cœurs étaient pleins de reconnoissance par un autre decret, du quinze janvier vous nous le retirez, et le renvoyez à dix huit mois; dix huit, mois sont plus que suffisans pour périr de faim.
Les manufacturiers d’une manufacture ou il n’y a point d’ouvriers vous ont trompés, et le malheur en est retombé sur nous; nous avions dans nos mains le decret du vingt trois dexembre nous avions repris notre activité, et nous vous bénissions; quand une fois on a donné la vie il n’est plus permis de l’oter puisque des réclamations cachés et plienes de mensonges, cependant ont trouvé accès de vous; nous reclamons aussi, mais à découvert, nous deffions les clinquailler anglais marchand de boutons d’uniforme de prouver ce qu’ils ont avancé, nous reclamons nous demandons à travailler voila ce qui nous appartient, c’est la toute notre fortune que nous recommadons aussi à votre équité rendez nous la force et le sang que nous avons voué au maintient de la constitution et au salut de la liberté.
Les supliants aux nombres du 6000 ouvriers de Paris suplie dont l’assemblée nationalle, d’ordonnée que le bouton nouvellement manufacturer, dans l’étendue du Royaume soit à la légende, de la nation la loi, et le Roy, monté sur os, et sur bois, garnie de corde a Boyau, tel qu’il fut décrété le 23 X-bre, ce qui donnera donc lieu à ces ouvriers de Paris, ainsi que ceux qui sont dans l’étendu du Royaume, à reprendre leurs activité dans les travaux.
Ghaumont, Fremont, Destrées, Verdenat, Angard, Dubos, Gambin Inbert, Valtié, Nau, Antoine, Paradis,
Paturelle.
XXV
Архив префектуры полиции.
Section Butte des Moulins, 11 fevrier 1791.
Département des travaux publics. Municipalité de Paris.
Paris le 11 fevrier 1791.
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous renvoyer ci-joint, Monsieur, les deux feuilles d’enregistrement des ouvriers de votre Section à admettre dans les atte-tiers de secours, attendu que ces feuilles ne sont pas remplis comme elles doivent l’être, c’est-à-dire les signalements ne sont pas remplies, et les demeures sont en partie mal indiquées.
Vous sentez, Monsieur, que ces formalités sont essen’ielles pour prévenir les abus qui pourroient se glisser lors de l’enregistrement des ouvriers qui n’étant pas domiciliés donnent de fausses demeures. Vous voudrez bien arrêter et signer l’une de ces feuilles que vous avez sûrement oubliée.
J’ai l’honneur d’être bien sincèrement votre très humble et très obéissant serviteur
Montauban.
Cl 11 fev. 1791.
(M. Couleau, secretaire de la section du Palais-Royal)
XXVI
Нац. арх.
С. 70, — 686.
Monsieur le président,
Les ouvriers de la Nouvelle Eglise de S-te Geneviève ont l’honneur de faire part à l’assemblée qu’ils feront célébrer samedy prochain 14 May dans la nef d’Entrée de cette Basilique un service en mémoire de feu Honoré Ricquetty Mirabeau, notre digne législateur; et que conformément à son decrêt ils ont fait placer dans le fronton l’inscription décrettée par Elle. Ils supplient l’assemblé national de leur faire l’honneur d’assister a dix heures du matin.
Ils ont l’honneur d’être avec un plus profond Respect.
Monsieur le Président.
Ce 12 May 1791.
Votre très humble et très obéissant serviteur
Guibert Sculpteur, Chevalier commis, Dutet commis, Lejoindre commis,
Allut appereilleur, le Pouge commis.
XXVII
Нац. библ.
Mss. franc, nouv. acq. № 2811.
(Апрель, 1791 г.)
Введение к отчету Palloy — муниципальным властям.
Discours préliminaire (Palloy).
Vous trouverez, Messieurs, dans le cours du mémoire que je soumets a votre vérification, et à celle de la nation entière, un état fidel, un état sincère en recette et dépense de l’emploi des fonds destinés tant à la Bastille que dans les ateliers particuliers, d’après les ordres qui ont été donnés dont les copies sont jointes.
Après la prise de la Bastille, il lut établi un ordre qui a été rigoureusement observé, les ouvriers qui ont été employés à la démolition de cette forteresse, furent placés par classe d’atelliers en nombre égal d’hommes sous l’inspection de leurs sous-chefs, lesquels atelliers étoient inspectés par des chefs qui avoient une certaine quantité de sous-chefs. Sous leurs surveillances les rôles se faisoient strictement et tous les jours l’appel nominal étoit fait par mon commis qui verifioit les feuilles de chaque atellier et communiquoit la feuille générale aux inspecteurs nommés par les architectes, qui certifioient par des nouveaux appels ces feuilles de Rôles qui ensuite étoient remises au Bureau de la Bastille tous les soirs, ces mêmes feuilles étoient visées par les inspecteurs et de la portée au bureau du comité permanent des électeurs depuis le 16 Juillet 1789 jusqu’au [3]… Ensuite au bureau des subsistances de la première commune dopais le… jusqu’au… après au bureau de la ville de la commune provisoire depuis le… jusqu’au… enfin, au bureau des travaux publics de la Municipalité depuis le 1-er Novembre 1790 jusqu’au 21 May 1791, jour auquel je donnai ma démission définitive,
Voici la marche qui a été observée pour les payements qui ont été fait. Chaque Rôle de semaine étoit joint à un Rôle général de paye signé des architectes d’après le certificat des inspecteurs. Ces feuilles de Rôle étoient enregistrées dans les bureaux cy-dessus nommés et par une ordonnance qui m’etoit remise, j’y apposois l’acquit et ma signature. Mon commis se présentoit à la caisse pour en recevoir le montant. La délivrance des deniers s’en est faite par monsieur de Villeneuve, tresorier de la ville. Souvent M. Pitra électeur de 1789, membre du département de la comptabilité du domaine qui a été de l’administration provisoire et définitive jusqu’à la fin de 1791 est souvent resté les samedis jusqu’à minuit pour signer les ordonnances payemens des ouvriers de mon atelier par la crainte qu’avoit le patriarche de la Révolution; que mes ouvriers ne se portassent le lendemain à de excès d’insubordination qui m’auroient fait perdre la vie.
La paye des ouvriers c’est faite tous les dimanches en présence des architectes et inspecteurs, par leurs Sous-chefs quand il n’y avoit pas de retard à éprouver. Il est arrivé plusieurs fois que dans des momens detroubles que la Révolution suscitoit il y avoit un retard dans les payemens faute de ne pouvoir obtenir les ordonnances ainsi que les signatures ou par des contestations qui s’élevoient qu’il faloit débatre et mettoient ces opérations nécessiteuses en instance ce qui m’a plus d’une fois forcé défaire les avances de mes propres fonds plustôt que de faire languir les ouvriers après leurs dus.
Messieurs Devilleneuve trésorier de la ville, Trudon administrateur et Hunoult brave et riche citoyen de cette capitale m’ont plusieurs fois avancé des payes entières dans des momens de crises causées par des ouvriers étrangers pour commettre une insurrection. Personne n’a été plus que moy exposé dans ces momens de troubles, et sans des hommes de confiance j’aurai perdu la vie menacée de toutes parts. Je puis attester que beaucoup de scélérats se sont introduits dans les ateliers sous le titre d’ouvriers, que des particuliers connus qui n’avoient point besoin y sont venus travailler.
Je n’ai été remboursé qu’au bout de six mois des avances et payes que j’avois fait aux ouvriers pour la première quinzaine qui a suivie la prise. Pour l’intelligence de mon compte et pour que la nation entière n’ignore pas quelle a été mon opération je l’ai fait imprimer afin que tous citoyens qui composent cet empire qui ont des droits de savoir et de s’instruire— [4] comment on a administré l’argent qu’ils ont donné juge les comptables sur leurs administrations.
Vous trouverez dans la masse de ce mémoire les titres qui m’ont autorisé à placer, les ouvriers en les envoyant dans différens atelliers pour cet objet, j’ay par un tableau classé les résultats de toutes les opérations dont j’ai été chargé dans le cours de deux années entières, vous trouverez aussi les autres nottes de dépenses qui ne sont pas de mon ressort, au du moins ce qui no m’a pas été confie j’en ai pris un état le plus exact, je desire que les entrepréneurs soient qui sincères que moy, si fai suivi leurs travaux, pris connoissance de leurs acquisitions c’étoit pour donner une idée des dépenses immenses, que necessitoient les circonstances et pour faire savoir au juste ce qu’a pu coûter l’attaque de la Bastille, prise démolition, gratifications, recompenses et autres objets analogues à la defuncte Bastille. J’y ai aussi joint toute la correspondance que ces travaux m’ont fait avoir avec la Municipalité, les entraves que j’ay essuyé, les epoques nécessaires à la Révolution, le tout par ordre de datte, les demandes, les sollicitations, les interruptions, les pièges, qui m’ont été tendus enfin tout se qui est venu jusqu’a moy, et dont j’ai été témoin pendant le cours de cette démolition, en un mot j’ay pris avec le plus grand soin les nottes qui peuvent un jour être d’une grande utilité.
Je ne crois obligé de rendre un compte détaillé de toutes les opérations qui ont été faites pour la démolition de la Bastille. Je desire en mettant ma conduite à découvert satisfaire la juste curiosité de mes concitoyens qui verront ma franchise et les circonstances bien marquées qui leur étoient inconnues jusqu’alors.
Il est bon d’observer qu’après la prise de la Bastille, la démolition de cette forteresse fut ordonnée par le Peuple qui m’en confia l’exécution qui me fut confirmée par les électeurs.
Après la retraite de M-rs les Electeurs l’assemblée des représentans de la commune ordonna le vente des bois, fers, tuiles, ardoises et généralement tous les matériaux provenants de cette démolition. Il fut [no]mmé des commissaires qui procédèrent á cette vente.
Il fut proposé au mois de septembre de mettre cette démolition par entreprise. En conséquence il fut pris l’arêté ci-apres.
1. Que la démolition et les entrisages de la Bastille se feroient dorénavant par entreprise conformément aux devis dressés par les architectes chargés de cette démolition et conformément, aux clauses et conditions portés par les cahiers des charges.
2. Que l’adjudication de cette entreprise sera fait au rabais.
3. Qu’il sera nommé des commissaires pris dans l’assemblée qui seront chargés de faire procéder à cette adjudication et en outre de traites tant avec les Dames S-te Marie qu’avec le locataire occupant la maison qui appartient à la Ville pour l’ouverture des passages nécessaires à l’exploitation de manière qu’en s’occupant de l’intérêt public — ceux particuliers ne fussent point lézés. Cette arrêté rendu avec sagesse, dicté par l’esprit d’économie occasionna un mécontentement général qui se manifesta dans l’atelier. Ce fut avec beaucoup de peines que je parvins à rappeler les ouvriers à l’ordre.
Peu de tems après l’on fit des efforts pour essayer de mettre l’economie à la place du gaspillage qui faisoit des progrès rapides malgré toute la surveillance possible, cependant je réussis à ramener le calme qui ne fut pas long.
Le prix des journées de trente six sous fut réduit à trente sous a cause des jours courts. Cette diminution fut cause d’un trouble qui dura quelques jours. Mais comme les ouvriers de Bâtiments y sont accoutumés annuellement ils engagèrent les autres à la paix et travaillèrent.
L’arrêté pris par l’assemblée des représentants de la commune tendante à mettre la démolition par entreprise occasionna une rumeur si violente que des lettres anonimes furent adressées de toutes les ateliers contre les administrateurs qui leur firent prendre le parti d’accepter la soumission que je leur avoit, présenté. Me connaissant aimé d’une grande partie de mes ouvriers sachant, que cette soumission étoit pour les intérêts de la municipalité je leur en fit part en leur démontrant que les bons sujets ne pouvoient que gagner à cette honnête proposition. Mais comme je l’ai dis cy-dessus, des hommes payés par le parti contraire que j’ai connu trop tard detournoient ces braves gens de la proposition que je leur faisois. Je ne pus rien obtenir.
Il fut proposé d’hâter en ma faveur celte soumission; mais l’adjudication publique parut à la municipalité des moyens propres à garantir l’administration des soupçons qu’elle presumoit pouvoir s’éléver contre elle et cette décision fut adoptée, ce qui occasionna parmi les ouvriers un soulèvement qui se propagea avec une telle violence que le district de Saint-Louis-la-Culture fut obligé d’être intermédiateur. Plusieurs membres se présentèrent aux mutins et eurent toutes les peines imaginables à les appaiser. La garde fut quadruplée. Je fis de mon côté tous mes efforts et a force d’arguments de pacification, le calme succédât à l’orage. Tous ces débats oiseux firent ralentir l’ouvrage, et mettoient ces travaux dans l’inactivité pendant un long tems.
Le département des travaux publics rendit une ordonnance pour arrêter les soulèvement si multipliés dont plusieurs chefs ont manqué d’être les victimes. Elle a produit quoiqu’effet.
Le dix-sept décembre adjudication de la démolition de la Bastille fut affichée et colle définitive fut fixée au 22 dudit c’est-à-dire un mois après, ma soumission.
La première enchère fut portée à 30 000 1., elle tomba de 50 1. à 50 1. jusqu’a 28. 600 environ, mais sur une proposition dés députés des ouvriers de la Bastille qui se présentèrent comme représentant leurs camarades se rendirent adjudicataires pour 28. 600 environ; les autres enchérisseurs se retirèrent et le tribunal municipal adjugeât à ces ouvriers sous le nom de Rogier la démolition de la Bastille.
Ces adjudicataires n’ayant pas leurs missions legales pensèrent payer de leurs vies la hardiesse de leurs démarches et furent chassés de l’atellier.
Il auroit fallu employer toute la force pour assurer aux adjudicataires, ces droits. Le Bureau de ville se vit contraint en vertu de l’opposition formelle de la plus grande partie des ouvriers et pour rétablir l’ordre d’abandonner toute espèce d’adjudication.
Il fut donc arrêté le 9 janvier 1790 que l’adjudication serait résiliée, et que la continuation de la démolition se feroit comme par le passé ce qui emmena le calme pendant quelques jours.
A cette époque je me présente à la tête de mes ouvriers accompagné de M-rs Lapoisé et Montizon devant l’assemblée des répresentants de la commune pour leur faire prêter le serment civique. Les quels encouragés par la réception flateuse des membres sollicitèrent une augmentation de paye qui leur fut accordée. Le lendemain le prix fut fixé à 36 s. au lieu de
30 s. Je desirois, mais je ne pouvois le représenter à l’Assemblée l’inconvenient d’une augmentation de paye surtout dans un tems contre l’usage des entrepreneurs. Cette petite faveur auroit pu procurer l’existence à 300 pères de famille. J’en pris parti de choisir parmi les ouvriers de la Bastille les hommes les plus intelligents que l’on a occupé à la Bastille des corps de garde, à la démolition des angars de la Halle à la Saline et à l’ancienne Halle au bled, aux bariéres et à d’autres atelliers, ou il leur fut fait une augmentation de quatre sous par jour (карандашом приписано): reçus de tous les atteliers.
Je présentai un projet de construction d’un égoût couvert dans les fossés de l’arsenal. Cet ouvrage d’une grande utilité publique et peu dispendieux, en raison des pierres et matériaux convenables qui étoient sur place, auroit procuré à la ville une très grande économie, mais levaste projet du canal Royal pour lequel le S-r Brûlé sollicitoit vivement à cette époque un décret qu’il a obtenu depuis fit rejetter mon plan parce qu’il occupoit la place où devoit passer ce canal qui devoit former garre a cet endroit. Il a fallu donc renoncer à mon projet d’acqueduc. Ici il est bon. de suivre la progression des Rôles de paye malgré les précautions prises de renvoyer les ouvriers non domiciliés et de placer dans les atelliers de secours les ouvriers qui étoient à vingt sous par jour. L’atellier de la Bastille qui devoit naturellement diminuer s’accru (sic) de près du double-par les lettres de recommendation qui venoient de toutes parts, principalement des membres de l’Assemblée constituante. Les circonstances fâcheuses du tems forceoient à recevoir ces honnêtes citoyens, pères de famille, réduits à la plus affreuse indigence, ayant perdu à la Révolution: leurs états. Toutes ces considérations montaient bien l’indulgence à l’egard de nos frères qui étaient les victimes de notre liberté. Il ne pouvoit pas s’opérer de bien qu’il ne fit du mal. C’est ce que beaucoup d’individus ont éprouvé et éprouvent encore. Il faloit donc, dis-je que cet atellier reçût dans son soin ces honnêtes familles pour leur procurer les aliments nécessaires.
Vous verrez dans le cours de ce mémoire le chapitre de la dépense de la Bastille depuis sa crise jusqu’au décret de l’Assemblée Nationale qui adjuge à la ville le remboursement de la dépense. Epoque à laquelle je me suis retiré; ayant été placé par la nation, je fus forcé pour obéir au decret de m’exclure de cette entreprise. Néanmoins je cessai tous mes équipages et ustensils; après le decret je ne fus que l’entrepreneur honoraire jusqu’au 21 May 1791 auquel je cessai d’aposer mon acquit sur les ordonnances de paye d’après le visa de M. le Maire.
Le récit que je fais au Peuple Souverain et à vous, Messieurs, par l’exposé de mon compte n’est que pour satisfaire la nation et me feliciter moy-même sur ma conduite franche et locale. Et pour prouver que rien ne me fera changer de façon de penser ce que ma plume trace, mon cœur le dicte; je suis intacte que l’on m’accuse, je repondrai. Je renvois le lecteur à ma correspondance générale qui paroitra aussitôt qu’elle sera complette. Elle est le seul fruit de mes travaux. Vous y verrez le rapport exacte et fidèle que j’ai eu dans les départements, districs etc. ainsi que dans les cours étrangères, les entretiens avec les patriotes amis de la constitution et en général la note très detaillée de tous les procès verbaux qui m’ont été adressés. J’invite tout homme en place chargé de la partie administrative de suivre mon exemple en rendant ses comptes publiquement.
Je ne m’attacherai pas à donner une description détaillée sur la Bastille vous en avez les plans, mais je m’appliquerai seulement à rendre les objets les plus remarquables comme le plan de cette forteresse que contenoit deux tiers d’arpent de superficie, les tours avoient 96 pieds d’elevation — depuis la souche jusqu’au sommet, l’epaisseur des murs étaient de six pieds et demi. Que l’on juge de la masse enorme de ce colosse, ces deux tiers d’arpent n’étaient occupés que par la longueur et largeur des cours de l’interieur du fort du Bâtiment de l’état-major et des huit tours, me reservant dans un ouvrage que je mettrai incessament au jour, j’entrerai dans un plus ample détail tant du Bastion que des fossés du logement du gouverneur de l’artillerie et de l’arsenal. Je joins seulement pour l’intelligence et la connoissance de ce chateau fort les plans, coupes, profils, élévations, les sculptures attachées à ce monument comme l’horloge, les cinq statues au dessus de la porte, les differens verroux, les portes de fer nommées portes du trésor qui servirent sous le règne d’Henry IV à renfermer son argent. J’ai fait l’acquisition — d’une; elle pèze 700 livres, elle servoit lors de la prise à la tourelle qui communiqoit dans les fossés, les portes de prisons de M. le Cardinal de Rohan et de madame de Lamotte, les instruments de supplice en fer sont en ma possession. Les remarques que j’ai fait des pendatifs, des parties de sculptures gothiques et quantité d’inscription sur toutes les pierres, tant dans l’intérieur des cachots que des prisons cours et dépendances, dessins, versifications, de la prose, des reflections des mourans, des versets de patiens, des plaintes des vivans dans toutes les langues, de divers papiers trouvés dans le joint des pierres, ce qui prouve la nécessité d’avoir anéanti cette infernale prison. Il est donc aussi nécessaire d’avoir la description de la Bastille pour perpetuer le souvenir de l’horreur qu’inspiroit son existence et la joie universelle qu’a occasionnée sa destruction. H existait aussi des fortes doublées en fer battu qui renfermoient réelement le trésor, contenant des cartons dans lesquels étoient les papiers saisis sur les prisonniers, qui parloiens sur le gouvernement, et les copies des lettres de cachet; j’y ai trouvé une lettre intéressante que je conserve mais que je publierai à la suite de mes ouvrages.
Cet ouvrage fait aveu soin sera le premier volume que je me fais gloire de dedier aux Electeurs de 1789 en rendant mon compte à la municipalité de Paris, je le déposerai aux archives de l’assemblée nationale et copie d’iceluy au Roi des français, à la société-mère des amis de la constitution de Paris et, aux 83 departemens afin que ma reddition de compte soit vue et examinée de toute la nation entiere. J’attends d’elle le suffrage que j’ai lieu d’esperer.
Je me suis cru obligé de venir jusqu’à cet article pour donner un détail du commencement de la révolution et des opérations qu’elle a exigé. Je ne pouvois faire autrement pour donner au lecteur au moins l’idée du compte que je rends. Il sera par ce moyen au fait des incidens, des dépenses qui y sont détaillées. Je me borne donc présentement à faire un extrait des chapitres et des narrations trop longues de différents faits analogues à la révolution. Le public ne pourra me sçavoir mauvais gré de cette abbreviation qui le rapportera plus promptement au fait des circonstances. Je rends copie exacte de ce mémoire à l’Assemblée Nationale comme premiers representents de peuple avec l’explication des planches, de gravures que l’on trouvera ci-après; je n’ai rien diminué sur ce qui a rapport à la comptabilité, comme étant la baze de ce mémoire les feuilles de paye y sont dans tout leurs entiers et très circonstanciés; ainsi que des différentes pièces qui n’ont pu souffrir distractions, comme formant corps avec cette même baze.
XXVIII
Нац. арх. (Июнь 1791 г.).
D. IV. 51, pièce № 17. 1488. Dix sept.
Adresse A Monsieur
le président
Paris
du Bureau du commité de Constitution
de L’assemblée Nationale.
Les entrepreneurs de charpente de la ville de Paris, sont venus Reposer dans le sein de l’assemblée nationale les sollicitudes que l’insurrection et les vexations de leurs ouvriers leurs occasionent, et ils attendent de votre justice un remede au mal dont le public et eux sont nécessairement les victimes.
Les maréchaux de Paris viennent également aujourd’hui reclamer l’execution de vos decrets et demandent à être soustrait a l’espece de tyranie que leurs ouvriers exercent aussi contre eux.
Leurs griefs sont les mêmes, ils ne vous exposeront pas de nouveau ici, ils se contenteront de vous rappeller une vérité que vous avez sans doute déjà saisi M. M. et que l’expérience ne justifie que trop; c’est la coalition générale de 80 mille ouvriers dans la capitale; c’est la réunion d’une masse immense d’hommes qui croient devoirs être divisés d’interets et de principes avec le reste de leurs concitoyens. Les serruriers, les cordonniers, les menuisiers commencent déjà a suivre les traces des charpentiers, des maréchaux, les autres n’attendent que la reussite des premiers pour suivre les mêmes erremens..
Si vous croyez que cette coalition n’a rien de dangereux sous vos yeux M. M. et qu’elle ne puisse entraîner de suites fâcheuses dans la capitale; il peut en résulter un autre inconvénient plus à craindre sans doute; une foule de ces ouvriers entrâmes par l’esprit d’insurrection se répandent dans les différents departemens d’ou ils sont sortis et ils y repandent les principes dont ils sont pénétrés, principes capables d’occasionner les plus grands desordres parmi cette autre portion de citoyens que l’enlevement prochain des récoltés rassemble en grand nombre dans les campagnes.
Il est sans doute fâcheux M. M. d’avoir à se plaindre de ceux que la confiance de leurs freres a placé à leur tête pour faire exécuter vos decrets, mais nous ne pouvons vous dissimuler et vous ne vous le dissimulerez pas en effet que l’ignorance de ces devoirs ou plutôt la foiblesse de la municipalité de Paris est la cause de tous ces désordres, elle a protégé, elle a toléré les rassemblemens d’ouvriers, et lorsqu’éclairée par le cri général elle a senti ses torts, il étoit trop tard pour y remedier, et il n’en est de la part des ouvriers que le mépris le plus profond pour les avis que la municipalité avoit fait afficher et qui ont bientôt disparu.
Ce n’est point pour eux seuls que les maréchaux viennent aujourd’hui aux representans de la nation — la liberte dont ils jouissoient depuis si peu de tems et qu’on se hâte de leur arracher, c’est en se réunissant aux charpentiers, c’est au noms de tous les arts et metiers qui vont avoir les mêmes réclamations a faire qu’ils le demandent et qu’ils ont droit de l’esperer.
Daubas-Boulleylene.
Aurinon.
Tavenel-Appert.
XXIX
Нац. библ.
Mss. 11697.
(Gouvion) 15 Mai 1791.
Письмо Бальи к Гувиону.
Je viens d’ecrire à M. Delalen major de 5 Division de se transporter à
la manufacture des glaces et de s’y concerter avec le directeur sur les forces dont il croit avoir besoin pour mettre cette maison à l’abri de toute insulte. Je pense qu’une garde intérieure est ce qu’il y a de mieux pour proteger efficacement un établissement aussi precieux.
D’apres les motions très animées qui ont été faites aujourd’hui au Palais-Royal contre les vendeurs d’argent je ne pense pas qu’ils osent se présenter demain aux environs du Palais-Royal, cependant j’ai écrit à M. Silly, commandant la 6-me division par intérim afin que nous nous concertions sur les mesures à prendre en cas qu’il s’en présentât quelques-uns.
XXX
Нац. библ.
f. fr. 11697.
(Bailly.) 18 Mai 1791.
Письмо мэра Бальи к генерал-майору национальной гвардии Гувиону.
J’espère, Monsieur, que vous avés donné des ordres pour la manufacture des glaces, je vous prie de les réitérer, car il m’est encore parvenu
des avis où l’on me dit qu’elle est menacée par les ouvriers réformés des atteliers.
Je vous prie secondement de mander au commandant du bataillon le plus voisin de la section de l’Hôtel-de-Ville de s’etendre avec le commissaire de police de cette section pour veiller à la sûreté du sieur Lemonnier et du s-r Joly, également menacés par ces ouvriers et de pourvoir à la tranquillité de la rue de la Mortellorie où ces ouvriers réformés se trouvent, dit-on, au nombre de 250: et troisièmement d’ordonner au commandant du bataillon St. André des arts de placer une sentinelle à la porte de la maison des cordoliers, pour en cas de réunion, se concerter avec la compagnie du centre du bataillon de l’observance pour protéger tous les scellés qui ont été apposés et assurer la tranquillité des réligieux jusqu’à leur retraite.
XXXI
Архив префектуры полиции.
Section Butte des Moulins.
Département de police.
Municipalité de Paris.
Hôtel de la Mairie ce 27 Mai 1791.
Nous sommes provenus, Monsieur, que les ouvriers des atteliers de charité ont fait le projet de se rassembler demain et de se porter dans la maison de M. Morin limonadier, située passage des Beaujolais sous la terrasse de la Maison de M. Dagout prè le Palais-Royal dans l’intention de la piller sous pretexte qu’elle sert de retraite aux marchands d’argent et qu’elle facilite leur commerce. Nous vous prions de veiller à la sûreté de cette maison et donner des ordres pour que les patrouilles soient distribuées pendant plusieurs jours, de manière à dissiper tout les attroupements qui pourraient s’y former. Nous écrivons à M. M. du département des travaux publics pour les prévenir de ce projet et les prier d’employer tous leur pouvoir pour le faire échouer.
Les administrateurs du département de la police.
(M. le Commissaire de Police
de la Section du Palais-Royal).
XXXII
Архив префектуры полиции.
№ 237, Section du Roule.
L’an mil sept cent quatre vingt onze le lundi Six juin six heures du soir, est comparu par devant nous, Commissaire de police de la section du Roule, le St. Jean Baptiste Daudon M-e Charpentier rue de l’Arcade.
Lequel nous dit qu’il viene se plaindre à nous de l’existence d’une (contre une) [5] illégale Assemblée de compagnons charpentiers tenue rue de la Sixeranderie (Section du petit) Assemblée deffendue par le Corps des Représentans de la Nation par son décret qui deffend les assemblées par corporation de métiers ou profession, de ce que cette assemblée exige des Charpentiers entrepréneurs qu’il aille signer sur un registre tenu à cet effet par elle leur soumission de payer la journée cinquante sols les moindres dans l’eté et quarante cinq sols dans l’hiver, de ео que lorsqu’un maitre jaloux de remplir ses engagements d’ouvrage, est forcé, pour avoir dans son attelier les ouvriers journaliers nécessaires, de souscrire cette obligation si préjudiciable à l’intérêt public, puisqu’elle nécessitera l’augmentation des ouvrages de Charpente, ce maître a donné comme contraint cette signature, la dite assemblée contraint les autres ouvriers du meme attelier, qui ne se seraient раз encore rendus membre de la dite assemblée de s’y joindre, de participer a ses délibérations et arêtes, harcelle et poursuit par menaces (ceux q) les refusans et retire aux maîtres auquels il a été envoyé après leur signature ces mêmes ouvriers si les premiers qui sont requis de s’adjoindre a ladite assemblée ne s’y adjoignent. Nous dit ledit sieur Dodon qu’il proteste contre la signature par lui apposée sur le registre des dits compagnons charpentiers le jour d’hyer, comme a lui surprise par la nécessité machinée et conduite afin par lui apposée sur le registre des dits compagnons charpentiers le jour contraires au bien public et très coupables, pour quoi’il nous a requis de rédiger le présent duquel lecture ayant été faite audit siéur Dodon il a offert de le signer, nous demandant acte de sa dénonciation et protestation ce que nous lui accordons.
Six mots rayés nuls. Expédié sur une feuille de 5 S. et délivrée au Sr, Daudon le 7 juin 1791.
Langlois.
Daudon.
Petit.
XXXIII
Нац. арх.
S. 3707. 21 Juin 1791.
На полях: a conserver dans les procès-verbaux des sections. Section
de Sainte Geneviève.
Procès verbal qui constate l’enlevement de différentes armes: dans la maison des Carmes.
L’an mil sept cent quatre vingt onze le mardi vingt unieme jour de juin, onze heures et demie du matin, nous commissaires reunis au nombre six y compris monsieur le président, après avoir nomme m. Charbonnel pour remplacer m. le secretaire Greffier absent, m. Tronc nous avait dit qu’une grande partie du peuple que l’on a reconnu pour des ouvriers des atteliers publics et du Bâtiment de S-te Geneviève, s’est rendue tumultueusement dans la maison des Carmes pour emporter, des armes et piques qu’elle y croyait déposées; que ledit sieur Tronc se trouvant seul n’a pas cru devoir s’opposer à leurs efforts et les a laissé chercher les armes qu’ils voulaient avoir; que quoiqu’il fut disposé à leur ouvrir volontairement les portes de différentes chambres du dortoir à côté du comité dont il avait les clefs, l’impatience a porté le peuple à enfoncer celles dont les clefs ne lui avaient pas été confiées.
Pour constater la vérité des faits nous nous sommes transporté sur les lieux et nous y avons reconnu que dans le corridor conduisant à l’apothicairerie la porte numerotée deux — a été pareillement enfoncée.
Observe ledit sieur Tronc que dans le lieu où étaient déposées les armes, il y avait environ trois à quatre cens piques, qui ont été emportées, que soixante à quatre vingt fusils tant montés que non montés deux carabines montées en cuivre, déclare en outre le dit sieur Tronc que dans sa chambre on lui a pris un pistolet qui lui appartenait et an fusil qui lui avait été confié par le bataillon de S-te Geneviève, mais que le peuple n’a emporté rien autre chose que ce qui est mentionné cy-dessus et s’est porté à aucune autre violence, et a ledit sieur Tronc signé aves nous le present procès-verbal, lecture a lui faite de celui ainsi signé: Tronc, Ballin président, Yol, Briard, Meny, Clerambourd et Charbonnel faisant les fonctions de secretaire. Pour extrait conforme à la minute ce 21 Juin 1791.
Печать: section de Sainte Geneviève.
Charbonnel, secretaire par interim.
XXXIV
Нац. библ., отдел рукописей
Mss. 2666 (21 Juin 1791) p. 322.
Из протокола заседания секции Palais-Royal.
Un membre a proposé que les ouvriers auxquels on aurait distribué des armes et qu’on aurait incorporé dans les compagnies de la garde nationale, laissassent leurs armes en se retirant au corps de garde du Palais-Royal ou ils les retrouveront toutes les fois qu’ils seront avertis de se rassembler par la générale. Cette proposition à été adoptée. Il a été décidé déplus qu’il seroit délivré un № à chacun ouvrier, où sera inscrit son nom, et que le même № sera mis sur l’arme qui lui seroit fournie pour qu’il puisse la reconnoitre au besoin.
XXXV
Нац. библ., отдел рукописей
Mss. nouv. acq. fr. 2666, fol. 339.
Département des travaux publics. Municipalité de Paris ce 5 Juillet 1791 (адресовано секции du Palais-Royal).
Au moment, Messieurs, où la suppression des atteliers de secours ordonnée par le decret du 11 du mois dernier laisse tant d’indigens dans le besoin, vous apprendrez, sans doute, avec intérêt que le corps municipal autorisé par le directoire du département, a arrêté que la somme de 96, 000 1. seroit distribué dans les quarante huit sections, en proportion du nombre d’ouvriers que chacune d’elles pourrait avoir dans les atteliers, les calculs établis sur cette donnée ont porté la part qui revient à votre section à la somme de huit cent quarante sept livres.
Nous avons l’honneur de vous indiquer, Messieurs, les conditions d’après les quelles le corps Municipal a arrêté que la distribution de cette somme seroit faite.
1. Tous les individus qui devront participer a ce secours seront du nombre de ceux qui travailloiront dans les atteliers au moment de la suppression et que par le recensement que vous avez fait, Messieurs, vous aviez jugé devoir être conservés.
2. Le secours n’est destiné qu’a ceux qui étoient domicilliés à Paris antérieurement au 14 Juillet 1789; la raison dicte naturellement des égards pour ceux, qui n’étant point domicilliés depuis cette époque auroient néanmoins fait en leur nom personnel le service de la garde nationale.
3. Les pères de la famille méritent toute préférence; les infirmes et les vieillards y ont également des droits; mais ceux qui, jeunes, n’ayant point de famille, manqueroient d’occupations par leurs faute, ne peuvent pretendre qu’à un très foible secours.
4. La condition expresse et la plus essentielle est qu’il no soit fait de distribution qu’a ceux qui ayant les qualités cy dessus n’auroient pu se procurer, ce travail çe qu’il sera nécessaire de constater autant que faire se pourra. Quiconque avoit à l’époque de la suppression ou peut en ce moment faire usage d’un moyen de subsister quoique difficilement, ne peut rien prétendre à un secours uniquement destiné à ceux qui sont absolument sans resource.
Telles sont, Messieurs, les conditions imposées pour le corps municipal, et pour l’execution desquelles il s’en rapporte à votre prudence il compte sur votre zèle à faire tourner ce secoure au profit des séuls véritablement indigens dont les besoins vous seront bien constatés et il vous prie de tenir un état exact des noms, demeures et professions de ceux que vous aurez admis au partage du secours et de la somme que vous leur aurez accordée; lequel état vous voudrez bien nous adresser, lorsque vos fonds seront épuisés afin que nous puissions le porter dans le compte que nous aurons à rendre au directoire.
Vous trouverez ci joint, Messieur, une ordonnance de la somme de (пустое место) payable par le tresorier de la Municipalité et vous voudrez bien observer que par sa forme, le reçu que vous en donnerez devra être revetu de deux signatures.
Les administrateurs des travaux publics
Champion.
Montauban.
PS. Nous avons l’honneur de vous prévenir, Messieurs, que M. le Maire s’est chargé d’engager M. M. les administrateurs de la caisse patriotique à vous procurer des facilités pour l’echange des assignats; en faisant attention cependant que la caisse obligée à un service public et n’ayant qu’un nombre delerminé de petits assignats, ne pourra fournir tout à la fois ceux que chaque section pourra demander, que par conséquent il sera convenable de partager la somme désirée en plusieurs demandes consécutives, nous avons l’honneur de vous prévenir aussi que pendant que la caisse satisfera à ces demandes du moment, elle ne pourra fournir aux échanges qu’elle avoit accutumé de faire aux sections.
XXXVI
Е. VI. № 110 — Quatorzième.
Archives P-les.
D. VI. 11, pièce № 17.
Mémoire
Paris
Les registres concernant les travaux des carrières retirés des Buréaux de la police déposés au comité de liquidation et au comité des Finances, constatent que le S. Cœffier en a imposé au gouvernement pendant plus le douze ans, sur les prix qu’il a payé aux ouvriers employés dans les carrières; et qu’il en a imposé de même à ces Journaliers.
D’un coté, il porte en compte au gouvernement les journées des ouvriers sur le pied de deux livres quinze sols pour les carriers, trente six sols pour les limousins et trente deux sols pour les terrassiers; ces prix lui ont été alloués; et il a été payé sur ce taux comme depences effectives, et même comme avances, en sus des quelles on lui accordoit 10 p. % pour son Benefice.
D’un autre côté, il a dit aux ouvriers: Je ne reçois que trente sols pour les carriers, vingt quatre sols pour les Limousins et vingt sols pour les terrassiers.
A cette double imposture, il en a joint une troisième: il a prétendû et prétend encore qu’il est convenû de gré-à gré avec les ouvriers de les payer à ce dernier taux; et qu’ils y ont consenty, puisqu’ils ont recûleur payement sur ce dernier prix.
La première imposture du S. Coeffier ne permet pas d’admettre les deux autres. Une fois convaencû de mensonge sur un fait, il ne doit pas être crû sur les autres y relatif; et c’est la déclaration des ouvriers qui doit être écoutée.
Or jamais les ouvriers n’ont fait d’autre convention que celle de recevoir le prix payé par le gouvermenl: et s’ils ont recû le payement au dernier taux, c’est par ce que [6] le sieur Coeffier leur a toujours assuré et même fait serment, qu’il ne recevoit que le prix qu’il leur payoit.
Plusieurs ouvriers, qui ont voulû éclaircir le fait, ont été renvoyés des travaux; quelques-uns même ont été punis suivant la vigueur des démarchés qu’ils ont faites pour découvrir la vérité. Entre autres un S-r Boiyere a été mis en prison, où il est resté au secret et au cachot, pendant trois mois [7].
C’est ainsi qu’on les intimidoit, et que les années se sont ecoulées, sans qu’ils ayent osé faire une réclamation générale. Quelques-uns ont formé ces demandes particulières; et les jugemens intervenus [8] ont constaté que le S. Cœffier ne payoit pas le prix qu’il recevoit du Gouvernement: mais il étoit crû alors sur ses fausses assertions, parce qu’on ne pouvoit prouver son infidélité, favorisée par le Despotisme des administrateurs dont les manœuvres étoient alors impénétrables.
Mais aujourd’hui que ces mistères d’iniquité sont dévoilés, que l’imposture ne trouve plus de protecteurs et que les Registres sont déposés au comité de Liquidation et au comité de Finances; comme ces registres contiennent la preuve de son infidélité; et qu’il est essentiel pour les ouvriers de se rendre posesseurs de cette preuve, et plus essentiel encore que ni cette preuve, ni la fortune du S. Cœffier ne leur échape, soit en détruisant ses registres, comme il dit avoir détruit ses anciens, soit on dénaturant ses biens comme beaucoup d’émigrans et en s’évadant comme MM. le Noir et Dangivilliers administrateurs des carrières, ainsi que peuvent le faire les trois inspecteurs de ces travaux, s’ils sont aussi coupables.
A Ces Causes les ouvriers supplient Messieurs de l’assemblée Nationale et particulièrement, Messieurs du Comité de Liquidation et du comité des Finances.
1°. De prendre les mesures nécessaires pour que le S. Cœffier, ou du moins sa fortune ne soit soustraite à la restitution qu’il doit aux ouvriers des carrières.
2°. D’agréer leur apposition, à ce que d’une part les Registres ne soient remis, sans en avoir donné communication et des extraits; et d’autre part a ce que le ministre n’ordonne le payement des sommes qui pouront être dües au S. Cœffier, si ce n’est après le payement des ouvriers.
3°. Ordonne qu’avant que lesc. Registres [9] soient remis au S. Cœffier ou a tout autre il en sera donné communication et des extraits autentiques aux fondés de pouvoir des ouvriers.
C’est le seul moyen de leur conserver la preuve qui leur est acquise; sans cela, on la feroit disparoitre avec ces Registres.
4°. Ordonner, que les sommes qui peuvent être dues au S. Cœffier pour les ouvrages des carrières ne lui seront remises qu’a la déduction de ce qui revient aux ouvriers qu’il n’a pas entièrement payé et que le ministre chargé de faire ce payement ne délivrera son ordonnance qu’a cette condition; précaution sans laquelle le Ministre ne croiroit peut être, pas devoir acceuillir l’opposition des ouvriers.
Leur Reconnoissance Egalera leur profond Respect et leur profonde soumission.
Paris 12 juillet 1791.
Decourchant, fondé de procuration passé devant notaire
Cul de Sac de la Corderie, vis-a-vis la rue de la Sourdière.
Taillieur, Fondé de procuration passé de vant notaire Ruelle des Capucins faubourg S-t Jacqus au dépôt des plans des carrières.
XXXVII
Архив префектуры полиции.
(Procès verbaux des commissaires), Section Butte des Moulins.
На полях: № 821. Raport Toulin.
L’an mil sept cent quatre vingt onze le seize juillet onze heures du soir c’est présenté par devant nous commissaire de la section du Palais-Royal soussigné le S-r Jean Louis Malafosse, Caporal de la compagnie des Grenadiers du B-on de S-t Roch lequel nous a déclaré que plusieurs particuliers, ayant entendu plusieurs propos plus incendiaires les uns que les autres tenus par un particulier à un groupe très considérable d’ouvriers qui étaient rassemblés au Palais-Royal se sont adressés à une patrouille qui s’etoit porté au Palais-Royal pour maintenir l’ordre et l’ont requis d’arreter les particuliers, ce aquoi ayant obtempéré elle a amené led. particulier au corps de garde d’ou il a été amené au comité accompagné de tous les particuliers qui ont entendu les propos pour être statué à qui il appartiendra et a signé avec nous:
Malafosse.
Commis. Longchamps.
Et de suitte est comparu un desd. particuliers auquel avons demandé ses noms, surnoms, demeure et qualité, nous a répondu qu’il se nomme Jean Thomas Elisabeth Richer de Serizy, citoyen de Paris y demeurant rue des Petits Augustins n° 18, qu’étant de se promener au Palais-Royal s’est approché d’un grouppe où il régnait beaucoup de rumeur par les motions incendiaires que faisait un particulier lequel disait entre autres choses que le Decret de l’Assemblée Nationale qui déclarait que le Roy rie pouvait être mis en cause était dangereux, que Louis Seize étant un imbecille ou un scélérat il falat le destituer ou luy faire son procès et ne point aller contre le vœu du peuple et qui le rejettait du throne, qu’il a ajouté que les sept comités réunis étaient vendus à nos ennemis et aux puissances étrangères et qu’ils desiraient la guerre civile pour nous livrer entre leurs mains; que le déposant indigné de ces propos et autres qui déjà semaient le trouble dans led. Grouppe s’est joint à trois autres personnes pour le faire arreter, lecture faite de la déclaration cy-dessus le S-r Richer de Serizy y a persisté et en a soutenu la vérité et a signé avec nous.
Richer de Serizy.
Commis. Longchamp.
Et de suitte sont comparu lesd. trois particuliers, l’un desquels nous a dit s’appeler Louis Charles Gurcy-Macquard homme de lettres demeurant rue de Richelieu vis-a-vis le passage du caffé de Foy, l’autre Nicolas-Joseph Baron, doreur, demeurant quay des Ormes № 59 et le troisième Joseph Mcnuelle, épicier, place Maubert près le corps-de garde tous lesquels trois ont collectivement déclaré qu’ayant entendu la lecture de la déclaration faite par M. Richer de Serizy ils la confirment en tout son contenu ayant entendu bien distinctement les propos tenus par le particulier qu’ils ont fait arretter par une patrouille et ont signé.
Macquard Baron. Menuel.
Commis. Longchamp.
Et de suitte avons fait comparoitre par devant nous commissaire susd. et soussigné le particulier arretté auquel avons demande ses noms, surnoms, demeure, âge, qualité et pays de naissance, nous a répondu qu’il s’appelle Pierre Toulin; maitre des Mathématiques, qu’il est natif de Chateauroux dep. d’Indre, — demeurant petit-Hôlel de Luxembourg aux Champs Elisées chez le S-r. Gautherau commis de la section des Champs Elisées. A lui demandé s’il a quelques écoliers auxquels il enseigne actuellement les Mathématiques, a repondu qu’il n’en avait aucun, a lui demandé quelles sont les ressources qui le font vivre, a répondu qu’il a quelques parents a Paris chez lesquels il vit, a lui demandé pourquoy il s’est permis de tenir au Palais-Royal des propos propres a mettre la discorde parmi les citoyens, nous a repondu qu’il avait son opinion et qu’il était possible qu’il luy fut echapé des expressions hazardées; a luy demandé à quelle intention il pérorait le public, nous a repondu qu’il n’avait point d’ontention lecture faite des interrogatoires et réponses cy-dessus le S-r Toulin a déclaré qu’ils contiennent vérité qu’il y persiste et a signé dit interpellé.
Pierre Toulin.
Commis. Longchamp.
Nous commissaire sus dit et soussigné vu les déclarations et interrogatoire et réponses cy-dessus, avons arrêté que le susdit S-r Toulin sera mené par devant le tribunal de police scav. a la Mairie pour être par Mess, les Administrateurs statué ce qu’ils aviseront bon être; fait au comité à Paris lesdits jour et an que dessus a minuit moins un quart.
Louis Longchamp.
Vu le procés-verbal cy-dessus, et de l’autre part le Département de police ordonne que ledit Toulin sera sur le champ conduit à l’Hôtel de la Force pour y être detenu jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Fait à l’Hôtel de la Mairie ce dix sept Juillet mil sept cent quatre vingt onze.
Perron, adm-r.
К этому листу приклеена бумага:
Le dix-sept juillet 1791 a été amené ès prisons de l’Hôtel de la Force par le S-r Doucey Caporal de la garde de Paris (слова de Paris зачеркнуты — Е. T.) nationale de la section du Palais-Royal le nomé Pierre Toulain de 1 ordonnance de M. le Commissaire De la dite Section pour fait de police.
Landragin.
XXXVIII
Архив префектуры полиции.
№ 846, Section Butte des Moulins, 19 jullet 1771.
L’an mil sept cent quatre vingt onze le dix-neuf juillet six heures et demie de relevée s’est présenté devant nous commissaire de la section du Palais Royal, ville de Paris, de service au comité pour l’absence et légitime empechement du commissaire de Police retenu chez lui pour cause de maladie, le sieur Gilbert Martin Sergent Volontaire de la troisième compagnie du Bataillon de S-t Roch lequel nous a dit qu’il a été amené, au poste du Palais-Royal où il est de Service un quidam prevenu d’avoir tenu dans le jardin du Palais-Royal des propos insultants contre la garde nationale; pourquoi lui sieur Martin a été chargé à la tête d’un detachement de conduire ledit quidam par devant nous. Lecture faite audit sieur Martin de sa déclaration il a signé avec nous.
Martin Helieur.
Et de suitte est comparu par devant nous commissaire susdit et soussigné sieur Louis-Jeseph Escourette, soldat volontaire de la seconde compagnie du Bataillon de la Trinité lequel nous a dit et déclaré qu’etant sur les cinq heures et demie environ de relevée de ce jour dans le jardin du Palais-Royal, il s’est approché de quelques groupes où l’on faisait des motions que dans un entre autres il a remarqué un quidam qui lui a porté la parole sur une motion assez sensée en lui disant: la garde nationale si elle ne se comporte pas autrement nous sommes dix mille ouvriers, nous nous fournerons du côté des aristocrates et alors les habits bleus auront beau jeu, qu’aussitôt lui sieur Escourete en habit bourgeois a pris ce quidam au collet et à l’aide du sieur Giraud son camarade et de plusieurs citoyens irrités d’entendre ce quidam tenir un tel propos, l’ont conduit au poste du Palais-Royal et l’ont même sauvé de la fureur du peuple qui voulait le maltraiter. Pourquoi led. sieur Escourete vient nous déposer de ce fait déclaration qu’il affirme sincère et qu’il a signée avec nous commissaire susdit après lecture a lui faite.
Escourette Helieur.
Et desuitte est comparu par devant nous, commissaire susdit et soussigné lédit sieur Girand surnommé lequel nous a dit s’appeller Claude-Jean Girand, soldat citoyen de la seconde compagnie dudit Bataillon de la Trinité, lequel nous a dit et déclaré que dans un grouppe ce soir au Palais Royal un quidam à lui inconnu lui a dit ainsi qu’au sieur Escourette son ami, que si la garde nationale ne se comportait pas autrement, il y avait dix mil ouvriers qui se tourneraient du parti des aristocrates et qu’alors des habits bleus verraient beau jeu, que les citoyens ont crié qu’il fallait arrêter ce quidam et que lui déclarant et son camarade l’ont saisi pour empocher qu’on ne le maltraitât et l’ont conduit au poste du Palais-Royal, d’où il a été amené par devant nous où ledit déclarant est venu faire sa déclaration qu’il affirme être veritable et a signé avec nous commissaire susdit après lecture à lui faite.
Claude Girand.
Helieur.
Et desuitte avons fait comparaître par devant nous commissaire susdit et soussigné le dit quidam auquel nous avons demandé ses noms, surnoms, âge, pays de naissance, qualité et demeure, lequel a repondu de se nommer Thomas Tancré, natif d’Angers, paroisse S. Maurice, âgé de trente six ans, tabletier, logeant rue Quincampoix chez M. Robillard vis-à-vis l’hôtel de la couronne; a lui demandé s’il est marié, a repondu que non; a lui demandé si les meubles de la chambre où il couche sont à lui où à M. Robillard a repondu qu’ils sont à M. Robillard; a lui demandé s’il a journellement de l’ouvrage de sa profession, a repondu que oui; a lui demandé, pourquoi ayant de l’ouvrage il est allé au Palais-Royal — a repondu qu’il venait de la rue de Rohan et qu’il est passé par le Palais-Royal pour aller boire une bouteille de vin a la Court. ille; a lui demandé pourquoi il a dit que si la garde nationale ne se comportait pas autrement ils étaient dix mille ouvriers qui se tourneraient du côté des aristocrates et que les habits bleus verraient beau jeu, a repondu que s’il l’a dit qu’il on demande pardon à la garde nationale, qu’il est au aesespoir de l’avoir dit et que si tel propos lui est échappé c’est l’effet du vin qu’il avait bu, qu’il aime sa patrie, est français dans l’âme et qu’il deffendroit la constitution au péril de sa vie. Lecture a lui faite de ses réponses à notre interrogatoire il a affirmé qu’elles contiennent vérité et signé avec nous, commissaire susdit.
Thomas Tanquerey.
Helieur.
Nous commissaire susdit et soussigné, vû le raport de la garde, les dépositions ci-devant faites, ensemble les réponses dudit Tanquerey à notre interrogatoire, nous avons arrêté qu’attendu le vin dont sa tête est encore échauffée et craignant qu’il ne retourne au cabaret et ensuite faire des motions, il sera déposé pour forme de correction à la salle de discipline du poste du Palais-Royal jusqu’ à dix-heures du soir et qu’il sera ensuite remis en liberté. Et du consentement dudit Tanquerey qui desire y passer la nuit par économie, nous avons obtempéré à son désir. Fait au comité ce 19 Juillet 1791.
Helieur.
XXXIX
Нац. арх.
D. XXIX-b 34, № 152.
Грязная, синяя бумажка; на одной стороне:
ce papier a été trouver Dans la guerite de la Caise Descompte, Rue Vivienne, par Winal, Du 17 au 18 août 1791 N-é Winal est fusilier dans la compagnie du centre du bataillon des filles S-t Thomas. Il y a eu plusieurs papiers de cette espèce répandus dans la capitale, il a été trouvé dans la cour des petits-pères.
На другой стороне (другим почерком, совершенно безграмотно):
Comarade si vous persistet plus longtems a apprimer vos frerès non armée vous et vos coqchantant serez bientôt rasés je vous dirai que nous sommes ou nombre de 50 mille qui avons juré la ruine totale de la Capital.
XL
Нац. арх.
D. XXIX-b 34, № 353.
На полях: arrestation de S. de Coitenfou à Caen.
Paris le 1 Août 1791. (M. M. du comité des recherches).
Messieurs.
J’ai l’honneur de vous faire passer une lettre que je reçois à l’instant et par laquelle les officiers municipaux de Caen, donnent avis de l’arrestation du S. Stanislas Auguste Coitenfou de S-te Hypolite prevenu d’avoir tenu des propos propres à soulever les ouvriers. J’ai repondu a ces officiers municipaux que je vous adressois leur lettre et que je vous priois de vouloir bien leur faire parvenir directement votre reponse. J’ai fait verifier sur les registres du Département de la Police depuis le 28 juin dernier, s’il avait été délivré un passeport pour ce particulier, il n’y a point de traces qu’il en ait été expedié sous les noms que cette municipalité indique.
Le Maire de Paris
Bailly
XLI
Нац. арх.
F13 1138, № 6.
Copie de la lettre écrite à M. de Cernon le 7 Août 1791 (без подписи).
Je prends la liberte de rappeler à M. de Cernon combien il est urgent qu’il fasse son rapport à l’A. N. sur l’edifice consacré aux grands hommes et qu’il nous obtienne un decret de 50 mille livre par mois. Nous sommes sans un sol, le Ministre a refusé avec raison de nous faire de nouvelles avances. Nous avons commencé une quinzaine sans avoir de fonds et si cette semaine s’écouloit sant que nous ayons notre somme decreltée, je ne say comment le Directoire s’en tireroit, il y auroit beaucoup à craindre du soulèvement de 500 ouvriers.
XLII
Архив префектуры полиции.
Section des Quinze-Vingts. Comité civil et de Police. 30 Août 1791.
Déclaration contre les S’r Lelièvre et autres.
L’an Mil sept quatre vingt onze le Mardy, trente août neuf heures du Matin sont comparu devant nous Claude Barthélémy Jurié commissaire de Police de la section des quinze vingts assisté de S-r Etienne Renet, secrétaire greffier de la dite section, S-r François Laurent ouvrier demeurant rue de Bretagne Marais № 6, Sebastien Toubéaux, demeurant rue de Montreuil № 51 et Michel Culot demeurant rue S-t Foix, porte S-t Denis, maison de M. Désvoigne, fruitier et pompier, tous trois ouvriers à la Manufacture des Glaces, lesquels nous ont déclaré que la totalité des ouvriers de la Manufacture (les glaces, ayant formé et établi une boulangerie sur dite rue de Reuilly, ils ont institué pour surveiller cette opperation un chef général sous le titre d’inspecteur, nommé Lelière qui a sous ses ordres six commissaires pour l’aider dans ladite régie dons les noms sont M. M. Petit Jean, René Paindebond, Godeau, Paul et Jean Pierre — tous six ouvriers de la dite manufacture.
Les déclarants regardant la conduite de tous les surveillants que l’on vient de nommer comme irréprochable jusqu’à ce jour néanmoins la femme du nommé Pucelle ouvrière à la même Manufacture demeurante sur dite rue de Reuilly à coté de la dite boullange leur a déclaré le jour d’hier neuf heures du matin elle a vu de sa croisée donnante sur la rue sortir de la dite boullangerie une voiture sous deux roues, attelée a trois chevaux et chargée de nombre de sacs de farine et que la dite voiture conduite par un chartier à elle inconnu étoit accompagné de M. Lelièvre chef de la dite boullange, vetu de brun et portant un registre sous son bras que la dite voiture, son conducteur et le S-r Lelievre sont montés vers le haut de la dite rue de Reuilly — Volant, les dits déclarants être certain de la probité et fidélité de leur commettant au dit établissement de boulangerie demande que la dite femme Pucelle soit tenue de faire preuve devant le juge de sa surdite dénonciation envers ledit S-r LeLievre ét ont signé lesdits déclarants avec nous.
Laurant. Tobeaux.
Sulot.
René Jurié.
Ce jourd’hui trente un août mil sept cent quatre vingt onze ont comparus devant nous, juge de paix de la section du quinze-vingts fbg.
S. Antoine à Paris assiste de nos assesseurs de M. Alexandre Jean, Pierre Gillet, Ducoudray, notre greffier, les S-r Laurent, Toubeaux et Culot d’une part en l’acte de la déclaration cy dessus.
Et lad. Pucelle d’autre part, dénommés qualifiés et domiciliées en l’acte de la déclaration cy dessus.
Lesquels sous toutes reserves de droit et réciproque nous ont requis de leur donner acte de leur comparation respective que nous leur avons octroyé pour leur servir et valoir en tems et lieu ce que de raison, fait en la salle du comité de la Section de Quinze Vingts le jour mois et an que dessus et ou nous tenons nos audiences.
XLIII
Нац. арх.
F13 1138.
Письмо к Poncet
Paris le 18 sept. 1791.
J’ai appris, Monsieur, qui jusqu’à ce jour on a payé aux ouvriers qui travaillent au Panthéon français les journées qu’ils employent à monter leurs gardes. L’intention de la loi est que le service de la garde Nationale soit gratuit: cependant il cesserait de l’être si les deniers publics qui doivent servir à la confection d’un monument public se trouvoient détournés de leur objet principal, quelque louable et utile que soit celui dont il est question. Je vous charge donc, Monsieur, de prévenir les ouvriers que dorénavant l’administration ne tiendra plus compte des journées employées au service de la garde nationale sans cependant qu’il puisse être mis aucun obstacle au patriotisme de ceux auxquels leurs facultés permettront de faire à la chose publique le sacrifice de leur temps.
Commissionaire du Directoire
pour l’administration du Panthéon français
Quatremere Quincy.
XLIV
Нац. арх.
Бывшая серия F9 (en cours de classement, бывш. F9), № 276.
Copie de la 3-me pétition presentee a la barre de l’assemblée de la convention Nationale le 7 octobre 1792, premier de la republique françoise.
Les entrepreneurs menuisiers de la ville de Paris au nombre de 270 qui ont tous fourni aux champs de la fédération generalle des françois le 14 juillet 1790 et nous n’avons pas été payé… nous nous sommes présenté á l’assemblée Legislative le 26 fevrier dernier pour la prier d’ordoné notre payement l’on nous a renvoyé au comité de liquidations qui nous a fait faire un nombre prodigieux de demarches inutiles.
Le 27 May nous nous sommes encore representé à la barre. L’assemblée á ordonné que le raport de notre pétition se feroit au plus tard dans trois jours, nous avons encore sollicité les membres du comité de l’extraordinaire des finances ou nous étions renvoyé et toujours même delai.
XLV
Нац. apx.
№ 276.
Cote F9 (sous-serie en cours classement section Moderne).
A Monsieur Roland ministre de l’interieur de la republique françoise.
Monsieur,
Les entrepreneurs menuisiers de la ville de Paris au nombre de 270 qui ont fourni: auchamps de Mars pour la fédération généralle du quatorze juillet 1790 se sont presanté deux fois à la barre de l’assemblée législative pour reclamer leurs payements, elle les a rénvoye à ses comités où ils ont sollicité très longtemps sans savoir qu’il falloit que leurs pièces fussent, présanté au département de Paris et par suite au ministre de l’intérieur. A la fin nous sommes encore representé pour la 3-eme fois à la barre le dimanche 7 du present L’assemblée Convantionnelle a eu la bonté de nous accueillir et de decretter que le raport de notre pétition lui seroit fait sous 24 heures; nous nous sommes empressés de faire vizer nos pièces par le département qui vous les a renvoyé le 17 du présant, nous avons pris la liberté d’aller souvent dans les bureaux de M-r Champagneux qui a nos dittes pieces entre les mains et qui nous a fait promettre qu’elle feroit incessamant renvoyé au président de le convention Nationalle. Mais comme il vaut mieux s’adresser à la source qu’aux ruisseaux nous vous conjurons de vouloir bien donner vos ordres pour que nous n’éprouvions pas un plus long retard. Si nous avons resté si longtemps dans le silance c’est que la patri l’avoit besoin de nos efforts, mais à force de sacrifice nous sommes totalemant épuisé, ce qui nous force malgré nous d’être importun.
Lanoa, menuisier, rue De l’arbre sec № 248, l’un des commissaires, nommé par ses confrères, ce 24 octobre 1792, p-re de la république française. J’ai l’honneur de joindre à la presante, copie de la derniere pétition que nous avons présenté à la convention nationalle.
XLVI
Нац. арх.
D. VI-6. (1791)
Très humble et très respectueuse pétition des marchands Bouchers
du faubourg Saint-Germain de la ville de Paris; adressée à Messieurs du comité des finances de l’Assembée Nationale.
Messieurs,
Les Marchands Bouchers du faubourg Saint-Germain pour faciliter les malheureux ouv[r]iers et artisans dans ce tems de pénurie du numéraire, se sont détermines de prendre en payement de la viande qu’ils leur fournissent les coupons d’intérêts d’assignats de trois livres, quatre livres dix sols, que ces mêmes ouvriers reçoivent en payement de leur salaire. Ils s’etoient persuadés. Messieurs, que les administrateurs de la caisse de Poissy ne leur feraient pas difficulté de recevoir ces coupons en payement des droits qu’ils perçoivent pour le compte de la Nation. Effectivement il y a environ quinze jours que les commis à la caisse de Poissy en venant faire leur recette chez les exposants prirent en payement lesdits coupons; mais la semaine dernière ils les refusèrent absolument et leur notifièrent que s’ils ne donnoient pas des espèces, leur viande n’entreroit pas dans Paris; que tels étoient les ordres que les administrateurs de ladite caisse les avoient chargé de leur notifier.
Les suppliants pleins de confiance dans la sagesse et la justice de l’auguste assemblée nationale, ont continué le recevoir ces coupons; ils prennent la respectueuse liberté de lui adresser leur pétition et ils espèrent qu’elle donnera des ordres aux administrateurs de ladite caisse pour qu’ils reçoivent en payement les coupons d’assignats cy-dessus énoncés; aussi aux barrières pour l’entrée du pied fourché; et ils continueront leurs vœux au ciel pour la prospérité des membres de l’auguste assemblée.
(18 подписей)
XLVII
Нац. арх.
D. XXIX-b 33, пачка 347. Е. XXIX. Recherches.
(Совершенно безграмотная рукописная афиша).
Avis a tous les françois.
Les ouvriers de Differand état Tousse réunis ansemble voiet avecque Douleur qua prais le lons Silance quille son obblijés de sedeclarer leur intantions se voians bercer par de belle promesse d’une soidisant municipalité qui ne se plait qu’a les samussé sepandans le jour tant réculé va donc arriver. Le Roy se déclaré ans dressant cest veut à d’Artois et Condé qu’ils viennent à son secour pour le délivré lui et sa famille de lesclavaga dantre les main des tirants nous nous somme trouvé arivée est ceux quil ne le sons pas nous sorond antrouvé neus avons juré detre fidelles à la nation a loi est aux roy mais puis que les tirans ne veuillént plus de roy qui n’a jamais voulus que le bonheur de son peuple nous retirons notre serment est nous avons juré de repandre jusse qu’a la dernière goutte de notre sang pour la couronne.
Vu est aprouvé par nous.
président Linviciqle.
Lenfer. Lediable.
Le sanpeur. Le terible.
La bouche de fer,
Fait aux comite secrétaire ce 7 juillet tous comisaire.
Петиция, поданная Людовику XVI (без даты).
Нац. арх.
С 184 (113–118). 8 Liasse. Quatrevingt deux pièces détaillées au chapitre premier de l’inventaire des Papiers trouvés dans l’Armoire de fer au château des Tuileries; lequel inventaire ainsi renseigné: Req. a. 2. r. 17, № 107–249-bis (кроме этого номера еще три копии: №. 250, 251, 252).
Adresse des ouvriers de la ville de Paris présentée au Roi.
Сверху на папке: Pièces relatives à la contre-révolution. Roland. Carra).
Nous avons soufferts sans murmurer tous les fléaux qu’entrainent après eux les grands changements; notre patience a égalé nos espérances, parce qu’on nous parloit de bonheur de liberté et d’égalité; l’abolition des droits sur tous les objets de noire consommation nous prometoit des jouissances d’autant plus agréables que c’étoit le seul impôt dont notre industrie fut grevée. Mais que cette illusion a peu duré! Il étoit au dessus de notre intelligence de calculer qu’en détruisant tous ces impôts il falloit les repartir sur la classe des propriétaires, dont les richesses, le luxe et les prodigalités entretenoient noire existence.
Nous prenons la liberté d’exposer à Votre Majesté dont nous connaissons la bonté et la sensibilité, le tableau de noire affreuse position; la disparution tatale du numéraire, le renchérissement toujours croissant des denrées de première nécessité, la diminution des fortunes particulières sans accroitre celle de l’Etat, la proscription du luxe, l’absence des grands dont la jouissance et les caprices alimentaient le commerce et les arts dont nous ébauchons les chefs d’œuvre, la rupture de toutes nos relations avec les étrangers et la perte de nos colonies, nous réduiront bientôt a l’inaction et à la plus affreuse indigence.
Et ce le fruit de tant de sacrifices, l’exécution de si belles promesses? qu’ont fait les représentans du peuple, pour sa félicité? quels sont ceux dont le sort est amélioré? la liberté, l’égalité sont des chimères qui ont rompu tous les liens de la société confondu tous les pouvoirs, détruit l’ordre, semé la division, appelle l’anarchie et produit tous les maux dont nous, nos femmes et nos enfans serons les premières victimes.
Il nous reste des cœurs sensibles — nous les offrons à Votre Majesté comme au meilleur et au plus tendre des Pères, nous avons des bras, ils sont à vos ordres comme chèf suprême de l’Empire; nous vous supplions d’emploier toutes les forces dont la nation vous a rendu dépositaire, pour remédier aux abus, pour rétablir l’Equilibre entre le prix des denrées et le salaire de nos journées et surtout pour dissiper et punir ces factieux qui sous le titre d’amis de la constitution en sont les plus cruels ennemis, qui commandent au nom du bien Public les forfaits et les crimes et qui appellent sur nos têtes au nom de la paix et de l’ordre une guerre qui no peut être que malheureuse jusques dans ses succès.
Daignez, Sire, prendre en considération l’adresse de vos fideles sujets les ouvriers de la ville de Paris et agréer l’hommage des sentiments d’amour et de respect dont jusqu’au dernier soupir ils seront pénétrés pour votre personne sacrée et votre auguste famille.
(Подписи).
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НЕИЗДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА, АРХИВА ГОРОДА МАРСЕЛЯ, АРХИВА ДЕПАРТАМЕНТА УСТЬЕВ РОНЫ, АРХИВА ДЕПАРТАМЕНТА РОНЫ И АРХИВА ДЕПАРТАМЕНТА ЛУАРЭ
Документы печатаются здесь с соблюдением орфографии подлинников и всех особенностей (с прописными буквами, с сокращениями, без знаков препинания, без accents, там, где их нет в подлинном тексте).
I
Нац. арх.
F12 1358.
1790.
На полях: à repondre que le reculement des barrières formera un nouvel ordre de choses.
A Messieurs
Messieurs les Députés de l’assemblée nationale à Versailles.
Supplient très humblement les habitants de la communauté de Pûr soussignés, terre de Montmédy. Disent que les suppliants s’occupent à travailler pour la manufacture en drap de Sedan pour filer la laine, que ladit-te ville est aux frontières de l’étranger, que ces fabriquants de drap faisant filer tout au moins les trois quarts de leurs laines par ces étrangers qu’ils déboursent même plus de douze à quinze mille livres, par semaine, ce qui fait un tort très considérable, tant par l’écoulement de l’argent hors du Royaume que pour les ouvriers du pays français. S’il leur était défendu de ne faire travailler leurs laines ailleurs qu’en France, cela ferait un grand avantage surtout pour les terres de Garignan, Montmédy, Mouzon qui s’occupent au travail de cette manufacture, des pauvres laboureurs même ruinés par les mauvaises campagnes n’ont presque rien moissonné sont obligés de s’occuper à filer, de même les pauvres vignerons aussi ruinés par les grêles de cette année pourraient s’y occuper pour gagner leur vie de même, c’est ce qui engage les suppliants de recourir à vos grandeurs.
Ce considéré Messieurs vû l’exposé en la présente requête il vous plaise faire défenses aux fabriquants de la ville de Sedan de faire travailler à l’avenir leurs laines hors du royaume, sous telles peines qu’ils vous plaira bon être, on verrait tous les jours fleurir les habitants de cette contrée. Les suppliants espèrent de vos autorité, et offriront leurs vœux au ciel pour la conservation de vos précieux jours.
II
Архив города Марселя (картон «Corporations»).
Marseille le 20 mars 1792.
A Messieurs le maire et officiers municipaux.
Messieurs,
Les ouvriers tonneliers se trouvent dans une position bien faite pour intéresser votre justice et votre humanité. Ceux d’entre eux qui ne sont pas marseillais viennent d’être forcement congédiés de leurs ateliers ensuite d’une invitation officielle faite de votre part, messieurs, aux chefs des ateliers de donner la préférence aux ouvriers de cette profession qui sont nés à Marseille. Ces derniers ont sollicité et surpris cette réquisition, et ceux d’entre vous, messieurs, qui l’ont signée, n’ayant que les intentions les plus pures, étoient loin de prévoir les suites fâcheuses qu’un pareil ordre de choses pouvait entrainer. Dèsque les marseillais ont été certains que la note officielle avait été présentée aux ci-devant maîtres-tonneliers, ils se sont chargés de la faire exécuter avec une rigueur et un appareil bien faits pour intimider les maîtres et les ouvriers.
Ils ont été de fabrique en fabrique expulser ceux qu’ils appellent les étrangers et qui se piquent pourtant d’être aussi bons français qu’eux, faire cesser le travail et annoncer aux maîtres qu’ils feraient le lendemain une autre tournée pour voir si les ouvriers français n’étaient pas employés.
Les maîtres ont cédé à regret; mais autant par déference pour vous, messieurs, que par crainte de se compromettre à une semonce faite de telle manière qu’elle ne laisse pas la faculté de delibrer. Ils ont été obligés de congédier des ouvriers paisibles et honnêtes, dont ils étaient satisfaits; et ceux-ci se trouvent comme on dit vulgairement sur le pavé, sans moyens pour vivre et encore plus pour retourner dans leur pays. Ils se sont présentés à vous, messieurs, et ils ont eu l’honneur de vous faire à ce sujet leurs respectueuses observations. Vous en avez senti la justice, et en les exhortant à la paix vous avez bien voulu leur faire esperer que les maîtres tonneliers seraient avisés que l’invitation qui leur a été faite, n’était pas un ordre rigoureux, qu’ils pouvaient en temperer l’exécution, et donner cette préférence, sans exclusion des autres ouvriers français qu’il n’était pas juste de reduire, à la misère et au desespoir. Mais la publicité donnée à votre recommandation et l’effet qu’elle avait déjà produit depuis le 19 de ce mois rendent inefficace le moyen que vous avez bien voulu employer. Les ouvriers de Marseille et les chefs d’atteliers persistent les uns dans leur systeme exclusif, les autres dans une resolution prise à regret mais qui s’allie avec leur circonspection. Le mal est au comble, messieurs, si vous de daignez venir au secours d’une classe d’hommes nombreuse, utile et infortunée qui n’a pas moins de droit que les autres à la protection de la loi, et des magistrats du peuple. Il n’appartient pas aux exposants de vous indiquer les moyens de reparer la surprise: mais s’ils osent hazarder leur idée, iis diront qu’il n’y a qu’une proclamation sage et paternelle, telle que tout ce qui emane de votre vigilante sollicitude, qui rappellent les ouvriers marseillais à l’ordre rassure les maîtres et les exposants, ne rappellant à tous que l’union, l’égalité des droits, et une liberté legale sous les bazes de la constitution ainsi que du bonheur public. Daignez leur expliquer, messieurs, que préferer n’est pas exclure et sacrifier des citoyens qui n’ont pas démérité, que dans l’interpretation abusive et arbitraire qu’on se permet de faire de votre avis donné aux ci-devant maîtres tonneliers, on est allé si loin de votre intention, que des ouvriers citoyens actifs mariés à Marseille, établis depuis longues années ont été congédiés sans pitié, sous prétexte qu’ils n’étaient pas marseillais, et à coup sûr, messieurs, vous n’avez jamais entendu prononcer une telle proscription.
Considérez que tous les citoyens de l’empire sont libres et égaux en droits, que la loi n’admet d’autres distinctions que celles des talens et des vertus, qu’en effaçant des mots de la lanque celui de privilège, ce serait en quelque sorte le ressusciter si dans chaque ville les ouvriers qui y sont nés avaient à eux seuls le droit d’y travailler. La révolution a fait un peuple de frères de tous les français en abolissant la distinction du hazard de la naissance, la loi a voulu faire disparaître non seulement les titres que des hommes vains croyoient tenir de leurs ayeuls mais encore les prérogatives locales, les préférences citadines, qui n’étaient pas moins inconséquentes que les privilèges, et qui dans le fait ne sont pas autre chose. Considérez encore, messieurs, que dans une ville de commerce qui appelle à soi les bras et l’industrie, rien ne serait plus impolitique et préjudiciel que celle espèce de monopole personnel, qu’il faut que les ouvriers y refluent de toute part sans quoi les domiciliés deviendraient les despotes des manufactures et des atteliers, et qu’ils pourraient mettre à leur travail le prix le plus excessif ou les conditions les plus dures. Ce droit fait aux ouvriers tonneliers marseillais, allarme toutes les classes des ouvriers des autres départements qui sont en si grand nombre à Marseille. Ils craignent avec raison les mêmes prétentions de la part des compagnons de leurs travaux et les esprits sont à ce sujet dans un état d’inquiétude qu’il est de votre sagesse d’appaiser.
Les exposants obéiront à tout ce que vous leur prescrirez, mais les uns doivent aux chefs d’atteliers, les autres à divers fournisseurs, faut il bien qu’ils puissent trouver dans leur travail le moyen de s’acquitter.
Obligés de se rendre chez eux, comment pourraient-ils le faire sans moyens, ni ressource. La situation de l’homme laborieux et affamé par le besoin est dechirante, lorsqu’il se voit privé du travail qui seul le fait subsister.
Enfin, messieurs, s’il faut que les exposants s’éloignent de Marseille, daignez venir à leur secours. Ils mettent en vous, messieurs, leur confiance, et leur sort ils attendent vos ordres et ils espèrent de votre justice que jamais vos resolutions ne pourront contredire les droits de l’homme et la vœu de la loi.
(Подписи).
III
Архив города Марселя, регистр «Conseil municipal».
«№ 3, 23 février 1792 — 8 février 1793.
Протокол заседания 22 марта 1792 г., стр. 33.
Il a été fait lecture au conseil d’une pétition présentée à la Municipalité par les ouvriers tonneliers, originaires français, qui travaillent en cette ville et qui n’y sont pas nés. Ils se plaignent d’avoir été congédiés forcement de leurs atteliers sous pretexte qu’ils sont étrangers, et que les chefs d’atteliers ont été invités officielement à donner la préférence aux ouvriers de cette profession nés à Marseille. Ces petitionaires, qui n’ont de ressource que dans leur bras et dans leur industrie, craignent d’être réduits à périr de faim, si la Municipalité ne leur tend une main secourable.
Le conseil Municipal, touché des plaintes arrachées par l’infortune à des citoyens laborieux.
Considérant que tous les citoyens de l’Empire doivent jouir de la liberté et de l’égalité de droits que la loi leur assure.
Que le droit de travailler et de faire valoir son industrie ne peut être exclusivement attribué aux ouvriers nés à Marseille, sans violer tous les principes de justice, de liberté et d’égalité solennellement reconnus et proclamés par la déclaration des droits de l’homme.
Que la révolution ayant fait de tous les français un peuple de frères, par l’abolition de toutes les distinctions, et de toutes les prérogatives, la confiance doit être le seul arbitre, et les talons personnels, le seul prix de ces distinctions.
Que si dans certaines circonstances la Municipalité a invité les chefs d’atteliers à préférer les citoyens qui font le service de la garde nationale aux Etrangers, elle a entendu parler des Etrangers du Royaume, et non des citoyens français.
Jaloux d’adoucir la pénible situation où une foule d’hommes utiles et precieux à la société se trouvent réduits par l’effet d’une distinction arbitraire et que les nouvelles lois ont fait disparaître;
Après avoir ouï M-r le Procureur de la Commune, invite les chefs d’atteliers en cette ville, de quelque profession qu’ils soient, à regarder tous les ouvriers français comme frères et citoyens, ayant les mêmes droits à leur confiance, et à n’établir d’autre distinction entre eux que celle que donnent le mérité et les talens.
Rappelle à tous les ouvriers Marseillais, quelle que soit leur profession, l’observation des loix et les principes ci-dessus énoncés, les invite à ne plus faire revivre, sous le règne de la liberté et de l’égalité, des prétentions injustes et des prérogatives inconciliables avec les principes qui forment la base de la constitution, ainsi que du bonheur public.
Enfin il exhorte les uns et les autres au nom de la Patrie dont ils sont tous enfants, et au nom des loix qui protègent tous les citoyens à l’union à la concorde et à la paix, sans les quelles il ne peut exister de veritable liberté.
Arrête que la présente sera imprimée et affichée aux lieux accoutumés, charge M-r le Procureur de la commune de veiller à son execution.
IV
29 марта 1792 г.
Архив города Марселя, картон «Corporations».
A Messieurs le Maire et officiers municipaux de Marseille
Messieurs,
Les ouvriers tonneliers de la ville de Marseille et de son territoire ont eu l’honneur de se présenter le dix neuf du courant devant les pères de la patrie à l’effect d’être maintenus dans les différents ateliers d’où ils avaient été renvoyés sous pretexte que le travail manquait et vous avez accueilli leur demande. Mais quelle a été leur surprise de voir un grand nombre d’ouvriers tonneliers étrangers travailler à leur place. Ils vous ont porté de nouveau leurs justes réclamations et vous avez eu la bonté, Messieurs de les charger d’une lettre pour les chefs d’atteliers par laquelle vous les avez invités à leur donner la préférence.
Le vingt de ce mois les ouvriers tonneliers étrangers, M-r Bergasse à leur tête vous ont présenté une pétition tendant à les faire jouir des droits des français, conformément à la loi. Leur pétition eut un accueil si favorable que la municipalité fit une délibération le vingt deux sur la liberté du travail en faveur de tous les ouvriers français.
Pénétrés du plus grans respect pour les pères de la patrie, soumis aveuglement à leurs ordres sacrés, persuadés d’avance que leur but tend toujours au bien de la chose publique et à l’avantage de ses enfants, sans vouloir aprofondir les intentions du S-r Bergasse qui s’est toujours fait un vrai plaisir de favoriser les ouvriers étrangers au detriment des marseillais qui n’ont cessé et ne cesseront jamais de defendre avec energie notre sainte constitution depuis le principe de la révolution et qui se sont montrés dignes du nom des français, osent, messieurs, reclamer de votre bonté et de votre justice une nouvelle invitation aux chefs d’atteliers; ils vous supplient d’avoir égrad à la position des citoyens, pères de famille, qui n’ont d’autre ressource que celle de leurs bras.
Nous esperons, messieurs, que vous prendrez en grande considération la pétition que nous avons l’honneur de vous présenter et pleinement persuadés que vous ne voulez que le bien de vos enfants, nous nous livrons avec enthousiasme aux moyens que vous trouverez convenables pour leur procurer une subsistance pour eux et leurs familles.
(Подписи).
V
(Май 1792 г.)
Архив города Марселя, регистр «Délibérations du Conseil municipal»,
1792.
Délibération de la Municipalité.
Relative aux Coalitions et Altroupemens des ouvriers, connus sous le nom de Garçons du Devoir.
L’an quatrième de la Liberté, le 30 Mai 1792, à onze heures avant midi, le Conseil Municipal de cette Ville de Marseille s’est assemblé dans une des Salles de la Maison Commune où il tient ses Séances ordinaires; auquel Conseil ont été présens M. M. Mourraille, Maire; Corail Nitard, Bertrand, Robert, Manent, Boyer, Boulouvard, Gaillard, P. Bernard, Baudoin, Langlade, Vernet, Pourcelli, Barthelemy-Benoit, Petre, Mossy, Audibert, Officiers Municipaux, et Séytres, Procureur de la Commune.
M. le Maire ayant ouvert la Séance, M. le Procureur de la Commune a exposé au Conseil que plusieurs Citoyens actifs, exerçant la profession de Menuisier et munis d’une Patente ont présenté à la Municipalité une Pétition revêtue de toutes les formes légales, par laquelle ils se plaignent des vexations arbitraires qu’ils éprouvent de la part d’une classe d’ouvriers dans la Menuiserie, connus sous le nom de garçons du Devoir. Ces individus méconnaissant les lois régénératices qui ont supprimé toute espèce de corporations en France, ne cessent de se considérer comme corporation; ils continuent à s’assembler en corps, tantôt dans les auberges, sous prétexte de repas, tantôt dans les Eglises, où ils font célébrer des messes sous pretexte que c’est leur ancien usage. S’est dans ces assemblées, illicites et formellement proscrites par la constitution, qu’ils ont conçu le projet d’un règlement qui impose des lois dures aux menuisiers patentés; et c’est par une suite de cette coalition criminelle, qu’ils sont parvenus à forcer quelques uns d’entr’eux de souscrire à un tarif où ils ont fixé les divers articles de menuiserie à des prix arbitraires et excessifs. On les a vus parcourir les atteliers, employant les menaces, et les violences, intimidant les citoyens paisibles, extorquer leurs signatures au bas du tarif, et faire cesser tout travail aux ouvriers qui ne voulaient pas partager leurs coupables excès. C’est par une suite de pareil attentat que les atteliers des menuisiers sont actuelement déserts. Ceux memes d’entre les ouvriers qui étaient disposés à un arragement à l’amiable, sur une augmentation proportionnée et nécessaire, ont été forcés de quitter l’ouvrage sur les menaces qui leurs ont été faites; de sorte qu’ils se trouvent ainsi privés des seules ressources qui servent à leur subsistance et à cette de leur famille. Il est du devoir de la Municipalité de réprimer des abus d’autant plus dangereux que s’ils restaient impunis ils pourraient se propager sur les autres professions, — paraliser des branches d’industrie infiniment précieuses à la société, et reduire à la misère une infinité d’individus paisibles et honnêtes. C’est sur quoi le conseil doit prendre dans sa sagesse une détermination prompte, rigoureuse, et propre à faire rentrer dans le sentier des lois, ceux qui osent s’en écarter d’une manière aussi hardie.
Le Conseil voyant avec indignation que la classe des citoyens à qui la révolution a été la plus favorable, puisqu’elle leur donne le droit de travailler à leur particulier moyennant une simple patente, est celle la meme, qui montre une opposition formelle aux nouvelles lois qu’ils s’obstinent à vouloir meconnaitre.
Considérant que la conduite des ouvriers menuisiers, connus sous la dénomination proscrite de garçons du devoir, présente un tissu de délits et de contraventions que les magistrats doivent reprimer de tout leur pouvoir.
Considérant que les bases de la liberté, et de la constitution qui nous l’assure reposent essentielement sur l’obeissance aux lois, et aux autorités constituées et que les ouvriers menuisiers, par une conduite des plus reprehensibles n’ont aucun respect pour les lois et pour leurs organes;
Considérant que la constitution ayant aboli en France toute espece de corporation, les seuls individus connus sous le nom de compagnon du devoir, ne doivent pas survivre à la destruction des privilèges;
Que le veritable devoir de tous ces citoyens français ne consiste pas à se livrer à des cérémonies ridicules et superstitieuses, mais à se conformer à la volonté générale, et à courber la tête sous le joug des lois.
Après avoir ouï de nouveau M-r le Procureur délibéré que très expresses inhibitions et defences sont faites à tous Ouvriers, de quelque Etat ou profession qu’ils soient, de s’atrouper ou assembler sous quelques pretexte que ce puisse etre, à peine de huit jours de prison et d’etre poursuivis comme perturbateurs du repos public.
Défenses sont pareillement faites à tous aubergistes, cabaretiers et autres, de recevoir chez eux, et de permettre ou souffrir que les ouvriers se réunissent dans leurs auberges en sus du nombre de dix à peine de trois cent livres d’amende, et d’etre poursuivis comme favorisant des coalitions ciriminelles.
Pareilles défenses sont faites aussi à tous curés, vicaires et autres pretres desservant les Eglises et paroisses, de célébrer dorénavant des messes à la demande d’aucuns ouvriers, et spécialement de ceux connus sous la dénomination de garçons ou compagnons du devoir.
Pareilles défenses sont faites aux ouvriers, dits rouliers de parcourir les boutiques ou ateliers pour faire des convoncations des ouvriers, et notamment de ceux soit disant garçons du devoir et les détourner de leur travail à peine de huit jours de prison et d’être poursuivis comme perturbateurs du repos public.
Défenses sont encore faites aux ouvriers, de quelque profession qu’ils soient, de se coaliser pour exiger des citoyens patentés, chez lesquels ils travaillent, des conventions generales.
VI
Нац. арх.
F9 8, pièce № 2. 3-e dossier, contenant 107. 1-er Division. 23 7-bre, № 3911, Section du Roule.
23 septembre 1792.
Extrait des registres des délibérations de l’assemblée permanente
et générale, 23 septembre 1792, l’an IV de la liberté, le 1-er
de l’égalité.
L’assemblée délibérant sur les travaux du camp, a cru devoir soumettre aux 47 sections, quelques reflexions qui semblent mériter la plus grande attention.
Tout le monde est convaincu que ces travaux exigent la plus grande célérité: or, ce n’est qu’avec de l’ordre, de l’ensemble, ce n’est qu’avec des gens actifs et laborieux, qu’on peut accélérer un ouvrage et le perfectionner; malheureusement on voit au camp sous Paris tout le contraire; on voit des ouvriers arriver, les uns à 8, 9, 10 heures; l’appel fait, s’ils restent à l’atelier, c’est pour y transporter, à grand peine, quelques brouettés de terre; les autres, d’y jouer aux cartes toute la journée; et la plupart, de le quitter à 3, 4 heures de l’après-diner.
Si l’on interroge les inspecteurs, ils vous disent aussitôt qu’ils ne sont pas en force pour se faire obéir et qu’ils ne veulent pas se faire égorger.
Tel étoit le langage des ateliers de 89, 90; serions nous assez peu clairvoyans pour ne pas éviter le danger qui nous a si longtemps menacé?
Pour parer à de si grands abus, voici ce que l’assemblée croit devoir proposer.
Plus d’ouvrage à la journée, mais à la toise; en adoptant cette mesure, l’ouvrier indigent, mais laborieux, se rendrait de bonne heure à l’atelier, le quitterait le plus tard possible; tout à sa besogne, on ne le verrait point jouer, se quereller, et on ferait en un jour ce qu’on fait à peine en huit. Le paresseux seroit forcé de se retirer, parce qu’on ne souffrirait pas qu’il restât oisif, tandis que ceux qui partageraient son travail, seraient continuellement occupés. Il y aurait d’ailleurs, sous ce point de vue, économie de temps et d’argent, et dans ces momens de crise, combien il est essentiel de les menager! Mais un autre avantage incalculabe, ce seroit de ne pas attirer une foule de vagabonds: ils cherchent des points de réunion, où, libres de faire ce qu’ils veulent, ils complotent à l’aise leur brigandage, pour, de concert, l’éxecuter.
Si on adopte ce moyen, il seroit nécessaire que les sections, qu’un malin esprit veut à toute force éloigner du camp, nommassent chaque jour, et alternativement, des commissaires pour inspecter ces ouvrages donnés à la toise, qui seraient inscrits sur les registres des inspecteurs, par ordre de datte, de numéro, de canton, avec le nom des ouvriers qui en seraient chargés. Ces registres seraient vérifiés, paraphés chaque jour par les commissaires qui se succéderaient; et chaque section ferait connoître, par la voie du comité central, l’ordre établi, et les changemens qui pourraient s’opérer.
Si les directeurs des travaux s’obstinoient à continuer de donner l’ouvrage à la journée, ce qui est insoutenable sous tout les points de vue, il y auroit des mesures très-répressives à prendre; on croit devoir les indiquer.
Il seroit nécessaire que le commandant gl. envoyât, chaque jour, une force armée, et sur-tout de la cavalerie, qui pût, en un instant, se transporter dans les differens ateliers, où ils seroient chargés de surveiller les inspecteurs et les ouvriers, en assurant leur tranquilité.
Autre mesure à proposer, chaque jour on prendrait dans une des 48 sections, 50 hommes, plus ou moins, pour se répandre également dans les ateliers, et pour les surveiller.
Cette patrouille se trouverait au premier appel, qui, dès qu’il seroit fini, seroit signé par l’officier commandant et autres officiers, conjointement avec l’inspecteur. Ce contrôle apposé, nul autre, non inscrit, ne pourrait sous aucun prétexte, prétendre à la paye de la journée: au second appel (celui de l’après-dîner), mêmes formalités à remplir, meme contrôle à apposer.
Quelques personnes pourraient peut-être désirer que ceux qui auroient manqué à l’appel du matin, pussent se présenter au second appel; mais comme il y a de l’inconvénient, il seroit prudent de point y acquiescer.
A l’appel, chaque ouvrier seroit obligé de représenter une carte de la section qui l’auroit enregistré: cette mesure doit être de rigueur; tout le monde doit en sentir la nécessité.
Les patrouilles no souffriront point que ni enfans, ni femmes, soit celles habillées en femme, soit celles sous l’habit d’homme (il y en a beaucoup ainsi déguisées) puissent être enregistrées: il faut qu’une masse de travail, qui doit être fait tel ou tel jour, puisse être représenté par une masse de force qui, à jour fixe, l’ait exécuté; car le temps fixé pour la confection du camp a dû ou devoit être au moins ainsi calculé.
Chaque patrouille relevée, instruira de suite sa section des abus à dénoncer, ou des réformes à proposer. La section, de son côté, en instruiroit, 1°. le directeur-général du camp; 2°. le comité central, où les commissaires qui y seront assemblés inscriront, sur un registre, intitulé: Registre des travaux du camp sous Paris, chaque plainte, chaque abus dénoncé; chaque section en tiendra une note exacte, pour les communiquer à ses patrouilles, — quand elles seront commandées: elles seront à même, par là, de s’assurer si les abus existent encore, ou si le directeur les a arrêtés.
VII
Нац. арх.
С. 279.
Письмо Ролана.
18 ноября 1792 г.
Paris le 18 novembre 1792, l’An 1-r de la République française.
Un citoyen au Président de la convention Nationale.
Je me dépouille du titre de Ministre, parce qu’il sert à faire mettre des entraves à la Liberté de l’homme à qui il est donné; parce que je crois utile à la chose publique d’user en ce moment de tout le droit du citoyen et de l’homme libre pour attaquer des préjugés, dont les effets seroient funestes à la France.
Le comité d’agriculture et de commerce a présenté un projet de décret que me font croire très nuisible quelqu’experience en administration, des voyages en Europe pour y étudier le génie des nations leurs relations commerciales et très particulièrement la naissance et le progrès de cet esprit qui veut et doit faire, des intérêts privés — les éléments de l’intérêt public. Tout et l’histoire d’Angleterre, et la nôtre propre, et les grandes vues de Turgot et les erreurs désastreuses de Necker, tout prouve que le gouvernement ne s’est jamais mêlé d’aucun commerce, d’aucune fabrique, d’aucune entreprise, qu’il ne l’ait fait avec des frais énormes en concurrence avec des particuliers et toujours au préjudice de tous; que toutes les fois qu’il a voulu s’entremêler dans les affaires des particuliers, faire des règlements sur la forme sur le mode de disposer des propriétés, de les modifier à son gré il a mis des entraves à l’industrie, fait enchérir la main d’œuvre et les objets qui en sont résultés.
L’objet des subsistances est dans ce cas plus particulièrement qu’aucun autre parcequ’il est de première nécessité, qu’il occupe un grand nombre d’individus et qu’il n’en est pas un seul qui n’y soit intéressé. Les entraves annoncent, appellent, préparent, accroissent, propagent la défiance; et la confiance est le seul moyen de faire marcher une administration dans un pays libre. La force — quelque moyen coactif qu’on imagine — ne sauroit être employée que dans les convulsions dans les momens violens et irréfléchis, mais dans une suite de travaux dans une continuité d’opérations, l’emploi de la force nécessite la continuité de son usage; elle en établit le besoin, elle le multiplie et l’aggrave sans cesse; de manière que bientôt il faudrait armer la moitié de la nation contre l’autre. Tel sera toujours l’effet des décrets qui auront pour but de contraindre ce que la justice et la raison veulent et doivent laisser libre.
Or, toute déclaration exigée et fait de subsistances spécialement sera fausse et nécessitera la violence: tout ordre de porter ça où là, en telle ou telle quantité, de vendre en tel lieu et non en tel autre, à telle heure aux uns, à telle heure aux autres; tout, ce qui établira la gêne tendra à l’arbitraire et deviendra vexatoire. Le propriétaire s’inquiète d’abord, se dégoûte ensuite; il finit par s’indigner, le peuple, alors peut s’irriter et se soulever. La source des prospérités seroit tarie, et la France deviendroit la proi d’agitations longues et cruelles. C’est une arme terrible dont les malveillans ne tardent pas de s’emparer, qu’un decret qui porte avec soi la contrainte et laisse à la violence de le diriger. Déjà celui du 16 septembre dernier qui ordonne le récensement des grains et autorise l’emploi de la force pour son exécution, répand l’allarme et favorise les emeutes. Encore une entrave, encore une provocation de l’autorité pour la soutenir, je ne connois, je ne conçois plus de puissance humaine capable d’arrêter les désordres.
On ne se représente pas assez, qu’en administration, en législation, comme en méchanique, la multiplicité de rouages gêne les mouvemens, retarde ou diminue l’effet. Faute d’un plan raisonné fondé sur l’histoire des faits, sur le résultat des combinaisons, sur la somme des moyens moraux et physiques, un code se trouve chargé d’articles dont les uns sont destinés à rectifier les autres. Il s’en suit une complication susceptible de commentaires et l’exécution devient également difficile et hazardeuse. Les inconvénients de cette nature sont infiniment graves, dans la législation des subsistances, qui devient alors un arsenal d’armes meurtrières que saisissent tous les partis.
Président de la représentation d’un grand peuple, montrez que le grand art est de faire peu et que le gouvernement, comme l’éducation, consiste principalement à prévenir et empêchér le mal d’une manière négative pour laisser aux facultés tout leur développement; car c’est de cette liberté que dépendent tous les genres de prospérité. La seule chose peut-être que l’assemblée puisse se permettre sur les subsistances c’est de prononcer qu’elle ne doit rien faire qu’elle supprime toute entrave; qu’elle déclare la liberté la plus entière sur la circulation des denrées; qu’elle ne determine point d’action; mais qu’elle en déploie une grande contre quiconque attenterait à cette liberté. La gloire et la sûreté de la convention me paroissent attachées à cet acte de justice et de raison, parcequ’il me semble que la paix et le bonheur de la nation en dépendent.
J’abonde en motifs: le temps et l’espace sont trop courts; mais je joins ici des observations que j’ai cru devoir adresser à la commune de Paris avec la proclamation du Pouvoir Exécutif et ma lettre d’envoi de cette proclamation à la convention elles concouriront à développer mes idées. Elles m’ont paru mériter assez d’attention pour être étonné que le comité chargé d’un projet auquel sont intéressées les destinées de la France, se soit éloigné de m’entendre sur une partie d’administration dans laquelle il importe autant de recuillir les vues, de peser les raisons pour se garantir de l’erreur et n’être pas exposé à des méprises.
Je soumets à la sagessée de l’assemblée mes représentations sur le sujet de mes plus importantes sollicitudes: je les lui dois comme citoyen et c’est à ce titre que je lui en fais hommage.
Roland.
VIII
Нац. арх.
С. 239. Pce № 1.
№ 264.
Paris le 23. 9-bre 1792.
L’An 1-er de la République française.
Второе письмо Ролана.
23 ноября 1792 г.
Monsieur le Président,
Je fais passer, ci joints, à la Convention Nationale, deux états de la situation actuelle des subsistances à Paris. Le premier est le compte qui a été rendu, le 17. de ce mois, au Conseil général de la Commune, par les Administrateurs de ces subsistances, et le second comprend le détail des ressources en grains et farines, pour la Consommation de la Capitale, au 20. du même mois; Il est bon de répandre la connaissance de ces deux Etats, autant qu’il sera possible, pour rassurer le Peuple sur les inquiétudes, que l’on cherche à lui donner relativement à la subsistance.
L’Assemblée verra que nous n’aurions à craindre si la confiance laissait à la circulation des denrées, la liberté, qui lui est nécessaire, mais que nous avons tout à redouter, parceque cette confiance n’existe pas, et que l’administration de la commune de Paris est propre à l’éloigner de plus en plus et définitivement à l’anéantir. La foiblesse du Corps Municipal ou le désir, mal calculé, de procurer quelque adoucissement aux habitans de Paris, l’a portée à faire vendre, depuis longtems, la farine à une taux inférieur au prix d’achat. Dèslors presque tous les approvisionnemens des environs se font faits dans Paris, d’où l’on retire sans cesse, au lieu d’y apporter; par cette disposition, la Municipalité fait chaque jour une dépense de 12, 000 1, qui ne sert qu’à l’épuiser, et qui, pour un avantage apparent et momentané, produit le double mal d’une surcharge qui doit finir par retomber sur le Peuple même, et d’un appât pour le voisinage qui vient retirer de Paris tout ce qui seroit nécessaire à sa Consommation.
C’est ainsi que la fixation du bois va porter l’effroi dans ce genre de commerce et y faire sentir aussi la disette.
Je ne veux point accuser les intentions; je ne suppose point que ces opérations soient dictées par le désir de capter la popularité et le dessein, de préparer des malheurs, qu’on auroit le soin de rejetter sur l’administration supérieure; mais je dis que ces opérations sont mauvaises parce qu’elles flattent pour tromper, parce que sous l’apparence d’un bien passager, elles préparent des maux affreux.
Je veille, autant qu’il est possible à l’approvisionnement général, mais je déclare que je ne puis répondre de rien, lorsque des opérations désastreuses en arrêtent les effets.
Les fermiers, les laboureurs, n’osent plus paroître dans un marché, mettre en route ou en vente, un sac de blé: Le prétexte d’accaparement fait menace et craindre d’être égorgé; et au sein même de l’abondance, nous sommes prêts à périr de misère.
Voilà le fruit de l’inquiétude, de l’agitation, des éternelles déclamations avec lesquelles on souleve les esprits, répand la menace et l’effroi. Les fripons s’agitent, les sots s’épouvantent; je suis assailli de plantes, de reproches, d’arrêtés de la Commune, qui d’ailleurs ne répond jamais aux Lettres officielles que je lui adresse, aux questions que je lui fais. Les Sections reçoivent son impulsion, en propagent les effets; les parties de l’administration sont toutes négligées; C’est un désordre affreux que je dénonce de nouveau, dussai-je y perdre la tête sur l’heure, car il faut que la chose publique soit sauvée où que je périsse avec Elle.
C’est à la Convention de prescrire enfin les mesures convenables, pour que l’administration de Paris soit remise en des mains sages, qui ne sacrifient point à une éphémere popularité, à des vûes particulières d’intérêt ou de vengeance, la paix et la sûreté de cette Ville.
Quarante mille quintaux de grains sont partis du Havre pour Paris; si la fureur des agitations, la crainte qui les accompagne, les clameurs qui les suivent, empêchoient ces provisions d’arriver, nous souffririons de la famine et la faute en seroit uniquement à la foiblesse, qui n’auroit point établi le régime équitable, répressif contre les malveillants, protecteur de la sûreté, de la propriété, et de la plus grande liberté du Commerce.
J’ose dire enfin que l’esprit de la Commune de Paris finira par perdre la Capitale et la Convention elle-même si elle ne met fin à cette agitation des sections, à cette permanence, qui n’est plus que celle du trouble et de la désorganisation, et à l’existence de cette Commune, foyer de toutes les intrigues.
Le Ministre de l’intérieur, Roland.
IX
L. 127. Corresp. générale, № 6.
Архив департамента Устьев Роны.
19 février 1793.
Aux commissaires députés extraordinaires du département des Bouches du Rhône près de la convention nationale à Paris.
Nous vous envoyons, citoyens collègues, les délibérations des administrateurs du dep. des Bouches du Rhône pour demander l’augmentation des salaires des calfats et autres ouvriers employés au service de la république dans les arsenaux. La modicité des salaires de ces ouvriers ne peut suffire à leur subsistance et à celle de leurs familles, ils n’ont cependant la pluspart d’autre ressource que leur travail. Leurs bras, leur suffisoient auparavant pour fournir à toute leur depense et depuis qu’ils sont au service de la Republique leurs enfants n’ont plus de pain.
Vous savez que les journées de ces sortes d’ouvriers se payent à Marseille des six à sept livres par jour, cependant à Toulon ils ne reçoivent dans l’arsenal que 42 de moitié argent, la moitié papier.
Il est justice de la convention nationale d’accorder l’augmentation du salaire que nous sollicitons, nous avons pensé que vous emploiriez tout votre zèle à l’obtenir et nous espérons que vous y réussirez, nous vous recommandons la plus grande activité dans la poursuite de cette affaire.
X
Нац. арх.
BB3 80, картон 44.
31 мая 1793 г.
(Неразборчивая, малограмотная рукопись, почти без знаков препинания).
Le peuple de Paris levé en masse.
Le peuple de Paris bien convaincû de la justice de la cause qui vient de le faire lever tout entier pour la troisième fois s’est porté hier en
masse à votre porte et vous a fait entendre le langage de la modération de la justice et de la vérité il vous propose des mesures efficaces pour opérer le salut de la patrie après l’avoir fait attendre plus de trois heures les conspirateurs qui sont dans votre sein et qui sont les memes de la maiorité l’ont accablé d’outrage et de risée et il n’a pu obtenir justice des attentats ainsi par cette faction liberticide qui veut nous précipiter dans l’abime qu’elle à creusé sous nos pas.
Nous venons législateurs répéter pour la seconde fois et dernière les mesures que vous devez prendre pour sauver la patrie et nous vous déclarons au nom du peuple entier de paris ici présent au nom de nostre département qui attendent de nous leur salut que nous ne quitterons point cette enceinte qu’exterieur n’ayent été converties en décret. (Явный пропуск. — Е. T.).
Le temps de la modération est passé celui de la justice soumise du peuple commence.
Il seroit superflu de tracer ici le tableau hideux des crimes atroces commis pas les 22. députes dénoncés par les sections de pays et par la majeure partie des départemens, car le publique entier les connoit depuis longtemps ces hommes pervers couverts de crimes et d’infamie.
Ils sont l’objet de l’exécration de tous les républiquains et il est tributaire que les judiciaires porte au plus haut dégré d’évidence les attentats de ces quelques représentants du peuple qui chargé de ses interets les plus chers l’on lâchement vendu aux guinées de la Cour de Londres, et se sont constitué les chefs de la contre révolution que l’Europe s’efforce d’opérer parmi nous.
Nous vous demandons donc que Brissot, Guadet, Gorsas, Barbason, Genvormé, Vergniaud et les autres seize députés dénoncés par les sections soyent décrétés sur le champ d’accusation.
N’oubliéz pas que Marat à été décrété et envoyé au tribunal révolutionnaire sur la dénonciation de quelques individus suspects puis qu’il les avoit dénoncés lui même or la dénonciation d’une entière cité appuyée de l’adhésion de la majorité des patriotes de la république doit avoir autant de poids sur vos esprits que celle de quelques individus.
Vous ne pouvez pas avoir deux poids et deux mesures, nous réclamons ici les principes sacrés de l’égalité ceux de la justice qui veut que le criminel ne soit nulle part inviolable et que l’accusé quelque soit le caractère dont il est revêtu ne puisse jamais être soustrait aux tribunaux établis pour prononcer sur le mérite des accusations.
La commission des douze que vous aviéz cassé à usurpé le pouvoir dictateur pour enchainer le peuple elle à foulé aux pieds vos loix celle surtout qui defend de violer de nuit l’azile des citoyens puisque des patriotes purs, des magistrats du peuple couverts de toute sa confiance ont été arrachés au milieu des ténèbres de leurs aziles et enlevés à leurs fonctions. Nous demandons également que ces douze tirans soyent décrétés sur le champ d’accusation.
Législateurs, fatiguée d’avoir sans cesse à combatre les esclaves de toute l’Europe et une nuée d’ennemis de l’intérieur qui nous pressent de toute part, nous demandons qu’il soit levé dans toutes les villes, bourgs et hameaux de la république des armées révolutionnaires uniquement composées de sansculotte et destinés à protéger les patriotes contre les ennemis de l’intérieur dont le nombre sera proportionné à la population de chaque ville que chaque citoyen qui servira dans ces armées reçevra
25 sols par jour prelevés sur la taxe imposée aux riches, que l’armée de Paris sera portée à 20. mille hommes. Nous demandons que dans toutes les places de la république et sous les yeux du peuple il soit élevé des atteliers occupés à la fabrication des armes de toute espèce afin que tous les Sans-Culotte soyent incessamment armés pour la deffense de leur droit et de leur liberté.
Législateurs, ecoutez enfin les cris, les gémissements des patriotes des départements qui victimes de l’agioteur et des accaparements sont obligés de payer le pain huit, dix, douze et jusqu’à 15 sols la livre et sont condamnés à périr d’inanition et de misère par cette contre révolution qui voudroit les ramener à la royauté par la famine, hatez-vous donc de décréter que partout où la livre de pain exécedera trois sols, le surplus sera restitué exactement à tous les Sans-Culotte à raison de deux livres pesant par teste et que cette dépense sera prise sur les sols additionnels.
Décrétez le prompt désarmement et la mise en arrestation dans toutes les villes de la république des hommes suspects et que les hommes connus par leur incivisme et par leur conduite contre révolutionnaire soyent livrés au glaive vengeur des loix, mettéz un terme à cette nuée de conspiratiou sans cesse renaissante à ces défaites concertées en licentiant de nos armées tous les hommes connus par leur incivisme et par leur conduite contre-révolutionnaire soyent livrés au glaive vengeur des loix, et tout les ci-devant Nobles qui de concert avec nos ennemis leur livrent nos soldats sans deffense.
C’est dans les sections de la République que les contre révolutionnaires, que les partisans de la royauté trouvent un point de ralliement; décrétéz que tant que la patrie sera en danger, il n’y aura d’admis à vote? dans les sections que les Citoyens qui seront connus pour avoir constamment professé des principes purs depuis 1789, que les Comités révolutionnaires des Sections soyent chargés de décider quels sont les Citoyens purs qui auront droit de voter.
Le tribunal révolutionnaire de Paris à la confiance du peuple prolongé son existence telle qu’elle est de trois mois et que les patriotes soyent autorisés à lui adjoindre deux sections investies des mêmes pouvoir et formées des mêmes élémens.
Législateurs, occupez-vous sérieusement des Citoyens malheureux à qui les blessures, la vieillesse ou les infirmités interdisent les travaux pénibles, ouvréz enfin pour eux des atteliers que leur assurent un travail accomodé à leur foiblesse et dont le produit soit moins fixé sur la valeur réelle de ce qu’ils auront fait que sur les besoins qu’ils éprouvent.
Mettez promptement à exécution votre decrét portant l’emprunt forcé d’un milliard sur les riches.
Hâtez vous d’accorder aux épouses, aux mères, aux enfans des deffenseurs de la patrie la juste indemnité qui leur est due par la Nation et que cette dette la plus sacrée de toutes soit incessament acquittée.
Législateurs, épuréz le comité de salut public, épurez le conseil exécutif, chasséz du trône des affaires, les Lebrun les Clavière et cette horde d’agens subalternes dont l’incivisme est connu qu’ils soyent remplacés sur le champ par des patriotes purs et intelligents. Chasséz surtout, chasséz cet infâme directoire de portes qui est ouvertement coalisé avec nos ennemis.
[*21] Prenez des mesures promptes pour empêcher les patriotes de s’assembler de tomber sous le fer liberticide des contre révolutionnaires qui dans ce moment prévient sur eux le despotisme le plus affreux celle plus barbare (sic) et les égorge impitoyablement.
Législateurs, voila les mesures que nous vous proposons nous demandons que vous mettiez aux voix par appel nominal leur conversion en décret.
XI
Нац. apx.
F7 36882.
Feuille des rapports et déclarations faits au bureau de surveillance.
du 25. Juin 1892, l’an 2e de la République.
Nota: Cette feuille a été suspendue pendant quelques jour à cause de l’extrême stérilité des Rapports, mais on est maintenant en état de lui rendre toutte son activité, et l’intérêt dont elle est susceptible.
Plus on murmure contre la chereté des denrées, plus elles augmentent, les Marchands paroissent se plaire à annoncer qu’on payera tout encore plus cher, en sorte que cette espèce d’aristocratie Mercantille fait infiniment de mal, aigrit les esprits, et porte les Malheureux à maudire la Révolution. On désireroit un exemple Légal contre le premier Marchand qui seroit convaincu d’avoir annoncé une augmentation prochaine des denrées qui ne sont déjà que trop chères, et au dessus des moyens de la majeure partie des vrais Sans-Culottes qui ont fait la révolution.
On continue de se plaindre des trouppes cazernées dans les environs de Paris, et en partie de la Compagnie des Chasseurs du Midi. On voit avec beaucoup de peine l’insouciance soit des Ministres, soit du Conseil executif, sur les différentes, dénonciations qui leur sont faites; et on cite un trait entr’autres qui doit donner une idée affreuse de la manière dont sont composées ces trouppes.
Douze Brigands habillés en fardes nationnaux se sont portés au plus fort Moulin de Gonèse, ont fait ouvrir au nom sacré de la Loi, ont attaché le Meunier, sa femme et son Enfant, leur ont bouché les yeux, et ont enfoncés une armoire dans laquelle ils ont pris 7, 000 1. et assignais, 8 Couverts, une Ecuelle et 3 timballes d’argent. Si ce vol restoit impuni, ces scélérats renouvelleroient leur Brigandages, et les propriétés se trouveroient viollées par ceux là mêmes qui sont payés pour veiller à leur Conservation.
On est sans Crainte sur les Ennemis extérieurs et on commence à espérer le succès de nos troupes de l’intérieur; mais ces différentes circonstances ne font qu’irriter davantage les malveillants qui agitent le Peuple de mille manières. On dit que les gros Marchands, qui craignent le pillage font sortir impunément leurs marchandises de Paris; ce qui en diminuant la quantité en augmente le Prix. On jette l’alarme en annonçant que les passages de l’approvisionnement de Paris sont interceptés par les Rebelles. On va jusqu’à persuader qu’il n’y a pas de farines pour un mois, par tout ces bruits qu’enfante l’aristocratie, on fatigue le Peuple que l’on regrette de voir aussi calme.
L’achèvement de la Constitution, et la fête à laquelle cette circonstance à donné lieu, à encore une fois déconcerté les Royalistes, fédéralistes, modérés et autres animaux de cette espèce.
L’opinion publique y a infiniment gagné et l’espoir d’avoir bientôt des loix sages à exécuter accablent ceux qui crient à l’anarchie.
Les marchands d’argent sont plus impudents que jamais à la Bourse, où est le rassemblement considérable; on désireroit voir fondre sur eux en force, et on se persuade qu’on n’y trouverait pas un bon sujet.
Les Louis se payent 100 l.
XII
Нац. арх.
(1792 г.)
С. 153, plaquette 277, pièce № 412.
Séance du 11 juillet au soir.
Envoyée à la commission Extraordinaire des Douze.
Pétition des ouvriers.
Messieurs de l’assemblée Nationale Lésgislateurs.
Nous venons en députation au nom de nos camarades, composant, quarante mille hommes tous travaillants dans les Bâtiments; nous venons déposer dans votre sein l’affliction que nous éprouvons, de voir que M. Pe-tion, et le Procureur de la commune, sont toujours suspendus de leurs fonctions. Depuis le malheureux jour ou le Département s’est permis de l’interdir, tous les âmes honnêtes en ont gemi; chaque jour amenoit l’espoir de le voir réhabilité, et tous les jours les espérances ont été vaines.
C’est dans cette enceinte, Législateurs, lors de l’assemblée constituante, qu’il s’est montré digne représentant de la nation: La Patrie toujours chère a son cœur a vû en lui un homme incorruptible, aussi le Peuple, dont il a toute la confiance, est-il comme anéanti de ne plus le voir en place, et lui ravir ce magistrat rare, par ses vertus, c’est le priver de ses plus douces consolations.
Quoi! seroit-ce un crime de n’avoir point publié une loi qui devoit couvrir de deuil cette capitale qui l’eut ensanglantée? et dans le moment ou nous sommes que de victimes gémiroient encore! La Vengeance même ne seroit point assouvie, au lieu que tous les citoyens se voyent toujours avec plaisir, comme dans une famille bien unie, et dans leurs moments de loisir se rassemblent en silence, se consolent entre eux, et chacun retourne satisfait dans ses foyers: Il a épargné des malheurs étonnants et nous le bénissons.
Oui, Législateurs, nous ne cesserons de tenir ce langage; notre maire est l’ange tutélaire de cette capitale et servira de modèle à ceux qui le suivront.
Nous vous prions de rendre à nos vœux un si digne magistrat. En vous demandant cette grâce nous vous suplions de nous en accorder une autre, celle du changement du Directoire du Département.
Nous attendons de l’équité du sénat qu’il nous accorde la grâce que nous lui demandons. Pour nous, notre tâche sera quand la Patrie sera en danger, de nous couvrir de nos armes, combattre l’ennemi et verser notre sang pour le soutien de la Liberté, et le maintien de la Constitution.
(Подписи).
XIII
Архив департамента Роны.
L. 398–403. (1797 г.).
Arrêté que copie de la présente sera transmise tant au ministre de l’intérieur, qu’a celui de la Guerre avec invitation pressante de prendre les dites observations en très grande considération.
Séance du 12 floréal an cinq de la Rép. Française Repondre au Bureau Consultatif.
Observations relatives au Commerce et aux Manufactures de Lyon.
On ne cesse de repéter que l’on veut rendre au Commerce toute sa splendeur, à nos manufactures toute leur activité» que c’est le seul moyen de rétablir nos finances que six années de guerre ont anéanties, de rendre le numéraire à la circulation, de rouvrir toute les sources du bonheur public, de faire enfin disparoitre et oublier tous nos maux en ramenant les français à leur industrie naturelle par toute les ressources qui peuvent encore porter nôtre commerce au plus haut degré de gloire.
Que faut-il pour remplir ce but? protection, tranquillité et sûreté, ces moyens sont dans la main du gouvernement, favoriser les villes de manufacture, non par des privilèges, elles n’en réclament pas, eloigner d’elles tout ce qui pourroit y amener l’oisiveté, le libertinage ou la dissipation, veiller sur le prix des denrées de première nécéssité, coiter avec soin tout ce qui peut contribuer à le faire augmenter, assurer par une bonne police l’ordre et la tranquillité dans l’intérieur, empocher sévèrement, l’exportation de nos matières premières, encourager l’importation de celles étrangères, faire de bons traités de commerce avec les puissances à qui nous donnons la paix; là se bornent toutes les prétentions du Commerce à la sollicitude du Gouvernement.
Les manufactures employent des ouvriers des deux sexes avec le même avantage; les hommes se livrent aux travaux qui exigent de la force et aux grandes opérations de commerce, les femmes sont utiles aux ouvrages plus minutieux, le luxe des modes pour l’étranger, des broderies, des habillements leur est presque entièrement confié; les hommes reçoivent un salaire plus considérable, mais il faut néanmoins aux uns et aux autres les moyens de subsistance pour eux et leur famille l’excessive cherté des denrées augmente nécessairement la main d’œuvre, et cette augmentation, jointe aux prix très élevé des matières premières, nuit dans beaucoup d’objets de notre industrie à la concurrence que nous avons intérêt de maintenir avec l’étranger.
Sous ces rapports les troupes ne doivent pas être en nombre dans les villes de Commerce et de Manufactures; cette augmentation passagère d’habitans donne aux denrées un surhaussement de prix qui se communique de suite à la main d’œuvre et qui subsiste longtems même après leur éloignement, ce premier inconvénient bien senti, par les gouvernements avoit fait placer les troupes toujours loin des villes de manufactures, le gouvernement anglais en usa toujours ainsi pour Manchester etc., les troupes ne séjournoient jamais à Lyon, cette disposition politique avoit encore une autre cause.
Les soldats, quelque disciplinés qu’ils soient, répandus dans les villes cherchent à se délasser de la fatigue des camps, s’ils ont défendu nos frontières avec ardeur, s’ils ont étendu nos conquêtes au péril de leurs vies, il est asséz naturel de croire que dans l’intérieur ils cherchent toutes les compensations, toutes les jouissances dont ils ont été privés: pour se procurer ces jouissances, ils se choisissent des compagnons de plaisir, soit parmi les ouvriers, soit avec les ouvrières qui trouvent aussi dans ces amusements une vie plus douce que celle d’être tout le jour attaché à un métier, à une broderie, etc., les mœurs se corrompent, la licence remplace la vie laborieuse; viennent à sa suite les rixes, les insurrections, et souvent les plus grands désordres, enfants de l’oisiveté, de là les ateliers sont abandonnés, les manufactures languissent, le manufacturier voit ses espérances s’évanouir, ses fonds sont en souffrance, les commissions prises de l’étranger sont retardées, les foires, ces temps précieux pour les ventes, sont manquées le commissionnaire frustré des bénéfices qu’il attendoit retire ses ordres, et en dernière analyse la balance du commerce tourne au détriment de la France voilà pour toutes les villes de manufactures en général, qu’il soit permis d’ajouter quelque chose de particulier pour Lyon, la ville sans contredit la plus intéressante pour le trésor public par ses nombreuses manufactures par son immense population, et par sa prépondérance dans la balance du commerce avec l’étranger.
Les malheurs de Lyon sont assez connus, les manufactures délapidées, les chefs fuyant ou périssants sur les échafauds, les ouvriers cherchant une terre hospitalière qui leur donne du pain et du travail, portants à l’étranger l’industrie qui n’auroit jamais abandanné notre sol sans les horreurs qui s’y sont commises, les capitalistes enterrans le numéraire qui a pu leur rester après les ravages du papier monoye dans la crainte qu’il ne leur soit enlevé.
Tous ces maux présens encore à la mémoire des malheureux Lyonnais se couvrent d’un voile quand l’horison politique est sans nuages, la confiance reparoit, l’homme industrieux se livre au travail, l’homme à argent délie sa bourse, de cet heureux concours nait la prospérité publique mais, s’il survient un mouvement dans le gouvernement au renouvellement des calomnies, à l’approche des Reverchons, à la nouvelle de mesures révolutionnaires au soupçon de l’existence d’un camp dont la présence doit influer sur le prix des denrées, sur la main d’œuvre et sur les mœurs, surtout lorsqu’il est reconnu que les troupes arrivent toujours prévenues contre les habitans de Lyon par la malveillance que les scélérats ennemis de cette ville, ont eu soin de semer sur leur route, alors toutes les craintes renaissent, le capitaliste serre de nouveau sa bourse, le numéraire disparoit, le taux de l’intérét augmente en raison de sa rareté, le manufacturier s’arrête, l’ouvrier manquant de travail ne peut plus fournir du pain à sa malheureuse famille, déjà il songe quel pays pourra lui procurer des ressources, tous les travaux sont suspendus. Ces oscillations perpétuelles de craintes et d’espérances effrayent l’ouvrier qui n’attendoit que la paix pour rentrer dans ses foyers et portent le découragement total parmi ceux qui sont restés, dont le nombre ne pourrait suffire lorsque les manufactures reprendront toute leur activité.
Que deviennent alors ces magnifiques promesses repetées tant de fois, de faveurs pour les manufacturiers, de travail pour les ouvriers, de soulagement pour les indigents.
C’est donc à détruire toutes les craintes et à réaliser toutes les espérances que doit s’attacher le gouvernement, s’il veut voir refleurir le commerce, et ce sera alors et seulement alors, que le manufacturier et l’ouvrier dont les intérêts sont si étroitement liés, travailleront avec courage pour leur bonheur et pour la prospérité publique; rien ne leur manquera, ni ressources, ni travail, si le gouvernement faisant usage de tous ses moyens leur assure protection, tranquillité et sûreté, c’est alors que tous les canaux d’abondance s’ouvriront, que tous les échanges se feront au dedans et au dehors, que nos manufactures s’enrichiront du luxe de l’étranger, c’est alors enfin que le commerce français reprenant toute sa splendeur ne trouvera plus de rivaux comme la France ne trouvera plus d’ennemis, et chacun à l’emoi s’empressera de repeter: Vive la paix, vive la république.
Fait au Bureau de commerce de Lyon.
Lyon 12 floréal an cinq de la République Française.
XIV
Архив города Марселя, картон «Corporations».
(Ноябрь 1797 г.).
Marseille le 11 frimaire an 6 de la République française.
Aux citoyens composant le Bureau central.
Les ouvriers soussignés de cette commune vous exposent citoyens, que pendant la réaction royale, ils ont été forcés d’abandonner leurs chantiers et même de se réfugier soit à Toulon, soit ailleurs pour se soustraire aux poignards des egorgeurs.
Ils sont rentrés à l’époque de l’arrivée des troupes de la répoublique qui à dissipée l’essaim de cette borde de cannibales. Mais leur audace accroit avec l’indulgence des républicains et les voila encore non seulement sur le pavé, mais maîtres des chantiers et de tous les transports jusqu’à ceux des coches.
Chaque fois que les exposants se présentent pour travailler, ils sont rejettes avec mépris, les chargeurs ne veulent pas les employer aux coches, la Messagerie Nationale également, cependant il faut que les républicains vivent et alimentent leurs familles, il faut que les sicaires du royalisme fassent place à ceux qu’ils ont chassé et qu’ils ont voulu égorger.
Par toutes ces considérations, nous vous prions, citovens, de prendre telles mesures que vous jugerez convenables pour que nous puissions à la sueur de notre front gagner du pain qui nous est du à tant de titres Salut et fraternité.
(103 подписи)
XV
Нац. арх.
F12 679.
4 июня 1798 г.
Прошение рабочих мануфактур города Нанта (департамент Loire-Inférieure).
Au Citoyen Président du Directoire exécutif.
Citoyen Directeur.
Depuis longtemps les cris de notre misère retentissent à vos oreilles, sourdes à la voix de nos réclamations, elles sont restées comme nous dans l’oubli, et l’opprobre devient notre seule existence.
Presque tous pères de famille, nos femmes, nos enfans réclament de votre paternité une loi bienfaisante qui redonne la vie à nos manufactures, nous gémissons, de voir nos ennemis triompher par la préférence marquée qu’éprouvent leurs marchandises, tandis que les Manufactures françaises presque toutes ruinées par les fléaux de la guerre et de la funeste concurrence des Etrangers, tombent dans l’abîme et s’ecroulent. Nantes, ville jadis si florissante mais trop malheureuse aujourd’huy, ne méritera t’elle donc pas un instant votre considération, nous gémissons de voir nos ennemis préférer les marchandises Etrangères aux productions de nos Manufactures, nous accuserons pas leur ambition de les introduire en France, mais nous réclamons des loix qui en défendent l’entrée, nous accusons aux yeux de l’univers ces êtres légers préférant donner la mort a des milliers d’ouvriers pères de famille, plutôt que de donner la preférénee aux productions natales, mais leur plant jetté, tout ruiner est leur système, c’est a vous Représentans, à dire un mot et, nous aurons encore quelques mois d’existence vous adouciréz notre vie malheureuse et pénible. Si nos plaintes, si l’horrible position dont nous vous avons fait part dans nos dernières pétitions, n’a touché vos cœurs, alors, nous mourrons, mais comme Républicain il faut le faire au champ de l’honneur; c’est pourquoi Législateurs renvoyés des manufactures de cette ville, ayant parcouru en vain la République pour trouver de l’occupation dans les divers atteliers jadis si florissants, mais ruinés, nous vous demandons d’accorder des secours à nos femmes et a nos enfans, et nous sacrifierons nos états pour marcher à la défense de la patrie, ce sont nos dernières ressources Notre affreuse position fait trembler, que ne pouvez-vous descendre dans nos demeures, habitées et desolées par ce que la misère offre de plus touchant bientôt pénétrés de tant de maux, vous prendriez les moyens de les adoucir, sur tous les points d la République, les Manufactures sont dans l’aneantissement et la branche seule des manufactures d’indiennes occupant plus d’un million d’individus de tous sexes et tous âges a droit à votre sollicitude, c’est en faisant quelques efforts pour nos atteliers détruits pour les reste des Arts et de l’industrie, qui serait nécessairement remplacés par l’ignorance, que vous acquererez de nouvelles ressources pour l’Etat, c’est ainsi que vous nous conserverez, ainsi que nos familles, et que l’argent circulera bein plus dans la République partout; nous vous rendrons des actions de grâce et c’est là le plus précieux trésor que puissent désirer les législateurs.
Pénétrés de la plus intime confiance que notre pétition parviendra jusqu’avous, c’est au nombre de 300 malheureux que nous réclamons vos bontés et nous disons respectueusement. (Sic).
Nantes le 19 prairial an sept.
XVI
Архив департамента Loiret.
Серия L, связка № 151.
(1799 г.)
Циркуляр Футе.
Paris, le 6 vendemiaire, an 8 de la République une et indivisible.
Le ministre de la Police générale de la République.
Au commissaire central du dept du Loiret.
Il existe Citoyen, dans la République une espèce de coalition entre les ouvriers employés dans les manufactures particulièrement dans celles les papeteries tendante à obtenir contre le vœu de la loi un regime indépendant pour cette classe de Citoyens et cœrcitif envers ceux d’entre eux qui refusent de se soumettre aux volontés des meneurs de l’association.
Elle a ses chefs et ses correspondans dans les communes ou des ateliers sont établis. Elle convoque et tient des assemblées, distribue des lettres de créance, frappe d’interdiction telle ou telle fabrique et fait défense aux ouvriers d’y travailler sous peine d’être bannis de toutes les autres.
Les manufacturiers eux memes ne sont point à l’abri de la funeste influence de cette association. Leurs fabriques tombent anéanties au gré de ses capricieuses décisions ou ne peuvent éviter l’interdiction qu’en payant une amende excessive.
Ces désordres fomentés sans doute et entretenus par l’Angleterre, dans le dessein de consommer la ruine de nos manufactures, doivent fixer votre attention et appelent toute l’activité de votre surveillance; en vous les signalant je suis assuré que vous allez faire tous vos efforts pour dévoiler ces coupables manœuvres. Vous aurez l’œil sans cesse ouvert sur les lieux de rassemblement des ouvriers, sur l’esprit qui s’y manifeste et le but qu’on s’y propose. Vous tacherez surtout de saisir leurs correspondances afin de connaitre les principaux agents de la coterie.
Dans le cas ou des indices sur ces ramifications dans les ateliers de votre Dept, viendraient à votre connaissance, vous prendrez à l’instant les mesures de sûreté et de repression que la loi détermine. L’arreté du Directoire Executif du 18 fructidor an 4 vous trace la marche que vous avez à prendre.
Enfin vous correspondrez à ce sujet avec vos collègues près les Administrations centrales partout où il sera nécessaire, et vous aurez soin de me tenir exactement informé de vos découvertes et de vos demarches relatives à cet objet important.
Salut et fraternité.
Fouché.