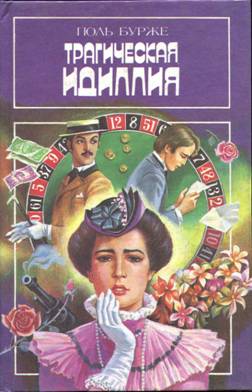

Эжен Сю
Приключения Геркулеса Арди, или Гвиана в 1772 году

I
Прачки
Весною поля вокруг Флиссингена, одного из главных нидерландских портов, чрезвычайно свежи и зелены, как и повсюду в Голландии. Что бы ни происходило вокруг, ничто не меняет привычные контуры этой однообразной местности. Среди неоглядных тучных лугов, местами еще покрытых лужицами от зимних дождей, стоят кирпичные фермы. Кое-где виднеются красные ветряные мельницы, крытые свинцом: внизу — на фоне синеватой равнины, полной влажных испарений, выше — на фоне неба с молочно-белыми пушистыми облаками, изредка серебрящимися под солнцем.
Весной 1772 года неподалеку от Флиссингенской гавани разыгрывалась сцена — гротескная и пасторальная одновременно, достойная кисти Брейгеля, Теньера и Вуверманса.
У подножия небольшого холма тек ручеек. Трава на холме была так высока, что по самую грудь скрывала трех породистых коров, бурых с белыми пятнами. На фоне единственного голубого клочка неба, которое было сплошь покрыто серыми густыми тучами, светлыми по краям, вырисовывались свежие зеленые кроны ветвистых ясеней и голландских берез, а вдали виднелось море. В тот день оно было темно-синим и гладким, как зеркало.
На берегу ручья расположились три девушки в красных полотняных кофтах и коричневых шерстяных юбках. Заголив руки и ноги, они стирали белье по заказам флиссингенских хозяек. Сам Рубенс залюбовался бы бело-розовой кожей и золотыми волосами веселых крепких прачек. Они пели и колотили вальками в такт песне.
Медные колокольчики на груди пасущихся на холме коров мелодично позванивали при каждом шаге. По временам коровы переставали щипать траву и жалобно мычали, беспокойно поглядывая в сторону города.
— Что-то Берта сегодня опаздывает, — сказала одна из прачек. — Заждались ее коровы. — Она огляделась и продолжала: — А где же ее черная телка Дурашка? Экая капризная скотинка: хоть бы когда паслась вместе со всеми, вечно шляется невесть где. А Берта чего ей только не прощает! Даже надела красивый красный кожаный ремешок для колокольчика.
— А я знаю, почему Дурашка у Берты в любимицах, — сказала другая прачка.
Все три валька замерли в воздухе. Самая любопытная прачка спросила:
— Так почему же?
— А потому, что Берте подарил ее Кейзер, когда Дурашка была совсем маленькая. Это сын фермера из Оутсрика, храбрый штурман Кейзер! Недаром Берта просила нас постеречь коров до обеда! Верно, с Кейзером, с милым своим, прощается: говорят, его «Вестеллингверф» скоро уходит из Флиссингена.
— Бедная! — сказала одна из прачек. — Грустно ей будет в праздник на базаре. Куда как скучно ходить туда без милого — даже потанцевать не с кем.
— И ни цветов, ни лент никто не подарит, — сказала щеголиха.
— И никто не угостит тебя горячим пивным супом и жареным мясом, не поднесет глинтвейна из испанского вина, — сказала лакомка.
Тут вдалеке послышалась песня, и вскоре появилась молочница Берта.
Берта была ловкая, высокая и сильная девушка, румяная, с полными щеками и алыми губами; ее светлые волосы выглядывали из-под черного бархатного чепца. Юбка на ней была красная, кофта коричневая. На белых мускулистых плечах она несла коромысло с двумя медными, блестящими, как золото, ведрами.
— Берта, Берта, — сказала одна из прачек, — белая корова уже два раза тебя звала. Гляди, рассердится она на Кейзера, что так долго тебя не пускал.
— Да нет, — отвечала Берта весело, немного покраснев, — не за что белой корове сердиться на Кейзера. Он сейчас промеряет Верифульские проливы: говорят, там нанесло песчаных отмелей. А я стояла на высоком берегу и любовалась на его парусную лодку. Далеко-далеко у Тилгборкской бухты виднелась она, как черная точка посреди моря. Словно черный буревестник с белыми крыльями качался на волнах.
— Я же говорила, что ты была с Кейзером, — засмеялась прачка в ответ.
— Что делать, сестрички, — вздохнула Берта, — уж если девушка решила пойти за моряка, часто придется ей бывать с милым лишь в мыслях, как я с Кейзером сейчас. Хорошо еще, если на море нет бури, а то бедная девушка, хоть сама и под крышей, сильно переживает да мучается. Молит она Богородицу о спасении корабля, а губы — холодные да бледные.
— Это правда, — сказала одна из прачек. — А я вот полюбила ткача Виллема, так он от станка только затем и отходит, чтоб взять меня под локоток в воскресенье. Да к тому же нет у него ни куртки с галунами, как у мейстера Кейзера, ни красного пояса, ни серебряной блестящей цепочки на шее: он не дарит мне красивых ракушек и индийских платочков. Но зато я вижу его каждое утро и сплю спокойно, когда над морем свищет буря.
— Твоя правда, Катарина, — грустно сказала Берта. — У ткача, что спокойно ткет паруса, доля завиднее, чем у храброго моряка, что ставит его паруса на ветру.
И чтобы отвлечься от грустных мыслей, Берта, заметив, что не хватает ее любимой телки, спросила прачек:
— А где же Дурашка? Давно она убежала?
Не успела она произнести это, как из рощицы, окружавшей луг, выбежал испуганный молодой человек и шлепнулся на землю прямо под ноги прачкам.
Девушки сначала тоже перепугались и громко завизжали, но потом, узнав его, расхохотались. А Берта хохотала до бесчувствия, раскрасневшись, как вишня. Она показала рукой на Дурашку (та, задрав хвост, бежала за молодым человеком, которого она-то и напугала) и закричала:
— Господи помилуй! Господин Геркулес, это вы ее так испугались? Фу, стыд какой! Взрослый человек, офицер — боится восьмимесячной безрогой телочки!
— Да уходите же отсюда, господин Геркулес, вы нам все белье затопчете! — закричали прачки. Уже безо всякого смеха они принялись все вместе прогонять молодого человека, который путался под ногами и мешал стирать.
— Вот поглядите, — говорила одна из прачек, — у вас под ногами шемизетка фрау Бальбин, экономки вашего отца, вся в клочки изодрана. Она бы нам глаза выцарапала, но раз уж это сын ее хозяина виноват, так должна простить.
Но господин Геркулес как завороженный смотрел на свою противницу Дурашку (та уже спокойно щипала траву), так что прачкам пришлось силой уводить его от белья и удалось им это не без труда.
Господину Геркулесу было лет двадцать пять. Он был высокий, хлипкий, желтоволосый, голубоглазый, с виду неловкий и робкий. Черты его лица были невзрачны — ни хороши, ни дурны, а выражение — доброе и застенчивое. На нем были серые чулки, зеленые кюлоты, суконный камзол того же цвета с пуговицами в оранжевой окантовке и шитая серебром шляпа — мундир 17-го Голландского пехотного полка, где Геркулес служил в чине прапорщика. Он был француз, но состоял на службе Генеральных Штатов Нидерландов при штатгальтере Вильгельме V, принце Оранском.
Вальки прачек опять застучали, а Берта собиралась наполнить ведра жирным пенистым молоком.
Видя, как молочница ласкает Дурашку, Геркулес собрался с духом и сказал еще дрожащим от волнения голосом:
— Видите ли, барышни… признаюсь, я терпеть не могу коров, особенно черных, а больше всего тех, что гонятся за мной.
— А что вы скажете про большую белую собаку мясника Стедмана, господин Геркулес? — лукаво спросила Берта, намекая на какую-то другую историю.
— Признаюсь, я и к собакам имею отвращение, особенно к тем, что хотят меня укусить.
— А к желто-синему попугаю, которого мне привез мейстер Кейзер из Африки?
— И желто-синих попугаев не выношу, если у них клюв острый, как бритва, и цепкий, как клещи.
— Так, выходит, вы всех животных боитесь, — сказала молочница, — а еще носите шпагу и плюмаж!
— Шпага и плюмаж тут ни при чем, барышни. Пусть коровы, собаки и попугаи не трогают меня, и я их не трону, — возразил Геркулес с истинно величавым спокойствием. Веселые прачки встретили эту сентенцию громким смехом.
Геркулес понял, что его красноречие не имеет успеха (к тому же он совершенно не хотел оставаться рядом с Дурашкой) и с достоинством пошел обратно во Флиссинген, по временам беспокойно озираясь.
Расскажем теперь, по какому странному стечению обстоятельств Геркулес стал офицером.
II
Геркулес-Ахилл-Виктор Арди
Дед Геркулеса, Жан Арди, был военачальник-протестант. Во время религиозных смут начала XVIII века он переселился из Франции во Флиссинген.
Старый гугенот воевал в Германии, Италии, Португалии, Голландии. Но ему так надоела и так утомила его походная амуниция, что военную жизнь он возненавидел, а жизнь мирного буржуа возлюбил чрезвычайно. Он повесил свою большую шпагу на крюк и поклялся, что впредь никто из представителей нескольких поколений славной семьи Арди не поступит на военную службу.
К несчастью, судьба посмеялась над ним и довольно скоро расстроила все его намерения. Сын военачальника-протестанта был, как нарочно, одарен редкостным воинственным духом: все его помыслы были о боях и осадах. Но Жан Арди остался непоколебимым в своем решении: не уважив воинской страсти сына, он заставил его вступить в должность актуариуса флиссингенского адмиралтейства.
Итак, старик Арди, когда ему надоело воевать, счел вполне естественным, чтобы за него отдохнул сын. Но сыну, в свою очередь, надоело отдыхать — тридцать лет сидеть за письменным столом неподвижно, будто сфинкс! — и он счел вполне естественным, чтобы вместо него к жизни, полной тревог и опасностей, устремился его сын, а наш герой. Он дал ему героическое, победоносное имя Геркулес-Ахилл-Виктор и с детства готовил его к военной карьере.
Но судьба по-прежнему насмехалась над всеми замыслами в роде Арди: как воинственные пристрастия отца противоречили мирным помыслам деда, так и мирные пристрастия нашего героя противоречили воинственным помыслам отца.
Во всем Флиссингене не было более чистосердечного, робкого, безобидного мальчика. Геркулес-Виктор был настолько застенчив, что в жизни не посмел бы признаться отцу в своем неодолимом отвращении к военной службе.
Актуариус же, указывая ему на портрет старика Арди работы одного из учеников Ван дер Мелена, портрет, где старый полководец гордо восседал на вороном коне в шишаке, кирасе, сапогах со шпорами и с мечом невероятной длины в руке, говорил сыну:
— Храбрый Ахилл, доблестный Геркулес! Ты будешь полководцем, как твой дед, славным полководцем, да?
Не дожидаясь ответа, актуариус продолжал по-солдатски:
— Черт тебя побери совсем, или ты станешь великим полководцем, или я тебя прокляну к чертям собачьим!
Тогда Геркулес начинал дрожать всем телом, опускал глаза долу и молчал. Отец же неизменно принимал его упорное молчание за знак согласия.
Актуариус полагал, что Геркулес был из числа холодных и сосредоточенных храбрецов, которые сами вполне осознают свою неустрашимость, не выскочек и уж тем более — не хвастунов. Такие люди не обращают внимания на тривиальные опасности и лишь в чрезвычайных, гибельных обстоятельствах обнаруживают свою отвагу и геройство в полной мере.
Более того, преданный излюбленной мечте о воинском поприще для сына, актуариус не менее странным образом заблуждался о телосложении Геркулеса. Вы бы слышали, как рассуждал он про эту самую хилость, худобу, бледность и угловатость Геркулеса, как он расписывал и объяснял его застенчивость, неловкость, тонкую талию и даже робость с девушками! Вы бы слышали великолепное описание, в котором актуариус перечислял все эти слабости Геркулеса!
— Чтоб я провалился! Этот мальчик не какая-нибудь толстая неповоротливая туша, что, чуть устанет, сейчас же и рухнет! Он рожден для войны и лишений, закален как сталь, весь из нервов и костей. И еще — у него покатые плечи, как у всех лучших воинов; он бледен, как принц Оранский, худ, как Фридрих Великий, светловолос, как Мориц Саксонский. А представительниц другого пола, что развращают самые сильные души и усмиряют самых неукротимых, избегали чуть ли не все великие полководцы. Слава Богу, что Геркулес-Ахилл Арди поистине создан, чтобы возродить воинскую славу нашего рода, ибо в моем лице, хоть и не по моей воле, Арди, к несчастью, совсем обабились.
В пятнадцать лет по приказанию отца Геркулес стал заниматься воинскими упражнениями, в которых постоянно был, надо прямо сказать, до странности неудачлив.
Упражняясь с рапирой у стенки, он умудрился выколоть глаз учителю. Да и огнестрельное оружие в его руках было столь же опасно: прицелившись в мишень, он хотел что-то сказать наставнику, неловко повернулся, выстрелил — и пуля скользнула по ребрам новой жертвы.
— Смотрите, — воскликнул в восторге актуариус, — с виду он холоден и невозмутим, но как его тянет в сечу! Он не хочет играть в войну, не нужны ему никакие, к дьяволу, поддельные опасности — подавай ему добрые удары шпагой, славные мушкетные выстрелы! Тому выколол глаз, этому прострелил бок! О Ахилл! О Геркулес! О воистину Виктор-победитель! С тобою вновь зазеленеют лавры твоего деда! — в исступлении закончил актуариус.
Когда сыну подошел возраст для вступления в службу, актуариус купил ему патент прапорщика. Объявив сыну об этой славной новости, актуариус подвел его к портрету старика Арди, снял со стены шпагу старого полководца и торжественно провозгласил:
— Сын мой! Вот тебе шпага — славная шпага твоего деда. Не вынимай ее из ножен без нужды, но и не вкладывай в ножны, не обагрив кровью врагов отечества или твоих собственных.
Геркулес со вздохом принял шпагу и, молчаливо покорившись судьбе, прицепил ее к поясу.
С грехом пополам Геркулес обучился должности пехотного офицера. Солдаты его взвода долго с трудом сдерживали смех, глядя, какой несуразный у них прапорщик. Мало-помалу они к нему привыкли, а так как Геркулес был, собственно, добрейший в свете человек, то даже и полюбили.
Офицеры в полку понасмехались было над простоватым сыном актуариуса, но он сломил их своей стоической невозмутимостью. Решив, что это оригинальность и выдержка, насмешники отстали.
Таковы были внешность и характер Геркулеса-Ахилла-Виктора Арди к той поре, когда за ним погналась Дурашка — любимая телка молочницы Берты.
Теперь последуем за миролюбивым прапорщиком в его отчий дом, где произошло нечто неожиданное.
III
Письмо
Дом актуариуса Арди был, как и все голландские дома, кирпичным. Фасад ступенчатой кладки украшали искусно выкованные железные ключи. К зеленой входной двери с блестящими шляпками больших медных гвоздей вели четыре каменные ступеньки, всегда чисто вымытые.
Геркулес постучал, ему отворила экономка фрау Бальбин (актуариус давным-давно овдовел). Эта почтенная матрона с бледным морщинистым лицом носила чепец и брыжи ослепительной белизны, длинное черное шерстяное платье; на поясе у нее висела связка ключей на серебряной цепочке.
— Господи, где это вас угораздило! — воскликнула фрау Бальбин тонким голосом (на берегу ручья прапорщик шлепнулся в черную грязь и весь перемазался). — Ну идите, идите скорей, переодеваться вам некогда. Мейстер Арди ждет вас в арсенале (так он называл склад старых железяк, в который превратил свой кабинет). Он только что получил письма с нарочным из Гааги.
Предчувствуя недоброе, Геркулес поднялся по лестнице с бело-голубыми фаянсовыми ступеньками в арсенал актуариуса.
Под портретом старого военачальника сидел с письмом в руках мейстер Арди — невысокий брюнет с ясным решительным взглядом, румяный и оживленный. Одет он был в черное, соответственно должности.
На стенах висело, поблескивая при дневном свете, который лился из окон с мелкими стеклами в свинцовом переплете, всевозможное старинное оружие: каски, алебарды, кирасы, шпаги, пики. Так как мейстеру Арди не пришлось воевать и владеть оружием, он хотел по крайней мере услаждать свой взор постоянным его созерцанием в часы досуга. По стенам этого военного музея были развешаны гравюры с изображением давних и новых сражений.
Геркулес вошел в сей алтарь воинской славы. Актуариус положил на стол письмо, подошел к сыну, расцеловал его и произнес:
— Ура, ура, мой храбрый Ахилл! Ура, Геркулес! Война!
Геркулес тупо посмотрел на отца.
— О! — сказал актуариус, по обыкновению ошибаясь насчет выражения лица сына и по-своему трактуя его молчание. — Ты, я вижу, спокоен. Ты думаешь, это какая-нибудь обыкновенная война в Европе. Ты ошибаешься, витязь мой! Тебя ждут не какие-нибудь заурядные опасности, а огромные, неслыханные, из ряда вон выходящие! О, какие лавры ты пожнешь! Ах, отчего не я на твоем месте! Как бы я прославил наш род! Смотри, глаза доблестного отца моего словно загорелись воинственным огнем под забралом, — завершил актуариус, указывая на темный портрет военачальника Арди.
— Опасности? — боязливо повторил Геркулес. — Огромные, неслыханные, из ряда вон выходящие?
— Узнаю тебя, достойный отпрыск рода Арди! — гордо воскликнул актуариус. — Первым делом его привлекают опасности! Храбреца моего! Героя моего! А с какой неподражаемой ленцой говорит он: «неслыханные, огромные!». Голосок-то, как флейта! Великолепно!
Словно в бреду, мейстер Арди стал целовать сына, крепко прижав к груди и повторяя при каждом поцелуе:
— Да, огромные! Да, неслыханные! Да, из ряда вон выходящие! Радуйся! Во-первых, тебе придется пересечь океан, перенести бури и кораблекрушения — все морские опасности. Потом под медным небом тропиков ты будешь пробираться через необъятные и неизведанные леса, кишащие львами, тиграми и гремучими змеями, идти по зыбучим почвам, где на каждом шагу перед тобою могут разверзнуться невидимые глазу бездны — это земные опасности. Хватит с тебя, ненасытный? Ты думаешь, это все, да? Нет еще, нет! Это пустяки, это только подрамник для картины, только чистый холст, не испещренный красками.
Под этим распаленным небом, на этой болотистой земле, один среди всевозможных ползающих, лазающих, бегающих и прыгающих хищников, ты будешь драться не на жизнь, а на смерть — и с кем же? С кем, ответь мне, Ахиллес высокомерный? С беспощаднейшим врагом — мятежными неграми! Теперь, ты думаешь, все? Нет же! Эти негры в союзе с каким-то племенем индейцев-людоедов, кровожадных, как акулы. И особенно они любят кушать бледнолицых. На войну они идут, как на охоту, пленники для них — дичь, а тюрьмы — кладовые. Ну скажи, хватит этого, чтобы слетела с тебя беспечность? Довольно тебе, наконец? Геркулес!
Оглушенный неожиданным ударом судьбы, сын актуариуса молчал — на него словно нашло страшное наваждение.
— Так довольно, черт побери? — закричал актуариус громовым голосом. — Довольно?
— Довольно, — еле слышно прошептал Геркулес, покорный судьбе, как мученик перед казнью.
— Довольно! — торжествующе воскликнул актуариус, не сообразив, что Геркулес просто повторил его же слова. — Ему довольно! Сколько первейших храбрецов на его месте сказали бы: «Да провались оно все…» или уж по крайней мере: «Вот черт!». А он нет. Он кротко так и просто отвечает: «Мне довольно». Тебе, значит, довольно, мой витязь неустрашимый. Замечательно, ей-богу, замечательно! — говорил актуариус, восторженно глядя на сына.
Вдруг неистощимый говорун хлопнул себя по лбу:
— Да! Я же так и не сказал тебе, что это за война, где она и отчего началась. Ты помнишь моего старого друга майора Рудхопа, что десять лет назад уехал в Суринам?
— Помню, батюшка.
— Так это от него пришло письмо. Он пишет, что Гвиана в огне — взбунтовались негры, и требуется много войска, потому что… Лучше я прочту тебе письмо — так ты сразу все узнаешь и почувствуешь вкус опасностей, которые так жаждешь испытать. Славный Рудхоп, лучший из людей… — с чувством сказал актуариус. — Человек золотого века… Как тебе повезло, ты скоро его увидишь… Так слушай внимательно, и неустрашимое сердце твое не раз взыграет от воинского пыла.
И четко, резким голосом актуариус прочел нижеследующее:
«Парамарибо, 20 декабря 1771 года.
Со времени моего последнего письма к тебе, любезный друг, случилось много нового. Я вернулся в Парамарибо с трехнедельной прогулки: гонялся за мятежными неграми и их союзниками — индейцами. Сейчас поймешь, как мы развлекались на этой охоте. Я вышел с шестью ротами карабинеров — всего 900 человек: из них 861 человек не вернулся, а из тридцати девяти оставшихся в живых десятка два так искалечены, что ломаного гроша теперь не стоят.
Мне же самому на сей раз жаловаться особенно не приходится: я получил всего лишь пулю в ляжку, удар топором по голове, да две зазубренные стрелы в руку. Пока только не знаю, отравлены ли стрелы, потому что у этих дикарей, говорят, есть яды, которые действуют только на девятый день (как укус бешеной собаки — ты понимаешь, друг мой), а меня проклятые негры угостили всего неделю назад.
Если стрелы отравлены, то это очень мило. Я стану бледно-голубым, потом зеленым в крапинку; три дня я буду скрежетать зубами и корчиться, как перерубленный червяк, после чего сыграю в ящик — разве что яд окажется некачественным либо старым, тогда мне всего лишь парализует полтела.
Кстати, о теле. Твоего земляка Дюмолара, который так хорошо играл на кларнете и любил вышитые батистовые галстуки, взяли в плен и съели индейцы племени пяннакотавов, союзники мятежных негров.
Мой сержант Пиппер, тебе известный, тоже был в плену у этих индейцев и видел, как с Дюмолара сняли скальп, а потом зажарили целиком. Пиппер говорит, что им это было очень кстати: Дюмолар попал на свадебный стол к дочери вождя пяннакотавов, некоего Уров-Курова. Пиппер говорит также (а он — сама правдивость), что невеста — прекрасная меднокожая девица, вся расписанная ярко-красной и темно-зеленой красками; на нижней губе она носит три висюльки из зубов тигра, убитого женихом. Самого Пиппера должны были не изжарить, а сварить на другой день к завтраку, но ему удалось бежать. Он сейчас со мной и сердечно тебе кланяется.
Передай также родным нашего батальонного казначея папаши Ван Хопа, что и этот достойный человек на обратном пути, к несчастью, погиб, и прелюбопытнейшим образом. Дело было вечером; мы осторожно шли берегом лагуны по густой траве в мангровых зарослях, остерегаясь негритянской или индейской засады. Папаша Ван Хоп показал мне на бревно, прикрытое травой, и сказал: «Вот ствол гуайявы — сяду-ка я на него; право, присяду, не могу больше. Моя рана, должно быть, отравлена, все плечо заледенело. Так я дальше не смогу идти. Какая разница — негры тебя убьют, тигры съедят или пяннакотавы. Ну ее к Богу, эту войну!»
«Как хотите, папаша Ван Хоп, — ответил я. — Вам, должно быть, полнота ваша мешает (а растолстел он, любезный друг, как бочка). Этому горю не поможешь. Только если вы и вправду решились дальше не идти, будьте другом, оставьте мне, пожалуйста, ваши сапоги. Я третьеводни утопил башмаки в болоте и все ноги стер в кровь, так что буду очень вам обязан».
Этот старый себялюбец папаша Ван Хоп прямо заклекотал по-орлиному:
«Вот еще! С чего это я вам, милейший, отдам свои сапоги! Может, я отдохну и дальше пойду».
Я обиделся, но виду не подал и говорю:
«Дело ваше. Я попросил у вас сапоги, потому что вижу — вы человек конченый; но раз вы так уж не хотите, то и разговора нет. Очень они вам пригодятся, сапоги-то ваши!»
Я и не думал, насколько окажусь прав, и ты сейчас увидишь, как был наказан казначей за жадность (впрочем, я от всего сердца прощаю ему). Не успел я закрыть рот, как раздались два ружейных выстрела и прозвенело с полдюжины стрел: мы нарвались, как я и предполагал, на засаду. Пяннакотавы с боевым кличем бросились на нас. Мы их отбили, я сам убил двоих. Заварушка продолжалась с четверть часа.
Я вернулся назад вдоль лагуны, чтобы подстрелить еще несколько уплывавших индейцев. И что же я вижу? Около самой воды стоит огромный удав, на которого, приняв его за ствол гуайявы, присел папаша Ван Хоп. Стоит на хвосте, весь раздулся — значит, проглотил слишком крупную для себя добычу. Сейчас ты все поймешь. Удав задушил бедного казначея в своих кольцах и заглотил его на две трети, начиная с головы, а ноги еще высовывались из пасти.
Со мной был сержант Пиппер, я подал ему знак; одним ударом он отрубил змее голову. Тело заплясало, как рыба на песке, но папаша Ван Хоп так и остался в пасти удава. Мы опоздали: сержанту Пипперу удалось вытащить только сапоги. Они мне славно послужили, и я ношу их до сих пор.
Отсюда мораль: отдай казначей сапоги добровольно, мне носить их было бы приятнее. Понятно, что на такой войне сантиментов не водится: тут, как говорится, спеши сделать другому то, чего себе не желаешь. Мои солдаты по шерстке тоже никого не гладят: со всеми захваченными неграми и индейцами мы обошлись, могу похвастаться, как они того заслуживают.
Я до сих пор не сказал тебе, как произошел этот мятеж. Лет десять назад мароны (беглые негры) спрятались в суринамских лесах в верховьях Сарамеки и Коппенаме (поищи на карте Гвианы). Понемногу все порченые рабы в колонии присоединились к этой сволочи и начали вытворять такое, что пришлось высылать против них отряды войск и ополченцев из местных жителей, но они перебили и тех, и других. Дело дошло до того, что жаждавшие мира колонисты, лишь бы только перестали разорять и жечь их поселки, пошли на переговоры с неграми и дозволили им жить на левом берегу Сарамеки, не переходя ее. Это все равно, что просить стаю волков не ходить на овчарню. Негры перешли Сарамеку и стали нападать на прибрежные низины.
С тех пор как эти бандиты обосновались на Сарамеке, там укрываются все гвианские воры. Десять лет жители были принуждены то воевать с разбойниками, то платить им дань. Однако к началу нынешнего года их вождь Зам-Зам столь усилился, а его набеги стали до того опустошительными, что три недели назад я получил приказ изловить бандита среди лесов, болот и ложных саванн бири-бири. Я потерял больше восьмисот человек из девятисот и многому научился. Надеюсь, теперь я столько знаю об этой войне и о местности, что в другой раз не потеряю и двух третей отряда.
Скажу тебе об этих ложных саваннах бири-бири: это нечто вроде озер из жидкой грязи, покрытых корочкой торфа, на котором растет зеленая травка несравненной красоты. Кто ступит на нее ногой, сразу проделывает дырку и проваливается ad patres. (Вот те на! Я заговорил по-латыни — будто вернулись школьные годы в гаагском колледже). У негров невероятное чутье распознавать, какие лужайки ложные, какие настоящие — такие скоты! Мы же, к несчастью, так не умеем, поэтому утопили там кучу народа, и все зря, ибо за весь трехнедельный поход я ни разу не догнал Зам-Зама. Я довольно повоевал в Европе, но здесь война совсем другая. Наши колониальные войска отказываются идти на Зам-Зама: чтобы поймать проклятого разбойника, нам крайне нужны новобранцы из Европы, которые еще ничего не знают.
С тем же кораблем, что и это письмо, отправляются депеши нашего губернатора, он просит подкреплений. Это разумно, потому что Суринам и Парамарибо в опасности: у нас осталось только 1800 морских пехотинцев. Как видишь, война здесь хороша!
Если твой сын — слушай хорошенько, Геркулес! — если твой сын и впрямь такой бешеный воин, как ты пишешь, посылай его ко мне. Я позабочусь о нем, как о родном сыне, а он будет первым в атаке и последним в ретираде. Ты пишешь, что он падок на опасности, так здесь он ими натешится — только выбирай, да и колонии пользу принесет. Для такой войны потребны не люди, а сущие черти — слышишь, Геркулес!
Ну, а мне такая война не больно нравится. Но раз уж я здесь, приходится драться как сумасшедшему — отрабатывать жалованье и защищать свою шкуру. Быть может, это мое последнее письмо к тебе: ведь если зазубренные стрелы были отравлены, считай, что я сложил голову в вылазке против Зам-Зама.
Как бы то ни было, всех тебе благ, любезный друг мой Арди. Вспоминай иногда старого приятеля, а я выпью пинту бордоского вина за твое и за свое здоровье. Закончу по-солдатски: трусов долой, молодцы в бой!
Майор Рудхоп».
— Ну, сынок, — сказал актуариус Геркулесу, — что ты об этом думаешь?
IV
Доброволец
Закончив читать письмо майора Рудхопа, актуариус поневоле растрогался. Он утер глаза рукой и сказал:
— Славный мой майор! Чудо-человек! Золотое сердце! Смейся, смейся над моими слезами, непреклонный! — обратился он к сыну. — Если застанешь Рудхопа в живых, то непременно скажи моему старому другу, как тронуло меня его письмо. Скажи, что ты видел мои слезы. Я уверен, что моя слабость не будет ему неприятна.
С этими словами актуариус благоговейно сложил и убрал в стол драгоценное послание.
Нетрудно догадаться, с каким ужасом выслушал Геркулес повествование майора. Он довольно часто слышал рассказы об ужасной войне, разорявшей в то время Гвиану, и понимал, что «славный Рудхоп», как называл его актуариус, ничуть не преувеличивает.
Геркулес будто оцепенел, но он так давно привык машинально повиноваться отцу и бесстрастно вторить героическим его словоизвержениям, что не посмел возразить и на этот раз. Слушая чтение, он все время сидел как каменный, с недвижным лицом, глядя в одну точку, сложив руки на коленях.
Актуариус постоянно краем глаза поглядывал на Геркулеса — на лице молодого человека не отражалось никакого душевного движения. Ослепленный своей мечтой, отец, как всегда, принял немой ужас за высокомерное презрение к опасности. Он опять подошел к сыну и сказал ему с легким упреком:
— Никто так не восхищен твоей неустрашимостью, как я, — она делает людей, подобных тебе, нечувствительными к самым страшным опасностям, какие только может вообразить себе человек. Но всему есть граница. Признаюсь, сын мой, я думал, что тебя хоть немного взволнуют беды, перенесенные моим славным старым другом Рудхопом. Быть может, бедного майора уже нет на свете! Ведь стрелы, к несчастью, вправду могли быть отравлены, как он и полагал… Боже мой!
— Батюшка, — испуганно сказал Геркулес, — вы не думайте…
— Довольно, сын мой, — прервал его актуариус. — Мне не следовало упрекать тебя. Каждому свое. Не бывает у ястреба нежного сердца голубки; не бывает гордый лев ласков, словно ягненок. Я внимательно следил за тобой, пока читал письмо славного Рудхопа. Несчастного Дюмолара жарили на огне — ты был как каменный. Удав пожирал папашу Ван Хопа — ты был как каменный! Негры гибли под страшными пытками — ты по-прежнему сидел как каменный!
— Видите ли, батюшка…
— Господь правосуден, — продолжал актуариус с выражением глубокой философской меланхолии. — Он наказывает нас тем, что живейшие желания наши исполняет в преувеличенной степени. Я молил, чтобы сын мой был храбр, чтобы был достойным отпрыском рода Арди. Бог даровал ему смелость и отвагу, доходящие — увы! — до устрашающей нечувствительности. Так и должно было быть, да оно и к лучшему. Разлука не будет так прискорбна… для тебя — хотя бы для тебя, жестокий сын! — воскликнул актуариус с неподдельной нежностью и взволнованно простер руки к сыну.
Геркулес был сражен наповал одной только мыслью о том, какие страсти ему предстоят, однако ощущал, что как бы ни был он смертельно напуган, скорее отправится в Гвиану к майору Рудхопу, чем признается отцу в своем страхе. Итак, приступ нежности актуариуса не нашел отклика в сердце Геркулеса, тем более что самых неслыханных опасностей для себя он ожидал и от шального и воспаленного воображения своего отца, причем не без основания.
Поэтому Геркулес, не в силах оторваться от сиденья, ответил на порыв мейстера Арди лишь почтительным кивком.
— Скала! Подлинно каменное сердце! — в унынье воскликнул актуариус и уронил на колени руки, простертые было в отеческом объятии. — Что ж, должно смириться. Давно уж я живу с мыслью, что однажды мне придется расстаться с сыном. Орленок, научившийся летать, улетает из родимого гнезда и не смотрит назад… Я был готов к этому. Жертва тяжела, однако же необходима для славы семьи Арди.
Но, к счастью, предчувствие — а я твердо верю своим предчувствиям, они никогда меня не обманывали — предчувствие дозволяет и велит мне дать волю твоей отваге и страсти к приключениям. Внутренний голос говорит мне: испытав ужасающие опасности, ты вернешься ко мне — и я верю ему. Не он ли убеждал меня, что ты из того же материала, из которого делают героев? Обманул ли он меня? Нет! Ведь ты геройски нечувствителен, даже чересчур. Значит, и на сей раз он говорит правду.
Геркулес содрогнулся при мысли о том, что предвещала ему отцовская проницательность.
В эту минуту в арсенал к актуариусу вошла фрау Бальбин и доложила:
— Сударь, к вам штурман Кейзер с поручением от начальника порта; говорит, что дело очень важное.
— Пусть войдет, — со вздохом ответил актуариус.
Вошел жених молочницы Берты.
То был сильный и статный загорелый человек лет тридцати, с живым, открытым и решительным лицом, с веселыми глазами. Светлые непудреные волосы были собраны на затылке медным кольцом, под расстегнутым воротом полосатой сине-белой тельняшки видна была мускулистая, как у быка, шея. На нем была старая куртка, расшитая на воротнике и рукавах выцветшими серебряными позументами. Фламандские штаны грубого сукна были подпоясаны красной шерстяной лентой и заправлены в огромные рыбацкие сапоги, доходившие до середины бедер.
Не было во Флиссингене моряка веселее Кейзера. Многие девушки завидовали молочнице Берте, когда в воскресенье шла она на гулянье, опираясь на руку штурмана, одетого в лучшее платье с золотой медалью на серебряной цепи за спасение корабля.
Но при мейстере Арди, веселый и бесшабашный в порту и на палубе, Кейзер робел. Актуариус по должности вел дела о контрабанде и браконьерстве, а также о нарушителях порядка и о кабатчиках, вербовавших матросов на иностранные суда. Стало быть, в глазах штурмана он был «судейский», а Кейзер, по общему у всех моряков предрассудку, считал всех судейских людьми злокозненными и невероятно опасными, ибо они умеют самые невинные слова каким-то адским манером так переделать и перетолковать, что честнейшего человека как раз отправят на виселицу.
С тяжелым сердцем принял Кейзер поручение от начальника порта, а товарищи-матросы, все как один, наставляли его перед уходом, чтоб он остерегался старого актуариуса и, как говорится, семь раз поворачивал во рту язык, прежде чем сказать слово.
— Помни, — говорили они, — бомбардира Франса повесили только за то, что один судейский чихнул, а Франс сказал ему: «Будьте здоровы!» А у судейского-то на Франса был зуб. Вот как это крапивное семя умеет, с чертовой помощью, запутывать самые простые вещи.
Кейзер вдвойне был склонен внять этим благоразумным советам, так как, по его разумению, старому актуариусу было за что на него осердиться. Молочница Берта со смехом рассказала ему, как Дурашка погналась за Геркулесом, а тот плюхнулся в грязь прямо под ноги прачкам. Кейзеру это показалось вовсе не так весело, как молочнице.
— Нет хуже, — сказал он угрюмо, — чем поссориться с судейским: ведь всему Флиссингену известно, чья невеста Берта. Значит, если актуариусу придется не по нраву, что его сын так оскандалился, то и Кейзер добра не жди. А против гнева актуариуса, уж известно, никакой удалец не устоит.
Так что, входя к мейстеру Арди, Кейзер держался настороже и чувствовал себя неловко.
В арсенале стоял таинственный полумрак. Мейстер Арди сидел с унылым видом, сын его был бледен и испуган, манекены в ржавых доспехах желтели восковыми лицами из-под забрал. От всего этого Кейзеру стало вовсе нехорошо. Пот катился у него со лба; весь красный и смущенный, он стоял на пороге, так и этак крутил в руках матросскую шапку и не смел сказать ни слова.
Миссия или, лучше сказать, комиссия у него была простая — передать актуариусу следующее: «Мейстер Арди, начальник порта просит вас сейчас же пожаловать с судовой ролью на корабль «Вестеллингверф»; судно отчалит завтра».
Но штурман точно знал: если уж судейский на тебя за что сердит, так найдет, к чему прицепиться, — ведь повесили же бомбардира Франса за то, что он в простоте душевной сказал судейскому «будьте здоровы». А в длинной фразе, которую надо было произнести Кейзеру, штурман видел не один десяток подводных рифов.
— Ну, что тебе, говори! — грубо сказал ему актуариус. — Долго ты будешь пялить на меня свои бычьи глаза?
«Пропал», — подумал штурман. В словах актуариуса он увидел грозный намек на то, что Дурашка, телка Берты, обидела Геркулеса. Он поспешно возразил, полагая, что все понял и досконально обдумал:
— Дурашки смирней нет, господин актуариус. Это все знают, так же ясно, как то, что луговая мельница — репер в проливе Мэйфлауер.
Мейстер Арди изумленно посмотрел на моряка и завопил:
— Какая, к дьяволу, Дурашка, какая мельница, какой пролив? Ты спятил, что ли, или смеяться надо мной пришел, болван?
Кейзер понял, что был неосторожен, и решил половчей поправиться:
— Ладно, ладно, господин актуариус, я, положим, не говорил про Дурашку, ничего не говорил. Да она уже не Бертина; Берта сроду не держала черных коров. Две недели, как она продала ее мамаше Брауер за сто франков и шесть локтей фризского полотна. Так что Берта здесь ни при чем. Штурман за чужую посудину не отвечает, как говорится.
Понять Кейзера стало совсем невозможно, но говорил он очень серьезно и явно озабоченно. Актуариус убедился, что моряк его не разыгрывает, и спросил, сдерживая себя:
— Да скажи ж ты, наконец, ненормальный, в чем дело. Тебя прислал начальник порта, так ведь?
— Точно так, господин актуариус, — уверенно ответил Кейзер.
— Так что ты несешь про черных коров и мамашу Брауер? При чем здесь начальник порта?
— Ни при чем, господин актуариус, решительно ни при чем. Раз телка погналась за вашим сыном — мое вам почтение, господин прапорщик! — а он упал в грязь у ручья, значит, и начальник порта здесь ни при чем, и Берта тоже ни при чем — телку-то купила мамаша Брауер.
— Что это значит, болван? — сказал актуариус, гневно глядя на моряка. — Мой сын, прапорщик, убегал от коровы? Ты поосторожней, а то, я слышал, ты шатаешься за рыбой к заказанным банкам и часто бываешь в «Надежном якоре», где собираются все здешние контрабандисты!
— Господин актуариус, господин актуариус, — забормотал напуганный его угрозами Кейзер, — вот не брать мне в руки лота и подзорной трубы, если почтенный господин прапорщик — вот он сам подтвердит — не убегал…
— Замолчи, — сказал актуариус.
— Моряк говорит правду, — произнес Геркулес. — Я действительно убегал от коровы.
Кейзер вздохнул, словно гору с плеч сбросил.
— Ты убегал от коровы?! Ты, Геркулес! — откликнулся актуариус. — Нет, этого не может быть.
— Да, я убегал от коровы, — еще раз сказал Геркулес, втайне надеясь, что это признание отвратит отца от его опасных геройских замыслов.
— Убегал от коровы! — опять произнес актуариус, не веря своим ушам.
— Я убегал от коровы, потому что перепугался, — бодро сказал Геркулес, думая, что окончательно уничтожает надежды отца. — Слышите, батюшка: перепугался и убежал.
Актуариус на несколько секунд погрузился в размышления, потом поднял голову. Он сиял — развеялись посетившие его сомнения насчет отваги сына.
Мейстер Арди горделиво указал на него и возгласил:
— Как небрежно он признается, что испугался коровы! Сейчас видно: человек настолько силен, что не боится признаваться в маленьких слабостях. Вот чем довершено сходство моего сына со славнейшими полководцами древнего и нового времени. Почти все они чего-нибудь неодолимо боялись. Ганнибал боялся мышей, Эпаминонд — пауков, Тюренн — сверчков, Мальборо не выносил яблок. Но и разница велика. У Геркулеса тоже своя антипатия, но в его антипатии есть даже нечто грандиозное, величественное, героическое. Его устрашает не какая-нибудь букашка или тростинка, но мать и подруга одного из самых свирепых в свете созданий — быка! — Актуариус обернулся к Кейзеру и с торжеством спросил: — Ты все видел и слышал, почтенный штурман. С замечательным чистосердечием он признается, что перепугался телки, — так не храбрец ли он?
Актуариус, видно было по всему, был совершенно доволен. Кейзер успокоился, отнеся благополучный исход встречи с судейским на счет собственного хитроумия, и ответил:
— Точно так, господин актуариус: он храбро убегал, очень храбро. Не много найдется храбрецов, которые так побегут от Дурашки!
— Ты говоришь здраво, штурман Кейзер. Спроси внизу у фрау Бальбин стакан Канарского вина. Только за каким же чертом тебя все-таки прислали?
— Меня прислали передать вам, господин актуариус, что начальник порта ожидает вас с судовой ролью на борту «Вестеллингверфа»; завтра судно отчаливает. В арсенале страшная суета: слышно, на судно срочно сажают какие-то войска. Одни говорят, их отправляют на север, другие говорят — на юг. Да какая разница: и на севере, и на юге самый храбрый моряк в иную минуту с тоской помянет берег, — вздохнул Кейзер, подумав о Берте.
Слушая моряка, актуариус о чем-то думал, потом хлопнул себя по лбу и воскликнул, обращаясь к сыну:
— Так ведь с «Вестеллингверфом» как раз и отправляют солдат по просьбе суринамского губернатора! Твой полк туда не посылают, но я вижу по глазам, ты во что бы то ни стало жаждешь присоединиться к этой экспедиции. Что ж, надо решиться, надо заставить себя отбросить все твои прихоти… Лишь бы ты застал в живых славного моего Рудхопа, а уж он будет для тебя вторым отцом. Ну же, вперед! Увы, вперед, безжалостный Геркулес! Слышишь барабан? — продолжал он. — Нет никаких сомнений, это срочно сажают на корабль солдат для отправки в Гвиану. У тебя меньше суток на сборы. И о чем я только думаю? Пойдем вместе, штурман Кейзер, я тоже зайду к фрау Бальбин — надобно распорядиться.
На другой день мейстер Арди, утешаясь предчувствием, что сын его, претерпев бесчисленные опасности, непременно должен вернуться к нему невредимым, нежно поцеловал Геркулеса и проводил его на «Вестеллингверф», который в тот же вечер отплыл в Гвиану.
Весь город только и говорил, что об отваге Геркулеса Арди, который добровольно отправился на опасную службу в колонии, хотя его полк туда не посылали.
V
Озеро
Нидерландская Гвиана, расположенная в северной части Южной Америки, ограничена Атлантическим океаном с севера, рекой Помарон — с запада, рекой Марони, отделяющей ее от Французской Гвианы, — с востока и озером Амач, границей португальских владений, — с юга.
К востоку от Суринама, главного города колонии, вдоль моря простирается большой лес, повсюду пересеченный реками: большой рекой Комевиной и множеством впадающих в нее ручьев, текущих с гор. Из-за тропических дождей и высоких атлантических приливов все эти реки и ручьи часто выходят из берегов, так что низины в лесу, почти всегда затопленные, постепенно превратились в огромные болотистые озера.
Стоячая вода с корнем вымывает деревья из почвы, через несколько лет деревья полностью разлагаются и местами на поверхности болота образуется тонкая корочка из их перегноя, вскоре покрывающаяся ослепительной зеленью. Эти иловые корочки — по-индейски «бири-бири» — не выдерживают ни малейшей тяжести, и если кто-нибудь по неосторожности ступит на них, у него под ногами разверзнется бездна, наполненная густой вязкой грязью, и тотчас затянет его. Подобные трясины тем опаснее, что их зеленая поверхность точно такая же, как на полосках твердой почвы, пересекающих, словно естественные плотины, эти огромные болота.
В одно из таких болот мы и поведем читателя.
Дело было в конце июня 1772 года, часа в четыре вечера. В одном из самых глухих и пустынных мест в лесу находилось озеро из числа тех, какие мы описали. Его питал рукав Комевины, протекавший вдали под густой зеленой сенью прибрежных мангров.
Ничто не может быть грустней и величественней, чем мертвая тишина, царившая на всем этом огромном пространстве. Неподвижное, тусклое, свинцовое с зеленоватым отливом озеро, пересеченное несколькими зелеными полосками, поглощало в своей бездне мерцающий свет палящего солнца, не отражая ни лучика.
Гладкая, как оловянное зеркало, вода была так тяжела, что, когда ее задевал крылом пролетавший ярко-красный кулик или белый ябиру, из-под крыла взметалось всего несколько жемчужно-матовых капель.
С пронзительными криками кулики и ябиру носились над обширными зарослями водяных лилий, гигантские листья которых были сплошь покрыты клубками желтых змей с черными пятнами. Когда к ним подлетали птицы, змеи еще теснее стягивали свои жуткие петли, поднимали плоские головки и уползали так быстро, что только и видно было, как мелькали среди зелени золотые и черные блики.
Наконец какая-нибудь птица, вытянув длинные красные ноги, хватала добычу, широко раскрывала сильные молочно-белые крылья и уносила в изогнутом клюве шипящую, судорожно дергающуюся змею на берег, чтобы там сожрать.
Стаи коричневых, с красными шеями, лабрадорских уток пятнами пестрели на поверхности болота. По временам они стремительно взлетали, оставив пару товарок в пасти прожорливого каймана, высунувшего из воды отвратительную голову, покрытую зеленоватой чешуей.
Вокруг трясины росли огромные, двенадцатифутовой высоты, тростники и гибискусы с малиновыми цветами. Среди гигантских трав стояли также сенеки с розовыми зонтиками, щетинники с алыми ягодами, крушина и столетник. Широкая лента этих растений доходила до самой лесной опушки.
Опушка цвела всем великолепием, всей мощью тропической растительности. Там росли невероятной высоты катальпы, магнолии, тюльпановые деревья, сассафрасы, пальмы и бананы.
Их непохожие кроны смыкались в огромные купы разных оттенков и причудливых форм. Огромные лианы, кирказоны, бигнонии и гранадиллы опутывали деревья, тесно прижавшиеся друг к другу, своими бесконечными стеблями. Отростки вьющихся растений путались с ползучими кустарниками, повсюду стелившимися по земле, и создавали непроходимые заросли.
Среди этих масс темной зелени кое-где выделялся бук с багряными ажурными листьями, сахарный клен с полосатой бело-голубой древесиной, папайя — царское дерево, чей прямой высокий ствол похож на колонну чеканного серебра с капителью из изумрудных листьев, под которой изящно свешиваются, покачиваясь, рубиновые плоды.
Пестрые попугаи с голубыми крыльями и зелеными хохолками на ярко-розовой голове, утомившись от зноя, в поисках прохлады спустились на землю, к корням деревьев, несмотря на природный страх перед змеями и ягуарами.
Ни ветерка, не шелохнется гладкая поверхность озера. Душно, воздух напоен едким запахом водяных цветов и жарким, влажным дыханием непроницаемого для солнца леса.
Солнечный диск, спрятавшись за верхушками деревьев, испускает потоки лучей, горячих, как расплавленная медь. Постепенно они угасают и теряются в лазурном небе, которое на горизонте становится цвета темного ультрамарина с отблесками полированного золота.
Как мы сказали, не проносилось ни малейшего ветерка, но верхушки высокой травы на правом берегу болота вдруг слегка заволновались: в траве кто-то полз. След медленно тянулся от леса к берегу озера.
Несколько потревоженных в своем уединении серо-пурпурных колпиц вылетели из тростников и низко над водой перелетели через озеро. Внезапно с левого берега раздался хриплый, мрачный крик совы, называемой по-индейски «тайбай» — птица смерти.
Трава на правом берегу перестала волноваться: тот, кто полз, мгновенно замер. Снова раздался тот же крик, теперь уже дважды, на разные голоса и как будто из разных мест.
Через несколько минут трава на правом берегу снова зашевелилась, след потянулся дальше от леса к озеру, и вскоре, осторожно отогнув гибкие тростинки, у воды появился индеец на четвереньках. Замерев на несколько секунд под широкими листьями водяных растений, он внимательно и зорко оглядел все вокруг.
Это был вождь племени пяннакотавов, союзников беглых негров; звали его Уров-Куров. Все его тело было выкрашено в ярко-красный цвет семенем арноки, растертой в бобровом жире. На нем был полосатый желто-синий хлопчатобумажный набедренник; длинный нож висел на кожаном поясе. Ствол карабина, который он держал в правой руке, был тщательно завернут в непромокаемый чехол из тапировой кожи; ружье висело на перевязи, украшенной кабаньими бивнями и тигровыми клыками. Порох лежал в хорошо закупоренном бычьем роге, а остальные пожитки — в сумочке из той же кожи, что и чехол на карабине.
Лицо индейца, выкрашенное, как и все тело, в красный цвет, было причудливо татуировано. Вокруг глаз у него были нарисованы темно-фиолетовой краской из зерен таповрипы два круга, имитировавшие змей, свернувшихся в кольцо, а от макушки (волосы у него были черные и заплетены в косы) вниз через обе щеки шли две полосы такого же цвета, сходившиеся на подбородке. Наконец, у вождя пяннакотавских воинов, союзников Зам-Зама, в носу было продето серебряное кольцо, а голову украшали несколько красных и синих перьев попугая, прикрепленных к обручу из ракушек.
Он навострил уши и прислушался, что делается на западе, затем сунул в рот два пальца и невероятно точно изобразил пронзительный свист тигри-фауло, то есть тигровой птички. Ему в ответ мрачно ухнул тайбай, и на другом берегу болота, в этом месте неширокого, в тростниках появился другой индеец с таким же оружием и такой же раскраской.
Пяннакотавы обменялись таинственными знаками, указывая на запад, где уже быстро клонилось к закату солнце. Они вновь залегли и затаились: тростники больше не колыхались.
Это болото пересекало несколько естественных плотин — тех, что, к несчастью, так похожи на бири-бири, торфяные корочки над грязевыми безднами. Одна из таких плотин, сделав несколько поворотов, тянулась вдоль озера в самом узком месте, на небольшом расстоянии от засады индейцев.
Пяннакотавы пробыли в засаде уже около получаса, и тут на берегу лагуны появился негр с двумя собаками. Он некоторое время осторожно шел вдоль берега, а затем свернул на плотину, сильно сокращавшую ему путь в восточную часть леса, избавляя от дальнего обхода.
Негр был в самом расцвете сил, его курчавые волосы начали седеть на висках. Роста он был высокого, сложения могучего, лицо имел волевое и доброе. Он носил широкополую шляпу из рисовой соломы, хлопчатобумажную куртку в бело-синюю клетку и такие же штаны, подпоясанные ремешком, на котором висели охотничьи принадлежности и короткий прямой остроконечный тесак, оправленный в серебро.
Он шел босиком, с ружьем наизготовку, по-охотничьи. На кожаной перевязи, вдоль которой по всей длине через большие отверстия была пропущена веревка из волокон алоэ, висело с дюжину привязанных за голову зуйков, бекасов и водяных курочек. Следом за ним бежали два небольших белых с рыжими подпалинами эпаньеля.
На левой руке негр носил браслет с серебряной бляхой, на которой крупными буквами было выгравировано: «Купидон. За верность европейцам, 1767».
Этой почетной бляхой губернатор Гвианы награждал негров, отличившихся в сражениях против бунтовщиков с Сарамеки. Негр Купидон, раб из поселения Спортерфигдт, заслужил эту награду многими подвигами в схватках с мятежными неграми свирепого Зам-Зама.
Когда же Купидон не состоял в гвианском негритянском ополчении, он исполнял на плантации Спортерфигдт должность негра-охотника, снабжая хозяев дичью. Охотился он превосходно: каждый раз его охотничья перевязь, или по-местному «ето-пай», была увешана богатой добычей.
Приученный остерегаться засад индейцев и беглых негров, Купидон приостановился на плотине, внимательно огляделся, подозвал собак (кобеля он звал Крахмал, а сучку Маниока[1]) и велел им, указав дулом ружья на воду, плыть к берегу и обнюхать заросли.
Крахмал и Маниока немедля повиновались безмолвному приказу хозяина. Прыгнув в воду по обе стороны от плотины, они тихонько поплыли каждая к своему берегу болота. Купидон был на расстоянии выстрела от спрятавшихся индейцев. Он остановился и стал наблюдать, учуяли что-нибудь собаки или нет.
У бобрового жира, применяемого в татуировке пяннакотавов, сильный прогорклый запах — по нему Купидон приучил своих собак делать стойку на индейцев.
На Крахмала, который плыл с подветренной стороны от индейца, сидевшего на левом берегу, сильно тянуло этим запахом. Шагах в двадцати от берега он уже сделал, если можно так выразиться, стойку в воде: не плыл вперед, а только греб лапами на месте и поглядывал на хозяина.
Купидон был опытным охотником и знал свою собаку: на таком расстоянии она никак не могла учуять болотную птицу. Теперь он твердо знал, что в тростниках прячется индеец.
Много понадобилось ему смелости и смекалки, чтобы избежать беды и пройти по плотине — единственной дороге в Спортерфигдт.
Опасаясь, как бы неприятель не расслышал слабый плеск воды от плывущей собаки, Купидон, когда пес в очередной раз смотрел на охотника, знаком подозвал Крахмала к себе. Крахмал послушно поплыл обратно к плотине и пополз к хозяину.
Маниока была в худшем положении, потому что плыла с другой стороны от второго индейца. Она доплыла до берега лагуны и полезла в траву. Купидон, не двигаясь с места, по волне в тростниках следил, как она ползет. Внезапно волна улеглась — охотник понял, что Маниока тоже сделала стойку.
Кто это — птица? человек? — неизвестно.
В таком положении негр рассудил за благо действовать, как если бы врагов на дороге было двое. К тому же, подходя к болоту, он слышал крики тайбая и тигри-фауло. В этом не было ничего необычного: хитрые индейцы, обмениваясь сигналами, всегда подражают крикам таких птиц, которые обычно перекликаются, ищут или преследуют друг друга. Но Купидон знал, что у индейцев бывает такой условный знак. Он оглядел оба берега острым, как у всех негров и у всех охотников, взглядом.
Вскоре он увидел там, куда указывала стойка Крахмала, почти неприметное движение в зарослях гибискуса. На его счастье, в этом месте слегка покачивался длинный багровый хохолок цветка, ясно выделявшийся на темной зелени и дававший, так сказать, верную точку прицела.
Недолго думая, Купидон выбил пыж из ружья, заменил дробь на пулю, снова забил пыж из смазанной салом кожи, взял другую пулю в рот, чтобы быстрее перезарядить ружье после первого выстрела, нащупал на груди какой-то амулет, поцеловал его, прошептал несколько слов, тщательно прицелился в замеченный куст и выстрелил наугад.
Пуля просвистела, срезала несколько тростинок и перебила стебель гибискуса с багровым хохолком точнехонько у самого корня. Крахмал решил, что хозяин, который промахивался редко, убил дичь, и собрался плыть за нею, но Купидон пригрозил ему и споро перезарядил ружье, внимательно наблюдая за действием своего выстрела.
Высокая трава на мгновенье взволновалась — судорожно дернулся спрятавшийся человек, и снова все замерло. Враг на левом берегу был почти наверняка убит или тяжко ранен — Купидон мог его не опасаться. Но, возможно, оставался противник, засевший на правом берегу.
Легкое дрожание тростника по-прежнему показывало место, где Маниока держала стойку, но не было никакой точной приметы, куда именно стрелять. Каждая секунда была на счету: Купидон сам мог стать мишенью для индейца.
Молниеносно бросился он в воду слева от плотины, а следом за ним Крахмал. Одной рукой негр держался за стебли водяных лиан, тянувшихся вдоль дороги, в другой нес над водой ружье. Он медленно передвигался по воде над поверхностью озера — точно на уровне плотины — оставалась только голова. Так он был в укрытии и мог безопасно наблюдать за действиями второго индейца.
Тростники тихонько раздвинулись, и пяннакотав, стоя на коленях с заряженным ружьем, осторожно высунул голову. Не увидев, против ожидания, на плотине никого, он совсем вылез из тростников, встал и беспокойно огляделся. Индеец решил, что, конечно же, выстрелил его вождь и негр упал в лагуну. Он поставил ружье к ноге и дважды крикнул криком тигри-фауло.
Никто не ответил.
В ту же секунду Купидон, не отпуская лианы, другой рукой прижал ствол ружья к какому-то камню, выстрелил так, что пуля пролетела над самой водой, и, по счастью, угодил индейцу в ногу.
Пяннакотав зашатался и упал без стона. Дважды он пытался подняться, но не смог из-за нестерпимой боли. Тогда он инстинктивно, как дикий зверь, пополз в тростники, чтобы укрыться от новых выстрелов.
Купидон был в восторге от своего искусства. Но у него остались сомнения, не спрятались ли поблизости еще и другие враги. Поэтому он добрался до зарослей колючего щетинника и, укрывшись за ними, вылез из воды.
От этого места до леса идти по плотине было уже недалеко, а заросли тростника по берегам лагуны были недостаточно густы для засады. Внимательно оглядевшись, Купидон быстро зашагал дальше в сопровождении догнавших его Крахмала и Маниоки. Скоро он миновал болото, вошел в лес и без приключений достиг первых вырубок плантации Спортерфигдт.
VI
Плантация
На этой плантации выращивали только кофе.
Подойдя к ней, Купидон остановился на высоком косогоре под бананом. Негр проверил и убедился, что дичь не пострадала от недолгого пребывания в воде, подозвал и приласкал собак, вытер пот со лба, отдышался. То и дело он с торжеством поглядывал в сторону озера.
Первый урожай кофе бывает именно в это время, в конце июня, второй же — в ноябре.
Невдалеке перед собой негр видел длинные ряды кофейных деревьев — всего около двух тысяч — в самой плодоносной поре. Красивые деревца, обрезанные для облегчения сбора на высоте человеческого роста, были посажены в десяти футах друг от друга. Их коричневая кора была полностью скрыта вечнозелеными листьями, гладкими и блестящими, как фарфор, слегка зазубренными, трех-четырех дюймов в длину. Листву обрамляли превосходные ярко-красные, как вишни, ягоды[2].
Солнце клонилось к закату. Все негры поселка — мужчины, женщины и дети — были заняты тем, что ссыпали собранный кофе в тростниковые корзины.
Работая, они пели монотонную и печальную песню, как это свойственно диким народам. Слова песни были на местном негритянском наречии — смеси голландского, английского и испанского, — на котором разговаривают все черные и цветные в колонии. Нет языка звучней и слаще этого: почти все его слова кончаются на гласный.
Песни негров очень просты. Один из них импровизирует запев на тему, имеющую какое-то отношение к работе, например:
«Кофе готов, насыпайте в лукошки,
Сегодня мы будем кушать похлебку,
Сегодня мы будем плясать под свистелку…»
Затем все работники повторяют эти слова, сопровождая их протяжными руладами.
У спортерфигдтских невольников был довольный и здоровый вид. Женщины носили яркие хлопчатобумажные юбки с бретельками на плечах. Мужчины ходили с голым торсом и ногами, в одних коротких подштанниках.
Вдалеке прозвучал колокол: это был сигнал к окончанию работы, ибо солнце быстро опускалось.
Купидон заторопился дальше, чтобы успеть в Спортерфигдт прежде, чем уберут мост через ров.
Вскоре он догнал других невольников. Мужчины и женщины несли на головах корзины с кофейными ягодами, дети — высушенные горлянки, в которых работники приносили себе обед.
Негры африканского племени коромантинцев, из которого происходило большинство невольников на плантации, и в их числе Купидон, высоко ценились за силу, сообразительность и послушание, так что у работорговцев коромантинцы шли на треть дороже, чем негры племени лоанго, обыкновенно ленивые, лукавые и злые.
Работорговцы и колонисты не могли спутать происхождение негров, ибо у каждого племени особенная татуировка. Коромантинцев узнавали по трем дугообразным шрамам на каждой щеке, шедшим от носа до уха, людей лоанго — по ромбовидным надрезам на груди и на руках.
Догнавший работников Купидон был встречен с душевным почтением — знак того, что он в милости у хозяев плантации.
— Славный выйдет гру-гру для массеры[3], — сказал Купидону один из негров, указывая на его охотничью перевязь, увешанную дичью. — Должно быть, твой порох и пули сами превращаются в зуйков, бекасов и водяных курочек.
Этот весельчак был толстым жизнерадостным негром, прозванным товарищами Тукети-Тук за то, что он был музыкантом и играл на короеме — барабанчике из пустой тыквы, обтянутой бараньей кожей. На таком барабане играют двумя палочками и, чтобы вести танец, беспрестанно повторяют в такт: «тукети-тук!»
— Мой порох и пули, Тукети-Тук, превратились не только в птицу, они превратились еще и в кровь пяннакотавов, — веско произнес Купидон и указал рукой в сторону озера, где проходил его бой с индейцами.
— Как, эти красные кулики присели на Комевине? — воскликнул барабанщик, остановившись и глядя на Купидона с недоверчивым изумлением. Продолжая одной рукой поддерживать корзину на голове, он воздел свободную руку к небу и воскликнул:
— Храни нас высший Массера! Никогда еще эти разбойники не переходили реки!
Молодой негр, крепкий и сноровистый, также с корзиной на голове, остановился, с любопытством посмотрел на Тукети-Тука и спросил, что случилось.
— Что случилось, парень? — сказал толстый барабанщик и сунул молодому негру под мышку свою корзину. — На-ка, возьми пока вот это. Случилось такое, что я прямо задохнулся. Не могу сейчас разговаривать с грузом на башке.
Молодой негр — впрочем, ему вполне по силам было нести двойной груз — простодушно послушал хитрого Тукети-Тука, а тот, очень довольный, пошел налегке рядом с Купидоном. Одураченный юноша поспешил следом, готовясь слушать во все уши, какими новостями поделится с ним за услугу толстый барабанщик.
— Сколько ты видел индейцев, Купидон? — спросил Тукети-Тук.
— Видел я только одного, но думаю, что ранил еще и другого.
Барабанщик покачал головой и возразил:
— Синие горы далеко от Комевины. Пяннакотавы выходят из своих карбетов[4] только большими отрядами. Вдвоем индейцы сюда не пришли бы. Значит, и вся шайка недалеко, а за ними наверняка идут мароны[5] с Сарамеки. Так что Зам-Зам близко: эти бандиты всегда держатся рядом.
— Зам-Зам! — в ужасе воскликнул молодой негр, внимательно слушавший разговор. — Зам-Зам убьет всех: и черных, и самбо[6], и массеру, как в поселке Нутенсхаделаита.
И почувствовав полнейшую необходимость выразить свой ужас в действиях, юноша поставил обе корзины на землю, сцепил руки, в отчаянье поднял их к небу и завел жалобную песнь:
— Зам-Зам перешел Комевину! Наши матери, сестры и жены — они сбреют себе все волосы, они повяжут синие платки[7]! Зам-Зам перешел Комевину!
Другие негры услышали его: роковая весть скоро распространилась, и все работники так заторопились к поселению, что Купидон с барабанщиком, едва уговорившие юношу успокоиться и подобрать корзины, подошли к мосту последними.
Спортерфигдт, как все почти колониальные поселки, был сильно укреплен: колонистам надобно было обороняться и от индейцев, и от мятежных негров, и от диких зверей.
Поселение находилось на берегу реки. На большом участке земли правильной формы располагались хозяйский дом, жилища негров, склады, амбары, сушильни для кофе, хлев и загоны для скота, наконец, сад с дорожками для прогулок, куртинами и огородом.
От реки был проведен обводный канал, со всех сторон окружавший этот большой параллелограмм широким и глубоким рвом с проточной водой. По ту сторону канала был насыпан узкий вал футов десяти высотой с равномерно расставленными будками из бревен, крытых листьями латаний. Во время тревоги в будках сидели часовые.
Пройти в поселение можно было только по подъемному, или, вернее, выдвижному, мосту — доске, которую в зависимости от обстоятельств выдвигали надо рвом или убирали внутрь.
Едва Купидон, Тукети-Тук и молодой негр вошли в поселок, мост убрали.
VII
Адоя и Ягуаретта
Главный дом плантации Спортерфигдт стоял на берегу реки. Это было длинное одноэтажное здание — деревянное, как и все дома в Гвиане, крытое пальмовыми дощечками, уложенными наподобие нашей черепицы.
Все негры высыпали свои корзины под наблюдением управляющего плантацией, тщательно проверяющего, каждый ли раб выполнил задание, а Купидон тем временем понес свою дичь в хозяйский дом на кухню.
Спустилась ночь: в тропических странах она наступает почти без сумерек. Неверный свет нескольких спермацетовых свечек в больших хрустальных подсвечниках освещал главную залу дома.
Это была большая комната со стенами из прекрасного лимонного дерева, соломенно-желтого, с прожилками, блестящего, словно от слоя лака. В комнате, вкупе с остальными вещами, стояли широкие тростниковые скамьи со спинками, столы и этажерки из пахучего цветного дорогостоящего дерева, очень грубой работы.
По стенам были повсюду развешаны охотничьи и рыболовные принадлежности; на подставке из железного дерева стояло несколько богато отделанных английских ружей, чрезвычайно маленьких и легких.
Несмотря на жару и духоту на улице, в помещении было очень свежо, так как с двух сторон комнаты на притолоках из превосходного красного дерева висели два огромных опахала. Два негритенка, с золотыми, украшенными кораллами, браслетами на руках и ногах и такими же ожерельями непрестанно махали этими опахалами, дергая за длинные веревки.
Посередине комнаты, на сквозняке, висел большой хлопчатобумажный гамак, невероятно искусно вытканный индейскими мастерами и украшенный яркими вышивками.
Гамак, наполовину закрытый от москитов газовым пологом, пропущенным через серебряное кольцо в потолке, покачивала пожилая мулатка в полосатом красно-желтом ситцевом платье и мадрасовом тюрбане. Лицо у этой женщины, некогда, должно быть, очень красивой, было лукавое и в то же время рассудительное. На шее она носила золотую цепочку, а на пальцах — золотые кольца. По красным сафьяновым сандалиям на босу ногу видно было, что она вольноотпущенница.
Мулатка сидела у столика лимонного дерева при свете ночника и внимательно изучала расклад карт, на которых были гротескно, чтобы не сказать безобразно, нарисованы всевозможные животные, цветы, птицы, плоды, белые люди и индейцы.
Две девушки, расположившись на подвесном ложе, с напряженным любопытством следили за кабалистическими манипуляциями Мами-За (так на плантации звали мулатку). Одна девушка сидела, другая полулежала. Не было на свете прелестней зрелища, чем эти две девушки рядом. Одна была белая, другая индианка.
Белой, Адое Спортерфигдт, осиротевшей хозяйке плантации, было двадцать лет. Индианке было шестнадцать; она была невольницей. Отец Адои прозвал ее Ягуареттой за гибкость, смелость, ловкость и, вероятно, диковатый нрав — во всем этом покойный плантатор, без сомнения, увидел сходство с характером ягуара.
Адоя была в длинном, без рукавов, декольтированном платье из тонкого муслина. Она полулежала в гамаке, подперев левой рукой голову, а правую положив на плечо маленькой индианке. Та, свесив с подвесного ложа ноги, прикрытые оранжевой юбкой, и сложив руки на коленях, так же сосредоточенно наблюдала за магическими действиями Мами-За.
Черты лица Адои были совершенно правильны. Свойственная креолкам особенная матовая белизна лица оттеняла глубокий черный цвет ее глаз, длинных ресниц, густых волос и выразительных бровей. Рот у нее был маленький и красивый, зубы белые, но губы бледные. В ее лице были видны решительность и привычка приказывать. Роста она была среднего, стан ее был легок и изящен.
Ягуаретта была много ниже Адои ростом. Кожа ее была медного цвета, но нежная, гладкая и атласная, как рисовая бумага. У нее были тончайшие шелковистые волосы, еще черней, чем у хозяйки, с синеватым отливом. Она изящно укладывала их косами вокруг головы.
Полудетские черты ее лица миловидностью, насмешливостью и хитростью впрямь напоминали кошачью породу. Большие круглые карие глаза, красивые брови, у висков немного изогнутые кверху, а ближе к очень плоскому носику — книзу, мелкие жемчужные чуть выдающиеся вперед зубки, да и все движения ее, необычайно гибкие, изящные, исполненные то силы, то нежной, завораживающей грации, также делали юную индианку совершенно похожей на этих красивейших и коварнейших на свете зверей.
Скажем еще, что отец Адои подобрал Ягуаретту совсем крошкой в лесу, после схватки с индейцами. Она была невольницей, но плантатор и его дочь растили ее в доме как любимицу, и она отвечала Адое живейшей привязанностью.
Еще в колыбели Адоя потеряла мать. Отец ее, неустрашимый и неутомимый, был принужден возделывать плантацию Спортерфигдт с мотыгой в одной руке и с ружьем в другой, обороняясь от набегов индейцев и маронов. Адоя жила среди постоянных тревог.
По натуре она была пламенна и решительна, отец воспитывал ее скорее как мальчика, чем как девочку. Пятнадцати лет она каждый день, взяв легкое ружье, ходила с отцом на охоту и соперничала с ним в удаче. В те несколько раз, когда индейцы нападали на поселок, она, отважная амазонка, не отставала от отца, когда тот, укрывшись со своими неграми за валом, выдерживал осаду Спортерфигдта и принуждал дикарей ретироваться.
После того, как Адоя осталась единственной наследницей, все заведование хозяйством было поручено управляющему. Он был белый, муж мулатки Мами-За. Управляющего звали Белькоссим. Честный, строгий, умный, деятельный, он был предан дочери плантатора Спортерфигдта, как прежде многие годы был предан отцу.
Таковы были две очаровательные свидетельницы кабалистических манипуляций Мами-За. Адоя продолжала называть свою кормилицу этим ласковым прозвищем (сокращенно от «мама Тереза»), которое дала ей в детстве.
— Ну же, Мами-За! Что говорят карты? — спросила Адоя нетерпеливо. — Скажи поскорей. Сегодня двадцать первое, ты все говорила, что прежде этого дня не стоит и заглядывать в твою абракадабру.
Мами-За властным движением руки велела ей замолчать.
Девушки лукаво переглянулись. Ягуаретта даже непочтительно скорчила мулатке капризную рожицу. Индианка и Адоя делали вид, что относятся к оккультной науке Мами-За без всякого уважения, но на самом деле глубоко в нее верили: часто предсказания мулатки сбывались благодаря самым необыкновенным случаям.
Наконец Мами-За медленно и важно разложила по определенным линиям и на неравном расстоянии последние карты, удовлетворенно поглядела на свое произведение, обернулась к Адое и сказала:
— Ну вот, дочка, иди теперь сюда, я скажу, что с тобой будет.
Легко, словно газели, Адоя и Ягуаретта спрыгнули с гамака. Адоя села на колени к кормилице, а Ягуаретта встала коленями на циновку, оперлась подбородком на столик, широко раскрыла и без того огромные глаза и приготовилась слушать чудесные пророчества Мами-За.
— Слушай хорошенько, дочка, — обратилась мулатка к Адое. — Я ждала этого дня, чтобы вновь испытать судьбу, потому что сегодня прошло столько дней в месяце, сколько тебе лет в жизни. Вот, смотри… — И мулатка принялась объяснять, указывая на карты пальцем. — На этих трех картах нарисован семилетник, что семь лет цветет и лишь потом дает плод. Трижды семь — двадцать один, и тебе двадцать один.
Адоя и Ягуаретта переглянулись и восхищенно покачали головами.
Мулатка взяла одну карту и продолжала:
— До семи лет ты была ребенком — это первый семилетник. — Она отложила карту в сторону. — В четырнадцать лет ты стала девушкой — это второй семилетник. — И вторую карту отложила в сторону. — В двадцать один год ты выйдешь замуж. Видишь — три раза по семь лет — три времени жизни: детство, девичество, замужество.
Это заключение, столь неопровержимо логичное, вновь привело Адою в восторг, и она задумчиво сказала кормилице:
— Как же, Мами-За, ты говоришь, что я выйду замуж в этом году? Здесь ведь нет никаких женихов — только Йосф Зюдерхан с плантации Зюдерхан, старый Схоутен и злой Улток-Одноглазый. Я за них не пойду — лучше так и умру в девушках.
— Я тоже, дочка, не вижу, чтобы кто-то из них на тебе женился, хотя все трое, говорят, тебя любят.
Адоя махнула рукой с царственным презрением.
— Видишь: вот болтливый желтый попугай — эта картинка у меня обозначает болтуна Зюдерхана. И три раза рядом с Зюдерханом легла сломанная караибская роза — знак несчастной любви.
— Бог с ним совсем, с Зюдерханом, — раздраженно сказала Адоя. — А кто же мой-то жених?
Кормилица подняла руку и продолжала:
— Злой Улток — то же самое: вот он, одноглазый кайман, а сломанная караибская роза все время ложится рядом.
— Ну и пусть! — воскликнула Адоя капризно, как избалованный ребенок. — Пускай кайман съест эту обезьяну, а обезьяна съест попугая. Я-то за кого выйду, мамушка?
— Сейчас я скажу тебе, дочка, за кого ты выйдешь. Погляди-ка, что там на карте в середине?
— Какая-то птица — я ее не знаю, но взгляд у нее гордый и смелый.
— А что на этой, рядом с ней, дочка?
— Белая горлица.
— А вот на этой?
— Прекрасная караибская роза в цвету сплелась с семилетником в плодах.
— А вот на этой?
— Мангровое дерево. — Называя карты, Адоя всякий раз вопросительно глядела на кормилицу.
— Значит, так, дочка: гордая птица, которую ты не знаешь, — это европейский сокол, он смел, как орел. Значит, красивый храбрый европеец едет теперь из-за моря, чтобы на тебе жениться.
— На мне? — спросила Адоя смущенно и радостно: каждая креолка мечтает выйти замуж за европейца.
— На тебе, — отвечала кормилица. — Вот эта белая горлица три раза подряд, как я ни перемешивала карты, так и ложилась прямо под крылышко к гордому соколу, а эта белая горлица, дочка, — это ты.
— Неужели я, мамушка? — воскликнула Адоя, всплеснув руками.
— А эта прекрасная караибская роза, что сплелась с семилетником, — это любовь, и будет она для тебя счастливой и разделенной, а случится это на двадцать первом году твоей жизни. Мангры же, у которых корни становятся ветвями, а ветви опять корнями[8], и дают новые побеги — это множество колен вашего потомства. Ох! — вздохнула кормилица. — Есть и на солнце пятна, не бывает небо безоблачно. Все время вокруг сокола извивается и шипит змея абома — знак пяннакотавов. Это значит — европейцу грозят большие опасности. Но вот эта пума говорит, что львиная смелость его выручит.
— Бедный европеец! — воскликнула Адоя, воздев руки к небу.
— Злая змея абома! — сказала Ягуаретта.
— Только вот еще что я вижу, — продолжала в раздумье кормилица. — Карты для европейца легли вроде бы хорошо, но три раза все гаданье мне смешала злая пантера. С одной стороны от нее тайбай, птица смерти, а с другой — гадофауло, птица радости…
Мулатка решила еще раз испытать судьбу и принялась раскладывать карты заново.
Адоя сидела, задумавшись. Предсказание кормилицы подействовало на нее особенно сильно, поскольку перед тем, по странному совпадению, ей два раза снилось, что она выходит замуж за военного из Европы, а пойти за европейца в эполетах — это для Адои было верхом счастья.
Выросшие в колонии голландцы-креолы бывали обыкновенно грубые пьяницы и игроки, любившие больше цветных женщин, чем креолок. Поэтому новоприбывшие офицеры, если только они выдерживали местный климат и жизнь среди опасностей, часто делали прекрасные партии.
Ясно, почему задумалась о предсказании Мами-За богатая, свободная, невероятно суеверная, слепо доверявшая бредням кормилицы Адоя.
Тем временем индианка сидела невозмутимо, опершись подбородком о край стола и глядя то на кормилицу, то на Адою. Только дважды Ягуаретта на какое-то мгновение крепко закрыла большие глаза, а ее верхняя губа почти неприметно дрогнула, приоткрыв белые зубки.
Это движение было молниеносно, однако еще несколько секунд лицо девушки сохраняло странное, почти зловещее выражение.
В это время, спросив сначала разрешения через черную служанку, в залу вошел управляющий Белькоссим и прервал кабалистические упражнения своей жены.
VIII
Управляющий
Белькоссим был высок, сухопар, силен, смугл, сед, с густыми черными бровями. Его строгое лицо выражало твердость, спокойствие и рассудительность, свойственные людям, которые перенесли и переносят ежедневно большие опасности, рассчитывая при этом только на себя.
Отец Адои, будучи хозяином умным и человеколюбивым, поступал не так, как другие плантаторы. Он не угнетал рабов непосильной работой и не держал их в черном теле, а старался быть с ними добрым, великодушным, справедливым и твердым в решениях, чтобы сама неволя стала для них сладка.
Негры работали у него немного меньше, чем у соседей, где их постоянно подгонял устрашающий бич управляющего, но жили дольше соседских рабов, постоянно изнуренных работой. Никто из них не пытался бежать, и Спортерфигдту гораздо реже, чем другим плантаторам, приходилось тратиться на дорогостоящую покупку новых рабов. Этим он возмещал свои убытки от умеренного использования силы невольников.
Но и этого было недостаточно нашему колонисту, так что все вокруг считали его глупым и опасным нововводителем. Он желал, чтобы его невольники были самыми счастливыми и работящими неграми в колонии. Он был разумный человек и понимал, что для человека главный стимул — выгода. Поэтому он предложил невольникам небольшую плату, возрастающую в зависимости от результатов труда.
Но, как все люди с малыми потребностями, рабы обыкновенно ленивы. И негры плантатора Спортерфигдта были довольны своим состоянием, а потому ограничивались той умеренной работой, к которой их понуждали, и не ощущали надобности работать больше.
Колонист не обескуражился. Он прекрасно знал характер негров. Обычно они недеятельны, но тщеславие их, будучи единожды возбуждено, не имеет границ. Он решил пробудить в них желания, чтобы невольники, стараясь удовлетворить их, сами стремились к работе. Несколько самых работящих негров были посланы сделать большую вырубку. За эту работу им причитались некоторые предметы роскоши для убранства их жилищ или украшения для женщин и детей, выписанные из Суринама.
Эта мера возымела замечательное действие. Каждый отец негритянского семейства хотел иметь в доме буфет, стол, несколько гравюр в рамочках, хотел видеть свою жену и дочь с красивым платочком и серебряной цепочкой.
Плантатор сделал так, чтобы за работу всегда можно было получить что-нибудь из этих чудных вещей. Вскоре почти все невольники, исключая нескольких неисправимых лодырей, изо всех сил старались заработать небольшую плату, выдаваемую хозяином, чтобы удовлетворить эти невинные прихоти.
Простодушное честолюбие негров казалось ребячеством, однако же оказало решительное действие на процветание плантации Спортерфигдт. Рабы более не ощущали себя согнанными на проклятое место и преданными жуткому жребию, спасти от которого могут лишь бегство или смерть. Постепенно они привязались к земле узами семейственности и радостями достатка.
Колонист вскоре убедился, что и там, где мало места для честолюбивых устремлений, само человеколюбие к невольникам может помочь в достижении делового успеха. Его рабы не вымирали от утомления и отчаяния, и за тридцать лет управления плантацией ему ни разу не пришлось покупать негра. Первых невольников заменило целое поколение рожденных на плантации — ловких, сильных, умных и послушных.
Негры, содержавшиеся в строгости, работали вдвое меньше, чем хорошие вольные работники. И наоборот, спортерфигдтские негры, довольные и трудолюбивые, давали хозяину большую прибыль, несмотря на то, что он им еще и платил.
Мало того, что он обходился полусотней рабов там, где сосед должен был употребить сто, — все у него делалось с таким тщанием, что на суринамском рынке кофе и сахар от Спортерфигдта котировались много выше, чем произведенные на других плантациях.
Видя такие дела и результаты, почти все плантаторы Суринама возненавидели счастливого соперника. Их бесило процветание Спортерфигдта; чтобы разорить его, они бы ничего не пожалели. Поселок пытались поджечь, пытались спровоцировать бунт рабов — но неутомимая деятельность управляющего Белькоссима, во всем похожего на хозяина, смелость и преданность негров торжествовали над упорным недоброжелательством.
Во время войны с восставшими неграми нескольких спортерфигдтских невольников послали в ополчение. Все они отличились, а некоторые, подобно Купидону, за храбрость и верную службу во имя спасения колонии были даже награждены серебряными бляхами.
Но ненависть соперников-мерзавцев была безгранична. По дороге домой Спортерфигдт был подстрелен из ружья возле бальсового дерева и умер несколько часов спустя.
Перед смертью плантатор, зная усердие и честность Белькоссима и не имея в Гвиане родственников, назначил его опекуном и наставником Адои, которой исполнилось тогда семнадцать лет.
С тех пор управляющий заведовал имением по методам своего хозяина. Враги Спортерфигдта, не смея грозить его дочери, всю свою ненависть обрушили на Белькоссима: много раз он чуть было не заплатил жизнью за несокрушимую решимость следовать великодушным устремлениям покойного плантатора.
IX
Гости
Белькоссим вошел в залу, где находились Адоя, Ягуаретта и мулатка. Вид у него был необычайно озабоченный.
— Что тебе, Белькоссим? — ласково спросила его Адоя.
— Нужен ключ от оружейной, массера.
— Ключ? Но зачем? — удивленно спросила Адоя.
Управляющий рассказал, как Купидон чуть было не попал в засаду, прибавил, что, по его мнению, в окрестностях наверняка скрываются и другие враги. Чтобы обезопасить себя от любых неожиданностей, он счел благоразумным раздать оружие неграм и выставить часовых.
— Но ведь говорят, что Зам-Зам возле реки Демерари, — сказала Адоя, — что он сжег там поселок Боэми, а его преследует майор Рудхоп с отрядом.
— Вчера он был там, а нынче тут. Послушайте моего совета, массера, дайте неграм оружие. Индейцы обычно не нападают одни на наши поселки, а пяннакотавские карбеты отсюда далеко.
— Ты прав, Белькоссим, — сказала Адоя, немного поразмыслив и без малейшего испуга: она давно привыкла смело встречать беспрестанные опасности. — Ягуаретта, подай мне ларчик.
Адоя хранила ключ от оружейной у себя отнюдь не из-за недоверия к управляющему, но так было заведено в доме — этот ключ всегда должен был находиться у хозяина. Вот и теперь Адоя достала его из ларчика слоновой кости и передала Белькоссиму, говоря со слезами на глазах:
— Боже мой! Сколько раз я видела, как бедный мой батюшка передавал тебе этот ключ и приговаривал: «Нет других таких отважных и честных рук для этого ключа!»
— Как я был верен отцу, так верен и дочери, массера, — серьезно сказал управляющий, по обыкновению невозмутимый и немногословный.
В эту секунду вошел Купидон и хмуро доложил Адое:
— Массера, сейчас в колокол у моста позвонил верховой с двумя слугами, просится переночевать: собирается гроза. Это плантатор из бухты Палиест. — Он криво усмехнулся.
— Улток-Одноглазый! — воскликнула девушка. — Я не люблю этого человека, я его боюсь. Что же, делать нечего: впусти его, Купидон, а ты, Мами-За, вели готовить ужин.
Купидон отправился исполнять приказание, но Белькоссим дал ему знак остановиться и сказал молодой хозяйке:
— Массера, всей колонии Улток-Одноглазый известен как отъявленный, жестокий злодей. По нынешним временам надо бы остерегаться неверных людей: в дорожном сундуке часто носят яд и фитиль для поджога.
— Что ты, Белькоссим! — воскликнула Адоя. — Что бы нам ни грозило, что бы ни случилось — как же я закрою дверь перед человеком, если он в бурю просит у меня приюта?
— Поберегитесь, массера! Спортерфигдтам не первый день завидуют, а для злодеев, вроде Ултока-Одноглазого, все средства хороши. Вам может дорого обойтись ваше великодушие.
— Господь с тобой, Белькоссим! — удивленно и недовольно возразила Адоя. — Ему ехать в бухту Палиест через болото — он там непременно утонет, если я его прогоню.
— Этого не нужно, массера, но можно дать ему переночевать в домике на том берегу канала — на случай, если он задумал дурное.
— Нельзя, Белькоссим, ей-богу, нельзя. Улток колонист, не чужеземец. Закон гостеприимства таков: если колонист приезжает к колонисту, хозяин уступает ему комнату и постель; когда батюшка однажды приезжал к Ултоку по делам, он ночевал в его комнате. Значит, и Ултока надобно пустить на ночлег в батюшкину комнату.
— Простите меня, массера, но в домике у канала…
— Говорю тебя, Белькоссим: для колониста это оскорбление. Как я могу оскорбить человека, у которого в доме ночевал мой отец? Нет, Белькоссим, как я сказала, так и будет.
Девушка произнесла эти слова столь повелительно и непреклонно, что управляющему скрепя сердце пришлось подчиниться и выполнить приказ хозяйки.
Адоя вышла вместе с Ягуареттой и Мами-За, чтобы надеть более парадное платье, несмотря на то, что ей было совсем не по душе принимать в Спортерфигдте такого неприятного человека.
Белькоссим же, хоть и подчинился хозяйке, был довольно предусмотрителен, чтоб не впустить в Спортерфигдт такого опасного гостя, как Улток, без величайших предосторожностей.
Подходы к каналу были открыты — враг не мог устроить там засаду, но ночь стояла темная, и управляющий боялся, как бы Улток не привел с собой больше людей, чем объявил. Если бы мост перекинули, то, случись что, убрать уже не успели бы.
Поэтому для разведки Белькоссим велел принести на вал и поджечь несколько вязанок сухого тростника. На мгновение окрестности поселка озарило яркое пламя, и при его свете осторожный управляющий убедился, что с Ултоком-Одноглазым действительно лишь двое слуг.
Мост выдвинули, и гость въехал. Он был в дурном расположении духа, в особенности из-за того, что его заставили долго ждать.
— Что это еще за огонь, болван, — сказал он Белькоссиму грубо, ибо собственного управляющего привык ни во что не ставить, — почему ты сразу мне не открыл? Ты что, разгонял москитов или устроил иллюминацию в честь дорогого гостя?
— Я не разгонял москитов и не устраивал иллюминации, — сказал Белькоссим невозмутимо.
— А что ты делал?
— Я делал, милостливый государь, то, что следовало.
— Гм! Ты не больно учтив, — со злобой сказал колонист, следуя за управляющим и Купидоном, который нес фонарь, — видать, неплохо тебе здесь живется. Когда твой хозяин был у меня в бухте Палиест, я встречал его расторопней, чем твоя хозяйка встречает меня.
— Массера Адоя сейчас выйдет в залу, — сказал управляющий Ултоку.
Он отворил перед ним дверь залы, гость вошел. Его встретила Мами-За: по приказу хозяйки и по обычаю она поднесла ему перед ужином мадеры и маринованных с пряностями фруктов.
Улток отказался. Мами-За оставила его одного.
Физиономия у этого человека была суровая, мрачная, а из-за нехватки глаза — и вовсе отвратительная. Ему было лет сорок. Он был высок ростом и очень тощ, хотя от природы, должно быть, крепкого сложения. Его мраморно-белое лицо пострадало скорее от всевозможных распутств, чем от возраста.
Если отец Адои представлял тип — к несчастью, слишком редкий — человеколюбивого колониста, то Улток-Одноглазый представлял тип колониста беспощадного.
Рано пресытившись деспотичнейшей властью и самым необузданным своеволием, он, чтобы возбудить угасшие чувства, повторял в меньшем масштабе, но с равной бесчеловечностью все чудовищные кровавые беспутства Тиберия, все смертоубийственные прихоти Гелиогабала, все чревоугоднические изыски Вителлия.
Он был богат, жил в чудно изобильной, несравненно плодородной стране, с климатом не столь уж нездоровым для привычного человека. По праву рабовладельца, силой и устрашением, он властвовал над черным и цветным населением своих земель; он мог до смерти замучить раба страшными пытками и заплатить пятьдесят луидоров штрафа. Улток жил в глуши, куда пристрастное правосудие никогда не заглядывает, поэтому, как и многие другие столь же жестокие колонисты, никогда не бывал наказан по людским законам.
Иногда рабы, доведенные жестокостью плантаторов до крайности, бунтовали и убивали хозяев — ужасающее наказание за отягощенное преступлениями существование! Однажды Улток сам пострадал от своего невольника, и, кстати, этот эпизод, во время которого он и потерял глаз, показывает, до каких пределов простиралась жестокость этого человека.
Однажды, жестоко наказывая негра, он велел поставить его посередине помоста площадью десять квадратных саженей, сплошь утыканного острейшими железными гвоздями. Куда бы ни побежал негр, чтобы прекратить пытку, он принужден был пробежать через половину помоста.
Перенеся эту страшную муку, обезумевший от боли раб набросился на плантатора, как свирепый тигр. Впился ему зубами в горло и выцарапал глаз. Излишне говорить, что колонист этого так не оставил: негр погиб от страшных, беспримерных по лютости мучений.
На Ултоке был темно-коричневый дорожный костюм с золотыми кантами на лацканах и петлях. Сапоги с тяжелыми серебряными шпорами были в пыли. Охотничий нож и пистолеты, без которых в колонии никто никуда не ездил, он снял и положил на скамейку.
Он выглядел озабоченным и обеспокоенным, беспрестанно переводил живой, подвижный взор с пола на стены, со стен на потолок — будто боялся остановить на чем-нибудь взгляд.
Дважды Улток, словно пораженный зловещими мыслями, провел костлявой рукой по изможденному развратом лицу. Внезапно он встряхнул длинными запыленными волосами, решительно поднял голову, в сердцах топнул ногой и саркастически воскликнул:
— Что, Улток-Одноглазый, ты дрожишь, как дитя? У тебя угрызения совести? Браво! Глупец, — продолжал он с кривой усмешкой, — поздно каяться в прошлых преступлениях. А каяться в том, что еще только задумал, рано. Ты сначала соверши свое преступление, а тогда и раскаивайся. Потому что, — заключил он с мрачной решимостью, — разрази меня гром, если эта бледная охотница не будет моей, клянусь тем глазом, который вырвал мне раб, и ад свидетель, что я сдержу свою клятву!
В этот миг дверь залы отворилась и вошла Адоя вместе с Мами-За и Ягуареттой.
X
Встреча
Наряд Адои был чрезвычайно прост и тем еще больше оттенял красоту юной креолки. Еле скрывая неприязнь к Ултоку, она холодно и с достоинством приняла его поклоны и благодарности.
Лицо у плантатора было зловещее, но голосу и словам, как ни странно, этот человек при желании мог придавать, напротив, чрезвычайно приятное и обольстительное выражение. Его речи были ласковы, выражения изысканны и цветисты, разговор занимателен и уснащен любопытными анекдотами.
Его познания, которые он умел передавать в общедоступной форме, были обширны и полны: иногда этому человеку наскучивало изобретать все новые зверства и бесчинства и он искал в науках способа украсить то глубокое уединение, которое давала ему жизнь среди рабов.
Но образование нисколько не исправило скверной природы Ултока, а лишь усугубило его гордыню: вознесясь в своем просвещении, он только сильнее презирал несчастных, находившихся вокруг него, ибо видел непомерное расстояние в уровне познания, разделявшее их.
Чтобы понравиться Адое, Улток готов был использовать все средства. Юная креолка внушала ему могучую страсть, еще более разгоравшуюся от препятствий: Адоя никогда не таила от него, что он ей не по сердцу.
Гостю было явно не по душе присутствие Мами-За с Ягуареттой, занявших свои привычные места на табуретках у столика. Желая, чтобы его понимала одна Адоя, Улток говорил по-голландски.
— Сударыня, — сказал он, — я давно желал иметь возможность засвидетельствовать вам мое почтение. Позвольте же рассказать вам, как я рад, что случай доставил мне это столь желанное счастие.
— Долг велит гостеприимно принимать всякого путника, сударь мой, — холодно ответила Адоя. — Батюшкин дом всегда открыт любому, кто просит о ночлеге.
— Если я обязан счастием быть принятым прекраснейшей креолкой Суринама лишь тому, что сравнен со всяким путником, — с улыбкой промолвил Улток, напирая на слово «всякий», — то не приходится на это обижаться. Стыдно ли принадлежать к толпе, когда толпа вся сплошь из королей?
На эту натянутую любезность Адоя ответила еле заметным движением головы и сказала Ягуаретте:
— Малышка, посмотри, готов ли ужин?
И более ни слова.
Улток скрыл досаду и продолжал, как ни в чем не бывало:
— Но знаете ли, сударыня, нельзя не восхититься, как это вы живете совсем одна в такой глуши. Я не говорю, что вам может быть скучно: я всегда был того мнения, что розы сами первые наслаждаются своим запахом. Но какая смелость вам потребна, чтобы противостоять опасностям, которые в наше смутное время грозят любому поселению!
— Я выучилась у батюшки ничего не бояться, сударь мой.
— Жаль, сударыня. Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы вы были как можно трусливей. Вы искали бы тогда руку, на которую можно опереться, и, быть может, вы избрали бы своим защитником меня.
— Любой, даже самой смелой женщине всегда нужна опора, сударь мой…
— И вы позволите мне быть вашим рыцарем? — живо вскричал колонист, перебив Адою.
— Благодарю вас, сударь, но у меня есть прямой защитник — достойный человек, на которого целиком полагался мой батюшка и могу положиться я.
— Я полагаю, это кто-нибудь из высших чинов колонии, — сказал Улток, притворяясь, будто не знает, о ком идет речь.
— Нет, сударь мой, тот, кому я могу всецело довериться, — это мой опекун, это… вот он, — закончила Адоя, указав на вошедшего в залу Белькоссима.
— Вот как? — сказал колонист, высокомерно взглянув на управляющего. — Какая досада, что я прежде не знал превосходных достоинств этого господина. Как говорят испанцы, имя на ошейнике защитило бы собаку.
Белькоссим не ответил ничего на эту грубую выходку и лишь переглянулся с молодой хозяйкой.
Слуга-негр распахнул обе створки двери из залы в столовую. Гость подал Адое руку — она не могла отказаться.
Стол был накрыт так же обильно, как и изысканно. Посуда была старинного тяжелого серебра, в фарфоровых ведерках со льдом стояли большие хрустальные графины, полные французских вин. Приборов на столе, почти квадратном, было четыре, и один из них, на почетном месте, отличался от остальных. Перед тарелкой стоял большой серебряный кубок с чеканкой, довольно хорошей работы. Его роскошь странно противоречила простым железным ножу и вилке с костяными ручками.
Заметив удивление Ултока, Адоя с неодолимой печалью сказала ему:
— Это батюшкино место, сударь мой.
Она села рядом и указала гостю место напротив себя. Белькоссим скромно уселся в конце стола.
Простые слова Адои «это батюшкино место» произвели на Ултока необыкновенное действие. Он взглянул на девушку помутившимся взором и воскликнул:
— Как, сударыня, здесь сидит ваш отец?
— Батюшку подло убили, — произнесла Адоя торжественно. — С того рокового дня его прибор всегда накрывают на том месте, где он сидел при жизни. — С горестной чувствительностью она продолжала: — Этот железный прибор был у батюшки еще тогда, когда он был беден и начинал создавать это поселение, и вы, друг мой, — она обернулась к Белькоссиму, — ему помогали. А этот богатый серебряный кубок поднесли ему негры с плантации в знак благодарности — это лучшее его сокровище. Он часто говорил, что этот скромный прибор и этот богатый кубок изображают, с чего он начал и к чему пришел. Бедный батюшка! — продолжала хозяйка. Забыв о присутствии гостя, она в слезах обратила взор на отцовское кресло. — Я как сейчас его вижу: какой он был добрый, почтенный…
— Довольно! Довольно, сударыня! — беспокойно воскликнул Улток и продолжал тихо и смущенно: — Простите меня, но это тяжелое для меня воспоминание. Я вашего батюшку знал, ценил его великие достоинства и не могу слышать о нем без тягостных ощущений.
Адоя, вся во власти горестных мыслей, сочла натуральным, что гость их разделяет. Ей даже был несколько приятен признак сочувствия в Ултоке.
Меж тем Белькоссим с самого начала разговора пристально глядел на колониста. Несколько раз под взглядом управляющего тот был вынужден даже опустить глаза. Из-за этого разговора ужин прошел еще печальнее, чем можно было ожидать.
Выйдя из-за стола, Адоя церемонно откланялась гостю и сказала, что Мами-За проводит его в спальню.
Мулатка взяла ночник и пошла впереди Ултока. Они прошли по длинному коридору. Мами-За открыла дверь комнаты, в которой ночевали спортерфигдтские гости, поставила свечу на стол и спросила Ултока, не нужно ли ему чего-нибудь.
— Нет-нет, — ответил он поспешно.
Прежде чем уйти, Мами-За с расстановкой произнесла пожелание, принятое в суринамских поселениях:
— Хозяин дает вам свою постель — дай же вам Бог мирных снов! — Она вышла и закрыла дверь.
— Постой! — крикнул Улток и шагнул к двери. — Так это комната… — Он не договорил.
Мулатка, решив, что гость зовет ее, вернулась и спросила, что ему угодно. Он потянул с ответом, чтобы не дать догадаться о своих прежних мыслях, и спросил:
— А где мои люди?
— В доме для проезжающих, массера.
— Пришли их ко мне, пусть помогут мне раздеться.
Мулатка поклонилась и вышла.
Оставшись один, Улток сумрачно поглядел вокруг и задыхаясь проговорил:
— Так это его комната — его комната! Он спал на этой постели… вот на этой! — И гость судорожно отпрянул от кровати.
Он подошел к столу и увидел часы на стене. Это были старинные часы из тех, что показывают также число и месяц. Машинально он посмотрел на них — и вскрикнул. Одиннадцатое сентября, пять часов… Он упал в кресло и спрятал лицо в ладонях.
Несколько мгновений он сидел, погруженный в раздумья, а после в бешенстве вскричал, обращаясь сам к себе:
— Нет, я безумец! Архибезумец! Сам себя не узнаю! Два раза я сегодня терял голову и вел себя как младенец. Хорошо еще, эта гордячка была до того сама взволнована, что не заметила моего смятения. Но вот этот мерзавец Белькоссим… что-то он несколько раз на меня странно поглядывал. Ничего! Надо скорей возвращаться с добычей в бухту Палиест. Дома я тверд по-прежнему, а в гостях — дрожу и трушу. Что же Тарпойн и Силиба медлят — уж не заподозрил ли чего этот управляющий? Нет, все в порядке: вот они, слышу, идут.
Дверь открылась, и в комнату к плантатору вошли два угрюмых мулата.
XI
Тарпойн и Силиба
У рабов — Улток окрестил их зловещими именами двух местных ядов — были такие же свирепые лица, как и у хозяина. Они были близнецы и совершенно похожи друг на друга. К Ултоку они были слепо и безрассудно привязаны — так иногда хищные звери в неволе привязываются к укротителю. Они были преданны и бесстрашны и часто служили покорным орудием зверств плантатора.
Улток не раздевался. Прежде чем заговорить с рабами, он вышел из комнаты убедиться, что их никто не подслушивает: перегородки в местных домах обыкновенно очень тонки.
Внимательно все осмотрев и удостоверившись в безопасности, колонист вернулся, но заговорил все-таки шепотом:
— Где вас поместили? — спросил он Тарпойна.
— В доме рядом с сушильней для кофе, массера, — ответил тот.
— Вас запрут на ключ, это ясно. А что окна?
— Мы подумали об этом, массера. Решеток нет. Если нужно, мы сможем спуститься во двор на поясах.
— Как только вас запрут, спускайтесь и ждите меня у моста.
— Слушаем, массера.
— Но здесь ли Уров-Куров? — сказал колонист себе под нос.
— Перед заходом солнца Уров-Куров с сыновьями были в лесу, массера.
— Откуда ты знаешь?
— Они с сыном спрятались в тростниках у бири-бири и хотели убить здешнего охотника.
— «Серебряную бляху», — пояснил другой мулат, — одного из самых храбрых людей в колонии.
Он имел в виду знак, которым Купидон был награжден за храбрость.
— А ты это откуда знаешь? — удивленно спросил Улток.
— Они не убили «Серебряную бляху», он сам одного индейца ранил, а другого, может быть, убил.
— Сейчас он рассказывал об этом на кухне, — добавил Силиба.
— Проклятые растяпы! — воскликнул колонист и в бешенстве топнул ногой. — Так высунуться! Они все погубят, все! Уров-Куров старый воин, как он мог быть так неосторожен? Все пропало, здешние люди наверняка готовятся к обороне.
— Должно быть, так, массера, — ответил Тарпойн. — В доме неспокойно, и я видел, как через двор идут негры с оружием.
— Чума забери этих индейцев! — в новом приступе гнева повторил колонист. — Такой случай пропал!
— Если хочешь, массера, мы можем поджечь сушильню, — сказал Силиба.
— А в суматохе зарежем Белькоссима, — продолжил Тарпойн. — Без управляющего негры будут все равно, что куры без агарми[9].
— Индейцы прячутся теперь в кофейных деревьях и ждут сигнала, — продолжил Силиба. — Они увидят пламя и придут сюда, а мы выдвинем для них мост.
— Я узнал, где комната молодой хозяйки, — сказал Тарпойн. — Она заперта изнутри, но, — продолжал он таинственно, — на мой голос откроется. Пока тушат пожар, мы с братом похитим бледнолицую барышню. Завтра на рассвете она будет на твоей шхуне, и мы выйдем из бухты Палиест в море. Если за ней приедут к тебе на плантацию, ее там не найдут и подумают, что она в плену у пяннакотавов Уров-Курова.
Покуда рабы излагали этот гнусный план, впрочем, очень мало отличавшийся от того, что придумал сам плантатор, Улток сидел и размышлял.
— А если сушильня не загорится! — грубо ответил он. — А если ее потушат? А если вас поймают при попытке поджога, скоты?
— Ты не отвечаешь за своих рабов, массера, — возразил Силиба.
— Мы не справимся — мы и пострадаем, — продолжил Тарпойн.
— А под пыткой вы не заговорите, не признаетесь во всем? — грозно вопросил Улток.
Эти слова не столько возмутили, сколько огорчили близнецов. Они переглянулись, а Тарпойн, сдерживая волнение, с упреком сказал хозяину:
— Разве Силиба сказал хоть слово, разве дрогнул хоть раз, когда перед тобой, чтобы испытать его мужество, я жег его раскаленным железом?
Он засучил брату рукав куртки и показал глубокий шрам у того на руке.
— А разве Тарпойн, — сказал Силиба, — сказал хоть слово, разве дрогнул хоть раз, когда перед тобой, чтобы испытать его мужество, я сжимал ему голову железным обручем?
Он приподнял брату густые волосы и показал коричневато-красный шрам на лбу. Потом продолжал:
— Тогда, массера, ты тоже боялся, что мы можем заговорить под пыткой, а мы хотели успокоить тебя и доказать, что не выдадим тебя, если нас обвинят в убийстве…
— Тихо! — сказал колонист, грозно глядя на рабов.
— Так пусть массера не укоряет так своих рабов! Им эти упреки неприятны, они их не заслужили.
— Ладно, болваны, ладно. Не заговорите — выполните свой долг, только и всего, — сказал Улток.
Так же, как и укротитель хищных зверей, знающий, что будет растерзан при малейшем признаке слабости, плантатор не показал, что тронут оправданиями своих рабов.
— Что ж, — молвил он со свирепой ухмылкой, — давайте, поджигайте… Чего бояться жечь дрова тому, кто пролил кровь. А как вы это сделаете?
— Сушильня деревянная, — сказал Силиба.
— А наш гамак из хлопка, — сказал Тарпойн.
— А я принес серные фитили, — сказал Силиба.
— Хорошо. Но вы мне отвечаете головой, что ни с белой барышней, ни с индианкой ничего не случится.
— Будь покоен, массера, твои рабы сумеют заговорить огонь, — сказал Тарпойн.
— Молодая хозяйка Спортерфигдта доедет до бухты Палиест свежей, как караибская роза на кусте, — прибавил Силиба.
— Так идите, помогай вам сатана! — сказал Улток.
Оба мулата вышли. Плантатор закрыл дверь на засов и стал беспокойно ходить по комнате.
XII
Купидон
Пока мулаты идут в отведенное для них помещение, мы перенесем читателя в жилище Купидона.
В одних поселениях участь негров была жестока, в других же ей бы позавидовали самые благополучные наши крестьяне. Убедимся в этом, обозрев жилище Купидона.
Дом охотника был выстроен подле вала. Над крышей из листьев латании возвышались кроны апельсиновых деревьев — близ экватора они достигают неслыханной для других мест высоты. Они были покрыты цветами и множеством плодов. Нижние ветви, ломившиеся от тяжести, были подперты длинными шестами.
Вокруг дома был огород, а в огороде на грядках росли ямс, бататы, ананасы, мускусные дыни — превосходные овощи и фрукты, рождаемые этой плодородной землей почти без обработки.
На маленькой клумбе жена Купидона красавица Иезабель сажала еще цветы для букетов в дом. Сам дом был разгорожен надвое: в одной половине — кухня, в другой — спальня.
На кухне, освещенной пучком морского тростника, что дает больше света, чем тепла, сидели Купидон, Иезабель, сын их Квако, красивый негритенок лет десяти-одиннадцати, и веселый барабанщик Тукети-Тук. Купидон пригласил его отведать брафа — нечто вроде рагу из тушеных подорожника и ямса с солониной, копченой рыбой и кайенским перцем, — который мастерски готовила хозяйка дома.
Браф был подан на глиняном блюде собственной работы Купидона. На столе были также острый суп из макельфизи, великолепной рыбы, похожей на лосося, которую варят с нежными стручками ванили, дающей ей особый аромат; большая морская черепаха, запеченная в собственном панцире, политая лимонным соком, посоленная и поперченная; наконец, дагену — печенье из кукурузной муки, разведенной в молоке с медом. Рыбу и черепаху для главных блюд этого ужина поймал не кто иной, как негритенок Квако.
В доме не было ни пылинки. На буфете стояло множество кувшинов, блюд и мисок из тыкв со своего огорода. Тыквы были натурального цвета красного дерева, почти вся посуда была еще ярко расписана. Это собрание кухонной утвари тоже сделал сам Купидон, коротавший таким образом долгие вечера в сезон дождей.
Наконец, на чисто вымытых деревянных стенах висели плохо гравированные раскрашенные портреты принца и принцессы Оранских в золоченых рамках. Купидон долго копил деньги на эти гравюры; теперь они были предметом восхищения и зависти всех черных и цветных жителей Спортерфигдта.
Ужин стоял на столе красного дерева, покрытом тростниковой циновкой, сплетенной Иезабелью. Толстый музыкант готовился отдать ему должное. Купидон снял с плеча и повесил на стену оружие. Пес Крахмал и сучка Маниока лежали у его ног.
Сладко бывает человеку, который, избежав благодаря собственной ловкости и смекалке большой беды, сидеть теперь среди своих ближних! Такой радостью светилось и лицо нашего охотника.
— Надо подкрепиться, — сказал Купидон, накладывая Тукети-Туку вторую порцию брафа, — а то, может, ночь будет жаркая. Если Белькоссим просит у массеры ключ от оружейной — значит, что-то будет: так просто его не напугаешь.
— Точно, Купидон, надо подкрепиться, — согласился барабанщик, нисколько не устрашенный количеством дымящегося у него в тарелке брафа. С набитым ртом он продолжал: — Сейчас управляющий дал мне карабин и кортик, как в прошлом году. Не свистеть мне больше в кембатету[10], если я не постреляю вволю да не пощекочу пяннакотавских красных куликов!
— Беда одна не ходит, — сказал Купидон. — Там индейцы, а здесь у нас в поселении Улток-Одноглазый.
— Слушай, Купидон! — Тукети-Тук положил деревянную вилку на скатерть-циновку. — Лучше бы я увидел у себя в доме вампира[11] на потолке или ворона на крыше, чем этого окаянного злодея здесь у нас! Ты знаешь, что он недавно сделал у себя в бухте Палиест?
— Опять какое-то зверство?
Барабанщик, подняв глаза к небу и в ужасе покачивая головой, отвечал:
— Один его негр убежал к маронам. За ним погнались два хозяйских мулата, такие же злые, как сам Улток. Они догнали негра и поймали, а он, защищаясь, ранил одного мулата. Когда его привезли обратно в бухту Палиест, Улток-Одноглазый велел отрубить ему голову. Череп он велел обтянуть его же кожей и сделать барабанчик-кероему, а из костей сделали палочки. Он дал этот жуткий барабан отцу того негра, старому барабанщику Тайбо, и негры плясали под него.
— Храни нас от этого, высший Массера! — воскликнула Иезабель, прижав к себе своего мальчика и в ужасе глядя на Купидона и толстого барабанщика. — Но как же наша барышня не боится принимать у себя такого изверга?
— Массера Спортерфигдт — да не изгладится его доброта в наших сердцах, — отвечал Купидон (все сотрапезники благоговейно повторили его слова), — так вот, массера Спортерфигдт однажды ночевал в бухте Палиест. Теперь его дочь не может не пустить хозяина бухты Палиест. Всякий колонист, какой бы он ни был злодей, вправе попросить ночлега у другого колониста — это закон.
На этом месте беседу невольников прервал управляющий: он вошел, сделал знак Купидону и вышел вместе с ним.
Было часов десять вечера. В поселке стояла совершенная тишина. На валу горели костры из веток латании, освещая все четыре будки над каналом вокруг поселка. У костров ходили часовые с ружьями и подбрасывали ветки в огонь: при свете костра можно было разглядеть любые передвижения врагов. Все люди, способные носить оружие, были собраны в большом амбаре и готовы выйти по тревоге.
— Двух мулатов Ултока поселили рядом с сушильней, — сказал Белькоссим Купидону, — они такие же злодеи, как и их хозяин. Боюсь я, как бы эти дьяволы чего-нибудь не устроили. Сейчас они долго о чем-то шептались с хозяином: я их видел, но не слышал. Он не ложится, ходит по комнате одетый. Все это подозрительно. И что в лесу индейцы, тоже подозрительно. Запрись вместе с этими негодяями и всю ночь от них не отходи. Если хочешь, можешь пойти с Тукети-Туком, да захватите оружие — они люди очень дерзкие и на все способны.
— Массера, — ответил Купидон, — послушайте меня: вы бы лучше взяли их в смирительный дом, приковали хорошенько за руки, за ноги и за шею, да и спали бы себе спокойно. Хоть бы раз с этими бандитами обошлись по заслугам!
— Никак нельзя, барышня не позволит. Выходит, мы по одному только подозрению нарушим законы гостеприимства. Оскорбить слугу — оскорбить хозяина. А может быть, ничего страшного и нет. Ты человек смелый, сообразительный, зоркий. Я поручаю тебе за ними следить. А я сам незаметно послежу за Ултоком-Одноглазым.
— А как же они нас с Тукети-Туком пустят, массера?
— Скажи, что вы зашли к ним по-братски — весело провести эту ночь за чертобоем[12]. Возьми бутылку у моей жены. Они не смогут отказаться, это будет подозрительно. Но гляди, не напивайся.
— Массера! — сказал Купидон с упреком.
— Нет, за тебя-то я спокоен, — сказал Белькоссим, — а вот за этот старый бурдюк, за Тукети-Тука…
— Тукети-Тук, массера, любит тыкву, полную чертобоя, не меньше, чем тыкву, обтянутую бараньей кожей. Это правда. Но если речь о том, чтобы защитить Спортерфигдт и нашу барышню, я за него ручаюсь.
— Ну так идите скорей к этим окаянным близнецам — по душегубству они, право, такие же близнецы, как и на вид! Уже поздно, скоро наступит час, когда совершаются лихие дела.
— Будьте покойны, массера, Купидон сделает все, что в силах сделать верный слуга.
— Я знаю. Ступай же, — сказал Белькоссим, и они расстались с охотником.
Полчаса спустя Купидон и Тукети-Тук, взяв фонарь, полную флягу чертобоя и немного маисового печенья, осторожно вошли в комнату к двум братьям. Те спали или притворялись, что спят. Купидон открыл фонарь, вынул свечу и посветил в лицо мулатам, лежавшим рядом в гамаке.
Их черты были довольно правильны, но лоб плоский и покатый, как у змеи, нос крючком, как у хищной птицы, губы необычайно тонкие, почти незаметные, подбородок выступал вперед, брови же особенным образом сходились над переносицей, резко опускаясь книзу и как бы исчезая в глубокой вертикальной складке. Все это придавало их медным лицам дикое, кровожадное выражение.
Казалось, они мирно спят. Дышали они спокойно и мерно, их позы были совершенно расслабленны — никакой принужденности, никакого напряжения, обычно выдающих притворный сон.
Купидон и Тукети-Тук молча посмотрели на них и в сомнении переглянулись. Толстый барабанщик шепотом сказал:
— Кажется, спят… да так мирно — прямо младенцы в тростниковой люльке. Такой у них невинный вид, будто не они служат человеку, который делает барабаны из черепов!
Купидон, не отвечая, еще пристальнее вгляделся в лица мулатов. Никаких признаков обмана не было. Чтобы окончательно убедиться, он наклонил свечку и капнул горячим воском на лоб Тарпойну. Мулат даже не поморщился и дышал все так же ровно.
— Он не спит, — шепотом сказал Купидон барабанщику. — Если бы спал, от неожиданности проснулся бы.
— Да нет же, — возразил Тукети-Тук, — просто так спит, что ничего не чувствует.
— Вот и ладно. Это злые люди. Сделаем, как нам велели — зарежем их, а трупы спрячем, ты знаешь где.
И Купидон, с шумом вытащив нож из ножен, замахнулся и, сделав вид, что хочет ударить в открытую грудь Силибы, задержал руку всего лишь на волосок от тела.
Силиба бровью не повел и продолжал спать, как ни в чем не бывало.
— Я же говорил: спят, как ленивцы зимой. И отлично, а то еще разговаривать с ними! Я лучше согласен свистеть носом в раскаленную докрасна бронзовую дудку, чем пить с такими душегубами! Сядем-ка тут, Купидон, закурим да будем на них посматривать. К тому же и выпивки с закуской нам больше останется. А завтра утром пусть, наконец, едут лихие гости из Спортерфигдта. Право, они не хуже Уров-Курова.
Купидон согласился с барабанщиком. Негры закурили глиняные трубки с чубуками рожкового дерева, уселись под гамаком и стали сторожить.
Мулаты не спали, но так владели собой, что за все время испытания ничем себя не выдали.
Купидон сел у двери, а Тукети-Тук у окна. Они курили, болтали и совсем не собирались, как надеялись братья, поддаваться сну.
Близнецы умели понимать друг друга с полужеста и придумали такие хитрые знаки, что для обмена мыслями им довольно было совсем неприметных движений. Тарпойн, два раза нажав пальцем на сердце Силиба, дал тому понять, что негров нужно зарезать. Силиба, тихонько оттолкнув локтем его руку, дал понять, что он с этим не согласен. Глубоко, звонко и протяжно выдыхая воздух, он ясно дал понять Тарпойну, что, пока негры не уснули, нечего и пытаться что-нибудь сделать.
Но Купидон и Тукети-Тук курили свои трубки да изредка прикладывались к чертобою, будто принимая с каждым глотком новую порцию болтливости.
Мулаты, чтобы не возбудить подозрений каким бы то ни было неудачным действием, вынуждены были в эту ночь отказаться от всех своих злых замыслов.
Их решение было тем разумней, что вскоре с вала, где стояли часовые, раздались выстрелы. Купидон и Тукети-Тук вскочили и бросились к окну. Мулатам тоже пришлось сделать вид, что близкие выстрелы их разбудили.
— Кто-то из красных куликов подлетел к каналу, — сказал Купидон. — Но наши уже все на ногах. А вот и наша барышня храбро, как всегда, вышла с ружьем. Когда она идет во главе своих людей, для нас все племя пяннакотавов, напади оно на Спортерфигдт, не страшней мушиного роя.
Тарпойн сделал вид, будто удивлен, увидев у себя в комнате Купидона с барабанщиком:
— Вас прислал наш хозяин, — спросил он, — чтобы позвать на помощь для защиты Спортерфигдта?
— Дайте нам оружие, — продолжал Силиба, — мы побежим на вал.
Мулаты выскочили из гамака.
— Оружие вам ни к чему, братец мой, — сказал ему Купидон. — Они не отвечают на наши выстрелы. Я за полмили отличу выстрел индейского ружья от колонистского — стреляли только наши. Просто тревога. Да вот уже наши все поставили ружья и возвращаются в амбар.
— Эй, Томи! — крикнул Тукети-Тук приятелю из окна. — Что там за шум?
— Часовой на северном валу увидел, что один индеец вышел из леса. Он подпустил его поближе и выстрелил. Да жаль, промахнулся, индеец убежал. Нахально он, однако, высунулся: видно ведь, что огни зажжены, стало быть, люди при оружии.
— Ладно, — сказал Купидон мулатам, — что делать, раз вышла такая неприятность, что вас разбудили, давайте вместе дождемся рассвета — ждать уже недолго. Допьем эту флягу чертобоя. Мы ведь ее вам и несли: посидеть ночку по-товарищески.
— Раз вы нам это предложили, то мы соглашаемся, — ответил Тарпойн, злобно глядя на Купидона.
Так, благодаря предусмотрительности Белькоссима, закончилась эта ночь, которая могла бы стать для Спортерфигдта роковой.
Скоро встало солнце. С его первыми лучами Улток и мулаты уехали. Проходя мимо одного окна в доме, Тарпойн дважды провел пальцем над правой бровью. Жалюзи в окошке приоткрылись, и на землю упал платочек. Тарпойн победоносно посмотрел на него и шепнул брату:
— В другой раз белая барышня от нас не уйдет!
Едва злодей колонист уехал из Спортерфигдта, раздался бой барабанов и в поселок вошли две роты гренадеров под командой майора Рудхопа, приятеля актуариуса Арди.
Новые передвижения Зам-Зама на западе вынудили развернуть значительные военные силы, и на некоторое время окрестности Спортерфигдта должны были стать центром боевых действий колониальных войск.
XIII
Майор и сержант
Белькоссим доложил молодой хозяйке Спортерфигдта о прибытии солдат, а Мами-За отвела майора Рудхопа в назначенную ему комнату. Вскоре к нему пришел сержант.
Майору было лет пятьдесят. Он был очень высок ростом, широкоплеч и довольно дороден — чистейшей воды фламандец и внешностью, и флегматичным характером.
У него были густые льняные усы, такого же цвета коротко стриженные непудреные волосы, узкий лоб, полные румяные щеки, прыщеватый нос картошкой, маленькие голубые глазки, а отвисшая нижняя губа как бы сама по себе постоянно просила трубки — короче, это был тот самый тип пьяницы, который так любил Теньер.
Невзирая на штаб-офицерский чин, наряд на нем не только не был форменным военным, но только что не карикатурным, однако же говорил о том, что майор хорошо знал способы уберечься от опасностей жаркого климата. Фриц Рудхоп повязывал голову платком голландского полотна, а сверху надевал огромную шляпу из тростниковой соломы. Он носил также муслиновую рубаху почти до колен с герметически застегнутыми воротом и рукавами. На обширном чреве своем майор перехватывал это прохладное и легкое одеяние ремнем из буйволовой кожи, к которому прицеплял кинжал и пару пистолетов. Большие сапоги из тапировой кожи, непромокаемые и предохраняющие от змеиных укусов, доходили ему чуть не до пояса. Когда солнце пекло слишком сильно, майор не стеснялся раскрывать над собой большой зонтик, а в прочее время ходил с толстой, окованной железом палкой, наподобие швейцарских горцев.
Майор принимал эти предосторожности против нездорового климата не от слабости либо малодушия — в опасности он выказывал самую холодную неустрашимость. Он попросту полагал, что солдат должен беречь свое здоровье (следовательно, силы) так же тщательно, как оружие, и всегда быть готовым бодро нести службу. В конце концов, говорил он, пехотный майор получает пятнадцать флоринов жалованья в месяц за то, что сражается с мятежниками и индейцами, а отнюдь не с солнцем, лихорадкой и змеями.
Не то чтобы сержант Пиппер безрассудно подвергал свое здоровье действию губительного климата, но во всем он был полной противоположностью майору. Он был из тех старых солдат, которым только и дышится, что в мундире, застегнутом на все крючки и пуговицы: они живут в нем, как черепаха в панцире.
Пиппер, сорока лет от роду, был среднего роста, худой, костлявый, загорелый. Он носил зеленый камзол с оранжевым воротом, перетянутый и застегнутый, пристежной кожаный воротник, кюлоты и высокие кожаные гетры. Зачесанные назад гладкие волосы были заплетены в косу, перевязанную черной лентой и доходящую до середины спины.
Перед боем сержант украшал свою косу всеми возможными ленточками, стекляшками и побрякушками, которые попадались под руку. Это был своего рода вызов индейцам — не раз они пытались в пылу схватки поймать сержанта за косу и оскальпировать.
Флегматичный, безотчетно храбрый, со шпагой на одном боку, с лядункой на другом, с карабином на спине и с алебардой в руке, сержант шагал по густым дебрям и гиблым топям Гвианы так же спокойно, как на параде на амстердамском плацу.
К великому огорчению Пиппера, страстного поборника дисциплины и воинского порядка, майор дозволял своим солдатам некоторую вольность в одежде. Но Фриц Рудхоп оставался тверд в своих взглядах и не снисходил к жалобам сержанта. К его чести надобно сказать, что хотя вид у его солдат был не более воинский, чем у начальника, однако в бою они, подобно ему, выказывали завидную смелость и хладнокровие.
Таковы были новые гости Спортерфигдта.
Читатель уже несколько знаком с сержантом и майором из того письма майора к отцу Геркулеса, которое решило вопрос об отправке нашего молодого героя в Гвиану.
Майор не посмел явиться к хозяйке поселения (он уже несколько раз встречался с нею в Суринаме) в дорожном костюме. С помощью Пиппера он надел более подобающее платье — зеленый фрак с майорскими знаками различия — и в нем предстал перед Адоей.
У юной креолки вид был несколько усталый: она была взволнована и не выспалась, ибо после ночной тревоги до самого утра думала про светловолосого европейца, храброго и прекрасного, про суженого, который, по гаданью мулатки, приедет из-за моря и женится на ней.
Кроме того, опасность, только что угрожавшая поселению, наводила Адою на мысль, что ей необходим защитник. Хотя она и сама была не из робких, но с радостью доверила бы заботы о защите поселка этому таинственному незнакомцу.
Адоя, просто и со вкусом одевшись, вошла вместе с Ягуареттой в залу, где майор покуда отдавал должное мадере и печеному подорожнику, поднесенным мулаткой.
— Что же, господин майор, — сказала Адоя, грациозно подавая ему руку, — неужели опять война?
Майор почтительно поцеловал Адое бледную ручку и ответил:
— К несчастью, похоже на то, сударыня. Зам-Зам опять пошаливает на этом берегу Эссекебо. От двух поселков остались одни угли, которые этому самому Зам-Заму годны разве только для пыток — но таких пыток, что как о них узнаешь, так хочется не оставить на этом подонке, попадись он только, ни кусочка кожи на теле, а то и похуже.
— Что за ужас эта война, господин майор!
— Да, сударыня, дело нешуточное. Всех наших пленных либо скальпировали, либо съели. Что ж, оно отчасти и к лучшему — для дисциплины полезно, никто не отстает. Ребята боятся, что их перехватают поодиночке, и бегут, как ненормальные, наступают друг другу на пятки. И мародерствовать никто не отлучается, даю вам честное слово.
— А известно, где сейчас Зам-Зам, господин майор?
— Его опять видели на западе. Губернатор хочет не допустить его до обжитых мест колонии. Спортерфигдт же как раз находится на границе, и губернатор справедливо полагает, что, если сделать его оперативной базой, мятежников удастся отбросить в горы, а то и вовсе захватить. Вот письмо от губернатора, сударыня. Он просит вас принять моих молодцов на постой на два-три дня, а за это время они построят себе на берегу Комевины походные домики: четыре бревна, шесть листьев латании и моток бечевки.
— Вы можете располагать Спортерфигдтом столько, сколько потребно, господин майор. Я распоряжусь, чтобы мои негры помогли вашим солдатам строить домики, а когда лагерь будет готов, вы, надеюсь, не откажетесь поселиться в Спортерфигдте?
— От души бы согласился, сударыня, но, когда пастух уходит, стадо разбегается и попадает в пасть к волкам. Правда, мой сержант Пиппер неплохая овчарка, но и у него зубы уже несколько притупились. Так что придется мне самому оставаться в овчарне, по крайней мере до тех пор, пока не приедет капитан и не заменит меня в лагере. Он задержался в Суринаме на два-три дня отдохнуть после морского плаванья, потому что, как говорит пословица, от Амстердама до Суринама не всякая блоха допрыгнет.
— Так этот капитан из Европы! — воскликнула барышня: на ее глазах исполнялось пророчество Мами-За.
— Из Европы, сударыня, и никогда еще Голландия не посылала за океан столь отважного молодого офицера.
— Из Европы… отважный капитан из Европы! — повторяла Адоя, не веря собственным ушам.
Все, что предсказывала мулатка, сбывалось точь-в-точь. Барышне хотелось узнать, все ли приметы сходятся, и, не владея собой от изумления и волнения, она воскликнула:
— И, должно быть, блондин?
— Такой же блондин, как ваш покорный слуга, только моложе и авантажнее. Но как же, черт побери, — удивился, в свою очередь, Рудхоп, — вы узнали, что он блондин? Я его знал с пеленок, но цвет волос помнил не лучше, чем цвет парика нашего бургомистра.
— Я не говорила, что он блондин, — отвечала Адоя в некотором смущении, — я спрашивала об этом у вас. Каким же образом вы знали его с пеленок?
— Очень просто, сударыня: он сын моего старого гаагского приятеля. Когда я уезжал из Голландии, лет десять назад, у него, как утверждал его славный папаша, резались клыки и он грыз кругом все подряд, а теперь клыки совсем прорезались и стал он настоящий лев, такой головорез и удалец — дай ему волю, все разнесет в пух и прах. Боюсь только вам наскучить, а то бы я вам мог до завтра рассказывать про подвиги этого Геркулеса Арди. Вот кого, право, удачно назвали!
— Помилуйте, господин майор, нисколько не наскучите! Расскажите же о нем! — воскликнула девушка.
Тогда майор пересказал все преувеличения или, вернее, заблуждения актуариуса Арди насчет отваги Геркулеса. Этот невероятный портрет он завершил так:
— Словом, сударыня, если бы наша война и наш климат не были так опасны, Геркулес и не отправился бы их испытывать. Когда этот юноша слышит про заурядные опасности, пишет мне его отец, он только кривит губы и привередничает. Вы понимаете, сударыня, что для такой войны, как эта, он — сущая находка. И, само собой, мне чертовски приятно вести в бой сына моего лучшего друга.
Адоя с Ягуареттой жадно внимали рассказу майора. Обе девушки были поражены до глубины души и рисовали себе портрет столь отважного героя самыми яркими красками.
Юная креолка видела в том, что случай привел Геркулеса не просто в Суринам, а еще и в Спортерфигдт, ясное предзнаменование. Встав из-за стола после завтрака, она сразу же отправилась гулять под сенью апельсиновой рощи в ограде поселения, чтобы в свое удовольствие помечтать о том, кто уже имел столь необычайную власть над ее мыслями.
XIV
Тамаринд Массеры
На другое утро восход солнца опять застал Адою в задумчивости. Она полулежала на тростниковой скамье в тени огромного тамаринда. Стебли ванили, густо обвивавшие его ствол до самой верхушки, свешивали гибкие ветви с длинными благовонными стручками.
Тамаринд стоял посреди небольшой цветочной куртины, за которой ради удовольствия барышни тщательно ухаживал Купидон. В поселке к этому дереву относились почти суеверно.
Как только основался Спортерфигдт, на тамаринде поселилась семья диких пчел, по-индийски называемых васи-васи, и большая колония колибри. Много лет они неизменно жили там в добром согласии. Замечали даже, что, если чужие птицы тревожили пчел, их маленькие пернатые союзники, противопоставив силе численность и отвагу, огромным полчищем устремлялись на пришельцев и, сражаясь острыми как иголка клювами, обычно победоносно отбрасывали их. Точно так же, если чужие пчелы дерзали забраться в гнезда колибри, пчелиная семья с тамаринда набрасывалась на чужаков и убивала их.
Это дерево назвали «дерево массеры», потому что покойный хозяин любил отдыхать в тени тамаринда и не разрешал трогать миниатюрные поселения, приютившиеся на нем.
Поскольку и пчелы и колибри питаются цветочным нектаром, отец Адои велел сажать в куртине цветы, нужные и тем и другим, чтобы между двумя народцами не было никаких недоразумений.
Кроме того, каждое утро и вечер он приносил им огромные охапки всевозможных цветов. В брачную пору он клал к подножью тамаринда много пуха и хлопковых волокон, из которых колибри вили гнезда величиной с орех и клали туда яйца величиной с горошину.
Пчелы необычайно умны и узнают тех, кто за ними ухаживает. Поэтому, едва хозяин появлялся под деревом, весь рой собирался вокруг него и покрывал ему руки и волосы, а колибри либо садились к нему на плечи, либо же весело порхали рядом.
Когда Адоя была еще маленькая, плантатор представил ее, если можно так выразиться, обитателям тамаринда, и те вскоре признали наследницу Спортерфигдта. Когда Адоя подросла, она стала вместо отца ухаживать за пчелами и колибри; к ней перешли и его привилегии.
Купидон, растивший цветы, также имел право безбоязненно заходить за изгородь и работать, но не более того. Едва он пытался войти под зеленый свод тамаринда, пчелы становились для него опасны.
Все же остальные жители поселения, едва переступив границу куртины, рисковали быть немедленно ослепленными роем из нескольких тысяч пчел, усиленных сотней не менее яростных колибри. Особенно часто убеждались, как опасно заходить за эту своеобразную изгородь, спортерфигдтские негритята.
Когда молодая хозяйка хотела без помехи посидеть одна, она шла к дереву массеры. Так и на другое утро после прибытия майора Рудхопа Адоя уединилась там, как мы уже сказали, и размышляла, сколь странным образом сбывается пророчество мулатки.
К тому же дерево массеры было для девушки священным. Это под ним ее отец любил присаживаться по вечерам перед заходом солнца и наблюдать, как его негры удовлетворенно и спокойно возвращаются в дома свои после дневных трудов. Когда Адое нужно было принять важное решение, она шла под тамаринд и там с трогательным и простодушным суеверием просила совета у тени отца.
Она полагала, что судьба решительно хочет ее брака с прекрасным европейцем, даже устраивает этот брак, и не сомневалась, что так оно и будет. Впрочем, покойный Спортерфигдт не раз говорил дочери о своем желании, чтобы она вышла замуж за европейца, а не за колониста, которые часто бывают отъявленными распутниками. Итак, предсказание Мами-За совпало с последней волей отца Адои.
Со всей восторженностью своего возраста и характера предавалась Адоя романтическим мечтаниям. То она грустила, думая, что прекрасный европеец, прежде чем стать ее супругом, перенесет множество опасностей. То ее беспокоило загадочное влияние зловещей пантеры, означавшей, по словам Мами-За, напасти, что грозят молодой чете и, может быть, погубят ее, ибо Мами-За, при всех своих кабалистических познаниях, не могла сказать, одолимо ли влияние пантеры.
Кроме того, девушке очень хотелось представить себе облик незнакомца. То так, то этак она рисовала себе мысленно его портрет. То он казался ей не по-мужски изнеженным красавцем, то, напротив, устрашающего вида воином. По временам Адоя сожалела, что не решилась побольше выспросить у майора о его друге.
Она вся была поглощена этими мыслями, когда к окружавшей куртину живой изгороди из пурпурной сирени, желтого жасмина и мимозы подошла Ягуаретта. Маленькая индианка в мадрасовом тюрбане сгибалась под тяжестью снопа цветов на обнаженном смуглом плече.
— Я принесла завтрак для васи-васи, массера, — сказала Ягуаретта.
Адоя не отвечала. Индианке пришлось повторить то же еще раз. Лишь тогда хозяйка подняла голову и рассеянно проговорила:
— Хорошо, малышка, неси его сюда.
— Как сюда! — в ужасе воскликнула Ягуаретта. — Как я могу войти в куртину, подойти к дереву массеры? Вы хотите, чтобы Ягуаретту съели злые пчелы? Вон, вон они уже летят на меня! За что они меня так не любят? — капризно продолжала индианка. — Что я им сделала?
Действительно, она, как ни странно, никак не могла приучить к себе пчел, хотя уже давно жила в Спортерфигдте. Несколько раз Адоя пыталась справиться с этой причудой своих крылатых стражей и входила в куртину, обняв индианку, как бы защищая ее. Пчелиная семья стояла на своем: всякий раз она начинала грозно жужжать, потом, несмотря на покровительство Адои, одна пчела больно жалила Ягуаретту, потом другая, третья… Адое так и не удалось перебороть их неприязнь.
Итак, Ягуаретта объявила хозяйке, что боится жителей дерева и не подойдет к ним. Тогда Адоя вышла из оцепенения и сказала:
— Правда, я совсем забыла. Так оставь цветы там и вели Купидону готовить баржу. Я хочу покататься по Комевине.
Ягуаретта положила к изгороди свою пахучую ношу и побежала исполнять распоряжение хозяйки.
Та обеими руками взяла сноп цветов и перенесла под дерево. И сразу поднялся особенный веселый шум и началось своеобразное и очаровательное зрелище. Туча пчел, сверкавших на солнце словно золотые блестки, закружилась вокруг девушки, едва не касаясь прозрачными крылышками ее лица, шеи и рук, а стая колибри — живых изумрудов и сапфиров — уселась ей на голову и на плечи. Они пока не трогали цветов, а просто радостно приветствовали хозяйку.
Сев в тени тамаринда, Адоя разделила сноп на несколько охапок поменьше и разбросала их вокруг себя на завтрак той и другой стае, а в каждую руку взяла по большому букету самых вкусных цветов для самых любимых птичек и пчел.
Адоя сидела на тростниковой скамейке; на ней было длинное муслиновое платье с бледно-розовым рисунком на белом фоне. Солнечные лучи, рассеянные широкими листьями тамаринда, трепетали на ясном белом челе девушки, слегка освещали завитки ее черных волос, золотили ее прелестную грудь, горели на двух больших букетах, которые она держала на коленях.
В правой руке у нее был букет для колибри. Он состоял из больших молочно-белых с карминовой каемкой цветов магнолии, нескольких веток гранадилл, усеянных крупными цветами, пурпурными изнутри, с ажурным белым венчиком и фиолетовым султаном, и, наконец, из иолант с серыми черешками, алыми разводами и лиловыми полосками.
Адоя помахала этим букетом, приглашая гостей, — и три колибри осторожно присели на край освещенного солнцем цветка магнолии. В тени птички казались темно-зелеными, на солнце же сверкали сапфировым цветом с багряным и малиновым отливом. На головке у них были зеленые хохолки с золотой бахромой, глаза блестели, как рубины, а крылья и хвост были словно из черного бархата с ультрамариновым оттенком.
Птички какое-то мгновение посидели на цветках, снова взлетели, потом подлетели обратно к цветам и стали сосать нектар, высунув длинные, как ярко-красные нити, языки. Необычайно красиво парили они над чашечками цветов, так быстро махая крыльями, что разглядеть можно было только некую крохотную призмочку, изредка вспыхивающую золотой, лазоревой или пурпурной искоркой. Наевшись, они забирались в блестевшие на солнце локоны Адои или же летали вокруг ее прекрасного чела, сверкая, как живые пиропы.
Пчелы меж тем покрыли золотистым роем букет в другой руке креолки — душистый букет из цирозелий с кистями мелких розовых цветочков, бледно-желтых в пурпурную крапинку банксий, серебрянолистых протеев с перистыми черно-фиолетовыми цветками и ярко-красных гладиолусов.
Адоя наслаждалась, глядя на прекрасных хозяев тамаринда, и, увлекшись, даже не заметила, как сержант Пиппер, застегнутый на все пуговицы, подошел к изгороди, отдал хозяйке честь и строевым шагом, не опуская руки от кивера, направился к ней.
Едва сержант переступил границу куртины, как рой, заметив непрошеного гостя, яростно накинулся на него — в одно мгновенье лицо Пиппера стало подобно улью.
Все произошло моментально — девушка не успела сказать сержанту, чтоб он был осторожнее.
Пиппер не ожидал такого нападения и такой боли. Он хотел закрыть лицо руками, но и руки его в тот же миг облепили пчелы и пронзили множеством жал. Нескольких он раздавил, но это не помогло: остальные лишь усугубили ярость, и сержанту ничего не оставалось, как с закрытыми глазами выскочить из куртины, со всех ног побежать к каналу и броситься в него с головой.
Молодая хозяйка, беспокоясь за несчастного Пиппера встала со скамейки и хотела кликнуть кого-нибудь ему на помощь. В этот миг раздался голос майора он спрашивал сержанта, куда, к дьяволу, он так бежит сломя голову. Пиппер не отвечал; майор пошел к куртине.
— Не подходите, господин майор! — закричала Адоя. — Они кусаются!
— Хотя бы здесь кусались сами черти, прекрасная барышня, — галантно отвечал майор, направляясь к ней, — они не помешают Фрицу Ру…
Майор не договорил. Рой, преследовавший сержанта, вернулся, заметил нового врага и кинулся на него. Две первые пчелы пребольно впились майору в губы. Он страшно выругался, закрыл глаза и на ощупь побежал назад, хорошо зная, что пчелы могут ослепить.
Как только майор вышел из священных пределов, пчелы оставили его, и он, хотя у него страшно болели искусанные губы, сказал с бодрым видом:
— Ах, это вот что… Это рой диких пчел. Значит, это из-за них сержант рыбкой прыгнул в канал. Что ж, правильно сделал. Нет, с такими врагами я сражаться не буду: глаза мне пригодятся, чтобы целиться в мятежников и пяннакотавов, а более всего — чтобы видеть вас, милая барышня. Я хочу объявить вам то, с чем послал было Пиппера: словом, мой герой, капитан Геркулес Арди, только что прибыл из Суринама и просит чести быть вам представленным.
— Я рада гостю, — ответила Адоя и почувствовала невыразимое биение сердца. — Будьте добры, проводите его в залу. Я скоро к вам выйду.
XV
Встреча
Геркулес устал от морского путешествия, однако же ничуть не изменился: его лицо сохраняло все то же выражение добродушного и несколько боязливого простосердечия. Само по себе оно не имело ничего значительного или замечательного, но тех, кто знал или, лучше сказать, полагал, что этот с виду столь робкий и простодушный человек в опасности выказывает львиную храбрость, живо привлекало само это противоречие.
Слава храбреца Геркулеса все росла. Когда он добровольно попросил флиссингенского губернатора отправить его на ужасную войну в Суринам, никто уже не мог сомневаться в его отваге и решительности. За таковую благородную самоотверженность он перед самым отправлением был произведен в капитаны.
Офицеры его полка дали ему в честь этого банкет, и старейший по службе поднял бокал за то, чтобы отважный доброволец Геркулес Арди поддержал в Гвиане честь 17-го пехотного полка.
Геркулес столько слышал о своей отваге, что начал и сам задумываться, не вправду ли он столь смел, как говорят. Достойный отпрыск геройского рода часто задумывался над этим вопросом.
Однако Геркулес прекрасно знал, что же на самом деле он ощущает при опасности. Некий столбняк словно примораживал его к месту, так что он даже не был в состоянии убежать. Он знал, что его отец всегда хвалился этим несокрушимым хладнокровием — более редким, говорил он, чем слепое рвение, тянущее вас очертя голову в схватку.
Но самым главным в характере Геркулеса был глубочайший, неодолимый страх перед отцом: скорее он бы согласился пройтись по раскаленным углям, чем ослушаться его. Прибыв в Гвиану, он понял, что так же боится майора Рудхопа и так же слепо готов ему повиноваться; что страх перед опасностью, соединившись со страхом перед майором, породит многие жестокие испытания для него.
Корабль, доставивший войска из Голландии, оставался еще на какое-то время в Суринаме, и штурман Кейзер, жених молочницы Берты, назначенный наблюдать за снаряжением необходимых для плавания барж и плотов, отвез молодого капитана в Спортерфигдт.
Майор обмывал водой с лимонным соком пчелиные укусы, а Адоя тем временем с невыразимым волнением занималась своим туалетом. Давно уже она так не сердилась, что Мами-За все не может причесать ее как следует.
Дважды она заменяла платья: ей не нравился фасон, хотя платья эти только что прибыли из Парижа, да к тому же из магазина знаменитой девицы Руссо. Среди них было элегантное карако из прелестной тафты цвета чижикова хвоста с короткими гладкими рукавами в кружевных оборках. Адоя нашла, что этот оттенок ее бледнит.
В конце концов она выбрала платье из переливчатой розово-серой тафты с просторным лифом и длинными рукавами, отделанное салатовыми сатиновыми полосами, на трех перламутровых пуговицах. Большие золотые пряжки «а ля Жаннетт» на зеленых тафтяных башмачках делали еще меньше на вид прекрасные ножки креолки. Этот наряд, которому позавидовали бы чаровницы Тюильри и Пале-Рояля, довершал легкий пуф из белого газа с серыми и розовыми лентами, кокетливо накинутый на прекрасные волосы Адои.
— Что, дочка, — говорила мулатка, одевая ее, — что я тебе говорила? Не этого ли европейца я тебе нагадала?
— Ты волшебница, Мами-За! — ответила Адоя и поцеловала кормилицу. — Только у меня так сильно сердце бьется — я и взглянуть не смогу толком на этого капитана. Говорят, он такой храбрый! А вдруг он злой? А вдруг он меня не полюбит? — грустно проговорила креолка.
— Дочку-то мою не полюбит! — горделиво ответила Мами-За. — Да ни за что не поверю, даже если бы его не судьба вела!
— А что за пантера нам угрожает, Мами-За, что за пантера? — спросила креолка, беспокойно покачивая головой. — Ты ведь и сама не знаешь, что это за дурной знак такой. Может, это значит, что он равнодушен ко мне?
Мулатка немного подумала и возразила:
— Нет, дочка. Я и вправду не могу разгадать эту тайну, только уж верно это не равнодушие. Дурной знак грозит и ему, и тебе, вот как!
— Ему и мне! — воскликнула креолка и опять погрузилась в мечтания, а мулатка меж тем окончательно приводила в порядок ее убор и надевала ей жемчужное ожерелье.
Несколько раз креолка справлялась, где же Ягуаретта, — обыкновенно она помогала Мами-За одевать хозяйку.
В то самое время, когда Адоя надевала надушенные перчатки с фальбалою, индианка, наконец, появилась. Она была странно одета, но с первого же взгляда показалась Адое такой красивой, что впервые в жизни у молодой хозяйки зародилось чувство ревности к дикарке-горничной. Адоя нахмурила черные брови.
Ягуаретта надела яично-желтую шелковую тунику, подпоясанную шелковой же пурпурной лентой, не очень декольтированную, но довольно короткую и почти без рукавов. Платье это открывало пухлые ручки и изящные стройные ноги юной невольницы, украшенные золотыми браслетами с кораллами. Маленькие ножки были обуты в расшитые красные сафьяновые шлепанцы. Тюрбанчик из той же материи, что и платье, грациозно повязанный на черных волосах, придавал еще больше очарования пикантному лицу Ягуаретты. Изящную шею маленькой индианки украшало прекрасное коралловое ожерелье. Из-под платья выглядывали на редкость изящных линий плечи с ямочками.
Ягуаретта была очаровательна в этом прихотливом наряде — его подарил покойный плантатор, который хотел, чтобы горничная его дочери была одета достойно наследницы Спортерфигдта.
Адоя, ощутив, как мы сказали, необъяснимую ревность, неприязненно встретила индианку.
— Почему ты не была здесь? Почему не помогала Мами-За? — надменно спросила креолка.
— Да простит массера Ягуаретте, — смиренно отвечала индианка. — Она решила приодеться к приезду чужестранца. Она не думала, что это дурно.
— Твое дело быть со мной, а не цеплять на себя эти дурацкие тряпки. Недавно в Парамарибо приезжали мексиканские фокусники, так ты на них похожа, — возразила Адоя, с деланным презрением оглядывая убор индианки.
При этих резких словах верхняя губа Ягуаретты неприметно дернулась и блеснули ослепительно-белые ее зубки. Через мгновение лицо ее вновь было спокойно, как всегда, и она ответила чрезвычайно почтительно:
— Этот наряд Ягуаретте подарил массера Спортерфигдт. Она надела его в честь своей хозяйки.
— Велика честь, в самом деле! Плечи голые, руки голые, ноги голые — стыд! Невозможно показаться! — воскликнула Адоя и от волнения порвала туго надевавшуюся перчатку. — Прежде чем выйти к чужестранцу, ступай и оденься прилично.
Адоя переменила перчатки и в неодолимом смятении вышла в залу.
Геркулес был в зеленом мундире с оранжевым воротом и серебряными эполетами. При выходе хозяйки он низко поклонился.
Адоя была заранее так настроена, что незначительное, добродушное лицо капитана — суженого — показалось ей исполненным очарования и благородства. Она трепетала от смущения, не зная, с чего начать. Дважды она бегло подняла взгляд на Геркулеса и вдруг заметила, что капитан уставился на кого-то за ее спиной.
Адоя повернула голову и увидела: Ягуаретта, несмотря на запрет, прошла за хозяйкой в залу. Барышня закусила губы от досады, но, не желая показать, что ее уязвила невольница, наконец обратилась к Геркулесу:
— Майор Рудхоп известил меня о вашем приезде, сударь. Простите меня, что вам пришлось так долго ждать.
— Ничего, сударыня, право, ничего, — рассеянно отвечал Геркулес, продолжая разглядывать диковинный наряд индианки.
Началась принужденная беседа. Произнеся несколько фраз, Адоя сказала Ягуаретте, неотрывно глядевшей на Геркулеса:
— Малышка, попроси господина майора сюда.
Хозяйке пришлось еще раз, и с явным раздражением, повторить эти слова, и только тогда индианка повиновалась, но вышла нарочно медленно, причем несколько раз обернулась и посмотрела блестящими черными глазами на Геркулеса. Тот скромно потупился и покраснел как рак.
— Эта девушка, должно быть, местная дикарка? — спросил он Адою.
Хозяйка остолбенела от поведения горничной и еле могла скрыть свое возмущение.
— Это одна несчастная индианка. Батюшка подобрал ее маленькой в лесу после сражения колонистов с пяннакотавами, нашими наихудшими недругами. А прошлой ночью они опять хотели напасть на наше поселение, но мы их отбили.
— Вы их отбили, сударыня? — удивленно переспросил Геркулес.
Адоя, желая понравиться столь отважному человеку, ответила с некоторым «воинским» кокетством, указывая на подставку для ружей:
— Да, сударь, а вот и мои ружья: я столько раз рядом с батюшкой защищала наше поселение… Может, женщине этим заниматься и не пристало, но, — с восторгом продолжала она, подняв на Геркулеса странный взор, — такое бывает упоенье, когда грозит беда! Не правда ли, преодолев опасность, ощущаешь невероятное удовольствие?
— Преодолев ее, сударыня, — ответил Геркулес, — и вправду ощущаешь счастье.
— Да, да, сударь, вы правы — не удовольствие должно говорить, а счастье! Для сильных душ опасность и вправду счастье. Говорят, вы знаете это, как никто, я полагаюсь на ваше свидетельство.
Услышав, что и Адоя намекает на его отвагу, да еще так прозрачно, Геркулес невольно подивился причудам своей судьбы. Он робко потупился и промолчал, чтобы не касаться столь деликатного предмета.
Сдержанность и скромность Геркулеса еще более пленили Адою. Ослепленная предубеждением, она уже любила его.
Полагая, что повинуется воле своего отца, она не пыталась противиться все более переполнявшему ее чувству. Не будь Геркулес так наивен, по румянцу молодой хозяйки, по частому колыханию ее груди, по принужденности ее он бы понял, какое впечатление произвел на девушку. Впрочем, и он странно смущался, изредка встречаясь с ней взорами, и начинал думать, что в Голландии ему не преувеличивали страстность креолок.
Капитан и молодая хозяйка сидели молча. Это стало уже неловко, но тут вошли Ягуаретта и майор. Ягуаретта понимала, что наряд ее ей к лицу, и, невзирая на распоряжение Адои, не сменила его. Раздраженным взглядом хозяйка упрекнула ее в непослушании. Но Ягуаретте было мало дела до барышнина гнева. Она отвернулась и вновь уставилась на Геркулеса, не пытаясь скрыть немого восхищения.
С приходом майора беседа оживилась. Под действием благосклонного приема хозяйки Геркулес несколько осмелел, стал говорить о Голландии, об отце и по отношению к отцу выказал чувствительность, восхитившую и умилившую хозяйку, — ее восторгало, что столь отважный человек обнаруживает нежные чувства и не стесняется быть так прост и натурален.
Судьба словно желала довершить обольщение креолки. Майор припомнил, что видел среди вещей капитана флейту, и спросил, не играет ли он.
Геркулес скромно признался, что иногда услаждает музыкой часы досуга. Адоя попросила его что-нибудь сыграть. Он не заставил себя упрашивать и очаровал юную креолку, Мами-За, но особенно Ягуаретту.
До тех пор индианка не слышала никакой музыки, кроме пронзительного нестройного шума негритянских инструментов, и так была тронута полными гармонии звуками, что по округлым щекам ее скатились две крупные слезы. Не удержавшись, она упала на колени и в экстазе стиснула руки.
Тогда Адоя не в шутку разгневалась и приказала Мами-За вывести индианку.
— Она сошла с ума, — с досадой произнесла хозяйка.
После завтрака майор отвел капитана в лагерь.
Такова была первая встреча двух существ, которых судьба неудержимо влекла навстречу друг другу.
XVI
Признания
Ночь после этого, столь важного в жизни Адои дня прошла без тревог. Белькоссим, полагая, что индейцы еще прячутся в лесу, предусмотрительно выставил часовых и зажег костры вокруг вала, чтобы предупредить любую неожиданность с их стороны.
Отряд майора Рудхопа, занятый устройством лагеря, не мог начать военные действия и выбить из леса свирепых союзников Зам-Зама; а тот все приближался, и его страшные отряды несли с собой грабежи, убийства и пожары.
Белькоссим был вездесущ; Купидон, необыкновенно деятельный, помогал ему.
Адоя проснулась поздно. Ягуаретта, спавшая обыкновенно в смежной комнате, не явилась к ее туалету. Адоя спросила кормилицу, где она. Навели справки и узнали, что индианка вышла из поселка, как только выдвинули мост. Все так привыкли к причудам и капризам малышки, что никто не обеспокоился.
Майор обещал Адое быть к обеду вместе с капитаном. Креолка с нетерпеньем ждала этого часа, погрузившись в сладкое мечтание, предметом которого был Геркулес.
Часа в три Ягуаретта вернулась и предстала перед хозяйкой.
— Где ты была целый день? — строго спросила ее Адоя.
— У озера и на морском берегу.
— А почему ты ушла из Спортерфигдта без моего позволения?
Индианка изумленно посмотрела на барышню.
— Ягуаретта никогда не просила у вас позволения гулять, массера. Птичка ведь не просит у Бога позволения летать?
Адоя осталась недовольна таким ответом и продолжала.
— А почему ты меня ослушалась? Почему не переодела платье, раз я велела переодеть? Почему, когда капитан играл на флейте, ты вела себя так чудно, что мне пришлось вывести тебя из зала?
— Ягуаретта — дочь лесов, она не умеет скрывать свои чувства. От музыки чужестранца ей захотелось плакать, и она заплакала.
— Зачем ты все время глазела на гостя так неприлично?
— Ягуаретта все время смотрела на чужестранца, потому что он очень красивый и скоро женится на барышне, как предсказала Мами-За. Как же Ягуаретте не любоваться тем, кто сделает ее хозяйку счастливой?
Простодушные слова индианки звучали так искренне, что гнев Адои утих. Она пожалела, что была так строга, и устыдилась безумной ревности, поставившей ее на один уровень с невольницей. Адоя была вспыльчива, но великодушна: ей хотелось, чтобы Ягуаретта не держала на нее зла за суровость. Индианка, до слез растроганная добротой хозяйки, встала на колени и благодарно поцеловала ей руку. Так восстановилось впервые нарушенное согласие между креолкой и ее горничной.
Время шло. Геркулес с майором не появлялись.
Адоя не находила себе места от нетерпения, а позже — от живейшего беспокойства за участь Геркулеса, ибо вернулся посланный Купидоном негр и объявил, что произошла стычка между аванпостами майора Рудхопа и разведчиками Зам-Зама. Два мятежника были убиты, остальные скрылись в лесу.
Когда Адоя не знала уже что и думать, вошли наконец майор с Геркулесом.
— Вы не ранены? — воскликнула она, обращаясь к Геркулесу. Устыдившись этого невольного порыва, она обернулась к майору и спросила: — А вы, господин майор?
— Нет еще, сударыня, нет. Мы для этого еще ничего не сделали. Я только послал в разведку сержанта Пиппера, и он несколько раз пальнул по этим скотам в красных подштанниках. Мы с капитаном бережем себя для больших дел, а они будут скоро. Один хорошо осведомленный шпион дает мне всевозможные сведения о позиции Зам-Зама. Завтра на рассвете мы устроим им сюрприз и двинемся вдоль по Комевине.
А знаете, говоря о Комевине, я всегда думаю: это ведь на ее берегу старый Пиппер угодил в плен к пяннакотавам, и его чуть было не подали на завтрак во второй день свадьбы дочери пяннакотавского вождя. Я писал об этом вашему отцу, капитан. — И майор шутливо добавил: — Только не попадайтесь сами, как Пиппер. Этот старый рубака жесткий, как черт: его и берегли, чтобы потушить подольше на досуге, а такого молодчика, как вы, сожрут в один присест и даже не поперчат… Ха!
— Как вы можете так говорить, господин майор? — в ужасе воскликнула креолка.
Геркулес же только произнес с геройским спокойствием:
— Я постараюсь, чтобы меня не съели.
Эти слова глубоко тронули Адою: она нашла их исполненными самообладания и скромности. Со слезами на глазах она поглядела на Геркулеса: тот оставался бесстрастен.
— Мой совет вам, сударыня, — продолжал майор, — дать сегодня вечером оружие вашим неграм и выставить хорошие караулы на валу. Если бы нас самих было больше, я бы прислал вам своих часовых. Но нас уже и так осталось мало — неприятель втрое сильнее. Так что мы не снесем в этой переделке голов, а вернее скальпов, если каждый не будет захватывать двух индейцев одним махом. Не правда ли, капитан?
— Я совершенно того же мнения, — ответил Геркулес.
«Какая разница между капитаном и майором, — думала Адоя. — Майор храбр, но он кичится своей отвагой, а капитан столь же храбр, еще храбрее — и так небрежно говорит об этом!»
Вошла Мами-За и передала Рудхопу, что с ним желает говорить майор Пиппер. Майор вышел, Геркулес и Адоя остались одни.
Адоя много думала о Геркулесе, но и он много думал о юной креолке. Она возбуждала в нем неведомые дотоле чувства. Благодаря чуду любви — чуду, древнему, как сама любовь, — Геркулес до того погрузился в думы о молодой хозяйке Спортерфигдта, что целую ночь после первой встречи с нею не предавался обычным своим страхам перед неграми, индейцами, змеями и тиграми, а видел лишь черные глаза Адои, блестящие и нежные.
Однако (надобно признать эту причуду невиннейшего сердца) по временам Геркулеса Арди отвлекало от этих чарующих мыслей невольное мимолетное воспоминание о дикой красоте черноволосой маленькой индианки, что так странно и пристально его разглядывала.
Оставшись наедине с капитаном, Адоя решила торжественно объявить ему то, что она полагала голосом судьбы и последней волей своего отца. Очень прямодушно и невинно она произнесла:
— Мы скоро расстанемся. Вам грозят большие опасности. Скажу вам все: мы связаны судьбой.
Геркулес изумленно поглядел на креолку. Та продолжала:
— Я сирота и хозяйка этого поселения. Умирая, батюшка завещал мне выйти замуж не за креола, а за европейца, если только выпадет мне такое счастье и это будет возможно. Моя кормилица тоже нагадала мне, что мой муж будет европеец и что он будет необычайно отважен, а она ведь у меня ясновидящая. Но прежде чем заключится наш союз с этим европейцем, нам будут препятствовать всяческие напасти. Если сердце меня не обманывает, — продолжала креолка, густо покраснев, — то этот европеец — тот, о котором говорил батюшка и которого пророчило гадание кормилицы, — этот европеец…
Добродетель придавала девушке уверенности в себе, но здесь она запнулась.
— Что, он еще в Европе? — спросил Геркулес.
— Он недавно приехал в колонию, — сказала Адоя, потупив глаза.
— Недавно приехал в колонию? — переспросил Геркулес, недоуменно уставившись в потолок.
— Этот европеец у нас в поселении.
— У вас в поселении? — повторил Геркулес, все еще не понимая.
— Этот европеец — вы! Судьба подтвердила батюшкины слова.
— Я? Я… Я! — воскликнул Геркулес.
— Если ваше сердце согласно с волей судьбы, поставьте букет цветов в эту вазу, прежде чем уйдете отсюда, — промолвила Адоя, вставая и указывая Геркулесу на фарфоровый кубок. — Если я сейчас увижу там цветы — буду считать себя вашей невестой, и с этого дня нерасторжимые узы привяжут меня к вам. Я буду страстно молиться за вас. Я буду молить небо благословить союз, в котором вижу свое счастье… будущее… жизнь! А если букета в вазе не будет…
Этой мысли Адоя не могла вынести, к тому же необыкновенное признание стоило ей многих душевных сил. Она не окончила и быстро вышла из зала, закрыв лицо руками.
Геркулес опешил, он не знал, на каком он свете: откровенное признание девушки, можно сказать, напугало его, он испытывал жесточайшее смятение.
Размышляя, сколь странно это приключение, он не мог разобраться в своих чувствах: он испытывал и радость, и страх одновременно. Адоя казалась ему прекрасной, поселение Спортерфигдт — также. Чтобы получить их, довольно было поставить в вазу несколько цветков.
Такого рода решения были как раз по плечу Геркулесу. Но он все же колебался до той самой минуты, когда майор Рудхоп, часом ранее вместе с сержантом Пиппером оставивший Спортерфигдт, прислал ему просьбу как можно скорее прибыть в лагерь.
Геркулес решил повиноваться желанию Адои и вышел поискать цветы для букета. Вскоре он увидел цветущую куртину под деревом тамаринда. Случилось так, что поблизости не было ни одного негра и вообще никого, кто мог бы предупредить Геркулеса, что встреча с жителями тамаринда опасна.
Капитан бодро подошел к изгороди и зашел за нее. В тот же миг в одном из окошек дома, из-за жалюзи, раздался сдавленный крик, но Геркулес не слышал его.
Заметив постороннего, небрежно выбирающего взглядом лучшие цветы на клумбе, пчелы в ярости ринулись на Геркулеса. Но чудо! Едва коснувшись его одежды и пудреных волос, пчелы тотчас же взмыли вверх, закружились и поспешно вернулись на дерево.
Геркулес в это время наклонился к земле. Даже не заметив, какой опасности избежал, он продолжал спокойно собирать цветы. Увидев тростниковую скамью под тамариндом, он счел удобным сесть на нее и закончить составление букета.
Чудо продолжалось: пчелы вели себя в отношении Геркулеса все так же почтительно и позволили ему остаться в этой святая святых. Капитан, еще какое-то время поразмышляв над тем, сколь диковинные события с ним происходят, вышел из куртины и с букетом в руках направился в залу.
Чудесный случай, благодаря которому обитатели дерева дозволили Геркулесу пользоваться исключительными правами молодой хозяйки, объяснялся просто: в дорогу одежда Геркулеса, по голландскому обыкновению, была пересыпана от насекомых порошком пиретрума. Пчелы совершенно не выносят запаха этой травы: довольно положить к их ульям несколько пучков, чтобы вовсе их отвадить. Так что пчелы позволили Геркулесу безнаказанно ходить по куртине и сидеть в тени тамаринда не из симпатии, а из антипатии.
Войдя в зал, капитан с изумлением увидел рядом с фарфоровой вазой, предназначенной для его цветов, превосходную шпагу с золоченым эфесом отличной работы и медальон с детским портретом на длинной золотой цепочке.
В ребенке на портрете нетрудно было узнать Адою. К цепочке был приколот булавкой листок бумаги, а на нем написано следующее:
«Если б я могла еще сомневаться в воле судеб, случай под батюшкиным деревом окончательно убедил бы меня, что небо желает нашего союза. Если вы принесете букет, возьмите эту шпагу — это батюшкина шпага. С медальоном этим никогда не расставайтесь. И шпага, и портрет драгоценны — для него и для меня; это священные сокровища — они должны принадлежать тому, кто станет моим мужем, а вы, если принесете букет, станете им. Храни вас Бог — вместе с вами он сохранит и хозяйку Спортерфигдта. Ваша невеста ждет вас и молится за вас».
Из-за жалюзи девушка с ужасом увидела, как Геркулес подходит к дереву тамаринда. Понятно, что, увидев затем, как обитатели дерева, посвященного памяти основателя поселения, столь однозначно приняли Геркулеса, Адоя была поражена этим необъяснимым событием и ни секунды более не сомневалась в правдивости пророчеств Мами-За.
В восторге от этого чуда, она сочла должным передать самые драгоценные вещи, хранившиеся у нее в память об отце, тому, кого судьба столь явно предназначала ей в супруги.
Машинально, как во сне, Геркулес взял шпагу, положил в карман медальон с запиской, вышел из поселка и, задумавшись, направился в лагерь.
Идти было недалеко. Вдруг на землю перед капитаном легко спрыгнула Ягуаретта: она его выслеживала, притаившись в густой мангровой листве.
— Черноглазая дикарка? — промолвил Геркулес, остановившись.
Индианка пристально посмотрела на капитана, встала перед ним на колени, взяла его руку, поцеловала ее с нежной почтительностью и заговорила:
— Ягуаретта твоя, прекрасный чужестранец, она тебя любит, она твоя раба. Скажи — она пойдет за тобой. А лучше сам иди за ней — она отведет тебя в крааль[13], и ты сядешь там выше самых мудрых воинов.
— Милая моя, — ответил Геркулес (в тот день ему было чему удивляться!), — милая моя, мне кажется, вы нескромны и не умеете себя вести. Я полагаю, вам лучше вернуться к хозяйке.
Ягуаретта вскочила. Губка ее, как это было ей свойственно, дернулась и обнажила зубы. Она горделиво сказала:
— У Ягуаретты нет больше хозяйки. С того дня, как она тебя полюбила, она стала свободна. Та, кто тебя любит, должна слушаться только тебя.
— Ну так послушайтесь меня, милая моя, — вздохнул Геркулес, — и оставьте меня в покое.
Индианка грустно покачала головой, посмотрела на Геркулеса. Круглые глаза ее наполнились слезами, и она ответила:
— Ягуаретта уже не может вернуться к хозяйке. Ягуаретта теперь привязана к прекрасному чужестранцу, как гранадилла к ветвям пампельмуса.
— Да пускай гранадилла привязывается к своему пампельмусу, сколько ей угодно, — возразил Геркулес, теряя терпение, — мне-то, милая моя, до вас дела нет. Идите-ка обратно домой: вы очень вольно себя ведете. Чтобы вы оставили свои домогательства, я объявлю вам вот что: я помолвлен с вашей хозяйкой. Кажется, ничего лишнего я не говорю: судьба сама чуть не в трубу протрубила об этом.
Ягуаретта нахмурила черные брови и ответила:
— Да, Мами-За это говорила, я сама слышала. А пантера? Судьба ведь сказала еще о пантере, а пантера — это Ягуаретта! — Она горделиво топнула ножкой.
— Знать я не знаю ни о какой пантере, — сказал Геркулес. — Я тороплюсь, меня ждет майор. Возвращайтесь-ка к хозяйке и оставьте свои непристойные речи.
Индианка помолчала и сказала Геркулесу с важным видом:
— Я вернусь к хозяйке Спортерфигдта. Но через неделю ты будешь сидеть в нашем краале выше самых мудрых воинов, а я, раба твоя, буду служить тебе на коленях. Это я тебе говорю.
С этими словами Ягуаретта пропала в зарослях.
Геркулес заторопился в лагерь. Он до смерти был напуган бесстыдством индианки и беспокоился, уж не окажется ли он в самом деле, как она пророчила, через неделю в краале посреди мудрейших пяннакотавских воинов.
XVII
Ночь
Ночь была тихая. На валах вокруг поселка Спортерфигдт ярко горели костры. Негры, устав от дневных трудов, дремали в амбаре, готовые выступить с оружием по первому сигналу тревоги.
По совету майора Рудхопа, объявившего о приближении маронов, Адоя велела Белькоссиму вооружить негров. Когда Белькоссим обошел все посты и воротился в дом, пробило полночь.
С восточной стороны от Спортерфигдта, за каналом, находилась уже известная нам кофейная плантация. Между плантацией и берегом канала оставалась совершенно открытая лужайка, освещенная костром на валу.
Молодой негр с ружьем на плече расхаживал по гребню вала взад и вперед, время от времени подбрасывая дрова в костер. Гигантская тень часового двигалась вслед за ним по освещенной лужайке и терялась, размываясь в кофейных посадках.
Из посадок, будто змея, выполз один индеец и метнулся в мертвую, так сказать, зону в тени часового. Тень то двигалась, то останавливалась, а индеец с дивной ловкостью следовал за малейшими ее передвижениями.
Часовой не мог заметить индейца: с ярко освещенного места глаза его не различали предметов на затененном пространстве.
От канала до кофейных посадок расстояние было достаточно близкое для того, чтобы, как и опасался управляющий, засевшие на плантации пяннакотавы могли из ружья подстрелить часового, который был полностью освещен и представлял собой идеальную, так сказать мишень.
Но ружейный выстрел поднял бы тревогу, а индейцы не собирались идти на приступ. Стрелы поражают с более близкого расстояния, чем ружье, и не так верно, но они бесшумны и потому лучше годятся, чтобы незаметно убрать караул.
Итак, индеец скользнул в тень и старался подойти к часовому так близко, чтобы стрелять наверняка. Его маневр был исполнен с таким упорством и терпением, какое встретишь только у диких народов. Идти вперед он мог лишь тогда, когда негр останавливался и бросал дрова в огонь. Когда тень замирала, индеец немного продвигался. Когда же она перемещалась, он не мог этого делать: ближе к каналу он бы непременно оказался на свету при малейшем ее движении.
Наконец пяннакотав подполз достаточно близко и улучил миг, когда часовой опять остановился у костра. Просвистела стрела, пущенная с малого расстояния, и негр упал, даже не вскрикнув.
Когда часовой рухнул, пропала и его огромная тень — индеец остался на свету. Тогда с чудесной ловкостью — полубегом, полуползком — он достиг канала, прыгнул в воду, доплыл до подножья вала — своего рода земляной отвесной стены — и взобрался на него, втыкая в землю короткие, крепкие, острые колышки из железного дерева и опираясь на них, как на ступеньки.
Добравшись до гребня насыпи, он сразил часового (тот еще дышал) и с неким утонченным зверством затушил его телом костер.
Часовые на других валах не могли увидеть, что один из костров погас, ибо эта сторона параллелограмма была закрыта стеной большого дома.
Для пяннакотавов же, спрятавшихся среди кофейных деревьев, это был сигнал выйти из засады. Вскоре семь индейцев добежали до канала, переплыли его и залезли на вал по лиановой веревке, которую бросил им первый.
Вспомните, с какой ловкостью, с какой легкостью, в какой гробовой тишине индейцы совершают все свои предприятия — вы не удивитесь ловкости и скорости, с какой было осуществлено и это дерзкое дело.
Отход пяннакотавам был обеспечен: они могли прыгнуть в канал и переплыть его. По команде Уров-Курова — того самого, который поджидал Купидона у перехода через бири-бири, — они постепенно стали гуськом спускаться в поселение по отлогому склону вала, прямо у подножья которого стоял большой дом. Едва они подошли к нему, как из одного окна, из-за ставен, на землю рядом друг с другом упали две горящие бумажки.
Увидев этот знак — разумеется, условный, — вождь индейцев Уров-Куров тихо, но отчетливо произнес:
— Уаг!
Все остановились. Ставни тихонько отворились. Показалась Ягуаретта, и при слабом свете, освещавшем комнату, виден был гамак, где под действием снотворного глубоко спала Адоя.
Ягуаретта дважды подняла руки кверху, ладонями к индейцам. Вождь и два его человека подошли к окну и вскочили в комнату. Ягуаретта накрыла лицо хозяйки густой вуалью, а тем временем два индейца отцепили гамак. Они взяли его на плечи, выскочили из дома и быстро пробежали на вал.
Там они с двух сторон привязали к гамаку веревки и опустили его к воде, где еще два индейца, гребя одной рукой, приняли его другой. Адоя была так легка, что они переплыли канал, приподняв гамак над водой. Доплыв до берега, они перебежали лужайку и скрылись в кофейных посадках.
Никто в Спортерфигдте не заметил похищения молодой хозяйки.
XVIII
Бузи-Край
Бузи-Край, что на негритянском наречии значит «Плачущий Лес», был главным поселением или укрепленным лагерем мятежных негров Зам-Зама.
Лагерь располагался на довольно большом острове посредине огромного болота, окруженного с юга, с запада и с востока почти непроходимым лесом. На севере бири-бири отделялось узкой естественной плотиной от рукава реки Марони, что берет начало у подножья хребта Синих Гор и впадает в Атлантический океан милях в двадцати к югу от Суринама.
Лишь негры и индейцы знали эту узкую опасную дорогу в Бузи-Край. Она повсюду была скрыта двумя-тремя футами никогда не просыхавшей воды и грязи и ничем не отличалась от остальной поверхности болота.
В Бузи-Край были большие запасы риса, мяса, маниоки и готового крахмала Обильный источник снабжал лагерь свежей водой. В некоторых местах на островке занимались земледелием. В случае осады все это надолго обеспечило бы существование мятежников. Впрочем, долго осада и не могла продолжаться, осаждающие должны были бы нести всю провизию на себе, а пополнить ее в этих глухих местах было нечем.
Две-три сотни дощатых хижин, крытых листьями латании, служили жилищем мятежникам, их женам и детям.
Посередине деревни стоял дом Зам-Зама. Он был очень высок, с четырьмя окнами. Из него просматривалось все болото, до самого края леса. Слева, неподалеку от этого дома, стояли баня и жилище жен негритянского вождя. Частокол закрывал этот гинекей от глаз любопытных.
Невдалеке от дома Зам-Зама стояла хижина диковинного вида. Дверь ее из железного дерева была покрыта кабалистическими знаками, нарисованными смесью сока разных растений с резиной и лаком. Там жила Бабоюн-Книфи, колдунья дружественного неграм племени пяннакотавов. По обычаю этих народов, в обмен на нее, а также в залог негритянская колдунья была отправлена к пяннакотавам.
Зам-Зам был очень суеверен и ничего не предпринимал без совета с колдуньей. Уже несколько дней он был неспокоен: отряды, посылавшиеся в разведку, полностью уничтожались передовыми постами майора Рудхопа. Лазутчики Зам-Зама не возвращались. Кроме того, он два дня тщетно ожидал подкрепления от пяннакотавов.
Сомневаясь, следует ли выйти из укрепления или оставаться здесь в ожидании белых, он обратился к Бабоюн-Книфи.
Та, после долгих магических операций, ответила, что лишь гадание со змеей позволит принять решение — только так объявит свою волю Мама-Юмбо, верховный дух. Исполнивший волю Мама-Юмбо мог быть уверен в победе.
Зам-Зам просил колдунью устроить гадание со змеей.
По жребию для этой ужасной церемонии был избран молодой негр. На три дня его заперли и совершали над ним разнообразные обряды, необходимые для жертвоприношения.
Теперь пришли день и час гадания. Раздался мрачный бой барабана. Негритянские воины в красных коротких штанах, с голым торсом и ногами, в плетеных шапочках из лозы и тростника, вооруженные ружьями и длинными караибскими ножами, молча собрались на площади перед домами вождя и колдуньи.
Диковинна и жутка была обстановка жилища Бабоюн-Книфи. Дверь и окно были наглухо закрыты и не пропускали ни лучика. Лампы тоже не было видно, но все предметы в хижине были освещены ярким синеватым светом.
Этот странный фосфоресцирующий свет пучками изливался из пустых глазниц черепа, стоявшего рядом с колдуньей на треножнике из человеческих костей. Столь удивительное действие производили два точильщика, или фонарщика[14], — большие жуки-светляки, посаженные внутри черепа.
Бабоюн-Книфи было около сорока лет, но она была еще красива сумрачной, свирепой, если угодно, красотой. Черные волосы длинными прядями ниспадали ей на плечи; высокое чело украшала диадема из разноцветных ракушек. Кушак из волокон алоэ подпоясывал на талии красную юбку до самой земли. Руки ее были обнажены по плечи. Подпирая одной рукой голову, а в другой машинально вертя волшебную палочку, она грустно и рассеянно смотрела в потолок.
Рядом с Бабоюн-Книфи на черепе-светильнике сидел не филин и не сова — эмблемы северных колдунов, а вампир, или гвианский призрак, в Мексике называемый перроваладор (летучая собака)[15]. Нет ничего омерзительней этой чудовищной, рыжей и мохнатой, летучей мыши. Длина ее один фут, а размах черных кожистых крыльев — втрое больше. У нее перепончатые, как у водяных птиц, лапы с крепкими когтями. Крылья вампира были полуразвернуты; на коричневой морде с круглыми прозрачными ушами сверкали круглые блестящие глаза.
Рядом с Бабоюн-Книфи лежал маленький медный гонг, в который бьют круглым мангровым корнем. У ног ее стоял аюповый ларец, покрытый кабалистическими знаками. Посредине крышки ларца было отверстие в два дюйма шириной, закрытое подвижной решеткой.
Бабоюн-Книфи долго сидела задумавшись, потом покачала головой, открыла решетку ларца, взяла мангровый корень, несколько раз мерно ударила в гонг и шепотом произнесла:
— Ваннакое! Ваннакое!
Из отверстия высунулась плоская голова блестящей и черной, как черное дерево, змеи. Ее темно-красные, точно стеклянные, глаза как бы с симпатией остановились на хозяйке. Колдунья била в гонг дальше.
Змея высунулась из ларца фута на два, встала столбом и начала раскачиваться — странная музыка колдуньи доставляла ей видимое удовольствие.
Тогда Бабоюн-Книфи тихо и скорбно запела на грустный мотив такие слова:
«Дитя потерялось — кто возвратит его, кто возвратит?
В слезах его мать — кто найдет ей дитя, кто найдет?
Опоссум бежит по горячим углям, увидев своих детей, —
Ах, по каким углям мне пробежать, чтобы найти свою дочь?
Где дитя мое, где она, где?»
Ей пришлось замолчать: в хижину вошел Зам-Зам. При его появлении морщинистая складка кожи над змеиными глазами недовольно приподнялась, а вампир зашевелил крыльями. Колдунья сделала знак своей палочкой — змея спряталась в ларец, вампир успокоился.
Зам-Зам был негр лоанго лет сорока, высокий и сильный, с плоским носом, с низким, вдавленным лбом. Когда он раскрывал толстые губы, видны были заточенные, по обычаю его племени, зубы — чудная мода, что придавала его лицу, и без того грубому и свирепому, нечто хищное. Курчавые волосы, заплетенные во множество косичек, свисали ему на лоб; к концу каждой косички было привязано несколько бисеринок. Густая всклокоченная борода лежала на груди.
Он носил длинную полотняную желтую с ярко-красными полосами перевязь через левое плечо. Белые штаны были подпоясаны кашемировой шалью, украденной в каком-то поселении; на нее негр подвесил кинжал с серебряной рукоятью. На руках и ногах он носил бисерные браслеты. Мускулистые ноги Зам-Зама были обуты в кожаные сандалии с сыромятными ремешками, а на шее у него висел амулет в мешочке из перьев колибри.
Отважный, жестокий, хитрый, неутомимо деятельный благодаря своей энергии, Зам-Зам подчинил себе всех негров. Он был душой мятежа и самым страшным врагом для колонии.
Войдя в жилище Бабоюн-Книфи, черный вождь содрогнулся и под строгим взглядом колдуньи почтительно опустил глаза.
— Зачем ты вошел сюда без моего повеления? — спросила она его.
— Затем, что воины ждут воли Мама-Юмбо. Солнце клонится к закату. Если великий дух хочет, чтобы мы выступили против белых, нам надо выйти засветло.
— Готов ли человек? — спросила колдунья.
— Человек готов, — ответил Зам-Зам.
— Он постился?
— Он постился.
— Он очищен?
— Он очищен.
— Он готов жертвовать жизнью?
— Он готов жертвовать жизнью.
— Он ждет смерти?
— Он ждет смерти.
— Дом для гадания готов?
— Готов.
Колдунья вышла, за нею Зам-Зам.
XIX
Гадание со змеей
Как мы уже сказали, негр, выбранный по жребию как жертва для этого обряда, готовясь к гаданию, три дня голодал.
Присутствовать при этом жестоком зрелище могли только Бабоюн-Книфи, Зам-Зам и еще несколько черных старцев, сведущих в искусстве гадания. Собравшиеся снаружи мятежники с суеверным нетерпением ожидали приговора судьбы.
Дом, в котором проходило гадание, был круглый. Зловещее действо происходило при свете двух больших кувшинов с пальмовым маслом и хлопковыми фитилями.
Негритянский вождь и три старых негра уселись в гамак, подвешенный к балкам довольно высоко от земли.
Колдунья поставила свой ларец у стены прямо напротив двери и начертила волшебной палочкой на земле, посыпанной мелким влажным песком, несколько кабалистических кругов на довольно большом расстоянии друг от друга. По тому, как пройдут относительно этих кругов следы, оставленные негром в борьбе со змеей, индианка должна была вывести заключение, сулит война с белыми Удачу или нет.
Когда она закончила свои приготовления, Зам-Зам громко позвал:
— Хай-Сой!
Открылась дверь дома; вошел молодой негр лет двадцати в красных штанах. По команде Зам-Зама дверь закрылась.
Негр, предназначенный в жертву для этого страшного гадания, был в полном смятении. Он крестом сложил руки на часто вздымавшейся груди. По членам его пробегала судорога. Темные глаза, раскрытые так широко, что вокруг зрачков был виден полный белый круг, с невыразимым ужасом уставились на Зам-Зама и Бабоюн-Книфи. Он прислонился спиной к двери и не мог сдвинуться с места.
— Подойди сюда, — сказала ему колдунья. — Мама-Юмбо, великий дух, выбрал тебя для гадания со змеей. Ты готов умереть, если нужно?
— Я готов умереть, — ответил негр, обретая отчасти присутствие духа. — Я зарыл в землю ружье, нож, лук и топор.
— Люди твоего племени спели над тобой погребальную песнь?
— Я сидел, как сидят мертвые — голова на коленях, подбородок в ладонях, — и люди моего племени пели погребальную песнь: «Он женился на сырой земле, тени будут его детьми».
— Мама-Юмбо сказал своим жребием, что ты послужишь гаданию со священной змеей Ваннакое, — произнесла колдунья. — Ты согласен? Если ты умрешь, люди твоего племени, идя на врага, будут имя твое восклицать, как клич боевой. Скальпами убитых врагов украсят могилу твою. Много и много лет люди племени твоего, и дети их, и внуки их будут в краалях своих говорить о тебе: скажут детям своим и внукам своим, что Мама-Юмбо избрал Хай-Соя, дабы братьям его возвестить, наступать им на бледнолицых или ждать нападения в краале. Ты согласен идти добровольно на жертву? Согласен?
Рассказ о славе, которая отличит его в награду за самоотверженность, произвел на негра сильное действие. Он почувствовал себя увереннее и тверже. С вызовом и с восторгом он поднял руки к небу и возопил:
— Мама-Юмбо! Мама-Юмбо! Я жду черную змею!
Тут же Бабоюн-Книфи ударила в медный гонг и подошла к ларцу со змеей, призывая:
— Ваннакое! Ваннакое!
Все услышали, как змея быстро зашевелилась и, пытаясь выйти, глухими ударами сотрясала крышку ларца.
— Сейчас выйдет Ваннакое, — сказала колдунья, — он будет свиреп. В последний раз ответь: ты согласен служить Мама-Юмбо? — Она наклонилась и поднесла руку к решетке, закрывавшей выход змее.
Негр на мгновение заколебался. Зам-Зам указал ему на дверь и грозно произнес:
— Ты выбран жребием, но волен еще отказаться. Снаружи стоят люди твоего племени. Если ты струсишь, если не примешь жребий, который посылает тебе Мама-Юмбо, они велят тебя убить. Ты не получишь воинской могилы и воинской славы; твою могилу польют овечьим молоком. Твое имя станет проклятьем, и матери будут учить детей проклинать тебя.
При последних словах Зам-Зама негр сильно смутился и тотчас воскликнул:
— Так велит Мама-Юмбо! Черная змея, черная змея! Я согласен!
Он сделал несколько шагов в сторону ларца. Бабоюн-Книфи открыла решетку. Змея проворно высунула голову и бросила огненный взор на негра. Бабоюн-Книфи указала на него палочкой и произнесла магические слова:
— Ваннакое винибай!
Быстрей, чем мы это пишем, злая и покорная змея — длины в ней было семь-восемь футов, толщины же самое большее два дюйма — вылезла из ларца, свернулась в кольцо, приподняв голову фута на три от земли, и как молния кинулась на негра, тщетно пытавшегося поймать ее вытянутыми руками.
Змея обернулась вокруг его левой руки и вцепилась в горло. Не разжимая челюстей, она несколько раз ударила хвостом по воздуху и, наконец, захлестнула хвост вокруг тела жертвы. Негр оказался сжат в ужасных объятиях, как холодным железным обручем.
Хай-Сой страшно закричал. Свободной правой рукой он схватил змею за шею, пытаясь задушить или хотя бы оторвать ее. Ему это не удалось. Змея прокусила ему жилу; кровь хлестала.
Меж тем колдунья, произнося шепотом какие-то таинственные слова, внимательно смотрела, по каким кабалистическим кругам и фигурам пробегал негр, отбиваясь от змеи.
Отчаянным усилием он засунул два пальца гаду в пасть и раздвинул челюсти с такой страшной силой, что в ране остался сломанный змеиный зуб.
Рассвирепев от боли, змея быстро соскользнула с руки негра, еще крепче сжала его тело, обвившись вокруг него хвостом и туловищем, по-лебединому изогнула шею с плоской головкой и впилась негру в бок.
Изнеможенный ужасной борьбой, он рухнул наземь. Негр упал в середине одного из кругов, и в том было явное знамение. Бабоюн-Книфи захлопала в ладоши и возгласила:
— Мама-Юмбо за нас! Дурной знак для белых! Победа чернокожим Сарамеки! Победа пяннакотавам Синих Гор!
Зам-Зам и три старых негра в гамаке вслед за ней воскликнули то же, с восторгом указывая на место, где лежала жертва.
Негр лишился чувств. Разъяренный гад укусил его в третий раз — в плечо. Пора было закончить гадание. Колдунья ударила в гонг и несколько раз нежно и гармонично пропела:
— Ваннакое! Ваннакое!
При этих звуках и при этом слове ярость змеи пропала, как по волшебству. Ваннакое поднял голову, посмотрел на индианку, распустил кольца вокруг тела негра, тихонько подполз к ногам колдуньи и по ее знаку немедленно залез в ларец.
Когда клетку закрыли, негритянские вожди во главе с Зам-Замом спустились из гамака — они сидели в нем из предосторожности, хотя колдунья была достаточно уверена, что Ваннакое будет ее слушать и нападет только на того, кого она ему укажет[16].
Все окружили юношу — он не подавал признаков жизни. Челюсти жертвы были судорожно сжаты. Индианка и Зам-Зам приподняли его и прислонили к стене хижины. Колдунья попыталась дать ему выпить несколько капель настойки из маленькой тыквенной фляжки, но не смогла так крепко были стиснуты зубы. Пришлось Зам-Заму разжать их рукояткой кинжала.
Жилы несчастного набухли и натянулись так, что чуть не лопались, на губах была пена, он еле дышал. Но снадобье, данное ему индианкой, подействовало быстро и сильно — дурные признаки пропали и постепенно он вернулся к жизни.
Зам-Зам и другие старые негры окружили его со знаками почтения: выжив после испытания, он становился для них как бы священным.
Индианка налила во фляжку немного воды, капнула туда несколько капель своей настойки, дала негру выпить этого раствора и обмыла им раны. Вскоре юноша, глубоко вздохнув, с изумлением и ужасом осмотрелся вокруг.
— Мамо-Юмбо благосклонен к тебе, — сказала ему колдунья. — Он даст победу черным Сарамеки. Раны твои заживут. Люди племени твоего прославят имя твое в песнях, ибо воля Мама-Юмбо защитила тебя от черной змеи: ты сражался с нею и, даже пав, возвестил победу.
— Черная змея! Где черная змея? — вскрикнул негр, невольно содрогнувшись.
— Все кончено, не бойся, — сказала индианка.
Она еще раз обмыла ему раны, а Зам-Зам тем временем объявил мятежникам, что для их оружия вышли самые счастливые предзнаменования.
XX
Гонец
Негры встретили громкими криками радости добрые вести Зам-Зама и хотели немедленно выступить в поход против европейцев, но вождь решил дождаться своих лазутчиков и подкрепления, которое должен был привести Уров-Куров, вождь племени пяннакотавов.
Явился негр, посланный в дозор на край болота, и объявил, что идет индейское войско. Индейцы хорошо знали затопленную дорогу в Бузи-Край со всеми ее поворотами, поэтому прибыли скоро.
Вождь пяннакотавов был тем самым индейцем, которого ранил в плечо Купидон на берегу озера и который несколько дней спустя похитил Адою из поселения Спортерфигдт.
Все индейцы были, как и он, выкрашены в красный цвет и татуированы синей краской.
Уров-Куров носил прежний наряд, только на шее у него висел как командирский знак различия нагрудник из разноцветных перьев на бисерном шнурке. В руке у него было ружье, а на поясе висели скальпировальный нож и палица — палка длиной около трех футов с привязанным на конце острым камнем.
Пяннакотавы привыкли все время, не занятое войной или охотой, проводить в полной праздности. Сразу по прибытии они разлеглись на площади: кто спал, кто курил трубку из рожкового дерева.
Индейцы и мароны вступили в союз по общей ненависти к европейцам. У негров соединялись жажда мести и жажда грабежа.
Пяннакотавы грабежом не занимались. Они были из караибов-людоедов, еще довольно многочисленных в этой части Вест-Индии: своих пленников они скальпировали и съедали — не столько из действительного «вкуса» к себе подобным, сколько по воинским и религиозным преданиям. Случались эти отвратительные пиршества не иначе, как при определенных торжественных обрядах и по некоторым большим праздникам.
Зам-Зам рассказал индейскому вождю про исход гадания со змеей и спросил его:
— Встретил ли мой брат по пути белых? Узнал ли он что-нибудь о старом демоне майоре Рудхопе, который ведет их?
— Сыновья Синих Гор встречали следы бледнолицых возле бухты Палиест, — отвечал Уров-Куров в обычной индейской, несколько вычурной, манере.
— У поселения Ултока-Одноглазого? — вскричал Зам-Зам. Вождь, не любивший, как и все индейцы, тратить слова даром, кивнул головой.
— Не хочет ли Уров-Куров напасть на бухту Палиест? — спросил негр. — Если хочет, я просил бы его не делать этого. Пока я вождь болотных маронов, мои люди будут щадить поселение Ултока. И, я надеюсь, наши верные друзья пяннакотавы также.
Индеец удивленно посмотрел на Зам-Зама и спросил:
— Улток очень жесток с черными. Как может мой брат с Сарамеки любить его?
— Он поставляет мне воинов, — отвечал Зам-Зам с циничной иронией. — Его рабы несчастны, они бегут от него и пополняют мое войско. А из тех поселений, где с рабами обходятся хорошо, маронов вовсе не бывает. Наоборот, пять лучших моих воинов соблазнились рассказами о доброте спортерфигдтских хозяев и променяли нашу вольную воинскую жизнь на рабство под бичом Белькоссима.
— Я люблю Ултока-Одноглазого: он служил моей мести, — сказал индеец с таинственным видом. — Я ненавижу Белькоссима и все в Спортерфигдте: старый хозяин Спортерфигдта напал на нас возле своего поселения и убил много наших. Когда Улток просил меня сжечь соседние поселения, чтобы стало меньше риса, сахара, кофе и хлопка и чтобы он мог дороже продавать бледнолицым свой сахар, кофе, хлопок и рис, я пустил красного кулика к его соседям. Когда Улток просил меня привезти в его дом бледнолицую девушку из Спортерфигдта, я привез ее к нему в дом.
— Бледнолицую девушку из Спортерфигдта! — воскликнул Зам-Зам.
— Позавчера мы несли ее в бухту Палиест. На нас напало много бледнолицых. Я отбивался вместе с моими воинами, а три сына Синих Гор понесли белую девушку через лес.
— Так вы отнесли ее в бухту Палиест? — переспросил негр. — Ха! Зачем же?
— Затем, что Улток-Одноглазый хочет взять в жены девушку из Спортерфигдта.
— Э! А как же брат мой до нее добрался! Говорят, Белькоссим и его проклятые рабы так хорошо охраняют Спортерфигдт?
— Для Уров-Курова и его воинов нет хорошей охраны, — хвастливо отвечал индеец. — В болоте, в воде, на дереве — всюду змея настигает и хватает добычу. Мы перешли лужайку и переплыли канал. Мы молчали, как в могиле, и подошли к окнам дома.
— И никто не забил тревогу?
— Под крышей Спортерфигдта была дочь нашего племени. Молодой ягуар играет с теми, кто посмел посадить его на цепь. Но потом он разрывает цепь и набрасывается на своих поработителей.
— Что, индианка вам помогла? — спросил Зам-Зам.
— Она дала нам знак.
— А бледнолицая девушка не кричала?
— Дочь нашего племени знает силу трав. Есть травы, от которых человек спит глубоко, как мертвый.
— А где же теперь молодая хозяйка Спортерфигдта? — спросил Зам-Зам.
— Я говорил тебе: мои воины отнесли ее к Ултоку-Одноглазому. В бухту Палиест есть много дорог, а его проводники знают затопленные тропы.
— Зам-Зам, твой друг, тоже хотел бы взять в жены молодую хозяйку Спортерфигдта, — сказал негр.
Индеец невозмутимо ответил:
— Если бы мой брат с Сарамеки сказал мне это прежде Ултока, я бы принес белую девушку к нему в карбет.
— А кто нам мешает украсть ее у Ултока? — воскликнул Зам-Зам, охваченный желанием совершить новое преступление.
— Мой брат хочет украсть у Ултока-Одноглазого женщину, которая ему дорога, — возразил индеец, пристально глядя на Зам-Зама. — Значит, он не любит Ултока?
— Я люблю Ултока, потому что он жесток, — сказал негр, кровожадно усмехаясь. — Если он потеряет эту женщину, он рассвирепеет и еще больше ожесточится. Пытки в его поселении станут еще страшнее, и ко мне убежит не десять человек, а двадцать.
— Уров-Куров не возьмет левой рукой то, что дал правой. Сын Синих Гор не оскорбит того, кто служил его мести, — твердо возразил индеец.
Чернокожий вождь понял, что настаивать бесполезно, и хвастливо сказал, указывая на жилище своих жен:
— У Зам-Зама в этом карбете самые красивые негритянки и самбо в Гвиане. По первому знаку хозяина они готовы лечь к его ногам. Зам-Заму не нужна молодая хозяйка Спортерфигдта: преданная, послушная собака лучше упрямой, шаловливой козочки.
Поверил индеец показному равнодушию Зам-Зама или нет, но он выспренним тоном ответил:
— Мама-Юмбо читает в сердцах.
— Так, — сказал Зам-Зам, чтобы переменить неприятный разговор, — и Мама-Юмбо велит нам напасть на белых.
— У нас в краале колдунья тоже сказала, что нам надо напасть на бледнолицых. Мы победим и принесем людей в жертву Мама-Юмбо, — сказал индеец.
— Знает ли мой брат, что к нашим врагам прибыл из Европы новый вождь и что он очень храбр? Мой лазутчик в Суринаме видел, как он сходил с корабля, и слышал, как белые хвалят его храбрость.
— Черная колдунья говорила об этом одному из наших воинов, — отвечал Уров-Куров в кровожадном исступлении. — Мы победим бледнолицего, что приплыл по большому соленому озеру. Наши воины снимут с него скальп. Они привяжут его к священному столбу и сделают мишенью для своих стрел. Они воспоют его смерть в победных песнях. Они съедят его мясо, как велит Мама-Юмбо, они съедят его мясо, чтобы не забывали пяннакотавы: желудок воина — почетная могила для его врага. Так будет! Так будет! — мрачно заключил индеец свое пророчество.
Вдруг за оградой послышался сильный шум. Прибежал негр — с него струились ручьями вода и кровь: он был тяжело ранен в голову и в плечо. От быстрого бега его оставили последние силы: упав к ногам Зам-Зама, он слабеющим голосом произнес:
— Белые! Белые!
И умер.
XXI
Поход
Марон, предупредивший Зам-Зама о приближении белых, встретил авангард майора Рудхопа милях в трех от Бузи-Край. Дозорные европейского отряда ранили его, но негру хватило сил и мужества добежать до острова и объявить мятежникам, что неприятель близко.
После встречи с этим лазутчиком белым пришлось идти дальше чрезвычайно осторожно.
В отряде майора Рудхопа было восемьсот солдат колониальных войск и сто черных охотников с разных плантаций — этим ополчением командовал Купидон. За батальоном следовало еще шестьдесят невольников: они несли провиант, снаряжение, топоры и инструмент для разбивки лагеря, поскольку ни повозки, ни вьючные животные по этой части леса пройти не могут.
Было четыре часа вечера. Белые находились милях в двух от острова, занятого Зам-Замом.
Лес становился все гуще — ни дороги, ни тропы. Свод огромных ветвистых деревьев был непроницаем для света. Большие лианы перекидывались с дерева на дерево, стелились по земле и притом спутывались в такие частые, непроходимые сети, что два негра с трудом могли прорубить топорами проходы для солдат.
Проводником был мятежник, добровольно пришедший к Белькоссиму: он знал, где находится Бузи-Край. Идти по солнцу он не мог: так темен был лес. Через эти мрачные дебри он шел, пользуясь хитроумнейшими приметами. Остров был расположен на юге, а проводник заметил, что с южной стороны кора у деревьев более гладкая. Так он точно знал направление и не сбивался с пути.
Прорубить проход хотя бы для одного человека в этой гуще растений стоило столько времени и трудов, что отряду Рудхопа приходилось идти тремя цепочками, в колонну по одному. Перед каждой цепочкой два негра расчищали дорогу.
Итак, центр под командованием майора Рудхопа, правое крыло под командой Геркулеса Арди и левое крыло под командой капитана Гумана шли параллельно, в колонну по одному, на расстоянии человеческого голоса. Такой порядок назывался «индейская цепочка».
В голове колонны майора шел проводник, а перед ним два негра с топорами и серпами: они прорубали проходы в древесной стене, повсюду загораживавшей дорогу.
За проводником шли Купидон, толстый барабанщик Тукети-Тук и еще десяток черных охотников. Почти у всех на левой руке была бляха за отвагу и преданность.
Глубокую лесную тишину нарушали только мерные удары топоров и серпов. Нарубив кучу зеленых веток и лиан, уставшие от работы и от жары негры присели передохнуть.
— Эй, Тукети-Тук, — сказал неутомимый Купидон, — давай-ка поиграй топориком на коре этой пальмы, поваленной поперек дороги, как ты умеешь играть аюповой палочкой на барабане лоанго. Идем скорей, быть может, в Бузи-Край мы найдем какие-нибудь следы массеры Адои. Кто же похитил бедную нашу хозяйку — Зам-Зам или пяннакотавы? С тех пор, как маленькая индианка тоже пропала, массера Белькоссим стал думать, что скорее индейцы. Ай, какая дурная это была ночь, когда похитили массеру Адою!
— Дурная ночь, — сказал толстый барабанщик, — а хуже всего, что была измена. Иначе разве застали бы врасплох Спортерфигдт?
— Ну, давай за работу, — сказал Купидон. — Тебе вот эта пальма, Тукети-Тук, а мне вон та латания.
— Отчего же не поиграть на этой пальме топором, — откликнулся Тукети-Тук на слова товарища и с силой ударил топором по вековому стволу. — Отчего не поиграть — барабан еще и напоит барабанщика.
И действительно, из надрубленного ствола пальмы обильно полилась розовая водица[17].
Тукети-Тук взял широкий лист арума, свернул в рожок, поднес этот зеленый кубок к стволу и с наслаждением выпил холодной, прозрачной жидкости. Негры-лесорубы и Купидон утолили жажду подобным же образом. Стук топоров ненадолго затих.
Лесорубы правого и левого крыла решили, что проводник о чем-то размышляет, прежде чем углубиться дальше в чащу, и тоже прекратили работу.
Невольники отдохнули и стали работать дальше. Один из них, чтобы отодвинуть с дороги толстый ствол рожкового дерева, засунул под него, как рычаг, топорище, приподнял и повернул. На негре были только рубашка и белые штаны. Едва ствол покачнулся, бледно-оранжевая змея, длиной около трех футов, а толщиной едва со стержень пера, выскользнула из-под дерева, забралась наклонившемуся негру под рубаху и укусила его близ сердца.
Негр страшным голосом закричал:
— Это вай-пай[18]! Я погиб!
Он быстро поднес руку к груди, но змея выскользнула, проползла под складками одежды и укусила беднягу еще дважды: в спину и в плечо.
Негр упал. Цвет его кожи из черного стал пепельно-серым, глаза закатились, по телу пробежала судорога, члены похолодели.
Укус этой змеи смертелен. Зная, что помочь ничем нельзя, Купидон, Тукети-Тук и второй лесоруб в ужасе попятились прочь от товарища. Он в мучениях испустил дух, а вай-пай, извиваясь вокруг него, продолжала кусать жертву.
— Осторожно! — крикнул Купидон. — Рядом должен быть абома[19]: вай-пай держится при нем, как рыба-лоцман при акуле.
В тот же миг он что-то увидел, не раздумывая, поднял с земли свое ружье, навел на дупло дерева и выстрелил. На негров обрушился ливень листьев и сломанных веток, а с ними туча брызг густой грязи. Раздался глухой тяжелый звук, как будто колоссальный цеп переломал огромные сучья деревьев и ударил по сырой земле.
Купидон увидел, как в ярости поднялся и опустился гигантский хвост удава: красновато-коричневый с яркими желтыми пятнами, он один достигал не менее двадцати футов в длину. Оправившись от первого впечатления, Купидон взял ружье Тукети-Тука, чтобы добить чудище, но в этот миг змея вдруг перестала биться, огромной волной проползла по лианам, показала спину над высокой травой и пропала в стороне правого фланга. Вторым выстрелом Купидон ее не достал.
— Абома! Абома! — крикнул Тукети-Тук. — Эй, цепочка справа! Ружья наизготовку — он ранен!
В первый миг никто не ответил. Тогда барабанщик поднес руки рупором ко рту и прокричал:
— Вы меня слышите?
В ответ раздались три-четыре выстрела и крики:
— Сдох! Сдох!
— Слава тебе, Господи! — сказал Купидон. — Абома мертв. Но и бедный лоанго тоже мертв, а вай-пай спряталась под его трупом и, может быть, сторожит нас.
С этими словами он из осторожности отошел от тела несчастного негра, который после недолгой агонии испустил дух.
Тут подбежал сержант Пиппер. Майор Рудхоп, шедший в середине цепочки, прислал его узнать, почему колонна остановилась и что это были за выстрелы.
Купидон рассказал ему, что случилось, и указал на бездыханное тело негра. Сержант невозмутимо посмотрел на эту печальную картину и сказал Купидону:
— Амуниция дорога. Когда мы вернемся в Парамарибо — один черт знает. На этих проклятых маршах собственную шкуру протрешь, а мануфактурные и портняжные лавки в лесу что-то больно редки. Так что нечего бросаться одеждой Ост-Индской компании. Слушай команду: парня этого раздеть, рубашку свернуть вместе со штанами, все положить в поклажу кому-нибудь из носильщиков.
Тукети-Тук в ужасе поглядел на сержанта:
— Там же вай-пай! Говорят, после первого укуса она становится еще злее.
— Ты что, боишься дважды умереть? — возразил сержант. — А если уж так боишься, что тебя змея съест, возьми палку, потряси рубашку, она и уползет.
Но барабанщик не решался на такое, по его понятиям, кощунство.
Пиппер пожал плечами, срезал гибкую аюповую ветку и подошел к мертвому негру. В тот же миг змея с негромким шипением выскользнула из-под складок рубашки и впилась в ногу сержанта, но та, по счастью, была защищена толстой кожаной гетрой.
Пиппер дал змее обернуться вокруг лодыжки и, пока она тщетно старалась прокусить буйволову кожу, чрезвычайно ловко размозжил ей палкой голову, бесстрастно проговорив при этом:
— У старого Пиппера шкура твердая, тебе не по зубам.
Он с достоинством размотал змею, снял с ноги, взял за хвост и забросил на дерево со словами:
— Вай-пай — еда нездоровая. Вот удав — другое дело, это пища богов. Да тут хорошо, змей полно: не одна, так другая попадется. Кстати, о пище: со вчерашней ночевки я всего-то съел три яичка колибри да ящерицу. Майор скуп на провиант — экономит и еду, и время, а мы, выходит, вместо трех раз в сутки едим один.
А коль на правом фланге убили удава, значит, мы можем отлично поужинать свежим мясом. Краснокожие так учат: если удава хорошо поджарить на углях да для мягкости полить чертогоном и посыпать порохом, выйдет не хуже любого угря, даже лучше, потому что толще. Я раз угостил майора, он только пальчики облизывал. Да вот и он сам, легок на помине, — обернулся Пиппер к Рудхопу: тот подошел самолично выяснить, почему отряд остановился.
Выказав не более, чем сержант, чувствительности насчет смерти бедного лоанго, майор спросил проводника, далеко ли еще до острова Бузи-Край.
— Мили две, — отвечал негр.
Майор немного подумал и сказал:
— Теперь четыре часа. Если лазутчик не умер по пути, Зам-Зам готов нас встретить. Ночью нам невозможно напасть на них, а пока дойдем до Бузи-Край, солнце уже сядет. Заночуем здесь, а завтра на рассвете выступим. Вот будет-то жарко!
— Да уж куда, пожалуй, жарче, — сказал сержант, утирая пот со лба, — и так не в леднике. Но слово командира — закон, наше дело — исполнять приказание.
Майор, ничего не ответив на реплику сержанта, прокричал:
— Эге-ге! Капитан Арди, капитан Гуман! Встаем на ночевку! Остановите ваши колонны и подходите ко мне. Велите солдатам и людям по дороге подбирать ветки латании — и место расчистят, и для ночлега пригодится. Вы меня слышите?
— Точно так, майор, — отвечал капитан Гуман.
— Точно так, господин майор, — отвечал капитан Арди.
И солдаты живо начали устраивать лагерь среди леса.
Позиция, выбранная майором, ввиду близости неприятеля была, несомненно, очень опасна, но так как в лесу на каждый шаг пути приходился целый час изнурительных трудов, идти ночью было решительно невозможно.
Негры с правого фланга добили удава, раненного Купидоном, но, когда несколько негров, обвязав гада лианой вокруг шеи, вытащили его на поляну, змея, хоть и получила две пули в голову, еще подавала признаки жизни.
Удав был покрыт широкой чешуей. В длину он достигал тридцати футов, а в обхвате — трех. Темно-синяя с зеленоватым отливом спина была усеяна белыми с черным ободком пятнами неправильной формы, по бокам шли рыжеватые полоски на красивом желтом фоне, брюхо же было грязно-серое. Продырявленная голова его, маленькая и плоская, была залита кровью и почти не видна. Время от времени удав слабо приоткрывал острозубую пасть.
Негры и многие солдаты, разделяя вкусы сержанта Пиппера, надеялись, что из этого чудища выйдет для них ужин.
Один из негров взял лиану, которой был обвязан удав, залез на дерево, пропустил гибкий стебель через развилку сучьев и бросил конец товарищам. Те потянули и приподняли змею стоймя. Удав продолжал судорожно дергаться.
Тогда негр взял в зубы нож, слез с дерева, схватил руками крутившегося удава, залез на него, как по канату, обхватив ногами, и стал снимать кожу.
Он вонзил нож в шею удава и сделал глубокий надрез. Почуяв боль, страшный змей из последних сил дернулся, под потоками крови блеснули угасавшие глаза. Удав дважды раскрыл пасть и проскрежетал зубами, а хвостом несколько раз ударил так страшно, что все в ужасе попятились.
Но змея не могла достать прижавшегося к ее шее негра, а негр крутился и колебался вместе с содрогавшимся гадом, ожидая конца агонии, чтобы закончить свое дело.
Скоро движения удава стали тише. Он лишь слабо корчился, не в силах оторвать хвост от земли. Он издыхал…
Негр повел ножом дальше вниз и так, спускаясь сам, постепенно снял со змеи всю кожу до самого хвоста.
Странное и жуткое зрелище: при последних лучах заходящего солнца, еле проникающего через свод больших деревьев, покрытый кровью черный полуголый человек руками и ногами сжимает этот огромный труп!
XXII
Лагерь
И солдаты Рудхопа, и негры давно привыкли ночевать в лесу, а потому чрезвычайно скоро и проворно устроили лагерь. Прежде всего они расчистили круглую поляну диаметром в двести шагов и соорудили посередине домик для офицеров.
И балки, и стены, и кровля этого скромного пристанища были из латаний — высоких пальм, во множестве растущих в гвианских лесах. На верхушках латаний растут вкусные плоды, называемые «пальмовая капуста», — их собрали на ужин тем солдатам, которых не соблазнило расхваленное Пиппером лакомство.
Конструкция этих домиков как нельзя более проста и изобретательна.
Высота латании обыкновенно футов пятьдесят, а толщина — двенадцать — пятнадцать дюймов. Ее древесина очень тверда, но лишь снаружи: за исключением коры и луба, толщиной один дюйм, весь ствол заполнен губчатой массой.
Ее легко извлекают из бревна, после того как распиливают дерево вдоль; затем распиливают поперек — на легкие и прочные доски длиной семь-восемь футов. В землю врывают четыре столба, между ними прокладывают брусья, а на брусья ставят вертикально доски. Все части домика перевязывают, как веревками, гибкими и прочными лианами, называемыми тай-тай.
Наклонную крышу тоже делают из латаниевых досок. Их накрывают большими охапками листьев того же дерева, также перевязанными лианами тай-тай.
Таково было жилище для майора и офицеров. Негры соорудили его меньше чем за час.
Помещения для солдат и рабов были еще проще: врывали в землю четыре столба, перекрывали листьями латании и подвешивали под этими навесами гамаки (гамак был у каждого), чтобы не спать на сырой земле и защититься от обильной ночной тропической росы.
Солнце быстро опускалось и багровым светом озаряло верхушки деревьев вокруг лагеря.
День был тяжкий и утомительный, ночь, возможно, предстояла опасная, но солдаты, предвкушая недолгий отдых, ощущали себя радостно и благополучно. Они снимали оружие и, тщательно осмотрев, подвешивали к потолку. Иные готовили ужин, а иные, выбранные по жребию, готовились разойтись по разным сторонам в дозор.
Дозорные должны были охранять лагерь ночью от неожиданного нападения. Негры уже расчищали дозорным проходы в густом лесу — узкие просеки, сходившиеся к лагерю: дозоры выставлялись по концам просек.
Обычными способами майор не мог и думать защитить занятую позицию. Но сама невыгодность позиции оборачивалась также и в его пользу — лесное бездорожье было столь же непроходимо для неприятеля, как и для него самого. Никакой отряд не мог передвигаться в лесу, не обнаружив своего присутствия неизбежным в таком походе стуком топоров и треском падающих деревьев.
Впрочем, зная, как воюют негры и индейцы, майор был уверен, что они не углубятся большим числом в лес, а останутся в почти неприступных укреплениях Бузи-Края.
Опасаться следовало лишь того, что кто-нибудь из мятежников снимет дозорного. Чтобы уберечься от этого, он выставил в конце каждой просеки, исходившей из лагеря, пост из пяти-шести человек, а на полдороге — еще по два часовых, чтобы в случае нападения поднять тревогу.
Неутомимому сержанту Пипперу майор поручил постоянно совершать ночные обходы постов, а сам вернулся в домик к офицерам.
Среди офицеров был и Геркулес Арди.
В походе сын актуариуса претерпевал тяжкие испытания, но стоическая покорность судьбе его не покинула. Его осаждали всяческие ужасы — один спешил сменить другой, — и от того в нем рождалось неестественное возбуждение, на вид схожее с мужеством. Он боялся одной беды — и спокойно встречал другую: он боялся отстать и оказаться одному среди леса, и это давало ему силы идти с отрядом вперед, что бы там впереди ни грозило.
Пока Пиппер, которого майор в шутку называл своей экономкой, готовил немудреный ужин, Рудхоп болтал с офицерами про тяготы истекшего дня.
— Что ж, капитан Арди, — спросил он Геркулеса, — как вам наши леса? Как вам наша индейская цепочка? Здесь, черт побери, так не разгуляешься, как на эспланаде в Гааге или в Амстердаме!
— Я не жалею об эспланадах в Гааге или в Амстердаме, господин майор, — отвечал Геркулес.
— Ну да, ваш отец так о вас и говорил, — сказал майор. — Вы настоящий искатель приключений. Вам бы родиться во времена флибустьеров — быть бы вам тогда какой-нибудь Железной Рукой или Монбарсом-Губителем. Но вы не слишком расстраивайтесь, друг мой: завтра дело будет жаркое. Наши проводники говорят, что Бузи-Край — очень сильное укрепление, а негры забились туда, как волки в логовище, и сопротивляться будут отчаянно. А плавать вы умеете?
— Немного, господин майор, — ответил Геркулес.
— Немного? А, черт, немного — это несколько маловато, переплыть-то придется целое озеро. Да вы-то с вашей выдержкой и смелостью как-нибудь выберетесь. Брось вас хоть связанного по рукам и ногам посреди большой реки, я и то бы за вас не беспокоился. Говорят, Бог пьяниц любит, а я скажу: Бог любит удалых рубак. Только не забудьте, когда будете плыть по озеру, все время сильно дрыгать одной ногой. Это довольно трудное движение, потому что идет не в такт, но можно приспособиться: двумя руками и одной ногой грести, а другой вот так вот дрыгать.
— Зачем же надобно дрыгать ногой, господин майор? — с удивлением спросил Геркулес.
— А чтобы пугать кайманов, мой храбрый друг! А то, если вы будете спокойно плыть и прохлаждаться, они вас быстренько, к дьяволу, слопают. А когда дрыгают ногой и мутят воду, они этого не любят и плывут завтракать куда-нибудь в другое место. Я это потому говорю, что нам переплывать озеро Бузи-Край, а оно славится кайманами — здесь самые красивые кайманы в Гвиане. У меня дома в Парамарибо под потолком висит один, как в кунсткамере, — двадцать пять футов от головы до хвоста, не баран чихнул. Его убил один негр, у которого он сожрал двух негритят.
Вошел Пиппер, он нес огромный кусок жареной змеи на широком листе латании.
— Вот вам, майор, — произнес он, — грудинка того приятеля, которому мы так славно отсалютовали пятью ружейными выстрелами. Зажарено как следует. А пахнет-то как! — сержант раздул ноздри.
Майор взял у Пиппера это необыкновенное блюдо и сказал Геркулесу:
— Надо же! Как только я беру жареного удава, я всякий раз вспоминаю бедного папашу Ван Хопа, что никак не хотел отдать мне сапоги. Тогда я вздохну да и говорю всем этим гадам — всем вообще: «А, голубчики! Вы съели моего казначея! Ну так теперь мы вас съедим. Не надо делать другому того, чего себе не желаешь», — философически заключил майор. Он протянул лист латании Геркулесу и сказал: — Не желаете ли отведать, капитан?
Геркулес был в ужасе, его чуть не тошнило от этой омерзительной еды, и он уже собирался это сказать, как вдруг в домик поспешно вошел один поручик и доложил майору:
— Один из черных охотников пробрался через лианы раньше лесорубов и ясно слышал на юге перекличку пяннакотавов.
— Вот же дьявольщина, ни куска проглотить не дадут, разбойники, ни поспать спокойно! — с этим возгласом майор вскочил с бревна, на котором сидел. — А негр не ошибся? Индейские воины перекликаются криком тигри-фауло, а те всегда кричат вечерами, когда рассаживаются по деревьям спать. Может быть, охотник их и слышал?
— Прошу прощения, господин майор, по всей вероятности, это индейцы, потому что негр несколько раз ясно слышал слово «оронво». Как вам известно, так перекликаются индейские часовые. Только сегодня крик раздавался не с земли, а как будто бы с неба.
— Кой черт залез на небо! — вскричал майор. — Да этот негр с ума сошел — «с неба»!
— А вы забыли, майор, — возразил сержант, — те зазубренные стрелы в прошлом году угодили в вас тоже словно с облаков: индейцы стреляли в нас, сидя на пальмах.
— А, черт! Пиппер правду говорит! Я забыл еще это обстоятельство, капитан Арди, — степенно сказал Рудхоп, обращаясь к Геркулесу. — Представьте себе: воздушная засада. Это самое чертово дело: неприятеля закрывает листва, а вы только поднимете башку, чтобы его выследить и прицелиться, как он уже продырявил вам физиономию. Я раз видел замечательную штуку в этом роде. Подпоручик моей второй роты взглянул вот так вот вверх, высмотреть кого-нибудь из людоедов, да в тот же миг и получил по стреле в каждый глаз, наподобие подзорной трубы. Такой выстрел, пожалуй, раз в жизни приходится увидеть!
— Особенно, если это стреляли в тебя, — иронически заметил Пиппер.
— Вот я и говорю, — продолжал майор, — нет ничего хуже этих воздушных засад. Есть одно только средство с ними бороться — самим устраивать такие же: посадить дозорных на деревья: как моряки сажают впередсмотрящих на мачты. Я понимаю, каково сражаться, словно обезьяна или белка, каким надо быть акробатом, чтобы, стоя на суку, рубить саблей или стрелять из кавалерийского ружья. Но что делать! Выбирать не приходится: только так и можно заплатить индейцам их же монетой.
— Да вы увидите, капитан Арди, — сказал майор, обернувшись к Геркулесу, — не так уж это и неприятно. Вот вы сейчас возьмете дюжину сущих чертей — я называю их лазальщиками. Как только услышите голоса индейцев, залезайте на первое попавшееся дерево, а там уже бегите себе по веткам и ни о чем не думайте, только выбирайте ветки потолще. В конце концов так привыкнете, что ходить по земле еще и скучно покажется.
Геркулес тупо глядел на майора.
«Вправду невероятно! — подумал Рудхоп. — Ничем его не проймешь». Вслух же он сказал:
— Вот вы там наверху попрыгаете и все разведаете, а потом проведете рекогносцировку внизу… Или нет, — продолжал он, подумав, — сначала внизу. Вот как я думаю: идите сейчас в ту сторону, где слышны голоса, и будете оставлять по дороге дозорных, так, чтобы они могли перекликаться. От них мы будем узнавать о вашем движении. Если вы какое-то время пройдете и ничего не услышите, остановитесь и устройтесь до рассвета, как сможете, а утром станете нашим передовым отрядом.
Оба поручения ужаснули Геркулеса: ему казалось верной гибелью идти ночью по лесу — что по деревьям, что под деревьями. Но привычка слепо повиноваться майору победила страх. Не смея возразить, он встал и покорно сказал:
— Я готов, господин майор.
Рудхоп переглянулся с офицерами и восхищенно указал им на Геркулеса.
— Да вы покушайте сначала. Съешьте кусок жаркого, выпейте стакан рома. А, капитан?
— Я не голоден, господин майор. Разрешите мне выступить тотчас же.
Несчастный говорил правду: отвращение к омерзительной еде майора вовсе отбило у него аппетит, а мысль о грядущих напастях повергла в бесчувствие. Геркулес вел себя подобно тем уставшим от жизни людям, что покорно склоняют голову пред ударами судьбы, благодаря ее за избавление от постылого существования.
Но для тех, кто был предубежден в пользу Геркулесовой отваги, как майор и другие офицеры, вразумленные им в том же духе, нетерпение капитана казалось вершиной мужества.
Даже суровый Рудхоп посмотрел на него с живым участием.
— Чтоб мне провалиться к черту в ад! — вскричал он. — Никогда еще не видал такого отважного молодого человека! Вот что: обыкновенно Пиппер всегда идет со мной и с моей ротой карабинеров. Так, чтобы доказать, как я вас уважаю, я вам сейчас даю в подчинение Пиппера и двадцать пять карабинеров в придачу к той дюжине лазальщиков. Им это тоже будет награда за храбрость.
— Благодарю вас, господин майор, — промолвил Геркулес, довольно равнодушный к такому знаку начальственного расположения.
— Если индейцы перекликаются вслух, — степенно сказал Пиппер, — значит, им все равно, услышат их или нет. Так что они на нас ночью нападут, я это верно знаю. Прошу у вас пять минут, майор: я приготовлю косу к бою и соберу карабинеров.
— Что с тобой поделаешь, старый безумец, — сказал Рудхоп. — Иди, только возвращайся поскорее.
Мы помним, что сержант подражал индейцам в воинской похвальбе: как те оставляют на бритой голове один клок волос, будто приглашая неприятеля схватить их и оскальпировать удобнейшим образом, так и сержант привязывал к своей длинной косе все блестящее и звенящее, что было под рукой.
Несколько раз это горделивое украшение чуть было не оказалось для него роковым. Индейцы понимали, из какой тщеславной похвальбы так украшалась эта коса. Они яростно бросались на Пиппера, они даже взяли его в плен, и лишь благодаря чудеснейшей случайности он избежал ожидавшей его ужасной участи.
Пока сержант собирался, майор дал Геркулесу еще несколько наставлений насчет воздушных засад и сказал также, что под камзолом следует всегда носить маленький, остро отточенный кинжал — превосходную защиту в рукопашном бою на случай, если вас разоружат.
— Индеец видит, что вы лежите на земле без оружия, он уже не остерегается вас. Обыкновенно он становится вам коленом на живот и берет за волосы, чтобы снять скальп. А вы тогда тихонько суньте руку под одежду, будто у вас что-то жмет или пуговица расстегнулась, достаньте свой кинжальчик и заколите индейца. Скальп он с вас, может быть, все равно снимет, но хотя бы вы будете знать, что отомстили.
Как только майор дал Геркулесу эти наставления, появился Пиппер.
Офицерский домик слабо освещался лампой, сделанной из пустой горлянки, в которой горел пропитанный пальмовым маслом фитиль.
Явился Пиппер — его морщинистое загорелое лицо окружало сияние, да и в домике стало заметно светлее. Ничего странного здесь не было: Пиппер ловко пришпилил к своей косе несколькими булавками двух роскошных фонарщиков — жуков-светляков (такие же точно, как мы помним, мрачно освещали жилище колдуньи). Кроме них косу украшали два бубенчика, красная тряпка с серебряными блестками и пучок перьев попугая.
Увидев этот чудной убор, майор и все офицеры расхохотались. Пиппер невозмутимо доложил Рудхопу:
— Господин майор, карабинеры к походу готовы.
— Ну, мой храбрый друг, — сказал майор, обнимая Геркулеса, — до завтра. Чуть что случится, давайте команду стрелять сразу в воздух, мы тут же придем к вам на помощь. А ты, старик Пиппер, — обратился он к сержанту, — не теряй, как говорится, головы, да и косу заодно береги.
Рудхоп еще раз пожал руку Геркулесу, проводил его до порога и посмотрел, как он ушел по узкой тропе, расчищенной неграми-лесорубами. Еще некоторое время он следил за отрядом благодаря свету от косы сержанта, блестевшей, как звезда в ночи. Когда и она скрылась из виду, он сказал одному из невольников:
— Томи, достань-ка из погребка две бутылки рома. Выпьем за удачу нашего храброго капитана, господа!
Рудхоп славно поужинал с офицерами, забрался в гамак, напоследок еще раз вспомнил о сыне своего старого друга актуариуса и глубоко заснул.
Утомленные дневным переходом, солдаты тоже заснули, и весь лагерь европейцев, исключая лишь часовых, погрузился в глубокий сон.
XXIII
Пяннакотавы
На небе засияла ясная луна. Ее светлые лучи проникали через кроны деревьев и играли на листьях, таинственно высвечивая зеленые купы.
Геркулес молча шагал в середине колонны, рядом с Пиппером.
Понемногу лес становился реже. Негры-лесорубы перерубили несколько последних лиан, и отряд оказался в апельсиновой роще. Высокие деревья стояли довольно редко, так что вся роща была залита лунным светом.
Иногда откуда-то, словно с неба, раздавался, постепенно отдаляясь, диковинный резкий звук. Европейцы шли уже полчаса, оставляя позади себя поминутно перекликавшихся часовых.
В роще перед отрядом открылась торная дорога. Деревья стали ниже и скоро перешли в довольно густой подрост, среди которого кое-где торчали кокосовые и другие пальмы. Ясно было, что это — старая вырубка, которую некогда обрабатывали мароны.
Дорога вилась по вырубке, затем вдруг сделала крутой поворот, и отряд очутился на краю огромной поляны. Через всю поляну среди густой травы тек быстрый ручеек. Лес со всех сторон окружал это огромное, почти необозримое пространство, озаренное луной.
Крики индейцев совсем затихли, так что оставлять засаду на деревьях больше не было смысла.
Геркулес почти машинально следовал за проводником. От усталости, волнения и голода у него начинало уже мутиться в голове. Иногда ему казалось, что он во власти грез: бывает такое странное состояние, будто бы вам снится кошмар, но вы никак не можете проснуться, чтобы все это прекратилось. Тогда вы смиряетесь и только ждете, чтобы скорей наступила катастрофа, потрясение, от которых вы наверняка проснетесь.
Место, куда вышел передовой отряд, было превосходной стоянкой. Понятно, как удивились и обрадовались солдаты, что им не придется ни идти по трудной и опасной дороге, где в любом месте можно ожидать засады, ни ночевать в лесу, где враги могут неожиданно окружить их, что они до самого рассвета проведут время на открытой поляне, где внезапно напасть на них никак невозможно.
На случай нападения у них оставалась дорога в тылу, по которой они всегда могли отойти и связь по которой обеспечивалась дозорными — их перекличка все время была слышна.
Геркулес послал субалтерн-офицера к майору доложить, что авангард расположился превосходно, и подробно описать их позицию.
Сержант, посоветовавшись с Геркулесом, одобрившим его распоряжения, весьма предусмотрительно выставил резервный пост на дороге в лагерь, а также передовых дозорных, которые должны были обозревать всю окрестность и дать сигнал тревоги при малейшем движении, при малейшем шорохе.
Когда эти меры предосторожности были приняты, утомленные непомерными тяготами солдаты приготовились ко сну. Гамаки, которые они всегда носили с собой, расстелили прямо на траве, поскольку здесь их некуда было подвесить.
Место было глухое, тишина стояла совершенная.
Геркулес еще какое-то время боролся со сном, потом, отцепив шпагу и пистолеты, улегся на гамак, который ему постелил негр.
Прежде чем заснуть, капитан среди прочих невнятных мыслей, путавшихся в его ослабевшем мозгу, думал и об Адое. Он находил ее прелестной, а ее необычные поступки глубоко поразили его.
Девушка казалась ему настолько же нежной и доброй, насколько и прекрасной. Он представлял себе свою мирную жизнь с нею — не в Суринаме, где все мятежи, змеи да людоеды, а в каком-нибудь тихом голландском городке: тогда-то уж он будет иметь право сопротивляться воле своего воинственного отца.
С каким удовольствием он будет тогда вспоминать прошедшие опасности! «Если наступит этот счастливый миг, — думал Геркулес, ворочаясь на гамаке, — мне, право, не жаль будет, что я уехал из Европы и пережил все эти ужасы: я буду покоиться у себя в раю и без страха смогу глядеть в ад. Только, быть может, — вздохнул он, — все это сон, и вообще все, что со мной происходит, — сон. В жизни ведь так не бывает — теперь я понимаю».
Тут его раздумья были прерваны странным явлением.
Он лежал неподалеку от ручья, про который мы упоминали. Ширина ручья была футов пять или шесть. Оба берега закрыты зеленью.
Вдруг Геркулес увидел, как противоположный берег ручья тихонько взволновался, будто его кто-то колебал снизу, а потом словно бы продвинулся фута на два вместе с травой и остановился.
Геркулес никак не смог объяснить такое диво. Он решил, это ему мерещится в полусне (глаза у него уже слипались), и вернулся к своим мечтаниям.
Несколько раз, прогоняя нежный облик Адои, в его воображении всплывало дикое лицо Ягуаретты. Не без тревоги вспоминал Геркулес, как рассвирепела и с каким гневом ушла от него маленькая индианка, когда он попрекнул ее за легкомысленное поведение.
Тут размышления Геркулеса опять прервались: снова чуть-чуть продвинулся берег ручья.
«Должно быть, я вижу сны наяву, — подумал Геркулес и закрыл глаза. — Лучше уж я буду смотреть сны во сне». И он наконец перестал бороться со сном.
Вдруг раздался крик тигри-фауло.
Левый берег ручья словно куда-то провалился. Сорок покрытых грязью пяннакотавов появились, будто из земных недр, одним прыжком перепрыгнули ручей и набросились на спящих солдат, не издав ни звука. Индейцы застали солдат врасплох и всех перебили топорами и палицами.
Опять раздался крик тигри-фауло, и другие индейцы, спрятавшиеся в лесу, неожиданно напали на часовых, когда те, услышав шум позади, обернулись к ручью. И эти солдаты пали под ударами индейцев, не успев даже вскрикнуть.
Сержанту Пипперу, хотя на него тоже напали во сне, удалось схватить саблю и смело сразиться с тремя пяннакотавами. Превосходящие числом враги одолели его и обезоружили. Гибель была близка: один из индейцев уже схватил сержанта за злосчастную косу и занес топор. Но Уров-Куров, командовавший засадой, властно поднял свою палицу и зычно произнес:
— Перебейте всех бледнолицых, но Блестящую Косу и вождя не трогайте! Сорвите золото с одежды вождя, если он еще жив!
Этот приказ спас Геркулесу жизнь. Два индейца крепко схватили его. Он не попытался вырваться от них, не произнес ни слова, даже не пошевелился, а только неподвижно и тупо уставился на них.
Услышав приказание Уров-Курова, один из индейцев опустил нож, уже занесенный над головой Геркулеса, и сказал:
— Вот вождь бледнолицых, а вот золото с его одежды.
С этими словами он сорвал с Геркулеса эполеты и передал Уров-Курову. Тот прицепил эполеты к своей перевязи из перьев как трофей, не сводя меж тем глаз с остолбеневшего Геркулеса.
Одной из высших добродетелей индейцы почитают умение с благородным молчанием и высокомерным бесстрашием подчиняться неизбежной судьбе. Они с почтением вспоминают воинов, что в западне или перед казнью оскорбляют ликующего врага своим презрительным молчанием. Напротив, тех, кто, будучи побежден, разражается пустой бранью и проклятьями, они нисколько не уважают.
В этом отношении Геркулес совершенно отличался от сержанта.
Пиппер, в ярости от того, что его так провели, изо всех сил вырывался, даже связанный, и яростно вопил, так что Уров-Куров велел заткнуть ему рот, чтобы не услышали часовые по дороге в лагерь.
Геркулес, напротив, не двигался вовсе. Скрестив руки на груди, он озирался вокруг и ничего не соображал.
Уров-Куров был поражен таким стоицизмом: ведь для его народа это одна из первейших воинских доблестей. Он в восторге глядел на Геркулеса и сказал, указывая на него индейцам:
— Человек с сильным сердцем молчит, когда его ждет смерть. Человек со слабым сердцем (он указал на Пиппера) вопит, как женщина. Принести в жертву человека с сильным сердцем — это приятно Мама-Юмбо: он любит, когда дымится кровь отважных воинов. Мы съедим вождя на праздничном пиру, а Блестящую Косу, у которого слабое сердце, съедят женщины, подобно ему вопящие в бессильной ярости. Нам пора в путь. Возьмите на плечи Блестящую Косу и вождя. Ради его мужества я называю его Гордый Лев (с тех пор так и стали звать Геркулеса). Завтра солнце должно увидеть нас в краале.
Индейцы исполнили приказание Уров-Курова. Пиппера перетянули крест-накрест лианами так, что он не мог пошевелиться. Два индейца взвалили его на плечи и с такой поклажей исчезли в лесной чаще.
Так же поступили и с Геркулесом Арди. Из особого уважения к Гордому Льву Уров-Куров все время сам шел рядом с теми, кто нес молодого офицера.
Объясним теперь в двух словах, как была устроена засада индейцев.
Они рассчитали, что европейцы, остановившись в лесу, услышат их боевой клич и, вероятно, вышлют передовой отряд. Отряд непременно должен был следовать за удаляющимися голосами индейцев, выйти на известную нам поляну и там, на прекрасной передовой позиции, остановиться.
На берегу ручья индейцы вырыли длинный ров, фута в четыре глубиной, накрыли его камышом и травой и спрятались там в засаде.
Если бы, паче чаяния, солдаты перешли ручей в том месте, где прятались индейцы, те быстро выскочили бы — им хватило бы ловкости убежать в лес.
Последуем теперь за пяннакотавами, что понесли в крааль, расположенный милях в шести от этого места, Гордого Льва и Блестящую Косу.
XXIV
Крааль
Крааль (деревня) пяннакотавов, вождем которых был Уров-Куров, находился неподалеку от берега моря, между двух ручьев, текущих в реки Иракуба и Коммана.
На севере от крааля росла роща кокосовых пальм, к югу до самого горизонта тянулись роскошно зеленеющие рисовые чеки.
Индейские дома, или карбеты, были беспорядочно раскиданы на склоне небольшого холма. Дома имели форму конуса и были крыты большими, высохшими на солнце листьями латаний.
Над ними возвышался футов на восемь или десять табуи, или большой карбет, — нечто вроде амбара шестидесяти футов в длину и десяти в ширину. В этом здании собирались воины и старейшины племени, чтобы принимать важные решения. Там же служили жрецы великих духов Мама-Юмбо и Явагона. Наконец, в табуи устраивались известные нам человеческие жертвоприношения.
В отличие от других карбетов, у табуи была не сплошная стена, а открытая галерея с большими деревянными столбами, подпиравшими крышу.
Когда воинов, старцев и жрецов не было в табуи, там собирались женщины и ткали из хлопка разноцветные гамаки или же плели пагарасы — тростниковые корзины особой работы, совершенно непроницаемые для воды.
В тот день нещадно палило солнце. Отвесные лучи его освещали золотисто-коричневые крыши крааля и листья окружавших его кокосовых пальм. Густые, лощеные листья этих деревьев, будто специально для защиты от палящего тропического жара покрытые природным слоем прочного блестящего лака, сверкали, словно зеленый фарфор. В темно-синем небе пролетела стая журавлей.
Вдалеке, по сторонам пыльной кремнистой дороги, разворачивались бирюзовые ковровые дорожки широких рек. На горизонте виднелась окраина леса, окутанная красноватой дымкой. Было жарко и душно; ветер приносил не прохладу, а тяжелый и горячий, как из печки, воздух.
В большом карбете крааля, между рустическими колоннами, его окружавшими, были натянуты сагаморы — большие полосатые бело-голубые холстины. От них в табуи было полутемно. В тени широких занавесей, укрывавших от зноя, собралось множество женщин.
Причиной такого общего собрания было одно довольно романтическое событие.
Бабоюн-Книфи, индейская колдунья, посланная на несколько месяцев в лагерь Зам-Зама в обмен на черную пророчицу, воротилась к себе в крааль и встретила там свою дочь, которая потерялась еще совсем маленькой девочкой. Это была Ягуаретта.
Когда люди Уров-Курова похитили Адою, месть и ревность маленькой индианки были удовлетворены: она полагала, что ее хозяйка теперь навек останется во власти Ултока-Одноглазого. Тогда она ушла из Спортерфигдта и вернулась в крааль.
Года за два до того Ягуаретта, гуляя по лесу, встретила старого пяннакотава, который упал с дерева и сломал ногу. Один в чаще, он с трудом дополз до какой-то пещеры и там укрывался от диких зверей.
Ягуаретта предложила отвести его в Спортерфигдт: там его прекрасно приняли бы и выходили. В то время индейцы открыто еще не поддерживали мятежников с Сарамеки. В пограничных поселениях их принимали и даже довольно часто использовали как почтальонов или охотников.
Индеец отказался. Тогда Ягуаретта пообещала принести ему еду, гамак и порох: у индейца порох кончился и ему нечем было обороняться от хищных зверей.
Старик лечился еще месяц. По некоторым знакам, татуировке на руках, он понял, что Ягуаретта из его племени и вдвойне преисполнился благодарности к своей спасительнице. Выздоровев, он пообещал ей делать для нее все, что она пожелает. Хотя от крааля до Спортерфигдта было более десяти миль, он каждый месяц приходил на то же место за ее приказаниями.
Надобно отдать Ягуаретте должное: пока она не ревновала к Адое, она всегда просила старого пяннакотава уговаривать своих — а он, как и все старики у дикарей, пользовался влиянием в своем племени — щадить Спортерфигдт. В то время индейцы уже объявили себя союзниками Зам-Зама против европейцев.
Но вот случилось так, что Ягуаретта полюбила Геркулеса Арди и решила, будто она и есть та роковая пантера, которая, по гаданию Мами-За, должна помешать союзу ее хозяйки и прекрасного европейца. Тогда Ягуаретта, зная о страсти Ултока-Одноглазого к Адое и его таинственных отношениях с Уров-Куровом, послала старого индейца к плантатору объявить, что, если Уров-Куров возьмется похитить молодую хозяйку из Спортерфигдта, он найдет в поселении помощь и поддержку.
К несчастью, это предложение было принято и дело сделано. Маленькая индианка деятельно участвовала в похищении своей хозяйки.
И вот уже несколько дней Ягуаретта жила в краале. Жестоко отомстив сопернице, она страстно мечтала о Геркулесе и желала лишь одного — встретить его, даже если это будет опасно для жизни.
Когда вернулась Бабоюн-Книфи, старик, которого спасла Ягуаретта, рассказал колдунье эту историю и, между прочим, сказал, какие знаки он видел на руках у маленькой индианки.
Бабоюн-Книфи побледнела как смерть и упала без чувств с возгласом:
— Дочка!
Ягуаретта была ее дочь.
По обычаю многих кочевых племен, Бабоюн-Книфи вместе с мужем пошла в набег на Спортерфигдт. Индианка несла ребенка в мешке за спиной. На привале она сняла мешок и повесила на дерево. Тут на них неожиданно напал отец Адои со своими неграми. Они открыли стрельбу. Колонист выстрелил первым и убил мужа Бабоюн-Книфи. Остальные индейцы разбежались. Вместе с ними убежала и несчастная мать, потеряв при бегстве свою дочь.
Как мы знаем, колонист подобрал девочку в лесу и вырастил ее в Спортерфигдте.
Чтобы окончательно осветить положение действующих лиц нашего рассказа, нам остается сказать, что три индейца, отвозившие Адою в поселение Ултока-Одноглазого, еще не возвратились в крааль.
Пускай же индейские женщины громко радуются, каким чудесным образом Бабоюн-Книфи встретилась с Ягуареттой, а мы покуда отведем читателя в карбет колдуньи.
XXV
Две индианки
Ягуаретта сидела на тростниковой циновке. Бабоюн-Книфи молча стояла перед дочерью на коленях и глядела на нее не отрываясь. На смуглых, немного исхудавших щеках маленькой индианки виднелись следы недавних слез; лицо ее было ласково и печально.
Любящая мать с восхищением глядела на нее и не могла налюбоваться ее красотой. Она гордилась ею, она была счастлива, что у нее такая дочь.
— Что за волосы у моей красавицы! — воскликнула она, взяла обеими руками голову Ягуаретты и поцеловала черные блестящие волосы. — А что за ручки! — и поцеловала руки. — А что за шейка! — и поцеловала шею.
И вздыхала она, и вскрикивала от радости, и хохотала, и рыдала, как в бреду…
— Дочка! Дочка! Дочка нашлась! — восклицала Бабоюн-Книфи и не могла остановиться.
Но лицо матери светилось счастьем, а Ягуаретта оставалась пасмурна. Тогда колдунья с воплем закрыла лицо подолом платья:
— Она не любит меня! Ей грустно! Она не любит меня! Жди меня завтра, мой смертный час, я сегодня схожу с ума от счастья, что дочка нашлась, а дочка и не глядит на мою радость! Она не любит меня!
И несчастная мать разрыдалась.
В мучительном смятении бросилась Ягуаретта на шею к матери, тоже разрыдалась и сквозь слезы проговорила:
— Твоя дочка несчастна… Если бы сегодня она повстречала своего любимого, завтра ей тоже не было бы страшно умереть.
Колдунья вскочила с места. Нахмурились ее черные брови, дикая ревность пронзила ее: сердце дочери не целиком с нею, в нем живет другая любовь! Она не смела открыть дочери свои чувства — она боялась обидеть, ранить свое дитя. Бабоюн-Книфи опустила голову и тихонько заплакала.
Но когда Ягуаретта все ей открыла, рассказала, как отверг Геркулес ее любовь и предпочел Адою, лицо колдуньи воспылало гневом. Ее дочь отвергли!
— Этот европеец воюет с нами и с нашими друзьями с Сарамеки! — воскликнула колдунья. — Он любит бледнолицую девушку из Спортерфигдта, ее отец убил твоего отца! Забудь его, дочка, он тебя не стоит. Он злодей, он зол и лжив, как все его соплеменники. Ты дочь одного из самых отважных пяннакотавских вождей. Ты полюбишь молодого воина. Он повесит над дверью нашего карбета скальпы побежденных врагов и шкуры убитых тигров.
Мы уйдем из крааля в Синие Горы — там ты родилась, там могилы наших предков. Там не будет ни бледнолицых, ни чернокожих — ни один чужеземец не топтал еще землю наших прекрасных долин. Там и воздух чище, чем в низине, и солнце ярче. Дочка моя, милая, любимая, пойдем туда! Там найдем мы счастье и покой. Каждый день я буду приносить за тебя жертвы Мама-Юмбо. И Мама-Юмбо услышит мольбы мои — он любит меня, ведь он вернул мне дочь. И он пошлет тебе в супруги гордого и отважного воина с Синих Гор.
Ягуаретта выслушала мать, грустно покачала головой и сказала:
— У наших воинов кожа подобна гранатовой кожуре, как и у меня, а у любимого моего, матушка, кожа гладкая и белая, как караибская роза. У наших воинов черные злые глаза, а у любимого моего взгляд кроткий и глаза голубые, словно крылья мотылька. У наших воинов голоса грубы, а у любимого моего голос певучий и тонкий. Наши воины носят шкуры и перья, они свирепы и дики. А любимый мой — матушка! — если бы ты видела платье его, шитое золотом, и его блестящую шпагу, и бахрому на плечах, что он носит за храбрость! Он прекрасен и смел; так смел, что старейшие белые воины говорят с почтением о нем. Нет, матушка! Не вернется твоя дочь на родину, в Синие Горы: она там умрет.
Чтобы жила Ягуаретта на свете, ей надо дышать одним воздухом с прекрасным европейцем. Она еще его не видела, только слышала о нем, а уже любила, уже хотела быть красивой ради него. Она его увидала — словно нить-невидимка привязала ее к нему. Она не могла отвести глаз своих от его глаз. Куда смотрел он, туда смотрела она. Он говорил — она шепотом невольно повторяла его слова. Он улыбался — она улыбалась; он вздыхал — она вздыхала.
И с того дня, матушка, Ягуаретта смертельно возненавидела ту, кого судьба будто бы назначила в жены ему. Это молодая хозяйка Спортерфигдта; она была Ягуаретте как сестра. Но Ягуаретта предала ее, чтобы она не смогла соединиться с прекрасным чужеземцем — отдала ее в руки страшного Ултока-Одноглазого. Нет, матушка, не увидит больше дочь твоя Синих Гор. Она будет жить там, где живет прекрасный европеец, или умрет без него. О, если бы европеец взял ее как рабу и увез через большое озеро бледнолицых! — вскричала Ягуаретта, страстно заламывая руки.
До глубины души пораженная горем, глядела Бабоюн-Книфи на Ягуаретту. Она не понимала страстной, исступленной любви Ягуаретты к чужеземцу. Она решила, что чужеземец заворожил бедную девушку какими-то сверхъестественными, колдунье неведомыми чарами.
Бабоюн-Книфи запрокинула назад голову, молитвенно воздела руки к небу и воскликнула с мрачным отчаяньем:
— Дочь мою, кровь мою злой чужеземец очаровал! А! Я вижу: это черный колдун, он страшней тигри-фауло. И могуче было любовное зелье его, и сейчас оно действует. Но я отведу беду. При луне молодой воззову к Мама-Юмбо, при старой луне воззову к Явагону. В трепещущем сердце витютня увижу я, откуда исходит проклятая мощь злого духа. Я узнаю, откуда исходит она, и тогда я разрушу ее — злые чары спадут, к моей дочери разум вернется. Любовь к матери вытеснит из сердца ее злую страсть, что убивает ее и меня вместе с ней убивает.
Если же чары мои не сильней чар того колдуна, — злобно продолжала пророчица, — девять дней стану я поить змею, моего Ваннакое, ядовитым соком россеи с каплей собственной крови моей — и укус его станет смертелен. Ваннакое слушается меня, Ваннакое за меня отомстит. И могучие чары бледнолицых не спасут ведьмака от священной змеи, когда Ваннакое выпьет с кровью моей мою ненависть.
Ягуаретта грустно улыбнулась:
— Матушка, матушка, может быть, чужеземец и вправду колдун, только зелье его колдовское — голубые глаза, нежный взгляд, сладкий голос, отвага и доброе сердце. Не укусит его Ваннакое — прежде обовьет холодными кольцами руки мои и шею, и ядовитые зубы его будут терзать мою грудь.
Бабоюн-Книфи в отчаянье заломила руки:
— Никогда еще дочь пяннакотавов не любила бледнолицего! Злой дух таится в этом европейце: он хочет взять у меня мою дочь, увезти через большое соленое озеро и замучить там черным чародейством! Для того ли нашла я дочку мою, дитя мое милое, чтобы так потерять навсегда? Не бывать тому, не бывать: мы уйдем с моей дочерью в Синие Горы, а иначе она не выйдет из крааля.
— Прости меня, матушка, — отвечала Ягуаретта, — моя любовь сильней меня. Где будет чужеземец, там и мне нужно быть. Белые люди сейчас в походе — я пойду к ним, они пощадят бедную девушку. Увижу его, и вернутся ко мне силы.
В этот миг на улице послышался сильный шум: Уров-Куров и его воины принесли пленных Геркулеса и Пиппера.
XXVI
Пленники
Войдя в крааль, Уров-Куров направился к большому карбету. Четыре воина по очереди несли в гамаках связанных Пиппера и Геркулеса.
Индейцы употребили все свои обычные хитрости, чтобы европейцы не напали на их след.
Перебив авангард белых, Уров-Куров выполнил свои обязательства перед союзниками с Сарамеки. Известив их об успехе своей засады, он вернулся в крааль к большому празднику, на который дважды в год собиралось все племя полностью.
Тем ценней было для пяннакотавов пленение Блестящей Косы и Гордого Льва, как называли они Пиппера и Геркулеса.
Хотя в несчастье сержант не выказал достоинства и твердости духа, индейцы знали, как он храбр в бою, и почитали его одним из опаснейших своих врагов.
Геркулес же был столь стоически спокоен, с таким великолепным презрением глядел на окружавших его людей, что пяннакотавы, всегда мерившие отвагу хладнокровием, не сомневались: перед ними один из величайших европейских вождей.
Следовательно, жертва этих двух пленников должна была быть особенно угодна индейским богам.
Отойдя на безопасное расстояние от дозора европейцев, Уров-Куров велел вытащить кляп изо рта у сержанта. Пиппер дал полную волю своему негодованию, а затем, укачавшись в гамаке, уснул.
Геркулес целые сутки ничего не ел. Новые напасти взволновали его и усугубили бредовое состояние, вызванное голодом и лихорадкой. Он решительно считал происходящее сном. Глаза его блистали необычным для него огнем, щеки пылали, по губам пробегала язвительная усмешка. Он был теперь покоен. Он думал:
«Все это сон — то, что случилось со мной за четыре последних дня, решительно невозможно, невероятно. Чем ужасней и неслыханней будет этот кошмар, тем скорей наступит развязка. Будет какое-нибудь сильное потрясение — наверное, меня будут убивать, — и я, несомненно, проснусь. Я ведь вовсе не уезжал из Флиссингена. Просто все эти жуткие батюшкины истории про его друга майора Рудхопа смешались у меня в голове и мучают меня во сне.
Это ничего: утром я очнусь в своей кровати с зеленым саржевым пологом. Как хорошо: я буду еще вспоминать страшный сон, а меж тем за окном будет весело светить солнце, будет освещать зеленый хмель, что лезет вверх по решетке, и отражаться в медном каминном тагане, до блеска начищенном фрау Бальбин».
Так размышлял Геркулес, когда индейцы вошли в крааль.
Узников развязали и отвели в хорошо охраняемый, запертый карбет. Там они смогли лечь на циновки и перекусить.
Сержант уже однажды был в индейском плену: если бы ему случайно не удалось убежать, его бы съели на второй день свадьбы дочери Уров-Курова. Поэтому он хорошо знал, как пяннакотавы готовятся к этому отвратительному пиршеству, и вздрогнул, когда в черных и красных — в знак траура — сосудах им принесли ямс и соленую рыбу, посыпанные драгоценным душистым перцем, который индейцы называют «порошок смерти».
Этот перец редок, и его трудно собирать. Но пяннакотавы полагают, что богам весьма угодно, если приносимые им жертвы будут подобным образом приправлены специями.
Геркулес не притронулся к еде. Сержант, напротив, и в неминуемой опасности, зная, что означает этот порошок, сохранил богатырский аппетит. Он почел за долг удовлетворить его и сказал Геркулесу:
— Я, конечно, могу показаться малодушным, раз ем столько рыбы с этим порошком, который так любят краснокожие. Выходит, я как будто хочу нарочно к ним подольститься, чтобы им вкуснее было меня сожрать. А я не признаю этих условностей: хочу есть, вот и ем. Не стесняйтесь, капитан, подкрепитесь — силы нам еще пригодятся.
Геркулес разразился зловещим смехом. Сержант вздрогнул:
— Капитан, черт побери, вы смеетесь! Я понимаю еще, что в таком положении не обязательно плакать, но смеяться в провиантском складе у этих чертей! По-моему, смешного тут ничего нет — может даже получиться довольно грустно.
— Грустно! Вот еще! — воскликнул Геркулес (в голове у него совсем помутилось). — По-твоему, это грустно, сержант? Ха-ха-ха! А по-моему, наоборот, очень весело. Только я думаю, что будет маловато, если нас просто съедят и косточки обглодают. Надо бы чего-нибудь такого, чтобы мир потрясся и все смешалось: какой-нибудь огонь с небес, ливень раскаленного свинца, реки расплавленной бронзы! Словом, какая-нибудь такая невероятная чертовня, чтобы свету настал конец!.. И моему сну тоже, провались он к лешему, — прибавил Геркулес сквозь зубы.
Ошарашенный Пиппер, положив уже поднесенный ко рту кусок рыбы, смотрел на Геркулеса с неким опасливым восторгом.
— Что за человек! Что за человек! — твердил он. — Да, майор говорил правду. Его сейчас живьем изжарят, а ему все мало: давай ему реки расплавленной бронзы, огонь с небес, конец света! Вот это называется — любить приключения! Я, право же, не трусливей других — я нюхал порох, я был уже, можно сказать, на зубах у индейцев; как ни позорно белому человеку попасть на обед к этой красной сволочи, я готов был встретить смерть как солдат. Но, прах меня возьми, с меня и того хватало, ей-богу, хватало! А капитану это все, как пьянице первая рюмка. Ну что за человек! — качал головой сержант.
Настала ночь. За дверью карбета, сквозь щелку, блеснул огонек. Дверь отворилась, и на пороге появилась таинственная фигура, закутанная в длинный плащ.
XXVII
Встреча
Сбросив плащ, Бабоюн-Книфи предстала в странном своем наряде перед изумленными пленниками.
Когда пяннакотавы еще не объявили войны колонистам, колдунья некоторое время жила неподалеку от Парамарибо. Зная свойства многих трав и много рецептов, она лечила негров и часто общалась с голландцами. Тогда она выучилась сносно говорить по-голландски.
Уров-Куров доверял колдунье и почитал ее. Вернувшись в крааль, он сообщил ей, что засада принесла удачу и что он захватил в плен Блестящую Косу и Гордого Льва. Он описал колдунье Геркулеса. Тайное предчувствие сказало ей, что это и есть тот самый белый чародей, заколдовавший Ягуаретту.
Уров-Куров не сомневался, что пленников следует принести в жертву. Он хотел, чтобы колдунья сказала ему, благоприятно ли время для обряда и в котором часу жертва будет угоднее индейским богам.
Таким образом, мать Ягуаретты могла несколько ускорить или отдалить смерть обреченных узников. Ее слова были святы, и индейский вождь не мог их ослушаться.
У колдуньи было много причин гневаться на Геркулеса: он украл сердце ее дочери, он покорил ее ужасным колдовством, а паче всего — его чары были сильней и прочней, чем чары колдуньи.
После разговора с Ягуареттой она прибегла ко всем ухищрениям своего искусства, к самым чрезвычайным заклинаниям, чтобы только избавить дочь свою от злых чар.
Тщетно! Все испробовав, она опять спросила Ягуаретту, что ощущает ее сердце. Та лишь сильнее прежнего любила чужеземца.
Сомнений больше не было — белый колдун, как называла она Геркулеса, был сильней краснокожей колдуньи.
Она хотела ускорить казнь пленника, но еще сомневалась, освободит ли его смерть Ягуаретту от чар. Чтобы раскрыть эту тайну, Бабоюн-Книфи явилась к Гордому Льву. Она легко добилась разрешения у Уров-Курова под предлогом, что для гадания ей надобно увидеть чужеземца своими глазами.
Затаив коварство, колдунья подошла к Геркулесу. Она застала его лежащим на циновке. Изобразив на лице расположение и сострадание, она сказала ему своим иносказательным языком:
— Время цветов и плодов сменяется временем дождей и черных бурь. За победами следуют неудачи. Гордый Лев знает, что такое война: вчера он побеждал, нынче побежден — счастье переменчиво. Но он молча встретил пяннакотавов, орлят Синих Гор, и пяннакотавы восхитились вождем бледнолицых.
Чем больше лихорадка ослабляла разум Геркулеса, тем становился он ироничней и бесцеремонней. Он насмешливо посмотрел на колдунью и развязно отвечал:
— Ой, тетенька! Чтоб я сейчас провалился, ни слова не понял, что ты тут наплела.
— Капитан, — сказал ему Пиппер по-английски, — она, я полагаю, пришла нас напутствовать перед казнью, вроде священника. Я сейчас постараюсь заснуть, а вы не горячитесь, послушайте ее, да авось и сами заснете. А если она захочет и мне почитать проповедь, скажите, не надо, я уж как-нибудь сам приготовлюсь.
Пиппер отвернулся к стене.
Обращаясь далее к Геркулесу, Бабоюн-Книфи доверительно произнесла громким шепотом:
— Волшебный дар бывает и у краснокожих, и у бледнолицых. Краснокожие умеют читать по кругам, которые чертит змея, обвивая священный стебель Варембое. Краснокожие умеют варить любовное зелье. У бледнолицых свои тайны, бледнолицые — братья краснокожим по волшебству. Братья должны любить друг друга и помогать друг другу в беде, кто бы ни был их великий дух: Мама-Юмбо, Явагон или Бог бледнолицых. Слышит ли меня брат мой?
— Еще бы не слышать, — веселился Геркулес, — я ведь не оглох, и храпит, ровно пушка, Пиппер, а не я. Только, что это вы тут бормотали, елки-палки, что мы должны любить друг друга? У вас прекрасные глаза, красотка, но я, право, не расположен вас любить. Хе-хе!
Колдунья не подала виду, как разгневала ее высокомерная беспечность Геркулеса, и зашептала дальше:
— Я говорю с Гордым Львом, как сестра. Отчего же не отвечает он мне, как брат? Разве мы друг друга не понимаем? Он просит помощи у луны, и я тоже. Он молится ночи, чтобы ночь ему помогала, и я тоже. Мы оба с тобой, — она пододвинулась к нему поближе, — берем для любовного зелья кровь из своих жил. Дети одной матери должны любить друг друга и помогать друг другу. Наша мать — чародейство. Пусть губы твои скажут, подобно моим, мысли твоего сердца. Я пришла спасти Гордого Льва от казни. И я спасу его, но только при одном условии, не то Мама-Юмбо не даст мне этого сделать. Клянусь тебе священным часом колдовства! Клянусь бледным светом луны!
— Ха! — засмеялся Геркулес пуще прежнего. — Это есть такая песенка, я ее в детстве очень любил: «В бледном лунном свете, милый друг Пьеро…» Хе-хе! «Написать словечко дай-ка мне перо…» Хе-хе-хе!
Колдунья в словах Геркулеса ничего не понимала, но по его насмешливому лицу видела: ей не удалось добиться своего. Она все больше и больше бесилась про себя, однако продолжала:
— Кого околдовал ты — развей свои чары над ней, и я спасу тебя. Скажи слова свои и развяжи то, что связали слова твои. Мама-Юмбо будет доволен, и ты станешь свободным. Если тебе нужны для этого, как нашим колдунам, сердце витютня, серебряные листья лотоса и семена морского тростника, собранные в бурю на берегу, я тебе все принесу. Только развей чары, — закричала Бабоюн-Книфи, не в силах больше сдерживаться, — развей!
От ее крика проснулся Пиппер.
Если бы Геркулес был в здравом рассудке, то от навязчивых и невнятных речей колдуньи, наверное, сошел бы с ума. Но мозг его был и без того воспален, а от подобных диковинных слов капитан вовсе ополоумел.
— Сердце витютня и листья лотоса! — воскликнул он. — Ну и рагу! Да ты, тетенька, не в кухарках ли у Вельзевула? — И тут же без всякой связи он продолжал: — Мне что-то все время хочется петь. Батюшка мне, бывало, все дудел один мотивчик, вот он мне и пришел на память:
«Барабан играет,
Труба отвечает.
Воины, вперед,
Нас зовут в поход!»
— Эка дьявольщина, — вскричал Пиппер, — теперь капитан запел походную песню! Только и думает о войне! Ай-ай-ай! Что за человек!
Бабоюн-Книфи еле сдержалась при этом жестоком оскорблении, но она была готова на все, лишь бы развеялись чары, поразившие Ягуаретту. Она взмолилась так:
— Брат, брат! Сестра заклинает тебя — оставь свою месть! Ты могуч, я знаю. Ты можешь заворожить меня, как змея завораживает дрожащую птичку, — и я приползу к тебе на коленях. Пожалей, пожалей бедняжку! Ты понимаешь, о ком я говорю. Пожалей ее! Если бы ты знал, как она страдает! Послушай… — Материнская любовь оказалась сильней всего: чтобы избавить Ягуаретту от волшебства, Бабоюн-Книфи уже хотела и впрямь освободить Геркулеса. — Послушай, я вижу, тебя не обманешь. У тебя орлиный взор, ты читаешь в сердцах. Да, я желала тебе зла: я хотела, чтобы тебя все равно предали казни, когда ты снимешь заклятье с моей дочери. Но ты разгадал мои мысли. Так слушай же — и смотри…
С этими словами колдунья отворила дверь карбета. За домом видна была дорога в лес. Колдунья указала Геркулесу на часовых:
— Развей чары — я избавлю тебя от пут и спасу. Я скажу этим воинам одно только слово, и они уйдут. Гляди!
Она подошла к индейцам и что-то торжественно произнесла. Пяннакотавы поклонились, по очереди взяли колдуньину руку и возложили себе на голову, после чего ушли с поста.
— Видишь? Видишь? Развей чары — и ты свободен. Все воины собрались сейчас у табуи. Они приносят в жертву Мама-Юмбо порох и воинское снаряжение, чтобы стрелять без промаха. И женщины, и дети, и старики — все там. Никто не помешает тебе бежать. Я сама провожу тебя. А когда хватятся — я скажу людям нашего племени, что за тобой прилетел семикрылый орел Мама-Юмбо и унес тебя. Они поверят мне, не погонятся за тобой.
— Соглашайтесь, капитан, — воскликнул сержант, — соглашайтесь же, черт! Все правда: по дороге в лес мы даже кошки не встретим. Соглашайтесь — не ради себя, так ради старого Пиппера. Бросьте упрямиться, от таких вещей не отказываются — это все равно, что выстрелить в упор из пистолета в себя, да и в меня заодно.
Геркулес не отвечал. Он опять запел песенку, крепко засевшую в его воспаленном мозгу:
«Барабан играет,
Труба отвечает.
Воины, вперед,
Нас зовут в поход!»
— Так ты поешь свою боевую песнь? — в отчаяньи возопила колдунья. — Ты отказываешь мне? Ты хочешь умереть? Добро же! Ты умрешь! Но до конца времен люди нашего племени будут с содроганием рассказывать детям своим о твоей казни, так она будет ужасна. Ты слышишь меня?
Геркулес пожал плечами и машинально снова запел:
«Барабан играет,
Труба отвечает…»
Колдунья в ярости вышла. Часовые вернулись к двери. Сержант опять лег на циновку и все твердил:
— Что за человек! Что за человек! Цезарь просто жалкий трус против него.
XXVIII
Крик тайбая
Вне себя от ярости и жажды мести, колдунья прибежала к Уров-Курову и объявила, что она вопрошала Мама-Юмбо и великий дух ответил так: «Великие беды грозят, если на заходе солнца бледнолицые не будут казнены самой страшной казнью».
Слова колдуньи были столь весомы для индейцев, что на заход солнца и было назначено кровавое действо. Время меж тем уже перевалило за полдень.
Посреди табуи врыли два столба. На слой камней поставили огромный сосуд с пальмовым маслом. Под камнями развели жаркий огонь, и вскоре масло закипело.
Вокруг столбов с ужасающей аккуратностью разложили скальпировальные ножи, острые стрелы, клещи из железного дерева и другие орудия пыток.
Казнь готовили четыре индейца. Поверх пурпурной раскраски на них были изображены черные переплетенные змеи.
Два музыканта-плакальщика в колпаках с длинными перьями держали тростниковые флейты и время от времени оглашали табуи мрачными нестройными звуками.
Толпа индейцев собралась у столбов, с кровожадным нетерпением ожидая «шествия смерти». Это был обряд своего рода торжественной встречи доблестных людей перед казнью — последний долг варварского великодушия к побежденным врагам.
Узник, чтобы не обесчестить себя, должен был, видя все ужасные предметы, приготовленные для казни, не выказывать смятения, с ясным взором идти навстречу гибели.
Бабоюн-Книфи заперлась с дочерью в карбете, чтобы, пока не умрет европеец, Ягуаретта не знала, что он здесь и обречен на казнь. У нее было одно желание — чтобы солнце скорей опустилось за горизонт. А со смертью колдуна, обворожившего дочку, не рассеются ли чары его?
Был ли то случай, предчувствие или инстинкт, только с самого утра необычайная тоска и беспокойство навалились на Ягуаретту. Мать ее полагала, что все это от злого колдуна.
Как во всех индейских домах, в карбете их не было окон: он освещался через дымовое отверстие в кровле.
— Болит вот здесь… сердце… — проговорила Ягуаретта и положила руку на грудь. — Душно… нечем дышать… в глазах помутилось…
Она встала и хотела открыть дверь.
Бабоюн-Книфи сидела у выхода. Она бросилась наперерез дочери:
— Сиди, сиди, дочка. В этот час воздух горячий — не освежает, а жжет.
— Ах, матушка! Не жара меня жжет: жара — тихий, прохладный ветерок против того огня, что палит твою дочь…
Вдали ясно послышались пронзительные звуки тростниковых флейт. Музыканты играли траурный марш: началось шествие смерти.
Чтобы Ягуаретта не услышала этих звуков, колдунья сказала ей с наигранной веселостью:
— Дочка моя грустна; она много думает о настоящем, а прошлое позабыла. Ну-ка, верну я улыбку на ее бледные губки: спою ту песню, что пела ей в колыбели.
Тут колдунья сняла со стены тамбурин и стала громко бить в него, чтобы заглушить флейты. А флейты слышались все ясней. Гремя тамбурином, она пропела, как обычно поют дикари, на однозвучный заунывный мотив такие простые слова:
«В колыбели из прочной древесной коры дитя мое спит,
В апельсиновой кроне ветер качает ее колыбель.
Как проснется дитя — пташки все запоют,
Как проснется дитя — и цветы зацветут,
А пока спит дитя — сердце матери с ним говорит».
Песня немного развеяла Ягуаретту, пробудила в ней смутные давние воспоминания, и какое-то время она не слышала шума приближавшейся процессии.
Бабоюн-Книфи все громче и громче била в тамбурин. Но в перерыве между двумя песнями в карбет ворвались пронзительные звуки индейских флейт и подражание крику совы тайбай, птицы смерти, — дикие завывания на высоких нотах.
Ягуаретта довольно хорошо знала обычаи своего племени, чтобы понять значение этих воплей. Она с ужасом взглянула на мать:
— Это клич смерти! Это жертву ведут на закланье! Закрой, плотнее закрой дверь — увидеть ее не к добру!
— Я потому и не пустила дочку открыть дверь, чтобы она не увидела шествия. Я хотела заглушить звук похоронных песен звуками тамбурина.
— Матушка! Матушка! Бей же в тамбурин, чтобы я не слышала этих песен! Я знала, что нынче черный день! Предчувствие не обмануло меня! Цветок лилеи закрывается, когда приходит гроза, — сердце мое закрылось, когда подошла беда. Кто эти несчастные, матушка?
— Наши лютые враги — воины племени арракоев.
Тут шествие приблизилось к карбету и стали слышны крики толпы. Бабоюн-Книфи не успела снова взять тамбурин, как Ягуаретта услышала слова:
— Бледнолицые идут на смерть! Они отважно встречают смерть!
— Бледнолицые! — воскликнула маленькая индианка. — Матушка, ты обманула меня!
Не дав колдунье опомниться, Ягуаретта распахнула дверь и увидела Геркулеса с Пиппером: они сидели на циновке, которую несли четыре жреца.
Ягуаретта замертво рухнула на руки матери.
XXIX
Казнь
Придя в себя, Ягуаретта тотчас же воскликнула:
— Спаси его, матушка! Если любишь свою дочку — спаси его!
Колдунья, подняв очи горе, в отчаянии произнесла:
— Горе! Горе! Крепка сила черных чар — она его не разлюбила!
— Спаси его! — повторила Ягуаретта. — Ты можешь его спасти: тебя слушают вожди, твои слова для них священны. Скажи им, что великий дух велел отпустить чужеземцев. Спаси его, матушка, а не то я умру у тебя на глазах: у меня на ногте вурара[20]!
Произнеся эту страшную угрозу, маленькая индианка показала матери палец: ноготь был покрыт чем-то вроде коричневой блестящей резины.
Увидев этот страшный яд у своей дочери, колдунья остолбенела и закрыла лицо руками.
— Не спасешь его — я умру, — опять сказала Ягуаретта.
— Не могу! — вскричала колдунья. — Не могу: как ни просила я его разрушить чары, которыми он тебя околдовал, он оставался тверд передо мною. Тогда я разгневалась и объявила Уров-Курову, что, если казнь отложат хоть на час, произойдут страшные беды. Он должен умереть на заходе солнца.
— На заходе солнца… — откликнулась Ягуаретта.
— Да, увы, на заходе солнца, — сказала Бабоюн-Книфи. — Но не делай того, что ты сказала! Это страшно — не делай этого!
— Спасибо, матушка. Ты сказала, когда он умрет. В этот час и я смогу умереть. На заходе солнца у тебя не станет дочери, если чужеземца не отпустят.
Колдунья бросилась к дочери.
— Я не дам тебе это сделать, я вырву у тебя этот ноготь!
Ягуаретта поднесла палец к губам.
— Еще шаг — и я умру на месте!
— Горе! Горе! — запричитала мать, обхватив руками голову.
— Не плачь! — воскликнула Ягуаретта. — Некогда плакать!
Она указала на солнечный луч, косо падавший на стену через отверстие в потолке, и произнесла спокойным голосом, что был страшнее всякого крика:
— Гляди, матушка: тень все выше и выше ползет по стене. Так тень смерти подступает к бледнолицему. Так тень смерти придет к твоей дочке, если ты не захочешь спасти его.
Ни слова не ответив, колдунья выскочила из хижины и прибежала к табуи, растолкав толпу. Ягуаретта побежала следом за ней.
Час казни наступил. Уров-Куров и другие вожди сидели на воинских табуретах — глубоко выдолбленных колодах: у того, кто на них сидел, колени задирались почти до подбородка.
Индейцы обсуждали между собой неизменное спокойствие Геркулеса. С кровожадным любопытством ожидали они казни: им хотелось знать, изменит ли Гордому Льву его твердость под пытками.
— Моя сестра пришла поторопить нас? — спросил Уров-Куров. — Она сказала, что бледнолицые должны умереть на заходе солнца, а если жертву принесут позднее, Мама-Юмбо грозит великими бедами. Мы исполним волю великого духа; жрецы скоро будут готовы. Как только солнце сядет за пальмы, бледнолицые умрут смертью воинов. Я хотел бы просить Мама-Юмбо, чтобы он дал моим сыновьям мужество Гордого Льва. Уров-Куров видел много жертвоприношений, но он никогда не встречал еще человека, что тверже этого бледнолицего держался бы перед казнью.
Индеец немного помолчал и с восторгом произнес:
— Гордый Лев — великий вождь!
Надеясь обернуть на пользу Геркулеса почтение, которого он удостоился, Бабоюн-Книфи торжественно произнесла:
— Пока наши братья готовились к торжеству смерти, я вновь вопросила священные кольца Ваннакое, и вновь они возвестили великие беды, если бледнолицые не умрут на заходе солнца. Но ветка тюльпанового дерева, по которой ползла змея, при этом трижды сломалась. Это знак, что я плохо поняла волю великого духа. Пока в полночь на небе не засияет луна, я не могу спросить у Мама-Юмбо, что значит это чудо. Надо отложить казнь до завтра.
Закончив речь, Бабоюн-Книфи взглядом отыскала в толпе дочь. Она стояла в первом ряду. У губ она держала отравленный ноготь.
Уров-Куров, удивленно и сурово посмотрев на колдунью, возразил:
— Мама-Юмбо не говорит дважды. Он сказал, что, если бледнолицые не умрут до захода солнца, случатся великие беды. Значит, они должны умереть.
Бабоюн-Книфи в отчаянье поглядела на дочь и сказала:
— Острый взор может затмиться, сильная рука может ослабеть. Я сама испрашивала волю великого духа и читала тайные знаки, которые никто другой не может прочесть. Но я ошиблась — во второй раз Мама-Юмбо сказал мне это. Пускай же Уров-Куров не совершает казни, покуда в ночной тишине я не воззову к Явагону.
— А если моя сестра не ошиблась, — свирепо и раздраженно воскликнул вождь, — если великий дух желает, чтобы пленников казнили на заходе солнца — значит, наше племя посетят великие беды? Страшись, женщина!
— Бабоюн-Книфи нечего страшиться, — твердо произнесла колдунья. — Мудрецы и вожди всегда ей послушны. Пусть Уров-Куров сам страшится ослушаться воли Мама-Юмбо.
— Солнце садится! Солнце садится! — в панике воскликнул вождь, но тут же овладел собой и так ответил Бабоюн-Книфи:
— Кровь бледнолицых не может быть противна Мама-Юмбо. Я исполню его первую волю.
И вождь свистнул особенным образом. По этому знаку со всех сторон поднялся ужасный вой. Палачи подбросили дров в огонь и взяли скальпировальные ножи, а музыканты задудели во флейты. Толпа расступилась; жрецы ввели Геркулеса с Пиппером.
Их привязали к столбам, и в это время некий индеец, пробившись через толпу, подошел к Уров-Курову и объявил:
— Твои воины привели бледнолицую пленницу.
Поднялся всеобщий удивленный ропот — все забыли даже о казни. Солнце опустилось за горизонт.
— Солнце село! — торжественно воскликнула колдунья, обратившись к Уров-Курову. — Ты видишь — твое желание не сбылось: бледнолицых не казнили на заходе солнца. Значит, я верно поняла знак Мама-Юмбо: он хотел, чтобы они сегодня избежали казни.
Три индейца ввели Адою.
XXX
Пленница
По приказанию Уров-Курова Адою отправили в поселение Ултока-Одноглазого, но уже два дня в бухте Палиест не было ни его самого, ни Тарпойна с Силибой.
На всякий случай пяннакотавы отвели Адою в крааль к вождю.
Увидев хозяйку, Ягуаретта остолбенела. Пораженная и стыдом, и гневом, и ревностью, она сумрачно глядела то на Адою, то на Геркулеса. Геркулес же, привязанный к столбу, тупо уставился на чан с кипящим маслом.
Воспользовавшись смятением, произошедшим от появления креолки, колдунья подбежала к дочери. Она пустила в ход все — просьбы, угрозы, уговоры, чтобы только Ягуаретта передумала и не кончала с собой — ведь в этот день, по крайней мере, европейцев не казнили!
Солнце скрылось за горизонтом, и, как это бывает близ экватора, сразу же, без сумерек, настала ночь.
На Уров-Курова произвели впечатление слова колдуньи. К тому же он понял, что все равно упустил время для казни, и велел отвести пленников обратно в карбет.
Увидев Геркулеса у рокового столба, Адоя невольно вскрикнула.
Он же, хоть и был в бреду, узнал хозяйку Спортерфигдта. Но способность рассуждать капитан утратил совершенно: ее появление в толпе дикарей ничуть не удивило Геркулеса. Он любезно улыбнулся креолке и сказал, как ни в чем не бывало:
— Как вы поживаете, сударыня? Простите великодушно, не могу поцеловать вам ручку.
Больше Геркулес сказать ничего не успел: стража уволокла его в карбет. Там его опять связали и уложили на циновку.
Ягуаретта слышала крик Адои и видела движение Геркулеса. Она крепко схватила мать за руку и сказала:
— Матушка, посмотри на эту девушку. Ее отец убил моего отца.
— Так это бледнолицая девушка из Спортерфигдта! — шепнула колдунья в ответ. — Сам Явагон послал нам ее.
Индейцы увидели, что казнь отложена, и разошлись. В табуи остался Уров-Куров и с ним несколько старцев и воинов.
Адоя стояла перед ними, гордая, благородная. Временами она бросала взор в сторону карбета, куда увели Геркулеса с Пиппером.
Индейский вождь знаком подозвал колдунью — он знал, что она говорит по-голландски, — и сказал ей, указав на Адою:
— Пусть сестра моя возьмет на ночь бледнолицую девушку в свой дом. Ее отец — Спортерфигдт; это был один из наших злейших врагов. Пусть сестра моя нынче ночью, пока светит луна, узнает волю Мама-Юмбо, а завтра на рассвете можно будет принести бледнолицую девушку в жертву Мама-Юмбо.
Уров-Куров вышел. Бабоюн-Книфи сказала креолке:
— Иди за мной.
Услыхав слова на родном языке, Адоя радостно воскликнула:
— Слава Богу! Хоть кто-то меня поймет. Скажите, Бога ради, давно ли в плену этот белый капитан, который сейчас тут был? Что он, ранен? Что с ним будет? Если хотите сделать доброе дело — помогите ему… помогите нам вернуться в Спортерфигдт. Вы получите хорошую награду.
— Оба бледнолицых умрут, — злобно отвечала колдунья. — Ты тоже умрешь.
Тут Адоя в первый раз увидела маленькую индианку: склонив набок голову, она медленно подходила к бывшей хозяйке.
— Ягуаретта! — воскликнула креолка. — Как, ты здесь! Я все думала: до чего же ты крепко спала, когда индейцы в ту страшную ночь утащили меня из Спортерфигдта. Не дай Бог, если сейчас все объяснится!
Адоя с укоризной поглядела на Ягуаретту. Та не отвечала.
— Десять лет я была тебе, как сестра, — продолжала Адоя, — а батюшкин дом был твоим родным домом. Если ты помнишь хоть немного мою доброту — уговори своих соплеменников не совершать этого гнусного убийства. Ты ведь, наверное, можешь их уговорить, а эта женщина сказала, что их должны убить!
— Эта женщина — моя мать, — сказала Ягуаретта.
— Твоя мать? — поразилась Адоя. — Так мне нечего бояться! Раз вы ее мать, — обратилась она к колдунье, — спросите сами Ягуаретту, и она скажет вам, что жила в Спортерфигдте как моя подруга. Да, да, вы можете сейчас отблагодарить меня, с лихвой отблагодарить — помогите только убежать двум белым воинам и мне! Ведь вы это можете, правда?
Бабоюн-Книфи безмолвно выслушала Адою и ледяным тоном произнесла в ответ:
— Если бы дочь Спортерфигдта признала мою дочь своей хозяйкой и служила ей на коленях — и то ничего бы не значило. За кровь нельзя заплатить.
— Что значит — за кровь! — воскликнула Адоя.
— Хозяин Спортерфигдта убил ее отца, — глухо молвила Бабоюн-Книфи, указав на Ягуаретту.
— Неправда! — решительно возразила Адоя; глаза ее загорелись негодованием. — Не может быть того! Добрее батюшки не было человека — он не мог быть так жесток.
— Разве он не говорил тебе, что подобрал дитя в лесу после схватки с индейцами?
— Раз так, — ответила Адоя, — отец защищал свою жизнь и дом — ему нельзя ставить это в вину. Но ты, Ягуаретта, — Адоя произнесла эти слова скорее с нежностью, чем с мольбою, — неужели ты забудешь все эти годы в Спортерфигдте?
Индианка опустила голову — множество чувств боролись в ее душе. Ее трогали воспоминания о доброте хозяйки. Но ведь если Адоя убежит с Геркулесом, они поженятся, как и предсказывала Мами-За! Она не могла этого вынести.
Зная, что Уров-Куров во всем слушается ее матери, Ягуаретта решила подумать, прежде чем что-то сказать Адое. Уклоняясь от прямого ответа, она лишь промолвила:
— Ягуаретта не забывает добра. Дом моей матери беден, но он весь к услугам дочери Спортерфигдта. Она устала, ей надо отдохнуть.
Адоя терзалась страшной тоской. Ягуаретта отвела ее в карбет.
XXXI
Переговоры
Ягуаретта долго размышляла и пошла наконец к Бабоюн-Книфи.
— Матушка, — сказала она, — ты любишь дочку?
Колдунья подняла глаза к небесам — глаза были полны слез.
— Ты можешь сделать так, чтобы Ягуаретта не умерла. Ты можешь сделать так, чтобы сильнее пяннакотавов не было племени в Синих Горах. Ты можешь сделать доброе дело и отпустить хозяйку Спортерфигдта — хозяйка Спортерфигдта была твоей дочери как сестра.
— Что ты говоришь? — воскликнула колдунья.
— Уров-Куров сказал, что Гордый Лев — великий вождь! Нет его отважней среди бледнолицых. Все наши воины восхищены его мужеством. Они безжалостны, но даже им было тяжко смотреть, как его собирались казнить. Ведь это правда, матушка?
— Это правда. Уров-Куров говорил, что ни один воин еще не встречал смерть так отважно.
— Тот старик, которого я спасла, говорил мне, что некогда двое бледнолицых сражались вместе с нашими воинами.
— До самой смерти они были нашими доблестными и верными соратниками.
— Так вели Уров-Курову, матушка, оставить Гордого Льва в живых, чтобы Гордый Лев стал нашим воином и взял Ягуаретту в жены.
— Дочка потеряла рассудок! — воскликнула колдунья. — Уров-Куров восхищен отвагой Гордого Льва, но он хочет его смерти. Я объявила, что племени грозят великие беды, если Гордого Льва не принесут в жертву.
— Слова моей матушки для пяннакотавов закон. Она отсрочила казнь чужеземца. Она может погребальные песни обратить в свадебные.
— Нет, Уров-Куров ни за что не согласится!
— Скажи вождю, что сам Мама-Юмбо велел, чтобы бледнолицый воевал вместе с нами, и он согласится. Тогда Ягуаретта будет совсем-совсем счастливой и никогда не расстанется с тобой, — молила мать маленькая индианка. — Ты видела дочку свою грустной и заплаканной — ты увидишь ее доброй и веселой. Матушка, матушка! Ты говоришь, будто я холодна к тебе, будто я тебя не люблю! Нет, не думай так! Тяготит мое сердце печаль, потому и не может проснуться моя нежность к тебе: не цветут караибские розы под тернием, матушка!
До глубины души смутилась Бабоюн-Книфи. С горестным смиреньем взглянула она на прекрасное лицо маленькой индианки — скорбь уже оставила на этом лице неизгладимый отпечаток.
Тогда всколыхнулись ненависть и гнев колдуньи против Геркулеса, злыми чарами испортившего ее дочь. С горячностью она воскликнула:
— Нет! Нет! Проклятый чародей отобрал разум у моей дочки. Так смерть же ему!
— Так прости, матушка! — воскликнула Ягуаретта и, рыдая, кинулась в объятья колдуньи.
Мать не могла никак утешить дочь в отчаянии. Она видела: Ягуаретта убьет себя, если умрет чужеземец. Она долго и мучительно колебалась — и все же решилась спасти Геркулеса. Колдунья направилась к вождю племени.
У двери Уров-Курова стоял на часах воин. Он разбудил вождя.
— Добро пожаловать, сестра моя, — сказал Уров-Куров, выйдя из карбета. — Да хранят нас твои слова ото всех несчастий! Что привело тебя посреди ночи? Не грозит ли нам большая беда?
— Не знаю, может быть. Со вчерашнего дня все знаки, которые дает мне Мама-Юмбо, темны. Я толкую тайный смысл узлов змеи Ваннакое — и не верю сама себе. Брат мой — мудрец и воин, возможно, с его помощью мой разум обретет ясность. Вчера я сказала брату моему: великие беды грозят, если бледнолицых не принесут в жертву на заходе солнца.
— Так говорила сестра моя, и я велел скорей готовить казнь.
— Этой ночью я решилась вновь испытать судьбу, и великий дух просветил меня.
— Он сказал что-то другое?
— Нет, то же самое.
— Значит, бледнолицые должны умереть.
— Нет, они не должны умереть.
— Я не понимаю тебя, сестра моя.
— Мама-Юмбо сказал и говорит по-прежнему: если бледнолицых не принести в жертву, грозят великие беды. Но он не сказал, что беды грозят нашему племени.
— Кому же?
Колдунья, немного помолчав, ответила:
— Помнит ли брат мой двух бледнолицых воинов, сражавшихся вместе с пяннакотавами?
— Они были преданны и отважны. Они пали на берегу озера Парима.
— Помнит ли брат мой, что я говорила, когда эти бледнолицые пришли просить пяннакотавов взять их в поход на арракоев?
Немного подумав, вождь отвечал:
— Сестра моя говорила, что пяннакотавы будут счастливы во всех своих делах, что Мама-Юмбо послал бледнолицых служить нашему племени, ибо они приехали из большой страны бледнолицых за соленым озером и знают тайны, неизвестные краснокожим.
— И было так: они научили нас обращаться с европейскими ружьями, ковать железо бледнолицых и закаливать его в источнике Ойяпок.
Бабоюн-Книфи еще помолчала и вновь заговорила с пророческим видом, указывая на четыре звезды Южного Креста, блестевшие, словно алмазы, на бездонном темно-синем небе:
— Ветер ночи утих. Он утих, чтобы говорила та, кому открывается великий дух. Каждый звездный луч для нее — слово, она понимает его; каждый лунный луч для нее — речь, она понимает ее. Другим все это лишь свет для глаз, для Бабоюн-Книфи это звуки, они достигают слуха ее и понятны ей. Она слышит те же слова, что передавала брату своему. Но одна и та же вещь по-иному выглядит в пламени пожара, по-иному — в солнечном свете, по-иному — в лунном сиянии, по-иному — в ночной тени. Вчера я говорила: если на заходе солнца бледнолицых не принесут в жертву, грозят великие беды. Поднимается завеса над тайной: появилась дочь Спортерфигдта, и я прозрела. Жертва не совершилась, и грозит беда, но не пяннакотавам, а бледнолицым.
— Бледнолицым! — воскликнул вождь, не веря своим ушам. — Гордый Лев — отважнейший из бледнолицых воинов. Как может его жизнь грозить бедой его народу?
— А если жизнь отважного вождя обратится против его народа? Если он станет нам верным и доблестным другом, как те двое бледнолицых, что погибли на берегу озера Парима? Тогда его смерть грозит бедой пяннакотавам — они лишатся отважного друга. Тогда его жизнь грозит бедой бледнолицым — они обретут грозного врага.
— Сестра моя говорит справедливо. Но кто поручится, что Гордый Лев станет нам таким же верным другом, как те бледнолицые?
— Кто поручится? — надменно воскликнула колдунья. — Кольца священной змеи! Если бы смерть Гордого Льва сулила добро нашему племени, разве сказал бы мне Мама-Юмбо трижды подряд, что я плохо его поняла?
Эти слова, похоже, убедили вождя. Он кивнул и задумался.
— И еще, — продолжала колдунья. — Брат мой знает, как я люблю свою дочь, как я по ней горевала и плакала.
— Я знаю: десять лет слезы сестры моей текли, не переставая. День, когда она нашла свою дочь, был праздником ее сердца. Но к чему сестра моя говорит о своей дочери?
— Ничего нет у меня дороже ее. Так пусть Гордый Лев женится на ней, если захочет стать нашим воином.
— Неужели дочь твоя выйдет замуж за бледнолицего! — воскликнул потрясенный Уров-Куров. — Подумай! Ты знаешь, что будет, если он нас предаст.
— Тогда он умрет, как предатель, и моя дочь умрет вместе с ним. Так посуди: я рыдала по ней десять лет — стала бы я играть ее жизнью, если бы не прочла в грядущем, что Гордый Лев будет храбрым и верным соратником пяннакотавов?
Этот довод развеял все сомнения вождя. Он лишь спросил:
— А что будет с Блестящей Косой и с хозяйкой Спортерфигдта?
— Если брат мой послушает моего совета, он покажет бледнолицым, что люди Синих Гор добры и великодушны. Он пошлет белую девушку и воина объявить, что Гордый Лев остался с нами.
— А если Гордый Лев не захочет остаться с нами?
— Тогда он умрет, и умрет хозяйка Спортерфигдта, и умрет Блестящая Коса, и слова Великого духа все равно сбудутся. Суди сам, брат мой: умрет Гордый Лев или останется с нами — все равно это будет беда для бледнолицых: они будут без него или он будет против них.
Вождь согласно кивнул и спросил:
— Кто же будет говорить с Гордым Львом?
— Ты, великий вождь. А я передам твои слова на его языке.
— Да будет с тобой воля Великого духа! — сказал Уров-Куров.
Через несколько минут Бабоюн-Книфи и Уров-Куров вместе вошли в темницу к Геркулесу.
XXXII
Испытание
Геркулес устал от дневных переживаний и, вернувшись в карбет, впал в некую лихорадочную нервную дремоту. Он не спал, но перед ним зыбко плавали диковинные лица. Когда Бабоюн-Книфи растолкала его, и Геркулес, открыв глаза, увидел вождя и колдунью, он решил, что кошмар его продолжается.
Говорил Уров-Куров. Бабоюн-Книфи переводила его слова, а Пиппер был свидетелем этого разговора.
Вождь громко и торжественно произнес:
— Пусть та, с кем тайно говорит Мама-Юмбо, передаст Гордому Льву мои слова, а мне его ответ.
Колдунья перевела эти слова Геркулесу. Тот в ответ лишь широко зевнул. Вождь продолжал:
— Гордый Лев бестрепетно встречал казнь. Сыновья Синих Гор восхищены его мужеством, они предлагают ему стать их братом. Но если бледнолицый хочет взять лук и палицу пяннакотавов, ему предстоят суровые испытания. Если он с честью их выдержит, то воссядет вместе с воинами и мудрецами и назовет сыновей Синих Гор «наши». Хочет ли знать Гордый Лев, что это за испытания?
— Говорите, я слушаю, — машинально ответил Геркулес.
— Сильный человек мало говорит, много делает, — сказал вождь, пораженный энергическим лаконизмом его ответа, и продолжал не без выспренности: — Так пускай же слышит Гордый Лев: огнем испытывают железо, водой испытывают дерево, тетивой испытывают лук, страданиями испытывают воина.
Сержант тотчас проснулся.
— Капитан, они хотят нас завербовать!
— Если Гордый Лев хочет быть нашим воином, а не жертвой на священном пиру, — говорил далее Уров-Куров, — завтра на восходе солнца он объявит свое решение. Он возложит на голову щит, лук, стрелы и змеиную кожу и войдет задом наперед в табуи, где будут сидеть старейшины племени.
— Не больно учтиво так-то входить к старейшинам, — сказал Пиппер, — а что неудобно таскать на голове стрелы, щит да еще змеиную кожу, я уж и не говорю. Ну, если они за такую цену хотят нас купить, я от своей доли отказываюсь.
— Попугай глуп и болтлив! — с презреньем сказала колдунья. — У Блестящей Косы борода седая, но он подражает попугаю. Пусть лучше подражает достойному молчанью Гордого Льва.
Вождь стал перечислять испытания, предстоящие новому воину:
— Когда Гордый Лев объявит желание стать одним из сыновей Синих Гор, восемь дней он выдержит строжайший пост. Он будет есть только горькие и тошнотворные морские ягоды и пить только вонючую болотную воду. Воин должен терпеть голод и жажду.
— А провиант у них не лучше жалованья, — заметил неисправимый Пиппер.
Уров-Куров продолжал:
— Каждый день к Гордому Льву будут приходить воины и петь погребальную песнь. Они будут бичевать его сушеными пальмовыми корнями, выкопанными ночью в бурю. Тридцать пять раз они больно ударят его по спине, по рукам и по ногам: спина несет лук, руки сражаются, ноги ходят. При этом Гордый Лев будет стоя держать руки на голове, а правую пятку на левом колене.
— Ну и цирк! — сказал сержант.
— Если Гордый Лев не вскрикнет от боли и не устанет под бичами, вечером ему положат в гамак, как трофей, корни, которыми его бичевали, и они будут ему принадлежать.
— Говорите, говорите, — промолвил Геркулес. — Начало неплохое, но хочется чего-то еще.
— Гордый Лев сейчас увидит, — отвечал Уров-Куров, — что испытания водой, огнем и муравьями устрашат самых отважных. На девятый день соберутся все воины, имеющие боевую раскраску, и со страшным воплем внезапно войдут в карбет к Гордому Льву. Луки их будут натянуты, а на поясах — скальпировальные ножи. Гордый Лев будет слаб от голода и бичеваний. Тогда его привяжут к гамаку, опустят в реку и продержат под водой до тех пор, пока каждый воин не повторит одиннадцать раз «Мама-Юмбо» и одиннадцать раз «Явагон» — тогда только Гордого Льва вытащат. Воин должен переплывать озера и скрываться от врага под водой.
— Можно подумать, у вас от таких упражнений вырастут плавники, — сказал Пиппер.
— Когда Гордого Льва вытащат из воды, его подвесят между деревьев в мокром гамаке, устланном вонючей травой сюаки-вай, которая тлеет, а не горит, и подожгут. Пламя не опалит Гордого Льва, но ему будет очень жарко и больно: воин должен не бояться огня. Дым обступит Гордого Льва, и это будет тяжкая мука — Гордый Лев упадет в обморок и будет как мертвый.
— Ну вот, — ехидно засмеялся Геркулес, — это уже на что-то похоже!
— Когда воины увидят, что Гордый Лев упал как мертвый, они запоют похоронную песнь и музыканты подыграют им на флейте. Гордому Льву выроют могилу и положат его туда: воин должен уметь умирать. Но прежде чем положить в могилу, подбородком к коленям и обхватив руками голову, на него наденут ожерелье и пояс, свернутые из листьев и набитые муравьями спансо-боки — большими красными муравьями, которые кусаются сильнее диких пчел. Так сильно искусают спансо-боки Гордого Льва, что он, как ни будет слаб, выскочит из могилы, обезумев от боли, будто тигр, ужаленный змеей. Так воин однажды восстанет из могилы и пойдет в большой зеленый крааль Мама-Юмбо. Тогда окончатся все испытания. Гордого Льва обреют, польют макушку через решето кипящим чертобоем и раскрасят лицо несмываемыми цветами сыновей Синих Гор. Ему отрежут правое ухо как выкуп за то, что его тело не было отдано Мама-Юмбо. Ему дадут почетный лук и наденут ожерелье из перьев. Он станет пяннакотавским воином и из первого боя с бледнолицыми принесет в табуи одиннадцать скальпов. Готов ли Гордый Лев?
Чем дальше Геркулес слушал Уров-Курова, тем больше охватывал его столбняк. Когда индеец закончил, капитан безмолвно пожал плечами.
— Великий вождь всегда спокоен! — произнес индеец.
— Он никогда не теряет присутствия духа! — воскликнул Пиппер. — Он прямо-таки испепеляет дикаря своим молчаньем! Ну что за человек!
Вождь с колдуньей переглянулись, сказали друг другу несколько слов по-индейски, и Бабоюн-Книфи объявила Геркулесу:
— До восхода солнца еще далеко. Отважный вождь подумает.
Она обернулась к Пипперу:
— Блестящая Коса пойдет с нами, его привяжут в другом карбете.
— Пожалуй, чем трудиться все время заново привязывать, лучше вовсе отпустить, — проворчал сержант.
Они вышли втроем; Геркулес остался наедине со своими грезами.
Через некоторое время дверь отворилась и появилась Ягуаретта.
XXXIII
Любовь
В смятенье, побледнев, вся дрожа, вошла Ягуаретта в карбет — от ее разговора с Геркулесом зависела, можно сказать, жизнь их обоих.
— Это еще кто? — раздраженно спросил капитан и в полном изумлении сам себе ответил: — Да это же маленькая дикарка из поселения барышни Спортерфигдт, дочка той жуткой ведьмы, которая сейчас пыталась всячески убедить меня, что я сам колдун! Да что ж это такое, ни во сне, ни наяву не оставит меня в покое эта бесстыдница!
Индианка разрыдалась, упала перед капитаном на колени и с мольбой воскликнула:
— Я должна тебя спасти! Прокляни меня, но я тебя спасу. Только согласись на все, что сказал тебе вождь.
— Да вы с ума сошли, милая моя! И я соглашусь на порку! И на голод! И на горькие ягоды! И на вонючий дым! И на холодную воду! И на жаркий огонь! И на красных муравьев! И на татуировку! А на самом-то деле через четверть часа весь кошмар окончится. Да оставьте же меня наконец, черт вас подери совсем! Вы мне надоели, какого лешего! Эта колдунья, ваша мать, говорит, будто я вас очаровал, а вы даже во сне за мной бегаете, непотребница этакая!
Индианка смиренно потупила голову и нежно, с дрожью в голосе, произнесла:
— Ругай меня! Бей меня! Но дай мне тебя спасти. Это я послала матушку с Уров-Куровом к тебе, чтобы они просили тебя остаться с нами. Нет иного пути — иначе тебя ждет страшная казнь! Я должна тебя спасти: ты умрешь — я умру. Или ты не понимаешь, что пережила я с той самой поры, как ушла из Спортерфигдта? Или не видишь, как я мучаюсь, видя тебя в плену? Или не знаешь, что я тебя люблю, что твоя жизнь — моя жизнь?
Невинность Геркулеса возмутилась. Он в изумлении отступил назад и машинально проговорил:
— Любит. Дикарка меня любит. Что ж это за кошмар!
— Не гони меня! — возопила Ягуаретта, не владея собой, заломив руки и подняв на юношу большие глаза, полные слез. — Не презирай меня! Послушай, послушай — сжалься над бедной Ягуареттой: она всегда была несчастна, ибо она горда. Она из рода воинов Синих Гор, которые всегда повелевали, а в Спортерфигдте была рабой, даже хуже, чем рабой! Ей давали яркие ожерелья, как ошейник собаке, и красивые подушки, чтобы лежать, как собака, в зале у хозяйских ног. Она весела и резва — ее хвалят и ласкают; она грустна и хмурится — ее бьют и гонят.
Да, хозяйка была со мной ласкова, как с любимой своей легавой собакой Эльпи. Если б ты знал, как я исстрадалась, пока подросла! Никто не говорил мне слов для души, для сердца. Маленькая Ягуаретта весела. Ей дают яркое платье — ей идет яркое платье. Маленькая Ягуаретта ловко машет мухобойкой. Вот и все, больше ничего не надобно!
У моей хозяйки был Бог. Она молилась ему. Она говорила, что он добр, милосерден и всемогущ. Бог делал ей добро, она благодарила его. И никогда, никогда она не познакомила Ягуаретту с этим добрым всемогущим Богом! А я вспоминала с тоской, как моя матушка молила за меня нашего Бога, Бога бедных индейцев.
Хозяйка никогда не ходила смотреть грубые пляски рабов. Когда я была маленькая, мне было весело на них глядеть, а потом отчего-то стало стыдно. Я поняла, что дочь плантатора Спортерфигдта не может их видеть. Однажды она спросила меня, почему я больше не хожу к неграм на праздники. Как мне было обидно! Кто я для нее была? Отчего она думала, что мне не должно быть стыдно?
Чем больше я росла, тем становилась все грустней. Мне хотелось быть одной. Я уходила в леса, на берег моря. Я плакала, глядя в небеса и морские просторы, — они были пусты, как мое сердце. Я возвращалась домой — меня ругали, что я не в духе. Если в доме были гости, мне давали тамбурин и велели плясать. Мне было больно. Много раз я хотела убежать из Спортерфигдта в Синие Горы. Но я любила хозяйку. Если бы она обходилась со мной как с человеком, я бы ее обожала. Я это понимала.
Мулатка Мами-За часто нам гадала. Однажды… — Ягуаретта смущенно потупила взор. — Однажды она предсказала массере, что из-за моря едет прекрасный европеец и женится на ней, что брак их будет счастлив, но сначала им грозят разные беды. У Мами-За в картах эти беды обозначала пантера. Почему-то мне сразу пришло на ум, что это меня рок предназначил для такого страшного дела. Недаром ведь покойный плантатор прозвал меня Ягуареттой. О! Сначала — клянусь тебе! — я всеми силами гнала от себя эту мысль, но она непрестанно возвращалась ко мне: днем, ночью, наяву, во сне! Я спасла одного старика из нашего племени; иногда я тайком с ним виделась. Он сказал мне, что это воля Мама-Юмбо и надо ее слушаться. Я еще боролась, но… — Ягуаретта заговорила так тихо, что Геркулес еле мог ее слышать:
— В день, когда явился в Спортерфигдт тот прекрасный европеец, суженый хозяйки, я послушалась старого индейца. Я решилась любой ценой разрушить твой союз с хозяйкой Спортерфигдта — ведь я любила тебя.
Как люто я возненавидела из-за тебя свою хозяйку! Как отвратительна она была в тот день, когда заставляла меня явиться перед тобой в рабском платье! Как отвратительно мне было, что ты с нее не сводишь глаз, а на ее лице от смятенья чувств горит румянец и играет блаженная улыбка! В тот час я поклялась погубить ее и тем исполнить пророчество Мами-За. Пантера победит: прекрасный европеец женится на мне, а хозяйка умрет от зависти, глядя на мое счастье! — с дикой яростью прокричала Ягуаретта.
— Кошмар далеко заходит, — промолвил Геркулес, — это уже нечто грандиозное! Вот я женюсь на дикарке и нарожаю маленьких дикарят! Ха-ха-ха!
Смех Геркулеса, нечувствительность его оскорбили влюбленную Ягуаретту. Еле-еле сдержала она свой гнев, однако же в последний раз отчаянно взмолилась:
— Сжалься надо мной! Останься с нашими воинами! Возьми меня в рабыни! И хозяйка будет спасена!
Геркулес вместо ответа пропел:
«Барабан играет,
Труба отвечает…»
Ягуаретта спрятала лицо в ладонях и так застыла, пораженная стыдом и мукой. Потом она вскочила. Лицо ее, прежде то грустное, то взволнованное, исказилось дьявольской злобой: губы свела судорога, стиснулись белые зубки, мрачно заблестели, расширившись от гнева, круглые глаза. Дрожащим голосом она прокричала:
— Так умрите все! И она, и ты, и Блестящая Коса! И Ягуаретта умрет с вами! Ее отец убил моего отца! Не будешь моим — не доставайся ей, не доставайся никому на свете!
Хлопнув дверью, она вышла из карбета.
XXXIV
Опять казнь
На другой день на рассвете пышная траурная процессия отвела Адою, Геркулеса и Пиппера в табуи, где собралось все племя.
Уров-Куров был при всех регалиях вождя. Они с Бабоюн-Книфи, которая служила переводчицей, вышли вперед, и он сказал Геркулесу:
— Пяннакотавы восхищены Гордым Львом! Его отвага и мудрость достойны величайших вождей. Если он хочет стать нашим воином и взять в жены девушку с Синих Гор, мы полюбим его. Его доблесть воспоют в воинских песнях. Мы отдадим ему бледнолицую девушку из Спортерфигдта и Блестящую Косу — они в его воле. Если Гордый Лев захочет отправить их в Суринам, я дам им проводника и свое серебряное кольцо как охранную грамоту, чтобы они беспрепятственно прошли через заставы чернокожих Сарамеки. Пусть Гордый Лев скажет «да»: тогда мы тотчас пойдем под его началом против бледнолицых солдат, и он принесет нам первый трофей своей победы и нашего союза — одиннадцать вражеских скальпов.
Вождь закончил, но следом за ним завопила вся толпа:
— Возьми наше оружие, Гордый Лев! Возьми в жены дочь нашего племени! Так хочет Мама-Юмбо! Принеси одиннадцать скальпов бледнолицых! Так велит Явагон!
«О, как он отважен — злейшие наши враги им восхищены!» — подумала Адоя и любовно посмотрела на Геркулеса.
А того, казалось, вовсе не интересовало все происходящее.
— Вот это выдержка! — сказал Пиппер. — Всякий, кто знает индейцев, скажет: будь у человека белая кожа, красная, черная или коричневая, больше чести они оказать не могут, чем сейчас капитану.
Уров-Куров велел народу замолчать и произнес, указывая на орудия казни:
— Если Гордый Лев не примет предложения наших братьев — сей же час он, бледнолицая девушка из Спортерфигдта и Блестящая Коса будут преданы смерти. Пусть же тогда муки Гордого Льва будут равны его отваге: только так возможно почтить доблестное сердце!
Кровожадный шепот отвечал на эти слова вождя.
— Так ты хочешь взять наше оружие и сражаться вместе с нами? — громовым голосом произнес Уров-Куров.
Геркулес окончательно потерял рассудок.
— Ну, скорей же, скорей! Пусть кончится наконец этот кошмар! Пусть содрогнется земля, пусть разверзнется небо! Идите все к черту! Ну же, скажите, чтобы меня наконец разбудили! Батюшка! Фрау Бальбин! — и капитан запел свою песенку:
«Барабан играет,
Труба отвечает…»
— Он поет свою погребальную песнь! — прокричал вождь пяннакотавов. — Он отказывает нам! Смерть бледнолицым!
— Смерть бледнолицым! — повторил народ.
Раздался пронзительный крик, и все увидели, как через узкий проход выбежала на площадь Ягуаретта. Ее мать бросилась за нею следом.
— Бейте в кероемы! — приказал Уров-Куров. — Бейте в тамбурины! Воины, пойте погребальную песнь!
Страшная какофония варварских инструментов оглушила пленников. Бешеный крик толпы сливался со зловещим пением воинов, обходивших похоронной процессией вокруг жертв.
— Прощайте, Геркулес! — сказала Адоя. — В последний миг хочу сказать вам, что я вас полюбила с первого взгляда. Как только вы явились в Спортерфигдт — сердце мое избрало вас моим женихом!
— Прощайте, капитан! — сказал Пиппер. — При жизни вы никого не боялись и так умираете. Знайте, что даже на зубах у этих бандитов с вами пребудет уважение и восхищение старого Пиппера. А старый Пиппер и сам не тряпка.
Первой жертвой был избран Пиппер. Жрец подошел к нему и развязал. Два помощника держали сержанта, а жрец схватил его за злосчастную косу и вскричал, размахивая ножом:
— Блестящая коса упадет! Упадет!
Надежды на спасение больше не было.
Вдруг страшный взрыв сотряс землю под ногами у собравшихся. Несколько столбов, подпиравших крышу табуи, надломились: крыша затрещала, немного пошаталась и рухнула с ужасным грохотом. Некоторые из соседних карбетов тоже рухнули. Посреди же крааля в эту минуту поднялся огненный столб до самых небес, окруженный тучей искр.
Подземный толчок был очень силен. От страха и изумления все остолбенели и так какое-то время оставались без движения.
Уров-Куров первый пришел в себя и кинулся к очагу пожара (страшно разгоревшийся огонь уже пошел по латаниевым крышам) с кличем:
— Пожар! Пожар! Все бежим выносить порох из другого склада!
При этих словах вся толпа — и мужчины, и женщины, и дети — в ужасе помчались вслед за вождем, и полуразрушенный табуи опустел.
Оправившись от изумления, Пиппер, которого жрец перед казнью успел развязать, бросился освободить Адою с Геркулесом.
Когда с них пали последние путы, явилась Ягуаретта. Она была вся в крови, волосы обожжены, лицо черно от пороха…
— Простите, массера! — крикнула она, бросившись на колени перед Адоей. — Простите! Ягуаретта чуть не погубила вас — теперь она может вас спасти. Идите за мной!
Она взяла хозяйку за руку и указала в сторону рисового поля.
— Да? — отозвался Пиппер. — После всего, что случилось, не очень-то хочется идти за вами.
— Массера, — воскликнула Ягуаретта, — во имя Бога ваших молитв — идемте! Еще минута, и вы пропали.
Адоя поняла, что время не терпит, и дала пленникам знак следовать за нею. Индианка помчалась вперед как стрела, молодая креолка следом, Пиппер также. К удивлению своему, сержант не услышал шагов Геркулеса. Он обернулся и увидел, что капитан, хоть и был развязан, не тронулся с места.
— Нет уж, капитан, — сказал Пиппер, остановившись, — так не пойдет! Вы что, из любви к приключениям хотите дождаться индейцев? Вы уж простите старого Пиппера, но он вас отсюда вытащит, вас не спрашивая.
С этими словами он взял Геркулеса за руку и с такой силой потащил вниз по крутому склону вслед за девушками, что волей-неволей капитану пришлось бежать вместе с ним. С невероятной скоростью Ягуаретта и ее спутники промчались, не оставляя следов, по рисовым чекам и очутились на опушке леса.
Ягуаретта не дала своим спутникам передохнуть ни секунды и велела войти в неглубокий ручеек, что тек по лесу. Около часа шли они по воде вниз по течению, так что все следы беглецов остались заметены.
XXXV
Буря
С тех пор, как Ягуаретта вывела Адою, Геркулеса и Пиппера из пяннакотавского плена, прошло две недели.
Следующая сцена происходила на восходе солнца вблизи Спортерфигдта. На поляне, куда через густой лес вела лишь одна узкая тропинка, к дереву были привязаны две оседланные и взнузданные лошади.
Взад и вперед по поляне ходил взволнованный человек. Он то смотрел на часы, то прикладывал ухо к земле, слушая, не идет ли кто. Это был Улток-Одноглазый. На плантаторе был дорожный костюм. Его лицо было еще мрачней и багровей обыкновенного.
В кустах послышался слабый хруст, и перед хозяином предстал мулат Тарпойн.
— Ну что, ушли? — беспокойно спросил Улток.
— Только что на моих глазах майор и капитан верхом выехали из Спортерфигдта.
— Верно, поехали в Парамарибо звать губернатора с посланником на эту свадьбу, не допусти ее, сатана! — воскликнул Улток. — А что сержант? Купидон? И этот дьявол Белькоссим?
— Сержант и Купидон были вместе с ними.
— А Белькоссим? Он опасней их всех.
— Он пошел с невольниками на работу: сегодня последний день уборки кофе, а собирается ураган. В Спортерфигдте не остается никого — ни женщин, ни детей, ни стариков… Через полчаса все негры и самбо, даже домашние слуги массеры, будут на кофейных посадках. Силиба смотрит за ними. Как только уйдут последние, он явится сюда.
Улток большими шагами ходил по поляне.
— Быть может, Люцифер поможет мне, — говорил он себе под нос, — и дело выгорит в тот самый момент, когда все, казалось бы, пропало! Вчера я дерзко явился в Спортерфигдт, чтобы никто не мог заподозрить моей причастности к похищению этой строптивой девицы. Я сказал: я приехал выразить свое возмущение тем, что индейцы отвезли барышню в бухту Палиест, как будто бы я способен быть соучастником такого преступления. Я сказал, как мне жаль, что меня тогда не случилось дома, — я бы избавил барышню от страшных переживаний, которые затем воспоследовали. Поверили они мне, нет ли — не знаю и не хочу знать.
Белькоссим сказал несколько слов о сегодняшнем сборе урожая, а я уже знал, что мне делать. А иначе, пожалуй, майор, грубый солдафон, дорого заплатил бы мне за неучтивость. Он говорит: что-то странно, видите ли, мне везет — дом у меня на самом театре военных действий, а его не трогают ни негры, ни индейцы.
Ну, а женишку с его хваленым хладнокровием, — в бешенстве продолжал Улток, — я кровь малость погрел бы: я бы вызвал его на смертельную дуэль… И вышел бы, дурак! Он ничего не боится, он, говорят, привык смотреть смерти в лицо. Я отомщу страшнее — я отберу у него возлюбленную в тот самый миг, когда он думает, что уже навсегда с нею.
Но кожу бы содрать живьем с того, кто вызвал меня из бухты Палиест в тот день, когда люди верного Уров-Курова привезли мне дочь Спортерфигдта! Сейчас она была бы на шхуне в моей власти. Она рыдала бы от ярости и отчаянья — и никто не слышал бы ее, кроме птиц морских.
Ничего… терпение… завтрашний день не так далек. Если план мой удастся — все будет в порядке. Сегодня утром этот нахал управляющий лицемерно говорил мне, что хозяйка, мол, надеется скоро опять видеть меня в своем поселении. Он и не думал, что будет так прав… Да что же нету Силибы!
Чтобы хоть немного заглушить беспокойство, он обратился к Тарпойну:
— А что маленькая индианка? Ты в Спортерфигдте ничего о ней не слыхал?
— Сержант Пиппер обедал с нами в буфетной и рассказывал так: индианка довела капитана и белую девушку до первых вырубок здешней плантации, бросилась перед хозяйкой на колени, стала целовать ей руки и просить прощения. Потом встала, посмотрела пристально на капитана, поднесла палец к губам, упала как подкошенная и умерла. Должно быть, на ногте у нее была вурара, — с устрашающей невозмутимостью заключил мулат.
Улток злобно улыбнулся:
— Значит, индианка ничего не скажет. Больше ты ничего не узнал?
— Нет, массера, ничего. Едва мы отобедали, за нами пришел управляющий и отвел в особый дом за канал. Мы не могли вернуться за ограду, тем более что после того, как украли белую девушку, Белькоссим сделал так, что на вал нельзя больше подняться без лестницы, а чтобы поставить лестницу, нужна лодка.
— Пропади я пропадом, как они нас боятся! — саркастически засмеялся Улток. — Этот мерзавец Белькоссим всю ночь торчал у меня под дверью. Я слышал, как он шагал по коридору и стучал карабином по стенке. Но где же все-таки Силиба?
Покуда Улток-Одноглазый ждет достойного соучастника своих злодеяний, напомним читателю о нашем герое, Геркулесе Арди.
Вернувшись на плантацию, капитан несколько дней пробыл в странном состоянии. Сначала он проспал подряд тридцать часов, проснулся странно ослабевший, наелся, как удав, и тотчас заснул еще на десять или двенадцать часов. Когда он проснулся, прошедшее показалось ему сном. Адоя начала говорить ему об его отваге и непоколебимом самообладании посреди страшнейших опасностей, грозивших ему, — он лишь смущенно улыбался и всячески просил ее не говорить более об этом. Подобной скромностью Геркулес совершенно очаровал бы девушку, если бы она и без того не любила его страстно.
Капитан же, избавившись, к счастью своему, от всех напастей, стал таким, каким он и был от природы, — доверчивым, простодушным и добрым. В нем стала даже приметна некая тихая веселость, которой прежде не было: ведь война закончилась победой и вскоре предстояло вернуться в Европу. Адоя нравилась ему, он желал нравиться ей. Он любил ее и был покоен за свое будущее — следовательно, он был любезен. Он был любим и знал это. С тем же нетерпением, что и Адоя, ожидал он день свадебного торжества.
День настал: Геркулес должен был жениться. И в этот самый день злобный Улток замыслил новое преступление.
Плантатор продолжал мерить шагами поляну. Наконец Тарпойн приложил палец к губам и сказал хозяину:
— Вот и Силиба, массера!
В самом деле, в тот же миг из-за ветвей появился второй мулат и воскликнул:
— Ушли, массера! Все ушли! Я видел — в Спортерфигдте остались только больные. Все рабы на плантации, даже домашние и кухонные слуги. На юге небо пылает, как печка. Еще чуть-чуть, и весь урожай погибнет.
Улток молча подошел к лошади, достал из седельной сумки и засунул за пояс пару двуствольных пистолетов, намотал на руку длинный красный полотняный платок и тогда сказал Силибе:
— Стой с лошадьми на опушке против моста.
— Понял, — сказал мулат.
— А ты, — сказал хозяин Тарпойну, — иди со мной и стань у моста с этой стороны. Увидишь кого-нибудь — свистни.
— Понял, — сказал мулат.
Улток-Одноглазый поспешил к поселению. Все невольники были на работе, ибо надвигался ураган.
Все небо в густой красноватой дымке. Эта пелена не вовсе закрывала солнце, но странно преображала его лучи: все предметы виделись в неверном красноватом свете, словно через цветное стекло.
Душный воздух был совершенно недвижен, но от мощных электрических волн вершины деревьев по временам будто бы судорожно колебались. Птицы пронзительно кричали и, повинуясь инстинкту, тучами собирались у подножия деревьев, хоронясь в мох и в высокие травы. Змеи же присмирели; они, напротив, забирались на самые высокие ветви и крепко обвивались вокруг них.
Волнами распространялся запах цветов, словно бы растениям не хватало воздуха и они прерывисто дышали, испуская бальзамический аромат.
В мертвой тишине по временам раздавался глухой странный звук. Вначале слышался негромкий шелест, будто волна тихо гладила гальку. Звук становился громче, громче, наконец грохотал, как дальние раскаты грома, потом постепенно замирал, и вновь наступала гробовая тишина.
Адоя гуляла в апельсиновом садочке возле дома.
Следы недавно перенесенных страшных потрясений изгладились с ее лица, и расцвела на нем счастливая улыбка. Ее переполняло счастье грядущего соединения с Геркулесом; она наслаждалась мечтами об этом блаженном миге.
Счастливая любовь — призма, окрашивающая в радужные цвета даже нерадостные вещи. Наступление бури нравилось Адое: счастливая, покойная, в надежном убежище, она весело глядела на приближающийся ураган.
Нагулявшись в сени апельсиновых деревьев, она подошла, чтобы насладиться этим зрелищем, одним из самых величественных в природе, к выдвижному мосту, откуда открывался широкий вид на луга и леса.
Два черных малыша играли у ворот поселения, и кроме них в Спортерфигдте не было никого. Даже Мами-За уехала в Суринам принимать драгоценный груз — короб модных платьев из Парижа.
Адоя хотела перейти мост. В этот миг на другом конце его появился Улток-Одноглазый и быстро направился к ней. Кровожадно и ехидно было лицо злодея. Девушка в ужасе отпрянула назад и огляделась вокруг. Взяв себя в руки, она сказала Ултоку:
— Я думала, сударь, вы уехали…
— Я уехал, но вернулся за тобой, непокорная! Теперь ты моя! — воскликнул он, схватив Адою за руку, и набросил на голову ей платок.
— Помогите! — закричала Адоя. Вырываясь, ей удалось сбросить платок с головы.
— К чему кричать? — сказал Улток. — Никто тебя не слышит.
Он стал связывать Адое руки, чтобы было удобней отнести к лошади.
— Помогите! Помогите! Господи!
— Господь глух, — молвил Улток.
Он привязал платок к одной руке Адои, обмотал вокруг талии и пытался схватить другую руку.
— Капитан, помогите! — кричала несчастная девушка.
Два негритенка в ужасе затворили ворота поселения и спрятались.
— Твой жених в Суринаме, — сказал Улток. — Сейчас он вернется, не найдет тебя и тоже будет звать на помощь.
Неожиданное сопротивление креолки бесило его. Он мертвой хваткой больно сжал нежные руки девушки. В конце концов ему удалось связать их за спиной. Адоя была теперь беззащитна. Ей оставалось лишь по-прежнему жалобно звать на помощь.
Поднялся ветер. Его долгие завывания заглушили ее голос. Улток мог теперь как угодно распоряжаться своей добычей. Он взял девушку на руки и с этим легким грузом поспешил по мосту прочь из Спортерфигдта к Силибе, ожидавшему с лошадьми.
Но едва он перешел через мост, раздался свист Тарпойна, и Улток увидел в сотне шагов перед собой толпу негров во главе с Белькоссимом. Добежать до лошади плантатор не успевал.
Улток увидел, что попал в ловушку. Не долго думая, он бросился с Адоей на руках за ограду поселения, выпустил девушку из рук (она упала на землю), ухватился за веревки моста и убрал его в тот самый миг, когда к мосту подбежал управляющий.
— А, Белькоссим! — насмешливо закричал Улток из-за ворот поселения. — Ты сам так славно укрепил Спортерфигдт! На вал ты теперь не заберешься — мы здесь с твоей хозяйкой одни.
Он крепко привязал веревки и обернулся к своей жертве, намереваясь овладеть ею.
Адоя была ловка, и ее подгонял страх. Пока плантатор убирал мост, она вскочила и, хотя ей мешали связанные за спиной руки, стремительно бросилась под тамаринд массеры. Она добежала до дерева без сил, задыхаясь, рухнула на колени и стала молить Бога и тень отца своего избавить ее от посягательств Ултока.
Улток же видел, как она убегает, но не спешил за ней вслед: он хотел с рассчитанной жестокостью насладиться отчаяньем жертвы.
Он медленно подошел к густой изгороди, окружавшей опасную куртину, и со злобным смехом произнес:
— Теперь, упрямая гордячка, я буду отомщен за твое презрение, за твою холодность! Гром грохочет над моей головой — он мой покровитель! При его раскатах, посреди содроганий природы, устрашенной моим злодеянием, ты станешь моей! Раньше чем через час люди не смогут переплыть ров и залезть на вал. Мы одни. Я сильнее тебя. Нет такой мощи — ни человеческой, ни божеской, — что вырвет тебя из моих рук. Слышишь, дочь Спортерфигдта?
Эти последние слова Улток громко прокричал, подойдя уже к самой изгороди.
Ураган яростно грохотал. Смерчи пыли, песка и листьев со страшным шумом кружились в воздухе, затмевая и без того неверный свет солнца.
Адоя по-прежнему стояла на коленях и горячо молилась. В борьбе с Ултоком ее длинные волосы разметались по обнаженным плечам. От гнева, ужаса и молитвенного пыла рдели ее щеки, горели глаза — она была великолепна!
С плотоядным восхищением Улток несколько мгновений полюбовался ею, вошел в ограду, одним прыжком оказался на середине куртины и поспешил под тамаринд.
С невыразимой яростью набросились на Ултока пчелы, еще более обыкновенного разъяренные ураганом. Целый рой облепил ему лицо, впившись в глаза, в губы и в руки. Дико закричав, Улток повернулся и стал на ощупь искать выход — тщетно! Ослепленный и обезумевший от боли, он бегал без толку по кругу, натыкаясь на кусты… наконец вцепился руками в стебли гранадиллы и рухнул на землю.
Пчелы, словно уверившись в победе, с удесятеренной яростью накинулись на упавшего. Улток, уткнувшись лицом в землю, грыз ее, судорожно рыл ногтями, страшно стонал… Наконец от ужасных мук колонист потерял сознание.
В этот миг разразилась буря во всем своем устрашающем величии. Не вставая с колен, Адоя обратила к пылающему небосводу прекрасное лицо свое, светившееся радостью и благочестивым восторгом, и произнесла:
— Славен будь, Господи, спасший меня под сим древом, благословенным отцом моим!
С большим трудом Белькоссиму и нескольким неграм удалось взобраться на вал. К тому времени приехали из Суринама Геркулес, майор, губернатор и посланник. Негры побежали выдвинуть мост, а Белькоссим кинулся искать хозяйку.
Подойдя к куртине, он застал устрашающее и трогательное зрелище. Улток-Одноглазый испускал дух, корчась в страшной агонии. Адоя, преклонив колени, молилась.
Тарпойн и Силиба, узнав о смерти хозяина, признались в убийстве плантатора Спортерфигдта. Они погибли под страшными пытками, так и не сказав, что их хозяин был сообщником, а еще верней — подстрекателем этого убийства.
Ясно без слов, что после стольких злоключений Геркулес-Ахилл-Виктор Арди женился на Адое Спортерфигдт. Война окончилась, и Геркулес с молодой женой вернулся из Гвианы в Европу.
Белькоссим и Мами-За остались в Спортерфигдте управлять поселением в отсутствие хозяев.
Майор и верный сержант отправились вместе с новобрачными во Флиссинген.
Геркулеса произвели в майоры. На родине его встретили с некоторым упоением, ибо актуариус читал по всему городу письма Рудхопа. Счастливый отец рыдал от радости и нежности.
Как ни предавался папаша Арди своим безумным грезам, но, когда сын его оказался посреди страшнейших опасностей, он понял, как же он все-таки обожает его.
Не описать того счастья, когда Геркулес явился к нему из Суринама живой и невредимый, с прекрасной и доброй женой! Актуариус забыл все свои ратные помыслы. Он пал перед сыном на колени, молил его бросить впредь воинское ремесло, клялся на шпаге Арди-деда, что и так ни один Арди не свершил столько для семейной славы.
Геркулес без особого сожаления поддался на уговоры отца. Он купил неподалеку от Флиссингена чудный участок земли и назвал его, к тихой и благочестивой радости Адои, Новый Спортерфигдт. Адоя прожила век счастливейшей из жен, ибо муж ее был, без всякого сомнения, лучшим из мужей.
Молочница Берта стала старшей молочницей фермы. Наша старая приятельница, черная телка Дурашка, с возрастом поумнела. Геркулес, чтобы доказать, что не держит на нее зла, купил ее в числе первых.
Майор Рудхоп и сержант Пиппер поселились во Флиссингене. Каждый год, к великой радости Геркулеса и Адои, они приезжали в Новый Спортерфигдт «на семестр», как они говорили.
Еще в начале этого столетия у сына Геркулеса, господина Якоба Арди, одного из богатейших судовладельцев Флиссингена, можно было видеть в доме большую картину работы Зюнбурга, представлявшую пяннакотавский крааль и тот момент, когда Геркулес, привязанный к роковому столбу, отказывается воевать в рядах пяннакотавов и взять себе жену из их числа.
Геркулес скромно возражал, но актуариус не давал покоя ни себе, ни другим, пока не получил эту картину, чтобы увековечить один из величайших подвигов в роде Арди. Не одолев причуды старика, участники этой страшной сцены — Геркулес, Адоя и Пиппер — дали художнику подробные описания, так что ужасный момент был передан живописцем во всей точности.
Одно лишь огорчало Пиппера, и он непрестанно на это указывал, а именно: достойный сержант был изображен в фас, поэтому, к его великому неудовольствию, не было видно дивно украшенной боевой косы.
Над рамой два лежащих льва (в память об имени Гордого Льва) держали картуш с надписью, которую актуариус сочинил всю, от слова до слова, и ничего не дал в ней изменить:
«ГЕРКУЛЕС-АХИЛЛ-ВИКТОР АРДИ, прозванный кровожадным индейским племенем пяннакотавов, пораженных его доблестью, ГОРДЫЙ ЛЕВ. Свирепые пяннакотавы грозят ему страшной казнью, если он не согласится сражаться в их рядах и взять в жены девушку их племени. Геркулес-Ахилл-Виктор Арди, верный любви, чести и Отчизне, бесстрашно отвергает их соблазны и во весь голос требует для себя смерти храбрых».