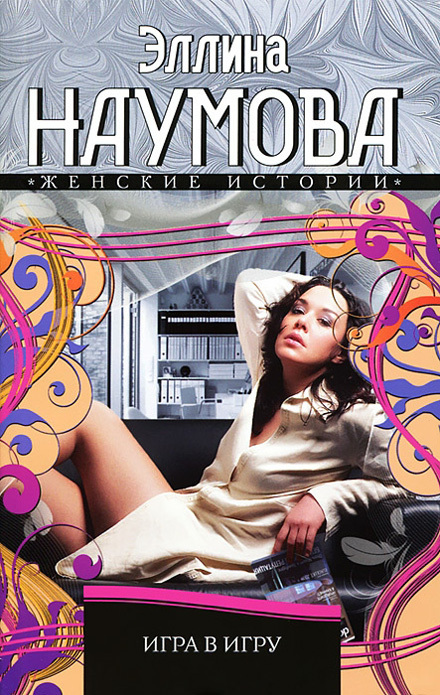
Эллина Наумова
Игра в игру
Никаких намеков, совпадения случайны.
Глава 1
Мерзавцы, подонки, нелюди. Весь мир – алчные, равнодушные эгоисты. Выпросить, стянуть, отнять что угодно – чужие деньги, время, надежды, жизнь… И ведь не нарочно, просто им кажется, что самим нужнее, что они достойнее тебя. Сволочи. Ненавижу. И обездоленные не лучше. Их только жальче. Но дашь палец, руку откусят. Вот уж не знала, что покаяние бездонно, что это пропасть, в которую валишься, валишься, валишься… Вокруг все теснее и непрогляднее, но конец падения не предусмотрен. Только месть выбрасывает тебя наверх, к остальным дряням. И ты можешь не добиваться, но устанавливать справедливость. Я больше не буду падать. Я устала винить в своих муках саму себя. Не только раскаяние, но все, все, все безгранично. Я отомщу. И тогда посмотрим, кто в чем и перед кем виноват…
Из дневника Веры Вересковой
Зазвенел будильник. Не проснувшаяся толком Елена Калистратова открыла глаза и с любопытством вгляделась в циферблат – который час? А, восемь, ну разумеется, восемь.
Левая половина кровати пустовала, но знаки состоявшегося ночлега – вмятина на тугой подушке, художественно бугрящееся одеяло – радовали женский глаз. Она хронически стелила белоснежное постельное белье. Некоторые мужчины, увидев его, очень долго мылись в душе, прежде чем лечь. И все равно простыня на месте их не всегда заслуженного отдыха казалась сероватой. Зато нынешний ее любовник, Эдуард, принимал ванну не до, а после близости, если являлся измотанный, вообще не принимал и валился в блистающую крахмальную чистоту без опаски. И в первое же утро, оглядев лишь слегка примявшееся, но оставшееся свежим ложе, с брезгливой гримасой сказал Елене: «Надеюсь, это меняют не реже трех раз в неделю?» Ее домработница с тех пор получала доплату за ежедневную стирку и глажку.
Эдуард изумлял Елену способностью неизменно пробуждаться в шесть утра, даже если заснул в пять, без навязчивой помощи звуковых сигналов извне. Все было в нем самом, включая будильник. А вот Елена начала слышать механический зов всего пару лет назад. Раньше кто-нибудь должен был ее долго расталкивать. Не самых близких она напутствовала с вечера: «Главное, не сдавайся. В крайнем случае обливай водой, только не кипятком». Близкие, честно говоря, сразу хватались за чайник, хоть и уверяли потом, будто полчаса орали ей в ухо призывы восстать. Не лили, конечно, брызгали, но и после этого много хорошо забытого старого о себе узнавали. Когда никто не соглашался остаться у нее ночевать, а утром ей предстояло явиться куда-нибудь к сроку, находился мученик, согласный звонить ей по телефону и не класть трубку до сонного: «Ага, встаю, умоляю, не отключайся, сейчас доплетусь до кухни, вот кофе, с вечера наварила, гадкий, холодный, брр, но теперь в постель не вернусь, ура, спасибо, пока». Самое ужасное было в том, что она возвращалась. Дурацкая игра – лечь на секундочку, прикрыть глаза, потом распахнуть их, будто только что проснулась, и утро покажется добрым, нет, добровольно начатым. Часто во второй раз ее будили звонки тех, с кем пора было бы уже заканчивать совещания. Но это казалось уже терпимым. Вот когда в юности Елене приходилось ездить на работу к семи утра, она совсем не ложилась. Принимала ванну, накручивала волосы на бигуди, красила ресницы тушью, усаживалась в кресло и сочиняла стихотворения вроде
Я копаю во сне бесконечную эту траншею,
И не вырыть ее, и копать не могу перестать.
Мне дышать тяжело, мне веревка врезается в шею,
И мой утренний вид испытанью удушьем под стать.
Я прошу, я молю милосердного доброго Бога
Прекратить сей кошмар, ниспослать мне хотя бы
другой.
И однажды шепнет Он душе моей тихо и строго:
«Дура, это не Я, просто ворот пижамы тугой».
Ясно, что любой расстался бы с бессонницей, только бы не читать подобного, снимая бигуди. Елена Калистратова предпочла уволиться с ранней работы.
Теперь она была главным редактором глянцевого журнала и владелицей модельного агентства. Последнее не афишировала, но смело использовала. Пока хозяин печатного органа благоволил, ее даже враги числили в умницах и умелицах. Жизненное кредо у Елены Калистратовой выработалось спорное и мрачное. Красота не спасет мир, потому что именно к ней он особенно жесток. Она не первый год занималась модой и элитной рекламой, ее легко понять и трудно, но можно простить.
У нее были негласные семейные традиции, о которых только немые не болтали. Когда-то ее маму распределили в ведомственную поликлинику – брали отличников рабоче-крестьянского происхождения, а через год от них избавлялись. Чтобы не уволили, мама без затей начала спать с начальником рангом повыше непосредственного собственного. И через пару лет была самым молодым главврачом в городе. Дочь думала, времена постельного карьеризма ушли вместе с социализмом. Но изменились только названия мужских руководящих должностей, а не отработанная схема поиска верных сотрудниц. И вот она главный редактор. И вполне соответствует занимаемой должности. И мать соответствовала. А тетушка этой дорогой в системе МВД до высшей власти дошла. Тут ведь главное, изменив мужу, ни в коем случае не изменять начальнику. А то понабрали личных помощников – то ли секретутки, то ли практикантки, но в любом случае дуры. Боевые подруги нужны измотанным, страдающим импотенцией мужикам, а не потенциальные жены. Но времена кое в чем изменились. Мать на намеки, краснея, отвечала: «Как вы смеете клеветать, поработали бы с мое». Тетка грохала по столу кулаком: «Нам ничего не дали, мы все заслужили». А Елена, не удостоив взглядом: «Пошел (пошла) на…»
Сын Елены учился в Германии на деньги отца и под его присмотром. Когда нынешний герр Ксенофонтофф оставил ее с ребенком, он был еще чем-то средним между товарищем и господином. Не смог отдать долг бандюгам, сбежал за границу, времени на развод не хватило. Ему повезло, всех его кредиторов перестреляли. Поэтому, обосновавшись в Мюнхене, он лет пятнадцать успокаивался, а подлечив безмятежностью нервную систему, выдумав себе прошлое и установив настоящую репутацию, сам разыскал жену. Дескать, давай разведемся официально, вдруг замуж соберешься и штамп в паспорте помешает. «О, ты стал европейцем: заботу о себе преподносишь как заботу о ближнем», – рассмеялась Елена. И согласилась при условии, что их семнадцатилетний сын переберется в Германию – еще неизвестно было, удастся ли ей «отмазать» парня от мытарств в несокрушимой и легендарной. С тех пор как Елена родила мальчика, несокрушимыми и легендарными в армии для нее были только неуставные отношения.
И еще у нее был, есть и всегда будет Эдуард – пятидесятилетний остроносый шатен с большими серыми глазами и маленьким ртом, который приятно удивлял крепкими ровными зубами с естественно-желтоватым оттенком эмали. Будет, потому что ей так хотелось.
Эдик уверен, что они впервые повстречались на автозаправке шесть месяцев назад. А Елена не говорит правды – тридцать один год назад, почти тридцать два. Страшно и пока еще весело подумать. Будто тебя щекочут, ты хохочешь, вырываешься и смутно догадываешься, что от этого можно умереть. Ей исполнилось семь. Она шла к подружке сквозь теплое июльское воскресенье. Только в детстве летняя улица бывает такой яркой и просторной. На высоком заборе, кажется не ограждавшем территорию детского сада от набегов, а призывавшем с удовольствием размяться перед ними, сидели мальчишки лет двенадцати. «Такие большие, – подумала Лена, – а будто воробьи». И тут толстый загорелый «воробышек» громко чирикнул:
– Девочка, а девочка, сними трусы!
Она вспыхнула и молча ускорила шаг. И столкнулась с совсем уж взрослым юношей – десятиклассником из их двора.
– Девочка, ты бы хоть дураком его обозвала, прежде чем удирать, – засмеялся он.
Лене стало очень стыдно за орущего непристойности мальчишку. Юношу она восприняла своим защитником. И на всю жизнь запомнила много-много неба, много-много солнца, его пышную каштановую челку, серые глаза и крупные, блестящие в улыбке зубы. Вскоре ее семья переехала на другой конец Москвы.
Почему Елена не заговаривала об этом с Эдуардом? Не хотела выглядеть пошлячкой, не отпускающей из головы то, что леди обязаны забывать? Избегала аналогий со снимаемыми им нынешними своими трусами? Боялась услышать в ответ, что он никогда и не приближался к району, в котором случилось то маленькое происшествие? Вряд ли она поверила бы ему, а не себе. Нет, Елена всего лишь не желала, чтобы Эдуард возгордился. Шутка ли, он, походя, со смешком, призвал ее к сопротивлению в мире, где феминистки добились сногсшибательного результата. А именно: изъяли убежденность в превосходстве мужского пола из мужского сознания. Пребывающий в своем уме человек не мог ее сохранить, наблюдая женские ратные и трудовые подвиги. Донорство спермы и клонирование завершило процесс. Но убежденность скрылась в подсознании добытчиков и защитников – самом надежном хранилище, в котором ничего не изменяется, зато срабатывает против покусившихся автоматически и очень жестко. Там нет ограничителей морали и даже здравого смысла: чем глубже, тем проще и скучнее. Елена полагала, что Эдуард невольно предупредил ее о людской беспощадности, значит, наполовину спас. Целиком собственное спасение от человечества она не потянула бы.
Что еще она о нем узнала? В семь утра Эдуард Павлович Шелковников отъезжал в «порше» от своего или ее подъезда, чтобы не париться лишнего в пробках. И уже минут через тридцать входил в офис дизайнерского центра, где творчески генерально директорствовал. Как большинство людей, он был не верующим, а суеверным. И в итоге превратил свои чуть ли не рассветные бдения в кабинете в ритуал по задабриванию удачи. Бог благословлял ею тех, кто успевал занять места за рабочими компьютерами первыми. Остальным надлежало довольствоваться надеждой на то, что завтра они точно не проспят Его приемных часов. По результатам надо признать, что разумное зерно в бреде Эдуарда наличествовало.
Наверное, в Москве немногие умели так обставить бочку конторы, чтобы сельди не выглядели в ней слишком утрамбованными, чтобы создавалось впечатление, будто в рассоле офисной тоски они если не плавать, то хоть плавниками шевелить могут. В одной фирме хозяин засадил менеджеров в помещение без окон, здраво рассудив, что вид из них с двадцатого этажа ничего, кроме мыслей о самоубийстве, не сулит. Но Эдуард уговорил его потратиться на декорации таковых и надежную подсветку. Конторщики отблагодарили работодателя скачком производительности труда. Тот прозвал дизайнера Шелковникова кудесником. А Эдуард еще долго вздыхал по поводу того, как мало нужно для счастья. Кому? Ему самому, дельцу или менеджерам низшего звена? Он не знал. И знать не желал. Тут главным было вздохнуть.
Шелковников был коротко женат и без проблем разведен трижды. Человек этот легко зарабатывал на себя и являлся воплощением принципа: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». И одиночества он не выносил. Но стоило появиться семье, стоило ему услышать, что жена называет его деньги общими, как Эдуарду начинало казаться, будто его эксплуатируют, обирают и тратят кровные на ерунду. Он психологически не мог кого-то содержать годами, разовая благотворительность была его стихией. Он не был жадным. Но его неимоверно раздражала обязанность выдавать определенную сумму в определенный срок. А если не наскребет по сусекам, не уложится? В глубине души он полагал, что любовь, в муках родившая корысть, гибнет. Но жены не знали, что просят деньги на нехитрое хозяйство из корысти.
После расставания с ним его женам почему-то начинало бешено везти. Лиза, отравившая семейную жизнь безалаберным и упрямым писанием романов «в стол», за неделю нашла издателя. Валю через месяц повел под венец новоиспеченный миллиардер. Юля, вот уж чудо, запела приятным голосом, почти не фальшивя, и храбро полезла на сцену по головам неопытных музыкальных продюсеров. Сейчас его единственной дочери от первого брака было девятнадцать. Она современно дружила с отцом, ни в чем его не виня и изредка обдирая как липку. Поскольку изредка, он не роптал.
Эдуард успел лишь раз напугать Елену. Услышал по телевизору стихотворение об отказе ребенка бросить валяться на полу мишку с оторванной лапой, разрыдался и воскликнул: «Леночка, это гениально! Это – про отношение каждого человека к самому себе. Чем больше судьба искалечила, тем себя жальче». Он был сильно пьян, поэтому Елена простила его.
Вот, пожалуй, и все смутно интересное о нем. Про Елену он знал не больше. Они не обсуждали раздельное прошлое, зная, что, как ни объясняй свои слова и поступки, мнения исповедника о них не изменишь. Каждый ощущал себя вечно развивающейся личностью и соглашался являться для другого сиюминутной данностью. Эти «завитушки», как обычно, украшали аккуратный простой каркас – зрелые мужчина и женщина не хотели сильных житейских эмоций, им рабочих хватало. Оба так боялись нарваться на оскорбление случайно – ибо плохо представляли себе, с кем связались, – что вели себя в присутствии друг друга безукоризненно. И представления не имели, надолго ли их хватит.
* * *
Все же без мелких недоразумений даже такие облегченные отношения не обходились. Наслаждение утренней расслабленностью в кровати начало вытаивать из Елены, как полагается, сверху. Руки и ноги еще не напряглись, а голова уже раздражающе полнилась любовником.
Недавно Эдуард рассказал Елене, как ненароком встретился в кафе с Лизой, своей первой женой. Той самой, которая после развода не сочинительствовала на досуге, но ограждала редкий свой досуг от сочинительства. Выпили кофе, поболтали. Она стала гораздо приятнее в общении и выглядела замечательно. Нет, Эдуард не пытался возбудить в любовнице ревность. Он простодушно не скрывал обуявшего его за пластиковым столиком настроения: был готов устремиться за скоро попрощавшейся с ним занятой Лизой, то есть рвался назад, в прошлое. Елена умело растолковала себе, что Эдуард Павлович вступили в переходный возраст, который чувствительно бьет человека по башке каждое десятилетие. И желали пробиться не к ее ровеснице, но к себе – неискушенному беззаботному Эдику. А если нет? Тогда Елене надо привезти любовника на автозаправку, где, по его мнению, они познакомились, высадить из машины и газануть не помахав напоследок.
Она почувствовала, что больше не улежит. Встала перед зеркалом голая – еще не бравада, но уже и не самолюбование. Рост – метр семьдесят два. Темно-русые волосы, ни одного седого. Красила их единожды в девятом классе и никогда не узнавала себя в коротко стриженной платиновой блондинке на фотографиях. Лицо… Для России так себе, для заграницы – красавица писаная. Фигура… Не то слово при весе пятьдесят семь килограммов. Тело… Елена хорошо запомнила давний ответ «армянского радио» на вопрос: «Стоит ли худеть женщине после тридцати?» «Пусть худеет и знает, что между стройной газелью и тощей коровой есть разница». Ей было двадцать, она не поняла, но выражение понравилось хлесткостью. Так их, молодящихся перестарков. А когда смысл дошел, привела себя в форму скаковой лошади – явный мышечный корсет, рельефный и твердый. И отсутствие слез по утраченному навсегда девичьему сантиметру жира, обеспечивающему плавность линий.
Потекло незатейливое, буднее утро обеспеченной деловой женщины – душ, стакан соевого молока, влезание в брюки, кофту, туфли, записка домработнице. Затем треп по мобильному телефону с приятелями – этакий кошачий ритуал. Мурки и Мурзики, встретившись с хозяевами после ночного отдыха, нуждаются в подтверждении, что их любят не меньше, чем вечером. Почесали за ушком, слово ласковое сказали, и кошка снова демонстративно независима и горда. Далее просмотр новостей и своей электронной почты в Интернете за рулем в пробке. Салон и дешевые комплименты дорогого стилиста. Порой Елена недоумевала, почему бы ей самостоятельно не взлохматиться феном и не подштукатуриться такой же косметикой дома. Но хозяин искренно священнодействовал над ней ритуальными принадлежностями – расческами и кисточками. Это неизменно заставляло Елену чуть серьезнее к себе отнестись и удерживаться в этом благотворном для руководителя состоянии целый день. После опять пробка или две, уже вполне начальственный лай в трубку на приближенных и резвый бег отягощенных кольцами пальцев по клавиатуре ноутбука. И наконец, главное – работа, которую все мешают делать, хоть и делают вид, будто в поте лица выполняют твои указания. И ответственность за результат, на который всем плевать. Она была на своем месте. В подчиненных ей отчетливо виделись лишь гонор, гордыня, глупость, безвкусица, бездарность, безалаберность, неумение слушать, нежелание учиться, неспособность концентрироваться. Все остальное приходилось выискивать по крупицам каждый раз заново. Елену бесило, что люди говорят «ты», «тебе», а звучит это как «а вот я», «а мне». «Ваше» они произносят обиженно, «наше» – тоскливо, и только «мое» торжествующе. И ей надлежало ежедневно хоть ненадолго заставлять их становиться противоположностью самим себе и профессионально делать общее дело. Но это нормально. Большинство людей претендует на всеобщую любовь. У Елены же хватало ума становиться нужной. Собственным успехом она обеспечивала успехи других и не считала их своими должниками. И себя ничьей должницей не признавала.
Все нормально. Елена с треском захлопнула большую папку, оттолкнула ее к краю своего стола. «Опять не в вашем личном вкусе?» – меланхолично и насмешливо спросил главный художник журнала. Она посоветовала этому толстому сибариту размышлять об ужасах бомжевания, от коего при его лености и непонятливости зарекаться не следует, прежде чем браться за карандаш и приступать к эскизам. Он вылетел из кабинета, побагровев до нужного ей оттенка. Только при таком уровне кровяного давления парень чего-то стоил как «творческий работник». Она выпила чашечку кофе. Ритмично подышала – издевка над йогой, но успокаивает. Набрала городской номер и действительно безмятежно сказала:
– Здравствуй, Игнат. Пляши. Я нашла час на нашу вылазку. Ты уже и мечтать перестал? Рано, мальчик. Ладно, созвонимся ближе к семи, корректируй свои планы.
Игнат Смирнов – сын ее близкой приятельницы Оксаны – был обаятельным симпатягой двадцати двух лет от роду. Учился на актерском, снимался во втором сериале. Первый благополучно провалился. Игнат утверждал, что причиной был «тупой кастинг». Вот дали бы ему главную роль, и получили бы заоблачно высокий рейтинг. Оксана всегда извинялась перед Еленой за такие речи отпрыска. Она была лингвистом и помимо английского и немецкого отлично владела русским языком. Так что не содержание, а форма заставляла ее испытывать неловкость.
Женщины познакомились в кризисную Еленину пору. Она только-только принялась редакторствовать. И все знакомые вдруг утратили интерес к любым темам, кроме ее новой должности. Они еще не прикинули, кому из нужных им людей начнут оказывать услуги руками Елены и какие именно, но уже с упоением и безостановочно разглагольствовали о том, что сами делали бы на ее месте. И только с Оксаной можно было просто обсудить новый фильм, выставку, книгу. Они отдыхали друг с другом и от сотрудничества, и от соперничества. Но безмятежной дружбы даже в кино не бывает, разве что в детском. Взрослым она скучна, как аттракционы зимой по соседству с бильярдной.
Игнат был первокурсником и влюбился в Елену, стоило той зайти в гости. Оксана сочла мальчишеское увлечение естественным и ограничилась профилактической беседой с сыном. Дескать, она надеется, что он не опустится до приставаний к Елене. А подруге сказала: «Знаешь, он любит тебя благоговейно, поэтому вряд ли осмелится приблизиться». «Конфету тебе за наивность в твои далеко за сорок», – подумала Елена, тогдашний любовник которой был на пару лет моложе Игната. Но Смирнов ей нужен не был, и соблазнение его Елена сочла предательством Оксаны. «Мне еще вскрытых Оксанкиных вен не хватало», – бормотала она.
Игнат был рожден, чтобы постоянно искать свою музу, надеясь на удачу тем сильнее, чем чаще обманывался. В итоге влюбленность молодого человека созрела в редкий, но известный психиатрам фрукт: он сначала намекнул, а затем потребовал, чтобы Елена выбрала ему девушку. Обещал сразу же на ее избраннице жениться. Подруга дома нервно отнекивалась. Будущий кумир домохозяек зверел и хамил матери. «Почему ты тянешь время? – сердилась Оксана, впервые склонная в чем-то подозревать Елену. – Укажи ему на любую совершеннолетнюю миловидную отличницу в хороших джинсах. По возможности медичку. Заодно и меня осчастливишь. Правда, Лена. Водку он не пьет, траву не курит, кокаин не нюхает. Но все пробовал. Что они первые полгода студенчества в общежитии творили, уму непостижимо. Саморазрушение насмерть. Но повезло, через сериалы начали отмывать деньги. Дети завязали, продолжают немногие. Теперь в их среде преуспевать модно, не иметь часа свободного от работы модно, но это пока не его уровень. Надо чем-то занять мальчика в преддверии славы. Пусть любит». «Она так желает кровиночке добра, что готова намывать ему кости, – думала Елена. – А ведь баба порядочная».
Но это мимолетное недовольство друг другом отношения не портило. Оксана решала, что Елена слишком ответственно подходит к навязываемой ей миссии, потому что и она и Игнат ей дороги, и умилялась. Елена вспоминала, как омерзительно глупеет, когда сталкивается с проблемами собственного сына, какую чушь несет, и успокаивалась. Тем временем Игнат классически худел, бледнел и заговаривался. И вот Елена Калистратова над ним сжалилась. Чувством юмора мальчик обделен не был, мечтал о комедийной роли, так что нервный срыв ему не грозил при любом раскладе.
В половине девятого вечера она посадила его в свою машину возле метро. Оксане об этой авантюре договорились не пробалтываться. Заказ на медичку и отличницу Елена выполнять не собиралась. Далеко не уехали – по центру в эту пору не покатаешься.
– Слушай, родственная душа, – частил Игнат, от восторга круживший вокруг быстро шагающей по тротуару Елены, – а почему мы так рано приступили к охоте? Ближе к полуночи было бы в самый раз.
– Ближе к полуночи все, что я могу тебе рекомендовать, уже спит, – заверила невольная сводница.
Артист не испугался пуританского сценария. Он знал: если Елене не удалось припарковаться в непосредственной близости от развлекательного заведения, она будет грешить суровостью, пока до него не доберется. Ему неведомо было, как чувствует себя женщина, выпившая утром соевого молока и хлебавшая весь день черный кофе без сахара и минералку без газа. Даже при жесткой диетической выучке и владении приемами аутотренинга Елена не могла быть спокойной и радостной в предвкушении трапезы, после которой голод лишь разгуляется напропалую. И перестанет донимать не раньше чем через час. То есть физически будет ощущаться, но уже как-то удастся и шутить, и смеяться. Обычно перед выходом из офиса в «нормальные люди» Елена съедала банан, умеренно исполненный калорий и естественных антидепрессантов. А тут закрутилась и не успела. Игнату Смирнову предстояло либо не замечать, либо терпеть ее раздражительность до какого-нибудь салата с оливковым маслом. Он был склонен не замечать, что Елена привычно ценила.
– Я думал, ты поведешь меня в Третьяковку к открытию. Или в научную библиотеку к закрытию, – не унимался он.
– В бар, Игнат, в кафе, в маленький ресторан. Я должна видеть, жрет девица, ест или кушает. Профессия у меня такая – оценщица моделей.
– По зубам?
– По длине желудочно-кишечного тракта.
– Мерзость.
– Именно, именно. Еще раз споткнусь о тебя, поверну назад.
– Нет, только вперед, родственная душа. А чтобы определить эту самую длину, ты их на рентген посылаешь?
– Я сама рентген. Так, два шага направо. И веди себя в общественном месте пристойно.
– М-м-м… Странное тут общество, – промямлил Игнат.
Елена мрачно усмехнулась и кивнула ему на столик возле окна, покрытый накрахмаленной, дурно отутюженной скатертью, впечатление от которой скрашивал трогательный одинокий цветок в стеклянной вазочке. Люди, которых ее спутник назвал странными, были всего лишь сорока-пятидесятилетними. Объяснять Игнату, что ей немедленно нужно перекусить, она не собиралась. Этот ресторанчик в полуподвале с год назад очень ее выручил: она нырнула сюда, спасаясь от знакомой. Ей ни с кем не хотелось общаться, а нахрапистая баба заметила ее на улице и бросилась в погоню, громко окликая. И Елена спряталась. Преследовательнице и самой не взбрело бы в голову толкнуть обычную дверь под скромной вывеской, и о Елене она была неплохого мнения. Поэтому решила, что та провалилась сквозь землю. Или померещилась ей в сумерках. Тогда здесь тоже было тихо. И кормили вкусно – Елена рискнула сделать заказ, чтобы отдышаться.
– Родственная душа, ты издеваться намерена?
– Нет, Игнат. Я даю тебе возможность успокоиться и настроиться. Ты выступил с дикой инициативой. Я ее не поддерживала. И если уж решилась искать девочку, которая, на мой зоркий взгляд, тебе подойдет, требую серьезности. Запомни, я говорю: «Она» – и ухожу. Дальше сам. И поешь обязательно, чтобы силы не иссякли раньше времени. Обедал?
– Ты никогда моим питанием не интересовалась.
– И правильно делала. А вот девушке это вменится в обязанность.
– У меня вообще-то мама есть.
– Тебе нужна такая девушка, которая будет заманивать тебя в рестораны, чтобы себя показать. Таким образом, ты всегда будешь на виду и всегда сыт. Улавливаешь принцип?
Оба рассмеялись.
– Ладно, я и правда голодный. Но плачу…
– Я, – перебила Елена.
– Девушке и это придется делать? – грустно улыбнулся Игнат.
– Во всяком случае, она должна понимать, что такое актер. Так что тренируйся.
Тренировка показала, что Игнат Смирнов находится в отличной спортивной форме и готов бить рекорды.
Елена попросила счет. Юная официантка ловко пристроила его между мужчиной и женщиной, заученно отступила на три шага, отвернулась и уставилась в настенное зеркало, честно отражавшее, кто из посетителей сунет банкноты в лакированные черные корочки. Елена покосилась на Игната – заметил? Но тот сидел с блаженным выражением лица. Наверное, сойди любопытная девчонка с ума и выложи в голос, что думает о парне, за которого платит зрелая дама в их заведении, он и внимания не обратил бы. А еще мог в ответ воскликнуть: «Как я счастлив!» Еще не родился на свет артист, который не знает наверняка, что завтра прославится, а послезавтра накормит всех, кто его кормил, напоит всех, кто поил, оденет каждого и даст взаймы, не надеясь на отдачу, любому. Кроме того, смотреть, как любимая женщина достает из сумочки кошелек, медленно открывает, с гримаской легкого удивления заглядывает внутрь, тонкими пальцами вытягивает купюры, – это наслаждение. Редкое – когда и с какой стати ей при нем деньги доставать. Вот так посмотреть минуту, а потом вечно бредить этими руками, такими нежными и беззащитными, хоть пачку денег в них сожми, хоть кнут, хоть автомат.
Он рыдал ночами, вспоминая ее. Дал клятву матери не приставать и терпел. Вернее, боялся отказа. Если бы ее «нет» излечило его от муки, он превратился бы в маньяка, бегал бы за ней повсюду, только бы слышать это слово. Он даже для сексуальной разрядки выбирал подружек, которые не были в него влюблены. И тени чувства не должно было витать над парной обнаженкой. В койку он отправлялся с девочками, мягко говоря, своеобразными. Одна, узнав о том, что он актер, с придыханием спросила об очень известном коллеге. «Ну да, час назад столкнулись в Останкино», – честно ляпнул Игнат. «Возьми меня, возьми!» – завопила она и повисла у него на шее. Он не отказался. И еще долго у него возникала эрекция, стоило представить, что она вытворяла бы на своем кумире.
– Игна-а-ат, – звала Елена, – Игна-а-ат.
Он встрепенулся.
– И часто ты впадаешь в прострацию после бифштекса?
– Убей меня, сделай милость, – хрипло и устало попросил он. Но тут же испугался, что она сейчас уйдет, и вскочил: – Я в норме, веди хоть в пекло.
– Ну, в бар с танцполом так в бар, – улыбнувшись, согласилась Елена.
* * *
Они мотались по городу уже часа два. Заходили в помещения, где играла музыка и развлекались люди. Елена обводила присутствующих равнодушным взглядом и говорила: «Здесь никого подходящего нет». Несколько раз Игнат умолял ее позволить ему выпить или хоть попрыгать в толпе, но она не разрешала.
Актер впервые ощутил свою любовь как груз, взваленный на плечи и надавивший до робкого еще желания сбросить его. Но не при таком же скоплении народа. Люди представлялись ему свидетелями. Почему-то хотелось темноты, одиночества и тишины, как нервнобольному или преступнику. Он испугался, но не себя, а за себя. Такая отстраненность предшествует трансу. И вдруг Елена, будто почувствовав его состояние, резко остановилась. Они забрели в небольшое кафе, где скудное освещение возмещало отсутствие музыки.
– Устал? – ласково спросила неутомимая вожатая. – Ничего, умные мужчины свою единственную годами ищут. Мы же с тобой за несколько часов справились. Получай свою избранницу. Вон девочка стоит у стенки в черном платье с жемчугами на шее. Поверь, она та, которая тебе нужна. Жизненно необходима. Очнись, Игнат.
Измотанный парень взглянул и обиделся. Не учись он с красавицами, его еще могли бы привлечь большие серые глаза девушки. Но остальное! Пока они с Еленой шлялись, он заметил девиц пять, которые ему по-настоящему понравились. Эта же могла быть только местью оскорбленной его просьбой женщины. Странно, что в ее лице все было очень правильным – лоб, нос, губы. Впечатление портил овал лица. Тем, что не был овалом. Острый подбородок, широкие скулы. Только пышные рыжеватые волосы и длинные стройные ноги примиряли Игната с неожиданным выбором Елены. Да и то такого добра он насмотрелся на съемочных площадках и кастингах.
Сыграть радость или облегчение у него не получилось. Внимательно вглядевшись в его кислую физиономию, Елена напомнила:
– Обещал жениться на любой.
– За что ты меня так? – вырвалось у Игната. – Намекаешь на то, что я обратился к любимой женщине с неприличной просьбой? Так от отчаяния же! Я думал, ты найдешь девчонку, похожую на тебя.
– А она очень похожа. Откуда тебе знать, какой я была в ее возрасте?
Сопротивление мальчика почему-то не вызывало у Елены раздражения. Но в голосе уже позванивал начальственный металл.
– Знаешь, родственная душа, если ты хочешь доказательств моей любви к тебе, я пойду знакомиться.
– Я хочу тебе счастья, – мягко сказала Елена.
Она потрясающе легко меняла тон. И выражение лица. Мимика была не просто живой, но какой-то бешеной. При этом не создавалось впечатления, будто женщина гримасничает. Нет, речь и сиюминутная маска гармонировали. Поэтому, когда «редакторское» лицо сменилось нежным, явно означавшим: «Мы не сможем быть вместе, я не из тех, кого тянет на мальчишек, но все сделаю для твоего блага», Игнат решился.
– Ты меня поддержишь, родственная душа?
– В качестве кого? – влепила душа в его упрямый лоб.
– А вдруг она замужем? – В голосе Игната заплескалась последняя надежда.
– Нет. Хороша бы я была, направив тебя после стольких поисков к замужней даме.
Игнат посмотрел на Елену с обожанием и подумал: «Точно, ведьма». И, будто подтверждая его мысль, она твердо произнесла:
– У вас все сложится. Она – твоя судьба. Благословляю.
Он развернулся и поплелся к девушке, которая и не подозревала о разыгравшихся из-за нее страстях. Чем ближе подходил, тем сильнее удивлялся: оказалось, вблизи замечаешь только глаза, нос и рот. А с этим у незнакомки проблем не было. Игнат оглянулся. Елена исчезла.
Зато девушка смотрела на него с любопытством серыми глазищами. Настроение у парня было отвратительное, но данное Елене обещание надо было выполнять. И он сказал только:
– Привет, я Игнат Смирнов. Артист. В обычном смысле слова. Двадцать два года. Холост. Давай познакомимся.
– Маша Шелковникова, девятнадцать лет, учусь в Медицинской академии.
«С ума сойти, и матери родственная душа угодила, та бредила медичкой в доме», – уныло вспомнил Игнат. И продолжил беседу:
– Ты здесь с кем?
– С подругами, – ответила Маша. – Они отлучились носы попудрить.
«Это конец, – подумал Игнат. – Родственная душа действительно не промахивается. А подружки, судя по тому, сколько мы препирались, пудрят носы коксом. Они плохие, эта хорошая. Как назло. Может, у нее друг есть? Чужой мужик – мой последний шанс».
– Маша, ты позволишь проводить тебя домой?
– Позволю, Игнат.
– То есть ты свободна? – настаивал несчастный парень.
– Свободна.
«Теперь расслабься и получай удовольствие», – посоветовал он себе. Но последовать совету не смог. До ее дома они почти не разговаривали. Следующее свидание Игнат назначал Маше таким голосом, что любая менее доверчивая сочла бы его приговором. Но Маша легко сказала: «С удовольствием». «Извращенка», – решил Игнат. Он заблуждался. О стеснительных молодых людях Маша знала лишь по рассказам мамы, которая признавалась, что ей самой с таковыми встречаться не приходилось. Поэтому и приняла его напряженность за это самое. Договорились увидеться через три дня.
Глава 2
Мои мама и отчим благодаря должностям могли доставать билеты на поезда и торты к праздникам «во времена всеобщего дефицита». И все друзья без конца обращались ко мне с просьбами о содействии. Надо признать, содействовали им крайне редко. Никогда в жизни я так не унижалась, моля о помощи другим людям. И ненавидела родителей. Да, тогда у меня были друзья. Толпа друзей. Я дарила все, что им нравилось, даже если это нравилось мне самой. И только тортами и билетами обеспечить не могла. А потом они перестали быть дефицитом, друзья быстро обзавелись всем своим и исчезли. А я очень хотела, чтобы со мной дружили просто так. Я верила, что они просто так.
Из дневника Веры Вересковой
Лиза Шелковникова, первая жена Эдуарда, оставила его фамилию, чтобы быть однофамилицей дочери Маши. Но все следующие дамы ловеласа Эдика полагали, что она надеется его вернуть. Последняя любовница Елена Калистратова была того же мнения.
Лиза – невысокая, светловолосая, большеглазая, хорошенькая, тощенькая, слегка угловатая, непоседливая. А дочку родила не в себя.
– Поздравляю, мамаша, у вас мальчик. Богатырь! – сказала Лизе санитарка в роддоме. С минуту изумленно глядела на уложенное к кислородной трубочке тельце и виновато воскликнула: – Ой, да это же девочка!
За несколько секунд уверенности в рождении сына сквозь юную Лизу пронеслась сотня мыслей: «Эдик будет счастлив, он мечтал о мальчике, напьется, наверное, сегодня от радости, нет, а я как же? Я дочку хотела, я всю беременность ее моей маленькой девочкой называла…»
«Обратный ход» Лиза восприняла как восстановление справедливости, зато стало жалко мужа, и она разревелась.
– Да вы извините, мамочка, огромная-то она какая! Разве девчонки такими рождаются? Господи, миленькая, как же ты ее выносила? Она ж вполовину тебя самой!
– Кефир пила, – всхлипнула молодая мать.
– Да где ж это видано, чтобы от кефира… – уже почти плакала немолодая баба в перепачканном кровью халате, вероятно полагая, что молодуха от разочарования свихивается.
– Не обращайте внимания. Акушерка в консультации поклялась, что будет мальчик. Сорок лет стажа, говорила, ни разу не ошиблась.
– Так и наши, роддомовские, на тебя ставок не делали. Какой толк, если мужик должен был быть. Мы вашу сестру каждый день видим, насобачились без УЗИ. Иногда точнее работаем. А тут опростоволосились.
Гинекологический тотализатор позабавил Лизу, она перестала слезомойничать.
– Кефирчику хочется? – спросила работавшая с другой роженицей сестра.
– Нет. И никогда больше не захочу. Я только его девять месяцев пила по милости, нет, по садизму участкового. «Быстро вес растет, на диету…» А дочка просто большая была. А если бы я ребенка голодом уморила? Вон какая худющая.
– Они все худеют в родах, – осторожно сообщила сестра. И, как-то неуверенно взглянув на акушерку, подняла и прижала к груди двух младенцев: – Справа-то парень, тоже крупнее нормы мама раскормила. А твоя слева.
И тут до Лизы дошло все. Ее девочка была сантиметров на десять длиннее мальчика. Явно пошире в плечах. И спинку густо покрывали светлые волосы.
Эдуард однажды чуть не убил участкового педиатра, простодушно сказавшую:
– У вас девочка мальчикообразная.
– Ты сама мальчикообразная тетенька! Ты вообще не тетенька! – орал молодой отец.
Волоски на спинке через месяц сами собой исчезли. Машка давно превратилась в привлекательную девушку. То, что когда-то принимали едва ли не за уродство – большие голову, стопы, кисти рук, – оказалось всего лишь потенциалом роста. Дитя вымахало на метр восемьдесят. Причем немалую долю занимали ноги. И ни грамма лишнего веса – Лиза следила, сочувственно воя, отнимала пирожные. За мать и дочь их никогда не принимали. За сестер тоже. Они привыкли к любопытным взглядам и недоуменно поднятым бровям.
В то отмытое дождиком и празднично высвеченное солнцем июньское утро дочка изводила маму болтовней об актере Игнате Смирнове, с которым вчера познакомилась в баре. Поскольку рассказывать толком было нечего, Машка брала числом повторений. Лиза больно прикусила язык, чтобы не сказать: «В твоем возрасте я уже тебя родила. Когда ты в подоле, наконец, принесешь»? И уже таким языком рассказала про идеального отца. Мужику сообщили, что пятнадцатилетняя дочь рожает, он вздохнул и согласился: «В дом же, не из дома».
– Ты на что намекаешь? – удивилась Машка.
– Я – хорошая мать, имей в виду. И не боюсь твоих беременностей.
– Я знала, что ты меня любишь! – завопила Машка.
«Внуки отменяются», – поняла Лиза.
Тем не менее этот невозможный в девятнадцатом, а то и двадцатом веке диалог заставил влюбленную дочь замолчать и впасть в мечтательность.
Лиза Шелковникова наслаждалась тишиной.
* * *
Лиза была женщиной умной и сильной. И неизменно трезвой, после того как однажды, неумело нахлебавшись шампанского, орала дочери:
– Толстой, Достоевский, Чехов и даже Пушкин по сравнению со мной никто!
Вот уж наутро ехидная Машка, которую с детства учили завышать самооценку лишь чуть-чуть, порезвилась. Особенно ее интересовали взаимоотношения матери с Александром Сергеевичем. Но так как мания величия больше не обострялась, дочь милосердно объявила заболевание хроническим в стадии глубокой ремиссии. Она тогда готовилась поступать в Медицинскую академию и читала много лишнего.
Хотя отказать Лизе Шелковниковой в одаренности было нельзя. Во-первых, красный диплом Литературного института. Во-вторых, у нее был неимоверный темперамент, выражавшийся в какой-то патологической, как у вечно недоедающих, двигательной активности. Но что-то пригвождало ее к стулу месяца на три пару раз в год. Остальное время она бегала по чужим делам – кого-то куда-то устраивала, кого-то от чего-то спасала.
Доходило до курьезов. У нее обнаружилась аллергия на табак, хотя в юности она покуривала. Ее лечащий врач тогда много слов потратил, отвращая пациентку от вредной привычки. А стоило ей бросить, как на вечеринке она увидела своего доктора с зажженной сигаретой в руке. Хуже того – он затягивался! Мгновенно забыв о приличиях, а ведь ее неплохо и умело воспитывали, Лиза ринулась к несчастному отступнику. Фурии отдыхали на пляжах Средиземноморья. Она повторила все, что от него слышала о смертельной опасности никотина. Половина гостей позеленела, у гостий начались обмороки. Она воззвала к его совести и чувству ответственности перед обществом. Эскулап кое-как отбился, мол, много вы, госпожа Шелковникова, святых лично знаете? Присутствующим за Лизу было неловко. Но она продолжала повторять свой рассказ в компаниях с бестактностью новообращенной фанатички.
И упряма была. После вечеринок ее хлебосольной подруги всегда оставалось много еды. И рачительная Лиза повадилась забирать «разные разности и вкусные вкусности» для Машки. Пока домработница хозяйки сурово ей не выговорила:
– Вы все можете купить. А у меня пьющий муж и пятеро детей.
Вот за то, что сама не подумала о бедных, Лизе было по-настоящему стыдно.
– Бога не боится, ей же в кухне на целый полк остается, – разъярилась подруга. – Совсем уже не соображают, с кем разговаривают. Знаешь, еще у моей бабушки семья няньки кормилась: хозяева за дверь, вся орава в дверь и целый день лопают. И одежду портят, чтобы им отдали. Вечные проблемы с обслугой. Бери для Маши все лучшее, а эту «сиротку» я на место поставлю.
– Не надо. Следующая может оказаться гораздо хуже, – вздохнула Лиза. И навсегда прекратила угощения дочери за дружеский счет. А это надо уметь – прекращать навсегда.
После умеренно-скандального расставания с Эдуардом Лизе Шелковниковой действительно повезло с издательством. Вместо бахвальства она скромно процитировала одну попадью: «На детей Господь всегда посылает». На Бога в смысле ращения Машки надежд и впрямь было больше, чем на Эдика.
В общем, ее романы начали издавать. Это было добротное женское чтиво на модные темы. Если Лиза и хотела большего, то молча испаряла желание с потом, бегая по чужим делам.
Нынешний день не предвещал ей ничего, кроме рутины, с чем писательница готова была смириться. Надо править рукопись – значит, надо. Но после неумолчного трепа Маши о каком-то Игнате Смирнове, который она слушала, в основном разглядывая в окно нарядное июньское небо, Лизу осенило. В прекрасном мире, созданном всем на радость, она жила неполноценно. У нее не должно оставаться свободного от положительных эмоций времени. Надо получать удовольствие каждый миг от всего, что послала судьба. А она месяцами унывает. Это было клеветой на себя, но, наверное, править рукопись все-таки не хотелось.
По своему обыкновению, приступила Лиза Шелковникова немедленно. Заварила очень полезный, по уверениям Маши, зеленый чай. Уселась в кресло. И попыталась получить удовольствие от восточного эликсира жизни. В свои тридцать восемь лет могла бы быть и менее доверчивой. Оказалось, что как ненавидела она этот растительный отвар, вкуса и аромата которого ни разу не удосужилась уловить, так и ненавидит. Нет, минут через десять после чашки этого чая в ней начали бурлить силы. Их и так было с избытком, но все чудилось – мало для сворачивания гор и сплющивания троллейбусов голыми руками. Но радости, которой предстояло стать смыслом жизни, не было!
Рок, впрочем, не на ту нарвался. Испытав очередное бурное разочарование, Лиза не сдалась. Необходимо было просто занять активную позицию, перестать ждать милости от коварной жидкости и насильно извлечь из нее это самое удовольствие. Вон всему Китаю удается. А чем Лиза ущербнее? Она заварила еще и начала повторный эксперимент. Вроде стало получаться. Но тут до нее дошло: это удовольствие от самой себя – такая несгибаемая, современная, следящая за здоровьем, зарабатывающая на элитный сорт этих мерзких листьев, ценимых во всем мире… «Елизавета, – строго обратилась она к себе, – просто не делай того, чего не любишь. А если приходится, не ищи там наслаждения. И с озарениями осторожней, ну их».
Лиза быстро вымыта посуду. Никогда раньше она не получала большего удовольствия от завтрака. То есть от его окончания. Крикнув дочери, что отправляется на обязательную утреннюю прогулку, писательница выбежала на улицу так быстро, будто за ней гнались с молотками все соседи по подъезду. Слов нет, многим часто хотелось. Шелковникова ведь не в состоянии была миновать случайно выпавшую из чужого мусорного ведра бумажку. Сразу: уберите, подъезд – тоже наш дом. Молодняку за оставленные на подоконниках пивные бутылки влетало основательнее – тридцатиминутная лекция и посещение родителей. А за чужими хулиганами мат на стенках в лифтах свои добровольно смывали. Ибо, как поведет себя ненормальная писательница при виде рисунка или надписи, не всякий маньяк мог вообразить.
Маша Лизу не слышала. Она думала об Игнате Смирнове. Вернее, теперь о своих подругах. Умрут ведь от зависти. Вслух мечтают об олигархе, но глаза туманятся при упоминании любого молодого актера. Вдруг станет великим и богатым. Ох, мавр, то есть мать сделала свое дело – выслушала – и может идти на все четыре стороны. Маша впервые в жизни так нуждалась в одиночестве. Ее даже заискивающее тиканье мирных настенных часов раздражало. Они всегда так тикают, когда никуда не опаздываешь. Девушка вынесла их в соседнюю комнату, завернула в плед, закрыта подушкой. Она была не из тех, кто попросту вышвырнул бы часы в окно: они могли убить случайного прохожего, и человека было жалко. Предметы – мелочь. Машка воду выключала, когда надраивала зубы пастой, – нехватка же пресной, один раз посмотришь репортаж из Африки, совсем мыться перестанешь, пусть уж пьют вволю, бедолаги. Естественно, душ и ванну она принимала каждый день, но принцип ясен.
Удивительно, но при вечной готовности сорваться с места задолго до выстрела стартового пистолета Лиза Шелковникова не терпела в собственной жизни отсутствия традиций. И в чужих жизнях тоже. То есть терпела, но злилась очень. За ней невозможно было угнаться, но легко застать. В постели, душе, сауне, за чаем, за обедом, на прогулке – ежедневно в одно и то же время. При этом ей было наплевать, на чем спать, каким гелем пользоваться, что есть и по каким районам мотаться.
Машка, к примеру, рано наловчилась договариваться о «секретных» звонках, когда мать точно не могла ничего услышать, и визитах, когда не могла ничего увидеть. Поэтому велела Игнату Смирнову звонить ровно в десять утра. И только услышав в трубке его поставленный баритон, очнулась и поняла, что Лиза ушла дефилировать по окрестностям.
Связанный с едва знакомой, выбранной ему девушкой только вибрациями голосовых связок, молодой артист понял, что они ему очень нравятся на слух. Задорная искренняя девчонка, рада с ним общаться без кокетства и пошлости. Женский какой-то голос. Он такой тембр слышал у хороших актрис, независимо от возраста – будто они тебя по проводу насквозь видят и принимают, какое там, любят всяким. У Елены был похожий. Ох, добилась своего, ведьма. Вот он с девочкой болтает, а думает только о ней. Ему теперь ни на миг не расслабиться. Всегда будет ощущение подвига Елены ради. И все-таки голос Маши завораживал.
– Ты не психиатр? – насторожился Игнат. – Гипноз на расстоянии не практикуешь?
– Да у меня второй курс! Я только что анатомию сдала.
– Удачно?
– Пятерка. Я вообще отличница. Из школы ничего, кроме золотой медали, не вынесла.
– Страшный человек.
Посмеялись. Еще раз договорились о свидании. Трубку первой положила она. Игнат Смирнов не испытал ни сожаления, ни воодушевления. Маша же впала в бесчувственность, как в сугроб с торчащим на пути головы деревом.
Игнат снова размечтался о Елене Калистратовой. Вот выдержит все с этой Машкой, приползет на коленях и спросит: «Леночка, ты меня проверяла? Не нужна мне молодая, высокая, стройная, отличница. Только ты – злая, жестокая, прекрасная, даром отдавшая меня в рабство. Продала бы, я знал бы, что какой-то твой каприз выкупаю. Нет, все не так. Люблю. Хочу. Дождусь. Не пойду завтра с Машей. Но ведь ты расстроишься. Леночка-а-а…» Проревевшись, Игнат Смирнов умылся и отправился на съемку второго своего сериала.
Тем временем в кабинет к Эдуарду Шелковникову входила заказчица. И, случись Елене Калистратовой увидеть его восхищенное и мечтательное лицо, она, вероятно, сама отменила бы встречу Игната с Машей. И все получилось бы иначе. Но чего не видим, того для нас не существует. О чем только слышим, существует лишь наполовину. И так далее.
Лиза Шелковникова упруго двигалась по пересеченной местности. Это было чревато, потому что голова ее редко была занята ориентированием в пространстве. Люди творческих профессий много думают обо всем сразу и ни о чем от избытка свободного времени. Мысля, они функционируют, как станки. И не умеют себя выключать. Это всегда делает кто-то или что-то извне.
На сей раз Лиза рассуждала конкретно. Эдик явно возвращаться собирается. С такой болью вслед смотрел последний раз в кафе, что спина чесалась. Понять можно – обрюзг, устал, мотор нужен. Чтобы не хнычущим голосом спрашивали: «Милый, куда пойдем?» – и во всю ивановскую орали: «Чего разлегся? Встал быстро и… ну, хоть в зоопарк»: он очень любит живность. Плюс к тому Эдуард – хороший отец. Ребенка двухлетнего бросил, но отец хороший. Только как ему втолковать, что девочки, из-за которой он однажды набросился на педиатра, больше нет. Красотка почти двухметрового роста, которая неделю назад себе на кольцо даже мелочь у него из бумажника вытряхнула, – есть. А той нет. Внуков он чует, что ли? Так разве Лиза будет препятствовать контактам? Только поблагодарит. Но ей самой он не нужен… Бац! Это был незамеченный вовремя фонарный столб. Лиза на него не обиделась – столкнулись кстати. Ход размышлений особенно плавно меняет направление при соприкосновении лба с твердым предметом.
И писательница занялась дочерью. Неужели вот так взяла и встретила парня? И никто не знакомил? Чудеса. Сама рано начавшая Лиза уже беспокоилась за свою великовозрастную девственницу. Маша всегда только училась. Так спокойнее, но все ли у нее с ориентацией в порядке? Есть, в конце концов, зов природы, и акселераты нынешние его рано слышат, с какой бы стороны ни звучал. Лиза постоянно намекала Маше на «секс вовремя». На осторожные вопросы матери дочь безмятежно отвечала:
– Просто так трахаться мне некогда. Любви, когда обо всем забываешь, никак не случается. Молодые, которые лезут под юбку, все поголовно нищие. У таких брошенные дети – вместо визитной карточки. Мне это надо?
Лиза успокаивалась. Ничего страшного, просто умница растет. То есть выросла. И ее опять несло:
– Доченька, Машенька, знаешь, в чем твои проблемы? К тебе мужчины боятся приблизиться – смысла не видят. Тело фотомодели, модная одежда и ну такое строгое, такое чисто-наивное личико. Нормальному мужику в голову не взбредет, будто ты можешь быть свободна. Ты уж веди себя как-то пококетливее.
– Мам, ты такую байду даже в романах своих не пишешь. А мне считаешь возможным говорить! – зверела Машка.
– Капельку поигривее. – Лиза обидчивой не была. Сказала дочь, что чего-то такого отрицательного не пишет, – уже комплимент.
– А СПИД и гепатит? Вознесенский сказал, что любовь умерла, когда презерватив стал обязательным для Ромео и Джульетты. Или ты только с Пушкиным соревнуешься, а остальных пиитов для тебя не существует?
Лизе надоели напоминания о том старом пьяном скандале. Начни реагировать – со свету сживет родная же дочь. Поэтому она всегда усмехалась. Машка считала ее веселой и светлой, а у матери подолгу болела ранка на месте содранного с памяти струпа.
– Но необходимо разок замуж сходить и, если не понравится, вернуться. Брак, Машка, – это не штамп в паспорте, а ни с чем не сравнимое состояние души и тела. Как подводное плавание: словами не выразишь, а нырнуть необходимо.
– Зачем?! – уже орала Машка.
Взрывная Лиза хлопала дверью.
Опять же удивительно: греша нудноватостью своих текстов и обладая тяжелой склонностью к повторениям сказанного, Лиза не выносила чужих сказок про белых бычков. Темперамент навязывал действия. Однажды, уловив из слов приятельницы, что в ее лечении время – жизнь, Лиза даже просьбы не выслушала. Задействовав неимоверные связи и оставшись должна кучу денег, перевела ту из хорошей больницы в прекрасную. И лишь через сутки выяснилось: женщина после долгой преамбулы всего лишь собиралась просить содействия, чтобы ее из первой, хорошей больницы на денек домой отпустили – внук родился…
Ширк… На сей раз боком о скамейку. Лиза Шелковникова неприязненно оглядела ее и села, как на пыточный агрегат. Как ни странно, ножи из него не повылезали, и бедняга чуть-чуть расслабилась. «Очень травматично сегодня гуляю. Пойду на бульвар», – решила она.
Глава 3
Я уже писала о чем-то подобном. Не страшно, повторюсь. Недавно заметила, что уже все ела, все носила, везде была, пусть и с помощью телевизора, все делала, обо всем говорила и думала. Так жутко стало: открыла дневник десятилетней давности, а там – те же слова о том же. Значит, нам только кажется, будто мы мыслим иначе. Смена обстоятельств нас морочит. Все одно – с рождения до смерти. Поэтому плевать. Мне ничего от людей не надо было – просто любить, просто дружить. Но они не умеют просто. Им «под это душевное дело» обязательно провернуть еще кучу дел к собственной осязаемой выгоде. Вот тогда они довольны, вот тогда их дружбы и любови полноценны. Взять, к примеру, любовь – самое бескорыстное чувство. И что? Будь любимый ребенком, будь взрослым человеком, он либо предмет гордости, либо раб. Любят только вложенные в него усилия: ночи, которые не доспали, куски, которые не доели, все, от чего ради него отказались, хотя он и не просил, и не требовал. Самая мерзкая корысть лживой жертвенности…
Из дневника Веры Вересковой
– Лиза? Вы ведь Лиза Синявская? – робко спросил за спиной будто очень простуженный женский голос.
Буркнув: «Теперь Шелковникова», Лиза обернулась, вытаращила глаза – элитный мопс обделался бы от зависти – и завопила:
– Скорую! Кто-нибудь, немедленно скорую! Верочка, Верунчик, потерпи чуточку, потерпи капельку, а?
При этом она вскочила и принялась трясти умирающую за плечи, чем действительно создавала угрозу ее жизни.
Женщина явно давно догоняла Лизу, поэтому сильно запыхалась и нуждалась в восстановлении дыхания. Реакция Шелковниковой испугала ее настолько, что едва не прекратила работу легких навсегда. Она вразнобой слабо взмахивала руками, молча широко разевала рот и как-то странно трясла головой.
В таком виде ее быстренько уложили бы на носилки даже на подозревающей всех в симуляции родине. На счастье женщины, Лиза впопыхах забыта дома сотовый. Прохожие же добросовестно шарахались от парочки – у одной были все признаки острого психоза, у другой, вероятно, птичьего гриппа.
Наконец женщина, с такими чудовищными последствиями догнавшая и окликнувшая писательницу, смогла произносить звуки:
– Все хо… Ли… Я поздоро… соби… Давно не виде… Изви…
– И это ты считаешь хорошо? Сдохнуть можно на улице, никто не подойдет! Здравствуй, конечно, Верочка. Сколько лет сколько зим. Но видок у тебя, прости великодушно… В гроб не в гроб, а в стационар точно краше кладут. И долго-долго лечат. Ну, это я тебе устрою легко, не беспокойся.
Создалось впечатление, что незадачливая ее знакомая собралась задать стрекача.
– Куда? – рыкнула Лиза, ухватила ее за ветхий рукав кофточки и швырнула рядом с собой на скамейку. – Я по двадцать пять минут в день кручу педали велотренажера и не курю. От меня не убежишь.
– Да, да, ты прекрасно выглядишь, – жалко сказала несостоявшаяся беглянка.
– Ладно, рассказывай, как тебе удалось приобрести трупный вид.
– Э… Лиза, я собиралась пригласить тебя в гости. Тут близко. Дома и поболтаем.
Писательница беззастенчиво оглядела ее с ног до головы. Туфли стоптанные. Чулки винтом на тощих ногах-палочках. Юбка и блузка из тех, про которые в каком-то старом хорошем фильме сказали: «Неимущие на благотворительной раздаче их не взяли». Однако чистые и отутюженные. Волосы были прикрыты ажурной шапочкой, которые так любят старые дамы, только связанной из мохера. Вид головного убора вызывал содрогание.
– Прическу сегодня не делала, – уныло объяснила Вера. – Так идем?
«Интересно, там три волосины осталось на макушке или пять?» – почему-то сердито подумала Лиза. И согласилась:
– Идем. Только торт покупаю я.
– Лиза, и коньячку бы за встречу. Прости, я сейчас на мели.
– Понимаешь, я почти не пью. Может, вина?
– Я тоже не любительница спиртного. Но несолидно. Столько лет встретиться не доводилось.
И неопытная Лиза послушно стала опохмеляющей. Когда в недрах ее объемистой сумки исчезла бутылка, одноклассница нашла в себе мужество даже улыбаться время от времени. Но беседовать ей было невмоготу.
– Все-таки надо к доктору, – беспокоилась Лиза.
– Дома отлежусь, – шептала бывшая подружка и клятвенно прижимала ко впалой груди нервно дрожавшие руки. – Грипп у меня.
– Ты уж, сделай милость, больше с температурой на улицу не вылезай, – нудила правильная Шелковникова.
– Ой, никогда больше, я сама так напугалась, – обещала Вера, но при этом вид имела задумчивый, словно прикидывала, не ввести ли подобные выходы в привычку.
Они не виделись с выпускного школьного вечера. Говорили, что Вера с лету поступила во ВГИК на актерский. И еще первокурсницей сыграла какую-то роль в кино. А дальше про Верескову Лиза ничего не слышала и нашего кино много-много лет не видела. После, кажется, единственного успеха Веры злые языки зачесались не на шутку. Даже в газетах писали, будто у нее неблагозвучная фамилия, вот она и взяла безвкусный псевдоним Вера Верескова. Но так ее и звали на самом деле.
Пока поднимались на верхний этаж старой кирпичной пятиэтажки, Лиза вдруг вспомнила, что в школе сочетание Вера Верескова считалось девчонками очень красивым. И они приставали к соученице: «Ты при замужестве фамилию будешь менять?» «Разве есть на свете актриса, желающая прославлять чужую фамилию?» – усмехалась Вера.
– Пришли, Лиз. Живу я скромно, не обессудь.
– Нашла в чем виниться, – фыркнула Шелковникова. – Где тут руки моют?
Хозяйка махнула вправо: теснота давала право объясняться жестами. Гостье жест показался то ли неторопливым, то ли досадливым. «Полагает, что планировка старых однушек знакома всем», – все еще ничего не разумела трезвенница Лиза. Но, перебегая по коридорчику в оказавшийся, кстати, чистеньким совмещенный санузел, увидела в зеркало, как одноклассница жадно опрокинула в себя обе полные рюмки коньяку, свою и гостьину, и сноровисто опять их наполнила. «Интересно, будет остатки заваркой разбавлять?» – автоматически загадала Лиза. И наконец, вспомнив шальное отрочество, все поняла.
Взгляд сразу стал натыкаться на закатившийся под шкаф пустой пивной баллон, на притаившуюся за унитазом бутылку с парой глотков водки на дне и на не попавший в мусорное ведро окурок в обертке винной пробки. Лизу занесло к очередной спившейся актрисе, и ей стало муторно. Она знала, что, захмелев, поведает ей Вера Верескова. Как ходила по вымершим коридорам еще недавно многолюдных киностудий, брезгливо отказывалась сниматься в рекламе, пока не перестали звать, как начала пить – сначала чтобы поверить в лучшее, потом чтобы выпасть из реальности на несколько дней. С последним она перестаралась, потому что спьяну послала очень далеко и слишком обидными словами продюсера одной из первых адаптации американского сериала. А он по старой дружбе хотел попробовать ее на главную роль. Ей еще несколько раз предлагали сниматься в «мыле», приглашали в театр, но она сразу начинала отмечать удачу, впадала в лютый запой и в итоге оставалась без ролей. Почти двадцать лет жизни актрисы минули. А теперь, когда снова можно было показываться, пробоваться, Веру забыли. Да и, если честно, ей не мешало подлечиться от алкоголизма, прежде чем пытаться начинать сначала. «Господи, сколько их таких! Сколько наших таких!» – грустно подумала Лиза. Опомнилась и крикнула на подходе к кухне:
– Вер, не вздумай курить, у меня аллергия на табак!
– Ладно, я на балконе буду, – откликнулась Вера чистым сильным голосом. Коньяк подействовал.
Она проскочила мимо Шелковниковой тугим теннисным мячиком с незажженной сигаретой в руке. Лиза вернулась за стол и, поняв, что с коньяком в бутылке Верескова не химичила, решила, что с честным человеком можно хоть недолго поговорить. «Или оставить ей все деньги, какие есть в кошельке, и сбежать прямо сейчас, пока она курит? – подумала гостья. – Нет, не успею». На сей раз у Лизы хватило терпения выслушать Веру, прежде чем начать убеждать ее сдаться наркологу.
Лиза правильно восстановила ход событий. Оказалось еще, что Вера, пережидая безработицу, вышла замуж. То есть, по правде говоря, влюбилась и залетела еще во время первых и единственных своих съемок, так что училась с грудным ребенком, спасибо, родители выручали. Сначала положение рьяной домохозяйки и нежной матери прелестного сыночка ей даже нравилось. Но однажды она с ужасом сообразила, что, любя и мужа и сына, все-таки копит впечатления и ощущения от них для будущих ролей. Вот тогда она и повадилась перед возвращением мужа с работы прикладываться к бутылке. Настроение улучшалось, завтрашний звонок от какого-нибудь режиссера становился очевидным, она была жизнерадостна и стойка – любо-дорого посмотреть на красавицу и послушать умницу. Разумеется, наступил день, когда она перебрала. И тогда ее дорогой с изумлением узнал, что ненавистным домоводством губит ее талант. Что он нищий мерзавец, паршивый отец и вообще все беды в мире – его не туда вставленных рук дело. Несколько раз удалось внушить ему, что на самом деле она так не думает, что это просто эмоциональный срыв невостребованной творческой личности, что все ее злые слова не к нему относятся, а к некоему абстрактному злодею, портившему прекрасную судьбу прекрасной актрисы. Она клялась бросить пить, сделать ремонт и устроиться на работу хоть уборщицей.
Он быстро перестал ей верить. Орал: «Ты бездарность, тебя никто никогда не будет снимать, так что оторви жопу от стула и иди трудись, кормить и одевать больше не буду!» Потом начал ее бить. Впрочем, когда сам уставал от кошмаров ее похмелий, вызывал нарколога на дом. Мальчик, жалевший маму, искренно убежденный в несправедливом отношении к ней людей и отца и, главное, полагавший, что она действительно в состоянии отказаться от алкоголя в любой момент, как только чуть-чуть повезет, удрал из дома лет в пятнадцать. Он был необыкновенно талантливым программистом и, еще не получив по возрасту паспорт, уже получал немалые деньги в конверте. Муж бросил Веру, продал квартиру, купил сыну однокомнатную. Надо ли говорить, что бывшей жене впору было бомжевать. Но мальчик пустил ее жить к себе, хоть и не прописал, а сам снимал нечто более приличное. Сейчас он заочно учился на первом курсе университета, кажется вознамерившись заканчивать за год по два курса, был совладельцем фирмы, в которую устроился почти ребенком. Он платил за жилье матери, раз в неделю завозил продукты. Отец посоветовал ему пресечь любой контакт рук жалкой алкоголички с деньгами, и он было послушался. Но однажды увидел, как Вера просит милостыню в переходе. Представил себе, каково почти в сорок не иметь даже копейки, пожалел и теперь ежемесячно выдавал небольшую сумму.
Лизу уже трясло от жалости и злости на женскую слабость.
– Вер, а ты не пробовала работать не актрисой? Чтобы хоть отвлечься? – спросила она.
– Пробовала. Устроилась в какую-то контору мыть полы. День послушала, о чем они разговаривают, два… Я убожество, конечно, но такая жизнь, как у них, мне даром не нужна. Потом в каком-то офисном центре гардеробщицей месяц продержалась. Но это невыносимо было: все казалось, что люди пришли на спектакль в театр, вот-вот третий звонок, а я… Пыталась несколько раз с собой покончить. Вообрази, дважды после немыслимо большой дозы снотворного просыпалась через сутки, и хоть бы хны. Знаешь, мне противно самоубийство. Столько выстрадать, столько вытерпеть, чтобы так кончить?
– Правильно! – обрадовалась Лиза. – А давай-ка вылечимся. Весь Голливуд знаком с твоей проблемой. Все наши так или иначе перестали доказывать, что могут пить не косея. И многим удалось доказать, что могут совсем не пить. Да водка – ерунда по сравнению с наркотиками. Тебя обязательно будут снимать, какие наши годы. Решайся, выбирай клинику, я заплачу. Так охота сделать что-нибудь доброе.
– Лиза, спасибо тебе огромное. Я тут недавно вышла из штопора и вдруг четко поняла, что от меня скоро и сын откажется – запрет в психушку на веки вечные. И еще испугалась, что стану калекой – не выдерживает здоровье таких экспериментов. Тогда в каком-нибудь интернате окажусь. Понимаешь, сейчас у него семьи нет. Но ведь будет. Кто такой матери не постесняется? Он уже как-то обмолвился: «Ты о внуках говоришь, а разве тебя нормальный человек к своим детям близко подпустит?» В общем, неделю назад он меня навещал, и мы договорились: я отправляюсь в больницу. Устала пить. Это очень тяжело, это пытка. Сама не верю, что когда-то рюмка доставляла мне удовольствие. Извини за то, что я коньяк выпросила. Мне уже завтра в лечебное учреждение месяца на три. Последний раз пью, чтобы грехи не вспоминать, чтобы поспать удалось немножко.
Взгляд был тусклым, голос покаянным, но Вера не плакала. Слезы лила, сама того не замечая, Лиза.
– Ну, твои грехи искуплены похмельным адом, – решительно «гнала позитив» она. – Значит, через три месяца уже можно будет связи с коллегами восстанавливать? Новые заводить? Здорово! Всего девяносто дней. Потом блеснешь в сериале…
– Ой, не надо про это, Лиза. Несколько лет назад на каком-то кинофестивале не нашли, кому бы вручить приз за лучшую женскую роль. Я стояла возле телевизора в этой, как ее, коленно-локтевой позе, билась лбом об пол и вопила: «Вот же я, что угодно сыграю, вот же я!» Но стоило встретить кого-то из знакомых киношников, как меня развозило с первой и единственной рюмки. Я себя не контролировала и столько гадостей людям наговорила.
Теперь и у Веры по бледным щекам текли слезы. Она взяла свою полную рюмку, первую, после двух тайно выпитых, и минуту с тоской на нее смотрела. Вздохнула и опрокинула в перекошенный рот. По лицу было видно, как отвратительны ей вкус и запах коньяка. Но вышибить оптимизм и правдивость из Лизы Шелковниковой можно было только вместе с самим духом. И активная гостья снова зачастила:
– Когда мне повезло с издательством, я думала, что попала в рай. Между прочим, лет десять ждала удачу. Муж так мало зарабатывал, что пришлось обручальные кольца и все мое наследственное золотишко продать. Немного эйфория улеглась, вижу, не рай, в смысле отсутствия свободы творчества. Но все-таки работаю по специальности. Компьютера тогда по нищете нашей не существовало и в мечтах. И писала я на древней электрической машинке. Ленту к ней было уже не достать. Представляешь, печатаю, и перед глазами всегда белый лист. А текст на других листах, проложенных копиркой. Опечатки исправлять, слова заменять – проблема проблем.
– В любом виде творчества свои китайские пытки, – сочувственно пробормотала Вера.
– А как уродовали текст, сокращая! Причем меня в известность не ставили. Я им говорила: «Ладно, изложите главу десятью короткими предложениями. Но хоть грамотно». Ругалась, иногда кое-что отстоять удавалось. А однажды правкой мне вообще обессмыслили роман. Я не выдержала и пошла к издателю. Высказала ему все, оставила диск – примеры – до и после. Он поклялся, что разберется, что больше такого не повторится. Клятвопреступник! Повторялось снова и снова. И как-то у меня в башке заискрило. Взяла маленькую бутылочку минералки, вошла к издателю, плеснула ему на руки и заорала: «Это – кислота! Чтобы помнили, что с людьми надо обращаться по-человечески». Он как заверещит, я сама испугалась. И опомнилась, разумеется. Кричу: «Извините, это вода!», лью себе из горлышка в глотку минералку. Через минуту последний громовой раскат прозвучал: «Вон!»
– А я пьяная и кислотой могла бы, – задумчиво сказала Вера. Истово перекрестилась и зашептала: – Лечиться, немедленно, пока чего-нибудь непоправимого не сделала.
– Ага, потерпи, заканчиваю, – решила дожать прямо-таки гордая вызванной повествованием реакцией Лиза. – Я справедливо полагала, что надо начинать поиски другого издательства. Как мне было стыдно, как мерзко! Издатель месяц ходил с перебинтованными руками и всем жаловался, будто я плеснула в него кислотой. Я божилась, что водой, но от меня шарахались и предлагали телефоны знакомых психиатров. Москва, как известно, городишко маленький. Через неделю стало ясно, что даже в крохотное издательство меня, столь опасную психопатку, не возьмут. Я к нему. Спросила: «Зачем вы так? Я действовала в состоянии аффекта, потому что достали. Вы ведь даже испугаться не успели. И в здравом уме и твердой памяти без профессии оставили». Он: «Кто оставил? Я не разрываю с вами долговременный контракт. И на каждый роман буду подписывать еще отдельный. Но чтобы истерик ваших больше никто не слышал. Как и требований о повышении гонорара». Закабалил, словом. А сейчас мы подружились. Когда остаемся в его кабинете вдвоем, он говорит: «Здорово я предотвратил твой побег к конкурентам?» Так оно и есть: к хлебу и чаю у нас с дочкой кое-что добавилось, только когда я продала пару своих романов сериальщикам. Верочка, и тебя те, кто с тобой одной крови, простят. Сама знаешь, у нас не род занятий, у нас у всех диагнозы.
– Спасибо за все, Лиза, – тихо повторила Вера.
– Перестань, не за что. Давай обменяемся номерами телефонов. В какую клинику ты ложишься?
– Не знаю. Со мной давно никто ничего не обсуждает. Запиши свой номер. У меня нет телефона. Сын отключил. Я спьяну звоню всем подряд – от жилконторы до приемной МВД – и матерюсь страшно. Но в больницу он, может, даст мне сотовый, я обязательно все тебе сообщу.
Лиза выполнила ее просьбу и сообразила, что пора убираться.
– Вер, не стесняйся. Денег оставить?
– Ни в коем случае. Надерусь, еще не примут завтра, сын не простит. Только одна просьба, Лиза. Поклянись, что не будешь про меня писать. Не доверяй меня бумаге, людям, которые никогда меня не поймут.
– Клянусь ничего не писать про тебя, – сказала Лиза. И подумала: «Я про себя напишу».
Она не поняла, что имела в виду. Но, спустившись на улицу, обнаружила вернейший признак того, что действительно готова засесть за книгу, – потребность себя обругать. «Почему мы, люди, таковы? Почему я рассказала Вере о своей нищете, о белом листе перед глазами, о годах неудач? Ну, про кислоту сболтнула бы, и хватит, мол, и у непьющей крыша поедет, если допекут. Есть в этом что-то и от хвастовства, и от «чур, меня», неловко мне после такого. Но всегда одно и то же: человек плачется, меня несет доказать ему, что мне гораздо хуже было, а я выстояла». Она ощутила спокойствие и пошла домой.
Уже вернувшись, приняв душ и сварив себе чашку кофе, Лиза Шелковникова разгадала загадку собственной мысленной фразы: «Я про себя напишу». То, что не было времени и возможности проанализировать у Веры, засело в ней тем не менее крепко. Когда они с Эдуардом поженились, бабушка Лизы съехалась с ее родителями и оставила внучке такую же однокомнатную хрущевку. Они с Машкой и выбрались-то из нее недавно, после того как повезло с экранизацией романов. И у Вересковой Лиза чувствовала себя так, будто вернулась в свою привычную нору. Та же сорокалетняя мебель, те же продавленные и потертые диван и кресла, дешевая сантехника и безвозвратно разошедшийся по швам линолеум. Лиза сколько жила в таких условиях, столько и улучшала их по мере сил: обои регулярно переклеивала, отодрала задние стенки у пары узких шкафов, превратив их в стеллажи и установив поперек комнаты – прикрыла свою и дочкину кровати. И расписала белую люстру акварельными красками, намалевала какие-то цветочки на стене в туалете.
Вера Верескова занималась тем же. Правда, давно, но следы облагораживания нищей среды обитания все еще наличествовали.
И еще она увидела за стеклом серванта этакую табличку для медитации: в центре – красный круг, далее разноцветные окружности. В годы невезухи Лиза сделала себе нечто подобное. Только циркуля у нее не было, поэтому она линейкой квадраты вымеряла. И тоже в центре – красный, а потом ободки – зеленый, желтый, синий и черный. Красный символизировал Лизу со всеми потрохами, зеленый – Машку и все материнские обязанности, желтый – родителей, друзей и связанные с ними заботы, синий – всякие уборки и готовки, черный – все остальное. В любой ситуации Лиза смотрела на свой квадрат, определяла, насколько далеко она от алой сердцевины, и придумывала, как бы поскорее в ней очутиться. Кроме того, если получалось себя усмирить и минут десять пялиться строго в центр, возникало ощущение, что тебе больше ничего не нужно. Лиза решила, что у эгоизма должен быть предел. «Родила дитя, изволь не прятаться от него», – выругала она себя и размыла границу между красным квадратом – собой и зеленым кантом – Машкой. Почему зеленым? Просто дочкин любимый цвет. Так вот, у Веры тоже была размыта граница между красным кругом и оранжевой окантовкой. Тоже был кто-то, с кем она соглашалась себя делить. Вернее всего, сын. Не коньяк же.
Ничего особенного в таких совпадениях не было. Про медитативные таблички обе наверняка читали, но забыли, когда и где. А создать в доме хоть один угол, в котором глаз может отдохнуть от убожества, стараются не только люди искусства. Но увиденное словно давало Лизе право рассказать историю Веры от своего имени. Вот не издавали бы ее книг до сих пор, что бы она делала? Вела рубрику «Женский клуб» в паршивой газетенке? Мыла полы и окна у чужих людей? Представлять, что спилась бы, было неприятно. Фантазерке в голову не пришло, что в серванте стоял обычный детский рисунок. Впрочем, вряд ли это что-нибудь изменило.
Лиза Шелковникова не верила в силу проклятий. Она-то знала, что такое слово и сколь мало оно значит, ибо обслуживает в основном быт. А как о высоком, так все невыразимо. Но в доброе заклятие романом эта странная женщина верила свято. Довести героя под любым именем, лишь бы подразумевался конкретный человек, до реального в его судьбе тупика, найти слабое место в глухой стенке, пробить выход, и все сбудется. Вере Вересковой надлежало познакомиться в клинике с лечащимся там от алкоголизма режиссером. Или продюсером, тоже хороший современный вариант. Три месяца любви в наркологии! Девяносто дней исповедей и неутолимой страсти! А потом – совместное творчество. Слава, деньги – все им двоим, ничего для них не жалко! Лиза была совершенно бескорыстна. К писательнице, которая в больнице встретит наконец издателя, эти пожелания не относились. Ей светили вдохновение и гонорар. Главное, когда приникаешь к компьютеру, не допускать мысли о возможности другого финала. Это очень трудно – Лиза не была сумасшедшей и в реальности ориентировалась свободно. И не думать, что писали об этом миллионы раз. Обо всем уже писали. И будут писать. Надо только, чтобы всех, кто взял в руки книжку, пробрало, заставило желать настрадавшейся паре радости. Ну, не без исключений, конечно. Найдутся злопыхатели, которые сочтут, что герои сами виноваты в своих бедах и получают от автора не по заслугам. А многие на свете по ним получили? А разве сила трех четвертей правильных середняков не в тупости?
С этого момента Лиза находилась в состоянии полнейшей боевой готовности защищать свой очередной женский роман до последнего, из известных ей, матерного слова. Кто бы ни вздумал отпугивать приманиваемую к Верке Вересковой удачу. Она набрала номер издателя – забавная привилегия обращаться напрямую, добытая хулиганством.
Лиза представляла себе, кто сейчас возьмет трубку. Пятидесятилетний невысокий крепыш настолько убедительной славянской внешности, что его карие глаза все считали наследием татаро-монгольского ига. Особенно после того, как Лев Гумилев все всем про это объяснил. О маме-еврейке никто и не догадывался. Он получил юридическое образование, окончил аспирантуру по международному праву, успел защитить кандидатскую диссертацию и с легкой душой занялся издательским бизнесом. Тогда он был наивным запойным книгочеем: знал в совершенстве русский и английский, чуть хуже немецкий и французский, прочитал в оригинале всех великих, знаменитых и известных. И дельцом оказался хорошим – талантливо терял брезгливость. Человек этот понимал все на свете, кроме одного – как люди в двадцать первом веке смеют писать прозу. Но на авторское счастье, жизни на земле без литературы не представлял.
– Слушаю, – плеснуло Лизе в ухо знакомым жидким холодным баритоном.
– Привет. Хочу озвучить замысел. И побыстрее заключить договор, потому что опять колдую для несчастной женщины, надо, чтобы все было серьезно и взаправду.
Лиза взахлеб изложила способ вышибания клина пьянства клином любви.
– Шелковникова, умная, далеко не бездарная, так низко ты еще не падала! – отчаянно воскликнул он. – Сюжет затасканный.
Зачем тебе лохмотья? Напрягись, придумай что-нибудь.
– А если спасение – это любовь писательницы и издателя? Такого, как ты, например?
– Уверь, уверь всех, кто еще не разучился читать, включая мою юную жену, что мы с тобой встретились в наркологической клинике и были любовниками. Цветаевское «В стихах все про себя» публикой воспринимается буквально. Лиза, я все понимаю. Ты сама не пьешь, тебе, вероятно, интересно. Ты со мной не спишь, тебе, возможно, смешно. Но тебе одной, учти. Даже я помню фразу из романа про удачно влюбившуюся алкоголичку вашей прародительницы Саган: «Пить она, конечно, не бросит, но напиваться больше не будет». Так Франсуаза, если верить желтой прессе, хоть доподлинно в теме. А ты? Про лимонад что-нибудь выдай, сделай одолжение.
– Я считаю своей прародительницей не Франсуазу, а Еву, во-первых. Моя героиня откажется от алкоголя совсем и навсегда, во-вторых. И я не возьмусь ни за что другое, пока не напишу это, в-третьих, – сердито заявила Лиза.
– Поклянись напихать туда секса. Как «по ходу содержания» надеремся с тобой до невменяемости, так сразу постельная сцена. Подозреваю, что в любви ты разбираешься лучше, чем в спиртном. И я узнаю, каковы твои эротические фантазии на мой счет.
– Прекрати издеваться.
– И обязательно выспроси у прототипа, как она справляется с похмельем. Тогда в аннотации объявим: «Десять проверенных способов выхода из запоя в домашних условиях. Из ада в рай за сутки!» Это шанс, что небольшой тираж раскупят как пособие.
– Я сажусь работать.
– Боже, за что мне? Я собирался издавать литературные произведения.
– Ага, на недоплаченные авторам любовных романов и детективов средства.
– Да от вас одни убытки!
– Оскорбляешь?
– Прости великодушно.
– Значит, я все еще лучшая из худших?
– Черт с тобой и твоим колдовством. Присылай синопсис, подписывай договор.
– Через пару дней?
– Да хоть сегодня! Доконала, все, я подаюсь в адвокаты.
– Удачи на новом поприще, – буркнула Лиза и положила трубку.
Настроение улучшилось. Она любила добиваться своего.
Глава 4
Я знаю людей и могла бы ими пользоваться. Да только я никому не нужна для дела и, значит, не существую. Причем даже одарить меня шансом, посмотреть на меня внимательно, выслушать никто не удосуживается. Те, с кем я училась и начинала, либо спились, либо убили себя передозировками. Мало кто выдержал двадцать лет невозможности реализовать свой талант. Мало кто выдержал бесконечные дни и ночи готовности работать и зрелище тех, кто почему-то работал вместо них – бездарно, неумело, пошло. Вчера я кричала на продавщицу в магазине: насовала в пакет гнилых помидоров, сука. Вот эта испугалась за свою премию. Любопытно было посмотреть, как она боролась с яростью, с желанием наорать на меня в ответ. Мне потом было так противно. Я измельчала до предела. Человек обязан либо исхитриться и умудриться жить, как он хочет, либо прекратить жить по собственному почину…
Из дневника Веры Вересковой
Игнат Смирнов с Машей Шелковниковой уже дважды были в кино и один раз в театре. Но даже за руки минутку не подержались. Маша не пыталась соблазнять Игната, он был благодарен ей за это, но понимал, что долго такие младенческие отношения не продлятся. Лиза не выдержала детальных отчетов дочери, каждый из которых включал в себя описание фильмов и спектакля, и удрала на дачу писать. Разумеется, они созванивались утром, днем и вечером, но по телефону Машка разговаривала в лаконичном стиле. «Или ей в течение недели потребуется пустая квартира, или они расстанутся», – думала Лиза, оправдывая свой побег. Но, вбив в голову, что романом она помогает Вере Вересковой, писательница вменила себе в обязанность закончить его за три месяца, пока бедная одноклассница будет томиться в наркологической клинике. А символизирующий режиссера издатель должен был возникнуть в ее компьютере уже дней через двадцать. Иначе не успеют влюбиться по-настоящему, там им, наверное, тяжко приходится. Все усилия заговорить чью-то злосчастную судьбу пойдут прахом. И из-за чего? Из-за Лизиной нерасторопности? Нет, это было не про нее. Вот темпераментная сочинительница и разбивала пластмассовые клавиши. Всю свою неутолимую жажду деятельности она вкладывала в силу удара и натирания сенсорного окошечка и угробила не один ноутбук, пока Маша не додумалась подключить клавиатуру и мышь. С тех пор материнское вдохновение стало обходиться им гораздо дешевле.
Игнат же мучительно ждал звонка Елены Калистратовой. Она должна была прекратить этот кошмар. Да, он сам попросил указать, на ком жениться. Но ведь с отчаяния. Ему было тяжело, будто он напихал камни не за пазуху, а в душу. Не получись все так вульгарно, он мог бы безмятежно дружить с Машей – чистая девочка, веселая. Он спать с ней смог бы! Но капризная богиня актера как растаяла тогда в баре, так и пребывала в состоянии невесомости и незримости. «Она специально прячется, – уныло размышлял Игнат. – Знает, если встретимся, я смалодушничаю и попрошу вернуть мне слово, которое ей дал. И попрошу. Разве я мог представить, что она сочтет Машу парой мне?»
В тот вечер он тупо не догадывался, куда бы пригласить навязанную ему волей Елены и собственной дуростью невесту. Маша сама его выручила. Позвала с собой в анатомичку: ее подруга Юля занималась там научной работой и требовала возврата атласа, который Маша позаимствовала у нее еще зимой.
– Зайдем на пять минут. Сессия закончилась, там наверняка одна эта фанатичка и отирается. А потом придумаем, куда двинуть.
От такой экскурсии не в силах отказаться ни один человек моложе тридцати лет, когда нервам еще полезна щекотка. Кроме того, Игнат и в морг потащился бы, лишь бы выиграть часок на размышления о том, на какой бар у него хватит денег. Или вообще томно попросить: «Давай сегодня просто погуляем, надышимся выхлопными газами, после увиденного мне не по себе».
– А меня пустят? – только и поинтересовался он.
– Внизу охранники сидят. Но по моему студенческому вдвоем прорвемся.
– Анатомичка – это трупы в холодильниках?
– Не бойся, трупы в подвале в бассейне с формалином. Под металлической крышкой. К сожалению, лекционный зал наверняка закрыт. Он круглый, с галереей, старинный – чудо. Но Юлька может быть в музее. К кунсткамерам нормально относишься? В смысле к уродцам в банках? К скелетам?
– Н-н-нормально, – промямлил Игнат Смирнов. И с надеждой спросил: – А если не в музее?
– Тогда он тоже закрыт. Лето, восемнадцать ноль-ноль, сам понимаешь. Придется тебе довольствоваться комнатой для занятий. В ней только столы со стульями, на которые рассаживаются студенты, когда опрос, ну, словом, теория. По стенам антикварные шкафы, не беспокойся, с бумагами и книгами. А посередине – металлические столы, ты в кино такие видел. Правда, Юлька вполне может препарировать…
– Что?
– Ладно, если препарирует, подождешь меня в коридоре. Знаешь, у нас в группе на первом практическом занятии только мальчикам становилось плохо. А девчонки все хоть бы скривились. У тебя душа нежная, актерская. Пощадим уж ее. Сознание ведь теряют неожиданно для себя. Не обидишься?
– Нет. Спасибо за заботу. – В голосе Игната мешались радость и недовольство, густые темные брови хмурились, но не слишком выразительный рот улыбался. – Слушай, Маша, а кем наполняют этот бассейн с формалином?
– Бродягами невостребованными. Не поддающимися опознанию изуродованными. Но они долго в формалине плавают, прежде чем на стол попасть. Моя мама когда-то в юности ждала подружку возле анатомички. И увидела открытый грузовик. Из кузова доставали синие обнаженные мертвые тела и вносили в «парадные двери». Представляешь, их тогда даже в пакеты не упаковывали. Она развернулась и убежала.
Маша старалась не дать прорваться на лицо покровительственной улыбке, и от этих стараний ее губы складывались в ехидную ухмылку. Но Игнату было не до девичьей мимики.
– А изуродованные-то трупы вам зачем?
– Мы же внутренние органы изучаем. И еще из них препараты делают – отрезают, скажем, руку. Кстати, такие, как Юлька, к которой мы топаем. Она хирургом хочет стать.
– Понял, понял, – умоляюще сообщил парень, вполне готовый грохнуться в обморок прямо на асфальте.
«Ох, Елена, за что ты меня терзаешь? Внутренности, отрезанные руки, ноги, головы. Да мне теперь стоять рядом с ней боязно», – смело подумал он. А Маша, наивно решившая, что привела Игната в невыразимый восторг, поэтому он и замолчал, мечтательно жмурилась на теряющее яркость солнце. Так и добрались до места с трясущимися поджилками – у него от страха, у нее от счастья.
Двое немолодых мужчин курили на крыльце возле распахнутой двери круглой старой анатомички, которая так приятно смотрелась в окружении мощных стволов и необозримых крон давным-давно живущих возле нее деревьев.
– Нас там Юля Титова ждет, отдадим ей книгу и сразу назад, – сказала Маша, демонстрируя одновременно атлас и студенческий билет.
– Там никакой Юли нет. И не было. Лаборантки ушли в четыре. С час назад принесло Надеину. Только что к ней студент поднялся. Но она просила не мешать.
– Юлька хоть бы позвонила, сказала, что все отменяется, – проворчала Маша. Но не сдалась: – Тогда мы атлас оставим Ирине Алексеевне, она Юле передаст. Пока они там со студентом здороваются, мы уже исчезнем.
Один из охранников равнодушно махнул рукой. Молодые люди поспешно нырнули в небольшой холл. Справа была низкая арка с толстенными стенами. «Наверное, там трупы и хранят, пока не искромсают», – решил Игнат. Слева еле примостился стол, на котором не было мониторов – сторожили объект по старинке. Прямо по ходу начиналась лестница наверх. Ступени были устланы линолеумом, но отполированные тысячами ладоней широкие перила покоились на великолепных резных деревянных столбиках. «Жалко, что лекционный зал заперт, – вдруг подумал гость. – Аура тут какая-то точно есть». Они уже поднялись на лестничный пролет и оказались на площадке.
– Подожди, Маша. Ты правда гипнозом не владеешь? Как убедительно у тебя вышло: показала один билет, упорно говорила «мы» вместо «я». И они на меня даже не взглянули, – сказал Игнат, останавливаясь.
Более опытного человека вряд ли удивило бы, что разглядывание в упор высокой стройной девушки с серыми глазами и пышными русыми волосами стареющим мужикам доставило удовольствие, несравнимое с видом документов Игната. Но у Маши опыта было еще меньше, чем у спутника. И она серьезно, почему-то тоже шепотом ответила:
– Мама называет это даром убеждения, она романы пишет. Моя бабушка заговаривала боль. А у меня, когда еще талонами пользовались и их все кому не лень проверяли, был один старый, потрепанный, кажется, трамвайный. Я в любом виде транспорта протягивала его контролеру, смотрела в глаза и уходила. Ни разу не задержали. Пойдем.
«Тогда не смотри ей в глаза», – предупредил сам себя здравомыслящий и современный актер Смирнов. Вероятно, та самая аура места слишком сильно на него действовала.
Они одолели еще пролет. С очередной круглой лестничной площадки просматривался описанный Машей зал, в котором теорию проверяли практикой со скальпелем в руке. Полному обзору мешали две большие колонны по бокам входа. Тут Маша неожиданно метнулась за ту, из-за которой был виден дальний конец помещения, и прижалась к ней, зажав правой рукой рот себе, а левой Игнату. Парня очень выручила привычка к импровизациям партнерш. Особенно на пробах, когда и ты и она случайно услышали в коридоре треп чьих-то ассистенток: «И чего опять нагнали людей, которые совсем не подходят? Нужны блондин и брюнетка лет сорока, а тут брюнет и блондинка вдвое моложе». Вот тогда пара неподходящей масти и позволяла себе хулиганить перед камерой. Взять не возьмут, так хоть оторваться, раз уж явились, можно. Поэтому он не удивился, когда девушка распечатала им обоим губы, присела и потянула его за рукав, дескать, спрячься. Игнат не оказывал сопротивления женщинам и в более забавных ситуациях. Тут они очутились в положении глаза в глаза. В Машиных не стоял, а бешено метался ужас. Психика Игната вытворила нечто несусветное. Прежде всего – самозащита: Маша вдруг отдалилась и уменьшилась, будто он перевернул бинокль. Затем актер испытал потребность встать во весь рост, войти и набить рожу тому, кто так ее напугал. Возможно, даже не за испуг, а за то, что заставил Игната все-таки встретиться с ней взглядом. «Опомнись, ты же не контролер, штрафующий «зайцев». Да и вряд ли она тебя видела, когда смотрела», – наскоро утешил себя Игнат. И осторожно слегка высунулся. Маша тоже.
На крайнем металлическом столе лежала голая женщина. Игнат не мог рассмотреть лицо, но по седым космам догадался, что это старуха. Над ней склонился высокий худой парень с озадаченным, испуганным, но и завороженным видом. На груди женщины почему-то был плеер. Студент схватил его, нажал кнопку и, когда раздался хрипловатый, спокойный, уверенный голос, выронил прямо на некрасивый, обвисающий по бокам лишней кожей живот. Когда-то под ней явно помещалось килограммов двадцать жира. Тело женщины не отреагировало. Игнат не успел поразиться, потому что дошедшие до него в этот миг слова записи неприятно боднули уши, будто при чистке их он слишком сильно надавил на обмотанную ватой палочку.
«Милый, любимый, остальные были так давно, что, кажется, единственный мой мальчик. Я умерла несколько минут назад. Я все рассчитала, трупное окоченение тебе не помешает. У тебя есть выбор – проникнуть горячим набрякшим членом в свою Иришу еще раз или звать охранников. Мой труп – царский тебе подарок. Ты уже догадался, что некрофил? А я сразу это поняла. Потому что страсть твоя ко мне была неподдельной. Как ты гладил мои всегда холодные ноги… Как возбуждался, когда я лежала неподвижно и молча… И я старательно изображала мертвую любовницу, пока ты не стал с вожделением поглядывать на сокурсниц. Неприятностей у тебя не будет: скажешь, что потратил десять минут, массируя мне сердце. На столе моя предсмертная записка. В моей смерти я прошу винить лишь мою жизнь. Не будь в ней напоследок близости с тобой, я все равно сделала бы как сейчас. Никого не удивит мой обнаженный труп – меня все считали экстравагантной, странной, ненормальной. Мне так хотелось устроить переполох на кафедре. И я его устроила. Представляю себе, как они будут заминать этот скандал. Но нельзя терять время, ты уже плавишься в желании, ты начинаешь отдавать себе отчет в том, кто ты. Тебе необходимо лечиться. Срочно. Пусть мой труп будет твоим первым и последним настоящим удовлетворением. Иначе судьба твоя предрешена. Сперва ты устроишься санитаром в больничный морг. Затем тебе захочется овладевать теми, кто нравится. Но чтобы получить настоящее удовольствие, тебе придется их убивать. Вообще-то я собиралась отравить и себя и тебя. Но пожалела. У тебя еще есть шанс. Если попадется хороший психиатр, ты будешь спать с очень усталыми, с фригидными, с напившимися до беспамятства бабами. Постарайся выжить, любимый. Прощай. Или здравствуй. Беги от меня, от себя или снимай, наконец, штаны…»
Бреду кандидата медицинских наук Ирины Алексеевны Надеиной невольные слушатели внимали стоя на коленях и уткнувшись лбами в колонну. Когда наступила тишина, Маша и Игнат пару секунд ждали, что сейчас мимо них с воплями промчится студент, которому самоубийца предрекла столь жуткую участь. Обоим хотелось, чтобы он не забыт плеер. Но топота не раздалось. И они робко выглянули в зал. Парень самозабвенно расстегивал молнию на брюках, с ремнем он уже справился. И тогда ребята, не сговариваясь, поползли на коленках, задами вперед, к ступеням лестницы. Там вскочили и помчались вниз.
Охранники на их горящие физиономии не отреагировали.
– Там происходит надругательство над трупом! – на бегу выпалила Маша.
Они с Игнатом неслись по пустой аллее, внизу живота у них творилось нечто неописуемое. «Я тоже извращенец», – пульсировало в висках актера. «Все мы извращенцы», – как-то отрешенно думала Маша.
Когда Игнат заполошными взмахами обеих рук остановил машину, Маша выдавила из себя:
– Мама на даче.
– К тебе, – тоже еле ворочая языком, сказал Игнат.
Они были так возбуждены, что не заметили дороги. Не помнили, как попали в квартиру, как разделись и что делали после. Кажется, носились друг за другом голые, стараясь догнать и укусить, и сильно шумели. Проснулись часа через два. У Маши было ощущение стыдобы. У Игната – новизны. Он заметил на простыне маленькое кровавое пятнышко. Да, испортил первую в своей жизни девственницу в состоянии полной невменяемости. И Игнат Смирнов произнес совершенно автоматически:
– Маша, нас сблизили необычные обстоятельства, но это нормально. Выходи за меня замуж. Я на тебе женюсь.
– Как подобает порядочному человеку или по любви? – быстро спросила незаметно для себя потерявшая невинность девушка.
В ответ Игнат выдал такое, от чего сам обалдел:
– Порядочный человек ни при каких обстоятельствах не окажется в одной постели с той, которую не любит.
Еще большее потрясение он испытал, когда в нем обнаружилась вставшая дыбом потребность немедленно разрядиться. Невеста едва успела сказать ему, что с удовольствием станет его женой. Угомонились ребята лишь к полуночи. Оба умирали от голода и быстро справились с запасом провианта, оставленного Лизой дочери на неделю. Ну а после теперь уже легкого развлечения – намыливания друг друга в душе их разобрала охота поболтать.
– Почему мы так остро друг друга захотели? – спросил Игнат. – Я понимаю, когда после чьих-то похорон люди трахаются: доказывают себе, что сами еще живы. А тут… Я думал, что тоже извращенец.
– Мне кажется, мы как раз поспешили доказать себе, что нормальные.
Маша уже собралась честно добавить, что и она усомнилась в собственной нормальности, когда ползла по площадке и чувствовала непреодолимое желание плотно-плотно сжать бедра и завыть. Но почему-то промолчала.
– Маш, а что мы, собственно, видели и слышали? Эта старая карга соблазнила мальчонку. Наверное, у него не было другой возможности получить на экзамене четверку и не вылететь из института. Потом решила, что он некрофил…
– Игнат, если бы ты ее знал! Она решила, потому что так оно и есть. Экстравагантная – это слабая характеристика. Сумасшедшая – неточная. Ироничная, резкая, злая, пожалуй. Обожала нас смущать. Когда проходили половые органы, за препаратами мужских отправляла в подвал девочек, за препаратами женских – мальчиков. «Поднимите руки, кто этого добра никогда не видел. Тех и пошлю, хоть рассмотрите по дороге хорошенько». Она была многообещающим хирургом. И, представляешь, первый же ее больной после операции умер. Она себя и осудила: «Иди режь мертвецов, а к живым больше со скальпелем не приближайся».
– Сурова была.
– Не только к себе. Двойки ставила, на зачетах валила. Зато экзамены все ее группы хорошо сдавали. Поиздеваться могла. У нас парнишка есть деревенский. Как-то сказал: «Надо в магазине яичек купить». Она услышала и при всех: «Яички у тебя между ног висят. А куры несут яйца». Он побагровел от смущения. Ту же Юльку обидела: «Посмотрите на Титову, у нее лицо долго не постареет – жира в щеках много. А у Ивановой мордочка постная, в тридцать лет будет в морщинах». Я от нее впервые услышала, как мать обзывают. Нам, чужим людям, рассказывала: «Я своей мамаше, идиотке, говорила: «Разрабатывай кисть после перелома». Кольцо резиновое купила. Но ей лень было. Так калекой уже двадцать лет и требует у меня ухода и жалости. А за что жалеть?» Причем это она не просто так, а по теме занятия, когда объясняла что-то про кости. И, веришь, все, проиллюстрированное ее гадостями, запоминалось очень крепко.
– Верю.
– Ей было далеко за шестьдесят. Она мечтала о пенсии. Но работать на кафедре совсем некому, ее каждый год уговаривали остаться. Она нам жаловалась, что без любви в старости жизнь теряет смысл. Не скрывала, что ей еще нужен мужчина. А сама черт знает как одетая, седая, лохматая, в дырявых шлепанцах. Мы хихикали. И вот как-то пришла Ирина Алексеевна на занятие в черном платье, туфлях на шпильке, с ниткой приличного жемчуга на шее, с завитыми волосами, подкрашенная. Мы офонарели. Она действительно имела право претендовать на мужское внимание. Как выяснилось, уже на внимание некрофила.
Игнат немного помялся, но не сдержался и выпалил:
– Ты ему не сочувствуешь? Он больной. А ты на него охрану натравила. Пусть бы сделал свое дело и сам мужиков позвал.
– Между прочим, на первом курсе он был поразительным скромником. Мы думали, голубой. Потом, насколько я поняла, начал спать с Надеиной. И в этом семестре уже вовсю приставал к маленьким тоненьким блондинкам. Юльку чуть не изнасиловал. Ирина Алексеевна не ошиблась – он пытался напоить девчонку. Но не учел, что Юльке для потери сопротивления нужно бутылку водки принять, а не бутылку шампанского. Поэтому я ему не сочувствую, нет.
У Игната появилось ощущение, будто его взялись переводить через дорогу и неожиданно толкнули под автобус. Или протянули букет свежих цветов и вдруг хлестнули им по физиономии. Машино «нет» прозвучало жестко, слегка насмешливо, совсем как Еленино. Он впервые с момента знакомства с Еленой Калистратовой забыл о ней. И надолго. Парень растерялся. «Я же сделал Маше предложение. Я действительно обязан теперь на ней жениться», – смятенно подумал он. И в очередной раз за этот вечер сам себя не узнал, поцеловав невесту в губы долгим поцелуем. Но ему уже хотелось быть одному – в голове возник хаос. Из него можно было создать что угодно, но Игнат Смирнов был не в силах оценить редкую возможность.
– Ласточка, я пойду.
– Ты не останешься? Сегодня? – непритворно расстроилась Маша.
– Мама всегда ждет меня до двух ночи. Врать ей сейчас по телефону я не в состоянии. Именно сегодня не хочется врать. А завтра в семь утра у меня съемка. Машина придет по моему адресу, сам отсюда я не доберусь. Но я тебе позвоню. Нам надо заявление в ЗАГС подавать.
«Что я несу? – подумал Игнат. – Я перестал себя контролировать. И все время смотрю ей в глаза, прямо-таки тянет. Теперь она уже не отпустит. Мне надо домой».
– Ступай, что ж поделаешь. Еще две недели назад мы о существовании друг друга представления не имели, и ничего.
– Две недели, всего две недели, – бормотал Игнат, одеваясь и обуваясь.
На прощание Маша поцеловала его сама. И эта неуклюжая инициатива растрогала Игната до слез. Правда, нервы сдали, и он всплакнул в лифте. А Маша час плакала, и скатывающиеся со щек капли казались ей сладкими. Она взялась за телефон, чтобы поделиться новостями с матерью, но поняла, что впервые не сможет выразить свои мысли. «Уже не девушка» плюхнулась на кровать и мгновенно заснула. Добравшийся до своей тахты «порядочный человек» тоже сразу нырнул в забытье, хотя собирался до рассвета мысленно виниться перед Еленой Калистратовой за столь скорую измену.
Глава 5
Удача всегда приходит с корзинкой и собирает людей, как яблоки. Маленькие, большие, червивые – потом рассортирует. Но в корзине у нее оказываются все. Кроме тех, что, созрев совершенно, упали на землю. Эти даже без червоточин вынуждены валяться и гнить с того боку, которым больно ударились о твердь. Почему так? И как мне обидно: пролетела мимо удачи, когда она уже приставила лестницу и влезла на верхнюю перекладину…
Из дневника Веры Вересковой
Утром, едва проснувшись, Маша позвонила матери. И все ей рассказала.
– Как говаривала еще моя прабабушка: «Господи, родилась, крестилась, а такого не слышала», – сказала Лиза. – Экзотика. Но тебе сам процесс нравится, дочка? Хотя что там в первый раз может понравиться. В любом случае поздравляю. Отныне без секса ты жить не сможешь. Бывает же! Несколько свиданий, и бегом под венец. Подруги позеленеют от зависти. Бойфренды у них у всех есть, но замуж не зовут. И вдруг единственная Маша, поглядев на которую они считали свое положение не просто сносным, но завидным, невеста. Молодец!
– Мама, ну почему ты всегда все опошлишь, – упрекнула дочь. Она уже забыта, что сама первым делом подумала о реакции девчонок. Но ее мысли собственного самолюбия не царапали. – Какая зависть? Именно за меня все особенно порадуются. Они беспокоились из-за моей неприкаянности.
– Извини, есть пошлость, а есть жизненный опыт. Но готова согласиться, грань между ними подвижная и каждый сам ее устанавливает. И оратор и слушатель.
– Оратор, а оратор, зачем ты скрывала от меня, что подруги моим одиночеством утешаются? – тихо спросила Маша.
– Да мне это только сейчас в голову пришло, – напустила на себя беззаботность Лиза Шелковникова, сообразив, что испортила дочери настроение. – Прости, я иногда свою радость за тебя выражаю человеконенавистнически. Но это только слова.
– Конечно. Всем моим подругам ты сделала много добра, – натужно вспомнила Маша. – Ты денно и нощно радеешь за людей. Но иногда, мам, из тебя такие гадости о них лезут.
– Чем больше радею, тем больше узнаю, – недовольно пояснила Лиза.
– Ладно, забыли. Ты домой-то собираешься? – поинтересовалась Маша.
– Денька через два, три, четыре, как позовешь, – ответила Лиза.
– Ой, перестань, – смущенно хихикнула Маша. – Просто я хочу тебя с Игнатом познакомить.
– Сегодня?
– Ну, сегодня… Вдруг он за ночь передумал… Я позвоню. Хорошо? Не обидишься?
– Разумеется, не обижусь, родная, – стоически вздохнула Лиза. – И терзать тебя по телефону вопросами «Появился? Дал знать о себе?» не буду. Если все-таки не объявится, звони даже ночью. Сразу примчусь. Будем вместе реветь. Но мне почему-то кажется, что он уже набирает твой номер. Как-то глупо у вас все. По поговорке «Настолько глупо, что может и сойти». Благослови тебя Бог.
– Спасибо, – выдохнула Маша и, представив себе, как любимый Игнат Смирнов с кислым видом слушает операторское «Абонент занят», немедленно простилась.
Лиза села в кресло и всплакнула. Этакий короткий слепой летний дождь, когда и вода с неба без туч, и солнце, и радость с удивлением пополам.
– Вот и выросла доченька, вот я и ни к чему, разве что с детьми возиться, – бормотала она. – Столько торопила этот момент, а, оказывается, больно немножко. За годы, пока мы с ней вдвоем жили, все устоялось. И вдруг будто ремонт и переезд разом.
Обострившимся вдруг, как в Машкином детстве, до инстинкта материнским чутьем Лиза Шелковникова понимала, что никуда молодой актер не денется, что подадут они заявление в ЗАГС не сегодня, так завтра. С Машкой все ясно. Но к чему это Игнату? Неделю за руку взять девочку не хотел. Потом возбудился в анатомичке… Подобное человеку и с сочинительским воображением еще переварить нужно. Заставь Лизу сцену в роман вставить, она за полной неправдоподобностью отказалась бы. Но ее Машка врать не станет – принцип. Кстати, с такими, как она, всякая нелепица и случается. Они честно все рассказывают, а им никто не верит. Ладно, пока факт остается фактом – возбудились, переспали. Он сразу не пожалел для девушки руки и сердца. Наверняка больше предложить нечего, самое дорогое собрался отдать. Сгоряча? Молодой, современный, развращенный профессией парень? И тут что-то звериное в ней проснулось. Защитить Машку. Хотя бы взглянуть на этого уникального любовника. В формулу «Он должен жениться, как порядочный человек» Лиза не верила. На ее памяти чаще женились непорядочные.
Она было вскочила, но плюхнулась назад в кресло и подумала: «Дай-ка им еще пару дней, мамаша-воительница. Необходимо выяснить, сможет ли он что-нибудь, не полюбовавшись на труп голой старухи. А Машке секс только на пользу пойдет. Будет знать, зачем нужны мужчины». Тут Лизу сразили горечь и ужас. Она вспомнила дочкины возражения на призыв найти себе сексуального партнера: «Мама, чему ты меня учишь? А ВИЧ? А гепатит?» И вот умная студентка Медицинской академии валится в койку с первым встречным, который даже презервативами не запасся. И что теперь несчастной матери делать? Позвонить Машке и велеть без резинок не подпускать к себе жениха? Поздно. Больше она дочери не указ, у нее Игнат есть. Самой встать в дверях и заявить, что без справки от врача он к невесте не приблизится? Машка вместе с ним уйдет. И еще этот вечный штамп, будто все самое грязное происходит с самыми чистыми, самыми доверчивыми, в основном отличницами. Чушь. Со всеми может случиться. Но почему-то Лизе сейчас было только до чистой и доверчивой отличницы Машки.
От переживаний по поводу своей ненужности дочери Лиза совсем обессилела. Но все же вымучила спасительную мысль. Ведь чувствовало сердце, что надо освободить квартиру? Чувствовало. Теперь влюбленная дочка счастлива. Теперь она невеста. А не было бы дивана, где они с Игнатом предались страсти? Разбежались бы и возненавидели друг друга за то, что не удалось скрыть признаки запредельного возбуждения от мерзости. «Все наоборот, я в колдовской форме, я предвосхищаю события. Нельзя сейчас оставлять Веру», – шептала Лиза Шелковникова, трепетной рукой включая ноутбук.
Игнат Смирнов не лгал Маше. Из графика творческие личности, снимавшие сериал, выбились бесповоротно, но все еще тщились нагнать упущенное, трудясь сверхурочно. Так что к половине седьмого утра невыспавшегося актера с тремя так же открыто зевавшими типами, которым не повезло жить на одних с ним задворках мегаполиса, доставили к рабочему месту.
На съемочной площадке уже вовсю носилась жизнь. В основном на цыпочках в виде толпы всяческих ассистентов, шустрой «хлопушки» и костюмеров. Они загоняли поочередно во все углы толстую рыжую гримершу и хором шипели на нее:
– Иди к нему и извиняйся.
– Так он на ключ закрылся, не пускает, – плаксиво отбивалась жертва атак.
– Скребись, стучись, кайся, отвирайся, но загримируй за пятнадцать минут, – грозно требовали люди.
Игнат остановился возле «хлопушки» – славной девчонки, гордой своей миссией до приступов заносчивости, и поинтересовался:
– Что опять случилось ни свет ни заря?
И неожиданно почувствовал, как в ровно гудевшей от недосыпа голове редкими цветными пузырьками вскипело веселье. По сравнению с пережитым вчера на четвереньках в анатомичке здешние страсти показались ему такой ерундой.
Отвлекшись от охоты на гримершу, несколько человек наперебой объяснили, что, если эта дурында не вымолит прощения у исполнителя главной роли, через час группе придется отправляться по домам на метро. А потом неизвестно, всех разгонят и проведут новый кастинг или кого-нибудь оставят. Одно точно – денег не заплатят.
Незадачливая девица слишком громко сказала второй гримерше, что, по всеобщему мнению, сериал обречен на провал. Потому что «главный герой тянет в лучшем случае на роль своего положительного друга, который всех утешает».
– Разве он соблазнитель? Размазня, вот кто, – констатировала специалистка.
Если честно, она действительно повторила слова большинства, за что теперь это большинство ее и шпыняло.
Услышав про себя такое, нервный старшекурсник актерского факультета рванулся в гримерку, заперся там и на стук реагировал выкриками, вроде:
– Я ухожу немедленно! Я буду учиться как проклятый! И пока не получу диплом, шагу перед камерой не ступлю! Я честно прошел кастинг! Я не хочу быть виновником провала! Я не позволю себе испортить труд сотни хороших талантливых людей, которые соответствуют своим ролям и должностям! В отличие от меня соответствуют!
– Ну, миленький наш, ну, хорошенький, – отчаянно нудила в замочную скважину гримерша, – вы же тут самый-самый одаренный. На вас все держится. Все вас любят. Я про другого артиста говорила.
– Про кого?! – возопил затворник. – С кем ты теперь намерена меня лбами столкнуть?
Рыжая беспомощно оглянулась на группу поддержки, дескать, кандидатуру, быстро. Но тут дверь распахнулась, и все бросились врассыпную. Жалкая заплаканная толстушка обреченно пошла «врать дальше».
Тем временем в декорациях разворачивалась своя трагикомедия. Явно перебравший с вечера режиссер швырнул себя на стул полупустым мешком, нашел точку равновесия и, сжав виски тяжелыми волосатыми кулаками, тупо смотрел на одетую, загримированную исполнительницу главной роли. Актриса изображала одинокие любовные муки, камера работала. Вдруг режиссер поднялся и нетвердо куда-то побрел. Через несколько минут он приплелся назад, вперил в происходившее перед ним яростно-безумный взгляд и рявкнул:
– Отставить крупный план! Девушка у нас лицом не богата. Снимайте его как приложение к бюсту. Вырез ей поглубже сделайте.
Актриса вмиг заголосила и убежала. Режиссер торжествующе захохотал. Народ принялся откачивать ее и нашептывать: «Да он пьян в стельку, ничего не всасывает, он тебя вообще за Янку принял». Яна, игравшая ее сестру, кружила рядом и чутко прислушивалась. Назревал очередной скандал.
– Игнат, я смотрю, у тебя тоже кураж, – тихо обратилась к партнеру по второплановости невысокая тоненькая актриса средних лет.
– Есть немного, завелся от смеха, – признался тот.
– А ведь нам с тобой выпал шанс. Давай не вытаскивать главных в главные, как обычно. Они сегодня трупы. Дернем одеяло на себя вместе. Зритель не поймет, так хоть профессионалы оценят.
И они блеснули.
– Спасибо всем, – прорычал очухавшийся немного режиссер. – Вечером переснимем. Черт с ним, с графиком и бюджетом. Хотят искусства – раскошелятся.
На выходе из павильона партнерша возмущенно бубнила на ухо Игнату:
– Гад. Получается, мы с тобой зря кувыркались. Они к вечеру взбодрятся и будут доказывать, что на них, гениальных, напрасно бочку катили. А мы уже не успеем восстановиться.
– Не успеем, – согласился Игнат. – Был такой фильм – «Федора». Видела? Нет? Не важно, он старый. Там в Голливуде режиссер снимал сцену бала с двумя звездами. И орал на массовку в том духе, что они с трудом заполучили два очень дорогих им лица. Поэтому если хоть одна рожа хоть на миг осмелится их заслонить… Я, когда смотрел, думал: «В каком смысле «дорогих»?»
– Да, мы такие наивные были. Устала я, Игнаша. Мне сейчас в театр на репетицию, вечером спектакль, ночью съемка. Пересъемка из-за всех этих козлов. А дома ребенок сутками один – соседка кормит. Не подбадривай, это я так.
Игнат ласково погладил ее по руке. И снова вспомнил извращенца со спущенными штанами над трупом любимой старухи. Ему вдруг стало любопытно: а Елена позволила бы студенту получить удовольствие и узнать свое нездоровое естество? Или, подобно Маше, натравила бы охранников в самом начале? И понял, что про Елену ему ничего точно не известно. А Маша права – останавливать надо резко, сразу. Иначе потом вообще не догонишь.
Тут ноги сами понесли Игната Смирнова к оправданной им Маше Шелковниковой. Пока несли до выхода, все актрисы с их одинаковыми проблемами казались в сравнении с жесткой решительной девушкой пресными. Даже отношения с Еленой Калистратовой представились вдруг какими-то затхлыми.
– На воздух хочу, – четко сказал актер.
– Все хотят вон из преисподней, – согласился кто-то, обгоняя.
«Да тут Небо, – мысленно возразил парень, – тут отвлечение от разрывающей на куски тоски по Елене. От новых обязательств перед Машей. Единственное место, где я лично свободен».
Тогда дисплей его мобильника и высветил имя богини. Она засмеяла бы Игната, навсегда покинула, увидев рядом с собственным номером – «Ленок». Но ее никогда не занимал его сотовый. Раздался неповторимый, кажется, уже забытый голос:
– Привет. Я не сомневаюсь в своем выборе. Но, женская слабость, мне интересно, кем оказалась избранница. Увидимся сегодня?
У Игната сдавило горло. Он словно рефлекторно пытался удержать в себе буквы, но против его желания, против всего на этом и на том свете из гортани выдавилось:
– Нет.
– Аврал на съемках, ясно. Нет так нет.
О, она умела с ним обращаться. «Нет так нет», и сердце начинает протискиваться в горло, и пот едко орошает виски. Но Игнат еще стоял возле студии, на границе воли. Он еще был актером Смирновым. И все ненужное сериалам вдохновение ударило в молодую влюбленную башку. Она сама позвонила (будто не существовало ее запрета на его звонки ей). Но поздно, он уже должен жениться на девушке, лишенной им чести. Знакомый сценарий. В каком они веке? Где камера, как встать?
– Так когда, мальчик? – В тоне повелительницы заскрежетал металл.
Слышала бы она вчера Машу, насылавшую позор и кошмар ментовок и психушек на голову сокурсника. И если бы только на голову.
– Завтра, родственная душа. Я позвоню и назначу время. – Игнат пребывал в образе гордого мужчины, осатаневшего от бессмысленной страсти.
– Я позвоню сама ближе к полудню. Ты не в себе. Опоминайся.
Игнат бесстыдно встряхнулся всем телом, как щенок, которому, когда ходит, одной лапы недостает, а когда сидит, одна лишняя. Пустота внутри не поколебалась. «Ничто – это все, но в виде элементарных частиц», – доходчиво объяснило ему сознание. Он истерически хихикнул.
– Игнат, ты в порядке? – хлопнула его по плечу неправдоподобно длинная рука некоей мужской фигуры.
Смирнов пустился бежать к метро. И поехал к Маше. На автопилоте.
Он даже не попытался целовать невесту. Только ответил на ее первый вопрос:
– Спасибо, есть не хочу. Играть не дают, зато кормят на убой. Можно поспать?
– Нужно, – резанула Маша, не попытавшись лизать его в ухо, отрывать пуговицы с рубашки или теребить ширинку.
– До свидания, – шепнул Игнат.
– Спокойного дня, – пожелала невеста без места, зато с надеждой на его обретение, раз уж мужик после работы – сразу домой.
Игнат пробудился ровно в три. Рядом посапывала голая Маша. Ноги, живот, грудь, рот… Подарок Елены, не знающий себе цены? Да. Слепок характера дарительницы? Пожалуй. Но в отличие от оригинала любит его. А он тоже вымотался: попробуй нелюбимым сниматься в дешевке. Потом каждый из них сам по себе отметил, что и мысли об анатомичке не возникло. Никаких мыслей по ходу не было. Через два часа Игнат просто сказал:
– Собирайся, идем подавать заявление. А то с этой неразберихой на съемках неизвестно, когда я вырвусь.
Так быстро и бесшумно Маша никогда не одевалась.
И Лиза еще не слышала от дочери такого восторженного ора, хотя той случалось побеждать. Да, Игнат Смирнов – это вам не золотая школьная медаль и не фамилия в списках поступивших в Медицинскую академию. Без связей и взяток, между прочим.
– Ясно. Поздравляю. Выезжаю. Если реветь не надо, то станцуем вместе от радости, – грустно сказала она. О том, что Игнат притащился вместе с ней, Маша сообщить запамятовала.
А обескураженная развитием событий писательница уже готовилась к неведомым боям. И первый, как водится с собой, приняла на автозаправочной станции при въезде в город. Там, выйдя из машины, Лиза увидела Эдуарда. «Череда совпадений все длится, – подумала колдунья-дилетантка. – У него отцовское чутье, его выносит на меня именно в тот момент, когда у дочери такие новости». Над тем, почему не на саму дочь выносит, а на мать, на бывшую жену, она вволю поразмышляла позже. И заклеймила себя словом «эгоцентристка». А тогда рванулась было к Шелковникову, растроганная, счастливая от благосклонности удачи. Но из его машины выбралась хорошенькая блондинка и защебетала что-то про беседку в китайском стиле.
– Ну, дорогая моя, почему именно в китайском? Ты вспомни свои растения, они же ни в коей мере не…
– А если это мой каприз? – шаловливо взъерошив ему волосы, перебила она.
Лизе пришлось останавливать себя в полете, чтобы не наброситься на них и не поставить стареющему ловеласу на вид, что раньше он был благороднее. Дожил! Желание застолбить заказ для него уже идентично желанию ублажать клиентку в койке. А та, стерва, обручальное кольцо снять поленилась. Интересно, он интимные услуги в счет включает? Или они – бонус? Гадость какая. В сердцах она даже заправляться не стала, решила дотянуть до следующей станции. Эдуард весело помахал ей рукой. Получается, заметил? И не поприветствовал, лишь попрощался.
– Горбатого могила исправит. Да эта баба ему в дочери годится, да он же всегда уверял, что только люди одного поколения способны понять друг друга! – лютовала правильная Лиза, безжалостно терзая ногами педали газа и тормоза. Если вспомнить печальные судьбы ее многочисленных ноутбуков, машина могла рассыпаться прямо на ходу.
Домой Лиза ворвалась с перекошенным от злости лицом, которое, как ни странно, ей шло. Первым бедствием оказалось присутствие жениха дочери, с которым она предпочла бы поздороваться весело и легко, а не рыкнуть басом в темной прихожей: «Привет». Второй незадачей стало то, что будущая теща забыта купить продукты. А что творится в холодильнике у дорвавшихся друг до друга молодых любовников, знают все. Интересно, почему они не к телевизору бросаются, удовлетворившись?
– Познакомься, мамочка, это – Игнат Смирнов. Ему осталось совсем чуть-чуть до звездной болезни, – веселилась Машка, не замечая состояния Лизы.
Они вошли в комнату. Лиза с Игнатом наконец вгляделись друг в друга на свету. Парень испытал шок: «Они точно мать и дочь? Как эта шустрая малышка вывела в мир величественную, безмятежную, вальяжную девушку?» Голова закружилась, и впечатлительный артист без игры заозирался в поисках стула.
– Присаживайтесь, Игнат, – мгновенно отреагировала чуткая писательница, недоумевая, на ноги парень слаб или на мозги. Потом вспомнила, какое впечатление они с дочкой производят на утонченных эстетов, и пустилась в разъяснения: – Не извольте сомневаться, Маша не подкидыш, но мое родное дитя. У нас просто темпераменты разные.
– А в чертах, кстати, нечто общее есть, – поддержала ее дочь.
При звуках родного голоса Лизу снова одолели беспокойные сомнения.
– Доченька, Игнат, – классически откашлявшись, начала она, – будем взрослыми людьми, только не обижайтесь.
Игнат как-то снисходительно улыбался. Машка счастливо таращила серые глазищи. Лиза перекрестилась бы, но ограничилась вздохом:
– Простите, Игнат, а вы вполне здоровы? Не алкоголик, не наркоман? Увечья какие-нибудь, инфекционные заболевания есть?
– Мама! – растерянно, со слезами в голосе вмешалась дочь. – Как ты можешь? А если у него дома меня завтра спросят: «Не деревянная ли у тебя нога, Маша? Правый или левый глаз стеклянный?»
– Отвечай людям правду, – посоветовала Лиза.
– Успокойся, – нежно приобнял Машу Игнат. – Лиза… Как вас по отчеству?
– Зови Лизой и на «ты».
– Спасибо. Меня тоже на «ты», – сказал Игнат. – Лиза, я здоров. Могу сходить в поликлинику за справкой. Только график съемок у меня очень плотный.
– Игнат, не сердись, но как-то стремительно у вас все, водопадом.
И тут с Игнатом Смирновым уже во второй раз после заявления: «Порядочный человек не любя в постель с девушкой никогда не ляжет» случился потрясающий приступ. Он сжал кулаки и вплотную приблизился к Лизе Шелковниковой:
– А если я всю жизнь искал Машу? А если мне нравится, что она круглая отличница и будет врачом? Я пока небогат, но работа есть. И плюс в несколько проектов зовут. Я тороплюсь от страха ее потерять, а не от желания чем-нибудь заразить.
Лиза впервые в своей жизни стояла с открытым ртом. У Маши был такой вид, будто сейчас она разденется догола, возьмет лупу и примется изучать себя по миллиметру. Но жальче всех выглядел Игнат. Он был бледен и заметно испуган. До парня явственно доходило: «Как бы Маше меня в сумасшедший дом пристраивать не пришлось».
Он и подумать не мог, что вылезало из него добротное матушкино воспитание, ее неустанные молитвы за сына, привычное интеллигентное семейное общение дедушки-профессора, бабушки-библиотекаря, тетушек и дядюшек с приличным образованием и множество вовремя прочитанных хороших книг, а вовсе не симптомы какого-то психического недуга. Он привык находиться в среде, где все это не было нужно, где на это не хватало времени. Оно могло сгнить невостребованным. Но не успело. И спешило вырваться даже при намеке на повод.
Первой опомнилась реактивная Лиза и унеслась в кухню сооружать ужин из подручных средств. А после был обычный вечер человеческого знакомства и общения. Правда, короткий. Не успев выпить чаю, Игнат Смирнов уехал на съемку. Все умели говорить по существу, поэтому обсудить успели немало. Только одной темы вообще не коснулись – отцов. Игнат жил с матерью с самого рождения и ей одной предоставлял право рассказывать о бывшем супруге то, что сочтет нужным. Обалдевшая его невеста забыта об Эдуарде Павловиче Шелковникове напрочь. А Лизе при мысли об этом потаскуне, развлекающем своим половым органом богатых клиенток, становилось тошно.
Сразу после ухода Игната она уложила Машку спать, как маленькую. Та не сопротивлялась.
– Беседочка в китайском стиле, – шипела Лиза, моя посуду.
Они давным-давно развелись, она сама жила мирской, а не монашеской жизнью. Но ей отчаянно хотелось привлечь удачу к несчастной однокласснице, она часами не вылезала из-за ноутбука. А Эдуард тем, что был с этой шлюхой, испортил чудесное, многообещающее совпадение, когда мать и отец не сговариваясь встречаются в день подачи их единственной дочерью заявления в ЗАГС. Он норовил изуродовать тонкую вязь случайностей во спасение человека.
А Вера Верескова все не звонила. «Нормально, – твердила себе Лиза. – Я сама запретила бы пользоваться мобильниками в наркологической клинике. Там не все с дорогой душой лечатся. Могут выпрашивать спиртное у друзей-алкоголиков, у нестойкой родни. Верино дело капельницы терпеть и с психотерапевтами беседовать. Мое – придумать ей любимого. Как его назвать? Какой он?»
Энергии в этой женщине было столько, что она всю ночь решала свою задачу. Заснула в пять утра. Проснулась в шесть.
Глава 6
Влюбленность – это все самое приятное и непритязательное в любви. Влюбленность расточительна, любовь жадна. Влюбленность общительна, любовь замкнута. Влюбленность допускает умозрительность, любовь требует реализма. Влюбленность – это когда для счастья нужно очень мало; любовь – когда очень много.
Из дневника Веры Вересковой
После того как в состоянии временного помешательства Игнат Смирнов отказался бежать на зов, Елена Калистратова не звонила два дня. Будто дала их ему, чтобы познакомить маму Оксану с Машей и Лизой.
Узнав, что невеста сына медичка, Оксана истово поблагодарила Господа Бога за чудо. Маша напрасно беспокоилась: даже будь у нее деревянная нога и стеклянный глаз, свекровь это расстроило бы мало. Сын в детстве переболел ветрянкой, коклюшем, бронхитом, гриппом, ангиной и воспалением легких. С тех пор с ним и банальных ОРЗ годами не случалось. Но мать непоколебимо уверилась в том, что от безвременной кончины его спасет только женитьба на враче. Благосостояние артиста зависело от удачи, так хоть его здоровье надо было поручить близкому человеку со специальным образованием. И вот свершилось! Игнат побаивался материнской ревнивой обиды на то, что словом не обмолвился о знакомстве с Машей, не предупредил об авантюрной подаче заявления в ЗАГС. Но та ликовала.
Не понимая причины такой эйфории, Лиза решила, что сама Оксана больна. И уже готова была счесть ее чудовищем, которое годами требовало, чтобы сын женился на медичке по любви не к ней, а к недужной матери. Но простодушная Оксана разъяснила ситуацию, и все успокоились. Ради Маши интеллектуальная переводчица с нескольких языков согласилась бы породниться не только с сочинительницей женских романов (это для нее была последняя стадия нравственного падения выпускницы Литературного института), но и самодеятельной поэтессой (последняя стадия для всех прочих).
Почему-то Оксана начала рассказывать Лизе о своей близкой подруге Леночке Калистратовой и целый вечер не могла остановиться. Она сама была бы рада сменить тему, но снова и снова твердила, что Елена редактирует глянцевый журнал, но человек умнейший, нестандартно мыслящий, склонный к философии в высоком смысле. Потом зачем-то принялась поучать Лизу, мол, к какому бы способу зарабатывать деньги рок ни принудил разведенную даму, не следует терять самоуважение и надежду на достойную работу.
Лиза Шелковникова, мгновенно отбривавшая любого умника Оксаниного толка, выдержала все стиснув зубы. После каждого ее мудрого, увитого цитатами из классиков мировой литературы и примерами из жизни великих мучеников пассажа слушательница повторяла про себя: «Терпи, Лизок, терпи». Молодые люди уединились в комнате Игната. Но Маша по пути в туалет и обратно вдруг обнаружила, что не слышит голоса матери – азартной собеседницы. Девушка остановилась и демонстративно погладила Лизу по плечу. Та мужественно улыбнулась дочери, дескать, я вынесу все, лишь бы ты была счастлива.
Но настоящие страдания оказались гастрономическими. Оксана, судя по накрытому столу, любила вкусную, а не здоровую пищу. Лиза отозвала хозяйку в сторонку, с отвращением к самой себе солгала, будто чем-то вчера раздражила желудок, и празднично поужинала таблеткой активированного угля и стаканом минеральной воды. Привыкшая к самообслуживанию в утешении, Лиза думала: «Игнат не курит, это превосходно. Оксана тоже хотя бы не курит, черт бы ее побрал!».
Но обе женщины были не глупы и быстро сообразили, насколько им друг с другом повезло. Даже разница в возрасте пошла в ход для оправдания слабостей. «Ей еще и сорока нет, замуж не поздно, любовник нужен, вот и пишет всякую ерунду про якобы любовь», – размышляла Оксана. «Ей под пятьдесят, ее терзает климакс, отсюда и ненависть к теме «мужчина и женщина», – думала Лиза. Они отлично понимали, что одна из них могла оказаться продавщицей с рынка, держательницей борделя, мошенницей, да мало ли кем. Поэтому на прощание Оксана мирно сказала:
– Все-таки здорово, что и я и ты филологи. На свадьбе поговорим о Данте. Я почитаю его тебе в оригинале.
– Буду ждать с нетерпением, – сказала Лиза.
Очутившись по разные стороны входной двери, обе беззлобно усмехнулись.
* * *
А Елена Калистратова начала с того, чем закончила в прошлый раз. Позвонила в одиннадцать утра и заявила, что сегодня ровно в час у нее будет «капля свободного времени» и смаковать ее она намерена в ресторане, очень популярном у иностранных консультантов киностудий, продюсеров и прочей братии того же рода. Не ведавший покоя после собственной неожиданной выходки Игнат как раз шел по улице с намерением заглянуть к недавно женившемуся другу и получить бесплатную консультацию по организации свадьбы. Он завопил в сотовый, что уже бежит, и действительно побежал, распугивая голубей и прогуливающихся старушек. Только метров через сто опомнился – время, что называется, терпело. В отличие от него. Поэтому в ресторане он появился минут на десять раньше назначенного Еленой времени. Броситься к ногам своей богини, каким-то чудом вспенившей густые и тяжелые каштановые волосы и облаченной в нечто темно-синее, сразу не получилось. К ней была очередь!
Игната поразило обилие открытых ноутбуков на столах, за которыми восседали деловые господа и дамы. Завсегдатаи не слишком внимательно просматривали меню и спокойно принимались обсуждать явно не семейные проблемы с собеседниками, часто одновременно всей компанией нажимая на клавиши. Сообразуясь с потребностями гостей, официанты не спешили с подачей. Оказалось, что большинство блюд начинали готовить только после заказа. «Бывают же такие места. Нереальная действительность», – подумал молодой артист. До обещанной ему «капельки» внимания Елене Калистратовой предстояло что-то решить с двумя людьми. Тощая высокая девица лет шестнадцати уже поднималась из-за ее столика. Одновременно с диванчика у стены встал явно совершеннолетний парень и торопливо шагнул к освобождаемому стулу.
Игнат притулился у стойки и стал ждать тринадцати ноль-ноль. Мысль о том, что с этими Елена работает, а с ним захотела передохнуть, грела, но слабо. У него было состояние озноба – холодно, чуть теплее, опять холодно. Девчонка, отпущенная Еленой на волю, встала рядом. «Современные манекенщицы – это оскорбление светлой памяти всех не по своему желанию истощенных, всех погибших от голода, – неприязненно подумал Игнат. – Посмотришь на такие модные кожу и кости, и кажется, что беда тех мучеников не в том, что им есть нечего, а в том, что им за голодание не платят». Присоседившаяся особа издала странный звук. Игнат добросовестно скосил глаза и увидел, что она плачет, по-детски хлюпая носом. Из-под этого самого носа, однако, раздавалось взрослое разборчивое бормотание: «Старая б…, чтоб тебе пусто было». Такое нахальство разозлило Смирнова. Как смела эта соплюха, средней школы не окончившая, материть саму Елену Калистратову? Та не обязана брать кого попало в свое агентство, снимать для своего журнала. Но вдруг нечто внутри парня четко сказало: «Она смеет. Она не любит Елену, как ты. Ее обидчица на двадцать с лишним лет старше, значит, старая. Сделала карьеру в России, значит, не одну постель согрела, постепенно вытягивая из мужиков то, что сейчас имеет».
Открытие, что кто-то может не восторгаться Еленой, не терпеть от нее все, а, хотя бы выйдя из зоны слышимости, грязно обругать, мгновенно переключило Игната с девицы на усевшегося напротив Калистратовой второго просителя. Он что-то увлеченно предлагал с мордой не знающего отказов везунчика и все равно выглядел побирушкой. Она смотрела на него прямо, а он будто не замечал этого, будто искал глаза у нее на лбу или щеках. Елена слушала его довольно внимательно. Один раз даже черкнула что-то в лежавшем перед ней ежедневнике. При прощании на ее лице читалось: «Ничего не обещаю». На его: «Так, если эта упрямая заносчивая тетка не уразумеет своей выгоды, нужно подкатиться к такому-то и такой-то».
«А почему я никогда не пытался воспользоваться ее связями? – неожиданно спросил себя Игнат. И легко ответил: – Потому что люблю ее. Потому что мне нужна она, а не что-то от нее». Пожалеть Елену, которую, оказывается, люди, причем молодые, незаслуженные какие-то, воспринимали просто как дойную корову, Игнат не успел. Она зорко оглядела зал и поманила его пальцем. Знала, примчался вовремя. Ей в голову никогда не пришло бы, что он решится опоздать, а не то что не явиться, если пообещал. Исстрадавшийся артист ринулся вперед и плюхнулся на стул с пустой головой и благоговейной улыбкой на сухих губах.
– Здравствуй, труженик, – улыбнулась Елена.
– Здравствуй, родственная душа, – почти пропел Игнат и даже смутился немного.
– У меня всего полчаса. Десять минут на возвращение в офис, пять – на подготовку к совещанию. Остаются пятнадцать минут наших неприкосновенных. Поведай, когда свадьба. Только без панегириков избраннице – я не могла тебе не угодить. Мне кажется, я и так все про нее знаю – красивая, умная, скромная и влюблена в тебя без памяти. Вообще упусти имена и подробности биографий. Меня устроят твои общие впечатления.
«Деловые люди рациональны во всем, – подумал Игнат. – И правда, зачем ей имена тех, кого она никогда не увидит? А я захламляю голову, и в ней всегда путаница». Он отчитался: мать невесты пишет романы, с ее отцом давно разведена.
– Писательниц уже больше, чем домохозяек, для которых они стараются, – сквозь зубы прокомментировала Елена.
– Маша учится в медицинском, свадьба через три месяца, – закруглился Игнат, вдруг почувствовав, что ему тоже плевать на имена, биографии и собственную участь. И без паузы с тоской выпалил: – Родственная душа, я тебя люблю, я не могу без тебя, я погибну.
– Я тоже тебя люблю, Игнат, – улыбнулась Елена. – Поэтому помогаю обрести то, что называют радостью бытия. Тебе кажется, что любовь и физическое обладание – синонимы. Ты ошибаешься. Я дарю тебе счастье: меня невозможно добиться никакими силами, талантами и ухищрениями. У каждого человека должен быть некто недосягаемый. Например, влюбляешься в певицу, которой сейчас за семьдесят. То есть в нее молодую, с черно-белой записи стародавнего «Голубого огонька». Недосягаемым человек жестоко болеет. А потом на пике мучений вдруг приходит невероятное облегчение. И он начинает бешено ценить досягаемое и достигнутое. Он любит его, он благодарит судьбу. Иначе ему всегда всего будет мало, все будет быстро приедаться и он от скуки оскотинится вконец.
– А где пик, родственная душа?
– У всех он разный, Игнат. У кого-то песочная горка на пляже. У кого-то Эверест. Ты одаренный, творческий, значит, готовься к альпинизму. Мы обязательно еще встретимся, но…
– Прошло всего десять минут, родственная душа. И те два типа, безумно глядящие то на тебя, то на часы, вероятно, используют обещанные мне триста секунд. А я доволен и спокоен. Потому что ты их заметила, а потом глаз от меня не отвела, не делала им знаки, дескать, ждите… Спасибо, я побыл избранником.
– Удачи, Игнат. Я позвоню. Восприми добрый совет. Если у твоей Маши мать литератор, попроси ее почитать что-нибудь из того, над чем она работает. И теща станет твоей рабыней.
– Да не нужна мне рабыня. Я просто сделаю, как ты велишь.
– О, кажется, ты кое-что понял, – несколько удивилась наставница. – Ну, ступай.
Ему ничего не оставалось, кроме как подняться и уйти. «Я тоже люблю тебя, Игнат», – шелестело, казалось, во всем теле, как шелестят осенние листья перед падением с веток. А Елена чувствовала себя слегка отдохнувшей в юношеской наивности. «Двум типам» встречу в ресторане она не назначала. С их незапланированным явлением ей повезло – нужны были для дела. Но опытная Калистратова действительно сконцентрировалась на Игнате, придав своему лицу выражение крайней заинтересованности, чтобы ребята попереживали. Их внутренностям надлежало замереть от страха, что у нее не хватит времени перекинуться с ними несколькими фразами.
Игнат Смирнов брел по жаркой людной улице в состоянии, какое всегда накатывало на него в первый снегопад: чудилось, что вокруг ни души, всюду бело навсегда и снегом пахнет остро и непоправимо. Он ощущал грусть и радость как единое и неделимое и легкий зуд потребности разделить их, чтобы не выпасть из реальности, не сойти с ума.
«Елена – высшее существо, – думал Игнат. – Она признается мне в иной любви и устраивает мое счастье – какое-то настоящее, очищенное страданием. Я о таком и представления не имею. У нее не родственная моей грешной, но святая душа. А я совсем не хочу этого счастья. Я хочу той самой физической близости, и дальше будь что будет – дурдом или петля. Надо же, числил себя в способных к духовной жизни, а оказался душевным уродом. Елена воспарила, а я пал. И мечтаю о безалаберности, легкомыслии, соответствии собственному возрасту, что ли. Я не смогу целую молодость карабкаться по мукам все выше и выше, чтобы в старости с наслаждением съехать с горки на заднице прямо в гроб. Наверное, Елена снова надо мной поиздевалась. Она сама-то покорила свой Эверест боли? Или еще лезет вверх? Сейчас я с удовольствием загадал бы желание, чтобы Маша стала для меня не врачом, но лекарством. Нескладно, неладно все получилось».
Тем временем Елена Калистратова, бодро и сурово проведя совещание, пила в кабинете кофе и думала об Эдуарде Шелковникове. Он с недавних пор был отстранен, рассеян и замкнут. Неужели его действительно так сильно тянет к первой жене? Неужели уйдет?
– Я еще поборюсь за свое, – сказала Елена вслух.
Сказка про недосягаемое была предназначена лишь Игнату. Вернее, не совсем сказка. Елена искренне считала, что на экране мальчик выглядит не очень убедительно. Ему словно не хватало послевоенного голодного и зябкого детства или столичных мытарств деревенщины. А уж если женщина решила добавить кому-то мужественности, пощады ждать не стоит.
На следующий день Игнат Смирнов попросил Лизу почитать вслух последнюю рукопись.
– Не надо, – прошептала ему на ухо Маша. – Ты еще не знаешь, что это такое.
– Но хочу узнать, – пробормотал он. И снова в присутствии невесты и ее матери начал верить, что хочет сам, а не Елена Калистратова за него.
Но опытная наставница была права, рекомендуя ему «заказать читку текущей нетленки». Ибо еще Лев Николаевич Толстой томился: «Пишешь, пишешь, дело-то одинокое. А потом так хочется, чтобы похвалили».
Лиза, случалось, читала рукописи паре приятельниц, которые называли себя истинными ценительницами ее творчества. Надо признать, что, выслушав главу из начала, главу из конца, они дожидались выхода романа и с легкой душой, не открывая тома, ставили его на полку. Соприкосновение с черновиком было их платой за дармовой авторский экземпляр. Ясно, что чаще всего материнская потребность в озвучивании очередного сочинения прибойной волной накрывала Машу. Методом проб и ошибок дочь вывела для себя несколько правил, которых придерживалась неукоснительно во избежание ссор. Ни при каких обстоятельствах нельзя было поддаваться на Лизины провокации в виде невинного вопроса: «Ну, как тебе? Не слишком пресно?» и касаться сюжета или стиля. Почему-то мать обижали даже похвалы, видимо, дочь порола несусветную чушь, демонстрируя, насколько не трудилась вникать в сокровенное. Маша предпочитала скороговорку: «Мам, не отвлекайся, давай дальше, интересно же». Высказываться о героях было не столь рискованно, однако вечная отличница по мере возможности отмалчивалась. А бдительная Лиза что-то важное для себя определяла по дочкиным глазам и вдруг останавливалась:
– Твоя правда, звучит не очень.
– Мама, смотрится прекрасно. Ты взгляни – текст же напечатан – шедевр. Люди читают не ушами, между прочим. Вот когда будешь переделывать это в сценарий, тогда ломай графическую красоту. Да и то сначала хорошенько подумай.
– Все шутишь? Все издеваешься? – вспыхивала Лиза.
– Ни-ни, – молитвенно складывала ладони Маша.
Но мать что-то быстро исправляла на бумаге и читала до следующего промелька неизвестно чего в затуманенном невольничьими слезами взгляде дочери.
Маша прекрасно знала, что перед просьбой актера почитать рукопись неизбалованная Лиза не устоит. Девушке пришла в голову бедовая идея напялить на себя и Игната темные очки.
– Ну, для развития знакомства, пожалуй, стоит помучить тебя первой главой, – согласилась Лиза Шелковникова. – Только, если будет скучно, не терпи. Я не обидчива. Через начало всегда приходится продираться. Потом при желании прочитаешь что-нибудь изданное. Или возьмешь у Маши диск с сериалом «по мотивам моих произведений». Прямо сейчас приступим?
– У меня вечером съемка. Сейчас в самый раз.
«Только не увлекайся, – предостерегла саму себя Лиза. – Быстренько ознакомь человека с образчиком твоего творчества и отпусти их с Машкой целоваться в ее комнату». С этим светлым намерением она достала несколько распечатанных на принтере листов и плюхнулась в кресло, которое под ее весом даже не спружинило.
Жених с невестой уселись на диване напротив. «Это испытание номер один, – подумала Маша, – артист оценивает писателя. Затем грядет второе – писатель неизбежно возжаждет посмотреть фильм, в котором снялся артист. Игнат, наверное, такой же странный, как мама. То, что человек сыграл, спел, сочинил, спросил у кого-то в интервью, она совершенно серьезно считает его потаенной сущностью. И ей уже все равно, каков он в реальности. Мы все в опасности: из-за текста, который она еще сто раз будет переделывать, отношения могут пойти наперекосяк». Ей оставалось лишь надеяться, что Игнату понравится первая глава, а Лизе – он на экране. На сей раз Маша ловила каждое слово матери, чтобы исправить любую оплошность Игната, если тот ляпнет какую-нибудь обычную, с точки зрения нормального человека, и бестактную, с точки зрения автора, фразу.
Лиза начала читать – сухо и монотонно. Девушка с беспокойством покосилась на актера, но его эта манера явно не тяготила. Он очень внимательно слушал.
* * *
«Я всегда ощущала, что сращена с сыном, потому что бесконечно его люблю. Он – единственное, что мне удалось в жизни. И вот дожила до того, что в свои сорок лет готова втиснуть между нами деньги, которые всегда трудно зарабатывала и легко тратила в основном на него же. До сих пор не улавливаю связи между этими цветными бумажками и едой, проездом, мебелью, посещением театра, церковной свечкой и прочим. Знаю, что она есть. Среди ночи разбуди – объясню, какая именно, с экскурсами в историю и философию. Но только теоретически. Стоит открыть кошелек, как перестаю понимать. Так зачем мне деньги понадобились? А в трудоспособном, цветущем возрасте я очутилась в нахлебницах у сына. Богомерзкая ситуация – образование высшее, здоровье крепкое, но сижу у двадцатилетнего мальчика на шее. И еще ропщу. К примеру, очков «для близи» у меня нет. И пишу я это отвратительным почерком, потому что разлиновки на листе толком не вижу. А почерк у меня с детства превосходный, и, переворачивая исписанную страницу, я привыкла испытывать эстетическое удовольствие. Придется отвыкать. Собственных денег на очки, вероятно, уже никогда не случится, выпрашивать их я не осмелюсь. Сын отдал мне свой старый ноутбук. Но я не различаю буквы на клавишах, особенно по вечерам. Плюс к тому я графоманка, мне необходимо ежедневно написать от руки хоть несколько строк. Печально. Я ведь хочу не просто денег, чтобы сделать своему мальчику подарок на день рождения, купить себе какую-нибудь дешевую мелочь в киоске Союзпечати, вроде шариковой ручки, прокатиться в метро, когда захочется. Даже если сын начнет делать миллионы и обеспечивать крупными купюрами мои карманные расходы, я буду рада только за него, но не за себя. Нет, я хочу денег, заработанных собственным честным неустанным писательским трудом. Учитывая мой возраст, ясно, что очередную чистую тетрадь портит не мечтательница, не наивная девочка, а клиническая сумасшедшая. Ну что ж, и мы имеем право самовыражаться. Любым почерком. И кстати, когда доводится выписывать буквы при дневном свете, я еще урываю свою толику визуального наслаждения.
Мне было бы жалко себя. Если бы я не пила несколько лет, забросив сына, не заботясь о пенсии. Ни о чем не думая, кроме прекращения внутренней боли в забытьи…»
Далее шла история востребованного мальчика-компьютерщика с намеками на то, что талантлив-то он в неудачливую, слабую мать.
Текст в духе святочного рассказа: муки описывались навязчиво и ярко, а радости упоминались скупо и блекло. Лиза чего-то добивалась от изнуренного читателя. Чего именно, было тайной повествования, которую вряд ли удастся раскрыть.
«Я умирала по частям. Я всю свою жизнь умирала и чувствовала это. У меня с детства было сначала раздвоение, а после растроение личности. Первой в корчах скончалась та, которая была наиболее приспособленной к миру, – амбициозная, упивавшаяся лидерством, выносливая, не сомневавшаяся в себе, уверенная в том, что если не пересилит, то обязательно перехитрит рок. О, она умела льстить, врать, интриговать. И почти всегда, да что там, всегда добивалась от людей того, чего хотела. Ее звали так, как записали в свидетельство о рождении, а затем в паспорт.
В ее тени жила вторая. Этой ничегошеньки не надо было, кроме возможности придумывать и записывать разные истории. Ее физически выворачивало наизнанку от лжи даже во спасение. Она бредила настоящей любовью и дружбой и свято верила, что талантливый человек обязательно преуспеет. Вторая была совестью первой, не позволяла ей выскакивать за рамки порядочности и отступаться от справедливости. Она придумала себе имя в раннем детстве. Так делают многие. У большинства оно забывается. У нее стало литературным псевдонимом.
Третья, которая обрела имя лишь через двадцать лет, приняв крещение, тоже уже существовала. Она родилась в грозовую воробьиную ночь в деревенском доме бабушки, куда ее сплавляли на лето. Было страшно, она плакала, и бабушка рассказала ей про Бога и научила двум молитвам: «Отче наш» и еще одной, малороссийской, крестьянской, древней, «Матерь Божья в головах, Иисус Христос в ногах, ангелы-хранители по бокам. Храните мою душечку с вечера до полночи, с полночи до света, со света до самого века». А осознала она свое существование, когда, вернувшись в город осенью, играя, взяла без разрешения губную помаду и потеряла. До прихода строгой мамы оставалось полчаса. Та могла основательно выпороть. Десять минут лихорадочных поисков в игрушках и книжках – тщетно. Еще пятнадцать минут панического «второго круга» – помады нигде нет. Тут она вспомнила про Бога. И настали пять минут первой горячечной молитвы. В дверном замке уже шебуршал ключ, когда тюбик вдруг оказался прямо перед глазами, потом в дрожащей потной ручонке, потом в маминой коробке для косметики. Третья, долго оставаясь безымянной, служила верой и правдой и первой и второй. Обе воспринимали ее как часть себя. Первая считала, что она сильная, умная и сама преуспеет. А если нет, ей обязательно поможет Бог. Вторая вообще долгое время отождествляла себя с третьей. Она полагала, что талантлива, талант – от Бога, и Бог создаст ему все условия, лишь бы проявился…»
Взаимоотношениями трех ипостасей одной женщины и отношениями их с миром романистка увлеклась не на шутку. Разумной «первой», в сущности, была она сама. В «третьей», истово верующей в то, что все от Бога и надо кротко вытерпеть до конца, чтобы спасти душу, можно было узнать лучшую ее подругу. Маша поразилась, насколько трудно, но безжалостно мать отдавала и «первую», и «третью». В няньки, служанки, жертвы таланту «второй», то есть Веры. А та собственное дарование пропивала. И отказывалась признавать, что терзает не только себя. Ничего аморальнее Лиза еще не писала.
Игнат Смирнов смотрел на замолчавшую бесстрастную Лизу Шелковникову с неподдельным ужасом. Слегка побледневшая и сильно обеспокоенная Маша тихо спросила:
– Мама, с тобой все в порядке? Хотя бы с нервами? Это же непереносимо. Ну да, китайцы говорят, только бы не жить в эпоху перемен. Да, миллионы людей лишились привычного статуса и обнищали, потеряли себя. Да, работай твоя писательница, скажем, в библиотеке хоть на десять ставок, ей светит крохотная пенсия. Сыну так и так придется ее содержать. Я трагедии не вижу с сидением на его шее. Она счастливица, у большинства малоимущих дети в двадцать лет получают копейки. А эта может себе позволить лечиться в частной клинике от алкоголизма. Потом творить и контактировать с издательствами. Зачем ты нагнетаешь отчаяние? Пощади тех, кто это пережил. По-твоему выходит, что талант – это проклятие и обладателя, и его близких, а не дар Божий. У тебя слишком убедительно получилось.
– Исповедально, – осторожно вставил Игнат. Взглянул на Машу и уважительно подумал: «Писательская дочка – складно глаголет».
– Значит, ощущение предельной откровенности есть? А это на самом деле исповедь, только не моя, – торопливо сказала Лиза. – Я не вправе открывать чья, поэтому и пишу от первого лица. Но поверь, Игнат, я не алкоголичка, никогда ею не была и за гранью нервного срыва не нахожусь. У Маши тоже наследственно здоровая психика, что она своей реакцией сейчас и доказала. Но героиня решится отправиться в наркологическую клинику. Там познакомится с богатым издателем, тоже пациентом, они полюбят друг друга, и оба восстанут из пепла. Я гарантирую счастливый конец. Именно потому, – повернулась она к дочери, – что в этой стране настрадались все под завязку.
– Конец? – изумилась явно не привыкшая легко переубеждаться Маша. – Мама, до второй главы после такого начала дойдет только закоренелый садомазохист.
– Я хотел бы сыграть ее сына, – вдруг мечтательно признался Игнат. – Я бы жалел ее и ненавидел.
– За что ненавидел? – живо поинтересовалась Лиза.
– За то, что ради меня, якобы обожаемого сыночка, не бросает пить. Какая же это материнская любовь? И вот я взрослею, мужаю и начинаю прозревать: ей деньги на водку нужны, а не я.
– Погоди, погоди, она многим пожертвовала, чтобы поднять своего мальчика. Алкоголизм – болезнь. Моя героиня хочет остановиться. Но самостоятельно уже не может.
– Болезнь, – мрачно согласился Игнат. – Настаиваешь на том, что она излечивается лекарствами в специализированной клинике. А после выписки оттуда реабилитацию облегчает новая любовь к мужчине. «Старая» любовь к сыну не считается, да? Мне уже давно прабабушка рассказывала. Жили-были пятеро малолетних детей – она средняя, их нежная мать и умеренно пьющий отец. Двадцатые годы, деревня, голод. Мать забеременела шестым, пошла к знахарке избавляться и через две недели умерла от заражения крови. Вдовец год, год, Лиза, напивался каждый день до невменяемости. Без единого выходного увеличивал дозу. Уходил с утра на трясущихся ногах и ночью приползал назад. Чем эти сироты питались, каково им было, прабабушка не описывала. Только крестилась и умывалась слезами. К вечеру, когда становилось невыносимо тоскливо и жутко, они все забирались в… как его… не подвал, а…
– Подпол, – завороженно подсказала Лиза, смакуя забытое, неизвестно как всплывшее в памяти слово.
– Точно, в подпол. И тихонько выли и шепотом причитали по матери. Однажды забыли закрыть крышку. Отец приволокся, заглянул. Несчастные дети чуть от страха внизу не умерли: у него сосуды полопались, и белки глаз были алыми. И еще он сильно качался. Их чудо спасло – упал бы вниз, себе шею свернул и их раздавил. Минуты три он на них смотрел. И тощие, с опухшими лицами, грязные маленькие оборванцы едва дышали. Потом отошел, рухнул в углу на пол и захрапел. Но с того момента до самой своей смерти лет тридцать не выпил ни капли. Пахал с рассвета до полуночи. Женился на какой-то вдове, чтобы за детьми ухаживала. У нее тоже трое ребятишек было. Он и своих и приемных поднял – выучил в училищах, женил, замуж выдал. Вот так.
– Игнат, я же героиню не оправдываю, – искренне смутилась Лиза. Актер сыграл прабабкино воспоминание только голосом и немолодежной манерой речи, а писательнице даже зябко стало от его вдохновения. – У каждого регулярно возникают поводы запить, уйти из действительности, но большинство держится. Я ее просто жалею.
– А я больше не могу-у-у, – призналась Маша. – Вы – два сапога пара. Господи, зачем дети в этот самый подпол залезали?
– Отец лупил, если заставал их плачущими, – объяснил Игнат. – И еще прабабка странно говорила о матери. Понимала – рожать в голод было нельзя, все ходили к знахаркам на аборты, часто умирали. Но, знаете, винила она покойницу за то, что в такое-то время не отказала мужу, забеременела, рискнула и оставила свой выводок сиротствовать.
Его невеста разрыдалась. Жених обнял ее и принялся еле слышно успокаивать. Но где-то в глубине себя был доволен произведенным на женщин впечатлением.
– Двадцатые годы, – задумчиво протянула Лиза. – Почти век прошел. Слушайте, а которая моя героиня в списке с учетом революции семнадцатого? Даже не по себе.
– Мне от другого не по себе, – серьезно откликнулся Игнат. – Впервые с тех пор, как я услышал ту историю, возникла причина ее рассказать. Некому было. И незачем.
– Ну, пожалуйста, не нагнетайте безысходность, – взмолилась Маша. – Почему люди искусства вечно ищут страданий? Банальное плохое настроение раздувают в отчаяние? Вы когда-нибудь радуетесь?
– А то нет, – печально ответила Лиза. – Только скажи, что в страданиях и отчаянии мы были неподражаемы…
– И из нас попрет позитив, – весело заверил Игнат.
– Люди, опомнитесь! – призвала Маша угрожающим голосом, будто давала матери и жениху последний шанс выжить. – Читатель и зритель хочет отвлечься от невезухи и бедности. Он склонен мечтать, а не надеяться, веселиться, а не радоваться, получать удовольствие и не обретать благодать аскезой. Искусство сейчас – плацебо, пустышка, обманка. Но ведь облегчает боль.
Лиза, прекрасно освоившая границы терпения дочери, почувствовала, что пора закругляться.
– Спасибо вам, ребята, – растроганно проворчала она. – Честно, не ожидала, что вас моя писанина заденет. Я еще поразмышляю у себя в комнате. А вы развлекайтесь. Пока, Игнат. Отдельная благодарность за образ твоего сильного прапрадеда.
Она легко выскочила из кресла, в которое, пока читала, незаметно для себя и слушателей забралась с ногами, и оставила жениха с невестой в покое.
Маша искоса поглядывала на Игната, будто впервые увидела. Желание сыграть компьютерного гения, который в студенчестве гребет деньги лопатой, ей нравилось. Но сына сломленной неудачами алкоголички, жертвы собственных амбиций и смены государственного строя? «Это судьба, – думала она. – Вероятно, я люблю не просто маму, а маму-выдумщицу, маму-сочинительницу. И замуж выйду за ей подобного типа. И папочке моему подобного тоже, между прочим. Он, когда эскизы рисует, на этом свете отсутствует. Только мне необходимо специализироваться в психиатрии, терапевт им всем не помощник».
– С чего это ты приуныла? – затормошил ее Игнат. – Еще успеем чаю попить, и я исчезну.
Он уже, как воду с зонта, стряхнул с себя и вид, и настроение, обеспеченное недолгой читкой. А Лиза до последней строчки каждого своего романа будто мокла под дождем и категорически отказывалась идти в дом. «Ага, разница между писателем и актером все же есть, – с облегчением догадалась Маша. – Может, мне еще удастся заняться терапией, а не психиатрией».
И девушка отправилась рассматривать фотографии свадебных нарядов в журналах, чтобы ответить матери на привычный вопрос: «Машенька, выбор за тобой, но скажи хоть ориентировочно, что ты хочешь купить?» Лиза выслушивала дочь, а потом начинала по букве, по словечку навязывать свой вариант. Достичь компромисса никогда не удавалось. Кто-то должен был уступить. Они однажды прикинули, сколько раз отказывались от собственных предложений. Вышло – ничья. Результат обсудили хором. Лиза: «Я полагала, что я сильнее». Маша: «Я думала, что я слабее». И еще долго над собой смеялись.
Лиза, почти невыносимо довольная заинтересованным обсуждением первой главы романа, призванного заговорить боль Веры Вересковой, размышляла в своей комнате за письменным столом, как обещала Игнату и Маше. Ей вспомнилась юность. Они с подружкой в ноябрьскую морось сверху и грязь снизу неслись на какой-то концерт. Достали билеты за месяц и еле его прожили, так хотелось взглянуть… «А, собственно, на кого? – напряглась Лиза, которую память подводила редко. – Надо же, вылетело из головы. Ну и ладно». Спутница Лизы поскользнулась и села точнехонько в середину лужи. Когда Лиза ее вытянула, девчонка разрыдалась в голос и отказалась в таком виде появляться на людях. Молодых, разумеется. Лиза своей шапкой пожертвовала, отчищая ее светлый пуховик. Но тщетно: на попе непристойно темнело большое мокрое пятно. «Так, немедленно прекрати голосить, – сказала Лиза. – Сейчас я плюхнусь в ту же лужу, ты размажешь эту гадость по моему заду моей шапкой, ее все равно выкидывать в ближайшую урну. И мы бежим дальше одинаковые. Идет?» – «Как же, одинаковые! – взвыла подруга. – У тебя пуховик синий, на нем меньше заметно». – «Тогда надевай мой, – осенило будущую сочинительницу. – Мне плевать в чем, лишь бы добраться до своего места». Они прямо на улице поменялись верхней одеждой.
Когда Лиза рассказала об этом выросшей дочери, та поморщилась: «Мама, я бы так не смогла. Дичь, тебе же пятнадцать лет было. К чему такое самоуничижение? Если подружке влом было идти в общественное место с пятном на заднице, я отпустила бы ее домой плакать. Травить потом восторгами по поводу концерта не стала бы, но и баловать своим чистым пуховиком – увольте. И вообще, как она посмела согласиться, нахалка!» – «Ей очень хотелось увидеть кумиров. По-моему, нормальное поведение девочки, впавшей в отчаяние», – заступилась Лиза, которая и через двадцать с лишним лет верила, что они обе поступили обыкновенно. «Ага, повырастало хамок из таких девочек. В магазинах, банках, поликлиниках, школах, за рулем сплошные твои повзрослевшие подружки. Они теперь, если им понадобится, и пуховик силой отнимут, и шкуру с любого живьем сдерут. И все из-за таких, как ты». – «Каких»? – насупилась Лиза. «Потакающих дурным наклонностям, – гневно пригвоздила Маша. И сбавила тон: – Мам, не обиделась? Ты так радуешься, что мы с тобой похожи. Ты добрая. Но я тоже не злая. Просто есть граница дозволенного чужим людям». – «Она была моей подругой, а не чужим человеком», – без энтузиазма возразила Лиза. «И где она теперь. Что значит – была подругой?» – ехидно насела дочь. «Я могла бы тебя смутить, наврав, будто она погибла в автокатастрофе через три дня после того концерта. Но, если честно, она живет на соседней улице. Просто после замужества общается только с компанией своего благоверного». – «Мама, у тебя чудовищное воображение. Мне бы в голову не пришло так кого-нибудь смущать, как ты меня «могла бы», – пробормотала Маша. Лиза прикусила язык. Но сказать что-то было необходимо. И она резко сменила тему: «Доченька, я и правда радуюсь нашей с тобой схожести. Но я в курсе, что ты наполовину мама, а наполовину папа. Эдуард, когда услышал от меня эту историю, отреагировал точно так же, как ты. Поэтому никогда под меня не подлаживайся, будь собой. Обещаешь?» – «Торжественно клянусь, – усмехнулась Маша. – А ты никогда мне не лги, то есть не придумывай назидательных концовок, когда рассказываешь про реальные ситуации. Обещаешь?» – «Да», – сказала Лиза и вздохнула. Она частенько не только концовки, но и сами истории про себя и своих друзей выдумывала именно в назидание дочке. Когда нечем было подкрепить теорию.
Теперь Лиза задавалась вопросом: как воспринял бы ее рассказ Игнат Смирнов? Поменялся бы с другом куртками или нет? Это означало, что ей не хватает терпения узнать нового человека. И тогда его легче было «сочинить». «Только факты. Только действительность, какой бы она ни была. Машке с этим парнем жить по-настоящему», – опомнилась без двух с половиной месяцев теща.
Игнат вышел из метро. Вечер был теплый, пасмурный, безветренный и очень соответствовал его внутреннему состоянию. Деревья богатели листвой, земля скудела одуванчиками. «Лето», – подумал Игнат. И не успел добавить что-нибудь осмысленное: запел его сотовый, высветив на дисплее запретное имя – «Ленок».
Послышался боготворимый голос:
– Как ты? Чем занят? Не хотела беспокоить, но отчего-то сама забеспокоилась. Мне показалось, что в нашу последнюю встречу я тебя слишком испугала.
– Здравствуй, родственная душа! – возопил Игнат. – Я спешу на съемки. Но позови меня, развернусь и кинусь к тебе.
– Нет, все-таки тебя до сих пор нельзя баловать лирическими отступлениями, – вздохнула Елена. – Ведь договаривались не один раз: в наших отношениях последующее ничего не отменяет в предыдущем. Не забывай, я жду, когда ты женишься и возблагодаришь меня искренними и, настаиваю, лаконичными фразами.
– Родственная душа, но пока я холост. Мне до павильона семь минут хода. Я растяну их в десять. И буду трепаться. Ты только иногда вставляй словечко, чтобы мне становилось радостно. Ладно?
– Ладно, – рассмеялась Елена. – Начинай.
Игнат пересказал содержание первой главы Лизиного романа. Поведал, как расплакалась Маша. Выложил всю ее критику. Но не смог произнести ни звука о своем участии в обсуждении. Когда это стало его злить, настала пора сказать Елене:
– Я люблю тебя, родственная душа. Счастливо.
– До свидания, – ответила она необычайно приветливо. И отключила телефон.
А у Игната начали шалить нервы. После трех часов работы приступили к съемкам эпизода, в котором его герой является к своему вечно пьяному дядюшке взять в долг. И тут выяснилось, что тема алкоголизма Игната еще не отпустила. Он деловито предложил реквизитору обеспечить своего партнера бутылкой коньяка и рюмкой, чтобы ясно было, почему у того заплетается язык.
– Да где я сейчас буду искать бутылку и рюмку? Да сколько времени надо, чтобы заварить чай и остудить? Давайте скорей закругляться, поздно уже, – взвился усталый мужик.
В глазах режиссера мелькнуло нечто похожее на согласие с актером и знание, где за три минуты можно взять атрибуты злоупотребления – в собственной комнате отдыха. Но, представив, как кто-то, не выдержав соблазна, вылакивает его коньяк, мэтр решительно заявил:
– Сойдет и так.
– У вас все сойдет. Любая чушь. Любая фальшь! – заорал Игнат.
И бушевал еще минут десять. Это было привычной мелочью для всех, кроме него. Он представления не имел, что тоже склонен к истерикам.
– Простите, – сказал он. – Что-то я расклеился сегодня.
– Коньяк надо меньше жрать, – мстительно проворчал режиссер, и творческий акт продолжился как ни в чем не бывало.
Глава 7
Есть люди, которые добиваются того, что хотят иметь. Есть люди, которые добиваются того, что могут получить. И только я усиленно добиваюсь того, чего и не хочу и не могу. Я гибну. Уныние – это когда ты ничего не ждешь от мира. Отчаяние – это когда ты ничего не ждешь от Бога. Смерть – это когда ты ничего не ждешь от себя.
Из дневника Веры Вересковой
Без пяти девять вечера, в который Лиза Шелковникова читала Игнату и Маше первую главу романа, наконец-то позвонила вдохновительница. Лизу затрясло от этого совпадения.
– Верочка, как ты?! – закричала она.
– У меня все нормально, не волнуйся. Извини, что не связывалась с тобой так долго. Во-первых, сын телефон не оставил. Во-вторых, сложновато было адаптироваться, хотя тут прекрасные люди. В основном молодежь из богатых семейств, но есть и ученые, и артисты, и один, как мы в юности говорили, обалденный режиссер и продюсер. Знаешь, мы с ним подружились – взаимопонимание полное.
«Вот оно! – подумала писательница и ощутила тяжесть за грудиной, а потом истому и усталость. – Режиссер и продюсер в одном лице. С ума сойти. Я верно определила направление. Теперь только вперед, чтобы отношения в клинике и в романе развивались параллельно. Нет, ну я даю! Все-таки творчество – акт мистический».
– Вера, я боялась, что тебе будет одиноко.
– Здесь стараются занять нас по максимуму, не оставить ни минуты на тоскливые диалоги с самими собой. Слушай, я ведь к тебе с просьбой. У меня тут есть возможность отлучиться часа на полтора-два.
– Удрать? – сдавленно изумилась Лиза. – А если засекут? Выдворят за милую душу, я читала, так делают.
– Не волнуйся.
– Вер, давай я сама к тебе приеду.
– Как раз тебя ночью и в вестибюль не пустят. Лиза, я сознательно лечусь и еще умудряюсь поддерживать других. Поэтому о нарушении сухого закона речи не идет. Но мне необходимы прокладки, у меня месячные начались. Вообрази, каково. Три года ни капли крови, и вдруг, словно у девчонки, ручьем. Стоило успокоиться, отоспаться и отъесться чуть-чуть. А я думала, ранний климакс. У здешних обитательниц спрашивала, никто средствами гигиены на такой случай не богат. Сын появится только завтра вечером. Спаси, пожалуйста.
Лизе стало легко и весело. До такого она сама ни за что не додумалась бы. Не только психологическое, но и физиологическое возрождение женщины. Действительно, какие их годы, сорока еще нет. И она рассмеялась:
– Поздравляю, Верочка. Новая кровь – новая жизнь.
– Так ты выручишь?
– Конечно. Только бы не навредить тебе.
– Говорю же, успокойся. Наши и до рассвета отсюда сматываются. И никого не застукали. Главное – не пить.
Бедовые одноклассницы договорились встретиться в метро в центре. Вера явно не имела желания открывать свое местопребывание. Но Лиза дала себе слово выпытать у нее адрес клиники и регулярно навещать. Быстро собралась. Постучала в дверь комнаты Маши. Дочь не соизволила отозваться. «Уснула бедняжка. Столько эмоций», – подумала неуравновешенная, но чуткая мать. Написала ей записку и ринулась в ближайший круглосуточный магазин.
На улице было еще светло, на душе у авантюристки, считающей себя верхом рационализма, – уже светло. Лиза спешила к той, ради благополучия которой затеяла роман. За две станции до нужной Лизе в вагоне появилась ее хорошая знакомая, и женщины сплетничали, все больше входя во вкус. Поскольку беглянки на условленном месте не оказалось, они продолжали трепаться еще с полчаса. Вера так и не появилась. Знакомая направилась к выходу в город, Лиза поехала домой. «Это к лучшему, – думала она. – Не удалось вырваться, не судьба режим нарушать. Не изгонят Веру, не расстанется она с режиссером. Завтра утром позвонит и скажет, куда везти прокладки. Тортик я Маше с Игнатом оставлю, а ей другой куплю. И фруктов разных, а то схватила второпях одни апельсины».
Дорвавшись до компьютера, Лиза поработала часа три. Потом пошла в кухню за чаем и обнаружила там дочь, уплетающую за обе бледные, ввалившиеся щеки торт. В руке Маши подрагивала ее записка.
– Ой, извини, не выбросила, – сказала Лиза.
– Мама, я чуть с ума не сошла. Заснула случайно. Проснулась, глубокая ночь, а тут записка: «Убегаю, скоро вернусь». Торт вот с перепугу жру.
– Ешь, милая, ешь, – усмехнулась Лиза. – Только не забудь, что жирок у женщин в последнюю очередь наполняет лицо. А в первую что?
– Попу, – уныло ответила Маша и со вздохом закрыла коробку с опасным десертом.
Утром, когда Маша еще переваривала во сне торт, Лиза с привычным отвращением выхлебала свой зеленый чай и собиралась на прогулку. В дверь длинно позвонили. Чей-то палец не щадил безвинную кнопку. Лиза посмотрела в глазок – за ним маячило какое-то удостоверение.
– Кто там? – удивленно спросила она.
– Откройте, милиция, – ухнул в ответ мужской басок.
– Корочку свою от оптики уберите, – потребовала писательница. – А то вдруг вы ею закрываете маску на лице и пистолет в руке.
Документ исчез, но вместо него в зоне видимости оказались мощные живот и грудь, туго обтянутые мятой рубашкой. Лиза присела, стараясь разглядеть, что выше, но, кроме щетинистого подбородка, ничего не увидела. Дверь все-таки распахнула.
– Шелковникова Елизавета Всеволодовна, – без вопросительной интонации заявил высоченный детина с крупными чертами лица и совершенно не вяжущимися с его обликом светлыми подростковыми вихрами. – Мне необходимо с вами побеседовать.
Поскольку Лиза при виде него машинально отшатнулась, он беспрепятственно шагнул в прихожую. «Наверное, везде так – зеленый свет. Слова «разрешите войти» ему неизвестны. Господи, разве можно пускать такого гиганта по квартирам? Пожилые гражданки имеют право на обмороки», – подумала Лиза. И улыбнулась.
– Чему радуетесь? – неприветливо поинтересовался визитер.
– Своему, девичьему, – брякнула Лиза и по его насупленному челу поняла, что зря пошутила. – Идемте в кухню, – мирно предложила она. – Кофе хотите?
– Нет.
– Чаю?
– Нет.
«И «спасибо» в его лексикон не входит, – все еще безмятежно отметила Лиза. – Бог мой, зачем же он явился? С Игнатом что-то стряслось? Машка бед наворотила? Тогда почему он меня требовал?»
– Слушаю вас, – уже неуверенно произнесла она.
Милиционер удовлетворенно хмыкнул. «Какой-то моральный урод, радуется, если удалось подавить человека», – неприязненно подумала хозяйка, заставила себя не пристроиться на краешке табурета, а усесться основательно и более твердо повторить:
– Я вас слушаю. Извините, но ваш приход нарушил мои личные планы.
– Да, как правило, наш приход нарушает планы. Бывает, что на несколько лет.
– Не надо, я пуганая, – рассердилась писательница.
– Тогда скажите мне, чем вы занимались вчера между девятью и одиннадцатью часами вечера? – сурово вопросил здоровяк.
– А почему я должна перед вами отчитываться? – продемонстрировала норов Лиза.
– Советую ответить, – не уступил милиционер.
– Советую вести себя по-человечески.
Как часто с ней бывало, говоря, она торопливо соображала: «Я везучая, когда пишу. Встретила знакомую, болтала с ней. А если бы не встретила? Вера опять пропала. В какой клинике она лечится, я не знаю. Могла бы только дать адрес квартиры. Они бы нашли сначала сына, потом ее. Вскрылось бы, что она пыталась сбежать на какое-то время. Ужас. Небо явно хранит и эту бедняжку, и меня заодно. О-о-о, как мне надо за компьютер сию секунду. О-о-о, как мне избавиться от этого грубияна?»
– Вы знакомы с Ильей Борисовичем Полянским? – то ли внял, то ли не внял ее совету милиционер.
– Да, конечно. Он – мой издатель.
– Пять лет назад вы покушались на него? Обливали ему руки кислотой?
«Не внял», – горестно поняла Лиза и занервничала.
– Эту историю знает весь город. Я была не в себе. А облила его минеральной водой. Но Илья Борисович рассказывал, будто кислотой. В назидание и наказание мне. Понимаете?
– Не понимаю.
– Что случилось с Полянским? – прохрипела Лиза.
– Вчера в десять ему таки изуродовали руки. Женщина хрупкого сложения. Она опустила на лицо капюшон. А в гараже, куда он ставил машину, было темно. Эта предусмотрительная особа улучила момент, когда Полянский выключил свет и готовился выйти. Молча плеснула на кисти какую-то жидкость и убежала. Он, естественно, остолбенел. Потом что-то внутри сработало: нашел в гараже канистру с водой и смыл «подарочек». Хотя, скорее, воспользовался ближайшей лужей, только стесняется признаться. Сейчас Полянский в больнице. Химический ожог не сильный. Долго не продержат. И шутницу мы найдем очень скоро.
Ошалелый вид Лизы мог убедить в ее невиновности кого угодно, только не этого громадного профессионала. У нее в буквальном смысле слова отвисла челюсть и в уголках рта запузырилась слюна. Писательница вздрогнула, в забытьи вытерлась рукавом, сглотнула и тихо поведала:
– Вчера я писала роман. Когда дело застопорилось, меня потянуло в метро. Я всегда катаюсь в таких случаях. И предпочитаю одиночество. А куда поезд везет, мне все равно. На сей раз вез в направлении центра.
Лиза истерически пыталась вспомнить, говорила ли знакомой, что собирается встречаться с кем-то. Говорила, к сожалению. И вышли они на станции, возле которой жил издатель. Она глотнула воздуха и храбро продолжила нести свою полуправду:
– Но тут я встретила приятельницу. Боялась, что она начнет приглашать меня к себе, а я была не расположена к чаепитию, поэтому согрешила – наврала, будто меня дожидается человек. Когда вышли, разумеется, никто меня не ждал. Мы сели, посплетничали еще с полчаса и расстались. Она поднялась в город, а я, успокоившись, поехала домой и снова прилипла к ноутбуку. Это был самый короткий творческий кризис в моей жизни.
– Координаты приятельницы, – рыкнул милиционер.
Лизе от растерянности почудилось, что не угрожающе, а глумливо. Да, глумливого рычания ей раньше слышать не доводилось. Она продиктовала фамилию, имя, отчество и номер телефона свидетельницы, которая должна была избавить ее от обвинений. Но обрадовалась рано. Упертого мента ее россказни только завели.
– Хотите, я скажу вам, Елизавета Всеволодовна, что произошло на самом деле? У вас опять сдали нервы, вы захотели отомстить издателю по-настоящему. И наняли кого-то для черного дела. Исполнительница могла и не знать, что балуется кислотой. Вы дождались ее отчета в метро, расплатились и вот тогда убрались восвояси. Не скрою, с приятельницей вам повезло. Но она не видела, когда вы сели в обратный поезд.
– Прекратите скудоумием блистать. У меня договор на роман, который сейчас в стадии написания. И не в моих интересах напоминать Полянскому о своей давней глупости с минералкой. Он сам, общие знакомые, сотрудники издательства подтвердят, что у нас давным-давно нет никаких разногласий, что в последнее время мы не конфликтовали. Я лишена возможности достать где-нибудь кислоту, я даже не представляю себе, откуда берутся у людей всякие химикаты. И потом, зачем, по-вашему, мне было нанимать женщину? Уходить на время совершения преступления из дома? Тащиться именно на ту станцию? Мужчина в качестве исполнителя меньше ассоциировался бы с моим хулиганским поступком. А убоявшись, что свидетельство моей родной дочери вызовет у вас недоверие, я отправилась бы в людное общественное место или в гости к друзьям в противоположную от дома Полянского сторону. Разве принять отчет и расплатиться можно исключительно глупым образом, который вы выдумали? Повторяю вам, Илья Борисович сам поведал всем встречным-поперечным о моей выходке, причем утверждал, что был облит кислотой. Даже руки перебинтовывал с месяц. Мне было стыдно, как никогда до этого. Я сначала пыталась опровергнуть все, а потом отказалась от комментариев. Дальше. Полянского калечили в десять. В это время мы с приятельницей только выходили из вагона. От его дома и гаража до метро пять минут ходьбы. Женщина убежала, значит, уложилась бы в три. И она полчаса пряталась за колонной, дожидаясь, когда я освобожусь? Понимая, что Полянский наверняка сразу вызвал милицию? Мне за вас неловко.
Кончилось все так, как должно было: милиционер пообещал Лизе встречу на его территории и ушел.
Едва за ним захлопнулась дверь, из своего убежища выплыла розовая Маша в махровом халате и тревожно спросила:
– Кто это был и почему так непримиримо басил?
Лиза рассказала дочери все. В байку про катание в метро с целью настигнуть упорхнувшее вдохновение Маша не поверила бы. Когда-то Лиза действительно проделывала такое, но уже несколько лет подземка ее разочаровывала – ни интересных лиц, ни забавных диалогов, ни неподражаемых московских чудаков – скука. «Ничего, лет через десять я возрожу традицию, потому что сама становлюсь чудачкой, – обещала Лиза знакомым. – Недавно примеряла дубленки в магазине. Третья по счету – та самая, идет мне невыразимо. В ней тепло, легко, уютно. У меня и вырвалось от души: «Здорово! Будто с войны домой вернулась». Кто бы видел, с какой неприязнью, с каким изумлением уставилась на меня продавщица. А что я натворила? Выразила ощущение, причем актуально – полмира же и сейчас воюет. Да, я часто воображаю, каково человеку перебраться из собственной постели в сырой окоп, а потом из него – в широкую кровать, на чистые простыни, под теплое одеяло. И дай бог, не инвалидом. Это мое право и мое дело. Но все продавщицы как-то догадываются, что мне интереснее мысленно погибать в бою, чем оправдывать покупками их топтание возле вешалок со шмотьем. И им со мной становится жутко и одиноко».
Реакция дочери на описание визита милиционера Лизу слегка испугала. Маша холодно усмехнулась и протянула:
– За что боролся, на то и напоролся, мам. Он всем растрезвонил, будто ты его кислотой облила. Показывал людям забинтованные руки. Он лгал. Он притворялся, чтобы унизить тебя. В итоге получил по заслугам.
– Доченька, ты так свою любовь ко мне выражаешь? Или действительно вконец очерствела?
– Ты знаешь, я тот твой выверт не оправдываю, но тебя понимаю, а его нет. Помнишь, какая дискуссия в Интернете разгорелась, когда кто-то, не удивлюсь, если сам издатель, описал твои похождения? Тебя предлагали судить, лечить и попросту бить. А ведь были и другие мнения. Народ благодарил за то, что постояла за честь нищенствующих писателей. Отвергнутые издательствами авторы вообще призывали распространять твой передовой опыт.
Лиза невольно рассмеялась:
– Да, тогда я вполне могла возглавить организованную преступную группировку «творческих работников». Только к чему ты?
– А к тому. Он тебе спасибо должен сказать. У какого-то обиженного им психопата в мозгах заклинило – кислота на тыльные стороны кистей рук. Иначе гражданин или гражданка могли шваркнуть его по затылку кирпичом, монтировкой, битой. А то и ножиком прирезать. Доведи мое мнение до сведения этого Полянского.
– Точно, именно ехать к нему в больницу я и собиралась. Машенька, если мне позвонит женщина по имени Вера… Нет, если не представится, не уточняй, любая женщина пусть свяжется со мной по мобильнику. Если у нее нет такой возможности, спроси, что передать, и клятвенно заверь, что немедленно мне все сообщишь.
– Ты в своем репертуаре – никому не отказать во внимании. Извини, но иногда мне кажется, ты очень боишься, что когда-нибудь тебя перестанут нагло эксплуатировать. Ладно, уговорила. Я в ванную.
– А я понеслась! – крикнула ей в спину мать.
И действительно бежала дворами до проспекта с максимальной скоростью. Выдрессированная нищетой и пробками, Лиза добралась на такси до остановки маршрутки, которая следовала прямо к больнице. «Те же четыре колеса, по тому же асфальту, сидя, а дешевле в разы», – подумала она, но забыла себя похвалить.
Илья Борисович встретил ее мученической улыбкой, сказать прямо не озарившей, а будто сгустившей полумрак одноместной палаты частной клиники. У Лизы против воли вырвалось:
– Боже, эта дешевая кровать и тумбочка – верх комфорта?
– Верх комфорта – раковина, туалет и отсутствие соседей, – объяснил издатель и выпростал из-под одеяла перебинтованные руки.
– Илья, это не я, – покаянно сказала Лиза. – Клянусь, никого не нанимала и сама тебя не уродовала.
– Знаю, – с каким-то сожалением произнес Полянский. – Ты полегче про уродство. Доктора говорят, что останутся только маленькие светлые пятна, да и они через некоторое время сравняются цветом с обычной кожей. Ожог неглубокий, я успел окатиться водой. За что благодарен тебе – натренировала, заставила почитать, что любой химический реагент нужно срочно смыть большим количеством аш два о. На тебе лица нет. Не волнуйся так. Я сам виноват. Не болтал бы об инциденте, оставил бы все между нами, и пронесло бы.
Лиза, которая только что думала так же, как податливый помидор, нанизалась на шампур жалости и запротестовала:
– Ничего подобного. Сейчас всякие химические составы – модное орудие мести.
– Я в рубашке родился, – шепотом уверил ее Полянский. – А если бы эта идиотка в лицо мне плеснула?
– Ой, в лицо трудно. Тут ненависть должна полностью отключить разум. Стоит представить человеческие глаза… Нет, тебя кто-то пугал. Но вообрази, меня вынесло на твою станцию метро в момент нападения. Милиционер сказал.
– Вызвал кто-нибудь? – оживился издатель, и в его смиренных карих глазах желтой тигриной искрой блеснула кровожадность.
Лиза решила не допускать разнобоя в показаниях:
– Просто каталась, мозги проветривала. А ты, оказывается, почитываешь наши романы. Только в дурном современном детективе преступник может выманить человека, которого хочет подставить, как можно ближе к месту неприятного события и либо не явиться, либо опоздать. На него же мгновенно падает подозрение.
– Падает! Если бы! Как говорится, это настолько глупо, что может и сойти. И сходит, поверь, – досадливо фыркнул Полянский. – Ладно, оставим детективы. Я уверен, что нападение – происки конкурентов. Кто-то нашел нераскрученного автора, пишущего в твоем стиле. Книги твои продаются неплохо, имя создается активно, вот и захотелось поживиться на чужом успехе. Вспомнили историю с кислотой. Расчет элементарен: мы с тобой ссоримся и расстаемся. Тебя более не печатают, территория свободна.
– То есть при любом раскладе подставляли меня? – изумилась Лиза.
– Мне представляется, что тебя.
– Ценой твоих нервов? Твоих рук? И много среди вас, писательских кормильцев-поильцев, таких изуверов?
– Когда не лично обжигаешь человека, кажется, что ничего страшного не произошло. Наверняка наняли какую-то сумасшедшую.
– Которую ты не издал?
– Возможно.
– А ты уверен, что на тебя покушался не низкорослый хилый юноша? Знаешь, облиться духами и приклеить ногти, если тебя только это убедило, мог кто попало.
– Оскорбить стараешься? Я определяю пол по наитию. Ни разу в жизни не ошибся.
– Извини меня, конечно, но твоя юная супруга на тебя ни за что не сердится? С молодыми бывает…
– Снова оскорбляешь? Уже открытым текстом. Все-таки я ее выбирал, я ее три года проверял, мы с ней венчались…
– Прости, прости, – торопливо отступила Лиза. И уныло констатировала: – А ты на меня злишься.
– Повторяю, я на себя злюсь.
– И я на себя.
Оба понимали: нужно обсудить или вехи продвижения Лизиного романа, или качество здешнего лечения. Лиза была склонна оседлать первую тему, Илья Борисович – вторую. Но судьба была милостива к обоим за их муки: в палату вошла толстенная немолодая медсестра – символ опыта и традиций ухода за больными.
– Илья Борисович, сейчас начнется обход, – строго предупредила она. И еще строже обратилась к посетительнице: – Дайте человеку поправиться, выписаться, а потом донимайте разговорами.
Писательница с облегчением попрощалась и вприпрыжку кинулась на улицу. Настроение Полянского показалось ей сносным, она-то готовилась к жалобам и даже упрекам. «Наверное, ему вводят какие-нибудь веселящие и обезболивающие препараты, – подумала Лиза Шелковникова. – Посмотрим, каково будет без них. Озверел народ вконец. Подкараулить хорошего человека со склянкой кислоты, улучить буквально миг между выключением света в гараже и шагом за порог, на относительно светлую еще улицу, молча, почти вслепую, если капюшон был глубоко надвинут, плеснуть… Может, не вся жидкость и попала на руки, может, он отделался легче, чем предполагала эта гадина… И все равно не каждому такое выпадает…» Лиза не успела досочувствовать Полянскому, а то и вновь впасть в самоуничижение – сумка подпрыгнула на плече от бравурной мелодии.
– Ма-ам, – взывала в трубку Маша с другого края города, – тебе звонила твоя Вера Верескова на домашний. Извинялась, передала, что ей не удалось вырваться. Дословно: «Охранники поменялись сменами, дежурил не тот. Но у меня все нормально». Тут где-то рядом с ней мужской голос сказал: «Дорогая». Она пообещала перезвонить тебе и отключилась. Как прошел визит к Полянскому?
– Он даже не пытался меня выгнать. Говорил о себе твоими словами: сам виноват.
– А ты и растаяла. Не верь. Человек занимается самосудом только с целью самооправдания.
– Дочь моя, оставь в матери хоть каплю наивности и веры в людей. Как ты живешь в таком мраке?
– Да я не страдаю из-за того, что кто-то обо мне худшего мнения, чем я о себе.
– Это прекрасно. Но когда-нибудь от чужого мнения о тебе напрямую будет зависеть твое благополучие, – не сдержала менторских наклонностей Лиза.
– Скажи после этого, кто из нас во мраке. Мама, я ухожу по делам. Пока.
– Пока, – рассеянно согласилась писательница, в которой уже распелась довольная душа: кто мог обратиться к Вере в клинике «дорогая»? Конечно, ее режиссер. «Скорее за ноутбук», – подумала Лиза и вдруг сообразила, что Маша медлит и не обрывает связь. – Доченька, не задерживайся, ты же знаешь, как я волнуюсь, когда твоя джинсовая штанина не пришпилена к моей. Звони и отвечай на мои звонки.
– Конечно, – радостно ответила Маша.
«Она приучена существовать в ауре моей тревоги за нее. Ребенок еще, не надо ей замуж. А может, наоборот, по Игнату скучает и прячется в привычной материнской заботе», – подумала Лиза и порысила домой.
Лиза напрасно заподозрила Машу в попытке компенсировать ее нежным кудахтаньем отсутствие вестей от жениха. Игнату девушка позвонила, как только осталась одна. И рассказала о злоключениях матери. Игнат всполошился и очень трогательно выражал сочувствие им обеим. Хорошо, что Лиза об этом не ведала. Иначе разразилась бы выговором. Дескать, разве мало я тебя учила, нельзя мужчине душу открывать. Пока вы ладите, он будет с тобой солидарен. Но стоит отношениям испортиться, его мнение кардинально изменится и каждый некогда произнесенный тобою звук будет использован против тебя и твоей кровной родни в домашних скандалах и трепе с общими знакомыми. Забавно, но всего лет десять назад Лиза с пеной у рта доказывала собственной маме, что мужчины делятся на благородных и подонков, и поведение зависит исключительно от этого, а не от того, по шерсти или против гладит их женщина. Теперь она гордилась тем, что в острых приступах цинизма все-таки оговаривалась: не все таковы, конечно, но многие, и до рокового срока неизвестно, на кого ты нарвалась. «Однако и лет мне еще не столько, сколько маме, – клокотала в ней потребность видеть голую задницу правды. – Вполне вероятно, что в ее возрасте и я стану категоричной до неприличия». Словом, Маша не раздумывая наступила на старые грабли откровенности с женихом. Понять, что они лишь образ и в жизни их палка движется к твоему лбу годами, она была еще не в состоянии. И потом, ты либо ждешь удара, либо влюблена. Чередующиеся же состояния. Об этом даже пишущая любовные романы Лиза Шелковникова часто забывала.
Поскольку жених был вынужден спешно зазубривать роль, а мать состязалась в яркости проявлений комплексов с обожженным издателем, Маша решила смотаться к отцу и раздобыть денег. Один экстравагантный издатель из Германии собирался купить Лизин роман. К неудовольствию автора, не тот, в котором она колдовала над судьбой очередной разнесчастной подруги. А тот, в котором «для заработка и нервной разрядки» описывала взаимную ненависть соседей по коммуналке – молодого наркомана и стареющей проститутки. Но когда намерение иноземца обернется валютой, точно известно не было. И пока мать и дочь располагали невеликим счетом в банке. Свадьбу Маша с Игнатом запланировали скромную, с приглашением самых близких родственников и самых верных друзей, числом пятнадцать. «А мы с тобой, по нынешним меркам, широко общаемся, – сказал Игнат. – На свадьбе моего одноклассника были его отец, мать невесты, ее родная старшая сестра – свидетельница и я – свидетель». Маша радовалась согласию Игната с тем, что тратиться на жратву и выпивку, влезая в долги, глупо. Интересно, где они оба смогли бы занять. Но платье ей хотелось модное и красивое. А художественный вкус Эдуарда Павловича Шелковникова не допускал компромиссов между ценой и качеством, следовательно, желание дочери превосходно выглядеть он должен был уважить. Когда-то даже обещал заказать ей наряд невесты по собственному эскизу.
В метро девушка проиграла в воображении привычные сцены. Встречи: «Дочка, здравствуй, счастлив видеть тебя улыбающейся». И прощания – всегда в маленьком ресторанчике напротив офиса: «Нет лучшего отдохновения, чем любоваться на красавицу дочь; я собирался в отпуск, но теперь обойдусь». Что произойдет между началом и концом, как отец отреагирует на сообщение о замужестве, засобирается ли на домашнее торжество, Маша представления не имела. Но приученная Лизой терпеливо ждать удачи и высматривать ее «сквозь текущие обстоятельства», не загадывала ничего. «Окружающие считают тебя холодной и равнодушной, да?» – пытливо спрашивал Игнат, когда невеста ознакомила его с сим принципом. «Глупцы – возможно. А умные убеждают себя и меня в том, что я мудра и надежна», – серьезно ответствовала Маша. И Игнат, приспособленный по любому поводу сомневаться в себе, уважительно и завистливо кивал. Девушка часто представлялась ему дочерью властной, размеренной Елены Калистратовой, а не демократичной, порывистой Лизы Шелковниковой. По отношению к будущей теще это было несправедливо, актер упивался муками совести, после чего на съемочной площадке его очень хвалил режиссер.
Наверное, Маша не отдавала себе отчета в том, что ее набеги на рабочий кабинет отца без предварительной договоренности по телефону – это своего рода месть за то, что бросил их с Лизой. И проверка – любит ли. Он пытался ее вразумить: «Доченька, я могу проводить совещание, могу быть занят с клиентом, тогда тебе придется ждать, тратить свое драгоценное юное время. Меня может вовсе не оказаться в офисе. Ставь меня в известность о своих визитах, чтобы я имел возможность разогнать всех к чертовой матери». «Я не собираюсь тебе мешать, папа. И подожду с удовольствием, и еще раз навещу, если не застану. Ну пойми, сейчас без предупреждения ни к кому не сунешься. И ласковый прием в любом случае – это признак ближайшего родства», – мягко успокаивала Маша и продолжала являться как бог на душу положит. Отцу оставалось лишь смириться. В чем-то его девочка была права. Вваливались же к нему любовницы с объяснением: «Я успела по тебе истосковаться за три часа». Или: «Была в этом районе у новой массажистки, решила вытащить тебя пообедать, уже почти одиннадцать». А когда Машу в пятнадцать лет скорая увезла в больницу с пневмонией и Лиза позвонила и спросила, нельзя ли зайти и обсудить это, Эдуард с чувством наорал на бывшую жену: «Как ты смеешь звонить, когда у нас единственная на двоих дочь в беде? Да у тебя одна нога должна была быть в приемном покое, а другая уже здесь!»
Но в этот раз Маша действительно оказалась некстати. Эдуард хандрил уже неделю. И только налил себе пятьдесят граммов коньяку для релаксации, тонко нарезал лимон, присыпал кружочки растворимым кофе и сахарным песком, только сделал глоток в предвкушении тепла, обволакивающего желудок и загадочно избавляющего от неприятных мыслей, как секретарша отчаянно крикнула в переговорное устройство:
– Эдуард Павлович, к вам дочь!
Маша опередила ее вопль. Секретарша разве что зубами не заскрежетала. Дочери Эдуарда Павловича она завидовала всерьез. После года тщетного кокетства с боссом девушка зачислила его в разряд порядочнейших людей и стала напропалую мечтать о нем не как о любовнике, но как об отце родном.
– Привет, папа. Расслабляешься? – озадаченно вперившись в хрустальный «тюльпан» на столе, поинтересовалась Маша.
– Доченька! Здравствуй! – смущенно ответствовал Эдуард. И по обыкновению легко отоврался: – Не расслабляюсь, голос восстанавливаю. Осип вдруг, а мне скоро много говорить на презентации.
Маша вообще-то не должна была заставлять отца объясняться, застукав в полдень в компании стакана. Она смутилась и спросила себя: «Как там достичь счастья по-китайски? «Думай быстро, говори медленно, не смотри в глаза и улыбайся»? Ладно, начинаю с улыбки». Растянув губы в прямую линию и слегка оскалив зубы – гримаса, от которой любого китайца бросило бы в дрожь, она объявила:
– А я выхожу замуж.
– Другого выхода совсем не нашлось? – безмятежно спросил Эдуард, сразу поняв, что отделается легким испугом и необременительной денежной суммой. Он помнил о своем обещании нарядить Машу на свадьбу по-королевски. И эскиз платья давно был готов, и старая знакомая портниха, бравшая умеренно за отличный крой и шитье, нетерпеливо ждала хорошего заказа.
– Папа, я не беременна, – мрачно сказала дочь.
– Прекрасно. Но я ни на что не намекал, просто играл словами. Главное – любовь. Без нее я бы и в интересном положении не советовал тебе окольцовываться.
– Ты у меня замечательный, – растаяла Маша и повисла у отца на шее.
– А уж ты у меня… Восхитительное создание. Все-таки дети – это здорово. Хвалишь собственного ребенка и всегда одновременно делаешь комплимент самому себе. Какое гульбище намечаете?
– Человек пятнадцать тихонь, включая жениха с невестой, – призналась Маша, и ей вдруг захотелось грандиозного торжества с парой сотен гостей.
– Правильно. В смирном застолье блюдут душу. И не обделяют новобрачных вниманием. Все добрые пожелания – в глаза, – заговорил Эдуард в непривычном для себя стиле. Услышь его Елена, решила бы, что он издевается над дочерью. Но на самом деле он неосознанно и невольно пародировал речь Лизы. Наверное, сигналил Маше, дескать, не волнуйся, я понимаю тебя не хуже, чем мать. И лишь слова о деньгах заставили его утратить пафос: – О расходах не думай, я все оплачу. Платье, фата, обувь, букет – за мной и на мой вкус, ты не забыла? Доверишься?
– С удовольствием! – воскликнула дочь, не ожидавшая тотальной удачи и светло прослезившаяся от мысли, что Лизе не придется нервничать и молиться, чтобы немец купил роман в течение трех недель.
Маше вспомнилось, как мать наорала на нее, когда она впервые принесла от Эдуарда деньги: «Он подумает, будто я посылала тебя выпрашивать. А мне ничего от него не нужно! Перебьемся, перетерпим, переможемся без подачек презренных предателей». С Лизой случалось: в запале она часто выдавала длинные тирады, слова в которых начинались на одну букву. Маша привыкла и по длине фразы определяла «степень психоза» Лизы: нужно было сбавить тон и прекратить давить на нее или заткнуться и скрыться с глаз. Но в тот раз девочка презрела опасность и возмутилась, как дано возмущаться тупостью предков только в тринадцать лет: «Папа сам обратил внимание на изношенность моих джинсов. Сам предложил купить новые, какие мне хочется. При чем тут ты?» – «При всем! – бушевала Лиза, глотая слезы. – Моя бедная матушка страшно ругала отчима за то, что он каждый месяц треть своей маленькой зарплаты отсылал ее свекрови. И довела до того, что любящий сын ухитрялся подрабатывать и содержать мамочку тайно. Но она все равно находила в карманах квитанции о почтовых переводах и устраивала грандиозные скандалы. Чтобы не потерять право на него орать, мама, когда отселила меня к бабушке, ни копейки не давала. Крутились на пенсию и стипендию. Если в хозяйстве чего-то катастрофически недоставало, она дарила это на Новый год, Восьмое марта, а то и на дни рождения при отчиме. Но он ей не верил. Он не в состоянии был представить, что матери и дочери можно не помогать. И твой отец не поверит, что я при нашей бедности не наложу руку на этот принос». – «Мам, я курицу купила, хлеб и помидоры. Давай поедим, сил больше нет, неделю на яблоках и спитом чае держались», – взмолилась голодная Маша. «Ты ешь, я не буду за его счет, – заупрямилась Лиза. – И купи себе джинсы. И покажи ему обязательно». – «Слушай, по-твоему, папа в любом случае решит, что ты меня гнала к нему за деньгами? Что в действительности мы дружно проели всю сумму, а джинсы, которые я ему предъявлю, заняли у подружки? Тогда твое голодание лишено смысла – им ничего не изменишь и не докажешь», – здраво рассудила Маша. «Давай условимся раз и навсегда: он тебе дал, на себя и трать», – не сдавалась Лиза. «Убедила. Я немедленно отнесу ему назад и остатки денег, и продукты. И объясню почему. И черт с ними, со штанами, мало что ли позорилась перед одноклассниками в рванье, от меня не убудет». Лизе стало жалко дочь. Она сердито вытерла глаза кулаками и проворчала: «Давай есть. Спасибо Эдику. Хороший он отец, если не может спокойно смотреть на дочь в обносках. Ты бы его отказом оттолкнула, обидела…» – «Оскорбила, обездолила, обескуражила, обнесла», – засмеялась Маша. «Чтобы выразить иронию, дочка, лучше ставить в ряд синонимы, а не начинающиеся на одну букву слова», – поморщилась Лиза и не поняла, с чего это Маша принялась хохотать до икоты.
И ведь Лиза оказалась права. Маша позже не раз убеждалась в том, что Эдуард полагал: бывшей жене от щедрот его тоже достается. Не может дочь не поделиться с матерью. И не дано бедствующей женщине устоять и не купить себе какую-нибудь одежку или безделушку на дармовые деньги. Но Лизе умная девушка об этом не говорила.
Маша потрясла головой и вернулась к отцу в кабинет. Он и не заметил, что она какое-то время не слушала его монолог. Эдуард уже закруглялся:
– А теперь, доченька, отправимся перекусить, там расскажешь, кого осчастливила согласием, и расстанемся, как ни жаль. Мне необходимо привыкнуть к факту, успокоиться немного, иначе я с презентацией не справлюсь. Нет, но девятнадцать лет, второй курс, и вдруг замужество. Рано. Золотые годы студенчества потеряешь. Ты у меня умница, красавица, тебе ли бояться одиночества.
– Папа, я уже достаточно взрослая, чтобы отвечать и за свои глупости.
– Какие глупости, если влюблена. Проказы, доченька, милые проказы.
«Предположим, он подробно, дрожащим от волнения голосом расспрашивал бы об оттенках моих чувств, выпытывал всякие детали про Игната, – рассуждала Маша, – и в конце встречи разрыдался: «Доченька, поздравляю, рад за тебя больше, чем за себя. И скорблю прямо из-за нищеты, в которой живу. Нечем мне тебе помочь, нечего подарить». Мне было бы лучше, чем теперь, когда денежный вопрос решен, но ему явно плевать, за кого я собралась? Нет, было бы хуже. Для откровений у меня есть мама. Для финансового обеспечения папа. Удачный дележ родительских обязанностей. Мне везет. Даже не верится, что в детстве я каждый вечер просила: «Господи, пусть родители снова будут вместе. Пусть мы будем бедные, но неразлучные».
Под тяжелым взглядом секретарши они покинули офис, двинулись в уютный дорогой ресторанчик, заказали привычную еду. Эдуард расписывал какой-то новый десерт, уговаривал Машу попробовать, и она снова думала: замечательно, что он переключается, не нудит по поводу свадьбы, не лезет с нравоучениями.
– Так кто твой избранник? – быстро спросил отец, будто собирался покончить с разговорами на новую для них обоих тему до того, как принесут салаты. – Сокурсник? Преподаватель? Или… Неужели заведующие кафедрами все еще женятся на студентках?
– Человек со стороны, – улыбнулась Маша. – Никакого отношения к медицине не имеет. Папа, он актер. Игнат Смирнов. Звучит?
Эдуард, как обычно, без задней мысли, просто потому, что знал – Елене не карьеры ради, а из любви досаждает какой-то мальчишка-артист, и она забавляется, отделываясь от него, но может в любой момент перестать отделываться, сказал:
– Не нарвись, доченька. Он предпочитает зрелых женщин. Бывают такие юноши, ищут вторую, пятую, десятую маму. Пусть проверит свои чувства к тебе.
– Вы знакомы? – удивилась Маша.
– С Игнатом Смирновым? Нет. В мою мастерскую наведываются гораздо более зрелые и знаменитые деятели искусств. Но этот артистический тип для меня не загадка.
Маша испытала облегчение. Меньше всего ей хотелось, чтобы отец разочаровал ее в женихе. А Эдуард, вероятно, решил сразу покончить со всеми возможными недоразумениями:
– Я надеюсь, ты не обидишься, если я не буду присутствовать на свадьбе в узком кругу в доме жениха? Не выношу обычных квартир и маленьких компаний, где тебя разглядывают, словно в микроскоп, и разговаривают как с глухонемым – жестами – и при этом орут в ухо. С Игнатом мы обязательно познакомимся на нейтральной территории после события. Вдруг ты еще передумаешь выходить за него, зачем отягощать ситуацию? Через пару дней я с тобой созвонюсь и приглашу вас с мамой в ресторан поужинать. Там обсудим технические детали.
– Я не обижусь, папа, – вполне искренне заверила его дочь, которая на что-то в этом роде и рассчитывала. Ей было бы неловко: господин Смирнов-старший точно не явится. И лощеный, вальяжный, наверняка облаченный в смокинг и бабочку Эдуард будет резко контрастировать со всеми. Лиза тоже умела принарядиться. Но эта неисправимая демократка решила одеться попроще, чтобы не смущать «милую уютную лахудру Оксану». – А вдруг мама заартачится, – опустила глаза Маша. – Ты же ее знаешь: «Мне надо писать, зарабатывать, по ресторанам мотаться некогда».
– Я ее знаю, – усмехнулся Эдуард, который в свою очередь рассчитывал на принципиальную установку бывшей жены не встречаться с ним, а при случайном столкновении побыстрее расставаться. Больше всего его страшило, что выбитая из колеи Лиза захочет обсудить с ним, сколько покупать выпивки и продуктов. – Значит, действуем как обычно. Я переведу на твой счет деньги, а ты убеждай маму. Ведь это твой праздник, и ты должна быть им довольна. И не экономь, там и на свадебное путешествие хватит.
– Спасибо, папа. – У Маши в горле запершило от благодарности.
Эдуард открыто и пристально взглянул на часы:
– Машенька, мне пора, я в цейтноте. Счет, пожалуйста. А ты обязательно съешь десерт.
– Да, да, удачи на презентации, пока.
Он вложил в молниеносно поданную официантом папочку купюры, чмокнул дочь в щеку и устремился к выходу. Но в дверях притормозил, обернулся и трогательно помахал рукой. Маша послала ему воздушный поцелуй. И в этот приятный миг ей неожиданно пришло в голову, что она так храбро вытрясала из отца деньги по своей вере в его задолженность ей и Лизе. Раз бросил, пусть платит. «Теперь мне этот щедрый человек ничего не должен. Расплатился, все, – подумала она. – Будет предлагать что-то на внуков, и я, как мама, стану отказываться. Какое горькое ощущение предела».
Еще три минуты она ковыряла ложкой хваленый Эдуардом десерт, потом вскочила и выбежала на улицу чуть не плача. «Дошло до утки на пятнадцатые сутки, – стучала в висках детская присказка. – Что папа имел в виду, советуя проверить чувства Игната? Он же недвусмысленно заявил: твой жених – из любителей зрелых женщин. Он счел необходимым меня предостеречь. Может, они все-таки знакомы? Какой ужас, какая грязь будет, если он не справится со своими наклонностями и увлечется мамой. Нет, она никогда не ответит взаимностью зятю, но мне-то от этого не легче. А ведь писательница и актер – души родственные, и читка недавняя подтвердила, что точки соприкосновения у них есть. Скорее я им чужая. Слишком трезвая, циничная, злая. Я быта уверена, что извращенца за версту видно. Но после анатомички… Не спрашивать же Игната: «Как ты относишься к увядающей плоти?» Стыдно. И если у него и в мыслях нет связи со зрелыми дамами, то кем я в его глазах буду?» Словом, девушка мучилась безответными вопросами, вместо того чтобы радоваться отцовским деньгам. Благодарность – хрупкая штука. Ее и безо всякого повода норовят уронить и разбить на счастье не чувствовать себя должником или должницей. А тут Эдуард сам, можно сказать, под руку подтолкнул. Воистину щедрость этого человека была беспредельной.
Эдуард Шелковников медленно шел к офисному зданию. Даже в студенчестве он не бегал после еды. Ни в какой презентации этот классный дизайнер не участвовал. Обманул – вполне допустимая самооборона против вооруженной только порывами и эгоизмом дочери. «Как просто решить Машины проблемы, – размышлял Эдуард. – Дать денег, договориться с портнихой, заплатить за тряпки. И дочка когда-нибудь своим детям со слезами расскажет, что выходила замуж в наряде, придуманном талантливым отцом. Решивши же проблемы, чувствуешь себя мужиком. Дебильная ситуация: раскошелившись – чувствуешь, потрахавшись – не чувствуешь, хоть партнерша и довольна. Что мне делать с двумя бабами, которым не нужны ни мои деньги, ни связи, ни тряпки? Даже штамп в паспорте и фамилия без надобности. Им меня подавай. А я, как выяснилось, уже не в состоянии разрываться. То есть именно разорваться пополам и могу – исчезла эластичность натуры. Кажется, совсем недавно сосуществовал и с тремя, и с четырьмя женщинами. Всего хватало – нежности, юмора, желания. Их глупость не раздражала, мелкие физические недостатки умиляли, требовательность смешила…»
Он кивнул мрачной секретарше и скрылся в кабинете. Удивленно взглянул на «тюльпан» с коньяком и блюдце с лимоном, пожал плечами – прикладываться расхотелось. Позвал по селектору:
– Лиля!
Девушка влетела – на лице грубо намалевана готовность к подвигам и самопожертвованию.
– Слушаю, Эдуард Павлович.
– Убери символы начала загула, – велел Шелковников.
Секретарша посмотрела на натюрморт зверем: отец нахалке дочке предлагал, а она наверняка закапризничала: дескать, коньяк пьют после еды – и в ресторане обедала с вином. Почему счастливы всегда недостойные? Почему Эдуард Павлович в свое время влюбился в маму Маши, а не Лили? Она молча взяла со стола посуду, выплыла за дверь и лихо попыталась закрыть ее ногой. Получилось, но не совсем, осталась небольшая щель, к которой, не осознавая, что делает, шагнул Эдуард. Девушка устроилась в своем кресле, понюхала содержимое бокала и отчетливо пробормотала:
– Ну, держите меня семеро.
Начальника позабавило такое знакомство с элитным коньяком. Судя по тону, Лиля пробовала всякую дрянь и аромат ее удивил и заинтересовал. Она еще раз опустила длинный вяловатый нос к хрустальной кромке, потом решительно обратилась к Абсолюту: «Господи, прими за лекарство». И залпом выпила красновато-коричневую жидкость. Отдышалась, взяла кружок лимона, шумно слизала с него кофе и сахар и жалобно продолжила доставать Небо:
– Господи, пусть Эдуард Павлович меня удочерит. Ты же всемогущий: устроить любое чудо – семечки. Тебе ничего не надо делать, только пожелать. А я всю жизнь буду соблюдать посты и молиться утром и вечером. Ты избавишь меня от зависти, даже ненависти к этой самой Машке, которая совершенно по-хамски обращается с родным папой. Боже, пожалуйста, я больше не могу выносить равнодушия этого шикарного умнейшего мужчины.
Шелковникову вдруг дико захотелось выйти к ней, сказать что-то вроде «Лиля, услышав от современной юницы две поговорки кряду и трогательную молитву о чуде, я обнаружил в себе залежи отеческой любви к тебе» – и увидеть реакцию. Но хулиганить он поостерегся. Вспомнил, что секретарша безоглядно кокетничала с ним, а затем неожиданно стала вести себя как школьница с учителем – хлопать глазами и приоткрывать рот, когда он давал ей какое-то задание, спрашивать, правильно ли она его выполнила. Даже одеваться начала в некое подобие ученической формы. «Бедная девочка, – бесчувственно подумал Эдуард. – Сумасшедшая алкоголичка. Надо немедленно ее уволить. Или перевести к молодым дизайнерам, они ей живо проветрят мозги. Нет, но какова стерва – обвинять мою Машеньку в хамстве, называть Машкой! Изучила бы свое отражение в зеркале, прежде чем пытаться соблазнять «шикарного мужчину». Проверила бы IQ перед решением изображать дочку «умнейшего».
Он уже давно отошел от смотровой щели и восседал за компьютером с гневным лицом. Прошло минут десять, и из приемной раздалось тихое фальшивое пение о любви и разлуке – голодную страдалицу Лилю развезло от пятидесяти граммов качественного алкоголя. Эдуард невольно улыбнулся, легко поднялся и бесшумно закрыл дверь.
Лиля отвлекла его от мыслей о двух материально независимых женщинах. Но представление закончилось, и он очутился наедине со своей головной и сердечной болью. Они с Еленой были людьми занятыми, с ненормированными рабочими днями, вечерами и ночами. Поэтому договорились обходиться без близости, вызванной первым свистом того, кому вдруг приспичило. Тут проблем не существовало. А клиентка, на которую неожиданно для себя запал никогда раньше не грешивший против профессиональной этики Шелковников, располагала массой свободного времени и смело демонстрировала ограниченный интеллект. Когда-то он считал таких женщин идеальными для постели. Не готов пятидесятилетний дизайнер оказался к тому, в чем убедили молодую даму глянцевые журналы. А именно: ее, модно накрашенную и одетую, соблюдающую диету и посещающую фитнес-клуб, богатую и жадно прочитавшую все статьи о любовных играх, должны хотеть все мужчины в режиме нон-стоп. Кроме собственного мужа, который просто обязан был лазить под юбку любовницы, чтобы дать жене повод ему изменять. Сексуальный график, навязываемый влюбленной дурой, Эдуард жестко корректировал своим директорством, отнимавшим большую часть суток, и легко выдерживал. Но и осточертела она ему гораздо раньше, чем менее активные и самоуверенные. И не в состоянии была это почувствовать или понять. Зато Елена Калистратова, которой он не давал повода заподозрить измену привычными ласками, отличалась звериным чутьем на соперниц. И с самого начала интрижки с заказчицей она неодобрительно вглядывалась в своего мужчину, словно ждала, что он вот-вот расколется. В том, что после она его прогонит, невзирая на симпатию и влечение, сомнений не было. А ему так хотелось иногда, чтобы она устроила скандал, не имея доказательств его неверности, чем заставила бы бросить несостоятельную пассию.
Теперь Эдуарду было неуютно в присутствии Елены. И новую подругу он с огромным трудом выносил. Надо было поскорее закончить с ландшафтом вокруг ее особняка. Но она тянула время, придумывая все новые и новые «изыски». Эдуард еле сдерживался, чтобы не называть их бредом. Он докатился до того, что стал требовать немыслимые суммы за каждое дерево, каждую скамейку. Лиза позабавилась бы, узнав, что он не спит с дамой ради денег, но дерет с нее втридорога, чтобы мирно перестать спать. Горе-любовник пару раз заставил съездить к ней своего молодого подчиненного, у которого глаза лучились алчностью, а обтягивающие джинсы бугрились половой озабоченностью. Кажется, она и его уложила на супружеское ложе. Но от Эдуарда не отвязалась.
Шелковников потер седеющие виски. Стало немного легче, как всегда, когда удается хоть пальцем пошевелить в трудной ситуации. «Немедленно закругляюсь с ее делами, – поклялся он себе. – Иначе я убью эту ненасытную тупую бабу – утоплю в том пруду, который по ее милости вырыли на месте холма. Женская похоть омерзительна. Она, как сегодня выяснилось, может принимать формы жажды быть удочеренной. Может, мне жениться в последний раз? А на ком? На Елене? И что это изменит в наших жизнях? Превратит их в одну? Нереально».
Однажды неохотно отметившая свое шестидесятилетие мать пожаловалась Эдуарду: «Я ощущаю себя старинной лампой. Увидевшие впервые хвалят. Привыкшие сдувают пылинки. Но никто не включает». Эдуард сухо выговорил: «Мамочка, ощущать себя можно только кем-то, но не чем-то. Разберись с определениями». Она смотрела на него жадно и испытывающе, будто ждала открытия тайного смысла происходящего с ней. Не дождавшись, вздохнула: «Нет, родной мой мальчик, именно человеку дано ощущать себя всеми и всем. Но это приходит, когда ему становится плохо быть самим собой».
С тех пор миновало лет десять. И он вдруг поймал себя на том, что начал изредка задаваться вопросом, со всеми ли людьми чувствует собственную одушевленность. Более того, ощущает себя собой, Эдуардом Павловичем Шелковниковым. Взять хотя бы сегодняшний день. С Машей, которой оплатит свадьбу, – бесспорно: он считал себя хорошим современным отцом. С Лил ей, от которой собрался очистить приемную, – тоже: руководить подчиненными может только самоуверенный и жесткий начальник. С заказчицей, которую надлежало срочно бросить, – да: он не терпел женского диктата, вплоть до материнского еще в нежнейшем возрасте. Тут и обнаружилось, что исключением стала Елена Калистратова. Эдуард вникал в свое открытие, посмеивался, но разувериться в его подлинности не смог. Было очевидным, когда между ним и ею возникала какая-нибудь гурия, он жил каждой своей клеткой. Когда поступал в полное распоряжение Елены, каменел. У нее все было наоборот. «Кто из нас нормален? – спросил себя Эдуард. И искренне ответил: – Не имеет значения. Просто впервые с девкой еще не порвал, а любимая женщина уже особой нежности не вызывает. Устал. Позвонить Елене? Не совсем то, чего хочется…»
Но он позвонил. Изводившая себя ревностью к Лизе любовница от неожиданности даже поинтересовалась, что сотворить на ужин, и уточнила: «Только я домой вернусь не раньше десяти». Эдуард милосердно пригласил ее в ресторан. Она согласилась. И продолжила нехорошо думать о его бывшей жене. То, что эта деловая шикарная женщина находилась в неведении относительно истинной своей соперницы, не облегчало ее участь. Затем она набрала номер Игната Смирнова, оправдываясь банальной формулой Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Уверенный в том, что родился домашним, а не диким зверем, актер собирался нырнуть в метро, где становился недоступен для мобильной связи. Поэтому отчитался быстро: у тещи неприятности с милицией, он звал ее и Машу в кино, чтобы развеялись. Но у писательницы полно заморочек – сегодня пятница, а вечера пятниц она коротает в ресторанчике возле дома. Говорит, там подают здоровую еду и встречаются интересные типы, которых тянет описывать.
– Так что в кино мы отправимся с Машей. Благослови, родственная душа, – скороговоркой попросил Игнат.
– Бог с вами, жених с невестой, – рассмеялась Елена.
Ей не стало одиноко. В ней царил свихнувшийся от мужицкой зрелости Эдик, которого надо было срочно приводить в чувство. Учитывая, что именно бесчувствием он и маялся, не увлекшись кем-то, кроме Елены, она рисковала. Но куда ж деваться, если отсутствие знаний образует судьбу, а их наличие разрушает. Судьба – это упрямо хранимый набор иллюзий. Елена Калистратова полагала, что давно избавилась ото всех. Она ошибалась. Впрочем, как и Эдуард. В отличие от хронически женатых мужчин, он привык менять баб. И его мозг добросовестно обслуживал привычку, изменение которой требовало массовой гибели нервных клеток. Оба упражнялись в самозащите, не понимая, откуда исходит опасность.
Глава 8
Я строила воздушные замки. Но они почему-то не таяли в небе, а взрывались. И на злосчастную мою голову валились тяжелые грязные обломки. Парадокс. Но теперь я запрещаю себе мечтать. Изредка мелькает вдали призрак надежды, и ладно. Я давно вышла из запоя, отоспалась, отъелась. И сейчас вроде бы спокойна внутренне. Мне вроде бы комфортно в мягком старом кресле. Почему «вроде бы»? Потому что за ребрами слева щемит, и рука с сигаретой ходуном ходит в крупной дрожи. И я все знаю. Мне некуда спешить – это покой и комфорт. Мне незачем спешить – это сердечное нытье и дрожь пальцев.
Из дневника Веры Вересковой
Маша вернулась домой сердитая и заплаканная.
– Что случилось? – всполошилась Лиза, которая как раз сварила и наливала в чашку кофе и поэтому рванула в прихожую из кухни, едва заслышав скрежет ключа в замке. – У тебя же глаза на мокром месте!
Дочь не смутилась, а еще больше посуровела:
– Ничего. А слезы, наверное, от смога. Я ездила к папе. Он оплатит и фату, и букет, и платье, и стол, и свадебное путешествие.
– Спасибо ему, – промямлила Лиза. – Но мы могли бы выкрутиться сами.
– А могли бы и не, – отрезала Маша. – Извини, я хочу принять душ, жара.
– Разве? – удивилась Лиза, которая несколько часов гуляла со своими романтичными героями в зимнем парке и не слишком осознавала, откуда явилась Маша.
Ее кровиночка под два метра ростом бесплотно скользнула между матерью и стеной в направлении ванной. Обернулась:
– Кстати, мам, не нервничай из-за денег. Папа заплатил за то, что не появится ни в ЗАГСе, ни за столом у Оксаны, столько, сколько считал нужным. Проникаешься? Отсутствие себя, драгоценного, он оценил в очень большую для нас с тобой, но не для него сумму.
Мать не в первый раз за последнюю неделю заметно передернуло.
– Я нашла формулу покоя несколько лет назад, ты же знаешь. С тех пор не отказываюсь от чужой помощи. Жизнь непредсказуема. Если когда-нибудь Эдику понадобится что-то от нас, мы в две лепешки расшибемся, но не оставим его. Конечно, надо молиться, чтобы ничего ужасного с ним не случилось. Ловко?
– Умница ты моя.
– Доченька, отец чем-то тебя обидел? Ты хотела видеть его и в ЗАГСе, и за столом у Оксаны?
– Да нет, ему действительно нечего делать в незнакомой компании. Он предлагал встретиться с тобой и со мной, обсудить что-то. Я сказала, что ты запойно пишешь и вряд ли выберешься. Папа нашел мужество не рыдать, не рвать на себе волосы. И бодро сообщил, что положит деньги на мой счет.
– Правильно, – не очень искренно одобрила Лиза. Сама просила дочь не устраивать ей встреч с Эдиком, но, когда та за нее отказывалась, почему-то раздражалась. – Согласись, он милый и не жадный человек.
– Ты полагаешь? Твоя пронзительная благодарность за его подачки выводит меня из равновесия. Многие папы с рождения кормят, поят, одевают, развлекают и учат своих детей. Есть такие, кто обеспечивает их жильем, машинами, работой.
– Когда-то мне бабушка на похожие выступления отвечала: «И есть папы, которые пьют, бьют, из дома гонят. Бросают, алиментов не платят, а в старости приползают невесть откуда и требуют содержания и ухода. Не смотри на тех, у кого лучше, смотри на тех, у кого хуже». Но я помню, как бесил меня запрет равняться на счастливых. А совет искать утешения в чьих-то злосчастьях казался верхом непристойности. Поэтому только спрашиваю: Машенька, что произошло?
– Повторяю, ничего.
– Ладно, ты привыкла все держать в себе, не буду лезть в душу. Звонил Игнат. Он собирался пригласить нас в кино. Я отказалась под предлогом традиционного одинокого ужина в ресторане. Надеюсь, это правильно.
– Он только что звонил мне на сотовый. Я согласилась.
– Классика! – радостно воскликнула Лиза. – Но мне как-то непривычно. Я повадилась сбегать из дома по пятницам, чтобы ты могла устраивать свои вечеринки. А теперь и ты уходишь и я.
– Как тебе Игнат? Нравится? – не выдержала Маша.
– Употреблю вечное материнское: «лишь бы тебе нравился». Я его пока знать не знаю. Да и ты тоже. Но можешь быть уверена в моем полнейшем невмешательстве в ваши отношения. Умная свекровь держит невестку в тонусе претензиями. Умная теща бывает тише воды ниже травы.
«Все-таки я злая, – подумала Маша. – Папа, желая мне добра, предостерег. Тут что-то личное. Вдруг от него боготворимая женщина сбежала с молодым актером? Мама не способна влюбиться в моего мужа, табу на любые чувства, кроме дружеских. А я уже готова родителей ненавидеть. Что любовь с нормальными людьми-то делает». Дочь оглядела свою маму, вообразила ее соревнующейся с водой и травой в непритязательности и захихикала. Лиза перевела дух. Она заболевала, когда кто-то рядом был унылым. И маниакально пыталась человека растормошить и насмешить. Иногда удавалось. Но чаще случалось как теперь – она делала паузу в клоунаде и говорила серьезно, что думает, а люди вдруг начинали ржать. Под хихиканье она успокоилась и сразу догадалась:
– Маш, отец, вероятно, сболтнул какую-нибудь бестактность про Игната? Не расстраивайся. Признанный дизайнер, вроде него, по натуре мало чем отличается от начинающего артиста. В общем, сам такой и сам сякой. Понимаешь, Эдик никогда не ударит звуком специально, расчетливо. Слова выражают только его настрой в данную минуту. Через часок очухаешься от того, что услышала, станешь выяснять отношения, а он потрясение восклицает: «Я ничего подобного не говорил, не мог сказать!» И он не обманывает, не притворяется: голова в беседах с близкими людьми не задействуется. С чужими – другое дело. То ли он абсолютно доверяет своим, то ли плюет на них, я не разобралась. Ты, помнится, в душ собиралась?
– Ага.
Маша вернулась к Лизе, потерлась щекой о ее макушку и быстро скрылась у себя. Ее травила досада. Назваться злой, простить отца, снять подозрения с матери и жениха – нелегкий труд. И он оказался напрасным – Эдуард Павлович Шелковников позволил себе быть собой, только и всего. Он не нуждался в ее прощении, ибо не догадывался, что оскорбил Лизу и Игната. Они не нуждались в оправдании, потому что не провинились и не собирались. Любовь ничего не делала с нормальной Машей, являясь ее собственным состоянием. «Я поторопилась с обвинениями, но буду мыться, а не топиться», – героически решила девушка.
Легкие угрызения совести из-за того, что поверила возведенной на Игната напраслине, под струйками теплой воды, при массаже детской поролоновой губкой как-то биохимически, незаметно превращались в стремление доставить жениху удовольствие. Эстетическое как минимум. После душа Маша облачилась в свое самое дорогое белье, самое модное платье. Обулась в сногсшибательные туфли, забыв, что первой с ног они сшибают ее. Посмотрелась в зеркало и почувствовала себя человеком, исполнившим свое предназначение и раздавшим все долги. На миг даже умереть захотелось. Но пора было бежать на свидание. Цейтнот – лучший стимул к жизни. В молодости, разумеется, когда полно впечатлений, когда проблему в спешке можно не заметить, а заметив, просто обогнать. Терзающий, с материнскими генами перенятый дар спотыкаться о чужие боли девушка интуитивно реализовала, поступив в Медицинскую академию. Поэтому казалась писательнице Шелковниковой слишком безмятежной. А маме Лизе – обделенной беззаботностью. Это двойственное чувство и захлестнуло ее, когда она целовала дочь перед уходом. Маша повернулась спиной, и Лиза неожиданно для себя истово перекрестила эту спину, прошептав: «Что мне остается делать? Денег у меня нет».
Часа через два вгоняющий в озноб эпизод, в котором нищая похмельная мать тайно крестит узкую спину изгоняемого ею к богатому отцу на постоянное жительство сына, был готов. В трактовке Лизы невезучая баба и пьянствовала-то, и ругалась специально, чтобы мальчик бежал от нее без оглядки и жалости. Писательница решительно выключила компьютер. Сказала Игнату, что отужинает в ресторане одна, уважит привычку, значит, надо исполнять. Не лгунья же она, а просто фантазерка. Пачкать этот безотказный инструмент самооправдания Лиза не любила. Да и обожженные кислотой руки Ильи Борисовича из сознания не шли и к вечеру доняли ее, как зреющий фурункул: вроде и не болит сильно в конкретном месте, а без анальгетика не житье. Только приняв лекарство, соображаешь, насколько измучилась.
Лиза не очень старательно принарядилась – «маленькое черное платье», которое у нее было синим, босоножки на высоченном каблуке. В отличие от Маши, недавно выплясывающей перед зеркалом, она стояла смирно, но недолго. В итоге простонала: «Нет, не могу», сняла обувь, натянула тонкие чулки, вновь пристроила ступни в изящную вязь кожаных ремешков. Тут у нее автоматически расправились плечи и вскинулся подбородок. У кого-то осанку «делают» каблуки. У нее – чулки. Заставить эту женщину сочетать выходную одежду и шпильку с голыми ногами не представлялось возможным, что бы ни творилось на мировых подиумах. «Ты – раба замшелых условностей», – издевалась дочь, намерившаяся светить в театре обнаженными коленками. «Скорее я их закадычная подруга», – возражала Лиза. «Ну, дружи», – снисходительно дозволяла Маша, незаметно засовывала в сумку колготки и торопливо надевала их в подъезде из солидарности с отсталой матерью. Снять, правда, перед возвращением домой забывала, но Лиза вполне педагогично замалчивала этот промах.
Писательница вспоминала дочкины фокусы, чтобы прогнать беспокойство. Но оно не отставало от нее всю короткую дорогу от квартиры до громадного торгового центра. В нем обосновались несколько сносных кафе и ресторанчиков. Лиза облюбовала рыбный на третьем этаже. Раз в неделю можно было и в центр съездить, но она принципиально гоняла машину только на дачу и катала Машу – бездействовать в пробках темперамент не давал. Праздно киснуть в такси было еще омерзительнее. Оставалось метро. Но спускаться туда в чем-то, кроме джинсов, имея конечную цель минут через сорок пожрать, было недоступным ее уму решением.
Она усаживалась за столик, когда поняла, что сопротивляться натиску тревоги воспоминаниями или анализом своих пристрастий бессмысленно. И сразу то, что донимало инкогнито, внятно назвалось: издатель утверждал, что ее подставляли, изничтожали как романистку… Задаваться вопросом «за какие такие провинности?» было глупо; вопросом «кто?» – еще глупее. Это могло занимать людей нормальных. А Лиза готова была сочинить десяток историй на заданную обстоятельствами тему, поэтому твердо знала, что правды не выяснить. И без затей впала в уныние: душу саднит так, что не до причин и следствий – не окочуриться бы в интерьере с претензиями – аквариумы, какие-то сетки с раскрашенными пенопластовыми медузами свисают с потолка. Кто вообще додумался устанавливать аквариумы с живыми золотыми рыбками в месте, где сдирают чешую, потрошат и швыряют на сковороды их сородичей? Может, рыбкам и все равно, для них ароматов не существует, но людям-то неприятно. «Как, однако, желание сохранить свою шкуру стимулирует заботу о чужой чешуе», – подумала Лиза.
– Добрый вечер. Рады вас видеть, – проворковал женский голос, и грубоватая рука, украшенная разномастными серебряными кольцами, положила перед ней меню.
– Здравствуйте. Все как обычно, – машинально заказала писательница и лишь тогда изволила взглянуть на официантку. Знакомое лицо, имеет представление об обычном.
– Отдыхайте, исчезаю.
«Странное заявление, – подумала Лиза. – Как это – исчезаю? Надолго?» И снова провалилась в себя, будто в грех – бесповоротно, пока врачи не запретят. «Кому выгодно нас с Полянским ссорить?» – мучилась она. И услышала сверху басок, четко произнесший: «Мне». Судя по нетерпеливой интонации, слово было не единственным, но остальные эта сомнамбула пропустила мимо ушей. «За окном раздался звук. Оказалось, это глюк», – утешалась она современным городским фольклором, опасливо поднимая глаза. Вероятно, боялась увидеть официантку. Но у противоположного края столика замер высокий худой мужчина лет сорока пяти. Порода – дворняга, этакий обаятельный сутуловатый некрасавец. Лиза традиционно зажмурилась и вновь посмотрела: визави не испарился, но принялся, вероятно, за свое старое:
– Задумались? Извините, но повторюсь в третий раз: разрешите к вам присоединиться? Случайно выяснилось, что я не могу есть в одиночестве, хотя сутки голодал. Не дайте погибнуть в ресторане. Так вы позволите?
Лиза Шелковникова медленно обвела взглядом небольшой зал. В пятничный летний вечер народу было мало, но каждому человеку, кроме нее и мужчины, кто-нибудь составлял компанию. Значит, его просьба не являлась экспромтом. Хотя бы визуальное наблюдение он осуществил тщательно. Она сделала приглашающий жест и сказала:
– Не дать вам умереть с голоду – мой человеческий долг.
– Благодарю, – ответил он, устраиваясь на жестком стуле.
Лиза привыкла к тому, что любого субъекта в преддверии нервного срыва так и тянет душевно с ней потрепаться. Странные люди приставали к ней в транспорте, на улице, в кафе – да везде. Даже дома от набравших не тот номер отбою не было. С годами она стала реже соглашаться выслушивать исповеди, но иногда вспоминала молодость. А потом сострадала врачам, священникам и попутчикам. Но, взявшись исполнить человеческий долг, она уже не могла отступить. Необходимо было сразу выяснить, претендует ли сотрапезник на насыщение в обоюдном молчании или при звуковом сопровождении.
– Вы напрасно ждали кого-то? – поинтересовалась Лиза для затравки.
От незнакомца прохладным сквознячком исходила растерянность, а не агрессия, что с некоторых пор не умаляло ее писательского достоинства. А раньше не было желаннее подвига, чем мудрым словом усмирить чужую ярость. Но нарвалась раз, другой и однажды выступила перед дочерью с прочувствованной речью: «Машенька, никогда не отдавай людям душу, она им без надобности, у каждого своя есть. Помоги делом, рублем. Если не можешь, не терзайся». – «А-а, понятно, терзания из-за невозможности помочь делом или рублем и есть душа», – ехидно вывело дитя сочинительницы, привыкшее к таким откровениям. «Ты думаешь? – доверчиво спросила Лиза. – Это очень интересно. Мне надо над этим поразмыслить». И она ушла к себе с торжественным видом. Маша только вздохнула – у матери нужно было учиться тому, как не стоит жить.
– Нет. Я возвращался от друга, по пути к метро решил купить бумагу для принтера, – отчитался мужчина. – Набрел на ресторанчик. Почему-то захотелось втянуть ноздрями запах жареной рыбы. А здесь совсем ею не пахнет.
– Да, кондиционеры мощные. Я люблю рыбу, вот сюда и повадилась.
– Давно повадились?
– Не слишком. Раньше обреталась в кафе через дорогу – там отменные шашлыки.
Он мимолетно улыбнулся, будто она подтвердила нечто важное для него. И снова проявил инициативу:
– Меня зовут Сергеем. Позвольте, раз уж я нарушил ваше уединение, предложить вам вина.
– Меня зовут Лизой. Спасибо за предложение, но я не пью ничего, кроме минеральной и сока. Еще не курю – ни активно, ни пассивно.
– Я вам завидую, – не слишком бодро произнес Сергей, но в его глазах вновь мелькнуло удовлетворение.
«Кажется, я оправдываю какие-то его ожидания», – вяло подумалось Лизе. Подошла официантка с ее салатом, приняла заказ нежданного соседа. Писательница не взглянула на еду, демонстрируя, что подождет его.
– Вас что-то гнетет, Лиза?
– «Гнетет» – приятное слово. Давно не слышала его в устной речи, Сергей.
– А в письменной слышали?
Шелковникова рассмеялась – у сидевшего перед ней человека был слух.
– Простите, чем вы занимаетесь? Острите?
– Пишу сценарии. А вы?
– Пишу романы.
– Ого! Рыбак рыбака видит издалека. Это я к тому, что подсел именно к вам…
– В рыбном ресторане.
Теперь засмеялся он.
У столика вновь возникла официантка. И ужин начался.
Едоки изредка обменивались гастрономическими впечатлениями, подчеркнуто не мешали друг другу и старались жевать в одном темпе, чтобы видом бумажника не портить «отстающему» прощание с десертом. Наконец, оба покончили с кофе. Лиза быстро попросила раздельный счет.
Из зала они вышли вместе – не было повода давать другому фору. До закрытия заведения оставалось минут тридцать. Сценаристу направиться бы за бумагой для принтера – голодный обморок больше не грозил. Но он, вероятно, забыл о цели посещения торгового центра. А писательница не сообразила нырнуть в какой-нибудь закуток с дамским бельем, чтобы дать ему возможность откланяться. Поэтому и по лестнице они спускались бок о бок. Теперь набитые рты не мешали им общаться, и Сергей воспользовался этим первым:
– Моя знакомая устроилась переводчицей к американцу на месяц его российской командировки. В ее обязанности входило провожать его в гостиницу. И однажды он принялся уламывать эту красивую молодую женщину отужинать с ним в гостиничном ресторане. Было поздно, они целый день мотались по совещаниям, она устала, у нее болело горло. Но сжалилась. Заказали. Поели, поболтали. Он сказал, что ему пора, оставил деньги за себя и ушел в номер. Она обалдела – цены невероятные, наклевала курочка по зернышку на три тысячи, а в кошельке всего семьсот рублей. Хорошо, что водитель служебной машины из-за пробок отъехал недалеко, вернулся к гостинице, одолжил. Лиза, это преамбула извинения. Официантка смотрела на меня чуть ли не брезгливо, когда вы доставали деньги. А я сразу хотел предложить угостить вас всем, чем пожелаете, не только вином, если приютите за своим столиком. Но не решился продолжать, когда вы отказались выпить.
– И были правы – я не торгую местами рядом с собой, – улыбнулась Лиза. – Я пока способна посидеть напротив культурного человека за свой счет. Надеюсь, вы не собирались предложить истраченное мной на еду теперь же наличными?
– Не собирался. Но, если не возражаете, я провожу вас до подъезда, – все еще смущенно щурился Сергей.
Надо было изживать его неловкость, в этом «надо» – вся Лиза. И, не успев прикинуть, довольна ли неожиданным эскортом, она не позволила себе ломаться:
– Буду вам только благодарна. Начитаешься, что во дворах в сумерках творится, так перестанешь отказываться от провожатых. Верите, никогда никого не боялась, полагала, что и с животными удается договориться спокойным тоном. Но в последнее время как-то не по себе углы срезать.
Они выбрались на улицу. Лето с юным нахальством ущемляло тьму в правах, и сердобольная романистка вполне обошлась бы без попутчика, который, следуя ее же теории дворовых рисков, мог оказаться и грабителем, и насильником, и убийцей. Но после бурной поддержки Сергеева начинания отказ в нем участвовать был бы проявлением вздорности характера. И Лиза решила не портить случайно произведенное впечатление уравновешенной особы. Но Сергей почему-то хотел ее растормошить. И начал прямо спрашивать про житье-бытье. «Материал нужен? Эскиз с натуры? Интересно, он мой образ в «мыло» или в ситком прочит? – резвилась на полянке цинизма писательница. – Мог бы и придумать мне биографию. Неужели лень? Или работает поточным методом и не успевает ни черта? А поведаю-ка я ему про свою алкогольную зависимость из-за незадавшейся карьеры. Отмалчиваться все равно не смогу, откровенничать не тянет. Поверит или нет?» То, что Сергей – первый встречный, то, что он – мужчина, ее не волновало.
Тут всего лишь выявилась еще одна своеобразная черта характера Лизы Шелковниковой, который всегда бежал вместе с ней вперед, не разбирая дороги. Она чувствовала себя женщиной только с тем, в кого сегодня была влюблена, с кем делила постель. И лишь его признавала мужчиной. Все остальные являлись для нее просто людьми: обусловленные их полом особенности представлялись ей качествами личностей. Посему во взаимоотношениях она ориентировалась не на различия в физиологии и психологии, но на то общее, что свойственно человекам. Это приводило к множеству недоразумений, но ее собственная откровенность пресекалась отсутствием интереса собеседника к теме и ничем другим. И никому не удалось объяснить ей, почему не зазорно справлять нужду или менять одежду в присутствии однополых существ. Стыд был для писательницы категорией нравственной. Не одна подруга слышала от нее: «Ты стыдишься своего толстого живота? Глупости. Стыдись чревоугодия».
Всем этим и объясняется то, что она себе позволила. Обычная женщина не додумалась бы живописать мрачные глубины собственного падения мужчине. Тем более адекватные дочери Евы не стали бы приписывать себе чужие безобразные слабости. А Лиза взахлеб пересказала Сергею сочиняемый роман до того места, где ей пора было отправляться в клинику. Она так увлеклась, что не заметила, как остановилась вместе со своим слушателем посреди дороги, а затем перекочевала на скамейку и там излила якобы вымоченную в бормотухе душу до конца:
– Но полгода тому назад я удачно закодировалась. Не пью, не курю. И совсем не хочется. Правда, способность писать долго восстанавливалась. Верите, Сергей, даже дневник не вела. А вчера начала марать бумагу, перекрестившись, что называется. И ночью мне снился цветной сон, будто смотрела фильм. Раньше оставалось только «изложить содержание увиденного» – получался синопсис романа. К сожалению, этот сон я не смогла вспомнить. Но знаю, что следующий обязательно застрянет в памяти. И я напишу первый в своей новой жизни роман. Говорят, мастерство не пропьешь. Я верю.
– Талантливая умница, сильная духом девочка, я рад, что все самое тяжелое позади, – тихо, словно про себя, произнес молчаливый спутник. Он осторожно погладил Лизино запястье и быстро сказал: – Извините.
Писательница очнулась. Они сидели напротив ее подъезда.
– Заболтала я вас, Сергей, – повинилась Лиза, встала и направилась к двери. – Мне сюда, спасибо, что проводили, выслушали исповедь, да еще и грехи отпустили, насколько я поняла ваш ласковый жест.
– Не мне грехи отпускать, своих много, – горячо отказался от предложенной чести не отстававший сценарист. – Лиза, не сочтите за навязчивость… Давайте обменяемся телефонами. Созвонимся, встретимся, еще поговорим. Пожалуйста.
Они были на крыльце, и в свете фонаря Лиза вдруг сообразила, что он глядел на нее с обычной мужской надеждой на взаимность. Сообщив ему свой номер, она призналась бы: вы мне тоже интересны, тоже понравились. Тут уж альтруизмом не прикроешься. До Лизы наконец дошло то, что он отправил ей, еще стоя у противоположного края столика в ресторане: фраза о невыносимости ужина наедине с солонкой была предлогом знакомства. Он хотел познакомиться именно с ней, потому что озвучил просьбу составить ему компанию трижды, не отчаявшись от глухоты ушедшей в себя женщины. Она могла сказать, что их потребности разнятся, как плюс и минус, – ее устраивало именно молчаливое общество солонки. И из человеколюбия посоветовать ему купить в кафетерии бутерброд и сжевать, глядя в глаза кассирше или повернувшись лицом к очереди. Могла сухо попрощаться с ним в дверях ресторана после совместной трапезы. Могла категорически запретить себя провожать, обнаружив, что на улице светло. И вот четвертый шанс – не соглашаться обмениваться номерами, игнорировать его такое мирное и одновременно энергичное «пожалуйста».
Это слово и решило дело. Лиза отродясь не умела отталкивать дружелюбно настроенных людей, когда их к ней прибивало. Воспринимала таковых подарками судьбы. Она ценила момент и редко пыталась заглядывать в будущее отношений, зная, что в девяти случаях из десяти его попросту нет. Зато позже она развивала эти контакты в романах – в одном так, в другом эдак. Работа у нее была такая. А как работается, так и живется. Круги должны замыкаться, иначе они не круги.
– Ну, записывайте, Сергей, – улыбнулась Лиза. – Вы мобильником пользуетесь для этих целей или старорежимной книжкой?
– Мобильником. А дома еще и бумаге доверяю некоторые номера. Не все, разумеется.
– Надо же, и я тоже.
– Лиза, запишите и мои номера – мобильный и городской, будьте добры.
– Диктуйте. Ага, готово. До свидания, Сергей.
– До свидания. Я позвоню завтра. Не возражаете?
– Если дала телефон, значит, нет.
Она приложила ключ к электронному замку, открыла дверь и шагнула в подъезд. Дверь захлопнулась, и на секунду искушенной женщине почудилось, что не было ни рыбного ресторана, ни сценариста. Лиза Шелковникова меняла мужчин как перчатки, вкладывая в расхожее выражение собственный смысл. Она трепетно относилась к этому аксессуару – любила, в сезон носила постоянно, берегла, покупала редко, но зато самые дорогие и качественные. В смысле любовников аналогом денег на покупку являлись ее нервы. А у кого иначе? Она не жаловалась.
Теперь, используя ее перчаточную терминологию, был не сезон – порядком наскучивший ей своей предсказуемостью друг отдыхал на необитаемом острове от продажи старой фирмы перед приобретением новой, такой же маленькой и, с точки зрения Лизы, бесперспективной. Сама же она колдовала над судьбой Веры Вересковой. Заниматься Сергеем как поклонником было хлопотно и некогда – она легко обошлась бы без его звонка, а тем более обещанных встреч и разговоров. Если бы не совершила роковую ошибку – не пересказала роман от первого лица. И в подъезде ее озарило – Вера сейчас мучительно влюбляется в своего режиссера. Она лишена возможности говорить об этом с Лизой, и, значит, писательница вынуждена будет домысливать, как именно все происходит. А момент-то ответственнейший. Чуть выбилась из мистической колеи – и все старания впустую, еще и навредить людям можно. Небо же, учитывая бескорыстие Лизиных намерений, решило ей помочь.
И тогда в ресторане торгового центра возник Сергей. Не издатель, которому по сюжету надлежало терпеливо излечиться от алкоголизма вместе с писательницей. Но ведь Лиза не для себя ворожила. «Господи», – пробормотала она и бросилась к лифту, едва удерживая слезы. Расплакалась уже в квартире так сладко, как давно не доводилось. Ей стало ясно, что неземные великие силы покровительствуют Вере Вересковой в изменении ее земного пути. Кто нужен в качестве посредника? Лиза Шелковникова. И вот, несмотря на покушение и обострившиеся в связи с ним неприятные воспоминания о проступке коварной романистки, издатель Полянский на нее не злится. А теперь ей дарован собрат по перу. И нужно освежить впечатления о том, как между мужчиной и женщиной зарождаются отношения, чтобы не сфальшивить в описании творящегося ныне между актрисой и продюсером в наркологической клинике. Даже хулиганская выходка Лизы, то есть клевета на саму себя, была оправдана необходимостью перевоплощения в Веру. Точно какой-то сложный ритуал, смысла и значения которого Лизе понять не дано. Поэтому и возник импульс рассказать Сергею то, что она рассказала.
Итак, в ее голове все очутилось на своих местах, определенных вкусом и разумением владелицы. Лиза наслаждалась внутренним порядком. Около одиннадцати позвонила дочь:
– Мам, я уже возвращаюсь.
– С кем? На чем? – поинтересовалась Лиза.
– Одна. На метро. У Игната сильный насморк и, похоже, температура. Я заставила его купить в аптеке колдакт и сразу принять. А после сеанса отправила домой. Он сопротивлялся и запихивал мне в карман деньги на такси. Я категорически отказалась. Ему было очень плохо, и он отступил. Я нормально вела себя?
– Трудно сказать. Подруги годами внушали мне, что мужиков жалеть нельзя. Зато деньги из них необходимо вытрясать беспрерывно. Но, когда я пробовала, возникали сплошные конфузы. Вывод – не умеешь, не берись. Если в этом смысле ты в меня уродилась, то нормально.
– Я прогнала его отлеживаться и лечиться как врач. А деньги не взяла, потому что забочусь о нашем будущем общем бюджете как образцовая жена, – взвился в Маше дух противоречия.
– Ладно, идеал, иду тебя встречать, – заключила Лиза и достала из шкафа джинсы.
У нее было отличное настроение.
Матери не пришлось спускаться к выходу из метро: дочь уже выбралась из подземки и мрачно хромала на своих неустойчивых каблучищах. О безопасности девушки можно было не беспокоиться, потому что ее окружала плотная аура угрюмой раздражительности. Ни один псих не рискнул бы приблизиться. Тяжкий выдался день. Сначала бестактность Эдуарда выбила из колеи, потом еле живой температурящий Игнат расстроил. Лиза оттянула Машу в сторону и вытряхнула из пакета, который захватила из дома, разношенные шлепанцы. Дочь благодарно шмыгнула носом, переобулась и, не заботясь об оставшихся на асфальте туфлях, двинулась дальше. Мать подобрала туфли, догнала начинающую мученицу, понимающе взяла за руку, привела домой и уважила потребность запереться в комнате, откуда минут через десять послышалась знакомая мелодия «Битлз». «Я тоже под нее страдала в юности», – подумала Лиза без особого удовольствия.
Перед сном она, как обычно, включила компьютер, чтобы заглянуть в электронную почту. Там красовалось одно свежее послание. Любовник сообщал, что решил не покупать фирму в Москве, а остаться на необитаемом острове навсегда, и приглашал ее, если хочет, разделить эту сказочную участь. Лиза ответила, что аборигенка с близлежащего куска суши подойдет ему гораздо больше. Она не испытала ни обиды, ни грусти, ни удивления. Опекавшие Веру Верескову силы действовали последовательно. Они не давали ей расходовать вдохновение на уставшего от цивилизации или банально попавшегося на крючок налоговиков типа. Она уже не сомневалась в том, что Сергей позвонит завтра утром. И не ошиблась.
Глава 9
Я всегда мечтала стать крупной личностью. Думала, масштаб определяется безграничностью интересов и разнообразием сложных потребностей. Оказалось, способностью свести потребности к минимуму и концентрацией на одном, главном. Мелочи должны перестать существовать вообще. Но ведь это жестокость, ибо все на свете – мелочи.
Из дневника Веры Вересковой
Через десять дней после знакомства со сценаристом в ресторане Лиза Шелковникова бегала между диваном, на котором устроился Игнат Смирнов, и креслом, принявшим в себя Машу. Она быстро и не слишком внятно говорила, обращаясь то к жениху, то к невесте, и размахивала руками, хотя их впору было заламывать в отчаянии.
Молодой актер провалялся в гриппозном жару – Маша врачевала его по всем правилам и запрещала сбивать температуру – всю чудесную неделю отдыха, дарованную бестолковым расписанием съемок. Так собственное здоровье его еще никогда не подводило. А когда лихоманка отпустила, пора было снова дневать и ночевать на площадке. После такой смены режимов он с трудом понимал будущую тещу. Дочка тоже слушала возбужденную маму невнимательно. Она пережила шок, впервые делая нехитрые назначения любимому человеку. Оказалось, лечить его жалко. В итоге болезнь Игната дала молодым людям одно осложнение на двоих – крайнюю рассеянность. Однако Лиза Шелковникова не была бы собой, если бы не докричалась до людей. И постепенно безучастные выздоравливающие сообразили, что она не только информирует их о чем-то важном, но и требует какого-то содействия, причем срочно. Ребята переглянулись и сосредоточились, вид у обоих стал жалкий. Лиза заметила это и не поленилась начать сначала – с тем же эмоциональным накалом, но медленнее и тише.
И сразу ее голос исполнился удивления, словно писательница сама себе не верила. Надо отдать ей должное: в самом небрежном своем романе она не опустилась бы до столь поспешного развития взаимоотношений героя и героини зрелых лет, которым пристало на воду дуть. А тут симпатия превратилась в неутоленную страсть за несколько дней. Они с Сергеем сближались широченными прыжками, как кенгуру. Это сравнение Лизе не нравилось, но подобрать другое никак не удавалось. Конечно, она не говорила Маше и Игнату о сексуальной подоплеке, но допускала, что они все поймут. Ей впору было входить в роль классической бесполой тещи, а не извещать молодых о ресторанном знакомстве со сценаристом, но нужда заставила. Лиза коротко доложила об ужине и длинно порассуждала на тему магии творчества, которая усадила Сергея за столик незнакомой женщины, затем вынудила провожать и слушать, а ее – разглагольствовать о муках спившейся в ожидании чуда сочинительницы. Игнату показалось, что он все еще бредит. Маша еле удержала отпадающую челюсть и решилась уточнить:
– Ты как будто не про кого-нибудь, а прямо про себя рассказала ему то, что недавно нам читала? Мама, это ужасно. Тебе в глаза едва знакомому человеку не стыдно было смотреть?
– Нет. А что стыдного в трагедии женщины? Но я рассказала ему значительно больше, чем вам прочитала, потому что с тех пор очень продвинулась – уже пятая глава на излете. И тогда не предполагала, что увижу его снова. А он попросил номер телефона и воспользовался им по назначению на следующее утро. Пригласил кататься на пароходике.
– И ты согласилась? Он же явно больной на всю голову, – снова взялась ставить диагнозы второкурсница.
– Почему? Он – творческая личность с нестандартным мышлением. Не исключено, что сам пил, нюхал или кололся и смог завязать. Или еще борется и особенно нуждается в поддержке человека, которому удалось, – заступился за Лизу Игнат.
– Маме только наркомана в друзья не хватало. Впрочем, такие у нее уже есть, – расстроенно вспомнила Маша.
«Ничего себе, – подумала Лиза. – Почему бы им не предположить, что он в меня просто влюбился с первого взгляда и навсегда?» Но на обиды не было времени.
– Ребята, я не в состоянии от него отделаться, потому что тогда излечение и счастье прототипа героини будут под угрозой.
– Не вижу связи, – заупрямилась Маша.
– Обыкновенная колдовская связь. Параллельное существование с героями романа, – пожал плечами Игнат. – Сродни вдохновению, только круче.
Маша содрогнулась, а Лиза радостно завопила:
– Именно!
«Он, как Маугли, ее заклинает: «Мы с тобой одной крови», – недовольно подумала Маша. – Тоже мне друзья по несчастью самовыражения в искусстве. И я их обоих люблю, иначе назвала бы сферу этой деятельности массовой культурой. Стоп, я ревную, потому что они друг друга с полунамека понимают. Но это же из-за общности интересов, это, наоборот, польза для всей семьи, которая ведь включает и свекровь, и тещу. А для личного удовольствия у мамы появился сценарист. Здорово. Ей так легче будет отвыкать от того, что дочь двадцать четыре часа в сутки у нее на посылках. Ну, я и неразумная – сколько радости теряю из-за своей мнительности». И девушка весело спросила:
– Мама, ты замуж собралась?
– Доченька, проанализируй, что ты несешь! – возмутилась Лиза. – Два человека, у которых истерика – естественное рабочее состояние, днюют и ночуют за компьютерами в одном пространстве. Какой брак? Тут другое. Я действительно считаю, что Сергей должен быть рядом до окончания моего романа, раз уж приблудился.
– А не хватит уже создавать этой артистке райские условия, подгоняя, извините, любовника? Может, наконец, она перетерпеть ради сына? После качественного лечения, подчеркиваю, оплаченного этим добрым юношей, – вставил Игнат, которому нарушенный материнский долг со времени читки не давал покоя.
– Подошли к главному! К сыну! – воскликнула Лиза. И осеклась: – Игнат, разве я говорила тебе о том, что она актриса? Я ведь ей поклялась, что никому…
– А я ничего и не знаю. Думал, образ собирательный. Просто у меня таких прототипов на кастингах перед глазами…
– Прости, – с облегчением выдохнула Лиза. – Меня вдруг как обухом по голове ударило. Я еще не привыкла к тому, что ты свой. И удивилась – незаметно для себя выдала тебе чужую тайну.
– Да прекратите вы друг другу реверансы делать, – укоризненно призвала Маша, которую уже не первый раз шокировала откровенность жениха и матери. – Итак, сын!
– Сергей рвется в мою квартиру. И ему не терпится познакомиться с образцовым мальчиком, компьютерным гением, который, Игнат прав, простил мать, оплатил ее лечение и содержит в свои девятнадцать лет.
– Поздравляю, его зацепило повествование. Как и меня. Вроде женский роман, а мужчина увлекся. Хотя нужно учитывать исполнение. Это был спектакль, и он тоже имел успех, – быстро отреагировал поднаторевший в общении с богемой актер.
Лиза Шелковникова мило вспыхнула от удовольствия. И сразу же напряглась: Игнат не допускал, что зацепить могла она, а не ее россказни? Что она не играла, а просто развлекалась? Вдруг парень зрит в корень, и сценарист ищет поддержки женщины, прошедшей через те же адовы муки, что прошел, проходит или собрался пройти он?
– Я давно хочу выяснить, – задумчиво нарушила странную паузу Маша, – это не принципиально, но все-таки… Мам, почему ты оставила сына? Почему не сменила его на дочь? Чтобы не описывать меня?
– Да, представить свое чадо в такой ситуации мне не удалось. Я знаю, ты боролась бы за меня до победного, но даже в романе я не желаю подвергать кого-то похожего на тебя таким испытаниям. И потом, девушка, разбирающаяся в компьютерах на тысячи долларов в месяц? Не слишком правдоподобно.
– И еще накаркать боишься, да? Артистке от твоего опуса должно привалить счастье, а за остальных ты не ручаешься?
– Машенька, не забывай, что я пишу не о себе, но о другой женщине, у которой когда-то родился мальчик, а не девочка. Ребята, не отвлекайтесь! – взвыла Лиза. – Что делать с Сергеем? Он просится в гости. Приглашать? И кого ему для достоверности предъявлять в качестве сына?
– Меня, конечно, – вдруг прыснул Игнат. – Я не только актер, но почти родственник.
«Я люблю их обоих за легкость», – подумала Маша. И внесла в обсуждение деловитость:
– Итак, Сергей осматривает квартиру и знакомится с отпрыском вставшей на путь исправления алкоголички. Ваши роли распределены. А я чем буду во время спектакля заниматься? Мотаться по улицам, отбиваться на даче от комаров? Как вы собираетесь ликвидировать следы моего обитания в доме? Невооруженным глазом видно, что здесь проживают две женщины.
– Ты будешь моей невестой и придешь знакомиться с будущей свекровью! – осенило актера.
– А сценарист в курсе, что это за квартира? – вздохнув, спросила девушка.
– Дай подумать, – честно нахмурилась Лиза. – Семья жила в однокомнатной. После развода муж меня из нее выписал и подарил сыну. Но добрый мальчик снова поселил в восемнадцать квадратных метров свою непутевую мать, а себе нашел более комфортное жилье…
– Но у нас трехкомнатная, – сухо проинформировала дочь. – Кстати, мама, спрячь подальше от Сергея паспорт.
– Ты думаешь, он мошенник? – изумилась Лиза.
– Я думаю, он даже случайно не должен видеть твою прописку, – объяснила Маша, которая именно в шкурной заинтересованности настырного ухажера и подозревала. Но говорить об этом матери при женихе не собиралась. Поэтому схитрила: – А то уличит тебя во лжи, и у одаренной пьяни сорвется возвращение на экран. Кажется, ради этого все затевается?
– Да, да. Умница, дочка. Хотя я не понимаю, как ты можешь, не зная человека, даже намекать…
– Я имею право трактовать фанатичное желание твоего случайного знакомого взглянуть на квартиру и ее юного владельца как угодно! – взорвалась Маша.
– Так я должен играть крутого парня, который за свою жилплощадь убьет? – рассмеялся Игнат. – Машенька, сценаристу больше пристало сюжеты воровать, а не квадратные метры.
– Доверчивые вы люди! Кто вам сказал, что он сценарист? Мама, признайся, Сергей спрашивал, чем твой роман кончится?
– Да он же представления не имеет о том, что это – роман! Для него это – история моей жизни, – разозлилась Лиза. – Я обмолвилась, что хотела бы описать свои мытарства. Он действительно полюбопытствовал, какой мне видится не моя, подчеркиваю, но дальнейшая судьба героини. И я честно все выложила – клиника, издатель, любовь.
– А, ну тогда и квартира, и роман уплывут, – подытожила девушка.
– Как же тебе неуютно на свете в окружении монстров, доченька, – в сотый раз за последний год прошептала мать.
– Мне кажется, все обойдется, – сказал Игнат. – Слишком полновесное чудовище Маша изобразила. Таких не бывает.
У него снова возникло ощущение укола: терпимая боль, и вот жидкость под давлением проникает внутрь и распирает что-то, борясь за место. Ведь она должна целиком поместиться там, куда ее вводят. Так и Елена Калистратова словно вколола Машу Шелковникову, которая теперь неуклюже устраивалась в нем. Но ведь сама Елена давно обитала внутри актера. Следовательно, Маша теснила ее, замещала очень похожей на Еленину жесткостью, недоверием к людям, категоричностью. «Родственная душа гениальна, – печально вспомнил Игнат. – Она настоящая колдунья – несколько часов входила в транс, а потом вмиг угадала в девушке у стойки свои задатки. Лиза по сравнению с ней дилетантка в магии». Кроме непрофессионализма в волшебстве писательница грешила еще и неспособностью подолгу безмолвствовать.
– Ребята, можно было бы снять обычную убогую хрущевку… Но Сергей довел меня до подъезда, – горестно забормотала она. – Клянусь, я сказала ему только, что мы пришли… Как назло, здесь особый проект, однокомнатных нет. Ничего не клеится. И вообще тут слишком уютно…
– Ерунда, – отрезала Маша. – Обои сдерем, потолки закоптим, стекла заклеим изолентой крест-накрест, двери поцарапаем ножом, на паркет выльем несколько пузырьков ацетона.
Лиза с Игнатом нервно хохотнули.
– Продолжаете смеяться? Да вы уже не в себе. Оба.
– Не в себе? Не у себя! Ты станешь великим режиссером! – крикнул жених невесте. – Точно! Лиза всерьез завязала, и я решил сделать ремонт в ее берлоге. А ты приютила без двух месяцев свекровь. То есть временно Лиза живет у тебя. И, главное, ремонт может растянуться на неопределенный срок.
– Почему же ты не приютил родную мать? – недовольно спросила девушка. – И потом, нельзя так безалаберно издеваться над реальностью. «Обычная убогая хрущевка» – подарок отца сыну! А сколько этот «мелкий» дар стоит? У тебя плюс ко всему еще одна какая-то квартира. И у твоей невесты трехкомнатная. Будем еще и мне родителей, отчаливших на ПМЖ в Америку, выдумывать? Перебор, господа.
– Но это единственный приемлемый вариант, доченька. Тогда не придется накануне вашей свадьбы устраивать здесь разгром и врать, будто только одна комната жилая, а две другие наполнены пустыми бутылками и заколочены.
– Вам не кажется, что нужно признаться во всем Сергею и не валять дурака? – не выдержала Маша. – Он такой же, как вы, доверчивый и увлекающийся, поймет. А если не тот, за кого себя выдает, отстанет. Он не имеет отношения к роману, мама. Он – твоя личная трагическая случайность.
– Почему трагическая? Может, счастливая, – запротестовала Лиза.
– Потому что его уже приходится обманывать не одной тебе. Ты вынуждена вступить в преступный сговор с нами. Твоя актриса выбрала себе дорогу – спиваться, но не замечать правды. А теперь надо лгать, чтобы ей повезло. Люди, пока не заврались, пока не поздно, остановитесь.
Лиза с Игнатом отчужденно молчали. Ничего противоестественного в розыгрыше они не находили. «Зачем приплетать мораль там, где нет аморальных целей? Я допишу роман, не вспугнув Верину удачу, и сама все объясню Сергею. Может, он посмеется от души. Разве обязательно именно сейчас говорить все как есть?» – уныло размышляла писательница. «Я помогу Лизе. А как хочется, чтобы гордая богиня Елена попросила моего содействия, в чем угодно», – думал актер, уставившись в стену и еле заметно усмехаясь.
Маша тронула его за плечо:
– У тебя какое-то недоверчивое выражение лица. Мечтаешь?
– О тебе, – резко ответила за парня Лиза. – Я мешаю вам, ребята. Давайте закругляться. Итак, Сергей – взрослый мужик, а его интерес к квартире и сыну есть, по сути, интерес ко мне. Будем считать, что мальчик снял матери одну комнату из вот этих трех на время ремонта. Люди живут порознь из-за того, что не могут ужиться вместе. И он не обязан терпеть меня рядом с собой, если располагает средствами. Уверяю, встреча займет несколько минут: поздоровались – простились. Остальное предоставьте мне. Выручишь, Игнат?
– Конечно, Лиза. Даже если ему придет в голову в июле катать твоего великовозрастного сына на санках, я от роли не откажусь.
– Спасибо большое, – выдохнула писательница и оставила молодых людей наедине.
Утро у Лизы Шелковниковой выдалось хлопотное для языка. Она проводила Машу любоваться съемочным процессом – Игнат должен был заказать пропуск – и собралась блаженствовать за ноутбуком в особой тишине необитаемого дома. Даже незримое и беззвучное присутствие дочери в квартире активизировало материнский инстинкт, который упорно наводил сочинительницу на размышления о том, что приготовить девочке на ужин, как отговорить ее покупать зимние сапоги на шпильке и так далее. А предстоящее бракосочетание вообще свело на нет Лизино умение бросить любое занятие и сосредоточиться на романе, едва за Машей захлопнется входная дверь. «Повезло, что Сергей явился как часть творческого процесса, – думала женщина, мать и писательница в одном усталом лице. – Машкину свадьбу, свою влюбленность и работу я не потянула бы. Первое не отменишь, третье не бросишь, неизбежен был бы отказ от второго». Зазвонил телефон. Пришлось разговаривать. Сначала с Полянским.
Тот выписался из больницы, но после настоящего покушения вел себя совершенно иначе, чем после Лизиной имитации. На вопросы о случившемся он лаконично отвечал: «Это было недоразумение без последствий». Сведущих осаживал: «Милиция трудится». Выражения сочувствия не поощрял. И замазывал белесые следы на коже рук тональным кремом. Но его высказывания о современных авторах стали такими желчными, что издание их книг представлялось делом непристойным и стыдным, даже будь оно гораздо более доходным, чем было. «Илья выполняет тяжелейшую миссию, – шептались его друзья. – Общество должно обожраться гадким чтивом, чтобы переболеть несварением мозга и выздороветь».
– Доброе утро, причина моей язвы, – сказал издатель.
– Здрав будь, писательский кормилец. Вывел формулу зависимости раскупаемости тиража от количества белка в пище на душу населения?
– Создайте что-нибудь конкурирующее с жирами, белками и углеводами.
– Опомнись, безбожник.
– Как твоя сага о пропойцах? Через две недели не представишь?
Лиза поперхнулась и с трудом обрела дар речи:
– Раньше ты хоть за труд машинисток своих авторов ценил. Чтобы напечатать роман на компьютере, нужно время, даже если в твоей трактовке сочинительство не требует усилий и происходит за едой, стиркой, глажкой, во сне. Я еле уговорила тебя дать мне возможность заняться этой темой. Я подрядилась справиться с ней за какие-то три месяца. А ты просишь уложиться в два. Между прочим, люди годами каждый роман пишут. И не смей говорить пошлостей вроде «Так то – люди». Или: «Настоящий роман, конечно, быстрее не напишешь».
– Я иначе скажу. Если ты в двадцать первом веке будешь годами вымучивать из себя единственный текст на «эту тему», я перестану тебя уважать. Лиза, положение безвыходное, выручай. Человек не рассчитал силы, не вылез из запоя и не сдаст нетленку вовремя. А поменяйся вы с ним сроками выхода книг, мой план останется незыблемым.
– Так господа литераторы еще пьют? – возопила писательница. – Кто бы мог предположить! В двадцать-то первом веке! И ты порывался отказать моему роману в актуальности?
– Считай, что я поторопился с выводами.
– Замечательно. Но на случай передозировки у романистов ты завел в своем издательском хозяйстве непьющих романисток, – прямо высказала догадку Лиза.
– Ну что ты, я вовсе не склонен к дискриминации по половому признаку, – успокоил Илья Борисович. – Лиза, я серьезно спрашиваю, закончишь за две недели?
– Вот надо сейчас торговаться, набивать себе цену. Но не могу. Я полтора месяца писала сутками – увлеклась, каюсь. Мне самой необходимо поскорее сварить это зелье на удачу несчастной женщине.
– Помню, чертовщиной балуешься. Как тебя забрало! Наверное, действительно славная женщина пропадает.
– Достойная славы. До свидания, пошла к станку.
«А ведь все к лучшему. Я почти закончила, не в две недели уложусь, в одну. И будет целый месяц на подготовку к Машкиной свадьбе с сознанием выполненного перед Верой долга», – думала Лиза.
И тут снова зазвонил домашний телефон.
– Привет, Лиза. Ты не занята?
– Верочка! Милая! Вот радость, а! Сто лет проживешь, я как раз о тебе думаю! – закричала Лиза.
Она многократно давала себе слово не пугать людей своими непосредственными восторгами, которые приличествует изливать только на близких. К примеру, какие они с Вересковой подруги? В школе общались мало, двадцать лет не виделись, потом случайно столкнулись и час поговорили. Бедная пациентка наркологической клиники вправе была заподозрить Шелковникову в неискренности. Особенно невероятным должно было показаться то, что ею заняты мысли одноклассницы. Но Лиза действительно успела перебрать обстоятельства ее жизни, пожалела, оправдала, начала спасать, беззаветно веруя в доступный романистке способ. Она уже дружила. И к прочим часто малознакомым людям ей доводилось относиться так же. Но они, услышав, как она счастлива контактировать с ними, насколько готова им помочь, инстинктивно отстранялись. Поэтому недоверчивый тон ответа ее не удивил:
– Ты меня ни с кем не путаешь?
– Перестань, Вера, я в самом деле волнуюсь за тебя.
– Спасибо. И я за тебя. Ходят слухи, что тебе милиция досаждает из-за инцидента с издателем? Как неудачно: я вызвала тебя из дома, а самой не удалось сбежать из больницы. Никогда себе не прощу.
– Нет уж, будь добра, прости. А лучше награди чем-нибудь. Я могла на время этого самого инцидента остаться без алиби. А по пути к тебе встретила приятельницу и была на глазах у незаинтересованного человека. Но, Вера, откуда тебе все известно?
– Я же не в тюрьму заключена, – грустно сказала актриса. – Тут есть люди искусства, они активно обсуждают новости из своей среды. А как узнают – их тайны. Вообще-то связи с внешним миром докторами не приветствуются. Поэтому, пока меня не засекли, спрошу. Лиз, врать дорогому человеку очень мерзко? У меня, по идее, должна начаться вторая жизнь, грешить в ней не хочется, но приходится.
Лиза опешила и чуть не призналась: «Какой из меня эксперт». Но через секунду в воображении сложилась картина: Вера и режиссер прогуливаются по аллее вдоль здания клиники и откровенничают о своем прошлом. А влюбленная женщина физически ощущает, что не может заставить себя признаться в каких-то мерзостях. Ей необходимо, чтобы за спиной были если не ангельские крылья, то хотя бы чистый шлейф. И сочинительница бросилась на амбразуру морали и нравственности, чтобы дать лицедейке возможность проскочить опасное место:
– Приходится! Еще бы не! Да способность лгать – это защитный механизм психики, без нее человечество вымерло бы. Доказано, что чаще, больше и продуктивнее всего индивидуум врет самому себе. Что обмануть удается всего лишь треть других. И что две трети людей не верят, когда им говорят правду.
– И это произносишь ты, совесть нашего класса? Лиза, прости, я не могу продолжать. Хорошо, что у тебя нет неприятностей. Когда меня выпишут, мы с тобой обязательно встретимся и все-все обсудим.
– Вера, я читала про «когда выпишут»… Тебе посоветуют не видеть старых знакомых… Я не обижусь…
– Нет, нет, эти запреты относятся к собутыльникам.
Лиза Шелковникова возрадовалась, обнаглела и не сдержалась:
– Вер, как у тебя с сердечным другом?
– Боюсь сглазить. Одно знай: если все мои муки, потерянная глупая и эгоистичная молодость были ценой за встречу с ним, то не жалко.
– Тьфу, тьфу, тьфу. Истинно говоришь, человек претерпит что угодно, ни о чем не пожалеет, если обнаружит в этом смысл.
– Смысл – печальная тема. А нам врачи рекомендуют сплошной позитив. Пока, Лиза.
– Держись там, – сказала писательница.
Ее совершенно не занимало то, что какие-то «люди искусства», лечившиеся от алкогольной или наркотической зависимости, тешились обсуждением нападения на издателя в ее стиле. Она не потрудилась задуматься, что могла говорить про нее актриса в этом обществе. Лиза бормотала в эйфории:
– Вера счастлива, она надеется на лучшее, значит, возрождается. Полянский уже подсуетился, ускорив выход романа в люди. Это не просто так. К черту моего сценариста, обойдусь без натуры его привычек, без любовных утех, без собственных острых ощущений. Работать!
Но не тут-то было. В третий раз за утро взыграл телефон. Кто угодно крался бы к аппарату с трепетом, раскрыв взаимосвязь двух первых звонков. Легок на помине оказался Сергей. «Вот подтверждение того, что он зачем-то нужен, если не мне, то роману. А то распосылалась к дьяволу, – не без удовольствия выругала себя Лиза. – Только что мы можем успеть за ту неделю, которую я себе назначила, чтобы дописать?»
Выяснилось, что ничего. Сергей предупредил – десять суток он работает, забаррикадировав дверь. Продюсер крикнул «ура!» его синопсису. Надо было ковать железо, то есть набросать пару сценариев.
– Многосерийный художественный фильм? – вежливо поинтересовалась Лиза.
– Да меня не оскорбляет название «сериал», – засмеялся Сергей. – Ты не передумала знакомить меня с сыном?
– Нет. А ты знакомиться?
– Нет, конечно. Мне невыносимо грядущее воздержание. Я буду скучать. Я буду нервничать без тебя. Я буду стимулировать работоспособность мыслью, что, отправив тексты, сразу понесусь к тебе.
– Мне так нравится тебя слушать.
– Мне так хочется, чтобы ты начала говорить о том же. Чем станешь заниматься без меня?
– Я тут робко начала описывать свои мытарства.
– Поздравляю. Отдать бумаге – лучший способ избавиться. Хотелось бы взглянуть. Сегодня я еще не утону в своей теме, пришли вечерком, что натворила после стольких лет перерыва. Электронный адрес знаешь?
«Так его роль не просто любовник, неожиданно переставший влиять на меня перед окончанием работы, но любовник грамотный, умеющий читать. И он из киношной среды. Эх, если бы моя история была про актрису и режиссера, а не про писательницу и издателя! Тогда и гадать не пришлось бы, почему Сергей очутился в ресторане торгового центра. Чтобы роман вышел достоверным. На что же фатум намекает? Я должна превратить героиню в сценаристку? Нет, нельзя, тогда герой автоматически станет продюсером, и вся моя изворотливость будет напрасной. Значит, надо предоставить Сергею главы вплоть до отъезда в клинику. И подождать реакции», – забурлили идеи в своеобразной голове Лизы. И она ответила:
– Да. Но я ничего тебе не пошлю, если ты не найдешь десяти минут, чтобы к утру высказать свое мнение хотя бы по той же электронной почте.
– Найду. Я люблю тебя. Я хочу тебя.
– Трудись быстро и качественно, Ромео. Вдруг уложишься суток в семь?
– Постараюсь. Ты вообразить не можешь, как я буду стараться.
На том и простились. Он обещал стимулировать свою работоспособность мыслью о Лизе. Ее стимулятором явилось полнейшее безмыслие, нахлынувшее после всех телефонных бесед. В таком состоянии она могла писать не замечая времени. Ринулась к ноутбуку, сразу отправила Сергею нежное письмо с вложением и застучала по клавишам, будто просто в задумчивости барабанила пальцами по столу.
Маша вернулась домой часов в десять вечера. Мать не выскочила, по своему обыкновению, в прихожую, не чмокнула в щеку, не затормошила, расспрашивая, как дела, и тут же умоляя сначала спокойно переодеться, вымыть руки, а потом уж говорить. Девушка догадывалась, что это означает. На цыпочках она подкралась к двери в комнату Лизы, неслышно приоткрыта ее и улыбнулась: худая, с выпирающими через тонкую обтягивающую футболку косточками спина матери ходуном ходила. Звуковым сопровождением был тихий неудержимый хохот и медленное клацанье клавиш под одним не до предела ослабевшим пальцем. Дочь помнила, как в свои докомпьютерные времена Лиза, записывая что-нибудь смешное, зажимала ручку в кулак – пальцы ее не держали – и выводила нечитабельные каракули. Она не могла прекратить ни истерически веселиться вслух, ни писать. «А теперь это вот так происходит. Но главное не изменится никогда: завтра будет читать и хмуриться, не находя в тексте ничего забавного», – подумала Маша. И с добродушной предупредительностью оставила Лизу наслаждаться мгновением, понимая, что в истории ее одноклассницы Вересковой смешного очень мало.
Девушка не знала, хочет ли разговаривать с матерью, грустно ей или терпимо, стоит ли жевать бутерброд или обойтись чашкой холодного кофе. «Я ощущаю себя только дочерью писательницы и невестой актера, – думала она. – Но ведь я и еще кто-то». Разумная Маша поставила перед собой в жизни две основные цели. Не быть похожей на своих изъеденных молью творческих потуг родителей, которые на безжалостном свету реальности оказывались не цельными, а словно мелко дырявчатыми. И служить медицине, которая неизбежно приноровится заменять дефектные человеческие органы безупречными, выращенными из стволовых клеток эмбрионов. Ясно, что довести ее до потери личностных ориентиров могла только «волшебная сила искусства». В частности, съемочный процесс сериала. Игнат Смирнов в присутствии невесты, оробевшей от приказа выключить сотовый, не вздумать вставать и ходить, цокая каблуками, и вообще дышать реже, завелся. Он играл так, что партнеры обещали начистить ему морду за выпендреж. А неожиданно трезвый режиссер утомленно попросил «снизить градус и не пытаться тут звездить». Но парень впервые старался ради зрительницы, которая смотрела ему в душу.
– Ты, ты, ты… Прекрасный, вот. Я тебя люблю, – только и выдохнула она на улице через несколько часов.
– Сейчас ко мне. Мама уехала на дачу к подруге, раньше девяти не вернется, – хрипло сказал юноша.
Добрались быстро. Разговаривать не хотелось, ибо впечатления и ощущения были невыразимы, а все остальное мнилось пустяками, на которые не тратят слов. Машу хватило на одну фразу:
– Я почему-то не могу говорить.
Игнат кивнул. Его распирал избыток вдохновения, который никому не был нужен на площадке. А блистающие независтливым восхищением глаза невесты, не выпускавшей его руку из своей, заставляли безоглядно верить в себя. В эти минуты актер был всемогущим. Вера, подобно крыльям, выбивалась из него самого, проламывала стенки и крышу вагона метро, бетон тоннелей, землю, асфальт и затмевала все сущее. Он не заметил пути домой и возжаждал в экстазе пережить высокую трагедию из-за низкого преступления. Проще говоря, не соображая, почему и зачем, Игнат Смирнов выложил Маше Шелковниковой всю правду о безответной любви к другой женщине. О своей просьбе найти кого-то, похожего на нее, о марафоне по барам и кафе, о том, как повелительница указала на девушку в черном платье и жемчугах на длинной шее, велела знакомиться именно с ней, обязательно жениться, предрекла небывалое счастье и исчезла. Он не скрыл, что просил освободить его от данного сгоряча слова, что все эти дни неуклонно влюблялся в не им избранную суженую. Наконец, содрав с себя и Маши одежду, прижал невесту к себе и заявил, что теперь любит ее сильнее, чем виновницу их встречи. Парень игнорировал описательные детали, и чудилось, что в его рассказе все слова – с большой буквы. Маша восприняла смысл вдохновенного монолога так: ее жених в муках и корчах перешел от идеальной любви к реальной. Объектом первой была какая-то гордая дама, которой он совершенно не был нужен, объектом второй – она. Все прочее девушка сочла выдумкой в стиле кинообраза, из которого Игнат еще явно не вышел. И, ненадолго отстранив ласковой рукой его губы от своих, успела сказать:
– Если ты умеешь так любить, мне повезло.
Глава 10
Я больше не пью. И я разочаровалась в актерстве. Злосчастная профессия, в которой приходится продавать талант, тот дар, о котором Христос говорил: «Бесплатно получили, бесплатно и отдавайте». Наверное, попытки заработать на дареном и караются столь жестоко. Да, некоторые удостаиваются славы. Но они избранные – их желания совпали с тем, что им предназначил Бог. Остальные должны либо годами стучать в запертую дверь и вдруг да получить удачу «по неотступности своей», либо погибнуть. Не хочу, как известная некогда актриса, твердить в интервью о том, что овации – ерунда по сравнению с ладом в семье, о своем приходе к Богу, исключившем притворство и суету из бытия. И на последний вопрос, мол, не снимаешься – твое дело, но покажись людям, которые тебя помнят, ответить: «Они помнят меня молодой, красивой и стройной. Старая, неухоженная и толстая я их разочарую»…
Из дневника Веры Вересковой
Миновало две недели. Лиза Шелковникова уже послала рукопись в издательство, за что удостоилась цветистой похвалы Ильи Борисовича Полянского. Сергей закончил то, ради чего временно отменял все радости жизни. Пора было выполнять данные друг другу обещания. Писательница легко убедила себя, что теперь близость со сценаристом – награда ей за труды. Она убрала из ванной зубную щетку Маши, из прихожей – ее тапочки, из гостиной – фотографии. Поставила ноутбук на журнальный столик и заперла на ключ двери своей и дочкиной комнат. Явился объект мистификации, выслушал байку о снятом на пару-тройку месяцев угле и разочарованно протянул:
– Жаль, безлико все, немо, глухо, слепо. Ничего от тебя, о тебе…
Раздался звонок. Уязвленная отсутствием у Сергея чутья на нее в ее же собственном доме и нелестной характеристикой обстановки Лиза впустила Игната Смирнова. Тот удачно не был занят в этот дневной час, вместе с невестой поджидал сценариста на скамейке во дворе и поднялся в квартиру почти следом за ним. Мужчины обменялись рукопожатиями, Лизу молодой актер раскованно чмокнул в щеку и безо всякого выражения, не давая превратить какое-нибудь слово в повод его задерживать, сказал:
– Привет, мама, я на минуту, в офисе дел по горло, хоть ночуй там, представления не имею, удастся ли в ближайшие дни вырваться. Вот то, что ты просила, нет, не оставляй гостя, я занесу в кухню.
Он потряс матерчатой сумкой, из которой вызывающе торчал длинный батон – Маша настояла для правдоподобия, и уверенно скрылся с глаз. Романистка вышла в прихожую, сценарист повлекся за ней, через десять секунд там же оказался мнимый сын, избавившийся от авоськи.
– Выпей с нами чаю, так редко видимся, – подала отчего-то дрожащий голос Лиза.
– Извини, никак. Но я позвоню вечером. Сергей, до свидания.
– Приятно было познакомиться, – отозвался тот, и они снова приложили ладонь к ладони.
– Пока, мама, – сказал Игнат и, смеясь, подставил щеку.
Лиза смущенно коснулась ее губами и подумала: «Молодец, мальчик. Весьма достоверный обмен поцелуями при встрече и расставании».
– Не гони как сумасшедший. Будь осторожен, – напутствовала она.
– «Будь здоров! Обязательно буду», – процитировал Высоцкого Игнат и взглянул на сорокапятилетнего Сергея, будто сделал ему одолжение.
Сценарист кивнул с нервным смешком. Вероятно, актер решил, что «достучался до зрителя», и легко покинул декорации.
– Нормально прошло? – спросила Маша, которая приготовилась киснуть в ожидании не меньше часа и восприняла скорое возвращение жениха как провал. – Удался розыгрыш?
– Да.
– Партнерша по сцене не подвела? Одно дело просто врать, другое – врать с кем-то на пару.
– По-моему, тушевалась. Но вторая реплика была подана сносно.
– А вспомни, сколько нервотрепки было, споров, когда мама об этом заикнулась! – воскликнула девушка. – Вплоть до моральных аспектов все обсудили.
– Последнее занимало одну тебя, – рассмеялся Игнат. – Мы с Лизой просто отрывались и прикалывались. Знаешь, мне показалось, что они сейчас уедут. Сергею не по себе в вашем доме, это чувствуется.
– Тогда пошпионим тут еще минут тридцать, – доверчиво предложила Маша. – Вдруг они действительно уступят нам помещение.
У нее до сих пор холодело внутри при воспоминаниях о съемочном дне. Увидев актера в творческом раже и услышав то, что сочла чудовищными небылицами, она повадилась дорожить его вменяемостью и не перемещать в пространстве без лишней нужды: еще заведется и отколет что-нибудь несусветное.
Но судьба освободила их путь в нирвану, то есть на любимый диван, гораздо раньше. Потому что, едва Игнат вышел, Лизин поклонник бодро заявил:
– Давай рванем ко мне. У меня домик за МКАД. Пишется там отлично, но ездить на встречи долго и сложно. Приходится снимать квартиру в городе поближе к объектам киноиндустрии. Понимаешь, как давят на меня эти чужие стены? Ты сама какая-то скованная, будто хозяйка должна вот-вот вернуться.
– Твоя правда, неприятное состояние вечной бдительности – не пролей, не разбей, не испачкай. Убираемся отсюда и наслаждаемся свободой. Ты на машине или возьмем мою?
– На ней, родимой. А у тебя какая?
Лиза прикусила язык в буквальном смысле слова, но это было уже наказанием, а не профилактикой. Действительно, хронической ли алкоголичке заговаривать о своем автотранспорте. И откуда у такой новая иномарка?
– Старая «девятка», оформлена на сына. Можно сказать, заново учусь водить.
– Парень выглядит немного старше своих двадцати.
– На свою жизнь, свои заботы, свою ответственность и выглядит, – вздохнула женщина, неохотно вспомнив легенду, которую все еще предлагала мужчине.
– Даже хлеб тебе носит, – неодобрительно сказал он.
– Нужды в продуктах давно нет, но в районе моего постоянного проживания булки вкуснее, поэтому и балует. На все готов, лишь бы я не сорвалась, – объяснила она и чуть не расплакалась от отвращения к этой лжи.
Тоскливо подумала: «После сегодняшнего спектакля что-то изменилось. Будто путь отступления перестал существовать. До того еще можно было оправдаться: «Я пошутила». Или: «Я никогда не злоупотребляла спиртным, поэтому хотела выяснить степень дикости своих фантазий, проговорив их вслух. И ты после ресторана создал «эффект попутчика». А теперь? «Мы с Игнатом пошутили»? Даже звучит оскорбительно». Но прогулки на машине всегда улучшали настроение романистки, когда она запутывалась в собственных интригах. И эта не подвела, тем более что сценарист, уловив ее смятение, тактично отмалчивался.
Загородное убежище Сергея было добротной двухэтажной дачей из бруса, и Лиза сразу уразумела, что именно давило на него у нее – порядок. Ему не хватало залежей бумаг и книг на столе и подоконниках, множества разномастных чашек с остатками кофе, забытых везде, в том числе и на полу, двух махровых халатов, брошенных на спинки кресел. «Пока все обычно», – подумала она, стоически вынеся экскурсию по буеракам к кривобокому заболоченному пруду, с достойной одобрения тщательностью замаскировавшемуся в чахлой березовой роще. А после обеда из разогретых в микроволновке замороженных деликатесов спросила себя: «В который раз это повторяется?»
Но и дальнейшее оригинальностью нервишки не щекотало. Сергей был нежным, опытным, но каким-то добротно-чопорным любовником. Темперамент Лизы становился открытием для мужчин, которые ассоциировали невысокий рост и хрупкость с беззащитностью и отсутствием инициативы. Бывало, ее просили: «Полежи спокойно, милая». А сценарист был расчетлив и техничен настолько, что ей шевелиться не хотелось. Не то чтобы она притворялась бревном, но от своего естественного поведения в постели была далека. Тем не менее ей мерещилось, что перспективы есть. Человек старался доставить ей гарантированное удовольствие, поэтому на эксперименты не решился. Что в том плохого? Говоря по совести, Сергей не был исключением. Лиза никогда не ставила крест на близости после первой не слишком удачной попытки и давала второй шанс. Но и вариант «лишь бы человек был хороший» ее не устраивал. Терпимость и требовательность зрелости, способной себя прокормить.
Когда Сергей заснул сном удачливого труженика, она высвободилась из его некрепких объятий и прошлепала босыми ступнями по теплым широким половицам к столу. Уселась в кожаное офисное кресло. Такие, кажется, предназначены для боссов, потому что очень дороги. На глаза сразу попались отпечатанные на принтере листы – у нее все недавнее тоже сверху аккуратной стопкой лежало. «Если не спрятал, значит, читать можно», – догадалась Лиза. И ознакомилась с короткой заявкой. Идея показалась ей знакомой, но не до боли, скорее до приятного изумления. Далее последовал синопсис, в котором излагалось содержание ее романа. Писательница не успела разозлиться и двинулась вперед. Поэпизодники и сценарии двух серий заставили ее возвести гневные очи к потолку, над которым должны были располагаться коварные и жестокие Небеса. «Господи, за что? – подумала Лиза. – Неужели мой спешный заговор человеческой душевной боли, мое дилетантское чародейство настолько беспомощно, что ради счастья Веры Тебе пришлось дублировать мой текст сериалом? И почему Ты не предупредил меня более гуманным способом? Хотя, если презреть свою гордыню, это Твое благословение, а не подлость. Верескова актриса, судьба свела ее с режиссером, круг обязан был замкнуться на сценарии, на фильме. Все, все было правильно. А с собратом по перу я разберусь без участия Всевышнего. Нечего Ему пачкаться».
Недобро упомянутый собрат заворочался на синей простыне с желтыми корабликами, открыл глаза, заложил мускулистые руки садовода и огородника за голову, приветливо усмехнулся и спросил:
– Как тебе нравится, Лизанька?
– Как все свое, Сережа, очень. Тебе не кажется, что это – плагиат чистой, то есть грязной воды? Оставим в покое заявку и синопсис, я по собственному почину откровенничала после ресторана, ты имел право записать мою историю дома по памяти. Допустим, что по наитию, а не в результате воровства твои поэпизодники вторят моим главам, как эхо. Но сценарий – это диалоги. И они списаны из присланного тебе по электронке текста буква в букву. Ты собирался предложить мне соавторство? Вернее, напроситься в соавторы?
– Я надеялся на твою благодарность, – сухо ответил Сергей.
Он встал, не глядя на любовницу, натянул трусы, брюки и рубашку. После заминки взялся за носки и ботинки. Приблизился к столу, уперся в него сжатыми кулаками и навис над Лизой. Надо полагать, возвышение одетого мужчины над женщиной, сидевшей в чем мать родила, должно было ввергнуть ее в панику. Но она разницы их состояний даже не заметила и взвилась:
– Благодарность за что?
И сценарист внятно объяснил, что, пока она пьянствовала в обиде на черствых и неквалифицированных редакторов, люди писали, трудились, пробивались. И теперь мест в вагоне женской романистики нет. Можно стоять в толпе на платформе годами, а в следующий поезд заскочат более молодые, шустрые, сильные.
– Ты обречена со своей исповедальной прозой, – сообщил он. – Ты старомодно, да чего миндальничать, плохо пишешь. Я дал тебе возможность гордиться тем, что несколько твоих слов произнесут с экрана.
– Ничего себе несколько слов! И с какой стати ты предоставляешь мне возможность быть обворованной? И каков же ты сам, если не брезгуешь моими старомодными, плохими строками?
Он проникновенно заявил, что бережет себя для великого сценария, которым заболеет великий режиссер. А сериал – так, одолжение приятелю за невеликие деньги. И если словесную основу для продукта массовой культуры можно взять готовой у бесталанной алкоголички, которой ничего не светит, то надо брать без раздумий. Обнаглели бабы: намусорят вокруг себя куцыми мыслишками и убогими фразами, а стоит профессионалу смести их в уборочный совок, начинают верещать: «Ограбили, интеллектуальной собственности лишили!»
– Уж не премировал ли ты меня любовными утехами за то, что лишил этой собственности? – осенило Лизу.
– В некоторой степени, – картинно выпрямившись, подтвердил Сергей.
Далее писательница узнала от него, что по-настоящему одаренные люди не бывают алкоголиками – гений не допускает. Спиваются только эпигоны, кем бы они себя ни мнили. И напрасно она иронизирует по поводу того, что между ними произошло. Думает, отмучилась каких-то полгода в завязке, вымылась, накрасилась, и порвала с самой собой? Он немало пожил, написал кучу сценариев на злобу вчерашнего дня и мог бы дать клятву: прозрачного намека на то, что она грязная шлюха, ни пьяная, ни трезвая женщина не вынесет. Он был настолько уверен в дальнейшем – неумелая пощечина, громкие рыдания, спешное одевание и выскакивание вон, – что зажмурился. Но его щека осталась нетронутой, а вместо ожидаемых скулящих звуков он услышал хриплый, натужный, но все-таки хохот:
– О том, что наше дурное прошлое идет навстречу, плюет нам в лицо воспоминаниями, пробивает насквозь, возле затылка встречается с будущим и уродует его, я писала. О том, что далеко не все оправдывают и жалеют падших, щадят неудачников и сильно аргументируют свою позицию, тоже. Но не догадывалась, что при этаком отношении можно тех, кого и людьми-то не считаешь, обворовывать и при случае утишать ими похоть.
– Хватит причитать, – не желал разнообразить приемы Сергей. – Другой век за окном. Попроси у богатенького сыночка денег на юристов. И подавай в суд. Сегодня утром я отослал все, что написал, продюсеру. Ему нравится, а у него чутье на высокие рейтинги.
– Я польщена, – сказала Лиза. Надо было открывать человеку глаза на то, во что он вляпался. Занятие это опасное, поэтому она резко встала и стремительно оделась – всего-то трусики и сарафан, а уже не стыдно вылетать с пинка на улицу.
– Ты меня покидаешь? – спросил хозяин с веселостью того же качества, что и хохот гостьи. Его заметно трясло. Он рывком выдвинул ящик тумбочки, достал сигареты и с третьей спички закурил: – Дыма на самом деле не приемлешь? Тогда иди на свежий воздух, и по свежему воздуху куда хочешь.
– Как только, так сразу. Мой роман – не исповедальная проза, то есть оправдаться тем, что ты «писал с натуры», не удастся. К примеру, я не страдаю алкоголизмом, у меня не сын, а дочь, есть полтора десятка изданных книг, два фильма по мотивам… Наверное, с христианской точки зрения я грешна, ибо ввела тебя в искушение, наврав про себя с три короба. Но ты показался мне честным и стойким мужиком. Вынуждена тебя огорчить: я отослала законченный роман своему издателю пять дней назад. А синопсис находится у него уже два месяца. И официальный договор того же возраста. Так что есть кому судиться с твоим продюсером, скупщиком краденого. Как же ты, ведя точный счет векам за окном, решился присваивать чужое не заглянув в Интернет? Там достаточно информации о беллетристике Елизаветы Шелковниковой. В книжный магазин зашел бы, порыскал по полкам с бабскими излияниями.
– Ты… Ты… Пугаешь? А у тебя в договоре есть пункт об обязательствах не передавать роман в третьи руки? Так учти, ты нарушила свои обязательства, послав мне…
– Четверть его? Ха-ха. Кстати, объем сценария, насколько я поняла, с половину авторского листа. Тебе от меня перепало листов пять, на десять серий. Что ты собирался дальше делать? Рисковать здоровьем, трахаясь со мной, чтобы дочитать до конца, то есть обворовать до нитки?
– А ведь сначала красиво называла это любовными утехами. Но раз нашла более точный глагол, я не против. Напомню только, с порядочными женщинами не трахаются, а как минимум занимаются любовью.
– Верно, заниматься любовью – это минимум, не связанный с максимумом – любить. Давай закругляться. Переданный в твои загребущие руки текст есть вложение в личное письмо, где черным по белому – «выполняя твою трогательную просьбу, высылаю, надеюсь быстро узнать мнение…». О разрешении использовать его там не говорится. Уймись.
– Ладно, я все переделаю. Только уходи, видеть тебя больше не могу! – крикнул Сергей. – Теперь я понимаю убийц!
– Разумеется, переделаешь. И, чтобы не впадал зря в состояние аффекта, ставлю тебя в известность: я позвонила издателю, как только прочитала синопсис. Он в курсе твоих происков. Обещал немедленно связаться с продюсером, но я умолила не спешить. А ты проспал возможность идеально меня задушить.
Эта выдумка была не лишней в целях безопасности. Выражая солидарность с душегубами, Сергей оскалился. Лиза заметила, что у него не только кожа, но и десна побелела. Она испугалась. Но не виной, а бедой этой женщины была неспособность сойти с дистанции. Ее не меньше чем Сергея тянуло к рукоприкладству. Она тоже задыхалась в его присутствии. Но задачу помочь Вере Вересковой ее собственные горести не отменяли. И вместо того, чтобы бежать без оглядки, неисправимая романистка поинтересовалась:
– А как скоро начнутся съемки?
– Какие теперь съемки! Кастинг отменять придется! Я не уложусь в месяц!
– Месяц до кастинга? Это замечательно. Сделай ты героиню певицей. А мальчика, который с ней возится, не сыном, а фанатом. Услышал когда-то диск, влюбился в роскошный голос, разыскал обладательницу и был шокирован ее состоянием. Пашет день и ночь, копит ей на лечение, мечтает вернуть на сцену. Она же выздоравливает и делает ему ручкой. Или не делает.
– Протухло давно.
– Свежатину раздобывай сам, гений. Я недавно читала, что бывшую служительницу муз, ради которой мужчина внедряется в общество анонимных алкоголиков, будет играть в большом кино то ли Милла Йовович, то ли Николь Кидман. Вечная тема.
– Подвох в чем? Зачем сюжет подкинула?
– Чтобы тебе было чем возмещать моральный ущерб. Ты всерьез думал, что я просто уберусь?
– Поступи именно так. И я с наслаждением забуду о тебе. С твоим паршивым романом вышло недоразумение. Я устал и действительно решил сэкономить творческую энергию, раз попалось бесхозное сочинение. Думал, у тебя запала не хватит на концовку. Но извинять не буду, сама виновата, обманывала меня с первой минуты, пичкала своим бредом, как подопытного кролика. Все, не было ничего, в глаза я не видел ни тебя, ни твоих текстов.
– Видел. И я требую, чтобы мою знакомую артистку утвердили на главную роль.
– Спятила? У продюсера своих знакомых хватает.
– Выкрутись.
– Иначе?
– Иначе друг, который так ценит твою способность генерировать идеи, получит длинный список их первоисточников. Через средства массовой информации. Видишь ли, оригинальные сюжеты давно иссякли, и мы, авторы, стараемся не привлекать к этому внимание. Вы, сценаристы, тоже молча старье тасуете. Но, если я возьму на себя труд перечислить, что и откуда ты надергал, а у меня эрудиции хватит, не сомневайся, лично твои недоброжелатели и враги тех, с кем ты сотрудничаешь, не без удовольствия порезвятся на ваших костях.
Причем чем хуже сами, тем яростнее станут резвиться. И ты, причина скандала, окажешься крайним. Тебе оно надо?
– Договорились, приглашение на кастинг и симпатию продюсера я ей обеспечу. Кто она, как связаться?
– Вера Верескова, дипломированная киноактриса. Я уточню координаты ее агента и сообщу. Не вздумай менять электронный адрес или номер телефона – из-под земли достану. Смотри-ка, раздышался, порозовел. Значит, выполнить мое единственное условие тебе будет легко. А усложнять ситуацию не в моих интересах. Что ж, прощай, сволочь бездарная.
– Графоманка чертова.
Они еще долго сыпали ругательствами: одна – несясь к электричке, другой – перебирая бумажки.
Через десять минут Сергей уже сидел за компьютером и менял романистку на певицу, сына на фаната и на всякий случай водку на кокаин. А Лиза плюхнулась на сиденье в вагоне так, что чуть не отбила себе то место, которое у остальных людей мягкое, и неслышно зашептала: «Впредь не ложись с кем попало». О том, что не следует посылать кому попало рукописи, ей совсем не думалось.
Тело ломило, будто после резкого спада высокой температуры, на улице уже темнело, но с вокзала Лиза Шелковникова отправилась по адресу, который хорошо запомнила. Дать его Сергею без разрешения Веры она не могла, хотя очень хотела. Дом Вересковой находился всего в паре кварталов от ее собственного обиталища – дворами близко, так что непомерных трат сил и времени не предвиделось. Лизе необходимо было срочно известить одноклассницу о грядущем кастинге. Пока ее любимый алкоголик раскачается после пребывания в клинике, пока начнет трудиться, Вера на пробах вновь ощутит себя актрисой. Лиза не переоценивала своих угроз и знала, каковы продюсерские нравы: до главной роли вряд ли дойдет. Не возьмут – плевать, теперь есть мужское режиссерское плечо, на котором выплакаться даже приятно. А уж если повезет и ее утвердят, держись вселенная! Курс лечения к тому времени может еще не закончиться, но ради такого дела врачи должны на денек освободить пациентку из-под надзора. Это же мечта нарколога – чудесная востребованность творческой личности, спивавшейся от отсутствия таковой. Кроме того, писательница считала, что Вере нужен покой, следовательно, будоражащие душу и влекущие участие в активной деятельности известия лучше получать заранее.
Конечно, застать одноклассницу Лиза не надеялась. Но вдруг ее сын как раз явился проверить целость замков? А если удача повернулась сегодня к лесу передом, к романистке задом и в таком положении была застигнута приступом радикулита, соседи должны знать, как найти парня. Однако окна на фасаде в нужном ряду светились все до единого – редчайшее городское явление в дачный сезон. Взбодренная Лиза бегом поднялась по лестнице и нажала кнопку заляпанного красками всех подъездных ремонтов старого звонка.
– Кто там? – спросил женский голос.
Лиза не удивилась тому, что молодой компьютерный гений захватил с собой в пустующую квартиру девушку, и веско сказала:
– Знакомая. Откройте, пожалуйста.
Упрашивать не пришлось. Дверь гостеприимно распахнулась, и перед визитершей предстала немолодая растрепанная женщина с грубым испитым лицом. За ее спиной переминался с ноги на ногу мужчина, наделенный внешностью такого же качества. Оба были под градусом.
«А мальчик у Веры не промах, – решила Лиза. – Сдал квартиру, пока мама на излечении. По иронии судьбы жильцы оказались пропойцами». Она вежливо улыбнулась и сказала:
– Вечер добрый. Не поможете мне связаться с хозяином?
Женщина засмеялась:
– Не помогла бы, даже если не был бы он мне мужем. Только я тут хозяйка, а он в примаках.
– Как же так? – растерялась писательница. – Я буквально два месяца назад встречалась здесь с одноклассницей. Она говорила, что это – ее жилье.
– Шутница, однако, – подал сиплый тенорок мужчина.
– Погодь, Колька, – нежно и игриво обратилась к нему супруга. – Может, та, что снимала нашу хату на полдня, в гости кого приглашала? Как раз два месяца тому назад и было. Я на лавочке проветривалась после обеда, башка трещала. Подошла дамочка, простая из себя, чистая, с интересом, нельзя ли у какой-нибудь старушки однокомнатную занять на несколько часов, само собой, за деньги. Я, не будь дура, свою и предложила. Она велела к утру прибраться как следует. Зашла, глянула, одобрила, взяла ключи, заплатила. Мы с Колькой на радостях к его брату поехали. Вернулись, ключи в почтовом ящике, как договорено, ничего не взято, наоборот, на столе бутылка коньяка, почти что полная. Такой вот выгодной сделки сподобились за беды наши.
– Поздравляю, – вздохнула Лиза. – Извините за беспокойство. До свидания.
Ее трудно было выбить из колеи, вот и в эту она, понимая, что свалена обстоятельствами с ног, вцепилась мертвой хваткой. И позвонила в квартиру напротив. Открыта сухонькая бабулька с почти бесцветными, но излучавшими любопытство глазками:
– Вам кого?
– Скажите, а ваши соседи, муж с женой, давно тут живут?
– Катька с Колькой? Въехали году в девяностом. Выселите их, давно пора. Каждую ночь гулянки, драки, крики. Терпения нет.
– Спасибо, – промямлила Лиза и не заметила, как спустилась во двор.
Произошедшему не было объяснения. «Оно есть, просто не найдено», – сухо поправила себя романистка. И дорогой сочинила маленькую повесть об актрисе, которая хочет начать новую трезвую жизнь. Ей надо, чтобы кто-нибудь об этом узнал и обязательно поверил в ее версию, мол, квасить начала с горя, втянулась случайно и так далее. Потому что близкие, наблюдавшие за ней годами, трактуют ее судьбу по-своему и наверняка саму обвиняют во всем, что случилось. Живет она где-то поблизости. И однажды видит на улице одноклассницу. То есть видела и раньше, но тут вдруг узнает в повзрослевшей, изменившейся женщине. Встречает, выползая за пивом, раз, другой – в одно и то же время. У бедняжки возникает идея снять помещение и исповедаться. Приглашать к себе она не может: то ли в тот момент категорически не намерена продолжать отношения, то ли там такая нищета и разор, что стыдно, то ли сын запрещает и контролирует исполнение. Она залучает Лизу, отводит душеньку в монологе, позволяет себе немного коньяка, хотя едва не сломалась, прося купить его, а не легкое вино. «Как просто, – подумала писательница, открывая свою дверь. – Как грустно».
– Мама, ты вернулась? – приветствовала ее Маша.
– А я ухожу, – сообщил Игнат.
Лиза попросила его задержаться и рассказала о визите к актрисе.
– Ребята, как же мне разыскать Веру? Я договорилась, ее должны пригласить на кастинг.
– Ой, нам казалось, у вас с Сергеем личные дела. А ты все об отставной актрисе своей хлопочешь, – ляпнула Маша.
Игнат толкнул ее в бок, но Лиза не слышала замечания и продолжала ныть:
– Фамилия наверняка другая, в квартире не прописана… Одноклассников тревожить? Так ведь каждому что-то врать придется. Зачем мне Верка Верескова через двадцать лет понадобилась? Сплетен будет уйма. А вдруг она добивалась забвения? Тогда информации не получу, а улей растревожу.
– Верескова? Не знаю такую. Но поспрашиваю у наших, – взялся артист из цеховой солидарности. – Кто-то может ее помнить.
– Только осторожно, ни слова лишнего, – взмолилась зачинщица. – Я не должна была называть ее имени.
Парень торжественно обещал.
Елена Калистратова в пеньюаре вошла в свою гостиную, выщипнула из пушистой желтой грозди крупную виноградину, по-детски забросила ее в рот и улыбнулась. Воскресенье, редакционный офис остывал от жара человеческих амбиций, спешить было некуда. Она потянулась за следующей ягодой. Солнце било в окно так, что даже за завесами прикрытых от удовольствия век царил свет. Комната была наполнена вещами, словно шкатулка, в которую из пригоршни высыпали изящные безделушки разных форм и размеров. Эдуард называл здешнюю обстановку хаосом – источником дизайнерского вдохновения. Откуда ему было знать, что она – результат вдохновения другого дизайнера. О, тот мог бы стать его конкурентом во всем, если бы не переехал в Америку.
Десять минут назад Елена впервые за несколько месяцев отпустила своего Эдика по каким-то его делам с легким сердцем. И теперь после душа полулежала в кресле, довольная собой и любовником, уверенная в себе и в нем и способная ценить эту парность. Со вчерашнего вечера он был беззаботен и раскован, щедро дарил наслаждение и жадно, бесстыдно наслаждался. «Наконец-то кризис миновал, и его бывшая так и осталась в прежнем статусе, – думала Елена. – Ради этого стоило трудиться, и я потрудилась». Но Лиза никакого отношения к раскрепощенности господина Шелковникова не имела. Ему просто удалось избавиться от требовательной в постели клиентки. Ее муж решил, что достаточно заплатил за благоустройство, и, похоже, посадил жену на цепь охранять стильный дом и вычурный сад. Если бы он ее еще и кормить перестал на недельку, измученный Эдуард счел бы себя отмщенным.
Подал звонкий голосок телефон. На дисплее возникло имя сценариста, которому Елена Калистратова недавно оказала дружескую услугу. Она могла рассчитывать на благодарность, но Сергей взялся предъявлять претензии:
– Почему ты не предупредила, что эта Лиза, так сказать, в обойме, что успешно издается?
– А разве должна была? – изумилась красавица редактор. – Ты желал вблизи рассмотреть современную литераторшу, находящуюся в возрасте между школьным и пенсионным. Я подсказала, где такая ужинает по пятницам. Остальное – твоя забота, ты уже большой мальчик.
– Она мне такого наплела! Будто пьянь, трудно завязавшая с десятой попытки, книг своих в руках не державшая.
– Странная женщина. Но, может, она прочно обосновалась в каком-нибудь своем романе?
– Точно, в последнем. Настолько прочно, что я поверил. Ладно, черт с ней. Ты не знаешь Веру Верескову? Твоя Лиза отрекомендовала ее «дипломированной киноактрисой».
– Да не моя, не моя, мы лично не знакомы. А с чего ей рекомендовать тебе актрис?
Она тоже к сериалам причастна? Кстати, у нее и спроси поконкретнее.
– Э… Ну… – замялся сценарист. И выпалил: – Мы поссорились. У нее паранойя – мерещится, будто все крадут ее нетленки. Чокнутая баба, из-за нее расхотелось делать героиней писательницу. Она презентовала мне жиденький сюжет в обмен на участие в кастинге ее протеже. Заметь, сначала требовала утверждения той на главную роль, но потом умерила аппетит. Обещала днями сообщить координаты агента. Но я решил заранее навести справки. Фамилии такой никогда не слышал, а мне ее серьезным людям предлагать.
– Так не предлагай. Расплевались и расплевались.
– Нет, я все-таки порядочный человек, Лена.
– Сергей, если я что-нибудь выясню, позвоню. Идет? Как там ее, претендентку?
– Верескова Вера. Тупой псевдоним, да?
– Это псевдоним? Тяжелый случай.
– Честно говоря, я не знаю. Но не бывает же таких безвкусных настоящих имен. Пока, рассчитываю на тебя.
«Не слишком надейся, я тебе не должна», – пробормотала Елена. И, раз уж нужда сценариста заставила ее взяться за тонкий черный аппарат, тронула сенсорную панель, вызывая Игната Смирнова:
– Здравствуй, жених. Как дела?
– Родственная душа, твой глас – глас судьбы! У меня масса новостей!
– А у меня всего две минуты свободных.
– И ты их на меня, ничтожного раба Игнашку, тратишь?
– Все ерничаешь? Пока.
– Нет, подожди, прости. Только главное, ты не в курсе, где можно найти актрису Веру Верескову?
– Зачем?
– Ее одноклассница разыскивает, – пытался и не врать кумиру, и хранить Лизины секреты Игнат. – Она думает, что все артисты знакомы друг с другом. Поэтому обратилась ко мне. А я – к тебе, у тебя же обширнейшие связи. Хорошо, одной тебе открою тайну, это насчет проб на главную женскую роль.
– Все, мое время истекло. Если что узнаю, позвоню.
– Если нет, тоже позвони, – безнадежно проворчал Игнат и вдруг сообразил, что впервые пожертвовал возможностью целых две минуты повторять в трубку слово «люблю» ради будущей тещи, то есть, в сущности, ради своей семьи.
«А Вера Верескова – популярная личность, – холодно усмехнувшись, констатировала Елена. – Не послать ли кого-нибудь взять у нее интервью? Не хочется пропускать восход звезды, у меня остросовременный журнал». Она швырнула сотовый от Армани в угол дивана. Эта неуемная писательница дешевых романов будто перехватила у нее инициативу. Так нажала, стерва, что и матерый сценарист, который самого Господа Бога за сюжет не поблагодарил бы, и мальчишка, у которого на уме только, как бы сбежать из-под венца, ищут неведомую актрису. Анекдот, Лиза Шелковникова пристраивает Веру Верескову! А кто просил? Кто?! От нее требовалось лишь оставить в покое Эдуарда. Отвлечься от бывшего мужа работой над новым романом, свадьбой дочери, разборками с ментами и покалеченным издателем, блудом с готовым на авантюры собратом по перу. Какой выбор предоставила ей Елена от щедрот своих. И вернула себе Эдуарда, пока Лиза занималась всем понемногу. Так она теперь никак не угомонится, понравилось дышать в искусственно созданной атмосфере развивающегося, накаляющегося, будоражащего действия.
«Сколько человек из нынешних моих знакомых знает, что по паспорту я Вера? Что фамилию Калистратова оставила после развода? – задумалась Елена. – Последнее – уже никто. Первое – моя ассистентка, которой приходится заказывать билеты на самолет, и финансовый директор. А если кто-нибудь случайно заглядывает в документы и любопытствует, достаточно бывает объяснить, что я никогда не любила своего имени. И люди радостно и согласно трясут головой – конечно, зовись как нравится, зачем нужна бумажная волокита с официальным изменением обозначающего личность слова?» Надо же, и на секунду не пришло на ум ответить Сергею, а потом Игнату: «Вера Верескова – это я». Забыта, отвыкла. Чужая кличка.
Она закодировалась двенадцать лет назад, ей еще тридцати не было, и с той поры всячески культивировала в себе отвращение к алкоголю. Пережила свой катарсис, когда в похмельных судорогах открытыми глазами видела все, что от имени Веры рассказывала Лизе. И жалела она тогда, корчась на старой раскладушке, не себя – нищую, зависимую от пойла, бездомную, но сына, у которого так кончит мать. Это неизбежно стало бы ее будущим, не прекрати она пить. И ненависть к собственной профессии, к людям, которые «делали кино», возникла тогда же. Она осознала, что родилась и умрет актрисой, а придется ею работать или нет – решают другие.
Ей даже фильмы смотреть наскучило: она знала, что сценарист, режиссер, исполнитель пережили сами, к чему приобщились со слов близких, о чем где-то прочитали или стороной услышали. Елена вязла в деталях, ей перестало удаваться воспринимать целое. Сейчас она прекрасно понимала, что теряла разум от спиртного. А тогда казалось, на нее снизошло озарение. Необходимо взять новое, не опозоренное запредельной слабостью характера, не преданное друзьями имя! Она подошла к стеллажу, наугад вытянула книгу, открыла и прочитала: «– Веры нет, она исчезла! – крикнула Елена». Веры нет… Елена… Рок впервые оказался на ее стороне.
Нужно было чем-то заняться. Муж затаился в Германии, деньги кончились, все, что можно продать, было продано. Только компьютер сына она не тронула. И по ночам повадилась писать на нем письма в газеты о том, до чего доводит людей чехарда общественных формаций. В двух изданиях ей предложили внештатное сотрудничество. К тому времени Вера Верескова ассоциировалась у тех, кто ее еще помнил, с навеки окосевшей от зелья, лохматой, толстой бабой, которая никакого отношения к журналистике иметь не могла. В трезвом, стройном, джинсовом облике Елены Калистратовой ее не узнавали ни одноклассники, ни сокурсники, ни коллеги, ни бывшие собутыльники, даже столкнувшись нос к носу. Если кто-нибудь прищуривался и спрашивал, не встречались ли они раньше, она мерила любознательного цепким взглядом и говорила «нет». Люди почему-то смущались и рассыпались в извинениях. В отличие от многих «вернувшихся в реальность» она не лезла во все дырки и щели, истерически наверстывая упущенное. Но надела маску отстраненности, действительно желая только покоя. И вскоре за ней стали приударять мужчины, которым надоело, что за ними бегают. С одним, богатым, женатым и влиятельным, она расчетливо спала. Он купил ей модельное агентство. Потом умно отпустила его к юной чаровнице – и через несколько месяцев обосновалась в редакторском кабинете модного глянцевого журнала. Кто-то играл таких, как она, в сериалах. Ей тоже пригодилась актерская выучка. Когда предстояло делать что-нибудь неприятное или просто рутинное, она накачивала себя: «Это – роль. По сценарию ты должна победить. Но прежде – убедить партнеров и зрителей. «Дерзайте, вы талантливы». Вперед».
Елена работала по восемнадцать часов в сутки, потому что всех, с кем контактировала, и все, чем занималась, считала работой, на которой каждое движение истолковывалось ей во вред, каждое слово использовалось против нее. Она копила на строгую и комфортную старость в Европе, где хотел после окончания немецкого университета обосноваться сын. И вдруг в тридцать девять лет встретила Эдуарда Шелковникова. Забрезжило нечто, похожее на любовь. Она убеждала себя – это очередной мираж. Любовь была для нее единственной настоящей опасностью, ибо она – зависимость, то есть страдание. Но доводы логики действовали ненадолго. И перестали совсем, когда Эдуард увиделся с Лизой и непосредственно поделился с любовницей восхищением.
Елена забыта, что даже самые легкомысленные люди охотно болтают лишь о том, чего не собираются делать, и о тех, кто не представляет для них практического интереса. Вот про резвую молодую клиентку ей не суждено было услышать от дизайнера никогда. Она перемудрила, сочтя, будто уловила и правильно истолковала то, что Эдуард еще не осознал, не сформулировал для себя как цель. Подобно всем беспорядочно существующим после сорока он взахлеб хвалил Лизин здоровый образ жизни, милые привычки – утренний моцион в своем районе, вечерняя пятничная трапеза в рыбном ресторане ближайшего к дому торгового центра. Он сообщал эти незначительные подробности, однако бешеная работоспособность писательницы и неуемная помощь ближним впечатляла его меньше, о них он упомянул вскользь, дескать, на все сил хватает, когда быт правильно организован. В курсе нововведений в материнский распорядок дня его держала Маша, которой надо же было о чем-то говорить с папой за обеденным столом. Но Елена решила, что Лиза сама старается. Уяснив основное, она произнесла всего одну фразу по поводу:
– Хотела бы я посмотреть на твою первую жену и дочь.
Вечером Эдуард привез ей пачку фотографий – та же Маша регулярно снабжала, не думая, зачем они ему. И это лыко идеально вплелось в строку ревности – гуляют втроем, развлекаются, он фотографирует…
Елена легко узнала на последних снимках одноклассницу Лизку Синявскую, некогда девчонку темпераментную, способную увлечь. Еще в девятом она зацепила Эдика тем, что не создавала собственных проблем, наоборот, играючи решала его. Елена Калистратова избавилась от сентиментальности и других мягких качеств вместе с именем Веры. Для нее нейтрализация этого живого мотора – Лизки – сводилась к ряду технических мероприятий. Сначала казалось, что достаточно будет внедрить в дом соглядатая Игната в виде жениха дочери и подкинуть тему романа, чтобы сочинительница угомонилась. Но у Лизы была натура ртутного шарика, заставлявшая себя дробиться, превращаться из крупной капли во множество неуловимых мелких при нажиме и затем вновь стягиваться в темное блестящее целое. Пришлось обложить подругу детства со всех сторон, задействовав Полянского и Сергея. Елена не стала с годами нарочито жестокой: соперница отвязалась от Эдуарда, и отпала нужда приказывать Игнату бросить Машу, чтобы истрепать нервы и поссорить ее родителей. Эдуард наверняка обвинил бы в бедах дочери мать и на время перестал общаться с обеими, как всегда поступал, когда ему было их жалко. Но, добившись своего, Елена и пальцем не собиралась шевелить ради эффектного зловещего финала. И не радовалась тому, что влюбленный в нее актер женится и перестанет ей надоедать: она забывала о парне мгновенно, стоило разъединиться их мобильникам.
Итак, после невольного детального отчета Эдуарда Елене Калистратовой хватило четверга и пятницы для проверки. Часов в десять она подъезжала на машине к подъезду и убеждалась – Шелковникова мотается по скверам с отсутствующим видом, спотыкается о поребрики и изредка здоровается лбом с деревьями. Во второй раз интриганка еще и вечером незаметно сопроводила писательницу к торговому центру, поднялась следом в ресторан, вернулась в машину, дождалась окончания ужина. С симпатией отметила, что та не высиживала лишнего, но и не торопилась. Равнодушно подумала: «Наверное, когда дочка приглашает гостей, мать добирает время своего отсутствия в кино». Елена планировала столкнуться с Лизой в образе Веры Вересковой, затащить в тихий уголок и произнести монолог алкоголички так, чтобы одноклассницу разобрала жажда творчества. Встреча студентки-медички и актера предназначалась следующей серии. Но Маша буквально попалась под ногу рассеянно бредущей из ресторации Лизе возле дома. Елена затормозила и через открытое окно своей машины выслушала сообщение о какой-то Алке, пригласившей девочек из группы в бар, отметить день рождения. Где, какого числа и в котором часу состоится встреча, Шелковниковы обсудили не трогаясь с места. Елене в назначенный срок оставалось лишь позвонить Игнату Смирнову, затаскать его по кабачкам и лавочкам до потери сопротивления и, наконец, в нужном заведении указать на Машу. А затем спешно перевоплощаться в Верескову.
Ей не составило труда побродить в окрестностях вызывающе красневшей среди панелек новой кирпичной многоэтажки Лизы и снять у похмельной бабы квартиру на несколько часов. Явиться туда на следующее утро, загримироваться и переодеться. Весь спектакль с обмороком, выбором спиртного и исповедью дался легко. Но представление едва не испортила мелочь – ее невыносимо затошнило от запаха коньяка. Отвращение было таким, что не потерять сознание да еще манипулировать заранее спрятанными под кухонным полотенцем рюмками с заваркой стоило громадных усилий воли. Она справилась.
Игнат был удобным инструментом контроля над обстановкой в доме Шелковниковых. Елена баловала парня звонками и исподволь выясняла все – Лиза убралась на дачу и строчила роман, воображая себя доброй феей. После читки прояснилось с содержанием: злокозненной Калистратовой было начхать, о чем там речь, лишь бы сочинительница не отрывалась от ноутбука. Но то, что спасением от ада назначена любовь между актрисой и режиссером, вдохновительница к сведению приняла. Молодые люди подали заявление в ЗАГС, Оксана устроила свои посиделки, на которых ни слова не было сказано об отцах жениха и невесты. Казалось, Лиза забыла про Эдуарда. А он мрачнел, отдалялся от Елены, в его все чаще пустующем любимом кресле расквартировался страх потери. Несчастная ревнивица думала, что просчиталась и грядущее бракосочетание дочери подняло в душе отца такую эмоциональную волну, которая обязательно прибьет его к брошенной когда-то женщине. Но отозвать Игната она не решалась. Он до обидного быстро смирился со своей участью, видимо, Маша была не промах. Кроме того, оставаться без информатора в столь напряженный момент не стоило. И Елена вспомнила рассказ Лизы о конфузе с издателем. Это было то, что надо: востребованный дизайнер Шелковников терпеть не мог скандалов, в которых треплют его фамилию. Наверняка после давней, обсосанной в Интернете выходки Лизы требовал, чтобы она взяла свою, девичью.
Выяснить, какой именно издатель пострадал от неуравновешенной романистки, труда не составило. Елена даже удивилась, что пропустила такую заварушку. Но, сопоставив числа, вздохнула с облегчением – ее в стране тогда не было, навещала сына. Илью Борисовича Полянского она видела на книжных ярмарках, так что о его внешности представление имела. Вызвала своего самого ушлого журналиста и сказала: «Быстренько обозначь мне контактные точки издателя, попробую договориться об интервью, читать становится модно. Если он в разуме, ты к нему и отправишься». Через полчаса на столе лежал список всех телефонов, адресов и даже номеров гаражных боксов и мест на стоянках. Дома у нее давно пылилась бутылка с концентрированным дезинфицирующим средством для обработки помещений. На этикетке было предупреждение – во избежание химических ожогов возиться с этим средством только в перчатках, при попадании на кожу немедленно смывать водой и бежать к врачу. Особо уродовать приятного вальяжного издателя не хотелось: злоумышленница отлила ядовитой гадости в пузырек, ухмыляясь, слегка разбавила минералкой и поставила в сумку. Остатки вылила в унитаз, тару выбросила. Позвонила бывшей сотруднице своего агентства, ростом и комплекцией похожей на Лизу, законченной наркоманке. Не представившись, изложила суть – надо хорошенько прикрыть рожу капюшоном, подкараулить мужика, сбрызнуть ему руки, именно и только руки, жидкостью и дать деру. Если не поймают, через час в условленной забегаловке получить деньги. Исполнительница выразила готовность действовать немедленно и не спросила, кто заказчик. Елена велела быть в форме и ждать распоряжений завтра-послезавтра. Затем нарядилась бледной поганкой, нахлобучила дешевый парик, водрузила на нос уродливые темные очки и поехала к издательству – просто сориентироваться на местности.
Она высматривала, где бы припарковаться, когда из здания вышел Полянский. Он громко разговаривал по мобильному. У Елены Калистратовой был отменный слух – Илья Борисович грозился отправиться прямо домой. Прикинув, как долго он будет объезжать пробки, она оставила машину, захватив из нее сумку, и кинулась в метро. Из автомата связалась с наркошей и Лизой. Вызвала обеих на одну и ту же станцию – девку зарабатывать на дозу, писательницу выручать одноклассницу гигиеническими прокладками. Отдала истеричной в приближении ломки соучастнице пузырек, объяснила, куда идти, кого и где ждать. Та не узнала нанимательницу. Елена следовала за ней до гаража, томилась за углом какого-то контейнера почти час, наблюдала за выполнением заказа. И, когда издатель, голося, окунал обожженные части тела в лужу, схватила за рукав убегавшую наркоманку и сунула ей несколько купюр со словами: «В расчете». Не тащиться же было в самом деле в паршивую кафешку, чтобы расплатиться.
Вскоре Игнат сообщил, что для Лизы все кончилось не начавшись, – повезло с алиби, издатель не разорвал договор, вообразив, будто именно этого кто-то и добивался. Елена все равно полагала, что не напрасно тратила организаторские способности. Как банки и горчичники называются? Отвлекающей терапией? Писательнице-то точно было не до Эдуарда, Вера Верескова ей позванивала и, не надеясь особо на проницательность засланного актера, сама контролировала ее настроение. Но дизайнер Шелковников продолжал хандрить. Его неукротимая любовница все чаще думала: «Надо подогнать Лизке мужика. Если сама не втюрится и не пошлет Эдика по-настоящему, устрою ему случай взглянуть со стороны на эту парочку. Он извелся до предела, ему достаточно будет увидеть рядом с ней другого в самой невинной обстановке, чтобы вспомнить – дважды в одну реку не входят». Зверь бежит на ловца, потому что тот знает, где ждать, и умеет встретить. Через несколько дней Елене позвонил знакомый сценарист и разнылся из-за того, что не знаком ни с одной пианисткой, виолончелисткой, скрипачкой или арфисткой средних лет, которая могла бы, сама о том не догадываясь, «позировать» ему для образа главной героини сериала. «А почему именно музыкантша?» – спросила она. «Да так, нужно что-то с легкой придурью, обусловленной для зрительниц родом деятельности», – объяснил Сергей. «Тогда лучше сочинительница женских романов – актуальный персонаж. Каждая умеренно образованная домохозяйка уверена в том, что в состоянии написать бестселлер, как только муж купит ей посудомоечную машину и освободится еще час досуга», – рассмеялась искусительница. «А с оной сведешь?» – взбодрился ищущий легких путей в искусстве грешник, мгновенно позабыв про оркестранток и солисток. «Я очень занята. Подскажу, где экстравагантная дама одиноко ужинает по пятницам. Взгляни на нее и, если подойдет в натурщицы, сходись самостоятельно». Она подсказала.
Сработало! Эдуард Шелковников, будто из тюрьмы, где Лиза была надзирательницей, вырвался. И обрел свободу в постели Елены. А ведь месяца три заблуждался, путая карцер с волей… Счастливая женщина опять покусилась на виноградную гроздь. Вытянула тонкую гладкую руку и полюбовалась ею. Смешная романистка Лизка полагает, что если нельзя помочь человеку связями и деньгами, а от звуковых утешений толку нет, то надо написать про его беды, изо всех сил желая избавления. В бытность свою актрисой госпожа Калистратова тоже заблуждалась, думая, что отводит от людей горе, когда пропускает через свою душу испытания, которые на ее долю и не собирались выпадать. Спасительницы человечества! Воительницы со злом! Дуры! Дуры! Дуры! Как замечательно, что Елена расплатилась за все годами пьянства, спалила в них амбиции, мистические претензии и вовремя остановилась. Что начала жить без этих опасных, богомерзких завихов. Она невесомо вскочила с дивана и, как ей показалось, подплыла к окну. Сквозь стекло ее внимательно разглядывал летний полдень. И, словно в забытьи, она дерзко сказала ему:
– А не продолжить ли игру? Я дружна с типами, которые убедят продюсера: найденная Сергеем артистка создана для этой роли. Черт их всех побери, они еще узнают, кто такая Вера Верескова!