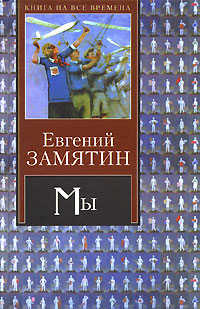
Мамай
По вечерам и по ночам – домов в Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несется корабль по каменным волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбунтовавшемся каменном океане улиц. И конечно, в каютах не жильцы – там пассажиры. По-корабельному просто все незнакомо-знакомы друг с другом, все – граждане осажденной ночным океаном шестиэтажной республики.
Пассажиры каменного корабля № 40 по вечерам неслись в той части петербургского океана, что обозначена на карте под именем Лахтинской улицы. Осип, бывший швейцар, а ныне – гражданин Малафеев, стоял у парадного трапа и сквозь очки глядел туда, во тьму: изредка волнами еще прибивало одного, другого. Мокрых, засыпанных снегом, вытаскивал их из тьмы гражданин Малафеев и, передвигая очки на носу, регулировал для каждого уровень почтения: бассейн, откуда изливалось почтение, сложным механизмом был связан с очками.
Вот – очки на кончике носа, как у строгого педагога: это – Петру Петровичу Мамаю.
– Вас, Петр Петрович, супруга дожидают обедать. Сюда приходили, очень расстроенные. Как же это вы поздно так?
Затем очки плотно, оборонительно уселись в седле: тот, носатый из двадцать пятого – на автомобиле. С носатым – очень затруднительно: «господином» его нельзя, «товарищем» – будто неловко. Как бы это так, чтобы оно…
– А, господин-товарищ Мыльник! Погодка-то, господин-товарищ Мыльник… затруднительная…
И наконец – очки наверх, на лоб: на борт корабля вступал Елисей Елисеич.
– Ну, слава богу! Благополучно? В шубе-то вы, не боитесь – снимут? Позвольте – обтряхну…
Елисей Елисеич – капитан корабля: уполномоченный дома. И Елисей Елисеич – один из тех сумрачных Атласов, что, согнувшись, страдальчески сморщившись, семьдесят лет несут по Миллионной карниз Эрмитажа.
Сегодня карниз был явно еще тяжелее, чем всегда. Елисей Елисеич задыхался:
– По всем квартирам… Скорее… На собрание… В клуб…
– Батюшки! Елисей Елисеич, или опять что… затруднительное?
Но ответа не нужно: только взглянуть на страдальчески сморщенный лоб, на придавленные тяжестью плечи. И гражданин Малафеев, виртуозно управляя очками, побежал по квартирам. Набатный его стук у двери – был как труба архангела: замерзали объятия, неподвижными пушечными дымками застывали ссоры, на пути ко рту останавливалась ложка с супом.
Суп ел Петр Петрович Мамай. Или точнее: его стро-жайше кормила супруга. Восседая на кресле величественно, милостиво, многогрудно, буддоподобно – она кормила земного человека созданным ею супом:
– Ну, скорей же, Петенька, суп остынет. Сколько раз говорить: я не люблю, когда за обедом с книгой…
– Ну, Аленька, ну, я сейчас – ну, сейчас… Ведь шестое издание! Ты понимаешь: «Душенька» Богдановича – шестое издание! В двенадцатом году при французах все целиком сгорело, и все думали – уцелело только три экземпляра… А вот – четвертый: понимаешь? Я на Загородном вчера нашел…
Мамай 1917 года – завоевывал книги. Десятилетним вихрастым мальчиком он учил закон божий, радовался перьям, и его кормила мать; сорокалетним лысеньким мальчиком – он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга.
Ложка супу – жертвоприношение Будде – и снова земной человечек суетно забыл о провидении в обручальном кольце – и нежно гладил, ощупывал каждую букву. «В точности против первого издания… С одобрения Ценсурного Комитета…» Ну, до чего приятное, до чего умильное m на трех толстеньких ножках…
– Ну, Петенька, да что это? Кричу-кричу, а ты с своей книгой… Оглох, что ли: стучат.
Петр Петрович – со всех ног в переднюю. В дверях – очки на кончике носа:
– Елисей Елисеич велели – чтоб на собрание. Скорее.
– Ну вот, только за книгу сядешь… Ну, что еще такое? – у лысенького мальчика в голосе слезы.
– Не могу знать. А только чтоб скорее… – дверь каюты захлопнулась, очки понеслись дальше…
На корабле было явно неблагополучно: быть может, потерян курс; может быть, где-нибудь в днище – невидимая пробоина и жуткий океан улиц уже грозит хлынуть внутрь. Где-то наверху, и вправо, и влево – тревожно, дробно стучат в двери кают; где-то на полутемных площадках – потушенные, вполголоса разговоры: и топот быстро сбегающих по ступенькам подошв: вниз, в кают-компанию, в домовый клуб.
Там – оштукатуренное небо, все в табачных грозовых тучах. Душная калориферная тишина, чуть-чуть чей-то ше-пот. Елисей Елисеич позвонил в колокольчик, согнулся, наморщился – слышно было в тишине, как хрустнули плечи – поднял карниз невидимого Эрмитажа и обрушил на головы, вниз:
– Господа. По достоверным сведениям – сегодня ночью обыски.
Гул, грохот стульев; чьи-то выстреленные головы, пальцы с перстнями, бородавки, бантики, баки. И на согнувшегося Атласа – ливень из табачных туч:
– Нет, позвольте! Мы обязаны…
– Как? И бумажные деньги?
– Елисей Елисеич, я предлагаю, чтоб ворота…
– В книги, самое верное – в книги…
Елисей Елисеич, согнувшись, каменно выдерживает ливень. И Осипу, не поворачивая головы (быть может, она и не могла повернуться):
– Осип, кто нынче на дворе в ночной смене?
Осипов палец медленно, среди тишины, пролагал путь по расписанию на стене: палец двигал не буквы, а тяжелые мамаевские шкафы с книгами.
– Нынче М: гражданин Мамай, гражданин Малафеев.
– Ну вот. Возьмете револьверы – и в случае, если без ордера…
Каменный корабль № 40 несся по Лахтинской улице сквозь шторм. Качало, свистело, секло снегом в сверкающие окна кают, и где-то невидимая пробоина, и неизвестно: пробьется ли корабль сквозь ночь к утренней пристани – или пойдет ко дну. В быстро пустеющей кают-компании пассажиры цеплялись за каменно-неподвижного капитана:
– Елисей Елисеич, а если в карманы? Ведь не будут же…
– Елисей Елисеич, а если я повешу в уборной, как пипифакс, а?
Пассажиры юркали из каюты в каюту и в каютах вели себя необычайно: лежа на полу, шарили рукою под шкафом; святотатственно заглядывали внутрь гипсовой головы Льва Толстого; вынимали из рамы пятьдесят лет на стене безмятежно улыбавшуюся бабушку.
Земной человечек Мамай – стоял лицом к лицу с Буддой и прятал глаза от всевидящего, пронизывающего трепетом ока. Руки у него были совершенно чужие, ненужные: куцые пингвиньи крылышки. Руки ему мешали уже сорок лет, и если бы не мешали сейчас – может, ему очень просто было бы сказать то, что надо сказать, – и так страшно, так немыслимо…
– Не понимаю: ты-то чего струсил? Даже нос побелел! Нам-то что? Какие такие тысячи у нас?
Бог знает, если бы у Мамая 1300 какого-то года были бы тоже чужие руки, и такая же тайна, и такая же супруга – может быть, он поступил бы так же, как Мамай 1917 года: где-то среди грозной тишины в углу заскребла мышь – и туда со всех ног глазами кинулся Мамай 1917 года и, забившись в мышиную норь, продрожал:
– У меня… то есть – у нас… Че… четыре тысячи двести…
– Что-о? У тебя-а? Откуда?
– Я… я понемногу все время… Я боялся у тебя каждый раз…
– Что-о? Значит, крал? Значит, меня обманывал? А я-то, несчастная – я-то думала: уж мой Петенька… Несчастная!
– Я – для книг…
– Знаю я эти книги в юбках! Молчи!
Десятилетнего Мамая мать секла только один раз в жизни: когда у только что заведенного самовара он отвернул кран – вода вытекла, все распаялось – кран печально повис. И теперь второй раз в жизни чувствовал Мамай: голова зажата у матери под мышкой, спущены штаны – и…
И вдруг мальчишечьи-хитрым нюхом Мамай учуял, как заставить забыть печально повисший кран – четыре тысячи двести. Жалостным голосом:
– Мне нынче дежурить во дворе до четырех утра. С револьвером. И Елисей Елисеич сказал, если придут без ордера…
Мгновенно – вместо молниеносного Будды – многогрудая, сердобольная мать.
– Господи! Да что они – все с ума посошли? Это все Елисей Елисеич. Ты смотри у меня – и в самом деле не вздумай…
– Не-ет, я только так, в кармане. Разве я могу? Я и муху-то…
И правда: если Мамаю попадала муха в стакан – всегда возьмет ее осторожно, обдует и пустит – лети! Нет, это не страшно. А вот четыре тысячи двести…
И снова – Будда:
– Ну, что мне за наказание с тобой! Ну, куда ты теперь денешь эти твои краденые – нет уж, молчи, пожалуйста – краденые, да…
Книги; калоши в передней; самоварная труба; ватная подкладка у Мамаевой шапки; ковер с голубым рыцарем на стене в спальне; полураскрытый и еще мокрый от снега зонтик; небрежно брошенный на столе конверт с наклеенной маркой и четко написанным адресом воображаемому товарищу Гольдебаеву… Нет, опасно… И наконец около полночи решено все построить на тончайшем психологическом расчете: будут искать где угодно – только не на пороге, а у порога шатается вот этот квадратик паркета. Кинжальчиком для разрезывания книг искусно поднят квадратик. Краденые четыре тысячи («Нет уж, пожалуйста, пожалуйста, молчи!») завернуты в вощеную от бисквитов бумагу (под порогом может быть сыро) – и четыре тысячи погребены под квадратиком.
Корабль № 40 – весь как струна, на цыпочках, шепотом. Окна лихорадочно сверкают в темный океан улиц, и в пятом, во втором, в третьем этаже отодвигается штора, в сверкающем окне – темная тень. Нет, ни зги. Впрочем – ведь там, на дворе – двое, и когда начнется – они дадут знать…
Третий час. На дворе тишина. Вокруг фонаря над воротами – белые мухи: без конца, без числа – падали, вились роем, падали, обжигались, падали вниз.
Внизу, с очками на кончике носа, философствовал гражданин Малафеев:
– Я – человек тихий, натурливый, мне затруднительно в этакой злобе жить. Дай, думаю, в Осташков к себе съезжу. Приезжаю – международное положение – ну прямо невозможное: все друг на дружку – чисто волки. А я так не могу: я человек тихий…
В руках у тихого человека – револьвер, с шестью спрессованными в патронах смертями.
– А как же вы, Осип, на японской: убивали?
– Ну на войне! На войне – известно.
– Ну, а как же штыком-то?
– Да как-как… Оно вроде как в арбуз: сперва туго идет – корка, а потом – ничего, очень свободно.
У Мамая от арбуза – мороз по спине.
– А я бы… Вот хотя бы меня самого сейчас – ни за что!
– Погодите! Приспичит – так и вы…
Тихо. Белые мухи вокруг фонаря. Вдруг издали – длинным кнутом винтовочный выстрел, и опять тихо, мухи. Слава богу: четыре часа, нынче уж не придут. Сейчас смена – и к себе в каюту, спать…
В мамаевской спальне на стене – голубой клетчатый рыцарь замахнулся голубым мечом и застыл: перед глазами у рыцаря совершалось человеческое жертвоприношение.
На белых полотняных облаках покоилась госпожа Мамай – всеобъемлющая, многогрудая, буддоподобная. Вид ее говорил: сегодня она кончила сотворение мира и признала, что все – добро зело, даже и этот маленький человечек, несмотря на четыре тысячи двести. Маленький человечек обреченно стоял возле кровати, иззябший, с покрасневшим носиком, куцые, чужие, пингвиньи крылышки-руки.
– Ну иди уж, иди…
Голубой рыцарь зажмурил глаза: так ясно, до жути – вот сейчас перекрестится человечек, вытянет вперед руки – и как в воду с головою – бултых!
Корабль № 40 благополучно пронесся сквозь шторм и пристал к утренней пристани. Пассажиры торопливо вытаскивали деловые портфели, корзиночки для провизии и мимо Осиповых очков спешили на берег: корабль у пристани – только до вечера, а там – опять в океан.
Согнувшись, Елисей Елисеич пронес мимо Осипа карниз невидимого Эрмитажа – и обрушил на Осипа сверху:
– Уж нычне ночью – обыск наверное. Так пусть все и знают.
Но до ночи – еще жить целый день. И в странном, незнакомом городе – Петрограде – растерянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже – и так непохоже – на Петербург, откуда отплыли уже почти год и куда едва ли когда-нибудь вернутся. Странные, замерзшие за ночь каменноснежные волны: горы и ямы. Воины из какого-то неизвестного племени – в странных лохмотьях, оружие на веревочках за плечами. Чужеземный обычай – ходить в гости с ночевкой: на улицах ночью – вальтерскоттовские роб-рои. И вот тут на Загородном – выжженные в снегу капельки крови… Нет, не Петербург!
По незнакомому Загородному потерянно бродил Мамай. Пингвиньи крылышки мешали; голова висела, как кран у распаявшегося самовара; на левом стоптанном каблуке – снежный globus hystericus; мучителен каждый шаг.
И вдруг вздернулась голова, ноги загарцевали двадцатипятилетне, на щеках – маки: из окна улыбалась Мамаю – …
– Эй, зёва, с дороги! – навстречу напролом краснорожие перли с огромными торбами.
Мамай отскочил, не отрывая глаз от окна, и чуть только проперли – снова к окну: оттуда ему улыбалась – …
«Да, ради этой – и украдешь, и обманешь, и все».
Из окна улыбалась, раскинувшись соблазнительно, сладострастно – екатерининских времен книга: «Описательное изображение прекрасностей Санкт-Питербурха». И небрежным движением, с женским лукавством, давала заглянуть внутрь – туда, в теплую ложбинку между двух упруго изогнутых, голубовато-мраморных страниц.
Мамай был двадцатипятилетне влюблен. Каждый день ходил на Загородный под окно и молча, глазами, пел серенады. Не спал по ночам – и хитрил сам с собой: будто оттого не спит, что под полом где-то работает мышь. Уходил по утрам – и всякое утро тот самый паркетный квадратик на пороге колол сладким гвоздем: под квадратиком погребено было Мамаево счастье, так близко, так далеко. Теперь, когда все открылось про четыре тысячи двести, – теперь как же? На четвертый день, как трепыхающегося воробья – зажав сердце в кулак, Мамай вошел в ту самую дверь, на Загородном. За прилавком – седобородый, кустобровый Черномор, в плену у которого обитала о н а. В Мамае воскрес его воинственный предок: Мамай храбро двинулся на Черномора.
– А, господин Мамай! Давненько, давненько… У меня для вас кой-что отложено.
Зажав воробья еще крепче, Мамай перелистывал, притворно-любовно поглаживал книги, но жил спиною: за спиной в витрине улыбалась она. Выбрав пожелтевший 1835 года «Телескоп», долго торговался Мамай – и безнадежно махнул рукой. Потом, лисьими кругами рыская по полкам, добрался до окна – и так, будто между прочим:
– Ну, а эта сколько?
Ёк – воробей выпорхнул – держи! держи! Черномор програбил пальцами бороду:
– Да что же – для почину… с вас полтораста.
– Гм… Пожалуй… (Ура! Колокола! Пушки!) Что же, пожалуй… Завтра принесу деньги и заберу.
Теперь надо самое страшное: квадратик возле порога. Ночь Мамай пекся на угольях: нужно, нельзя, можно, немыслимо, можно, нельзя, нужно…
Всеведущее, милостивое, грозное – провидение в обручальном кольце пило чай.
– Ну кушай же, Петенька. Ну что ты такой какой-то… Не спал опять?
– Да… Мы… мыши… не знаю.
– Брось платок, не крути! Что это такое в самом деле!
– Я… я не кручу…
И вот наконец выпит стакан: не стакан – бездонная, сорокаведерная бочка. Будда на кухне принимала жертвоприношение от кухарки. Мамай в кабинете один.
Мамай тикнул, как часы – перед тем как пробить двенадцать. Глотнул воздуху, прислушался, на цыпочках – к письменному столу, там кинжальчик для книг. Потом в лихорадке гномиком скорчился на пороге, на лысине – ледяная роса, запустил кинжальчик под квадрат, ковырнул – и… отчаянный вопль!
На вопль Будда пригремела из кухни – и у ног увидала: тыквенная лысинка, ниже – скорченный гномик с кинжальчиком, и еще ниже – мельчайшая бумажная труха.
– Четыре тысячи – мыши… Вон-вон она! Вон!
Жестокий, беспощадный, как Мамай 1300 какого-то года, Мамай 1917 года воспрянул с карачек – и с мечом в угол у двери: в угол забилась вышарахнувшая из-под квадратика мышь. И мечом кровожадно Мамай пригвоздил врага. Арбуз: одну секунду туго – корка, потом легко – мякоть, и стоп: квадратик паркета, конец.