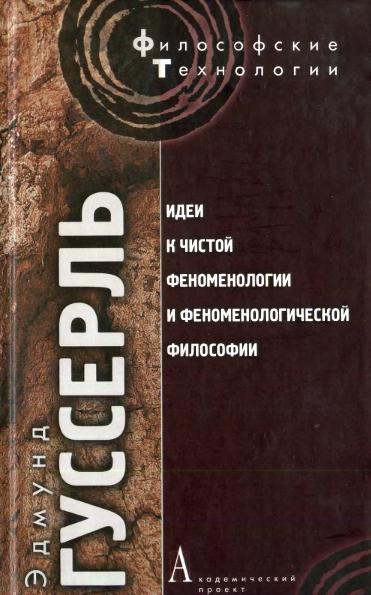
Эдмунд Гуссерль
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии
Книга первая. Общее введение в чистую феноменологию
От редактора
Работа «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. Общее введение в чистую феноменологию» впервые вышла в свет в 1913 г., открывая первый номер Ежегодника по философии и феноменологическому исследованию, издававшегося Гуссерлем в 1913–1930 гг. (всего вышло 11 номеров). Издание Ежегодника на первых порах осуществлялось совместно с Морицом Гайгером, Александром Пфендером, Адольфом Райнахом и Максом Шелером. Ежегодник замышлялся как орган «феноменологии и феноменологически фундированной философии», интерес к которым был вызван публикацией в 1900–1901 гг. «Логических исследований» Э. Гуссерля. Одновременно в издательстве Макса Нимейера вышло отдельное издание работы, которая затем — практически без изменений — переиздавалась в 1922 и 1928 гг. В 1950 г. Вальтер Бимель выпустил в рамках Гуссерлианы (собрание сочинений Эдмунда Гуссерля) новое издание работы[1], дополнив и откорректировав ее на основании тех пометок, которые содержали три экземпляра, принадлежавшие Гуссерлю и находящиеся в его архиве в Лувене. Однако новое издание работы в Гуссерлиане, подготовленное Карлом Шуманом в 1976 г.[2], было выполнено на основании текста второго издания, а все позднейшие дополнения и улучшения вынесены в отдельный полутом (Husserliana, III/2). Это издание взято за основу также Элизабет Штрёкер в 1992 г.[3]
История создания текста
«Идеи I» представляют собой итог более чем десятилетней работы Гуссерля, которая велась им как на его университетских лекциях и семинарах, так и в виде бесчисленных стенографических записей. Важнейшим этапом на пути к созданию данной работы явились, в частности, пять лекций, прочитанных им в 1907 г., под общим названием «Идея феноменологии», а также ряд лекционных курсов 1910–1912 гг., часть из которых должна была составить вторую книгу «Идей». Однако сама история создания первой книги «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» достаточно примечательна. По свидетельству самого автора (в письме Арнольду Метцгеру), она была написана «в течение 6 недель, без набросков, которые послужили бы основой, словно бы в трансе»[4]. Такой стиль работы, впрочем, был характерен для Гуссерля. Имеются аналогичные свидетельства относительно создания «Формальной и трансцендентальной логики» (беседа с Дорианом Кэрнсом 26.XII.1931)[5]. Во время написания «Философии арифметики» Гуссерль (в письме к Карлу Штумпфу) так характеризовал свою манеру письма: «К сожалению, у меня нет дара понятно писать и описывать. Пока мне что-то неясно, перо не движется с места. Но стоит мне обрести ясное разумение, все живо становится на свои места. Моя докторская диссертация[6] также без предварительного плана была приведена в порядок за несколько недель»[7]. В упомянутом выше письме Метцгеру содержится и наиболее краткий конспект «Идей I», данный самим автором: «И я скажу, далее, относительно метода, горизонта, поля деятельности „Идей“ лишь одно слово: Смотри!»[8]
Помимо первой книги «Идей» были запланированы еще две. «Идеи II» были дважды подготовлены к печати ассистентами Гуссерля — сперва Эдит Штайн, затем Людвигом Ландгребе. Однако ни та, ни другая редакции не удовлетворили Гуссерля. Вторая и третья книги «Идей» были опубликованы впервые лишь в Гуссерлиане.[9]
«Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» в контексте развития феноменологии Гуссерля
«Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» — это третья обширная работа Гуссерля, опубликованная им начиная с 1891 г., когда вышла «Философия арифметики» (первый том). Продолжения первой работы так и не последовало, а критика психологизма, содержащаяся в первом томе «Логических исследований» («Пролегомены к чисто логике»), уже адресовалась Гуссерлем отчасти и собственной первой монографии. Вторая работа — «Логические исследования» (1900/1901 гг.) — стала началом феноменологии как философского направления. Тот поворот, который сделан в «Логических исследованиях», был далеко не сразу осознан самим Гуссерлем[10] (в первом издании «Логических исследований» употребляется даже не столько термин «феноменология», сколько — «дескриптивная психология»). В 1911 г. выходит, наконец, его программная статья «Философия как строгая наука», а в 1913-м — первая книга «Идей».
В феноменологии Э. Гуссерля принято различать три периода, которые можно обозначить как период «дескриптивной» (или «эйдетической»), «трансцендентальной» и «генетической» феноменологии. Если ограничиться теми работами, которые были опубликованы самим Гуссерлем, то начало первого этапа было положено «Логическими исследованиями», второй начинается с «Идей I» и включает в себя такие его крупные работы, как «Формальная и трансцендентальная логика» (1929) и «Картезианские размышления» (1931). Третий этап связан с работой «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (большая часть которой была издана в 1936 г. в Белграде). Укажем здесь лишь основные направления интерпретации развития феноменологии Гуссерля и, соответственно, возможные подступы к пониманию места «Идей I» в контексте этого развития.
В философской и историко-философской литературе можно выделить два подхода к трактовке вопроса преемственности между этими тремя формально выделяемыми фазами феноменологии Гуссерля. Если мы рассматриваем их, так сказать, в «горизонтальной» плоскости[11], то можно указать на значительные разрывы между фазами. Так, в «Логических исследованиях» нет, например, выраженной концепции феноменологических редукций, направленных на достижение «чистого сознания», концепции сознания как «абсолютного бытия» и теории трансцендентального Я, — тем, которые явным образом присутствуют в «Идеях I». В оценках представителей раннего феноменологического движения, а также тех мыслителей, которые в той или иной мере использовали феноменологический метод, «Идеи I» нередко воспринимаются как отход от тех принципов, которые были провозглашены в «Логических исследованиях»[12]. Как правило, указывается на влияние неокантианства. Роман Ингарден — один из участников и очевидцев «феноменологической весны» — так описывал впечатление, которое произвел тогда выход «Идей I»: «На семинаре 1913/1914 гг. мы читали их вместе с Гуссерлем и слышали его комментарии к этой книге. И там, на семинаре, возникло определенное удивление. Это было не то, что мы ожидали. Вдруг мы читаем такие положения: „Если мы вычеркиваем чистое сознание, то мы вычеркиваем мир“(!); „Если нет чистого сознания, то нет и мира“(!). Гуссерль многие годы учил нас: назад, к вещам, к конкретному, не к абстрактному, не к теориям и т. д.! Ближе к конкретному! — таков был лозунг. Вместо этого в „Идеях I“ мы встречаем обширные анализы сознания, анализы внешнего, трансцендентного восприятия, основанные на рассуждениях о том, что является реальной частью сознания, а что не является таковой. Затем мы встречам требование проведения „феноменологической редукции“ до того, как мы приступим к анализу сущности „самих вещей“, а к „самим вещам“ следует подходить только окольным путем, а именно путем анализа сознания»[13].
Аналогичным образом «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» нередко трактуется как поворот к историчности и проблематике «жизненного мира», связанный с влиянием историзма, прежнее негативное отношение к которому Гуссерля нашло свое выражение в статье 1911 г. «Философия как строгая наука», где содержалась, в частности, критика Вильгельма Дильтея. В одном из писем Эрнсту Кассиреру (от 11.111.1937) Гуссерль также обозначает содержание «Кризиса» как «трансцендентализм нового вида»[14].
Другой ракурс рассмотрения развития феноменологии Гуссерля можно назвать «иерархическим». Тогда «чистая, трансцендентальная феноменология», проект которой изложен в «Идеях I», является не иным типом феноменологии, а лишь иным уровнем рассмотрения, последовательно вытекающим из принципов феноменологического метода, заложенных в «Логических исследованиях» (в частности, последовательным проведением метода интенционального анализа). Подобная интерпретация является наиболее распространенной среди современных исследователей феноменологии Гуссерля[15]. Данное обстоятельство не в последнюю очередь связано с изучением и публикацией лекционных курсов и обширного рукописного наследия Гуссерля, известного лишь непосредственным его ученикам или даже вовсе неизвестного современникам. В своих работах, начиная с «Идей I», Гуссерль также неоднократно указывал на то, что трансцендентальная феноменология является последовательным шагом, вытекающим из принципов феноменологической философии, изложенных в «Логических исследованиях». Отвечая на распространившееся после выхода второго тома «Логических исследований» поверхностное суждение о феноменологии как о «дескриптивной психологии», он пишет во введении к представленной в настоящем издании работе: «…чистая феноменология, к каковой мы в дальнейшем намерены проложить путь, — та самая феноменология, первый прорыв к которой произошел в „Логических исследованиях“ и смысл которой все глубже и богаче раскрывался для меня в работах протекшего с тех пор десятилетия, — это не психология, и… причисление ее к психологии исключается не какими-либо случайными разграничениями области и терминологически, но принципиальными основаниями».
Работа «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» согласно такому подходу также рассматривается не как неожиданный «поворот к жизненному миру», а — по словам Элизабет Штрекер — как «последовательное проведение Гуссерлем своей трансцендентально-феноменологической программы, предельное напряжение и использование тех методологических возможностей, которые содержит интенциональный анализ»[16].
Указанные различия в интерпретации места «Идей I» в контексте развития феноменологии Гуссерля указывают на граничное положение данной работы, которая, с одной стороны, развивает ряд положений, заложенных уже в «Логических исследованиях», и, с другой стороны, обозначает переход к феноменологии как «трансцендентальному идеализму» (сам этот термин встречается, правда, только в «Формальной и трансцендентальной логике» и «Картезианских размышлениях»).
Переводы
Первый перевод «Идей I» (на английский язык) был сделан в 1931 г. В. Р. Бойс Гибсоном[17]. Замысел перевода книги возник во время его посещения в 1928 г. Фрайбурга, где в то время преподавал Гуссерль. Изданию было предпослано «Введение автора к английскому изданию», которое, впрочем, еще в 1930 г. было опубликовано в последнем выпуске гуссерлевского Ежегодника в качестве «Послесловия» к «Идеям I». В настоящее время существует и другой перевод на английский язык, вышедший в 1982 г.[18]Перевод работы на французский язык, сделанный Полем Рикёром, появился в 1950 г.[19] Перевод был снабжен обширным комментарием Рикёра (переведен на английский язык[20]). Существуют также испанский (1949)[21] и итальянский (1965)[22] переводы этой работы Гуссерля.
Русскоязычному читателю «Идеи I» были известны главным образом благодаря обширной монографии Г. Шпета «Явление и смысл»[23], написанной после его стажировки у Гуссерля в Гёттингене (1912–1913) и отвечавшей широкому интересу к феноменологии, существовавшему в тот период в России[24].
Данный перевод «Идей I» на русский язык осуществлен замечательным ученым и переводчиком Александром Викторовичем Михайловым (1938–1995).
Машинописный вариант перевода датирован 15.04.1994. На титульной странице указано также, что это «первыйвариант». По-видимому, предполагалось, что перевод в дальнейшем должен был быть проверен, прежде чем приобрести статус «окончательного варианта». Текст не имеет следов какой-либо правки, помимо машинописной (последнее обстоятельство местами затрудняет его прочтение). После обсуждения с вдовой А.В. Михайлова Норой Андреевной было принято решение публиковать перевод «Идей» в том виде, «как он есть» — т. е. так, как он предложен в «первом варианте». Тем не менее он сверен нами по тем изданиям, которые были использованы при переводе (об этом см. ниже), что было продиктовано отчасти состоянием исходного машинописного текста, расстановкой примечаний, выделений и т. п.[25]
Читателю следует учитывать определенную терминологическую неоднородность перевода[26]. Например, термин Гуссерля «Vergegenwârtigung» переводится как «представление», «наглядное представление», «репродукция, переводящая в настоящее» и др., прежде чем был нащупан подходящий перевод «реактуализация». Кроме того, был оставлен без внимания ряд устоявшихся в отечественной литературе, посвященной феноменологии, вариантов перевода некоторых понятий. Так, термин «Abschattung» («abschatten») передается как «проекция», «нюанс» (то и другое, то или другое) и, соответственно, «проецировать», «нюансировать», хотя уже Г. Шпет предложил здесь вариант «оттенок» («оттенение»).
Ряд фрагментов этого перевода был опубликован в 1994 г. (М.: Лабиринт) без сколько-нибудь значительных отличий от оригинального машинописного текста (для данной публикации мы использовали, однако, последний).
Фрагменты перевода, публиковавшиеся в 1994 г. (§ 47–62 [раздел II, глава III и IV], § 63–75 [раздел III, глава I] и § 87–96 [раздел III, глава III]), были выполнены А.В. Михайловым по изданию «Идей I» В. Бимеля. Остальная часть перевода была сделана по первому изданию 1913 г. Для настоящего издания часть вторая третьего раздела книги была также приведена нами в согласие с изданием В. Бимеля (путем внесения дополнений, совершенно незначительных в этой части текста), и, таким образом, этому изданию соответствуют теперь § 47–96 (раздел II, глава III — раздел III, глава III), а остальные части перевода — первому изданию 1913 г. Можно отметить, что вариант В. Бимеля местами довольно значительно отличается от изданий 1913–1928 гг. (сравнительно обширные вставки содержат, например, § 48, 52, 54).
Виталий Куренной
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии
Введение
Чистая феноменология, путь к которой мы здесь ищем, исключительную позицию в отношении всех иных наук характеризуем, в намерении показать ее роль фундаментальной философской науки, — это наука существенно новая, в силу своего принципиального своеобразия далекая от естественного мышления, а потому лишь в наши дни стремящаяся развиться. Она именует себя наукой о «феноменах». Другие, с давних пор известные науки тоже относятся к феноменам. Так, можно услышать, что психологию называют наукой о психических, естествознание — наукой о физических «явлениях», или феноменах; точно так же в истории порой говорят об исторических, в науке о культуре о культурных феноменах; аналогичное для всех наук о реальностях. Сколь бы различными ни был во всех таких речах смысл слова «феномен» и какие бы значения ни имело оно еще и сверх того, несомненно то, что феноменология сопрягается со всеми этими «феноменами» сообразно со всеми значениями, однако при совершенно иной установке, посредством которой определенным образом модифицируется любой смысл «феномена», какой только встречается нам в привычных для нас науках. В феноменологическую сферу он и вступает не иначе, как модифицированный. Разуметь такие модификации, или же, говоря точнее, осуществлять феноменологическую установку, путем рефлексии возвышая до научного сознания ее своеобразие, равно как таковое естественных установок, — такова первая и отнюдь не легкая задача, требованиям которой мы должны удовлетворять, если мы намерены обрести почву феноменологии, научно удостоверяясь в ее специфической сущности.
В последнее десятилетие в немецкой философии и психологии очень много разговоров о феноменологии. В предполагаемом согласии с «Логическими исследованиями»[27] феноменологию понимают как нижнюю ступеньку эмпирической психологии, как сферу «имманентных» описаний психических переживаний, которые — так разумеют тут имманентность — строго придерживаются рамок внутреннего опыта. От моих возражений против такого понимания,[28] как видно, было мало проку, и прилагавшиеся рассуждения, четко обрисовывающие по меньшей мере некоторые из главных пунктов расхождения, не были поняты или были оставлены без внимания. Отсюда и вполне беспредметные — не улавливающие простого смысла изложенного мною — возражения против моей критики психологического метода — критики, отнюдь не отрицавшей ценности современной психологии и не принижавшей экспериментальной работы, проделанной значительными учеными, но раскрывшей известные — радикальные в буквальном смысле слова — недочеты метода, от устранения каковых, на мой взгляд, всецело зависит то, поднимется ли психология на более высокую ступень науки, чрезвычайно расширив при этом поле своей деятельности. Еще будет случай остановиться на ненужных попытках защищать психологию от мнимых «нападок» с моей стороны. Сейчас я касаюсь этого спора, чтобы ввиду господствующих лжеистолкований со множеством вытекающих из них последствий с самого начала со всей остротой подчеркнуть, что чистая феноменология, к каковой мы в дальнейшем намерены проложить путь, — та самая феноменология, первый прорыв к которой произошел в «Логических исследованиях» и смысл которой все глубже и богаче раскрывался для меня в работах протекшего с тех пор десятилетия, — это не психология и что причисление ее к психологии исключается не какими-либо случайными разграничениями области и терминологически, но принципиальными основаниями. Сколь бы велико ни было методическое значение феноменологии для психологии, на каком не может не настаивать феноменология, какие бы существенные «фундаменты» не предоставляла она психологии, все же она (уже как наука об идеях) — вовсе не психология, как и геометрия — не естественная наука. И более того — оказывается, что различие еще более радикально, нежели в этом сравнении. И при этом ничего не меняется оттого факта, что феноменология имеет дело с «сознанием», со всеми видами переживаний, с актами и их коррелятами. Правда, чтобы усмотреть все это, при господствующих ныне привычках мысли требуются немалые усилия. Исключить всю совокупность мыслительных привычек, какие существуют поныне, распознать границы духа, какими обставляют они горизонт нашего мышления, и сломать их, а тогда с полной свободой мысли постигать философские проблемы, которые придется ставить совершенно заново и которые станут доступны для нас лишь тогда, когда горизонт будет со всех сторон очищен от ограничений, — таковы жестокие требования. Однако ведь и требуется не меньшее. На деле, вот что обращает усвоение сущности феноменологии, уразумение специфического смысла ее проблематики и ее отношения ко веем другим наукам (в особенности к психологии), в дело столь исключительной трудности, — то обстоятельство, что для всего этого требуется новый, совершенно измененный в сравнении с естественными установками опыта и мысли, способ установки. Вот для того, чтобы свободно двигаться в пределах таковой, отнюдь не впадая в прежние установки, чтобы учиться видеть, различать и описывать стоящее перед глазами, требуются еще особые, упорные штудии.
Главнейшая задача настоящей первой книги будет заключаться в том, чтобы поискать путей, на каких можно будет, так сказать, фрагментарно, преодолевать слишком уж великие трудности проникновения в этот новый мир. Мы будем исходить из естественной позиции, из мира, как противостоит он нам, из сознания, каким представляет себя оно нам в психологическом опыте, — при этом мы будем обнажать существенные для такой позиции предпосылки. Затем мы начнем складывать метод «феноменологической редукции», в соответствии с которой сможем устранять ограничения познания, неотделимые от любого естественного способа исследования, и отвлекаться от присущей ему односторонней направленности взгляда — пока наконец не обретем свободный горизонт «трансцендентально» очищенных феноменов, а тем самым и поле феноменологии в нашем специфическом смысле.
Попробуем еще чуть определеннее прописать эти ведущие вперед линии и начнем с психологии, как того требуют предрассудки времени, но также и все внутреннее общее по сути дела.
Психология — опытная наука. В этом, при обычном значении слова «опыт», заключено двоякое:
1. Она есть наука о фактах, о matters of fact в смысле Д. Юма.
2. Она есть наука о реальностях. «Феномены», какими занята она в качестве психологической «феноменологии», — это реальные происшествия, которые как таковые, если они действительно существуют, включаются вместе с реальными субъектами, которым они принадлежны, в один и тот же пространственно-временной мир, в мир как omnitudo relatitatis.
Напротив того чистая, или трансцендентальная феноменология получит свое обоснование не как наука о фактах, но как наука о сущностях (как наука «эйдетическая»}, как наука, которая намерена констатировать исключительно «познания сущности» — никакие не «факты». Соответствующая редукция — редукция психологического феномена до чистой «сущности», или же в выносящем суждения мышлении редукция фактической («эмпирической») всеобщности до всеобщности «сущностной» — есть редукция эйдетическая.
Во-вторых же, феномены трансцендентальной феноменологии получат свою характеристику в качестве ирреальных. Иные редукции — специфически трансцендентальные — «очищают» психологические феномены от того, что придает им реальность, а тем самым включенность в реальный «мир». Наша феноменология станет сущностным учением не о реальных, но сущностным учением о трансцендентально редуцированных феноменах.
Что означает это конкретнее, прояснится лишь в дальнейшем. Предварительно же всем этим обозначаются лишь схематические рамки вводного ряда исследований. И только еще одно замечание я считаю необходимым сейчас: читателю бросится в глаза то, что выше, в двух особо выделенных пунктах, вместо общепринятого разделения наук на реальные и идеальные (или эмпирические и априорные) используется два вида разделений, соответствующие двум парам противоположностей: факт и сущность, реальное и нереальное. Различение такой двойной противоположности вместо противоположности реального и идеального получит свое подробное обоснование в дальнейшем ходе наших исследований (во второй книге таковых). При этом окажется, что понятие реальности нуждается в фундаментальном ограничении, в силу какового необходимо установить различение реального бытия и бытия индивидуального (временного вообще). Переход к чистой сущности, с одной стороны, доставляет сущностное познание реального, с другой же, что касается остающейся в остатке сферы, — сущностное познание ирреального. Далее окажется, что все трансцендентально очищаемые «переживания» суть ирреальности — полагаемые за пределами какой-либо включенности в «действительный мир». Именно такие ирреальности и исследует феноменология, но только не как единичные и отдельные, а в их «сущности». То же, в какой мере трансцендентальные феномены доступны исследованию в качестве единичных фактов и каково отношение такого исследования фактов к идее метафизики, — может быть обсуждено лишь в заключительном ряду исследований.
В первой же книге мы изложим, однако, не только общее учение о феноменологических редукциях, делающих зримым и доступным для нас трансцендентально очищаемое сознание с его сущностными коррелятами, но постараемся обрести также и определенные представления о наиболее общей структуре такого чистого сознания, а через посредство такового и о наиболее общих группах проблем, направлениях исследования и методах, какие относятся к новой науке.
Во второй книге мы подробно изложим затем некоторые особо значимые группы проблем, систематическое формулирование, а также типовое решение которых послужит предварительным условием для того, чтобы действительно прояснить трудные отношения феноменологии к физическому естествознанию, к психологии и к наукам о духе, с другой же стороны — и ко всем априорным наукам. Те феноменологические эскизы, какие придется набрасывать нам при этом, одновременно дадут нам в руки весьма желанные средства существенного углубления достигнутого в первой книге уразумения феноменологии и достижения содержательно несравненно более богатого знания ее огромных проблемных кругов.
Третья, заключительная книга посвящена идее философии. Будет пробуждено усмотрение того, что подлинная философия — идея таковой в том, чтобы осуществлять идею абсолютного познания, — коренится в чистой феноменологии, и притом в столь серьезном и суровом смысле, что систематически-строгое обоснование и разрабатывание этой первой из всех философий есть непременное предварительное условие любой метафизики и какой бы то ни было философии — «какая выступит в качестве науки».
Поскольку феноменология должна быть обоснована здесь как наука сущностная — «априорная», или же, как мы тоже говорим, эйдетическая, то полезно предпослать посвящаемым самой феноменологии усилиям ряд фундаментальных обсуждений сущности и науки о сущности, а также защиту изначально данных особых прав сущностного познания от всякого натурализма. —
Завершим свои вступительные слова небольшим обсуждением терминологии. Как и в «Логических исследованиях» я по возможности избегаю выражений a priori и a posteriori, ввиду тех вводящих в заблуждение неясностей и многозначностей, какие неотделимы от них в обыденном употреблении, равно как ввиду тесно сплетшихся с ними скверного свойства философскими учениями — дурным наследием прошлого. Их предстоит употреблять лишь в контекстах, придающих им однозначность, и лишь в качестве эквивалента других сопровождающих их терминов; каким мы уже придадим ясные и недвусмысленные значения, особенно в тех случаях, где важен отзвук исторических параллелей.
Быть может, что касается путающей многозначности, то с выражениями идея и идеал дело обстоит и не так плохо, но в целом все же достаточно плохо, что дали мне почувствовать нередкие лжеистолкования моих «Логических исследований». Потребность вполне четко отделить в высшей степени важное кантовское понятие идеи от всеобщего понятия (формальной или материальной) сущности тоже вынуждает меня изменить терминологию. Поэтому из заимствованных слов я пользуюсь терминологически незатертым словом эйдос, а в качестве слова немецкого, сопряженного с неопасными, хотя иной раз и огорчительными недоразумениями, словом «Wesen» — «сущность».
Охотнее всего я исключил бы обремененное тяжким грузом слово реальное, если бы только представилась какая-либо подходящая замена ему.
Еще одно общее замечание: коль скоро не пристало выбирать полностью выпадающие из рамок исторического языка философии термины, но прежде всего коль скоро основным философским понятиям невозможно давать фиксированные дефиниции через твердые и подлежащие немедленной идентификации на основе непосредственно доступных созерцаний понятия и, напротив, окончательному прояснению и определению таковых обычно обязаны предшествовать долгие изыскания, то нередко становится неизбежным комбинированный способ изъяснения, когда в ряд ставится несколько выражений обыденной речи примерно с одинаковым смыслом, одно из которых выбрано как термин. В философии невозможно определять так, как в математике; любое подражание математическим приемам в этом отношении не только бесплодно, но и превратно и влечет за собой лишь самые вредные последствия. Вообще же говоря, упомянутые выше терминологические выражения в ходе рассуждений должны получать свой твердый смысл через их определенное, внутренне очевидное раскрытие, между тем как от обстоятельных критических сопоставлений с философской традицией придется — ив этом отношении, и вообще — отказаться уже ввиду объема этой работы.
Книга первая. Общее введение в чистую феноменологию
Раздел первый. Сущность и сущностное познание
Глава первая. Факт и сущность
§ 1. Естественное познание и опыт
Естественное познание начинается с опыта и остается в опыте. Итак, в той теоретической установке, какую мы называем «естественной», совокупный горизонт возможных исследований обозначен одним словом — мир. Посему все науки с такой изначальной[29] установкой суть науки о мире, и пока таковая исключительно царит, объемы понятий «истинное бытие», «действительное бытие», т. е. реальное бытие, и — поскольку все реальное сводится в единство мира — «бытие в мире» совпадают.
Каждой науке в качестве удела ее исследований соответствует такая-то предметная область, а всем ее познаниям, т. е., здесь, правильным высказываниям, в качестве праисточников подтверждающих ее права обоснований соответствуют известные созерцания, в каких предметы такой-то области достигают своей данности как они сами и — по меньшей мере частично — своей данности из первоисточника. Присущее первой, «естественной», сфере познания и всем ее наукам созерцание, какое дает, — это естественный опыт, а тот опыт, какой дает из самого первоисточника, есть восприятие, — последнее слово понимается в его обычном смысле. Обладать чем-то реальным из самого первоисточника, попросту созерцая его, «замечать» и «воспринимать» — одно и то же. Мы обладаем опытом из первоисточника во «внешнем восприятии» физических вещей — но уже не в воспоминании и не в ожидании, заглядывающем вперед; опытом из первоисточника мы обладаем в так называемом внутреннем, или самовосприятии нас же самих или состояний нашего сознания — но не во «вчувствовании» в других и их переживания. Мы можем «видеть переживания других» на основе восприятия их телесных изъявлений. Однако такое вчувствование через видение хотя и есть акт созерцающий и дающий, но уже не дающий из самого первоисточника. Другой с его душевной жизнью — хотя и осознанно «сам здесь», хотя и в единстве со своим телом здесь, однако в отличие от последнего он не дан осознанно из самого первоисточника.
Мир — это полная совокупность предметов возможного опыта и опытного познания, предметов, познаваемых на основании актуального опыта при правильном теоретическом мышлении. Сейчас не место обсуждать, как конкретнее выглядит метод опытной науки, как обосновывает он свои права на выход за тесные рамки прямой опытной данности. Все науки о мире, т. е. науки с естественной установкой — это естественные науки, науки о материальной природе, но также и науки о живых существах с их психофизической природой, т. е. в том числе и физиология, психология и т. д. Равным образом относятся сюда же и все так называемые науки о духе — история, науки о культуре, любого рода социологические дисциплины, причем мы пока можем оставить открытым вопрос о том, следует ли ставить их на одну плоскость с естественными науками или же противопоставлять им, должно ли рассматривать и их как естественные науки или же как науки существенно нового типа.
§ 2. Факт. Неотделимость факта и сущности
Опытные науки суть науки о «фактах». Фундирующие акты опытного познавания полагают реальное индивидуально, они полагают реальное как пространственно-временно здесь-сущее, как нечто такое, что пребывает вот в этой точке времени, обладает такой-то своей длительностью и таким-то наполнением реальностью, каковое по своей сущности могло бы точно так же пребывать в любом ином временном месте; в свою очередь как нечто такое, что пребывает на таком-то месте в этом физическом облике (например, будучи данным воедино с телесным в таком-то обличье), притом что это же самое реальное, будучи рассмотрено по его собственному существу, могло бы точно так же пребывать в любом ином месте, в любом ином облике, и равным образом могло бы изменяться, тогда как фактически оно пребывает неизменным, либо же могло бы изменяться иным образом, по сравнению с тем, как изменяется оно фактически. Индивидуальное бытие любого рода, если говорить совершенно общо, — «случайно». Дело обстоит так, что по своей сущности оно могло бы быть и иным. Пусть даже сохраняют свою значимость определенные законы природы, в силу которых, если фактически наличествуют такие-то и такие-то реальные обстоятельства, фактически неизбежны такие-то и такие-то определенные их последствия, — все равно такие законы выражают лишь фактическую упорядоченность, которая, как таковая могла бы звучать совершенно иначе и которая, заведомо принадлежа к сущности предметов возможного опыта, уже предполагает, что предметы, подлежащие упорядочиванию с ее стороны, рассматриваемые сами по себе, — случайны.
Однако смысл такой случайности, прозываемой тут фактичностью, ограничивается тем, что коррелятивно сопрягается с необходимостью, каковая означает не простую фактическую наличность сохраняющего свою значимость правила соупорядочивания пространственно-временных фактов, но обладает характером сущностной необходимости и тем самым сопряженностью с сущностной всеобщностью. Если мы говорили: каждый факт мог бы «по его собственной сущности» быть и иным, то тем самым мы уже выразили следующее: от смысла всего случайного неотделимо обладание именно сущностью, а тем самым подлежащим чистому постижению эйдосов, и таковой обретается отныне среди сущностных истин различных ступеней всеобщности. Индивидуальный предмет — не просто вообще индивидуальный, не просто некое — «вот это!», не просто один-единственный в своем роде, он «в себе самом» обладает своеобразием, своей наличностью существенных предикабилий, каковые обязаны подобать ему (как «сущему, каково оно в себе») с тем, чтобы ему могли подобать иные, вторичные, относительные, определения. Так, к примеру, каждый звук в себе и для себя обладает некой сущностью и — надо всем прочим — всеобщей сущностью звука вообще или, лучше сказать, акустического вообще, — если разуметь таковое как момент, выглядывающий изнутри индивидуального звука (отдельно взятого или же при сопоставлении с другими в качестве «общего»). Точно так же и любая материальная вещь обладает своей сущностной устроенностью, а надо всем прочим — всеобщей устроенностью «материальной вещи вообще», вместе с временной определенностью-вообще, длительностью вообще, обликом-вообще, материальностью-вообще. Всем относящимся к сущности такого-то индивида мог бы обладать и другой индивид, а высшие сущностные всеобщности, вроде только что указанных нами на примерах, задают границы «регионов» или «категорий» индивидов.
§ 3. Высматривание сущности и индивидуальное созерцание
Прежде всего и ближайшим образом «сущность» обозначала то, что обретается в самосущем бытии такого-то индивида в качестве его что. Однако всякое такое что может быть «положено в идее». Постигающее в опыте, или индивидуальное созерцание может быть преобразовано в глядение сущности (идеацию) — возможность, которую следует, в свою очередь, разуметь не как эмпирическую, но как сущностную. Тогда высмотренное и есть соответствующая чистая сущность, или эйдос, будь то наивысшая категория, будь то некое обособление таковой — и так вплоть до вполне конкретного.
Подобное высматривание, дающее сущность, либо даже дающее ее из первоисточника, может быть адекватным, наподобие того, какое мы можем доставить себе, к примеру, относительно сущности «звук», но оно может быть и более или менее неполным, «неадекватным», причем не только в отношении большей или меньшей ясности и отчетливости. От собственной устроенности определенных категорий сущностей неотделимо то, что подобающая им сущность может быть дана лишь «односторонне», «многосторонне» же лишь в последовательности моментов и никогда не может быть дана «всесторонне»; соответственно и соответствующие таким сущностям индивидуальные обособления могут постигаться в опыте и становиться представлениями лишь в неадекватных «односторонних» эмпирических созерцаниях. Это верно относительно любой сущности, сопрягаемой с вещным, причем по всем сущностным компонентам протяженности, или материальности; и это, при ближайшем рассмотрении (позднее это станет очевидным благодаря анализам), верно даже для любых реальностей вообще, причем, правда, неопределенные выражения «односторонность» и «многосторонность» примут определенные значения, а различные виды неадекватности размежуются между собой.
Пока же, предварительно, достаточно указать на то, что уже пространственный облик физической вещи можно принципиально давать лишь в односторонних проекциях, что, далее, даже если отвлечься от подобной неадекватности, вечно и невзирая ни на какие приобретения имеющей место при произвольном протекании непрестанных созерцаний, любое физическое свойство втягивает нас в бесконечность опыта, что любое многообразие опыта, сколь бы далеко оно ни заходило, все равно оставляет открытыми еще более конкретные, новые определения вещи, — и все это in infinitum.
Каким бы ни было индивидуальное созерцание, адекватным или нет, оно может обратиться в сущностное глядение, а последнее, будь оно соответственно адекватным или нет, обладает характером акта, какой дает. А в этом заключено следующее:
Сущность (эйдос) — это предмет нового порядка. Подобно тому как данное в индивидуальном, или же постигающем опытным путем созерцании есть индивидуальный предмет, так данное в сущностном созерцании — есть чистая сущность.
Тут не просто внешняя аналогия, а коренная общность. И высматривание сущности — тоже созерцание, подобно тому как эйдетический предмет тоже предмет. Обобщение коррелятивно связанных понятий «созерцание» и «предмет» — это не какое-то произвольное наитие, но оно настоятельно требуется природой вещей.[30] Эмпирическое созерцание, в особенности опыт, есть сознание какого-либо индивидуального предмета, и, как сознание созерцающее, «оно приводит таковой к данности», как восприятие — к данности из самого первоисточника, к сознанию того, что предмет постигается «из первоисточника», в его «настоящей» живой самостности. Совершенно точно так и сущностное созерцание есть сознание чего-либо, некоего «предмета», такого нечто, на какое направлен его взгляд, такого нечто, что «само дано» в нем и что затем «представляется», мыслится, неопределенно или отчетливо, и в иных актах, становится субъектом истинных и ложных предикаций, — точно так, как любой «предмет» в неизбежно широком формально-логическом смысле. У всякого возможного предмета, говоря же логически «у всякого субъекта возможных истинных предикаций» есть свои способы вступать — до всякого предицирующего мышления — в представляющий, созерцающий, иногда схватывающий его в его «настоящей, словно живой самостности», «постигающий» его взгляд. Итак, высматривание сущности есть созерцание, а если оно есть высматривание в точном смысле, а не просто какое-то наглядное представление, возможно, самое общее и неопределенное, то оно есть созерцание, дающее из самого первоисточника, схватывающее сущность в ее «настоящей», прямо-таки живой самостности.[31]
Но с другой стороны оно есть созерцание принципиально особого и нового вида, в отличие от тех видов созерцания, какие коррелятивны предметностям иных категорий, в особенности же в отличие от созерцания в обычном более узком смысле, т. е. от созерцания индивидов.
Конечно, в своеобразии сущностного созерцания заключено то, что в его основе лежит главный момент индивидуального созерцания, а именно то, что нечто является, нечто индивидуальное становится зримым, хотя, правда, не предполагается какое-либо схватывание и какое-либо полагание такового в качестве действительности; достоверно то, что вследствие этого невозможно какое-либо сущностное созерцание без свободной возможности поворачивать взгляд на «соответствующее» индивидуальное при складывании сознания единичного образца, — равно как невозможно и обратное тому: индивидуальное созерцание без свободной возможности осуществлять идеацию с направлением взгляда на соответствующие, воплощающиеся в индивидуальном образце зримого сущности; однако все это не меняет решительно ничего в том, что оба вида созерцания принципиально различены, — в суждениях, вроде только что высказанных, лишь заявляет о себе их сущностная сопряженность. Сущностному различию созерцаний отвечает сущностная сопряженность «экзистенции» (здесь очевидно в смысле чего-либо индивидуально здесь-сущего) и «эссенции», факта и эйдоса. Прослеживая подобные взаимосвязи, мы постигаем через усмотрение их те понятийные сущности, какие неотъемлемы от подобных терминов и какие отныне твердо соотносятся с ними, а тем самым аккуратно отделяются любые приставшие особенно к понятиям «эйдос» (идея), «сущность», отчасти мистические мысли[32].
§ 4. Высматривание сущности и фантазия. Познание сущности независимо от любого познания фактов
Эйдос, чистая сущность, может интуитивно воплощаться в данностях опыта, в данностях восприятия, воспоминания и т. д., однако равным образом и в данностях просто фантазии. Сообразно чему мы, постигая сущность в ее самости и из первоисточника, можем исходить как из соответствующих созерцаний опыта, так равным образом и из созерцаний не-опытных, не схватывающих бытие здесь, а «просто во-ображающих».
Если мы порождаем в своей вольной фантазии какие-либо пространственные образования, мелодии, социальные процессы и т. п. или же измышляем акты опытного постижения, акты удовольствия или неудовольствия, акты воления и т. п., то мы можем во всем этом посредством «идеации» усматривать из самого первоисточника многообразные чистые сущности, порою даже и адекватно, — пусть то будут либо сущности пространственных обликов, мелодии, социального процесса и т. д. вообще, либо же сущности обликов, мелодии и т. д. соответственного особенного типа. При этом безразлично, было ли нечто подобное когда-либо дано в актуальном опыте или же нет. Если бы вольное измышление, через посредство какого угодно психологического чуда, повело бы к воображению принципиально новых, к примеру, чувственных данных, каких никогда не было ни в каком опыте, какие и впредь никогда не повстречались бы ни в каком опыте, то это ничего не изменило бы в данности соответствующих сущностей из самого первоисточника, — хотя воображаемые данные — данные отнюдь не действительные.
С этим существенно связано следующее: полагание и прежде всего созерцающее схватывание сущностей ни в какой мере ни имплицирует полагание какого-либо индивидуального существования; истины относительно чистых сущностей не содержат ни малейших утверждений касательно фактов, а следовательно, из них одних невозможно извлечь даже и самой незначительной истины, относящейся к фактам. Подобно тому как всякое мышление о фактах, как всякие высказывания о фактах нуждаются для своего обоснования в опыте (насколько сущность основательности такого мышления необходимо требует такового), так мышление чистых сущностей — мышление несмешанное, т. е. не соединяющее факты и сущности, — требует высматривания сущностей в качестве обосновывающих оснований.
§ 5. Суждение о сущностях и суждения эйдетической всеобщности
Однако необходимо принять во внимание следующее. Судить о сущностях и связанных с ними обстоятельствах и судить эйдетически вообще — это при той широте, какую мы вынуждены придавать последнему понятию, — не одно и то же: не во всех своих высказываниях эйдетическое познание обладает в качестве «предметов о которых» сущностями, — и что тесно связано с этим: сущностное созерцание — взятое, как брали мы его до сих пор — как сознание аналогичное опыту, аналогичное схватыванию существования; как сознание, в каком некая сущность постигается предметно, подобно тому как в опыте постигается нечто индивидуальное, — это не единственное сознание, какое таит в себе сущности, исключая любое полагание существования таковых. Сущности могут интуитивно осознаваться, в известной мере и постигаться, отнюдь не становясь оттого «предметами о которых».
Давайте будем исходить из суждений. Говоря точнее, тут все дело в различии между суждениями о сущностях и такими суждениями, в каковых неопределенно всеобщим образом и не смешиваясь с полаганием чего-либо индивидуального, все же выносятся суждения об индивидуальном, но только исключительно как о единичности сущностного, в модусе того, что вообще. Так, в чистой геометрии мы обыкновенно выносим суждения не об эйдосе «прямое», «угол», «треугольник», «коническое сечение» и т. п., но о прямых и углах вообще или о «как таковых», об индивидуальных треугольниках вообще, о конических сечениях вообще. Подобные всеобщие суждения обладают характером сущностной всеобщности, — «чистой», или, как тоже говорят, «строгой» и вообще «безусловной» всеобщности.
Ради простоты допустим, что речь идет об «аксиомах», о непосредственно очевидных суждениях, к каковым и восходят все прочие, получающие опосредованное обоснование, суждения. Подобные суждения — в той мере, в какой, как это предпосылается здесь, они выносят суждение об индивидуальных единичностях, — для своего ноэтического обоснования, т. е. для своего усмотрения, нуждаются в известном видении сущности, каковое (в модифицированном смысле) можно было бы обозначить и как постижение сущности; но также и это последнее, подобно опредмечивающему сущностному созерцанию, основывается на зримости индивидуальных единичностей сущностей, а не на их опытном постижении. И для них тоже достаточно просто представлений фантазии или же, скорее, зримостей фантазии, — зримое сознается как таковое, оно «является», но оно не постигается как существующее здесь. Если, к примеру, мы судим с сущностной всеобщностью (со всеобщностью «безусловной» и «чистой»): некоторый цвет вообще отличается от некоторого звука вообще, — то этим подтверждается только что сказанное. Единичность, относящаяся к сущности «цвет», и единичность, относящаяся к сущности «звук», интуитивно представляемы, причем именно как отдельное, относящееся к своей сущности; такое отдельное одновременно наличествует и в известного вида созерцании фантазии (без полагания существования) и в сущностном созерцании, — однако, что касается последнего, то не так, чтобы созерцание обращало сущность в предмет. К сущности этой ситуации принадлежит так же и то, что для нас всякий раз и постоянно открыт поворот к соответствующей объективирующей установке, что таковая есть именно сущностная возможность. Сообразно с изменившейся установкой я изменю и само суждение, которое будет в таком случае гласить: сущность («род») «цвет» есть нечто иное, нежели сущность (род) «звук». И так повсеместно.
И обратно: любое суждение о сущностях может быть эквивалентно обращено в безусловно всеобщее суждение о единичностях этих сущностей как таковых. Таким образом, чистые сущностные суждения (чисто эйдетические суждения), какой бы логической формой они ни отличались, сопринадлежны. Общее во всех них то, что они не полагают индивидуального бытия, даже и тогда, когда выносят суждение об индивидуальном — а именно, в его чистой сущностной всеобщности.
§ 6. Некоторые из основных понятий. Всеобщность и необходимость
Явным образом сопринадлежны теперь такие идеи: вынесение эйдетического суждения, эйдетическое суждение, или эйдетический тезис, эйдетическая истина (или истинное положение); в качестве коррелята последней идеи — эйдетическое положение дел как таковое (в качестве налично пребывающего в эйдетической истине); наконец, в качестве коррелята первых из названных идей — эйдетическое положение дел в модифицированном смысле простого мнения — в том смысле, что, о чем выносится суждение, может быть, а может и не быть налично пребывающим.
Любое эйдетическое обособление и индивидуализирование эйдетически-всеобщего положения дел — постольку, поскольку оно таково, — именуется сущностной необходимостью. Сущностная всеобщность и сущностная необходимость, следовательно, корреляты. Однако, когда говорят о необходимости, то речь, следуя за сопринадлежными корреляциями, утрачивает определенность: и соответствующие суждения тоже называют необходимыми. Однако важно соблюдать разграничения и первым делом не обозначать саму сущностную всеобщность (как обычно поступают) как необходимость. Сознание необходимости, а, конкретнее, сознание суждения, в каком некое положение дел сознается как обособление эйдетической всеобщности, называется аподиктическим, само же суждение, тезис — аподиктическим (также и аподиктически-«необходимое») следствием всеобщего, с которым он сопрягается. Высказанные положения об отношениях между всеобщностью, необходимостью, аподиктичностью можно понимать и более общо, так что они будут значимы для любых, а не только для чисто эйдетических сфер. Однако, несомненно, что в своем эйдетическом ограничении они приобретают особый, особо важный смысл.
Весьма важно также и соединение вынесения эйдетических суждений об индивидуальном вообще с полаганием существования индивидуального. Сущностная всеобщность переносится на индивидуальное, полагаемое как чувствующее, или на неопределенно всеобщую сферу индивидов (каковая испытывает свое полагание в качестве здесь существующей). Сюда относится любое «применение» геометрических истин к случаям в природе (полагаемой как действительная). Тогда положение дел, полагаемое как действительное, есть факт — если только оно есть индивидуальное положение дел в действительности, — либо же оно есть эйдетическая необходимость, если оно есть индивидуализирование какой-либо сущностной всеобщности.
Нельзя смешивать неограниченную всеобщность законов природы и сущностную всеобщность. Тезис «Все тела тяжелы», конечно же не полагает в качестве существующей какую-либо определенную сферу вещей в пределах универсума природы. Несмотря на это он лишен безусловной всеобщности эйдетически-всеобщих тезисов — постольку, поскольку, сообразно со своим смыслом закона природы, он все-таки влечет за собой хотя бы одно полагание реального существования, а именно полагание самой природы — пространственно-временной действительности: Все тела — в природе, все «действительные» тела — суть тяжелые. Напротив того, тезис «Все материальные вещи протяженны» обладает эйдетической значимостью и может быть понят как чисто эйдетический, если только при этом исключено совершаемое со стороны субъекта полагание реального существования. Этот тезис высказывает то, что основывается исключительно и чисто на сущности материальной вещи и на сущности протяженности, то, что мы можем доставить к усмотрению в качестве «безусловной» общезначимости. Таковое совершается следующим образом: мы доводим сущность материальной вещи (скажем, на основе больного измышления некой такой вещи) до данности из самого первоисточника, чтобы затем производить в этом сознании, какое доставляет данность, те мыслительные шаги, каких требует «усмотрение», данность сущностного положения дел, из самого первоисточника в явном виде выставленного указанным тезисом. То же обстоятельство, что нечто действительное в пространстве соответствует такого рода истинам, — это не простой факт, а сущностная необходимость как обособление сущностных законов. Факт во всем этом — лишь само действительное, к какому относится применение.
§ 7. Науки о фактах и науки о сущностях
Та (в свою очередь эйдетическая) взаимосвязь, какая имеет место между индивидуальным предметом и сущностью, согласно с чем каждому индивидуальному предмету принадлежна некая сущностная наличность — в качестве его сущности, равно как и наоборот — каждой сущности соответствуют возможные индивиды, которые были бы его индивидуализациями в фактическом, — закладывают основу для соответствующего сопряжения друг с другом наук о фактах и наук о сущностях. Имеются чистые науки о сущностях, как-то: чистая логика, чистая математика, чистое учение о времени, о пространстве, о движении и т. д. Они, причем во всех своих мыслительных шагах, исключительно свободны от каких-либо полаганий фактического, или же, что равнозначно, в них никакой опыт не может принимать на себя функцию обоснования именно как опыт, т. е. как сознание, схватывающее или же полагающее реальное существование. Если и функционирует в них опыт, то он функционирует все же не как опыт. Когда геометр рисует на доске свои фигуры, то этим он производит фактически существующие линии на фактически существующей доске. Однако, ни физически производимое им, ни опытное познавание им физически производимого — как опытное — не выступает как обосновывающее его созерцание геометрических сущностей, его мышление сущностей. Поэтому совершенно безразлично, есть ли у него при этом галлюцинации или нет и чертит ли он свои линии действительно или же встраивает линии и конструкции в некий мир фантазии. Совершенно иначе поступает естествоиспытатель. Он наблюдает и экспериментирует, т. е. он констатирует существующее по мере опыта, опытное познание есть для него акт обоснования, какой никак не возможно было бы заменить простым воображением. Именно потому-то понятия «наука о фактах» и «опытная наука» эквивалентны. Но для геометра, исследующего не действительное, а «идеальные возможности», не положение дел в действительности, а сущностное положение дел, вместо опыта в качестве акта самого последнего обоснования выступает высматривание сущности.
И так во всех эйдетических науках. На сущностном положении дел (подлежащем постижению в непосредственном усмотрении), или же на эйдетических аксиомах, основываются опосредуемые — те, что достигают данности в опосредуемо-усматривающем мышлении, причем по принципам, усматриваемым исключительно непосредственно. Посему любой шаг опосредованного обоснования — аподиктически и эйдетически необходим. Итак, сущность чисто эйдетической науки составляет то, что она поступает исключительно эйдетически, что она с самого начала и во всем дальнейшем не познает никакого положения дел помимо эйдетически значимого, т. е., следовательно, никакого, какое нельзя было бы либо непосредственно привести к данности из первоисточника (как непосредственно основывающееся в сущностях, высмотренных из первоисточника), либо «раскрыть» путем чистого выведения из подобного «аксиоматического» положения дел.
С этим связан практический идеал точной эйдетической науки, идеал, осуществлять который научила, собственно говоря, лишь новейшая математика — любой эйдетической науке придавать высшую ступень рациональности путем редуцирования всех опосредованных мыслительных шагов к простому подведению под раз и навсегда систематически составленные аксиомы соответствующей эйдетической области, с привлечением — если только речь заведомо не идет о самой же «формальной», или «чистой» логике (в предельно широком смысле mathesis universaiis[33]) — всей совокупности аксиом этой последней.
А в связи с этим последним в свою очередь находится идеал «математизации», который, подобно только что охарактеризованному идеалу, отличается огромным практически-познавательным значением для всех «точных» эйдетических дисциплин, вся познавательная наличность которых (как, например, геометрии) заключена во всеобщности совсем немногих аксиом с их чисто дедуктивной необходимостью. Сейчас не место входить в это.[34]
§ 8. Отношения зависимости между наукой о фактах и наукой о сущностях
После всего изложенного выше ясно, что сам смысл эйдетической науки принципиально исключает любое введение познавательных итогов эмпирических наук. Тезисы о действительности, какие встречаются в непосредственных констатациях последних, проходят ведь через все опосредованные. Из фактов всегда следуют только факты.
Итак, если любая эйдетическая наука принципиально независима от любой науки о фактах, то, с другой стороны, обратное как раз значимо для науки о фактах. Нет ни одной, которая, получив свое полное развитие в качестве науки, была бы совершенно свободна от эйдетического познания, а тем самым независима от эйдетических наук, будь то науки формальные или материальные. Ибо, во-первых, само собой разумеется, что опытная наука, совершая какие бы то ни было опосредованные обоснования суждений, обязана поступать сообразно формальным принципам, обрабатываемым формальной логикой. И вообще, как и всякая наука, направленная на предметы, она безусловно должна быть связана с теми законами, какие принадлежат к сущности предметности вообще. Тем самым она оказывается сопряженной со всем комплексом формально-онтологических дисциплин, охватывающих помимо формальной логики в узком смысле слова все дисциплины формальной «mathesis universalis» (следовательно, и арифметику, чистый анализ, учение о множествах). Во-вторых же, сюда относится и то, что любой факт заключает в себе некую материальную сущностную наличность, а потому эйдетическая истина, принадлежащая к заключенным тут чистым сущностям, обязана давать закон, каким связана данная фактическая единичность — подобно любой возможной вообще.
§ 9. Регион и региональная эйдетика
Любая конкретная эмпирическая предметность вместе со всеми своими материальными сущностями подчиняется соответствующему наивысшему материальному роду, «региону» эмпирических предметов. Тогда чистой сущности региона соответствует эйдетическая наука региона, или же — так тоже можно сказать — онтология региона. При этом мы делаем допущение, что на сущности регионов, или же в различных составляющих их родах основываются столь содержательно богатые и широко разветвленные познания, что вообще стоит — в отношении их систематического разворачивания — говорить об особой науке или даже о целом комплексе онтологических дисциплин — в соответствии с отдельными родовыми компонентами региона. В сколь значительном объеме фактически оправдывается такое предположение, в том мы сможем убедиться на многочисленных примерах в дальнейшем. В соответствии с этим всякая эмпирическая наука, соподчиняющаяся объему известного региона, будет существенно сопряжена как с формальными, так и с региональными онтологическими дисциплинами. Можно выразить то же самое и так: любая наука о фактах (опытная наука) обладает существенными теоретическими фундаментами в эйдетике соответствующих онтологии. Ибо — если только сделанное нами допущение оправдывается — само собою разумеется, что богатая наличность познаний, чистым, безусловно значимым образом сопрягающихся со всеми возможными предметами такого-то региона — отчасти она принадлежит к пустой форме предметности вообще, отчасти же к региональному эйдосу, который как бы репрезентирует необходимую материальную форму всех предметов региона — не может быть лишена значения для исследования эмпирических фактов.
Таким образом всем естественнонаучным дисциплинам отвечает, к примеру, эйдетическая наука о физической природе вообще (онтология природы) — постольку, поскольку фактической природе соответствует чисто постигаемый эйдос, «сущность», природа вообще с заключенным в ней бесконечным изобилием сущностных положений дел. Если мы составим теперь такую идею — испытавшей свою полнейшую рационализацию — опытной науки о природе, что теоретизация дойдет в ней до возведения всего входящего в нее особенного до ее наиболее всеобщих и наиболее принципиальных оснований, то нам станет ясно, что реализация такой идеи существенно зависит от построения соответствующих эйдетических наук, т. е. от построения, наряду с формальным матесисом, в равной мере сопрягающимся со всеми науками вообще, материально-онтологических дисциплин, которые будут рационально-чисто, т. е. именно эйдетически раскладывать сущность природы, а тем самым, следовательно, и всех сущностных разновидностей природной предметности как таковой. И это, само собой разумеется, значимо для любого произвольно взятого региона.
И в практически-познавательном отношении тут можно заведомо ожидать, что чем ближе такая-то опытная наука будет подходить к «рациональной» ступени, к ступени «точной», номологической науки, т. е. чем в большей степени она будет располагать разработанными эйдетическими дисциплинами в качестве своих оснований и извлекать из них пользу для своих обоснований, тем более умножатся, по объему и силе, ее познавательно-практические достижения.
Развитие рациональных естественных наук — физических — подтверждает сказанное. Ведь их великая эпоха начинается в Новое время как раз с того, что геометрия — замечательно разработанная уже в древности (во всем существенном — школой Платона) как чистая эйдетика — внезапно, единым махом и в монументальном стиле, оплодотворяет физический метод. Тут уясняют, что сущность материальной вещи — в том, что она есть res extensa, и что геометрия, стало быть, есть онтологическая дисциплина, сопряженная с одним сущностным моментом такой вещности, с пространственной формой. А кроме того тут уясняют себе и то, что всеобщая (в нашем словоупотреблении — региональная) сущность вещи простирается еще и куда дальше. Это сказывается в том, что развитие в то же самое время следует в таком направлении — в направлении разрабатывания целого ряда новых, координируемых с геометрией и призванных выступить в той же самой функции — рационализации эмпирического — дисциплин. Из этой тенденции проистекает пышное цветение математических дисциплин — формальных и материальных. Их разрабатывают — или же впервые основывают — со страстным рвением, в качестве чисто «рациональных» наук (в нашем же смысле в качестве эйдетических онтологии), причем — на заре Нового времени и еще долго после того — не ради их самих, но ради эмпирических наук. Они-то и принесли ожидаемые богатые плоды в параллельно протекавшем развитии рациональной физики, вызывавшей такие восторги.
§ 10. Регион, и категория. Аналитический регион и его категории
Перенесемся теперь вовнутрь какой-нибудь эйдетической науки, например вовнутрь онтологии природы, — тут окажется (и это нормально), что мы устремлены не к сущностям в качестве предметов, но к предметам, подчиняемым сущностям, — в нашем примере региону «природа». Однако, при этом мы наблюдаем, что «предмет» — это рубрика, в какую попадают самые разные, но при этом сопринадлежные образования, например «вещь», «свойство», «отношение», «положение дел», «множество», «порядок» и т. д., — все они не тождественны друг другу, но всякий раз отсылают нас к известного вида предметности, обладающей, так сказать, преимуществом пра-предметности, по отношению к каковой все прочие как бы выдают себя лишь за простые модификации. В нашем примере таким преимуществом обладает, естественно, сама вещь — перед свойствами вещи, отношениями и т. д. Но вот именно это-то и есть фрагмент той формальной устроенности, без прояснения каковой спутанными останутся и речь о предмете, и речь о предметном регионе. Из этого же прояснения, которому мы посвятим следующие ниже рассуждения, само собою проистечет и важное понятие категории, в его сопряженности с понятием региона.
Категория — это слово, которое, с одной стороны, в словосочетании «категория такого-то региона» отсылает именно к соответствующему региону, например к региону «физическая природа»; с другой же стороны, сопрягает соответственно определенный материальный регион с формой региона вообще, или же, что равнозначно, с формальной сущностью «предмет вообще» и принадлежащим к нему «формальными категориями».
Однако, прежде всего, одно не лишенное значения замечание. На первых порах кажется, что формальная онтология стоит в одном ряду со всеми материальными онтологиями — постольку, поскольку, как кажется, формальная сущность предмета вообще и региональные сущности играют одну и ту же роль. Коль скоро так, можно склоняться к тому, чтобы вместо того, чтобы говорить о регионах вообще, как это делалось раньше, говорить о материальных регионах, приставляя к их ряду теперь еще и «формальный регион». Однако подобный способ выражаться нельзя принимать без известных предосторожностей. С одной стороны стоят сущности материальные, и в известном смысле они и есть «настоящие», в собственном смысле, сущности. С другой стороны свое место занимает хотя и нечто эйдетическое, однако в самой своей основе отличное от первых — это простая сущностная форма — хотя и сущность, но только совершенно «пустая», сущность, которая, как форма пустая, подходит ко всем возможным сущностям, которая в своей формальной всеобщности подчиняет себе все, даже и наивысшие материальные всеобщности, предписывая им — через посредство принадлежащих к ней формальных истин — законы. Итак, получается, что все-таки так называемый «формальный регион» — это не что-то скоординированное с материальными регионами (регионами вообще), что он, собственно, не регион, а пустая форма региона вообще и что все регионы со всеми их содержательно-сущностными обособлениями стоят не рядом с ним, а, скорее (хотя и только formaliter), под ним. Такое под-чинение материального формальному сказывается в том, что формальная онтология в тоже самое время скрывает в себе формы всех возможных онтологии вообще (всех «настоящих» «материальных» онтологии), что она предписывает всем материальным онтологиям общую для всех них формальную устроенность — включая сюда и все то, что обязаны изучать мы в эту минуту, — различение региона и категории.
Если исходить из формальной онтологии (всякий раз в качестве чистой логики в ее полном протяжении вплоть до mathesis universalis), то таковая, как мы знаем, есть эйдетическая наука о предмете вообще. Предмет же в этом ее смысле — это все и каждое, и для всего этого и могут быть установлены бесконечно разнообразные истины, распределяющиеся по всему множеству дисциплин матесиса. Однако все они вместе взятые ведут нас назад к небольшой наличности непосредственных, или же «основополагающих» истин, какие в чисто логических дисциплинах функционируют в качестве «аксиом». Как логические категории, или категории логического региона «предмет-вообще» мы и определяем теперь встречающиеся в таких аксиомах чисто логические основополагающие понятия — те, какими в совокупной системе аксиом определяется логическая сущность предмета-вообще, или же те, какие выражают безусловно необходимые и конститутивные определения предмета как такового, некоего нечто — постольку, поскольку вообще должно быть так, чтобы было некое нечто. А поскольку чисто логическое, взятое в нашем абсолютно точно очерченном смысле, определяет понятие «аналитического»[35] — оно философски единственно важно (и, впрочем, вообще фундаментально важно) — в противоположность «синтетическому», то мы не без причины обозначаем эти категории и как аналитические.
Итак, примеры логических категорий таковы — это понятия свойства, качества, положения дел, отношения, тождества, равенства, множества (коллекция), численного множества, целого и части, рода и вида и т. д. Но также и «категории значения» — принадлежащие к сущности предложения (апофансиса) основополагающие понятия различных видов предложений, их членов и их форм — относятся сюда, причем, сообразно нашей дефиниции, с учетом тех сущностных истин, которые соединяют друг с другом «предмет-вообще» и «значение-вообще», соединяют к тому же так, что чистые истины значения можно обратить в чистые истины предмета. Именно поэтому «апофантическая логика», если ее высказывания и относятся исключительно к значениям, все же сопринадлежна к формальной онтологии во всеохватывающем смысле. Впрочем, категории значения следует непременно выделять в особую группу, противопоставляя таковой все иные категории — как категории формально-предметные в четком смысле[36].
Присовокупим к сказанному еще и то замечание, что под категориями мы можем понимать, с одной стороны, понятия в смысле значений, с другой же, — что еще лучше, — сами формальные сущности, какие находят свое выражение в этих значениях. Так, например, «категория» «положение дел», «множественность» и т. п. означает в этом последнем смысле формальный эйдос «положение дел-вообще», «множественность-вообще» и т. п. Тут недоразумения отождествления опасны лишь до тех пор, пока мы не научились еще аккуратно разделять то, что следует разделять тут всегда и во всем, — «значение» и то, что может получить «выражение» через значение, и далее — значение и ту предметность, какая означаема. Терминологически же можно в явном виде различать категориальные понятия (в качестве значений) и категориальные сущности.
§ 11. Синтактические предметности и последние субстраты. Синтактические категории
Теперь нам надлежит произвести важное различение в области предметностей вообще — то, какое в рамках учения о формах значений отражается в («чисто-грамматическом») различении «синтактических форм» и «синтактических субстратов», или «материалов». Тем самым заявляет о себе разделение формально-онтологических категорий на категории синтактические и категории субстратные, что и следует обсудить теперь ближайшим образом.
Под синтактическими предметностями будем разуметь те, что выводятся из других предметностей посредством «синтактических форм». Соответствующие таким формам категории назовем синтактическими. Сюда, к примеру, относятся категории «положение дел», «отношение», «качество», «единство», «множественность», «численность», «порядок», «порядковое число» и т. д. Имеющее здесь место сущностное положение мы можем описывать следующим образом: любой предмет — постольку, поскольку он эксплицируем, сопрягаем с иными предметами, короче говоря, определим логически, — принимает различные синтактические формы; тогда, в качестве коррелятов определяющего мышления, конституируются предметности высшей ступени: качественности и предметы, определяемые со стороны своей качественности, отношения между (какими бы то ни было) предметами, множественности единств, члены порядков, предметы как носители определений через посредство порядковых числительных и т. д. Если же мышление предикативно, то шаг за шагом появляются выражения и принадлежащие к таковым апофантические, несущие значения, построения, которые отражают синтактические предметности вместе со всеми их членениями и формами в точно соответствующих им синтаксисах значений. Все подобные «категориальные предметности»[37], как и предметности вообще, могут в свою очередь функционировать в качестве субстратов категориальных построений, последние, в свою очередь, могут выполнять ту же функцию и т. д., и т. д. И наоборот: каждое из таких построений очевидным образом отсылает к последним субстратам, к предметам самой первой, или самой нижней ступени, следовательно к предметам, какие уже не суть синтактико-категориальные построения, какие уже не содержат в себе ничего от тех онтологических форм, что суть лишь простые корреляты мыслительных функций (придавание, отъятие, сопряжение, связывание, подсчитывание и т. д.). Тем самым формальный регион «предметность-вообще» подразделяются на последние субстраты и синтактические предметности. Последние мы назовем синтактическими дериватамисоответствующих субстратов, к каковым, как мы незамедлительно узнаем, относятся и все «индивиды». Когда мы будем говорить об индивидуальном свойстве, индивидуальном отношении и т. д., то все эти предметы-дериваты именуются так, естественно, ввиду тех субстратов, из каких они выведены.
Остается отметить еще следующее. Самых последних субстратов — без синтактической формы — можно достигать и со стороны учения о формах значений: каждое предложение и каждый возможный член предложения содержит в качестве субстратов его апофантических форм так называемые «термины». Таковые могут быть терминами лишь в относительном смысле, а именно могут в свою очередь содержать в себе формы (например, форма множественного числа, атрибуции и т. п.). Однако, в любом случае — и с необходимостью — мы возвращаемся к последним терминам, к последним субстратам, какие уже не содержат в себе ничего от синтактического формосложения[38].
§ 12. Род и вид
Теперь возникает потребность в новой группе категориальных различений, принадлежной к совокупной сфере сущностей. Любая сущность, все равно содержательная или пустая (т. е. чисто-логическая), включается в некую иерархию сущностей — в поступенный ряд генерального и специфического. От такового ряда неотъемлемы две границы, какие — с необходимостью — никогда не совпадают. Спускаясь вниз, мы достигаем самых нижних специфических различений, или же, как мы тоже говорим, эйдетических единичностей; восходя же, мы через видовые и родовые сущности, достигаем наивысшего рода. Эйдетические единичности — это сущности, которые хотя и необходимо обладают стоящими над ними «более всеобщими» сущностями в качестве своего рода, но уже не обладают стоящими ниже их обособлениями, в отношении которых они сами были бы видами (ближайшими видами, или же опосредованными, высшими родами). Точно так же тот род — самый высший, над которым нет уже никакого рода.
В этом смысле в чисто-логической области значений «значение вообще» есть наивысший род, а всякая определенная форма предложения, всякая определенная форма члена предложения, есть эйдетическая единичность, предложение вообще — опосредующий род. Точно так же и численность вообще есть наивысший род. А «два», «три» и т. д. суть низшие дифференции, или же эйдетические единичности такового. Так, к примеру, в содержательной сфере вещь вообще, чувственное качество, пространственный облик, переживание вообще — это высшие роды; сущностные же наличности, принадлежные к определенным вещам, определенным чувственным качествам, пространственным обликам, переживаниям как таковым, суть эйдетические и при этом содержательные единичности.
От всех этих определяемых через род и вид сущностных отношений (не отношений классов, т. е. множеств) неотделимо то, что в особенных сущностях «непосредственно или опосредованно содержится» более общая сущность — в определенном смысле, который подобает постигать, по своеобразию его, в эйдетической интуиции. Именно поэтому не один исследователь числит отношение эйдетического рода и вида к эйдетическому обособлению среди отношений «части» и «целого». При этом «часть» и «целое» получают предельно широкий смысл «содержащего» и «содержимого», так что эйдетические видовые отношения тогда — особый случай такового.
Итак, эйдетически-единичное имплицирует всю совокупность стоящих над ним всеобщностей, каковые со своей стороны постепенно «заключаются друг в друга», нечто высшее всякий раз в чем-либо низшем.
§ 13. Генерализация и формализация
Резко различать должно отношения генерализации и специализации от существенно иного — обобщения содержательного в чисто-логически формальное — и обратно этому — обретения содержательности чем-либо логически-формальным. Говоря другими словами: генерализация есть нечто совершенно иное, нежели формализация, подобная, например, той, какая играет столь значительную роль в математическом анализе, а специализация — нечто совершенно иное, нежели деформализация, т. е. «заполнение» логически-математической пустой формы, или же формальной истины.
Сообразно с чем нельзя смешивать сущность, как она стоит под формальной всеобщностью чисто-логической сущности, и сущность, как она стоит под своими высшими сущностными родами. Так, к примеру, сущность «треугольник» подчинена и наивысшему роду «пространственный облик», сущность «красное» — высшему роду «чувственное качество». С другой же стороны, «красное», «треугольник», равно как и все гомогенные и гетерогенные сущности подчинены категориальной рубрике «сущность», каковая отнюдь не имеет в отношении всех их характера сущностного рода, и напротив не имеет такового в отношении ни одной из них. Смотреть на «сущность» как на род содержательных сущностей было бы столь же нелепо, как истолковывать предмет вообще (пустое нечто) в качестве рода для любого вида предметов, затем же, естественно, как один-единственный наивысший род, как род из родов. Придется, совсем напротив, характеризовать любые формально-логические категории как эйдетические единичности, которые своим наивысшим родом обладают в сущности «формально-онтологическая категория-вообще».
Равным образом ясно, что любое определенное умозаключение, скажем, служащее целям физики, есть индивидуализирование определенной чисто-логической формы умозаключения, каждое определенное положение физики — индивидуализирование определенной формы положения и т. п. Но чистые формы — это не роды, относящиеся к содержательным предложениям или же умозаключениям, но сами же они суть лишь низшие различения, а именно дифференциации чисто-логических родов «предложение», «умозаключение», которые, подобно всем таким родам, обладают своим наивысшим родом «значение-вообще». Итак, заполнение логически-пустых форм (а ничего иного, помимо пустых форм, в mathesis universalis вообще нет), есть операция совершенно отличная от подлинной специализации, достигающей конечной дифференциации. Это следует констатировать повсюду: так, например, переход от пространства к «Евклидову многообразию» — это не генерализация, а «формальное» обобщение.
Как и во всех подобных случаях, для подтверждения этого коренного различения необходимо восходить к сущностной интуиции, каковая незамедлительно научит нас тому, что логически-формальные сущности (например, категории) не «заключены» в содержательных обособлениях так, как «красное» вообще в различных оттенках красного или как «цвет» в красном или голубом, и что они вообще не присутствуют «в» них в собственном смысле слова, какой имел бы достаточно много общего с отношением целого и части (в обычном узком смысле) для того, чтобы оправдывать разговор о содержимости одного в другом.
Не требует подробного обсуждения и указание на то, что подведение чего-либо индивидуального, вообще какого-либо «вот это здесь» под некую сущность (подведение такое отличается различным характером в зависимости от того, идет ли речь о низшей дифференциации или о роде) нельзя смешивать с подчинением какой-либо сущности ее высшим видам или же некоему роду.
В равной мере можно только указать на переменчивые и в особенности сопрягаемые с функцией сущностей в общем суждении речи об объемах, каковые речи очевидно должны расходиться с только что обсужденными различениями. Всякая сущность, если только это не низшая дифференциация, обладает эйдетическим объемом, объемом спецификаций и наконец объемом эйдетических единичностей. С другой стороны, любая формальная сущность наделена своим формальным или «математическим» объемом. Далее, всякая сущность вообще обладает своим объемом индивидуализации, идеальной совокупностью возможных этостей, с какими она может быть сопряжена в эйдетически-универсальном мышлении. Говорить об эмпирическом объеме означает большее — ограничение одной сферой существования в силу приплетающегося сюда и снимающего чистую всеобщность полагания существования. Все это естественно переносится с сущностей на «понятия» как значения.
§ 14. Категории субстрата. Сущность субстрата и tode ti
Кроме того, мы примем во внимание различение «полных» «содержательных» субстратов, соответственно «полных» «содержательных» синтактических предметностей и пустых субстратов с образуемыми из них синтактическими предметностями — модификациями пустого нечто. Класс последних сам по себе отнюдь не пустой и не бедный, а именно он определяется как совокупность всех относящихся к наличности чистой логики как mathesis universalis положений дел со всеми категориальными предметностями, из каких строятся таковые. Итак, каждое положение дел, высказываемое какой-либо силлогистической или арифметической аксиомой или теоремой, каждая форма умозаключения, каждое порядковое число, каждое построение из чисел, каждая функция чистого анализа, каждое правильно определенное евклидово или неевклидово многообразие — все относится сюда.
Если мы отдадим теперь предпочтение классу содержательных предметностей, то мы достигнем последних содержательных субстратов в качестве сердцевины любых синтактических образований. К подобным сердцевидным ядрам относятся категории субстрата, подходящие под две основные дизъюнктивные рубрики — «содержательная последняя сущность» и «вот это здесь!», или же попросту лишенная синтактической формы индивидуальная единичность. Термин «индивид», напрашивающийся сам собою, потому неуместен здесь, что как раз та самая неделимость, как бы ни определять ее, какая выражается наряду с иным в этом слове, никак не может быть введена в это понятие и, напротив, должна быть предоставлена особенному и совершенно необходимому понятию «индивид». Поэтому мы заимствуем аристотелевское выражение tode ti, которое по крайней мере по букве не включает в себя такой смысл.
Мы противопоставили друг другу последнюю сущность без формы и, «вот это!»; теперь же мы обязаны констатировать существующую между ними сущностную взаимосвязь, состоящую в том, что всякое «вот это» обладает своей содержательной сущностной наличностью, наделенной характером сущности субстрата без формы, в вышеуказанном смысле.
§ 15. Самостоятельные и несамостоятельные предметы. Конкрет и индивид
Мы нуждаемся и еще в одном основополагающем различении, а именно в различении самостоятельных и несамостоятельных предметов. Так, к примеру, несамостоятельна та категориальная форма, которая необходимо отсылает к субстрату, формой которого она является. Субстрат и форма отсылают друг к другу, они не мыслимы «один без другого». В этом предельно широком смысле и чисто-логические формы, например, категориальная форма «предмет», несамостоятельна относительно всех материй предмета, категория «сущность» — относительно всех определенных сущностей и т. п. Абстрагируемся от подобных несамостоятельностей и свяжем точное понятие несамостоятельности и, соответственно, самостоятельности с собственно «содержательными» взаимосвязями, с отношениями «содержимости», тождественности, а также и связанности в некотором более собственном смысле слова.
Специально же нас интересует сейчас ситуация с последними субстратами или, еще уже, с содержательными сущностями субстрата. Для них существуют две возможности того, чтобы такая сущность либо полагала, вместе с иной, основания единство одной сущности, либо не полагала их. В первом случае отсюда следуют отношения односторонней либо же взаимной несамостоятельности, какие надлежит описывать конкретнее, а относительно эйдетических и индивидуальных единичностей, подпадающих под объединяемые сущности, отсюда вытекает аподиктически необходимое следствие: единичности одной сущности не могут существовать иначе, нежели будучи определены сущностями, каковые обладают по меньшей мере общностью рода с другой сущностью.[39] К примеру, чувственное качество необходимо указывает на какое-то различие в простирании, простирание же, в свою очередь, есть, с необходимостью, простирание какого-то единого с ним «перекрывающего» его качества. Момент «нарастания», например, категории «интенсивность», возможен лишь как имманентный некоему качественному содержанию, а содержание такого рода в свою очередь немыслимо без какой-либо степени нарастания. Являться невозможно в качестве переживания такой-то родовой определенности, — если только это не явление «являющегося как такового», и наоборот. И т. д.
Отсюда проистекают важные определения формально-категориальных понятий «индивид», «конкрет» и «абстракт». Несамостоятельная сущность именуется абстракт, абсолютно самостоятельная — конкрет. «Вот это» же, содержательная сущность какового есть некий конкрет, называется индивидом.
Подведем «операцию» генерализации под расширенное теперь понятие логической «модификации», и мы можем сказать: индивид — это требуемый чисто-логический прапредмет, то логически-абсолютное, на какое указывают все логические модификации.
Конкрет же, само собой разумеется, есть эйдетическая единичность, поскольку все разновидности и все роды (выражения, которые обыкновенно исключают самые низшие дифференциации) принципиально несамостоятельны. Посему эйдетические единичности распадаются на абстрактные и конкретные.
Эйдетические единичности, дизъюнктивно содержащиеся в таком-то конкрете, необходимо «гетерогенны», с учетом того формально-онтологического закона, что две эйдетические единичности одного и того же рода не могут быть связаны в единстве одной сущности, или, как тоже говорят: самые низшие дифференциации одного рода «несовместимы» друг с другом. Посему всякая включенная в какой-либо конкрет единичность, рассмотренная как дифференциация, ведет к особой системе видов и родов, а следовательно, и к раздельным наивысшим родам. Так, например, в единстве феноменальной вещи определенный облик ведет к наивысшему роду «пространственный облик» вообще, определенный цвет — к визуальному качеству вообще. Между тем низшие дифференциации могут в конкрете быть не только дизъюнктивными, но могут и перекрывать друг друга, как, например, физические свойства предполагают и заключают в себе пространственные определения. Тогда и наивысшие роды не дизъюнктивны.
В дальнейшем роды характерным и фундаментальным образом разделяются на те, под которые подпадают конкреты, и на те, под которые подпадают абстракты. Ради удобства мы говорим о конкретных и абстрактных родах, невзирая на двусмысленность, какую приобретают прилагательные. Ибо никому не придет в голову считать конкретные рода конкретами в изначальном смысле. Но где того требует точность, придется употреблять тяжеловесное выражение «роды конкретностей» или же «роды абстрактностей». Вот примеры конкретных родов: «реальная вещь», «визуальный фантом» (визуальный облик, являющийся с чувственной наполненностью), «переживание» и т. п. Напротив того «пространственный облик», «визуальное качество» и т. п. — это примеры абстрактных родов.
§ 16. Регион и категория в содержательной сфере. Синтетическое познание a priori
Вместе с понятиями «индивид» и «конкрет» получает свою строго «аналитическую» дефиницию и относящееся к теории науки фундаментальное понятие региона. Регион есть не что иное, как совокупное, принадлежное к одному конкрету, наивысшее родовое единство, следовательно сущностно единое сочетание наивысших родов, принадлежных низшим дифференциациям внутри конкрета. Эйдетический объем региона охватывает идеальную совокупность конкретно единящихся комплексов дифференциаций этих родов, индивидуальный объем — идеальную совокупность возможных индивидов такой-то конкретной сущности.
Всякая региональная сущность определяет «синтетические» сущностные истины, т. е. такие, какие основываются в ней как такой-то родовой сущности, не будучи при этом простыми обособлениями формально-онтологических истин. Итак, региональное понятие и его региональные разновидности не может свободно варьироваться в этих синтетических истинах, замена относящихся сюда определенных терминов терминами неопределенными не дает формально-логического закона, подобно тому как это характерным образом имеет место во всех «аналитических» необходимостях. Самая суть основывающихся на региональной сущности синтетических истин составляет все содержание региональной онтологии. Совокупная суть основополагающих истин среди всех них, региональных аксиом, ограничивает — и дефинирует для нас — совокупность региональных категорий. Эти понятия не просто, как вообще все понятия, выражают обособления чисто логических категорий, но они отмечены тем, что в силу региональных аксиом они выражают специфически принадлежное региональной сущности либо же выражают эйдетической всеобщностью то, что непременно подобает индивидуальному предмету данного региона «априорно» и «синтетически». Применение подобных (не чисто логических) понятий к данным индивидам есть применение аподиктически и безусловно необходимое, к тому же упорядочиваемое региональными (синтетическими) аксиомами.
Если угодно фиксировать здесь отзвуки Кантовой критики разума (несмотря на значительные расхождения в постижении основополагающего, что вовсе не исключает внутреннего родства), то под синтетическими познаниями a priori следовало бы разуметь региональные аксиомы, и тогда у нас было бы столько несводимых классов подобных познаний, сколько регионов. «Синтетические основополагающие понятия», или категории были бы тогда региональными основополагающими понятиями (существенно сопряженными с определенным регионом и их синтетическими принципами), и у нас было бы столько же различных групп категорий, сколько регионов мы различали бы.
При этом формальная онтология входит, со стороны внешней, в один ряд с региональными (собственно «материальными», «синтетическими») онтологиями. Ее региональное понятие «предмет» (см. выше § 10) определяет формальную систему аксиом, а тем самым и совокупность формальных («аналитических») категорий. В этом и заключена оправданность параллели, несмотря на все подчеркнутые существенные различия.
§ 17. Завершение логических рассуждений
Все наше рассуждение было чисто логическим, оно не осуществлялось в какой-либо «материальной» сфере, или, как мы говорим, и это равнозначно, оно не осуществлялось ни в каком определенном регионе, тут речь шла вообще о регионах и категориях, и такая всеобщность, сообразно смыслу надстраиваемых друг над другом дефиниций, была всеобщностью чисто логической. Вот что нам требовалось — именно набросать на почве чистой логики схему — фрагмент исходящей из нее основополагающей устроенности всякого возможного познания, или же всех возможных познавательных предметностей, сообразно с каковой схемой индивиды должны получать свое определение и быть определимы, согласно понятиям и законам, в соответствии с «синтетическими принципами a priori», или же сообразно с каковой все эмпирические науки должны основываться на принадлежных им региональных антологиях, а не просто на общей для всех наук чистой логике.
Одновременно отсюда же вырастает и идея такой задачи — определить во всем круге наших индивидуальных созерцаний наивысшие роды конкреций, тем самым совершая распределение всего наглядно созерцаемого индивидуального бытия по бытийным регионам, каждый из которых обозначает особую, принципиально — по самым коренным сущностным основаниям — различенную эйдетическую и эмпирическую науку (либо же группу наук). Кстати говоря, коренное различение отнюдь не исключает переплетения и частичного перекрывания. Так что, к примеру, «материальная вещь» и «душа» — это различные регионы бытия, и все же последний фундируется первым, а отсюда вырастает фундирование учения о душе в учении о теле.
Проблема радикальной «классификации» наук — это, в основном и главном, проблема размежевания регионов, а для этого в свою очередь требуются предварительные чисто логические исследования — вроде тех, какие велись здесь по нескольким линиям. С другой же стороны, требуется, правда, и феноменология, — однако о таковой мы не знаем еще ровным счетом ничего.
Глава вторая. Натуралистические лжеистолкования
§ 18. Введение в критические дискуссии
Предпосланные выше общие соображения относительно сущности и науки о сущности в противоположность факту и науке о фактах касались существенных оснований для построения идеи чистой феноменологии (какая, согласно введению, должна ведь стать наукой о сущностях) и для уразумения ее положения по отношению ко всем эмпирическим наукам, следовательно в том числе и психологии. Однако необходимо, и от этого зависит здесь очень много, чтобы все принципиальные определения понимались правильно. Тут мы не поучали — это следует подчеркнуть со всей резкостью — с какой-то заданной философской позиции и не пользовались какими-либо традиционными, пусть даже и общепризнанными философскими учениями, но осуществляли — в строжайшем смысле — некоторые принципиальные раскрытия, т. е. лишь верно выражали различия, непосредственно данные нам в созерцании. Мы брали их точно такими, какими они даются нам, без какого-либо истолкования, гипотетического или интерпретирующего, без какого-либо вкладывания туда чего-либо подсказываемого дошедшими до нас теориями Древнего и Нового времени. Осуществляемые таким путем констатации — это действительно «начала»; а если они, подобно нашим, отличаются всеобщностью и относятся к объемным регионам бытия, то несомненно они принципиальны в философском смысле и сами принадлежны к философии. Однако даже и последнего нам не приходится предпосылать, — все наши рассуждения, — такими они должны оставаться и впредь — были свободны от какой-либо зависимости от «науки» столь спорной и подозрительной, как философия. Во всех наших основополагающих констатациях мы вообще ничего не предпосылали заранее, в том числе и понятия философии, и точно так намерены поступать и в дальнейшем. Философская εποχή, к какой мы теперь приступаем, должна будет состоять в том, — чтобы сформулировать это вполне отчетливо, — что мы, что касается догматического содержания любой уже существующей философии, станем воздерживаться от суждения и все наши подтверждения будем производить в рамках такого воздержания. С другой стороны, вовсе не требуется, чтобы мы избегали говорить вообще о философии (да мы и не можем избежать этого), о философии как историческом факте, о фактических философских направлениях — о тех, что как в добром, так иной раз и в дурном смысле определяли собою убеждения человечества, причем в особенности также и в отношении обсуждаемых у нас основных пунктов.
Как раз в этой связи мы обязаны вступить в спор с эмпиризмом — в спор, какой мы вполне способны решать в рамках нашей εποχή, поскольку тут все дело в пунктах, подлежащих непосредственной констатации. Ведь если только философия располагает некой наличностью «принципиальных» оснований в подлинном смысле, таких, стало быть, какие могут получить свое обоснование лишь через непосредственно дающее созерцание, то спор относительно таковых не зависит от какой бы то ни было философской науки, от обладания идеей философии и от ее догматического, будто бы получившего свое обоснование, содержания. Ситуация, вынуждающая нас вступать в спор, такова — эмпиризм отрицает «идеи», «сущности», «сущностное познание». Сейчас не место приводить исторические причины того, почему как раз победоносное продвижение естественных наук, столь обязанных как раз в «математических» науках своим высоким научным уровнем их эйдетическому фундированию, столь способствовало философскому эмпиризму, превратив его в преобладающее, а в кругах ученых-экспериментаторов даже и в единодержавное убеждение. Во всяком случае в этих кругах, в том числе, следовательно, и среди психологов, живет такая вражда к идеям, что она не может не представлять опасности для прогресса самих же опытных наук — последнее по той причине, что этим тормозится далеко еще не доведенное до конца эйдетическое фундирование этих наук, либо же необходимое конституирование новых наук о сущностях, обеспечивающих прогресс наук опытных. Позднее со всей ясностью предстанет то, что сказанное относится именно к феноменологии, какая составляет существенный эйдетический фундамент психологии и наук о духе. Поэтому для защиты наших констатации требуются некоторые рассуждения.
§ 19. Отождествление опыта и акта, дающего из самого первоисточника, в эмпиризме
Эмпиризм с его натурализмом — это следует признать — проистекает из в высшей степени достойных мотивов. Эмпиризм — это практико-познавательный радикализм, какой намеревается заявить о правах автономного разума — единственно авторитетного в вопросах истины — перед лицом любых «идолов», сил традиции и суеверия, всевозможных предрассудков, грубых и утонченных. Однако судить о чем-либо разумно, или научно, значит направляться самими вещами, или возвращаться от речей и мнений к самим вещам, вопрошать таковые в их самоданности, с устранением любых чуждых сути дела предрассудков. И вот только иной способ выразить только что сказанное: эмпирик мнит, что всякая наука обязана исходить из опыта, основывая свое опосредованное познание непосредственным опытом. Так что для эмпирика подлинная наука и опытная наука — одно и то же. А «идеи», «сущности»? — что это против фактов, как не схоластическое сущее, как не метафизические фантомы? Ведь главная заслуга естествознания Нового времени в том-то и заключается, что оно освободило человечество от подобных философских призраков. И только с постигаемой в опыте, реальной действительностью — вот с чем имеет дело наука. Что не действительность, то воображение, — и наука, состоящая из воображений, и есть не что иное, как воображаемая наука. Конечно, как психологические факты, должно признавать всяческие воображения, — они относятся к ведению психологии. Но вот что — как это попытались произвести мы в предыдущей главе — из воображений могут проистекать, через посредство основываемого на них так называемого сущностного созерцания, новые данности, данности «эйдетические», предметы, каковые ирреальны, — это, так заключит эмпирик, как раз и есть «идеологическая выспренность», «поворот назад к схоластике» или же к того пошиба «априорным спекулятивным конструкциям», с помощью которых чуждый естествознанию идеализм первой половины XIX века так сильно тормозил подлинную науку.
Между тем все, что произносит тут эмпирик, зиждется на недоразумениях и предрассудках, сколь бы благонамеренны и хороши ни были его побуждения. Принципиальная ошибка эмпирической аргументации заключается в следующем: основное требование возврата «к самим вещам» отождествляется или смешивается с требованием основывать познание на опыте. Без дальнейших рассуждений тут принимается, — при вполне понятном натуралистическом ограничении рамок доступных познанию «вещей», — что опыт есть единственный акт, дающий сами вещи. Однако вещи — это не просто-таки вещи природы, действительность в обычном смысле — это не просто-таки действительность вообще, а ведь тот дающий из самого первоисточника акт, какой мы именуем опытом, сопрягается только с действительностью природы. Осуществлять тут отождествления, обращаться с ними как с якобы само собой разумеющимся значит не глядя отодвигать в сторону различения, требующие яснейшего усмотрения. Так спрашивается, на чьей же стороне предрассудки. Отсутствие предрассудков, коль скоро оно подлинно, требует не вообще, чтобы мы отвергли «чуждые опыту суждения», но чтобы мы поступали так лишь при условии, что собственный смысл суждений требует опытного обоснования. А напрямик утверждать, что все суждения допускают опытное обоснование и даже требуют такового, — не подвергнув предварительному изучению сущность суждений во всех их фундаментально различных разновидностях, не рассудив при этом, не противосмысленно ли в конце концов такое утверждение, — так это не что иное, как «априорно-спекулятивная конструкция», которая не становится лучше от того, что на сей раз она исходит от эмпиризма. Подлинная наука и подлинно присущее таковой отсутствие предрассудков — они в качестве подосновы всех доказательств требуют непосредственно значимых суждений как таковых, почерпающих свою значимость прямо из созерцаний, дающих из самого первоисточника. А созерцания — они устроены так, как то предписывает смысл этих суждений, или, иначе, собственная сущность предметов и обстоятельства суждения. Фундаментальные регионы предметов и коррелятивные с ними региональные типы дающих созерцаний, принадлежные сюда типы суждений и, наконец, ноэтические нормы, какие для обоснования вот такого-то типа суждений требуют как раз такого-то и такого-то вида созерцаний — все это невозможно ни постулировать, ни декретировать сверху, можно лишь констатировать это с усмотрением сути, а это в свою очередь означает — раскрывать через созерцание, дающее из самого первоисточника, и фиксировать в суждениях, какие будут верно приспособляться к данному в созерцании. Нам и кажется, что подлинно чуждый предрассудков и чисто дельный метод выглядит именно так и никак иначе.
Непосредственное «видение» — не просто чувственное, постигающее опытным путем смотрение, но видение вообще как сознание, дающее из первоисточника (каким бы такое созерцание ни было), — вот последний правовой источник любых разумных утверждений. Его функция — давать права — есть у него лишь потому и постольку, что и поскольку он дает из самого первоисточника. Если мы вполне ясно видим предмет, если мы исключительно на основе такого видения и в рамках действительно схваченного в видении осуществили эксплицирование и понятийное постижение, если мы видим (еще новый способ «видения»), каков этот предмет, то тогда верно выражающее высказывание правомерно. Если в вопросе о том, почему, не придавать никакого значения тому, что «я это вижу», — то это противосмысленность, — что мы и усматриваем в свою очередь. Сказанное отнюдь не исключает того, — что необходимо добавить, дабы предотвратить возможные лжеистолкования, — что при известных обстоятельствах видение может спорить с видением, одно с другим, равным образом как и одно правомерное утверждение с другим. Ибо в последнем вовсе не заключено того, чтобы видение не было правовым основанием, — подобно тому как если одна сила берет верх над другой, то это не означает, что силы нет. Однако это означает, что, быть может, в такой-то и такой-то категории созерцаний (и это касается как раз тех, что схватывают в чувственном опыте) видение «несовершенно» по своей сущности, что оно в принципе может быть подтверждено или опровергнуто, что тем самым некое утверждение, имеющее свое непосредственное, а тем самым и подлинное правовое основание в опыте, а дальнейшем ходе опытного постижения может быть все же отброшено, в силу преобладающих и снимающих прав противной стороны.
§ 20. Эмпиризм — это скептицизм
Итак, опыт мы заменяем более общим «созерцанием», а тем самым отвергаем отождествление науки вообще и науки опытной. Кстати, не трудно понять, что если выступать в защиту такого отождествления, оспаривая значимость эйдетического мышления, то это ведет к скептицизму, а таковой, будучи подлинным, снимает себя через противосмысленность.[40] Достаточно лишь спросить эмпирика об источнике значимости его общих тезисов (например: «Любое значимое мышление основывается на опыте как единственно дающем созерцании»), как он начинает запутываться в противосмысленности, каковая вполне доказуема. Прямой опыт дает ведь только единичные отдельности, а не всеобщности, так что его одного мало. На усмотрение сущности эмпирик не может ссылаться, потому что таковое он отрицает; итак, остается индукция и вообще весь комплекс опосредованных умозаключений, через посредство каких опытная наука обретает свои общие положения. А как же обстоит дело, спросим мы, с истиной опосредованных умозаключений, все равно дедуктивных или индуктивных? Эта истина (и даже, можно было бы спросить, истина единичного суждения) — что, постижима она в опыте? Доступна, в конце концов, восприятию? И как обстоит дело с принципами тех видов умозаключения, на какие ссылаются тут в спорных или сомнительных случаях, как-то с принципами силлогистическими, с принципом среднего члена и т. д., к каковым ведь и сводится, как к конечным источниками, оправдание любых умозаключений? Они — это тоже эмпирические обобщения, или же такое их понимание заключает в себе наирадикальнейшую противосмысленность?
Не пускаясь в долгие рассуждения, где приходилось бы лишь повторять сказанное в других местах,[41] по крайней мере столько-то уж сделалось явным, а именно — что основные тезисы эмпиризма прежде всего нуждаются в их уточнении, прояснении, обосновании и что обоснование такое должно было в свою очередь сообразовываться с нормами, о каких заявляют сами тезисы. А в то же самое время все же явно то, что тут существует по меньшей мере серьезное подозрение, не скрывают ли эмпирические отсылки некую противосмысленность, — между тем как в литературе эмпиризма едва ли можно обнаружить хотя бы самые первые подступы к серьезной попытке навести действительную ясность в этих отношениях, равно как дать научное обоснование их. Научное обоснование, как и всегда, требовало бы здесь исходить из теоретически строго фиксируемых отдельных случаев и согласно строгим, проясненным принципиальным усмотрением, методам, переходить от них к общим тезисам. Кажется, эмпирики вовсе не заметили того, что научные требования, предъявляемые ими к познанию, вместе с тем адресованы и их же собственным тезисам.
Будучи подлинными философами со своей позицией, эмпирики, в явном противоречии с их принципом свободы от предрассудков, исходят из непроясненных и необоснованных предвзятых мнений, тогда как мы начинаем с того, что предшествует любой позиции, с совокупной области всего данного в наглядном созерцании и еще до всякого теоретического мышления, со всего того, чтобы можно непосредственно видеть и схватывать, — если только ты не ослеплен предрассудками, а потому не принимаешь к сведению целые классы подлинных данностей. Если слово «позитивизм» означает, что все науки с абсолютной свободой от каких бы то ни было предрассудков основываются на «позитивном», т. е. усматриваемым из самого первоисточника, то тогда подлинные позитивисты — это мы. И на деле, мы ни одному авторитету не позволяем отнимать у нас право признавать равнозначными правовыми источниками познания любые разновидности созерцания — не позволяем этого и авторитету «современного естествознания». Когда говорит действительно естествознание, — тут мы обращаемся в слух, тут мы ученики. Но не всегда говорит естествознание, когда говорит естествоиспытатель, и безусловно оно молчит, когда они говорят о «натурфилософии» и «естественнонаучной теории познания». И прежде всего оно молчит, когда они пытаются убедить нас в том, что само собою разумеющиеся генерализации, какие выражает любая аксиома (предложения типа а + 1 = 1 + а; суждение не может быть цветным; из двух качественно различных звуков один ниже, другой выше; восприятие в себе есть восприятие чего-либо и т. п.), суть выражения опытно постигаемых фактов, между тем как мы с полным усмотрением распознаем, что подобные предложения лишь приводят к экспликативному выражению данности эйдетической интуиции. А вместе с тем нам становится тут ясно и то, что «позитивисты» то перемешивают между собою кардинальные, то хотя и видят разницу между ними, но, будучи связаны своими предрассудками, стремятся признавать значимость или даже самую наличность лишь за одной-единственной из них.
§ 21. Неясное на стороне идеализма
И на противоположной стороне тоже царит неясность. Тут, правда, признают чистое мышление, мышление «априорное», и отвергают главный тезис эмпиризма, но только не доводят до рефлективной ясности сознания то, что имеется такая вещь, как чистое созерцание — в качестве такой разновидности данного, в какой, как предметы, из самого первоисточника даются сущности (совсем наподобие того, как в опытно-схватывающем созерцании — индивидуальные реальности); не осознают того, что и всякое выносящее суждение усмотрение, в особенности же усмотрение безусловно всеобщих истин, подпадает под понятие дающей интуиции, под понятие, какое именно обладает множеством дифференциаций, прежде всего протекающих параллельно с логическими категориями.[42] Тут, правда, говорят и об очевидности, однако вместо того чтобы приводить таковую — в качестве усмотрения — сущностную сопряженность с обыкновенным смотрением, начинают говорить о некоем «чувстве очевидности», каковое, в роли мистического index veri придает суждению некую эмоциональную окраску. Такое понимание возможно лишь до тех пор, пока не научились анализировать разновидности сознания в чистом созерцании и сообразно с сущностью, вместо того, чтобы строить теории сверху. Все эти мнимые чувства очевидного, мыслительной необходимости и как еще ни называй их — все они не более, как теоретически вымышленные чувства.[43] Это признает всякий, кому удавалось довести до подлинно созерцательной данности хотя бы какой-нибудь случай очевидного и кто сравнивал такой случай с неочевидностью того же самого содержания суждения. Тут сразу же начинаешь замечать, что неявно выраженная предпосылка чувствительной теории очевидного, а именно что вынесение суждения (во всем прочем по своей психологической сущности одинаковое) бывает то окрашенным, а то неокрашенным чувством, — ошибочно в самой своей основе, и что на самом деле один и тот же верхний слой, а именно верхний слой одного и того же высказывания как просто имеющего значение выражения в одном случае шаг за шагом приспособляется к интуиции положения дел — к интуиции «ясно усматривающей», — другой же раз в качестве нижнего слоя функционирует совершенно иной феномен — неинтуитивное или даже совершенно спутанное и недифференцированное сознание положения дел. Итак, в сфере опыта с тем же правом можно было бы постигать различие между ясным и верным суждением восприятия и любым произвольным неопределенным суждением о том же самом положении дел попросту в том смысле, что первое наделено «чувством ясности», второе же — нет.
§ 22. Упрек в Платоновом реализме. Сущность и понятие
Особым камнем преткновения вновь и вновь служило то, что мы — будучи «платонствующими реалистами» — выставляем в качестве предметов идеи, или сущности, и приписываем им, как и прочим предметам, действительное (истинное) бытие, равно как, коррелятивно тому, интуитивную постижимость — без малейшей разницы с реальностями. Абстрагируемся сейчас от весьма часто встречающейся разновидности поспешных читателей, — они подставляют свои собственные и вполне чуждые автору понятия, а тогда уж совсем не трудно вычитать в его изложении всякого рода абсурдности.[44] Если предмет и реальность, действительность и реальная действительность значат одно и то же, то понимание идей как предметов и действительностей есть, конечно, нелепое «Платоново гипостазирование». Но если и то и другое, как это было в «Логических исследованиях», строго разделяется, если предмет получает свою дефиницию как нечто, стало быть, например, как субъект истинного (категорического, аффирмативного) высказывания, то какой же камень преткновения тут еще остается? — разве что такой, какой идет от неясных предубеждений? И общее понятие предмета тоже измыслил не я, — я только восстановил в правах тот предмет, какого требуют чисто логические предложения, одновременно указав и на то, что таковой принципиально неизбежен в научной речи, а потому и определяет ее вообще. А в таком смысле «предмет» — это и звуковое качество с как нумерически единственный член определенного звукоряда, и число 2 в ряду натуральных чисел, и фигура «круг» в идеальном мире геометрических построений, и любое предложение в «мире» предложений, — короче говоря, все это многообразно «идеальное» есть как «предмет». Слепота к идеям — нечто вроде душевной слепоты: вследствие предубеждения люди уже не способны доставлять в поле своих суждений то, чем обладают они в поле созерцания. На деле же все и, так сказать, беспрерывно, видят «идеи» и «сущности», оперируют ими в своем мышлении, осуществляют суждения относительно сущностей, — только что со своей теоретико-познавательной «позиции» отрекаются от них. Очевидные данности терпеливы, — пусть теории прокатываются над ними, они остаются тем, что они суть. Дело теорий — направляться по данностям, а дело познавательных теорий — различать основополагающие разновидности таковых и описывать их по существу каждой.
Замечательно то, что предубеждения позволяют людям довольствоваться немногим в теоретическом аспекте. Сущностей, а следовательно и сущностного созерцания (идеации) не может быть, а потому, если обычная речь противоречит тому, то, значит, дело в «грамматическом гипостазировании», от коего никак нельзя допустить, чтобы тебя понесло к гипостазированию «метафизическому». Фактически наличествовать могут лишь реальные психические события «абстрагирования», каковые примыкают к реальному опыту или реальным представлениям. Посему наспех конструируются «теории абстрагирования», и психология, гордая своей опытностью, обогащается здесь — как и во всех сферах интенциональности (какие ведь составляют главные темы психологии) — измышленными феноменами, психологическими анализами, которые анализами даже не являются. Итак, говорится тут, идеи и сущности — это «понятия», понятия же — это «психические построения», «продукты абстрагирования», и как таковые они, безусловно, играют большую роль в нашем мышлении. «Сущность» же, «идея» или «эйдос» — лишь выспренние «философские» наименования «трезвых психологических фактов». И наименования опасные — уже ввиду своих метафизических подсказок.
Ответствуем: разумеется, сущности — это «понятия», если только понимать под таковыми — многозначное слово это разрешает — именно сущности. Но давайте же уясним себе тогда, что в таком случае говорить о психических продуктах — это нонсенс, равно как и о построении понятий, если только должно разуметь их строго и в собственном смысле слова. Иной раз в какой-нибудь статье читаешь: натуральный ряд чисел — это ряд понятий, — а спустя несколько строк: понятия — это построения мышления. Итак, поначалу сами числа — сущности — обозначались как понятия. Но тут мы спросим: разве числа не суть то, что они суть, — «складываем» мы, строим мы их или нет? Конечно же я осуществляю счет, я строю свои представления о числе («один плюс один»). Сейчас эти представления — такие, а потом, когда я снова начну их строить, — иные. В этом смысле по временам не бывает никаких, по временам же много разных, сколь угодно много представлений о числе — об одном и том же числе. Но именно поэтому мы вместе с тем и различили (да и как бы избежать нам такого различения): представление о числе — это не само число, это не «два», т. е. вот это единственное звено в натуральном ряде чисел, которое, как и все подобные звенья, есть некое невременное бытие. Итак, обозначать их как психические построения есть противосмысленность, прегрешение против совершенно ясного, в любой момент усмотримого в своей значимости, следовательно предшествующего любой теории смысла арифметической речи. Если понятия — это психические построения, тогда такие вещи, как чистые числа, — не понятия. Но если они понятия, то тогда понятия — не психические построения. Итак, необходимы новые термины — именно чтобы освободиться от столь опасных недоразумений.
§ 23. Спонтанность идеации, сущность и факт
Однако разве — возразят нам тут — не истинно и очевидно то, что понятия, или, если угодно, сущности вроде «красного», «дома» и т. д. проистекают путем абстрагирования из индивидуальных созерцаний? И разве не конструируем мы по собственной воле понятия на основе уже сложившихся понятий? Так, стало быть, речь все же идет о психологических продуктах. Ведь это все, — быть может, еще добавят к сказанному, — как в случае произвольных фикций: играющий на флейте кентавр, какого мы воображаем себе по собственной воле, — это ведь не что иное, как построение нашего представления. — Ответствуем: конечно же «складывание понятий», а также и свободное измышление осуществляются спонтанно, а все спонтанно порождаемое, само собой разумеется, есть продукт духа. Однако, что до играющего на флейте кентавра, то он есть представление в том самом смысле, в каком представлением называют представляемое, а не в том, в каком представление есть название психически-переживаемого. Конечно, сам кентавр — это не что-то психическое, он не существует ни в душе, ни в сознании, он не существует вообще нигде, ведь он «ничто», он — целиком и полностью «воображение»; точнее же говоря, переживание воображения есть во-ображение себе кентавра. Постольку, поскольку это так, самому переживанию, конечно, принадлежит нечто «принимаемое за кентавра», нечто «кентавро-мнимое», кентавро-сфантазированное. Но только не смешивайте же именно это переживание воображения с тем, что во-ображается в нем как таковом.[45] Так и в спонтанном абстрагировании порождаемое — это не сущность, а сознание (о) сущности, и положение при этом таково: в то время как — и это, очевидно, сообразно с сущностью — дающее из самого первоисточника сознание (о) сущности (идеация) в себе самом необходимо есть сознание спонтанное, для чувственно дающего, опытно схватывающего сознания спонтанность — внесущностна, — индивидуальный предмет может «являться», может осознаваться, но и без всякой спонтанной «деятельности» «над» ним и «на» нем. Так что нет никаких мотивов, — разве что кроме мотивов смешения, — которые могли бы требовать отождествления сознания сущности и самой сущности, а тем самым и психологизации последнего.
Однако тут могло бы смущать соположение еще и воображающего сознания — именно в отношении «существования» сущностей. Что — разве сущность это не вымысел, не фикция, как это угодно скептикам? Между тем, подобно тому как соположение фикции и восприятия, подводимых под более общее понятие «созерцающее сознание», наносит ущерб существованию даваемых в восприятии предметов, так осуществленная выше соположенность — «существованию» сущностей. Вещи могут восприниматься, вспоминаться и тем самым сознаваться как «действительные»; или же они, в модифицированных актах, могут сознаваться как сомнительные, недействительные (иллюзорные); наконец, в совершенно иной модификации, — как «просто грезящиеся», как якобы действительные, недействительные и т. д. Точно так же обстоит дело и с сущностями, а с этим связано то, что и они, подобно иным предметам, могут иметься в виду, мниться, то правильно, то ложно, — как, например, в ложном геометрическом мышлении. Но постижение и созерцание сущности — это многообразный акт, и в особенности высматривание сущности есть дающий из самого первоисточника акт, а — как таковой — он есть аналог чувственного восприятия, a не воображения.
§ 24. Принцип всех принципов
Впрочем, довольно нелепых теорий. Никакая мыслимая теория не может заставить нас усомниться в принципе всех принципов: любое дающее из самого первоисточника созерцание есть правовой источник познания, и все, что предлагается нам в «интуиции» из самого первоисточника (так сказать, в своей настоящей живой действительности), нужно принимать таким, каким оно себя дает, но и только в тех рамках, в каких оно себя дает. Ведь мы же усматриваем и то, что любая мыслимая теория могла бы любую из своих истин почерпнуть в свою очередь лишь в данном из самого первоисточника. А следовательно любое высказывание, которое просто придает выражение такого рода данностям через посредство их простого эксплицирования и с помощью точно примеренных значений, не делая ничего сверх этого, действительно есть — как было сказано во вступительных словах этой главы — абсолютное начало, призванное в подлинном смысле быть основоположение, действительно есть principium. В особой мере это верно о генеральном сущностном познании, каким и ограничивают обыкновенное слово «принцип».
В этом смысле совершенно прав тот естествоиспытатель, который следует «принципу» — относительно любого сопряженного с фактами природы утверждения спрашивать о том опыте, на каком таковое основано. Ибо это принцип, это утверждение, непосредственно почерпнутое из генерального усмотрения, в чем мы в любой момент и можем убедиться, доводя до полной ясности смысл выражений, примененных в этом принципе, и приводя к чистой данности принадлежные им сущности. Однако, в том же самом смысле обязан следовать некому параллельному принципу и испытатель сущностей, да и вообще всякий, кто только пользуется генеральными предложениями и высказывает их, и такой принцип непременно должен иметься — уже потому, что сам же, только что допущенный принцип обоснования любого познания фактов опытом сам по себе не может быть усмотрен на основании опыта — как и всякий принцип, как и всякое сущностное познание вообще.
§ 25. Позитивист на практике в качестве естествоиспытателя, естествоиспытатель в рефлексии в качестве позитивиста
Позитивист отвергает de facto сущностные познания лишь тогда, когда он «философски» рефлексирует, давая обмануть себя философам-эмпирикам с их софизмами, но не тогда, когда, как естествоиспытатель, он думает и обосновывает, следуя нормальной естественнонаучной установке. Ибо тут он, очевидно, в очень большой мере позволяет направлять себя сущностным усмотрениям. Ведь, как известно, чисто математические дисциплины — материальные, как-то геометрия или кинематика, формальные (чисто логические) как-то арифметика, анализ и т. д. — это основополагающие средства естественнонаучного теоретизирования. И совершенно очевидно, что все эти дисциплины не следуют эмпирическому методу, не обосновываются посредством наблюдения и экспериментов над постигаемыми в опыте фигурами, движениями и т. д.
Правда, эмпиризм не желает этого замечать. Однако можно ли принимать всерьез аргумент эмпиризма — будто бы настолько нет никакого недостатка в фундирующем опыте, что, совсем напротив, в нашем распоряжении находятся целые бесконечности опытных постижений? Весь совокупный опыт всех поколений людей и даже весь опыт всех предшествовавших таковым поколений зверей собрал колоссальные сокровища геометрических и арифметических впечатлений, интегрировав их в форме привычек восприятия и уразумения, так что из этого фонда черпаем наши геометрические усмотрения и мы. — Однако откуда же у нас все эти сведения о будто бы собранных сокровищах, если никто не наблюдал их научно и никто не задокументировал их со всей точностью? С каких это пор основания науки — да притом еще науки точнейшей из точнейших — составляет опыт не действительный и тщательнейшим образом проверяемый в своей широте и в своей собственно функции, которая этот опыт доставляет, а опыт давно позабытый и вполне гипотетичный? Физик наблюдает и экспериментирует, с полным основанием не довольствуясь донаучным опытом, а тем более уж инстинктивным разумением и гипотезами о якобы унаследованном опыте.
Или же лучше говорить — как уже и действительно говорили с разных сторон — о том, что своими геометрическими усмотрениями мы обязаны «опыту фантазии» и что мы осуществляем таковые в качестве индукций на основании экспериментов фантазии! Однако почему же — вот наш контрвопрос — физик не прибегает к столь чудесному опыту фантазии? Ведь, должно быть, потому, что эксперименты в воображении и были бы не чем иным, как воображаемыми экспериментами, равно как и фигуры, движения, множества в фантазии — это не действительные, а воображаемые фигуры, движения и множества.
Корректнее всего поступить в отношении всех подобных толкований — указать на собственный смысл математических утверждений, вместо того, чтобы аргументируя, становиться на почву этих толкований. Чтобы знать, причем знать несомненно, что высказывает математическая аксиома, нам надо обратиться не к философу-эмпирику, а к сознанию, в каком мы, математизируя, и постигаем со всей полнотой усмотрения аксиоматические положения дел. Если держаться исключительно такой интуиции, то никакому сомнению не будет подлежать то, что в аксиомах выражаются чистые сущностные взаимосвязи — без малейшего сополагания опытных фактов. О геометрическом мышлении и созерцании надо не философствовать и не психологизировать извне, а надо совершать их живое осуществление и на основе прямого анализа определять их имманентный смысл. Кто знает, может быть, мы и унаследовали некую познавательную предрасположенность от прошлых поколений с их познанием, — но для вопроса о смысле и ценности нашего познания все истории о таком наследовании столь же безразличны, как и безразлична для установления ценности нашего золота история его наследования.
§ 26. Науки с догматической и науки с философской установкой
Итак, естествоиспытатели отзываются о математике и всякой эйдетике скептически, однако в своей эйдетической методике поступают догматически. К счастью для них! Ведь великим естествознание стало благодаря тому, что не долго думая отодвинуло в сторону буйным цветом расцветший античный скептицизм и отказалось от того, чтобы преодолевать его. Вместо того чтобы предаваться странным и мучительным вопросам относительно того, как вообще возможно познание «внешней» природы, как решать те трудности, какие уже древними были обнаружены в такой возможности познания, оно предпочло мучиться над вопросом о правильном методе познания природы, по возможности совершенного, какое предстояло действительно воплотить в действительность, над познанием в форме точного естествознания. Однако наука, совершив такой поворот, открывший пред ней путь реального исследования, наполовину отказывается теперь от него, поскольку вновь уступает скептической рефлексии и позволяет ограничивать себя в своих рабочих возможностях тенденциям скептицизма. Скептицизм вследствие преданности предрассудкам эмпиризма оказывается вне игры лишь в сфере опыта, однако отнюдь не в сфере сущностей. Ибо для науки недостаточно того, что она будет допускать эйдетическое в круг своих исследований лишь под фальшивым флагом эмпиризма. С подобными переоценками могут еще смириться старые эйдетические дисциплины, основанные в давние времена и по праву обычая не подвергающиеся уже никаким нападкам, — таковы математические дисциплины, — между тем как (на что мы уже указывали) для обоснования новых дисциплин такие предрассудки не могут не функционировать как весьма эффективные тормоза. Вот какова правильная позиция, какую можно занимать внутри догматической в хорошем смысле слова дофилософской сферы исследований, к какой принадлежат все опытные науки (но и не одни только они), — это вполне сознательно отодвигать в сторону любой скептицизм вместе со всей его «натурфилософией» и «теорией познания» и принимать любые предметности познания, где бы они действительно ни обретались, — какие бы трудности ни открывала задним числом в возможности подобных предметностей теоретико-познавательная рефлексия.
В царстве научных исследований необходимо осуществить неизбежное и важное размежевание. По одну сторону тут занимают свое место науки с догматической установкой — они обращены к вещам и нимало не заботятся о какой бы то ни было теоретико-познавательной или же скептической проблематике. Они исходят из данности своих вещей в самом первоисточнике (и, проверяя свое познание, все время возвращаются назад к ней), спрашивая, в качестве чего же дают себя вещи непосредственно и что может быть опосредованно раскрыто на основе такового относительно этих и вообще всех вещей соответствующей области. По другую сторону занимают свое место научные исследования с познавательно-теоретической, специфически философской установкой, изучающие скептические проблемы возможности познания и решающие их поначалу в их принципиальной всеобщности, чтобы вслед за тем, применяя полученные решения, делать отсюда выводы касательно окончательного смысла и познавательной ценности достигнутых догматическими науками результатов. По крайней мере при существующей сейчас ситуации — пока вообще недостает высокоразвитой и достигшей совершенной строгости и ясности критики познания — правильно держать границы догматического исследования закрытыми перед любой «критицистской» проблематикой. Другими словами, нам представляется сейчас правильным позаботиться о том, чтобы теоретико-познавательные (как правило, скептические) предрассудки, о правомерности и неправомерности которых должна судить философская наука, о которых, однако, не обязан беспокоиться догматический исследователь, не мешали ходу изысканий последнего. А ведь именно в том-то и состоит скептицистский нрав, что он располагает к столь неблагоприятному торможению.
Тем самым обрисовано и своеобразное положение дел, из-за какого становится необходимой теория познания — в качестве науки с своим особым измерением. Пусть чисто вещно направляемое и несомое усмотрением познание и будет вполне довольно собою, — как только познание рефлективно обращается на себя само, так сразу же представляется возможным, что все разновидности познания и даже все созерцания и усмотрения в своей значимости отягощены вводящими в заблуждение неясностями и почти что неразрешимыми трудностями, и все это в особенности в аспекте той трансценденции, на какую перед лицом познания притязают объекты познания. Не откуда-то, а именно отсюда и происходят те скептицизмы, какие могут заявлять о себе вопреки любому опыту и усмотрению и какие в дальнейшем способны проявить себя как тормоза практически-научной деятельности. Мы все эти тормоза в форме естественной «догматической» науки (термин этот отнюдь не должен означать здесь какого-либо пренебрежительного отношения) выключаем тем, что уясняем себе лишь самый предельно общий принцип любого метода, принцип изначального права любых данностей, именно его сохраняя в живом виде в уме и при этом игнорируя любые содержательные, столь многообразные проблемы возможности различных разновидностей и корреляций познания.
Раздел второй. Фундаментально-феноменологическое рассуждение
Глава первая. Тезис естественной установки и его выключение
§ 27. Мир естественной установки: я и мой окружающий мир
Начнем наши рассуждения людьми естественной жизни: представляя, судя, чувствуя, воля «в естественной установке». Что это означает, проясним для себя в простых медитациях, что лучше всего провести от первого лица.
Я сознаю мир, бесконечно распростершийся в пространстве, бесконечно становящийся и ставший во времени. Я его сознаю, непосредственно наглядно нахожу его — это прежде всего в опыте. Благодаря зрению, осязанию, слышанию и т. д., различными способами чувственного восприятия, физические вещи, как-либо распределенные в пространстве, попросту суть для меня здесь, они, в буквальном или образном смысле, «наличны», — все равно, принимаю ли я их особо, занят ли я ими в наблюдении, разглядывании, мышлении, чувствовании, волении или же нет. И животные существа, например люди, тоже непосредственно суть для меня здесь, — я поднимаю глаза, вижу их, слышу их шаги, я беру их за руку, разговаривая с ними, я непосредственно разумею, что они представляют и что мыслят, какие чувства шевелятся в их душе, чего они желают или волят. И они тоже наличествуют в поле моего созерцания как действительности, даже если я и не принимаю их к сведению. Однако, нет необходимости в том, чтобы они, равно как и какие-либо иные предметы, находились непременно в поле моего восприятия. Для меня действительные объекты — определенные, более или менее известные мне — суть здесь и без всякого отличия от тех, что воспринимаю я актуально, хотя они мною и не воспринимаются и даже не наличествуют наглядно в настоящий момент. Мое внимание от письменного стола, который я вот только что видел перед собою и который принимал особо к сведению, способно отправиться гулять через те части комнаты, которые я не вижу и которые находятся за моей спиной, на веранду, потом в сад, к детям, которые играют в беседке, ко всем тем объектам, о которых я как раз «знаю», что они пребывают тут и там в моем непосредственно о-сознаваемом окружении, — знание, в каком нет ничего от понятийного мышления и какое лишь отчасти и, как правило, весьма неполно обращается в ясное созерцание лишь при условии, что я обращу на него свое внимание.
Но только и этой областью всего со-присутствующего либо с наглядной ясностью, либо же неясно, отчетливо или неотчетливо, что постоянным кольцом окружает поле актуального восприятия, исчерпывается «наличествующий» для меня по мере сознания во всякий момент бодрствования мир. Напротив, мир с его твердым бытийным порядком простирается в безграничное. Актуально воспринимаемое и все то, что более или менее ясно соприсутствует и что определено (или по меньшей мере насколько-то определено), — все это отчасти пронизано, отчасти же окружено неясно сознаваемым горизонтом неопределенной действительности. Я могу посылать сюда лучи проясняющего взгляда внимания — с переменным успехом. Определяющее, сперва неясное, но наполняющееся все большей живостью соприсутствие что-то приносит для меня, круг воспоминаний смыкается, круг определенности все расширяется и расширяется, порою до такой степени, что устанавливается взаимосвязь с полем актуального восприятия — моим центральным окружением. Однако в общем и целом результат бывает иным — пустой туман неясной неопределенности населяется наглядными возможностями, предположительностями, — и только сама «форма» мира, именно как «мира», тут предначертана. Неопределенное окружение, вообще говоря, бесконечно. Туманный горизонт, какой никогда не определить до конца, — он необходимо всегда здесь.
Точно так же, как с миром с его бытийным порядком пространственного присутствия, чему следовал я до сих пор, все обстоит и с его бытийным порядком в последовательности времени. Вот этот, — очевидно, во всякий миг бодрствования — наличествующий для меня мир обладает бесконечным в две стороны временным горизонтом — своим известным и неизвестным, непосредственно живым и неживым прошлым и будущим. В свободной деятельности опытного постижения, каковое доставляет наличное моему созерцанию, я могу прослеживать эти взаимосвязи непосредственно окружающей меня действительности. Я могу менять свое местоположение во времени и пространстве, могу направлять свой взгляд туда и сюда, вперед и назад во времени, я могу доставлять себе более или менее ясные и содержательные восприятия, призывать что-либо в настоящее, или же могу создавать более или менее ясные образы, придавая наглядность, в прочных формах пространственного и временного мира, возможному и предположительному.
Таким способом я и обретаюсь, при бодрствовании моего сознания, все время, и, чего совершенно невозможно переменить, в сопряженности всегда с одним и тем же, пусть и меняющимся по своей содержательной наличности, миром. Таковой для меня беспрестанно «наличен», сам же я — звено в нем. При этом мир для меня — не просто мир вещей, но — в той же самой непосредственности — и мир ценностей, мир благ, практический мир. Без всякого дальнейшего размышления я наложу вещи снабженными как свойствами вещей, так и ценностными характеристиками — они прекрасны и безобразны, приятны и неприятны, милы и отвратительны и т. п. Непосредственно наличествуют вещи как предметы пользования — вот «стол» с «книгами» на нем, вот «стакан», вот «ваза», вот «фортепиано» и т. д. Такие ценностные и практические характеристики тоже конститутивно принадлежны «наличным объектам» как таковым — все равно, обращаюсь я к ним и к объектам вообще или нет. И это верно, естественно, не только в отношении «просто вещей», но и в отношении людей и животных моего окружения. Они мои «друзья» или «враги», «слуги» или «начальники», они «чужие» для меня или мои «родственники» и т. д.
§ 28. Cogito. Мой естественный окружающий мир и идеальные окружающие миры
С этим миром, с тем миром, в каком я обретаюсь и какой в то же самое время есть мой окружающий мир, сопрягаются все комплексы спонтанностей моего сознания, многообразно переменчивые, — наблюдение и исследование, экспликация и приведение к понятиям при описании, сравнивание и различение, складывание и подсчитывание, предполагание и выведение, — короче говоря, любые спонтанности теоретизирующего сознания в его различных формах и на его различных ступенях. Равным образом и многоликие акты и состояния душевного строя и воления — нравиться или не нравиться, радоваться и печаловаться, вожделеть и избегать, надеяться и страшиться, решаться и действовать. Все они — причисляя сюда же и простые акты «я», в каких я сознаю мир непосредственно наличный в спонтанном обращении к нему и схватывании его — обнимаются Картезиевым выражением cogito. В естественной, не озабоченной глубокими размышлениями жизни, я непрестанно живу внутри этой основополагающей формы всякой актуальной «жизни» — все равно, высказываю ли я при этом то самое cogito, или нет, направляюсь ли я «рефлективно» на «я» и на cogitare, или же нет. Если я поступаю так, то жизнь обретает новое cogito, которое со своей стороны нерефлективно, т. е. не предметно для меня.
Беспрестанно я обретаем для самого себя — как тот, кто воспринимает, представляет, мыслит, чувствует, вожделеет и т. д., и во всем этом я по большей части обретаю себя актуально сопряженным с постоянно окружающей меня действительностью. Ибо так я бываю сопряжен не всегда, не всякое cogito, в каком я живу, обладает в качестве своего cogitatum вещами, людьми, какими-либо предметами или какими-то положениями дел моего окружающего мира. Вот, скажем, я занят чистыми числами и их законами, — ничего подобного нет налично в окружающем мире, в этом мире «реальной действительности». И этот мир чисел, именно как поле объектов арифметических занятий, тоже есть для меня здесь; пока я занят числами, отдельные числа или же их комплексы будут оставаться в поле моего взгляда, будучи окружены отчасти определенным, отчасти неопределенным арифметическим горизонтом; однако, очевидно, что это бытие здесь для меня — в качестве самого бытия здесь — иного порядка. Арифметический мир здесь для меня лишь тогда и лишь постольку, когда и поскольку я остаюсь в арифметической установке. Естественный же мир, мир в обычном смысле этого слова, беспрестанно здесь для меня, пока я только жив. Пока имеет место последнее, я «остаюсь в естественной установке», и более того — и то, и другое означает одно и то же. И тут ничего не обязано меняться, если я вдруг начинаю усваивать себе арифметический и подобные же иные миры, осуществляя соответствующие установки. Естественный мир и остается тогда «наличным», я как был, так и остаюсь в естественной установке, какой не мешают новые установки. Если же мое cogito движется лишь в этих мирах новых установок, то естественный мир остается вне рассмотрения, он — фон моего сознания актов, но только не горизонт, в какой включается арифметический мир. Оба одновременно наличествующие мира лишены взаимосвязи, если только отвлечься от сопряженности их с «я», в согласии с каковой я могу свободно направлять мой взгляд и мои акты вовнутрь того или иного мира.
§ 29. «Иные» субъекты Я и интерсубъективный естественный окружающий мир
Все верное обо мне верно, как я знаю, и обо всех других людях, каких обретаю я в качестве наличествующих в моем окружающем мире. Постигая их в опыте в качестве людей, я разумею и принимаю их как субъекты Я, подобно тому, как я сам есмь Я, и как сопряженные с их естественным окружающим миром. Причем так, что я постигаю их и свой окружающий мир объективно как один и тот же, который лишь осознается каждым из нас различным образом. У каждого свое место, с какого он видит наличные вещи, а потому у каждого различные явления вещей. Кроме того, и поля актуального восприятия, воспоминания и т. д. у каждого различны, если отвлечься от того, что и все интерсубъективно, совместно осознаваемое осознается различным образом, различными способами постижения, с различной степенью ясности и т. д. При всем этом мы приходим к взаимопониманию с находящимися рядом людьми и совместно полагаем с ними объективную пространственно-временную действительность — в качестве сущего для всех нас здесь окружающего мира, которому и принадлежим мы все.
§ 30. Генеральный тезис естественной установки
Изложенное нами в качестве характеристики данности естественной установки и тем самым характеристики ее самой было чистым описанием, предшествующим любой «теории». В настоящих исследованиях мы будем строго воздерживаться от любых теорий; т. е. предварительных мнений какого бы то ни было вида. Теория принадлежит к нашей сфере лишь в качестве фактов нашего окружающего мира, а не в качестве реальных или принимаемых за таковые значимостей. Однако сейчас мы не ставим перед собой задачу продолжить чистое описание, чтобы возвысить таковое до систематически объемлющей — исчерпывающей во всей широте и глубине — характеристики всех наличностей естественной установки (а тем более уж всех взаимосогласно сплетающихся с таковой иных установок). Такую задачу — как задачу научную — можно и должно зафиксировать, и она чрезвычайно важна, хотя до сих пор ее едва ли видели. Однако сейчас это не наша задача. Сейчас мы стремимся к вратам феноменологии, и для нас все нужное в этом отношении уже сделано, мы нуждаемся лишь в некоторых совершенно общих характеристиках естественной установки, какие и выступили уже, с достаточно полной ясностью, в наших описаниях. Вот именно эта полнота ясности была столь важна для нас.
И мы еще раз подчеркнем наиважнейшее — в следующих положениях: я постоянно обретаю в качестве противополагающегося мне пространственно-временную действительность, которой принадлежу и сам, подобно всем другим обретающимся в ней и равным образом сопрягающимся с нею людьми. «Действительность» — о том говорит уже само слово — я обретаю как сущую здесь и принимаю ее тоже как сущую — как такую, какой она мне себя дает. Как ни сомневайся в данностях естественного мира, как ни отбрасывай их, от этого в генеральном тезисе естественной установки не меняется ровным счетом ничего. Мир как действительность — он всегда тут, в лучшем случае он может тут или там быть «иным», нежели мнилось мне, что-то, придется, так сказать, вычеркнуть из него как «видимость», «галлюцинацию» и т. п., он же — в смысле генерального тезиса — всегда останется здесь сущим миром. И цель наук с естественной установкой — познавать ее все полнее, надежнее, во всех отношениях совершеннее, нежели то делает наивное опытное знание, решать все задачи научного познания, какие возникнут и на ее почве.
§ 31. Коренное изменение естественного тезиса. «Выключение», «выведение за скобки»
Вместо того чтобы оставаться в такой установке, радикально изменим ее. Теперь нам надо убедиться в принципиальной возможности такого изменения.
Генеральный тезис, в силу какого реальный окружающий мир постоянно не просто вообще сознается по мере восприятия-постижения, но сознается как «действительность» здесь сущая, состоит, естественно, не в некотором особом акте, не в артикулированном суждении относительно его существования. Он есть нечто постоянно и длительно пребывающее в течение всей длительности установки, т. е. пока мы естественно живем, да живем, бодрствуя. Все, что всякий раз воспринимается, что становится ясно или неясно наглядным во всякий миг настоящего, короче говоря, все в естественном мире, что сознается в нем по мере опыта и до всякого мышления, — все это в своем совокупном единстве и за всеми артикулированными дифференциациями имеет характер «здешности», «наличности»; на характере таком, по сущности его, можно основать единое с ним эксплицитное (предикативное) суждение. Если мы выскажем таковое, то мы все равно обязаны знать, что обратили в нем в тему и предикативно схватили то, что каким-то образом уже было заложено — без тематизации, без мысли о том, без предикации — в исконном опытном постижении, или же в опытно постигнутом, в качестве «наличного».
С потенциальным же, неявным тезисом мы можем поступать точно так, как и с явным тезисом суждения. Так поступать возможно безусловно и всегда, и, например, такова попытка всеобщего сомнения, какую Декарт брался провести для совершенно иной цели, а именно с намерением выставить абсолютно несомненную сферу бытия. Мы отсюда и начнем, но вместе с тем подчеркнем то, что попытка универсального сомнения послужит у нас лишь методическим приемом для выделения известных пунктов, какие благодаря нему, как заключенные в его сущности, можно выявить со всей очевидностью.
Универсальная попытка сомнения принадлежит к царству нашей совершенной свободы: мы можем пытаться усомниться во всем — даже и в том, в чем мы были бы твердо убеждены, в адекватной очевидности чего мы были бы удостоверены.
Поразмыслим над тем, что заключено в сущности такого акта. Пытающийся сомневаться пытается усомниться в каком-либо «бытии», в каком-либо предикативном эксплицированном «вот это!», «дело обстоит вот как» и т. п. При этом не важно, что это за разновидность бытия. Так, например, сомневающийся в том, что у предмета, бытие которого он не подвергает сомнению, такие-то и такие-то свойства, подвергает сомнению именно свойства — такую-то качественность предмета. И вот это, очевидно, переносится с сомнения на попытку сомневаться. Далее, ясно и то, что мы не можем сомневаться в бытии и в том же самом сознании (в форме единства того, что «в то же самое время») полагать существующим субстрат этого бытия, т. е. сознать его согласно характеру «наличного». Эквивалентно последнему следующее выражение: мы не можем считать одну и ту же материю бытия сомнительной и достоверной. Столь же ясно и другое: попытка сомневаться в чем-либо сознаваемом как наличное непременно обуславливает снятие положенности, и вот именно это и интересует нас. Мы не преобразуем тезис в антитезис, утверждение — в отрицание, мы не преобразуем его и в предположение, подозрение, в неразрешенность, в сомнение (все равно, в каком смысле слова), — тем более что подобное и не принадлежит к царству нашего свободного произволения. Это, скорее, нечто совсем особенное. Мы не отказываемся от тезиса, какой осуществили, мы ни в чем не меняем своего убеждения, которое в себе самом каким было, таким и остается, пока мы не вводим новые мотивы суждения — а этого мы как раз и не делаем. И все же тезис претерпевает известную модификацию, — он в себе самом каким был, таким и остается, между тем как мы как бы переводим его в состояние бездействия — мы «выключаем» его, мы «вводим его в скобки». Он по-прежнему все еще остается здесь: подобно поставленному в скобки внутри таковых, подобно выключенному вне пределов включенности. Можно сказать и так: тезис — это переживание, но только мы им «не пользуемся», что, естественно, надо понимать не как лишение (вроде того, как мы о потерявшем сознание скажем, что он не пользуется тезисом), — речь тут, скорее, идет, как и в случае всех параллельных выражений, об обозначениях, намекающих на своеобразный способ сознавания, каковой привходит к исконному простому тезису (все равно — заключается ли таковой в актуальном или даже предикативном полагании существования или нет) и дает ему как раз своеобразную переоценку. Такое переоценивание — дело нашей совершенной свободы, и оно противостоит любым мыслительным позициям, какие требуют своей координации с тезисом и никак не совмещаются с ним в единстве того, что «в то же самое время», — противостоит вообще любым позициям, занимаемым в собственном смысле слова.
В попытке сомневаться, примыкающей к тезису, причем, как мы заранее предполагаем, к тезису, который остается и выдерживается, «выключение» осуществляется так, что вместе с тем модифицируется антитезис, а именно «полагание» небытия, какое, следовательно, и составляет, вместе с прочим, основание для попытки сомневаться. Это последнее у Декарта превалирует настолько, что можно сказать — его универсальная попытка сомнения — это, собственно говоря, попытка универсального отрицания. От этого мы сейчас отвлечемся, — нас интересует не каждый аналитический компонент попытки сомневаться, а потому и не его точный и исчерпывающий анализ. Мы сейчас выхватываем лишь феномен «введения в скобки», или «выключения», который очевидно не привязан к феномену попытки сомневаться, хотя и особенно легко вычленяется из нее, но встречается также и в иных сплетениях и — не менее того — сам по себе. В отношении к совершенно любому тезису мы можем — причем с полной свободой — совершать такую своеобразную εποχή — известное воздержание от суждения, какое вполне совмещается с непоколебленной или даже непоколебимой — ибо очевидной — убежденностью в истине. Тезис выводится «за пределы действия», ставится в скобки, он преобразуется в модификацию «тезис в скобках», суждение как таковое — в «суждение в скобках».
Естественно, такое сознание нельзя просто отождествлять с тем, что можно «просто так думать себе» — вроде того, к примеру, что русалки водят хороводы; ведь тут как раз и не имеет места выключение живого и сохраняющего свою живость убеждения, хотя, с другой стороны, выступает наружу близкое родство того и другого сознания. Тем более же тут не имеет места думание себе чего-либо в смысле того, что что-то «допускается» или предполагается, что в привычной двусмысленной речи равным образом может выражаться в таких словах: «я думаю (я допускаю), что это — вот так-то и так-то».
Далее, следует заметить, что ничто не мешает нам коррелятивно говорить о заключении в скобки также и тогда, когда необходимо полагать некую предметность — все равно, какого региона или какой категории. В этом случае подразумевается, что следует выключить любой относящийся к этой предметности тезис, преобразовав таковой в его скобочную модификацию. Если пристальнее вглядеться, то образ включения в скобки с самого начала лучше подходит к предметной сфере, а «выведение из действия» — к сфере актов и к сфере сознания.
§ 32. Феноменологическая εποχή
Картезиев опыт универсального сомнения мы могли бы заместить теперь универсальной εποχή в нашем строго определенном и новом смысле. Однако с полным основанием мы ограничим универсальность такой εποχή. Ибо будь она столь всеохватной, какой она может быть вообще, не осталось бы ни одной области для немодифицированных суждений, не говоря уж о науке, поскольку ведь любой тезис и, соответственно, любое суждение может быть с полной свободой модифицировано и любая предметность, доступная суждению, поставлена в скобки. А наша цель — это ведь как раз открытие нового домена науки, и притом именно такого, который должен быть получен с помощью этого метода введения в скобки, но тогда уже определенным образом ограничиваемого.
Ограничение такое можно обозначить немногими словами.
Принадлежный к сущности естественной установки генеральный тезис мы полагаем вне действия, все и всякое, обнимаемое им в онтическом аспекте, мы одним разом ставим в скобки: следовательно, весь этот естественный мир, который постоянно есть «для нас здесь», который постоянно «наличен» и всегда пребудет как «действительность» по мере сознания, — если даже нам и заблагорассудится заключить его в скобки.
Если я поступлю так, а это дело моей полной свободы, тогда я, следовательно, не отрицаю этот «мир», как если бы я был софист, и я не подвергаю его существование здесь сомнению, как если бы я был скептик, а я совершаю феноменологическую εποχή, каковая полностью закрывает от меня любое суждение о пространственно-временном существовании здесь.
Итак, я, следовательно, выключаю все относящиеся к этому естественному миру науки, — сколь бы прочны ни были они в моих глазах, сколь бы ни восхищался я ими, сколь бы мало ни думал я о том, чтобы как-либо возражать против них; я абсолютно не пользуюсь чем-либо принятым в них. Я не воспользуюсь ни одним-единственным из принадлежащих к таким наукам положений, отличайся они даже полнейшей очевидностью, не приму ни одного из них, ни одно из них не предоставит мне оснований, — хорошенько заметим себе: до тех пор, пока они разумеются такими, какими они даются в этих науках, — как истины о действительном в этом мире. Я могу принять какое-либо положение, лишь после того как заключу его в скобки. Это значит: лишь в модифицирующем сознании, выключающем суждение, стало быть, совсем не в том виде, в каком положение есть положение внутри науки: положение, претендующее на свою значимость, какую я признаю и какую я использую.
Никто не станет смешивать эту εποχή, о которой речь идет сейчас, с такой, какой требует позитивизм, сам же, в чем мы могли убедиться, нарушая свое требование. Сейчас дело вовсе не в выключении всех предрассудков, замутняющих чистую дельность исследования, не в конституировании «свободной от теорий» и «свободной от метафизики» науки на путях возврата любого обоснования к непосредственным данностям, и не в средствах достижения подобных целей, о ценности каких не встает и вопрос. То, чего требуем мы, лежит в совсем ином направлении. Весь мир — полагаемый в естественной установке, действительно обретаемый в опыте, взятый совершенно «без всякой теории», а таков и есть мир, действительно постигаемый в опыте, подтверждаемый во взаимосвязи опыта, — этот мир теперь для нас вообще ничто, мы будем вводить его в скобки — не проверяя, но и не оспаривая. Все теории и науки — сколь бы хороши они ни были, — и позитивистские и получающие иное обоснование, — все они должны претерпеть одну и ту же судьбу.
Глава вторая. Сознание и естественная действительность
§ 33. Предварительные указания на «чистое», или «трансцендентальное сознание» как на феноменологический остаток
Мы разобрались теперь в смысле феноменологической εποχή, но только еще не в ее возможном эффекте. Прежде всего не ясно, в какой мере данное выше ограничение совокупной сферы εποχή действительно сужает ее универсальность. Да что же останется, если выключить весь мир, включая и нас, и любое cogitare?
Поскольку читателю уже известно, что наши медитации руководствуются интересами новой эйдетики, а потому он будет прежде всего ожидать того, что хотя весь мир как факт и подпадает под выключение, но только не мир как эйдос и не какая-либо иная сущностная сфера. Ведь если мир выключается, то это действительно не означает, к примеру, что выключается натуральный ряд чисел и относящаяся к нему арифметика.
Между тем мы пойдем не этим путем, и наша цель расположена не в этом направлении; цель же мы можем обозначить так: обретение нового бытийного региона, какой до сих пор не получал своих специфических границ, тогда как ведь всякий подлинный регион — это регион индивидуального бытия. Что означает это конкретнее, в том наставят нижеследующие констатации.
Мы будем поступать прежде всего прямо раскрывая и — коль скоро подлежащее раскрытию бытие — это не что иное, как то, что по соображениям существенным мы станем обозначать как «чистые переживания», «чистое сознание» с его чистыми «коррелятами сознания» а, с другой стороны, я его «чистым Я», — станем наблюдать исходя из Я, из сознания, из переживаний, в том виде, в каком даны они нам в естественной установке.
Я — это я, человек в действительности, реальный объект подобно другим в естественном мире. Я осуществляю cogitationes, «акты сознания» в более широком и в более узком смысле, и акты эти, как принадлежные к такому-то человеческому субъекту, — это нечто происходящее все в той же естественной действительности. То же самое и все мои прочие переживания, в переменчивом потоке которых столь своеобразно вспыхивают специфические акты Я, переходя друг в друга, связываясь в синтезы, непрестанно видоизменяясь. В наиболее широком смысле выражением «сознание» (в дальнейшем, впрочем, менее подходящим) охватываются и все переживания. Будучи «естественно установленными», — какими продолжаем мы оставаться и в своем научном мышлении, согласно наипрочнейшей привычке, которую никто и никогда не сбивал еще столку, — мы и все обретаемое в психологической рефлексии принимаем как реально происходящее в мире, а именно как переживания одушевленных существ. И настолько естественно для нас видеть их такими, и только такими, что мы, даже ознакомившись с возможностью изменения нашей установки и пустившись в поиски новой области объектов, вообще не замечаем, что не из чего-либо, но именно из этих самых сфер переживания и выходит, благодаря новой установке, эта новая область. С этим ведь и связано то, что вместо того, чтобы по-прежнему обращать свой взор к этим сферам, мы отвели его и начали искать новые объекты в онтологических царствах арифметики, геометрии и т. п. — а тут как раз и нельзя было бы обрести что-либо действительно новое.
Итак, твердо устремим свой взгляд на сферу сознания и станем изучать то, что мы имманентно обретаем мы в ней. Поначалу, еще до совершения феноменологического выключения суждения, подвергнем ее систематическому сущностному анализу — пусть даже далеко и не исчерпывающему. Вот что безусловно необходимо для нас — это некое общее усмотрение сущности сознания вообще, в особенности же и того сознания, в каком, согласно его сущности, сознается «естественная» действительность. Мы продолжим свои штудии, пока не совершим то самое усмотрение, на какое мы нацелились, а именно усмотрение того, что сознание в себе самом наделено своим особым бытием, какое в своей абсолютной сущности не затрагивается феноменологическим выключением. Она-то и представляет собой «феноменологический остаток», и это принципиально-своеобразный бытийный регион, который на деле и может стать полем новой науки — феноменологии.
Лишь благодаря такому усмотрению «феноменологическая» εποχή и заслуживает такое свое наименование, — вполне сознательно осуществление таковой выступит в качестве необходимой операции, через посредство которой становится доступным для нас «чистое» сознание, а в дальнейшем и весь феноменологический регион. Вместе с тем станет понятным и то, почему до сих пор этот регион и соопределяемая ему новая наука должны были пребывать в безвестности. Ведь в естественной установке и нельзя созерцать что-либо кроме естественного мира. И пока возможность феноменологической установки не была распознана и не был разработан метод приводить к схватыванию из самого первоисточника проистекающие из нее предметности, феноменологический мир и обязан был пребывать в безвестности и даже почти не предощущаться.
Что же касается нашей терминологии, то тут надо прибавить следующее. Важные, опирающиеся на теоретико-познавательную проблематику мотивы оправдывают наименование «чистого» сознания, о котором будет так много разговоров, также и трансцендентальным, а операция, с помощью которой оно обретается, — трансцендентальной εποχή. Со стороны метода эта операция будет раскладываться на различные шаги «выключения», «введения в скобки», так что наш метод приобретет характер поступенно совершаемой редукции. Ввиду этого мы впредь, и даже преимущественно, станем говорить о феноменологических редукциях (либо даже, в аспекте совокупного единства таковых, о феноменологической редукции), а, следовательно, под углом зрения теоретико-познавательным, также и о трансцендентальных редукциях. Кстати говоря, и это и все остальные наши термины должны разуметься исключительно в том смысле, какой придается ему в нашем изложении, а не в каком-то ином, подсказанном историей или же терминологическими привычками читателя.
§ 34. Сущность сознания в качестве темы
Начнем с ряда рассуждений, в рамках которых вовсе не будем мучить себя феноменологической εποχή. Мы естественным путем направляемся на «внешний мир» и, не оставляя естественной установки, осуществляем психологическую рефлексию нашего Я и его переживания. Так, как если бы мы не слышали ни слова о новом виде установки, мы погрузимся β сущность «сознания чего-либо», в каком мы, к примеру, сознаем существование здесь материальных вещей, тел, людей, существование здесь технических и литературных созданий и т. д. Мы следуем своему общему принципу, согласно которому во всем индивидуально-совершающемся есть сущность, доступная схватыванию в своей эйдетической чистоте и в этой своей чистоте принадлежная к полю возможного эйдетического исследования. Посему и всеобщий естественный факт: «Я есмь», «Я мыслю», «Я обладаю миром напротив меня» и т. п. — тоже наделен своим сущностным наполнением, и вот этим последним мы и будем исключительно заниматься теперь. Итак, мы будем осуществлять, в качестве образцов, какие-либо единичные переживания сознания, беря их такими, какими они даются в естественной установке, в качестве реальных человеческих фактов, или же мы будем наглядно представлять себе таковые в воспоминании или же в вольно вымышляющей фантазии. На основании подобных образцов, — предполагается, что это основание совершенно ясно, — мы станем постигать и фиксировать в адекватной идеации чистые сущности, интересующие нас сейчас. При этом единичные факты, фактичность естественного мира вообще будет ускользать от нашего теоретического взгляда, — как то и бывает всегда, когда мы осуществляем чисто эйдетическое познание.
Мы и еще ограничим свою тему. Она гласит: сознание, или, точнее, переживание сознания вообще, в чрезвычайно широком смысле, ограничение которого для нас сейчас, к счастью, не существенно. Подобные вещи не находятся в самом начале таких анализов, какие производим мы теперь, — напротив, они бывают поздним итогом великих трудов. В качестве исходного пункта мы возьмем сознание в отчетливом смысле, в том, в каком предстает оно перед нами прежде всего и какой проще всего обозначить Картезиевым cogito, «Я мыслю». Как известно, Декарт понимал это выражение столь широко, что оно охватывает любое «Я замечаю, я вспоминаю, фантазирую, выношу суждение, чувствую, вожделею, хочу» и тем самым любые подобные переживания Я в их бессчетных текучих, особых образованиях. Поначалу мы совершенно оставим вне рассмотрения само Я, с каким сопрягаются все подобные образования или же какое, весьма различным образом, «живет» «в» них, «поступая» деятельно, страдательно, спонтанно, рецептивно и вообще как угодно. Позднее же оно будет еще основательно занимать нас. Пока же всего достаточно, чтобы опереть на него наш анализ и схватывание сущности. При этом очень скоро мы увидим, что должны обратиться к обширным взаимосвязям переживаний, которые принудят нас расширить понятие «переживание сознания», выйдя из круга специфических cogitationis.
Переживания сознания мы будем рассматривать во всей полноте конкретизации, с какой выступают они в своей конкретной взаимосвязи, потоке переживания, и в какую сливаются они по своей сущности. Тогда станет очевидным и то, что всякое переживание потока, какое способен схватить рефлективный взгляд, обладает своей собственной, интуитивно постигаемой сущностью, «содержанием», какое в своей самобытности позволяет рассматривать себя для себя. Нам же важно схватить это самобытное наполнение cogitatio в его чистой самобытности и охарактеризовать его всеобще, т. е. исключая все, что не заключено в cogitatio согласно тому, что она такое в себе самой. Равным образом необходимо охарактеризовать и единство сознания, какое исключительно требуется собственным наполнением любых cogitationes, причем с такой непременностью, что без такого единства они не могут существовать.
§ 35. Cogito в качестве «акта». Модификация в направлении неактуальности
Начнем с примеров. Передо мною в полумраке лежит вот этот белый лист бумаги. Я вижу, я касаюсь его. Такое восприятие — видение-ощупывание — листа бумаги, как полностью конкретное переживание лежащего здесь листа бумаги, причем данного с точно такими-то качествами, в точно такой относительной неясности, в такой неполной определенности, являющегося так-то ориентированным относительно меня, — и есть cogito, переживание сознания. Сам же лист бумаги с его объективными свойствами, его протяженностью в пространстве, его объективным положением относительно той пространственной вещи, какая именуется моим телом, — это не cogitatio, а cogitatum, не переживание восприятия, а воспринятое. Конечно, и воспринимаемое вполне может быть переживанием сознания, однако очевидно и то, что такая материальная вещь, как вот этот данный в переживании восприятия лист бумаги, принципиально — никакое не переживание, но бытие, отличающееся вполне отличным видом бытия.
Прежде чем прослеживать все это дальше, увеличим число примеров. Когда я в собственном смысле слова воспринимаю нечто, замечая его, я обращен к предмету, например к листу бумаги, я схватываю его как здесь и теперь сущее. Схватывать значит выхватывать, все воспринимание наделено неким задним планом опытного постижения. Вокруг листа бумаги лежат книги, карандаши, стоит чернильница и т. д., и все это тоже «воспринимается» мною, все это перцептивно есть здесь, в «поле созерцания», однако пока я обращаюсь в сторону листа бумаги, они лишены любого, хотя бы и вторичного обращения и схватывания. Они являлись, но не были выхвачены, не были положены для себя. Подобным образом любое восприятие вещи обладает ореолом фоновых созерцаний (или фоновых смотрений, если считать, что в созерцании уже заключается обращенность к предмету), и это тоже «переживание сознания», или же, короче, «сознание», причем сознание всего того, что на деле заключено в том предметном «заднем плане», или «фоне», какой созерцается вместе с созерцаемым в восприятии. Само собой разумеется, речь сейчас идет не о том, что можно «объективно» найти в объективном пространстве, какое, быть может, принадлежно к созерцаемому заднему плану, о всех тех вещах и вещных встречаемостях, какие зафиксирует в нем значимый, поступательно совершающийся опыт. Речь идет исключительно об ореоле сознания, относящемся к сущности восприятия, совершаемого в модусе «обращенности к объекту», а кроме того о том, что заключено в собственной сущности такого ореола. А в ней заключено вот что: возможны известные модификации исконного переживания, какие мы обозначаем как свободный поворот «взгляда» — не просто и не собственно физического, но «духовного взгляда», — который от листа бумаги, замеченного первым, переходит к тем предметам, какие являлись уже раньше того, следовательно «имплицитно» уже сознавались здесь, — они-то после поворота взгляда и становятся сознаваемыми эксплицитно, воспринимаемыми «со всем вниманием» или же «отмечаемыми наряду с иным».
Как в восприятии, вещи сознаются и в воспоминании, и в подобных воспоминанию наглядных представлениях, и в вольных фантазиях. И все это происходит то в «ясном созерцании», то без приметной наглядности по способу «неясных» представлений; при этом они грезятся нам с различными «характеристиками» — как вещи действительные, возможные, измышляемые и т. д. Очевидно, что относительно таких различных в своем существе переживаний верно все изложенное нами относительно переживаний восприятия. Мы и не подумаем о том, чтобы смешивать сознаваемые во всех этих разновидностях сознания предметы (например, сфантазированых русалок) с самими переживаниями сознания, т. е. с переживаниями, s каких они сознаются. Тогда мы в свою очередь распознаем, что от сущности всех подобных переживаний — их мы берем в полной их конкретизации — неотделима замечательная модификация: таковая переводит сознание, находившееся в модусе актуальной обращенности, в сознание в модусе неактуальности, и наоборот. В одном случае переживание — это, так сказать, «эксплицитное» сознание своей предметности, в другом же — имплицитное, потенциальное, и только. Может быть так, что предметное уже является нам в восприятии, либо же в воспоминании или фантазии, но мы еще не «направлены» на него своим духовным взором, не направлены даже и вторично, не говоря уже о том, чтобы мы были в каком-либо особом смысле «заняты» всем этим.
Подобное мы констатируем для любых произвольных cogitationes в смысле Картезиевой сферы примеров, для всех переживаний мышления, чувствования и воления, только что, как выяснится в следующем параграфе, «направленность-на», «обращенность-к», — чем отмечена актуальность — отнюдь не покрывается, как то было в избранных простейших примерах чувственных представлений, с выхватывающим принятием к сведению объектов сознания. Очевидно, и для всех подобных переживаний верно то, что актуальные из их числа окружаются «ореолом» неактуальных; поток переживаний не может состоять из сплошных актуальностей. Именно последние в самом широком своем обобщении, что еще предстоит продолжить с выходом за пределы круга наших примеров, и в своем контрастном сопоставлении с неакутальностями, и определяют отчетливый смысл выражения «cogito», «я сознаю что-либо», «я осуществляю акт сознания». Чтобы резко отграничить это твердое понятие, мы оставим его исключительно для Картезиевых cogito и cogitationes, — за вычетом тех случаев, когда будем в явном виде указывать модификацию, дополняя словом «неактуальный» и т. п.
«Бодрствующее» же Я мы можем определить как то, которое в пределах своего потока переживания непрерывно осуществляет сознавание в специфической форме cogito; этим, естественно, не подразумевается то, что оно постоянно доводит эти переживания до их предикативного выражения, что оно вообще поступает так или что оно способно так поступать. Ведь бывают же и животные — субъекты Я. От сущности потока переживаний бодрствующего Я неотделимо, однако, согласно выше сказанному, то, что непрерывно протекающая цепочка cogitationes постоянно окружена средой неактуального, всякий миг готовой перейти в модус актуальности, подобно тому, как, напротив, и актуальность — в неактуальность.
§ 36. Интенциональное переживание. Переживание вообще
Сколь бы полным ни было изменение, претерпеваемое переживаниями актуального сознания при переходе в неактуальность, модифицируемые переживания все же сохраняют значительное родство с исконными по их сущности. Ведь от сущности любого актуального cogito неотделимо то, что оно есть сознание чего-либо. Но, согласно всему изложенному выше, модифицированная cogitatio это тоже сознание, причем сознание того же самого, что и соответствующее немодифицированное сознание. Итак, всеобщее существенное свойство сознания сохраняется и в его модификации. Все переживания с такими существенными свойствами называются также и «интенциональными переживаниями» (актами в том наиболее широком смысле, какой придан им в «Логических исследованиях»); поскольку же они суть сознавания чего-либо, говорится, что они «интенсионально сопряжены» с этим чего-либо.
При этом следует хорошенько заметить себе, что сейчас речь не идет о сопряжении чего-либо психологически-происходящего — именуемого переживанием — с неким иным реальным бытием по имени «предмет», или же о каком-либо психологическом сочетании того и другого, какое имело бы место в объективной действительности. Напротив, речь идет о переживаниях исключительно по их сущности, или же о чистых сущностях, и о том, что с безусловной необходимостью заключено, «a priori», в сущностях.
Что переживание — это переживание чего-либо, например, вымысел — это вымысел кентавра, а восприятие — восприятие «реального» предмета, суждение — суждение о соответствующем положении дел и т. д., — все это относится не к переживаемому факту в мире, в особенности в фактической психологической взаимосвязи, а относится к чистой сущности, постигаемой через идеацию просто как идея. В сущности переживания заключено не только то, что оно есть сознание, но и то, чего сознание оно есть, а также, в каком определенном или неопределенном смысле оно есть это. Тем самым и в сущности неактуального сознания заключено то, в какого рода cogitationes следует переводить его посредством обсуждавшейся выше модификации, какую мы называем «обращением принимающего к сведению взора на прежде не принимавшейся к сведению».
Под переживаниями в предельно широком смысле слова мы разумеем все и всякое, что только обретается в потоке переживания, стало быть, не одни интенциональные переживания, актуальные и потенциальные cogitationes, взятые во всей их конкретизации, но и вообще любые реальные моменты, что обретаются в этом потоке и его конкретных частях.
Нетрудно усмотреть, что не всякий реальный момент конкретного единства интенционального переживания сам note6e обладает основополагающим характером интенциональности, т. е. свойством быть «сознанием чего-либо». Так, к примеру, все данные ощущения, играющие столь значительную роль в перцептивных созерцаниях вещей. В переживании восприятия вот этого листа белой бумаги, конкретнее же в его компоненте, сопряженном с качеством «белизна бумаги», мы путем подобающего поворота своего взгляда обретаем данное в ощущении «белое». Это белое есть нечто неотделимо принадлежное сущности конкретного восприятия — принадлежное в качестве реальной конкретной составной. Это данное как предлагающее себя содержание являющейся белизны бумаги выступает как носитель интенциональности, однако само по себе оно не есть сознание чего-либо. Это же верно и относительно других данных переживания, так, например, относительно так называемых чувственных эмоций. Об этом мы еще будем подробнее говорить в дальнейшем.
§ 37. «Направленность-на» чистого Я в cogito и схватывающее принятие к сведению
Не имея сейчас возможности глубже вдаваться в описательный анализ сущности интенциональных переживаний, выделим отдельные моменты, на какие следует обратить внимание для дальнейшего изложения. Если интенциональное переживание актуально, т. е. осуществлено по способу cogito, то в нем субъект «направляет» себя на интенциональный объект. От самого же cogito неотделим имманентный ему «взгляд-на» объект, взгляд, который с другой стороны изливается из «Я», так что никогда не может быть так, чтобы его не было. Такой взгляд Я на что-либо есть, в зависимости от акта, то воспринимающий в восприятии, то измышляющий в вымысле, то выносящий свое одобрение в том, что нравится, то волящий в волении взгляд-на и т. д. Стало быть, это означает, что вот такое неотделимое от сущности cogito, от сущности акта как такового обладание чем-либо во взгляде, в духовном взоре, в свою очередь не есть особый акт и, в частности, не может смешиваться ни с восприятием (даже и в сколь угодно широком смысле), ни с другими разновидностями актов, родственными восприятиям. Нужно обратить внимание на то, что интенциональный объект сознания, — если брать его как полный коррелят последнего, — отнюдь не то же самое, что схватываемый объект. Обычно мы без дальнейших размышлений включаем схваченное в понятие объекта (предмета вообще), поскольку, подобно тому как мы думаем о нем, высказываем что-либо о нем, мы уже обратили его в предмет в смысле схваченности. Итак, в наиболее широком смысле схватывание покрывается тем, что мы на что-либо обращаем внимание, что-либо замечаем, — будь то особо или между прочим; по меньшей мере так обыкновенно понимают подобные выражения. Но тут, в этом внимании или схватывании, дело не в модусе cogito вообще, не в модусе актуальности, но, если приглядеться, то в особенном модусе акта, в таком, какой может быть принят любым осознанием или же любым актом, если те еще не приняли его прежде. Если акт примет такой модус, то интенциональный объект этого акта будет не просто сознаваться, находясь во взоре духовной направленности-на, но это схваченный, замеченный объект. Если говорить о вещи, то к таковой мы можем быть обращены не иначе, как схватывая ее, — и так ко всем «попросту представимым» предметностям: обращение (пусть то будет даже и в измышлении) есть тут ео ipso «схватывание», «обращение внимания». Но в акте оценивания мы обращены к ценности, в акте радости — к радостному, в акте любви — к любимому, в действовании — к действию, и мы все это тогда не схватываем. Интенциональный объект, ценное, радостное, любимое, чаемое как таковое, действование как действование — все это становится схватываемым предметом лишь в особом «опредмечивающем» повороте. Быть обращенным к чему-либо в оценивании — в этом заключается и схватывание этого чего-то, однако не это что-то, но ценное или ценность — вот что (о чем мы еще будем говорить подробнее) есть здесь полный интенциональный коррелят оценивающего акта. Следовательно, «быть обращенным к чему-либо в оценивании» еще не значит «обладать ценностью в качестве предмета», в том особом смысле схваченности, в каком мы должны обладать предметом, чтобы делать предикативные высказывания о нем; и так во всех логических актах, относящихся к ценностям.
Итак, во всех актах, подобных оценивающим, мы обладаем интенциональным объектом в двояком смысле: нам необходимо различать просто «что-то» и полный интенциональный объект и соответственно тому двоякую интенцию, двоякую обращенность-к. Если в акте оценивания мы направлены на что-то, то это направление на что-то есть внимание к этому и схватывание его; при этом же мы направлены также и на ценность — но только не по способу схватывания. Модусом «актуальность» обладает не только представление чего-либо, но и обнимающее его оценивание.
Однако к этому мы должны незамедлительно прибавить, что лишь в простых актах оценивания ситуация столь проста. Вообще же акты душевного строя и воли фундируются в более высокой ступени, и соответствующим образом множится интенциональная объективность, множатся способы, какими испытывают обращение объекты, заключенные во всей совокупной объективности. Во всяком случае верно утверждаемое следующим главным тезисом:
Во всяком акте царит один из модусов внимательности. Однако, если таковой не сводится к простому сознанию чего-либо, если в таком сознании фундируется еще и дальнейшее, «выражающее свое отношение» к этому чему-то сознание, это что-то и полный интенциональный объект (например, «что-то» и «ценность»), равно как внимание и обладание в духовном взоре расходятся между собой. Одновременно к сущности таких фундируемых актов принадлежит еще и возможность модификации, благодаря которой их полные интенциональные объекты становятся предметами внимания и в этом смысле предметами «представляемыми», какие в свою очередь способны служить субстратами экспликаций, сопряжений, понятийных постижений и предикативных высказываний. Благодаря подобной объективации нам в естественной установке, а тем самым как звенья естественного мира, противостоят не просто вещи природы, но и ценности и практические объекты любого вида, города, улицы с их осветительными устройствами, квартиры, мебель, произведения искусства, книги, инструменты и т. п.
§ 38. Рефлексия над актами. Имманентные и трансцендентные восприятия
Прибавим, кроме того, и следующее: живя в cogito, мы самой cogitatio не обладаем как интенциональным объектом, — однако она всякий миг готова стать таковым, от ее сущности неотделима принципиальная возможность рефлективного поворота взгляда, причем, естественно, в форме новой cogitatio, какая будет направляться на нее по способу попросту схватывающей. Иными словами, всякая когитация может становиться предметом так называемого «внутреннего восприятия», а в дальнейшем и объектом рефлективного оценивания, одобрения или неодобрения и т. д. То же самое, соответственно модифицированным образом, верно и о действительных актах в смысле импрессий, и об актах, какие мы сознаем «в» фантазии, «в» воспоминании или же «во» вчувствовании, разумея чужие акты и задним числом живя ими. Мы можем рефлектировать «в» воспоминании, вчувствовании и т. д., обращая сознаваемые «в» них акты в объекты наших схватываний и основываемых на таковых выражающих наше отношение актов, во всевозможных различных модификациях их.
Присоединим сюда же и различение восприятий, или же актов вообще, трансцендентальных и имманентных. Мы будем избегать говорить о восприятии внешнем и внутреннем, чему мешают серьезные сомнения. Мы объясним это следующим.
Под имманентно направленными актами, а, говоря более обще, под имманентно сопрягаемыми интенциональными переживаниями мы разумеем те, к сущности каких принадлежит, что их интенциональные предметы, если таковые вообще существуют, принадлежат к тому же потоку переживаний, что и они сами. Следовательно, таковое имеет место всюду, где акт сопрягается с актом (одна cogitatio с другой) того же самого Я, или же акт — с чувственными данными того же самого Я и т. д. Сознание и его объект образуют индивидуальное единство, устанавливаемое исключительно через переживания.
Трансцендентально направленные — это те интенциональные переживания в отношении каких таковое не имеет места; таковы, к примеру, все акты, направляемые на сущности или на интенциональные переживания других Я с их потоками переживаний; равным образом и все акты, направляемые на вещи, на реальности вообще, что еще обнаружится в дальнейшем.
В случае имманентно направляемого или, говоря короче, восприятия имманентного (так называемого «внутреннего»), восприятие и воспринятое образуют, согласно своей сущности, неопосредуемое единство, единство одной-единственной конкретной cogitatio. Тут восприятие таким образом таит свой объект в себе, что обособить таковой от него можно лишь абстрагируя и лишь в качестве сущностно несамостоятельного. Если же воспринимаемое — интенциональное переживание, как когда мы рефлектируем живое убеждение (например, высказывая следующее: я убежден, что…), тогда перед нами взаимовхождение двух интенциональных переживаний, из которых по меньшей мере высшее несамостоятельно и не просто фундировано в низшем, но и интенционально обращено к нему.
Такой вид реальной «включенности» (это, собственно, только образ) — характерная черта имманентного восприятия и тех позиций, какие фундируются в нем; она отсутствует в большинстве иных случаев, когда имманентно сопрягаются интенциональные переживания. Так, к примеру, она отсутствует уже в случае воспоминаний о воспоминаниях. Воспоминаемое нами былое воспоминание принадлежит к нашему теперешнему воспоминанию не как реальная составная его конкретного единства. По своей собственной полной сущности теперешнее воспоминание могло бы быть и тогда, когда былого воспоминания по правде вовсе бы и не было, между тем как последнее, если оно действительно было, необходимо принадлежит вместе с первым к одному и тому же никогда не прерывавшемуся потоку переживаний, опосредующему как то, так и другое непрерывным рядом всевозможных конкреций переживания. Совершенно иначе дело, очевидно, обстоит в этом отношении с трансцендентными восприятиями и прочими трансцендентно сопрягаемыми интенциональными переживаниями. Восприятие вещи в своем реальном составе не только не содержит в себе самую вещь, оно даже лишено и всякого сущностного единства с нею, естественно, предполагая существование таковой. То единство, какое определяется лишь чисто собственной сущностью самих переживаний, — это исключительно единство потока переживаний, или, что то же самое, переживание может соединяться в целое лишь с переживаниями, а совокупная сущность такого целого обнимает собственные сущности этих переживаний и фундируется в них. Это положение будет еще проясняться в дальнейшем и обретет тогда все свое великое значение.
§ 39. Сознание и естественная действительность. «Наивный» человек с его постижением
Все эти обретенные нами сущностные характеристики переживания и сознания — необходимые предварительные ступени к достижению постоянно направляющей нас цели, а именно к обретению сущности того «чистого» сознания, каким должно определиться феноменологическое поле. Мы рассуждали эйдетически, однако единичные частности сущностей «переживание», «поток переживаний», а также и единичные частности «сознания» в любом смысле принадлежали к естественному миру в качестве реально происходящего. Мы ведь не расставались с почвой естественной установки. Индивидуальное сознание двояким образом сплетено с естественным миром — это сознание какого-либо человека или животного и это — по меньшей мере в значительном числе своих обособлений — сознание этого мира. Но что же может означать тогда, ввиду такой сплетенности с реальным миром, то, что у сознания — «собственная» сущность, оно образует с иным сознанием замкнутую в себе самой, определяемую исключительно этими собственными сущностями взаимосвязь, взаимосвязь потока сознания? Вопрос — поскольку сознание мы можем разуметь здесь в сколь угодно широком, в конечном итоге покрывающемся понятием переживания смысла — касается собственносущности потока переживаний и всех его компонентов. В какой мере первым делом материальный мир должен быть чем-то принципиально инородным, исключаемым из собственносущности переживаний'! И если так, если материальный мир есть — в отношении всякого сознания и его собственносущности — «чужое», «инобытие», то как может сплетаться с ним сознание — с ним и, стало быть, со всем чуждым сознанию миром? Ибо ведь не трудно убедиться, что материальный мир — не какой-то случайный кусок естественного мира, а его фундаментальный слой, с каким сущностно сопрягается любое иное реальное бытие. Чего ему еще недостает, так это души — людей и животных, новое же, что приносят с собой этим последние, — это в первую очередь их «переживания», сопрягающие их, по мере сознания, с их окружающим миром. При этом сознание и вещность — связное целое: они связываются в отдельных психофизических единствах, которые мы именуем «animalia» — «живыми», — а на самом верху они соединены реальным единством целого мира. Может ли единство целого быть единым иначе, кроме как через собственную сущность его частей — какие тем самым должны же обладать некой сущностной общностью, вместо принципиальной гетерогенности?
Чтобы достичь тут ясности, обратимся к тому последнему истоку, из какого черпает пищу для себя генеральный тезис мира, осуществляемый мною в естественной установке, — он-то ведь и делает возможным то, что я, по мере сознания, обретаю, как существующий напротив меня, сущий здесь мир вещей, приписываю себе в этом мире тело и могу вписывать сам себя в этот мир. Очевидно, что этот последний исток — чувственный опыт. Однако для наших целей достаточно рассмотреть чувственное восприятие, — оно среди всех составляющих опыт актов в известном хорошем смысле играет роль праисконного опыта, из которого все прочие доставляющие опыт акты почерпают главную часть своей фундирующей силы. Во всяком воспринимающем сознании есть то особенное, что оно есть сознание живого телесного самоприсутствия индивидуального объекта, каковой в чисто логическом смысле индивид или же логико-категориальная модификация такового.[46] В нашем случае — в случае чувственного, или четче, вещного восприятия, логический индивид — это вещь; и будет достаточно, если мы будем обходиться с восприятием вещи как с представителем всех остальных восприятий (восприятий свойств, процессов и т. п.).
Естественная бодрствующая жизнь нашего Я — это постоянное актуальное или неактуальное восприятие. Непрестанно и мир вещей, а в нем наше тело суть здесь, по мере восприятия. Как же вычленяется и как может вычленяться отсюда само сознание — само сознание как конкретное бытие в себе, как — сознаваемое в нем, воспринимаемое бытие в качестве того, что «напротив» сознания, и в качестве того, что «в себе и для себя»?
Ближайшим образом и первым делом я медитирую как «наивный» человек. Я вижу и постигаю саму вещь в ее живой телесности. Правда, иной раз я обманываюсь, причем не только в отношении воспринятых свойств, но и в отношении самого существования вещей здесь. Я уступаю иллюзии или галлюцинации. Тогда восприятие — не «подлинно». Если же однако оно подлинно, а значит, что оно «подтверждается» в актуальной взаимосвязи опыта, либо же при содействии корректного опытного мышления, то тогда воспринятая вещь действительно есть, тогда она действительно дана в восприятии сама, и притом в живой телесности. При этом само воспринимание, — рассматриваемое просто как сознание и отвлекаясь при этом от тела и его органов — есть нечто лишенное сущности в себе, простое глазение пустого «Я» на сам объект, глазение, какое замечательным образом соприкасается с объектом.
§ 40. «Первичные» и «вторичные» качества. Вещь, данная в своей живой телесности — «простое явление»«физически истинного»
Если я, как «наивный человек» и уступил своей наклонности, плести и плести подобные рефлексии, будучи «обманут чувственностью», то, как «человек науки», я и вспомню затем об известном различении вторичных и первичных качеств, согласно каковому специфически-чувственные качества — «просто субъективны» и только лишь качества геометрически-физические — «объективны». Вещная краска, вещный тон, запах и вкус вещи и т. п., сколь бы «живо телесно», как принадлежность ее сущности, ни являлось все это в вещи, — это не она сама и не действительно то самое, в качестве чего все это здесь является, а только простой «знак» известных первичных качеств. Если же я вспомню теперь об известных физических учениях, то я сразу же увижу, что подобные почитаемые столь многими положения никак не могут разуметься в буквальном смысле — так, как если бы только специфически-чувственные качества воспринимаемой вещи были простым явлением; ведь это означало бы, что после удаления таковых оставшиеся «первичные» качества стали бы принадлежать вещи, существующей в ее объективной истине, наряду с теми остальными ее качествами, какие вообще не достигали явления. Если все разуметь так, то справедливо старое возражение Беркли — протяженность, это сущностное ядро всяческой телесности и всех первичных качеств, немыслимо без качеств вторичных. Напротив: все сущностное наполнение воспринимаемой вещи, следовательно, вся находящаяся здесь во всей своей живой телесности вещь со всеми качествами ее, со всеми когда-либо становившимися доступными восприятию качествами есть «простое явление», а «истинная вещь» — это вещь физической науки. Итак, если последняя определяет данную вещь исключительно через такие понятия, как атом, ион, энергии и т. д., — во всяком случае как заполняющие пространство процессы, единственной характеристикой которых служат математические выражения, то они подразумевает при этом нечто трансцендентное в отношении всего совокупного находящегося здесь во всей своей живой телесности вещного содержания. Она не может подразумевать даже и вещь как пребывающую в естественном пространстве чувств; иными словами, физическое пространство науки не может быть пространством мира живых телесных восприятий, ибо иначе в отношении ее сохраняло бы свою справедливость возражение Беркли.
Итак, «истинное бытие» определено всецело и принципиально иначе, нежели данное в восприятии как живая и вещная действительность — та, что дается исключительно с чувственными определенностями, к каким вместе с прочим принадлежат и все определенности чувственного пространства. Собственно постигаемая в опыте вещь дает лишь простое «вот это», пустое х, становящееся носителем математических определений и относящихся к ним математических формул, — и не в пространстве восприятия, но в «объективном пространстве», простым «знаком» которого выступает пространство первое, в чисто символически представимом Евклидовом многообразии трех измерений.
Примем все это. Пусть все данное в восприятии в своей живой телесности будет, как тут учат, «простым явлением», пусть оно будет «просто субъективно» — и все же оно не пустая кажимость. Ведь все же данное в восприятии служит строгому естественнонаучному методу значимым определением того трансцендентного бытия, «знаком» которого это данное выступает, — и определение это всякий может повторить и подвергнуть проверке с усмотрением. Правда, чувственное наполнение данного в восприятии всегда принимается за нечто иное, нежели истинная вещь, сущая как таковая, однако непрестанно же и субстрат, носитель (пустое х) воспринимаемых определенностей, считается тем, что определяется научным методом посредством предикатов физики. И в обратном направлении по этому же самому любое физическое познание служит показателем того, как будет протекать возможный опыт со всеми обретаемыми в нем чувственными вещами и чувственно-вещными событиями. Итак, оно служит для того, чтобы ориентироваться в мире актуального опыта, в каком живем и действуем все мы.
§ 41. Реальная наличность восприятия и ее трансцендентный объект
Что же принадлежит теперь, если предпослать все сказанное выше, к конкретному реальному составу самого восприятия как cogitatio? Не вещь физики, которая, что разумеется само собой, всецело трансцендентна — трансцендентна по отношению ко всему совокупному «миру явлений». Однако, хотя последний и именуется «просто субъективным», и он, он тоже, не принадлежит, со всеми отдельными вещами и со всем, что встречается в нем, к реальному составу восприятия, и он тоже «трансцендентен» в отношении такового, Поразмыслим об этом конкретнее. Мы только что говорили о трансценденции вещи — правда, бегло. Теперь же пора обрести более глубокий взгляд на тот способ, каким располагается трансцендентное в отношении сознания — в отношении сознания, какое сознает, как должно разуметь ему эту взаимосопряженность их друг с другом, которая не обходится без своих загадок.
Итак, исключим и всю физику, и весь домен теоретического мышления. Будем придерживаться рамок простого созерцания и принадлежных к нему синтезов, — восприятию и подобает находиться внутри таких рамок. Тогда очевидно, что созерцание и созерцаемое, восприятие и вещь восприятия — хотя в своей сущности и взаимосопряжены друг с другом, однако с принципиальной необходимостью не едины и не связаны реально и по своей сущности друг с другом.
Будем исходить из примера. Я непрестанно вижу вот этот стол. Я хожу вокруг него, все время меняю свое положение в пространстве, — при этом я непрерывно обладаю сознанием живого вещественного присутствия здесь вот этого одного и того же стола, причем того же самого, остающегося в самом себе совершенно неизменным. Однако восприятие стола — постоянно меняющееся, оно есть непрерывность переменчивых восприятий. Закрой глаза. Все прочие мои чувства никак не сопряжены со столом. Теперь я его вовсе не воспринимаю. Открою глаза — и у меня снова восприятие стола. То же восприятие? Будем точны. Повторяясь, восприятие ни при каких обстоятельствах не остается, как индивидуальное, тем же самым. Лишь стол — тот же самый; как тождественный, он сознаваем синтетическим сознанием, какое связывает новое восприятие с воспоминанием. Может быть воспринятой и та вещь, которая не воспринималась и не была даже потенциально осознаваемой (согласно ранее описанному[47] способу неактуальности); она может быть и не меняющейся. Само же восприятие, будучи тем, что оно есть, пребывает в постоянном потоке сознания и само есть постоянный поток: беспрерывно «сейчас» восприятия отходит в примыкающее к нему сознание вот только что прошедшего и одновременно с тем уже вспыхивает новое «сейчас» и т. д. Как и сама воспринятая вещь вообще, так и все и всякое, что принадлежит его, — части, стороны, моменты, — согласно повсюду одинаковым основаниям восприятия необходимо трансцендентны — все равно, именуются ли они первичными или вторичными качествами. Цвет увиденной вещи — это принципиально не реальный момент сознания цвета, — он является. Однако пока он является, явление, как то подтверждает опыт, может и должно непрерывно меняться. Один и тот же цвет является «в» непрерывных многообразиях цветовых нюансов. Подобное верно относительно чувственного качества, а также и относительно любого пространственного облика. Один и тот же облик (в качестве одного и того телесно данного) непрерывно является все «новым и новым образом», во все новых проекциях своего облика. Это необходимое положение вещей, и оно, очевидно, отличается более общей значимостью. Ибо лишь для простоты мы рассматривали случай, когда являющаяся вещь оставалась в восприятии неизменной. Перенос на случаи возможных изменений самоочевиден.
В сущностной же необходимости к «всестороннему», непрерывно самоподтверждающемуся в себе самом как единому опытному сознанию одной и той же вещи принадлежна многогранная система непрерывных многообразий явлений и проекций, в каковых многообразиях, в определенных непрерывностях, проецируются все воспринимаемые предметные моменты, каким присущ характер живой телесной самоданности. Каждой определенности присуща своя система проецирования-нюансирования, и относительно каждой, как и относительно целой вещи, верно, что для схватывающего, синтетически объединяющего воспоминание и новое восприятие сознания она есть здесь как та же самая — невзирая на перерывы в протекании непрерывно-актуального восприятия.
Теперь мы незамедлительно и увидим, что же действительно и несомненно принадлежит к реальной наличности конкретных интенциональных переживания, которые называются восприятиями вещей. В то время как вещь — это интенциональное единство: то, что сознается как тождественно-единое в непрерывно упорядочиваемом протекании переходящих друг в друга многообразий восприятия, — эти последние, сами многообразия восприятия постоянно обладают своим определенным дескриптивным составом, какой, по мере сущности, придан такому единству. Так, к примеру, к каждой фазе восприятия необходимо принадлежно определенное наполнение цветовыми нюансами, проекциями облика и т. п. Последние относят к «данным ощущения», к данным особого региона с определенными родами, — в пределах каждого такого рода данные сходятся в конкретные единства переживания, в единства sui generis (в «поля» ощущения), а кроме того, такие данные — способом, какой сейчас не приходится описывать более конкретно, — одушевляются во всяком конкретном единстве восприятия посредством «постижений» и так, будучи одушевлены, исполняют свою «репрезентирующую функцию», или же вкупе с таковой составляют то, что мы называем «явлением» цвета, облика и т. д. Все это, сплетаясь еще и с другими характеристиками, исчерпывает реальный состав восприятия — восприятие, какое есть сознание одной и той же вещи, в силу того схождения в единство постигнутости, основывающегося на сущности названных способов постижений, а также и в силу возможности синтеза отождествления, основывающейся в сущности подобных единств.
Необходимо все время четко видеть, что те данные ощущения, какие исполняют функцию нюансирования цвета, нюансирования фактуры, проецирования облика и т. п. — функцию «репрезентирования», самым принципиальным образом отличены от цвета как такого, фактуры как таковой, облика как такового, короче говоря — от любых разновидностей моментов вещи. Нюанс — хотя ему немедленно находится имя — относится к принципиально иному роду, нежели нюансируемое. Нюанс — это переживание. Переживание же возможно лишь как переживание, а не как нечто пространственное. А нюансируемое принципиально возможно лишь как пространственное (оно в сущности своей пространственно), но невозможно как переживание. В особенности же противосмысленно считать проекцию облика (например, треугольника) чем-то пространственным, чем-то возможным в пространстве, и тот, кто так поступает, смешивает таковую с нюансируемым-проецируемым — т. е. являющимся обликом. Как же в дальнейшем с систематической полнотой размежевать различные реальные моменты восприятия как cogitatio (в противоположность моментам трансцендентного по отношению к таковой cogitatum), характеризуя их соответственно к их отчасти весьма затруднительным различиям, так это тема больших исследований.
§ 42. Бытие как сознание и бытие как реальность. Принципиальное различие способов созерцания
Итогом проведенных нами рассуждений стала трансцендентность вещи по отношению к ее восприятию, а в дальнейшем в отношении любого сопряженного с нею сознания вообще, — не просто в том смысле, что вещь нельзя фактически обрести в качестве реальной составной сознания, но это положение вещей в целом усматривается эйдетически: в абсолютно безусловной всеобщности, или же необходимости вещь не может быть дана реально-имманентно ни в каком возможном восприятии, ни в каком возможном сознании вообще. Таким образом, выступает основополагающее сущностное различие между бытием как переживанием и бытием как вещью. Принципиально к региональной сущности «переживание» (в особенности же к региональной спецификации cogitatio) принадлежит то, что оно воспринимается в имманентном восприятии, к сущности же пространственно-вещного, что оно не воспринимается таким образом. Если от сущности любого дающего вещь созерцания — как учит более глубокий анализ — неотделимо то, что вместе с вещно-данным могут схватываться, при соответствующем повороте взгляда, иные аналогичные вещи данности — по способу, скажем, отделимых слоев или же нижних ступеней, все «вещи зрения» в их различных обособлениях, — то и о них верно точно все то же самое: они принципиально трансцендентны.
Прежде чем прослеживать эту противоположность имманентности и трансцендентности несколько далее, включим сюда следующее замечание. Если отвлечься от восприятия, то находится немало разных интенциональных переживаний, которые по их сущности исключают реальную имманентность их интенциональных объектов, какие бы то объекты ни были. Так, к примеру, это верно относительно всякого наглядного представления — относительно воспоминания, относительно вчувствующего схватывания чужого сознания и т. д. Естественно, мы не должны смешивать такую трансцендентность с той, какая занимает нас сейчас. К вещи как таковой, ко всякой реальности в подлинном смысле — таковой нам предстоит еще прояснять и фиксировать — по самой сути и вполне «принципиально»[48] принадлежит неспособность быть имманентно воспринимаемой, а тем самым быть вообще обретаемой во взаимосвязи переживания. Так что вещь сама, вещь вообще называется трансцендентной. В этом как раз и сказывается принципиальная различность способов бытия, какая вообще есть на свете, — различенность сознания и бытия.
К такой противоположности имманентного и трансцендентного принадлежит, далее, — как уже выяснилось в нашем изложении, — принципиальное различие вида данности. Восприятие имманентное и трансцендентное различаются не вообще тем, что интенциональный предмет, находящийся здесь как живая телесная самость, в одном случае реально имманентен восприятию, в другом же нет, — они различаются, скорее, способами данности, каковые в своей сущностной различенности mutatis mutandis переходят затем во все модификации восприятия — во все модификации, дающие его наглядное представление, — и во все параллельные созерцания воспоминания и созерцания фантазии. Вещь мы воспринимаем благодаря тому, что она «нюансируется» — «проецируется» по всем своим определенностям, какие только «действительно» и по-настоящему «попадают» в восприятие. Переживание же не нюансируется. Что «наше» восприятие может достигать самих вещей не иначе, как через проекции-нюансы таковых, — это не случайное своенравие вещи и не случайное обстоятельство «нашей человеческой конституции». Напротив, очевидно — и почерпается в самой сущности пространственно-вещного, притом даже и в самом широком, обнимающем все «вещи зрения» смысле, — что так устроенное бытие принципиально может быть дано в восприятиях лишь посредством нюансирования; равным образом в самой сущности cogitationes, переживаний вообще, почерпается то, что они исключают что-либо подобное. Для сущего в регионе этих последних, говоря иначе, вообще не имеет никакого смысла ни «явление», ни репрезентация через посредство нюансов-проекций. Где нет пространственного бытия, там не имеет смысла и говорить о видении с различных точек зрения, со сменой ориентации, с различных сторон, какие тут предоставлялись бы, в различной перспективе, согласно различным явлениям проекциям и нюансам. С другой же стороны сущностная необходимость — ее следует постичь как таковую с аподиктическим усмотрением — заключается в том, что пространственное бытие вообще воспринимаемо Я — любым возможным Я — лишь согласно указанному сейчас способу данности. Такое бытие может «являться» только в известной «ориентации», — и таковая с необходимостью предписывает систематические возможности все новых и новых ориентации, каждой из которых в свою очередь соответствует определенный «способ явления», что мы выражаем, скажем, как данность с такой-то и такой-то «стороны» и т. д. Если же, говоря о способах явления, мы разумеем свои слова в смысле способов переживания (как явствует из только что осуществленного описания, такая речь может обладать и коррелятивным оптическим смыслом), то тогда это означает: к сущности своеобразно специфически построяемых разновидностей переживания, конкретнее же — специфически построяемых конкретных восприятий принадлежит то, что интенциональное в них сознается как пространственная вещь; от сущности таковых переживаний неотделима идеальная возможность перехода в определенным образом упорядочиваемые непрерывные многообразия восприятия, какие могут продолжаться и продолжаться, следовательно никогда не бывают завершены. В сущностном построении подобных многообразий заключено то, что они устанавливают единство единосогласно дающего сознания, и притом сознания одной вещи восприятия, являющейся все полнее, все совершеннее, со все новых и новых сторон, со все более богатыми определениями. С другой же стороны пространственная вещь — не что иное, как интенциональное единство, которое принципиально может быть дано только как единство таких способов явления.
§ 43. Разъяснение принципиального заблуждения
Полагать, что восприятия (и, соответствующим способом, любое иное созерцание вещи) не достигают самой вещи, — принципиальная ошибка. Вещь будто бы не дана в себе, в своем бытии в себе. От любого сущего будто бы неотделима принципиальная возможность попросту созерцать таковое и, в особенности, воспринимать его в адекватном восприятии, дающем таковое помимо всякого опосредования «явлениями». Бог, субъект абсолютно совершенного познания, а тем самым и любых возможных адекватных восприятий, будто бы естественно обладает таковыми — в чем отказано нам, существам конечным, — относительно вещи в себе самой.
Однако взгляд такой противосмыслен. В нем ведь заключено следующее: между трансцендентным и имманентным нет сущностного различия, в том божественном созерцании, какое постулируется, пространственная вещь есть реальная конституента, т. е. она сама есть переживание, сопринадлежное к божественном потоку сознания и переживаний. Так дают увлечь себя ложной мыслью, будто трансцендентность вещи — это трансцендентность образа или знака. Нередко со всем рвением опровергают теорию образов — зато подменяют ее теорией знаков. Однако и та, и другая — не только неверны, они и противосмысленны. Пространственная вещь, какую мы видим, — это, при всей своей трансцендентности, воспринимаемое, данное по мере сознания во всей своей живой телесности. Отнюдь вместо такового нам не дается некий образ или некий знак. Нет, не надо на место восприятия подсовывать некое сознание знаков или же образов.
Есть и непреодолимое сущностное различие между восприятием, с одной стороны, и образно-символическим, или сигнитивно-символическим представлением, с другой. При этих последних разновидностях представлений мы созерцаем нечто в сознании, что оно отражает нечто иное или же сигнитивно указывает на таковое; обладая в поле своего созерцания одним, мы направляемся не на это одно, а через посредство фундируемого постижения на нечто иное — отображаемое, обозначаемое. В восприятии же нет и речи ни о чем подобном, как нет о нем речи и в простом воспоминании и в простой фантазии.
В актах непосредственного созерцания мы созерцаем некую «самость»; на постигнутости таковой вовсе не начинают выстраиваться постигнутости высшей ступени, так что, следовательно, не сознается ничего такого, для чего созерцаемое могло бы выступать в функции «знака» или «образа». Потому-то непосредственно созерцаемое и получает наименование «самости». В восприятии таковое еще специфически характеризуется как «живое телесное» — в противоположность модифицируемому характеру всего того, что «грезится», того, что «наглядно представляется» в воспоминании или в вольной фантазии.[49] Обретаешься в противосмысленном, как только обыкновенным образом начинаешь спутывать эти существенно различно построенные способы представления и, соответственно тому, коррелятивные им данности, а именно, простое наглядное представление с символизацией (все равно — образной или сигнификативной), и тем более — простое восприятие с теми двумя. Восприятие вещи не переводит в наглядность нечто не присутствующее наглядно, как если бы восприятие было воспоминанием или фантазией, — оно постигает самость в ее живой, телесной наличности. Так поступает восприятие согласно своему собственному смыслу, и ждать от него чего-либо иного означает нарушать его смысл. А если же речь к тому же, как в нашем случае, идет о восприятии вещи, к сущности восприятия принадлежит то, что оно — восприятие нюансирующее, и, коррелятивно, к смыслу его интенционального предмета, вещи как вещи в нем данной, принадлежит то, что она принципиально воспринимаема лишь посредством так устроенных, т. е. посредством нюансирующих-проецирующих восприятий.
§ 44. Исключительно феноменальное бытие трансцендентного, абсолютное бытие имманентного
Кроме того, от восприятия вещи, — и в том тоже сущностная необходимость, — неотделима известная неадекватность. Вещь принципиально может быть дана лишь «односторонне», а это значит — не только неполно, не только несовершенно (в каком бы то ни было смысле), но именно так, как предписывает репрезентация посредством нюансирования-проецирования. Вещь с необходимостью дается лишь «способами явления», с необходимостью ядро «действительно репрезентируемого» окружено при этом, по мере постигнутости, горизонтом не собственно данной «соприданности» и более или менее туманной неопределенности. Смысл же неопределенности вновь предначертан общим смыслом вещно-воспринятого вообще и как такового, или же, иначе, всеобщей сущностью такого типа восприятия — того, какое мы зовем восприятием вещи. Неопределенность с необходимостью означает ведь определимость в твердо предписываемом стиле. Она указывает наперед — указывает на возможные многообразия восприятия, каковые, непрерывно переходя друг в друга, сходятся в единство восприятия, в каком непрерывно длящаяся вещь показывает все новые и новые (или же — с возвращением назад — прежние, старые) свои «стороны» во все новых и новых рядах нюансирования-проецирования. При этом постепенно достигают соей действительной репрезентации и несобственно схватываемые вещные моменты, тем самым они достигают действительной данности, неопределенности определяются и конкретизируются, чтобы наконец преобразовать самих себя в ясные данности; в обратном же направлении ясное, правда, вновь переходит в неясное, репрезентируемое — и т. д. Итак, к неустранимой сущности корреляции «вещь и восприятие вещи» принадлежит такое продолжающееся in infinitum несовершенство. Если смысл вещи определяется данностями ее восприятия (и чем бы еще мог бы он определяться?), то он требует таких несовершенств, с необходимостью отсылает нас к непрерывности единых взаимосвязей возможных восприятий, какие, начиная с какого-либо осуществленного, простираются затем в бесконечно многих направлениях систематически твердо упорядоченным образом, а именно — следуя в каждом из них в бесконечное, будучи непрестанно пронизываемы единством смысла. Принципиально, сколь бы велики ни были подобные континуумы актуальных восприятий одной и той же вещи, какие мы пробежали, все равно остается еще горизонт неопределенности — неопределенности, подлежащей определению, сколь бы далеко ни продвинулись мы в своем опыте. Ни один бог ни способен что-либо переменить в этом, — как и в том, что 1 + 2 = 3, или в том, что существует какая-либо иная сущностная истина.
В общем и целом уже теперь видно, что трансцендентное бытие вообще, какому бы роду оно ни принадлежало, если разуметь его как бытие для Я, может достигнуть данности лишь аналогично вещи, следовательно, через посредство явлений. Иначе оно было бы бытием, какое могло бы становиться и имманентным; однако все имманентно воспринимаемое и воспринимаемо исключительно имманентно. И только совершая указанные, ныне уже разъясненные подмены, можно считать возможным, что одно и то же может быть дано — в одном случае посредством явлений, в форме трансцендентного восприятия, в другом же — через посредство имманентного восприятия.
Однако сейчас мы первым делом усилим контраст специально между вещью и переживанием еще и с другой стороны. Переживание, говорили мы, не репрезентируется. В этом заключено то, что восприятие переживания есть попросту высматривание чего-то такого, что дано (или должно быть дано) в восприятии как «абсолютное», а не как тождественное в способах явления через нюансирование-проецирование. Все развернутое нами относительно данности вещи теряет тут всякий свой смысл, и это должно стать ясным во всем отдельном. Переживание чувства не нюансируется. Если я взираю на таковое, то я имею нечто абсолютное, у него нет сторон, которыми могли бы репрезентироваться то так, то так. Если я стану думать о таком, то я могу думать и истинное, и ложное, однако то, что находится здесь, в созерцающем взгляде, пребывает здесь абсолютно, со всеми своими качествами, со своей интенсивностью и т. д., напротив, тон скрипки при своей объективной тождественности дан нюансированно, у него переменчивые способы явления. Таковые отличаются друг от друга в зависимости от того, стану ли я ближе к скрипке или же отойду подальше, нахожусь ли я в самом концертном зале или стою у его закрытых дверей и т. д. И нет такого способа явления, какой мог бы притязать на значимость абсолютно данного, хотя в рамках моих практических интересов какой-то определенный способ может иметь преимущество, как способ нормальный, — находясь в концертном зале, на «верном» месте, я слышу «сам» тон — так, как он «действительно» звучит. Так мы и обо всем вещном в визуальном отношении говорим, что оно выглядит нормально; о цвете, облике, обо всей вещи, которую мы видим при нормальном дневном освещении и при нормальной ориентации ее относительно нас, мы говорим — так та вещь действительно выглядит, вот ее настоящий цвет и т. п. Однако все подобное указывает лишь на своего рода вторичную объективацию в рамках всей совокупной объективации вещи, — так эта вещь действительно выглядит, вот ее настоящий цвет и т. п. — в чем не трудно и убедиться. Ведь вполне ясно, что, отрежь мы только все прочие многообразия явления и нашу сущностную сопряженность с таковыми и удерживай мы только «нормальный» способ явления, и от смысла данности вещи не осталось бы решительно ничего.
Итак, мы констатируем: в то время как к сущности данности посредством явлений принадлежит то, что ни одно из них не дает вещь «абсолютно», а только в односторонней презентации, — к сущности имманентной данности принадлежит то, что она дает абсолютное — то, что вообще не может презентироваться отдельными сторонами или нюансироваться. Ведь очевидно, что сами же нюансирующие содержания ощущений — те, что реально принадлежат к переживанию восприятия вещи, правда, функционируют как нюансы чего-то, однако сами по себе они уже не даются через посредство нюансирований.
Следует обратить внимание еще и на следующее различие. Никакое переживание тоже никогда не воспринимается полностью, в полноте своего единства оно не схватываемо адекватно. По своей сущности оно есть поток, в русле которого, направляя на него наш рефлективный взгляд, мы можем плыть, начиная с точки «сейчас», тогда как пройденные этапы уже навсегда потеряны для восприятия. Сознанием непосредственно протекшего мы обладаем лишь в форме ретенции, либо же в форме ретроспективного воспоминания. И наконец весь мой поток переживаний есть такое единство переживания, относительно которого принципиально невозможно полное — «плывущее вместе с ним» — схватывание восприятия. Но эта неполнота — или это «несовершенство» — они принадлежат к сущности восприятия переживания — есть нечто принципиально иное: нежели та неполнота, что заключена в сущности «трансцендентного» восприятия, восприятия через посредство нюансирующей презентации, через посредство чего-либо подобного явлению.
Все способы данности и различия между таковыми, какие обнаруживаем мы в сфере восприятия, переходят в модификации репродуцирования, но только переходят модифицирование. Вещно-наглядное представления делают наглядно-наличным через посредство презентаций, в которых репродуктивно модифицируются сами же нюансирования, способы постигнутости и все феномены в целом — во всем, насквозь. И что касается переживаний, то мы тоже располагаем их репродукциями, актами репродуктивного их созерцания, по способу их наглядного представления и по способу рефлексии в таком наглядном представлении. Естественно, тут мы не находим и следа репродуктивных нюансирований.
Присоединим к сказанному еще и следующее сопоставление по контрасту. К сущности наглядных представлений принадлежат различия по степени — степень ясности и, соответственно, неясности относительна. Очевидно то, что и это различие в степени совершенства не имеет ничего общего с тем, какое сопряжено с данностями, доставляемыми через посредство нюансирующих явлений. Более или менее ясное представление не нюансируется через посредство относительной по своей степени ясности, не нюансируется в том определяющем для нашей терминологии смысле, согласно которому любой пространственный облик, любое покрывающее его поверхность качество и, таким образом, вся «являющаяся вещь как таковая» многообразно нюансируется — независимо от того, ясно или не ясно будет само представление. Репродуктивное представление вещи само обладает различными возможными степенями ясности, причем для любого вида нюансирования. Сразу видно — речь идет о различиях, расположенных в разных измерениях. Очевидно и то, что различия, какие устанавливаем мы с сфере восприятия, относя их к рубрикам «ясное» и «неясное», «отчетливое» и «нечеткое» видение, — что все они хотя и являют известную аналогию только что обсуждавшимся различиям в степени ясности, поскольку и в том и в другом случае речь идет о нарастании и ослаблении полноты данности представляемого, но что все же и эти различия принадлежат различным измерениям.
§ 45. Невоспринятое переживание, невоспринятая реальность
Если углубиться в такое положение дел, то становится вразумительным и следующее сущностное различие, соответствующее тому, как соотносятся между собой переживания и вещи в отношении их воспринимаемости.
К бытийному виду переживания принадлежит то, что на всякое действительное переживание — живое настоящее из самого первоисточника — может, с полной непосредственностью, направляться взгляд высматривающего восприятия. Таковое совершается в форме «рефлексии», которая отличается тем замечательным свойством, что все, что схватывается в ней по мере восприятия, принципиально характеризуется в качестве того, что не просто есть и не просто длится в пределах воспринимающего взгляда, но уже было, прежде чем этот взгляд был обращен к нему. «Все переживания сознаются», — относительно интенциональных переживаний в особенности это означает, что они — не просто сознавание чего-либо и, как такое сознавание, не просто наличны, когда они выступают как объекты рефлектирующего сознания, но что они, даже и не будучи рефлектируемы, уже наличествуют здесь как «задний план», или «фон», а следовательно, принципиально готовы к тому, чтобы быть воспринимаемыми, — ближайшим образом и первым делом в смысле аналогичном тому, как вещи, пока они пребывают в нашем внешнем зрительном поле, не будучи принимаемы к сведению. Готовыми к восприятию таковые могут быть лишь постольку, поскольку они и как не принимаемые к сведению в известном смысле уже сознаются, а это, что касается вещей, означает — постольку, поскольку они являются. Не все вещи выполняют это требование — зрительно поле моего внимания, обнимающее все являющееся, не бесконечно. Однако, с другой стороны, и не-рефлектируемое переживание обязано исполнять известные условия готовности к восприятию, хотя совершенно и иным и сообразным с его сущностью способом. «Являться» ведь оно не может. Во всяком случае оно всякий раз исполняет эти требования просто самим способом своего бытия здесь, притом всякий раз для того Я, какому оно принадлежит, для того, чей чистый взгляд Я может «в» нем жить. Лишь только потому, что рефлексия и переживание обладают подобными своеобразными сущностными чертами, — на них мы сейчас лишь указываем в общем виде, — мы можем что-то знать о нерефлектируемых переживаниях, а, стало быть, и о самих рефлексиях. Само собой разумеется, что репродуктивные (и ретенциональные) модификации переживания обладают параллельной, но только соответственно модифицированной устроенностью.
Продолжим наше контрастное сопоставление. Мы видим: сам бытийный способ переживания таков, что оно принципиально доступно восприятию по способу рефлексии. И вещь тоже есть нечто принципиально доступное восприятию, и в восприятии она схватывается как вещь моего окружающего мира. Она принадлежит к этому миру и не будучи воспринимаема и, следовательно, для Я она и в таком случае здесь. Однако в общем и целом все-таки не так, чтобы взгляд простого принятия к сведению мог направляться на нее. Ведь мое фоновое поле, если разуметь его как поле потенциально доступное рассмотрению, обнимает лишь малую часть моего окружающего мира. «Это есть здесь» — эти слова, скорее, означают следующее: от актуальных восприятий с их действительно являющимся фоновым полем идут возможные, причем мотивируемые континуумом взаимосогласной непрерывности, ряды восприятий с их все новыми и новыми вещными полями (в качестве задних планов всего не принимаемого к сведению), каковые ряды и продолжаются до тех пор, пока не достигают тех взаимосвязей восприятия, в каких и достигла бы своего явления и схватывания соответствующая вещь. В сказанном принципиально ничего не изменится, если вместо одного-единственного Я мы примем некую множественность Я. Лишь с привлечением сюда возможного взаимопонимания мир моего опыта можно отождествлять с миром опыта других, а вместе с тем и обогатить его за счет избытков опыта других. Допускать такую трансценденцию, какая обходилась бы без описанного выше подключения через посредство взаимосогласных мотивационных взаимосвязей к моей соответственной сфере актуального восприятия, было бы совершенно безосновательно, — трансценденция, принципиально обходящаяся без такого подключения, — это нонсенс. Вот какова, следовательно, наличность всего того в вещном мире, что не воспринимается актуально, — таковая сущностно отлична от бытия переживания, от бытия принципиально сознаваемого.
§ 46. Несомненность имманентного — сомнительность трансцендентного восприятия
Из всего только что сказанного вытекают важные следствия. Любое имманентное восприятие с необходимостью ручается за существование его предмета. Если рефлектирующее схватывание направлено на мое переживание, то это значит, что я схватил абсолютную самость, бытие здесь которого в принципе не может быть подвергнуто отрицанию, т. е. принципиально невозможно усмотрение того, что его нет; противосмысленно считать возможным, чтобы так данное переживание по правде не было бы. Поток переживаний, а это мой поток, поток переживаний меня, мыслящего, — в сколь бы огромном объеме ни оставался он непонятным, в какой бы мере ни оставался он неизвестным в своих уже протекших и еще только будущих областях, — я, когда я гляжу на текущую вокруг жизнь с ее действительно настоящим и постигаю при этом себя как чистого субъекта этой жизни (что этим подразумевается, еще будет занимать нас особо в дальнейшем), говорю просто и с необходимостью: я есмь, эта жизнь есть, я живу: cogito.
От любого потока переживаний и от Я как такового неотъемлема принципиальная возможность обретать такую очевидность; каждый носит в себе как принципиальную возможность ручательства своего абсолютного существования здесь. Но разве не мыслимо то, так могут спросить нас, что такое-то Я обладает в своем потоке переживаний одними только фантазиями, что поток этот состоит только из одних измышляемых созерцаний? Такое Я обретало бы лишь фикции cogitationes, его рефлексии, при такой природе среды переживаний, были бы исключительно воображаемыми рефлексиями. — Однако это очевидная противосмысленность. То, что грезится, может быть фикцией, и только, но зато сама греза и само измышляющее сознание — это не вымысел, и от его сущности, как и от сущности любого переживания, неотделима возможность воспринимающей и схватывающей абсолютное существование здесь рефлексии. Та возможность, что любое чужое сознание, какое полагаю я в своем вчувствующем опыте, не существует, — отнюдь не противосмысленна. Но зато мое вчувствование и мое сознание вообще идут из самого первоисточника, они даны абсолютно — не только по своей эссенции, но и по своей экзистенции. Вот такое особо отмеченное, выделенное положение дел существует только в отношении Я и его потока переживаний в отношении к нему же самому, здесь, и только здесь, имеется имманентное восприятие, только здесь оно и должно иметься.
Напротив, как мы знаем, к сущности мира вещей принадлежит то, что ни одно восприятие, сколь бы совершенным оно ни было, не дает в своей области чего-либо абсолютного, а с этим сущностно связано иное — любой опыт, сколь бы далеко он ни простирался, всегда составляет открытой возможность того, что такое-то данное, несмотря на постоянное сознание его живого телесного самоприсутствия, все же не существует. Сущностный закон гласит: существование вещи не требуется данностью с необходимостью, — оно в известном отношении всегда случайно. Этим подразумевается следующее: всегда может быть так, что дальнейшее протекание опыта вынудит отказаться от того, что было положено по праву опыта. Тогда приходится задним числом говорить: это была только иллюзия, галлюцинация, связный сон, и только. Затем сюда привходит еще и то, что в таком кругу данностей в качестве постоянно открытой возможности имеется еще и такое — изменчивость постигнутости, обращение явления в иное, какое не совместить единогласно с первым, а вместе с тем и влияние, какое оказывают позднейшие опытные полагания на более ранние, в силу чего интенциональные предметы этих более поздних полаганий задним числом так сказать перестраиваются — вот сплошь происшествия, какие сущностно исключены в сфере переживания. В абсолютной сфере нет места чему-то спорному, кажимости, инаковости. Это сфера абсолютной позиции.
Так что теперь во всех отношениях становится ясно, что все, что есть для меня здесь в вещном мире, — это принципиально только прозумптивная действительность, что напротив того я сам, для кого она есть здесь (за вычетом того, что «мною» будет приписано к вещному миру), или же, иначе, актуальность моих переживаний есть абсолютная действительность, данная через безусловное и абсолютно неустранимое полагание.
Итак, тезису мира — мир «случаен» — противостоит тезис моего чистого Я, жизни моего Я, которая является «необходимой», абсолютно несомненной. Все вещное с его живой телесной данностью может и не быть, но не может быть и такого переживания, даваемого с живой телесностью, какого могло бы и не быть, — это сущностный закон, какой определяет и эту необходимость, и эту случайность.
Очевидно, бытийная необходимость соответствующего актуального переживания не становится еще от этого прямой сущностной необходимостью, т. е. это еще не чисто эйдетическое обособление некоего сущностного закона, — это необходимость факта, именуемая необходимостью потому, что здесь к факту причастен такой-то сущностный закон — здесь он причастен к его бытию как таковому. На сущности чистого Я вообще, на сущности переживания вообще основывается идеальная возможность рефлексии, обладающая сущностным характером очевидно неустранимого тезиса существования здесь.[50]
Только что проведенное рассуждение проясняет также, что немыслимы никакие почерпаемые из опытного наблюдения мира доказательства, которые с абсолютной несомненностью удостоверяли бы нас в существовании мира. Мир сомнителен не в том смысле, как если бы наличествовали разумные мотивы, которые что-то значили бы по сравнению с колоссальной силой единосогласных опытных постижений, но в том смысле, что сомнение мыслимо, мыслимо же оно потому, что возможность небытия — возможность принципиальная — никогда не исключена. Может быть так, что сколь угодно великую силу опыта постепенно станет перевешивать иное. В абсолютном бытии переживаний от этого не произойдет ни малейших изменений — даже более того: они тут всегда уже предпосылаются.
Тем самым наше рассуждение достигло некоторой кульминационной точки. Мы обрели те познания, в каких нуждаемся. В раскрывшихся перед нами сущностных взаимосвязях уже заключены наиважнейшие предпосылки выводов о принципиальной отделимости всего совокупного мира природы от домена сознания, бытийной сферы переживаний, какие намерены мы произвести, — выводы, в которых, в чем мы сможем убедиться, лишь получает, наконец, положенное ему по праву прежде не получившее своего развития ядро Декартовых рассуждений (направленных на совершенно иные цели). Правда, чтобы достичь наших конечных целей, у нас еще будет нужда в некоторых дополнениях, получить которые будет, впрочем, совсем не трудно. Пока же мы выводим следствия — в известным рамках ограниченной значимости.
Глава третья. Область чистого сознания
§ 47. Мир естества как коррелят сознания
Опираясь на итоги, полученные нами в последней главе, попробуем рассуждать следующим образом. Фактический ход всякого человеческого опыта таков, что он принуждает наш разум выходить за пределы вещей, какие даны наглядно (т. е. вещей картезианской imaginitio), и подкладывать под них некую «физическую истину». Однако ход, каким пошел бы опыт, мог бы быть и иным. И не только таким, как если бы человеческое развитие никогда не выводило нас за пределы донаучной ступени и впредь так никогда и не вывело нас за пределы таковой, — тогда у физического мира была бы своя истина, однако мы ничего бы о том не ведали. И не только таким (мог бы быть ход, каким пошел бы опыт), чтобы физический мир был иным, с иными законными установлениями, нежели те, что действуют на самом деле. Нет, мыслимо также и то, чтобы наш наглядный мир был самым последним миром, «за» которым вообще нет никакого физического мира, — в таком случае воспринимаемые вещи не способны определяться математически, физически, так что данности опыта исключают любую физику наподобие существующей у нас. Тогда взаимосвязи опыта были соответственно иными, по типу своему иными, нежели каковы они фактически, — иными постольку, поскольку отпадали бы мотивации опыта, основополагающие для образования физических понятий и суждений. Однако в основном и целом нам тогда, в рамках тех дающих наглядных созерцаний, какие мы подводим под рубрику «простого опыта» (восприятие, воспоминание и т. д.), могли бы, как и теперь, предъявляться «вещи» — они продолжали бы утверждать себя во всем многообразии явлений как интенциональные единства.
Однако мы можем пойти и дальше в этом направлении: нет ограничений, которые сдерживали бы нас в той деструкции вещной объективности, — коррелята к сознанию нашего опыта, — какую производит наша мысль. Тут необходимо никогда не забывать вот о чем: то, что суть вещи, — вещи, о каких мы только и можем делать высказывания, о бытии и небытии каких, об определенности и инаковости каких мы только и можем спорить, вопрос о каких мы только и можем разумно решать, — то, что суть вещи, они суть как вещи опыта. Не что-либо иное, но лишь опыт предписывает им их смысл, причем, поскольку речь идет о фактических вещах, это актуальный опыт с его определенным образом упорядоченными взаимосвязями опыта. Если же мы можем подвергать эйдетическому рассмотрению способы переживания опыта и, в особенности, основополагающее переживание — восприятие вещей, если мы можем усматривать в них все сущностно-необходимое и возможное (это мы, очевидно, можем), а, следовательно, можем эйдетически следовать сущностно возможным вариантам мотивированных взаимосвязей опыта, то тогда получается, что коррелят нашего фактического опыта, именуемый «действительным миром», — это особый случай многообразных возможных миров и немиров, а, со своей стороны, все эти возможные миры и немиры — не что иное, как корреляты сущностно возможных вариантов идеи «постигающее в опыте сознание» с присущими ему всякий раз более или менее упорядоченными взаимосвязями опыта. Так что никак нельзя позволять, чтобы нас вводили в заблуждение рассуждения о том, что вещь трансцендентна сознанию или же что она есть «бытие в себе». Ведь само же подлинное понятие трансценденции вещного — понятие, служащее мерой всех разумных высказываний относительно трансценденции, — почерпнуть неоткуда, кроме самого же сущностного содержания либо восприятия, либо же так или иначе устроенных взаимосвязей, какие именуются у нас подтверждающим опытом. Итак, идея подобной трансценденции — это эйдетический коррелят чистой идеи такого подтверждающего опыта.
Это верно относительно любой мыслимой трансценденции — все равно, трактуем ли мы ее как действительную или как возможную. В себе сущий предмет никогда не бывает таким, чтобы сознание и «я» сознания не имели касательства к нему. Вещь — это всегда вещь окрестного мира, в том числе и вещь никем не виденная, в том числе и вещь реально возможная — не данная в опыте, но, возможно, доступная опыту, т. е. предположительно доступная опыту. Доступность опыту никогда не означает лишь пустой логической возможности, — это всегда возможность, мотивированная внутри опытной взаимосвязи. Сама же взаимосвязь — это всегда от начала и до конца взаимосвязь чисто имманентной «мотивации»,[51] взаимосвязь, вбирающая в себя все новые и новые мотивации и переформирующая уже сложившиеся. Мотивации различаются по своему наполнению, по тому, что в них постигнуто или определено, — они богаче или беднее, они по содержанию более или менее ограничены, более или менее неопределенны в зависимости от того, идет ли речь о вещах «известных» или о «совсем неведомых», еще «не открытых» или же в случае вещи виданной о чем-либо известном или о еще не известном в ней. Тут все дело исключительно в сущностных оформлениях таких взаимосвязей, которые во всех своих возможностях подлежат чисто эйдетическому исследованию. В сущности заключено следующее: все, что есть realiter, но еще не испытано актуально, может становиться данностью, и это означает тогда, что такая вещь принадлежит к не определенному пока, однако определимому горизонту моего актуального опыта. А такой горизонт есть коррелят всех компонентов неопределенности, что сами по себе сущностно зависят от опыта вещей, и эти компоненты оставляют открытыми — всякий раз по мере своей сущности — возможности исполнения, осуществления, причем таковые никоим образом не произвольны, но всегда заранее предначертаны, мотивированы типом их сущности. Любой актуальный опыт указывает за пределы самого себя, на тот возможный опыт, который в свою очередь вновь отсылает к новому возможному опыту, и так до бесконечности. И все это совершается согласно сущностно определенным способам и правилам, связанным с априорными типами.
Любое гипотетическое начинание в практической жизни и в основанной на опыте науке сопряжено с этим изменчивым, однако всякий раз сополагаемым горизонтом, благодаря которому тезис мира обретает свой сущностный смысл.
§ 48. Логическая возможность и конкретная противосмысленность мира вне пределов нашего мира
Гипотетическое допущение чего-либо реального вне пределов этого мира «логически» возможно; в таком допущении, очевидно, не заключено какое-либо аналитически-формальное противоречие. Но если спрашивать о сущностных условиях, при которых подобное допущение сохраняло бы свою значимость, если спрашивать, какой же способ подтверждения требуется его смыслом, если спрашивать о способе подтверждения вообще, какой принципиально определяется полаганием (тезисом) чего-либо трансцендентного, — как бы правомерно ни обобщали мы его сущность, то мы сознаем или, говоря отчетливее, я сознаю — осуществляющее чистую рефлексию «я» сознает, — что это трансцендентное необходимо должно быть доступным опыту, и не просто для измышленного благодаря пустой логической возможности «я», но для моего актуального Я как доступного подтверждению единства всех взаимосвязей моего опыта. Однако можно усматривать (сейчас мы, впрочем, зашли еще недостаточно далеко для того, чтобы обосновывать сказанное во всех подробностях, предпосылки чего будут созданы лишь дальнейшими анализами), то, что доступное познанию моего «я» должно быть принципиально доступно познанию всякого «я», о котором я вообще в состоянии говорить, всякого, какое вообще может обладать смыслом и возможным бытием для меня как иное «я», как одно из «я», принадлежащее открытому множеству «других». И этот «другой» свой источник опыта и правоты тоже черпает из меня, во мне совершается его подтверждение (что не следует понимать как прежде всего какой-то логический actus). И если затем я, как и в случае «меня», стану редуцировать человеческое бытие в его естестве до самосущности «я» и жизни, то я увижу тогда, что могу поступать так в отношении любого другого человека (какой удостоверяется для меня) и что тем самым я обретаю множественность чистых «я». Хотя фактически не каждое «я» обретается или может находиться в отношении «вчувствования», взаимопонимания со всяким другим «я», — так, к примеру, мы не состоим в таких отношениях с возможными обитателями отдаленнейших звездных миров, — но, если рассуждать в принципе, то имеются сущностные возможности установления взаимопонимания, а, стало быть, возможности того, чтобы миры опыта, фактически обособленные, благодаря взаимосвязям актуального опыта складывались, создавая один-единственный интерсубъективный мир, коррелят единого мира умов (т. е. Универсального расширения человеческой общности, сведенной к жизни чистого сознания и к чистому «я»). Если взвесить сказанное, то формально-логическая возможность каких-либо реальностей вне пределов мира, того единого пространственно-временного мира, что фиксируется нашим актуальным опытом, оказывается по существу дела противосмысленностью. Если существуют вообще миры, если существуют вообще реальные вещи, то должно быть так, чтобы — как охарактеризовано это выше — мотивации опыта, конституирующие эти миры и вещи, должны иметь возможность достигать опыта моего и опыта всякого «я». Вещи и миры вещей, которые не удается со всей определенностью подтвердить в каком-либо человеческом опыте, само собой разумеется, тоже существуют, однако у этого обстоятельства чисто фактические причины, заключающиеся в фактических границах такого опыта.
§ 49. Абсолютное сознание как остающееся после уничтожения мира
С другой стороны, всем этим не сказано, что непременно должен быть мир, что непременно должна быть какая-то вещь. Существование мира — это коррелят известных многообразий опыта, отмеченных известными сущностными устроениями. Однако никак нельзя усмотреть то, чтобы актуальный опыт мог протекать лошь в формах таких связей; ничего подобного нельзя почерпнуть в сущности восприятия вообще, как и в сущности иных соучаствующих здесь способов осуществляющегося опыт созерцания. Напротив, вполне мыслимо то, что не только в конкретных случаях опыт вследствие противоборствования разрешается в кажимость и что не всякая кажимость — в отличие оттого, что de facto, т. е. как несомненно устанавливает эмпирия, как то ей подобает (т. е., скажем, отнюдь не аподиктически), — возвещает более глубокую истину и не всякое противоборствование на своем месте будет именно тем, что более широкоохватными взаимосвязями требуется для сохранения согласия во всем едином целом; мыслимо и то, что опыт полон непримиримых противоборствований и что непримиримы они не только для нас, но и сами по себе, мыслимо то, что опыт в какой-то момент начинает строптиво сопротивляться самому ожиданию того, чтобы полагания вещей выдерживалось от начало до конца непротиворечиво, мыслимо то, что взаимосвязь опыта утрачивает твердость, с которой упорядочивались бы все нюансирования, постижения, явления, и что так все действительно и останется in infinitum, — так что в таком случае уже не будет мира, который можно было бы полагать непротиворечиво, т. е. не будет уже существующего мира. Пусть тогда в известном объеме конституирующими окажутся какие-то грубые конструкции единства — преходящие точки опоры для таких созерцаний, которые были бы простыми аналогами созерцания вещей, совершенно не способными к тому, чтобы конституировать консервативные, стойкие «реальности», устойчивые единства, какие «существовали бы в себе, независимо оттого, воспринимают их или нет».
Присовокупим теперь к сказанному результаты, полученные нами в конце предыдущей главы, поразмыслим, следовательно, о возможности небытия, что заключена в сущности всякой вещной трансценденции, и тогда нам станет ясно, что бытие сознания, бытие всякого потока переживания вообще, хотя и непременно модифицируется вследствие уничтожения вещного мира, однако не затрагивается им в своем собственном экзистировании. Итак, в любом случае модифицируется. Ибо что касается коррелята к уничтожению мира, то таковое означает не что иное, как то, что во всяком потоке переживания (т. е. во взятом во всей его полноте, стало быть, бескрайнем в обе стороны совокупном потоке переживаний какого-либо «я») отныне исключаются известные упорядоченные взаимосвязи опыта, а соответственно с этим и ориентированные на них взаимосвязи теоретизирующего разума. Однако это не ведет к исключению переживаний иного порядка, иных взаимосвязей переживаний. Итак, для бытия самого сознания (в предельно широком смысле потока переживаний) нет необходимости в каком-либо реальном бытии, в бытии, которое представляет и подтверждает себя по мере сознания через посредство явлений.
Следовательно, имманентное бытие есть несомненно абсолютное бытие в том смысле, что оно принципиально nulla «re» indiget ad existendum.[52]
С другой стороны, мир трансцендентных «res»[53] совершенно немыслим без сознания, причем не сознания логически измышленного, но сознания актуального.
Это в самом общем своем содержании стало ясно уже на основании выше изложенного (в предыдущем параграфе). Что-либо трансцендентное дано — но только это «данность» принципиально с оговорками — благодаря известным взаимосвязям опыта. Первоначально данное приобретающее все большее совершенство в непрерывных линиях восприятия, непротиворечивость которых находит подтверждение, в известных методических формах мышления, основанного на опыте, трансцендентное — более или менее опосредованно — достигает ясно усматриваемого и движущегося поступательно теоретического определения. Допустим, что сознание вместе со всем своим содержанием переживания и своим протеканием действительно устроено так, что субъект сознания мог бы осуществлять — в свободе опытного постижения и теоретического, основанного на опыте, мышления — все такие взаимосвязи (при этом следует помнить, что во все это — продолжающееся in infinitum — непротиворечивое согласие восприятий опыта мы включаем и все те восприятия и весь тот опыт, в каких находят для нас свое подтверждение другие, взаимопонимание с этими другими людьми, возможная редукция их к чистому «я», взаимосвязи опыта). Допустим, далее, что все относящееся сюда упорядочивание сознания действительно продолжается in infinitum, что со стороны процессов сознания вообще нет недостатка ни в чем, что сколько-нибудь необходимо для того, чтобы являлся единый, цельный мир и чтобы он разумно, теоретически познавался. А теперь спросим: предположив все сказанное, будет ли еще мыслимым и не будет ли, скорее, противосмысленным, чтобы соответствующий трансцендентный мир не существовал?
Итак, мы видим, что сознание (переживание) и реальное бытие — это отнюдь не одинаково устроенные виды бытия, которые мирно жили бы один подле другого, порой «сопрягаясь», порой «сплетаясь» друг с другом. Подлинно сплетаться, образуя целое, может лишь сущностно родственное — то, у чего собственная сущность в одном и том же смысле. Имманентное, или абсолютное бытие и бытие трансцендентальное именуются, правда, «существующими», именуются «предметом», у них свое предметное наполнение; однако, очевидно и то, что они именуются предметами и наделяются предметной определенностью лишь в согласии с пустыми логическими категориями. Между сознанием и реальностью поистине зияет пропасть смысла. С одной стороны, здесь бытие нюансируемое, какое принципиально невозможно дать иначе, нежели с горизонтами презумпции, и нельзя дать абсолютно, бытие случайное и соотносительное с сознанием; с другой стороны, там бытие необходимое и абсолютное, какое принципиально невозможно дать через нюансирование и явление (по способу презумпции, который все равно оставляет открытым вопрос о бытии или небытии воспринятого мною).
Таким образом, несмотря на по-своему вполне обоснованные по их смыслу слова о реальном бытии человеческого «я» и переживаний его сознания в мире, а также обо всех «психофизических» взаимосвязях, какие могут иметь сюда касательство, становится ясно, что, невзирая на все это, сознание, если рассматривать его в «чистоте», должно признаваться замкнутой в себе взаимосвязью бытия, а именно взаимосвязью абсолютного бытия, такой, в которую ничто не может проникнуть и изнутри которого ничто не может выскользнуть, такой, для которой не может существовать никакой пространственно-временной внеположности и какая не может заключаться ни в какой пространственно-временной взаимосвязи; такой, которая не может испытывать причинного воздействия со стороны какой бы то ни было вещи и которая не может причинно воздействовать на какую бы то ни было вещь — при условии, что у слова «причинность» нормальный смысл естественной причинности, т. е. существующего между реальностями отношения зависимости.
С другой стороны, весь пространственно-временной мир, к которому, в качестве отдельных подчиненных реальностей, причисляются также и человек, и человеческое «я», — это по своему смыслу лишь простое интенциональное бытие, т. е. такое бытие, которое обладает лишь относительным, вторичным смыслом бытия для сознания, — это бытие доступное постижению субъектами познания через посредство явления и, возможно, оправдывающееся in infinitum как оправдывающееся единство явлений. Такое бытие полагается сознанием в его опыте, оно есть в принципе лишь тождественность непротиворечиво мотивируемых многообразий опыта и в качестве такового оно доступно созерцанию и определению, — сверх же всего этого такое бытие есть всего лишь ничто, или, говоря точнее, это такое бытие, для которого всякое «сверх этого» есть противосмысленная мысль.
§ 50. Феноменологическая установка и чистое сознание как поле феноменологии
Тем самым обыденный смысл «бытия» переворачивается. Бытие для нас первое есть само по себе бытие второе, — то, что оно есть лишь в «сопряженности» с первым. Не то чтобы слепой законопорядок установил: ordo et connexio rerum должен направляться по ordo et connexio idearum[54]. Реальность — и реальность отдельно взятой вещи, и реальность целого мира — сущностно лишена самостоятельности (в нашем строгом смысле «сущности»). Это не нечто абсолютное в себе, что во вторую очередь связывалось бы с иным, — нет, в абсолютном смысле оно вообще ничто, оно лишено «абсолютной сущности», у него существенность того, что в принципе лишь интенционально, лишь осознаваемо, лишь представляемо, лишь осуществимо в возможных явлениях.
Теперь вновь обратим наши мысли к первой главе, к нашим рассуждениям о феноменологической редукции. Вполне очевидно, что на деле по сравнению с естественной теоретической установкой — коррелятом таковой служит мир, — непременно должна существовать иная возможная установка, на долю которой тоже приходится кое-что, — несмотря на то, что мы исключили всю эту психофизическую всеприродность, — а именно для нее остается целое поле абсолютного сознания. Итак, вместо того чтобы наивно жить в опыте и теоретически исследовать постигнутое в опыте, трансцендентную природу, мы совершаем «феноменологическую редукцию». Говоря иначе: вместо того чтобы наивным образом совершать все акты, без каких не может обходиться конституирующее природу сознание (акты действительные; возможные в сфере предначертанной потенциальности; подлежащие осуществлению), вместе с их трансцендентными полаганиями, вынуждающими нас благодаря заключенным в них мотивациям ко все новым трансцендентным полаганиям, мы положим «в бездействие» все эти полагания, как актуальные, так и наперед потенциальные, мы откажемся от их совершения; наш же постигающий, наш теоретически исследующий взор мы направим на чистое сознание в его абсолютном самобытии. Оно и будет тем, что пребудет с нами как искомый «феноменологический остаток» — пребудет несмотря на то, что мы «выключили» или, лучше сказать, поместили в скобки весь мир вещей, живых существ, людей, включая и нас самих. Мы, собственно, не утратили ровным счетом ничего, зато обрели все абсолютное бытие, а это бытие, если верно его уразуметь, скрывает в себе все трансценденции мирского — как интенциональный коррелят актов обычного значения, которые надлежит осуществлять идеально и непротиворечиво продолжать, — оно «конституирует» их в себе.
Теперь проясним себе это во всех частностях. Следуя естественной установке, мы совершаем все без исключения акты, благодаря которым мир наличествует для нас. Мы наивно живем, воспринимая, постигая в опыте, совершая актуальные акты полагания, в каких являются для нас все вещные единства, реальности любого вида — и не просто являются, но даны нам как «наличествующее», как «действительное». Занимаясь естествознанием, мы совершаем мыслительные акты, упорядоченные согласно логике опыта; в них мы определяем по мере мышления как данные, так и привлекаемые помимо данных действительности, в них мы на основе таких прямо постигнутых в опыте и определенных трансценденции заключаем о новых. Переходя же к феноменологической установке, мы с принципиальной всеобщностью пресекаем совершение любых подобных когитативных полаганий, а это значит: «мы заключаем в скобки» прежде произведенные, что же касается дальнейших исследований, то мы «не соучаствуем в подобных полаганиях»; вместо того чтобы жить s них, совершать их, мы совершаем направленные на них акты рефлексии и их же самих постигаем тогда как абсолютное бытие, какое они суть, вместе со всем, что подразумевается в них, что вместе с тем неотделимо от их собственного бытия, — например, постигнутое в опыте как таковое. Мы живем теперь исключительно в таких актах второй ступени, данное в которых есть бесконечное поле абсолютных переживаний: основное поле феноменологии.
§ 51. Значение предварительных трансцендентных рассуждений
Каждый может, правда, осуществлять рефлексию, и каждый в своем сознании может схватывать рефлексию своим постигающим взором; однако, не этим совершается феноменологическая рефлексия, и схваченное сознание — это еще не чистое сознание. Лишь радикальные рассуждения в духе уже проведенных нами позволяют нам пробиться к пониманию того, что вообще есть нечто подобное полю трансцендентально чистого сознания, что вообще может быть нечто подобное, то, что не составляет часть природы, реального мира — настолько не составляет их часть, что сама природа возможна лишь как интенциональное единство, мотивируемое имманентными взаимосвязями чистого сознания. Эти рассуждения необходимы, далее, чтобы понять: такого рода единство дается — и теоретически исследуется — в совершенно иной установке, нежели та, в которой необходимо исследовать сознание, «конституирующее» это единство, как и вообще любое абсолютное сознание.[55] Эти рассуждения необходимы для того, чтобы наконец, перед лицом философской нищеты, где мы напрасно тратим силы, (занимаясь тем, что) изящно именуется «естественнонаучно фундированным миросозерцанием», уяснить себе: трансцендентальное изучение сознания — это не изучение природы и вообще не изучение мира, оно не может даже предполагать таковое в качестве своего условия, потому что при трансцендентальной установке природа и вообще вся вселенная принципиально заключаются в скобки. Эти рассуждения необходимы, чтобы понять: когда мы отвлекаемся от мира в форме феноменологической редукции — это нечто совершенно иное, нежели простое абстрагирование от компонентов всеобъемлющих взаимосвязей, будь то взаимосвязей необходимых или фактических. Если бы переживания сознания не были мыслимы таким образом вне сплетенности их с природой, — как немыслимы цвета помимо протяженности, — то мы не могли бы рассматривать сознание как абсолютно особую область — в том смысле, в каком мы должны поступать так. Однако необходимо усматривать и то, что благодаря «абстрагированию» из природы добывают лишь природное, но не трансцендентально чистое сознание. И феноменологическая редукция в свою очередь не означает, что мы просто ограничиваем свои суждения неким взаимосвязным фрагментом целого действительного бытия — чистым сознанием в психическом смысле слова. Во всех обособленных науках о действительности теоретический интерес ограничивается особенными областями всей совокупной действительности, остальные же остаются вне рассмотрения, если только нити реальных сопряжений, бегущие от одной сферы к другой, не принуждают к опосредующим изысканиям. В этом смысле механика «абстрагируется» от оптических процессов, физика вообще, в самом широком смысле, от сферы психологического, а чисто интенциональная психология, какую надлежит еще основать, — от психофизических процессов. Однако каждый естествоиспытатель знает, что вследствие всего этого ни одна область действительности все же не изолируется, весь мир в конце концов — это единый мир, и в нем простирается одна-единственная «природа», а естественные науки — это части одного-единственного естествоведения. Сущностно иначе обстоит дело с областью переживаний как абсолютных сущностей. Эта область прочно изолирована внутри себя и однако лишена границ, которые могли бы разделять ее с другими сферами. Все, что могло бы ограничить ее, должно было бы разделить с ней ее сущность. Однако эта область есть всеприсутствие абсолютного бытия в том определенном смысле, какому позволили проявиться наши анализы. По своей сущности эта область независима от любого мирского, природного бытия и не нуждается в нем даже и для своего существования. Существование природы не может обусловливать существования сознания, — ведь она сама выходит наружу как коррелят сознания; природа существует, лишь консти-туируясь в упорядочиваемых взаимосвязях сознания.
Примечание
Попутно заметим следующее — и сказать об этом уместно, чтобы не возникали недоразумения: если фактичность данного порядка, в каком протекает сознание с его обособлениями в индивидах, если имманентная им телеология дают достаточный повод для того, чтобы спрашивать об основаниях того, почему порядок именно таков, то в таком случае теологический принцип, который, например, можно было бы предположить здесь, нельзя было бы по сущностным основаниям рассматривать как трансценденцию в смысле мира, ибо то был бы, как заведомо с очевидностью вытекает из наших утверждений, противосмысленный круг. Упорядочивающий принцип абсолютного должен быть обретен в самом абсолютном, при чисто абсолютном рассмотрении. Иными словами, коль скоро внутримировой бог очевидно невозможен, а, с другой стороны, имманентность бога в абсолютном сознании не может быть постигнута как имманентность в смысле бытия как переживания (то было бы не меньшей противосмысленностью), то в абсолютном потоке сознания и его бесконечностях непременно должны быть иные способы изъявления трансценденции, нежели конституирование вещных реальностей как единств непротиворечивых явлений; в конце концов должны быть и интуитивные изъявления, к которым могло бы приспособляться теоретическое мышление, следуя которым по мере разума, оно могло бы уразумевать единство в правлении предполагаемого теологического принципа. Очевидно и то, что такое правление нельзя было бы постигать как причинное — в смысле природного понятия причинности, которое настроено на реальность и функциональные взаимосвязи, неотделимые от их особого существа.
Однако дальнейшее уже не касается нас здесь. Наши непосредственные намерения относятся не к теологии, а к феноменологии, если даже последняя и немало значит для первой. Осуществленные же нами фундаментальные рассуждения служили целям феноменологии постольку, поскольку они были необходимы для того, чтобы раскрыть в качестве специфической для нее области исследования абсолютную сферу.
§ 52. Дополнения. Физическая вещь и «неведомая причина явлений»
Сейчас мы перейдем к необходимым дополнениям. Проводя последнюю серию наших размышлений, мы в основном опирались на вещь чувственной imaginatio и не уделяли должного внимания физической вещи, в качестве «простого явления» каковой — а то и чего-то «только субъективного» — будто бы функционирует чувственно являющаяся (данная в восприятии) вещь. Между тем уже и смыслу прежних наших рассуждений соответствует то, что эту самую простую субъективность не следует — а это происходит очень часто — смешивать с субъективностью переживания — так, как если бы воспринимаемые вещи были бы переживаниями в своих воспринимаемых качествах и как если бы были переживаниями и сами эти воспринимаемые качества. Однако подлинное мнение естествоиспытателей (особенно, если держаться не их высказываний, но самого смысла их метода) не может заключаться и в том, что являющаяся вещь будто бы есть лишь кажимость или искаженный образ «истинной» физической вещи. Точно так же вводят в заблуждение и разговоры о том, что определенности явления будто бы суть «знаки» подлинных определенностей.[56]
Так можем ли мы теперь сказать в смысле столь распространенного «реализма»: реально воспринятое (и являющееся в первом смысле слова) следует в свою очередь рассматривать как явление или как инстинктивную субструкцию чего-то иного, внутренне ему чуждого и даже если и не так, то, во всяком, случае, отделенного от него? Рассуждая теоретически, это последнее надлежит рассматривать как гипотетически допускаемую в целях объяснения хода переживаний явлений, совершенно неведомую реальность, как скрытую причину этих явлений, характеризовать которую можно лишь косвенно, аналогически, посредством математических понятий.
Уже на основе нашего общего изложения (благодаря дальнейшим анализам оно значительно углубится и будет постоянно подтверждаться) становится очевидным, что подобные теории возможны лишь до тех пор, пока мы избегаем фиксировать и научно исследовать заключенный в самой же сущности опыта смысл вещно данного, а тем самым и «вещи вообще» — тот самый смысл, который составляет абсолютную норму любых разумных рассуждений относительно вещей. Все, что противоречит такому смыслу, и есть именно противосмысленное в самом строгом разумении этого слова,[57] и это верно сказать обо всех теоретико-познавательных учениях отмеченного типа.
Ведь нетрудно усмотреть то, что если неведомая, будто бы возможная причина вообще существует, то она должна принципиально восприниматься — если не мною, то другими «я», которые видят лучше и дальше, нежели я. Если суждение существования верно, то оно означает возможность того, чтобы мнение о причине, будучи значением, согласовывалось с самой причиной, выступая перед самим же выносящим суждение как подлинная самоданность. Итак, если истина возможна, то к ней необходимо принадлежит и возможное «я», — это же верно и относительно истинно сущего, о каком бы истинно сущем ни шла речь. При этом дело вовсе не в пустой возможности в смысле некоей непротиворечивой «мыслимости» или же просто представимости («вообразимости») такого выносящего суждение субъекта и его возможного опыта. Ибо если я — тот, кто размышляет обо всем этом, — должен признать возможность такой причины, о какой идет сейчас речь, в том числе и причины фактически недоступной для меня, если должно быть так, чтобы я мог утверждать, т. е. усматривать такую возможность как поистине существующую, то усмотримой для меня должна быть и возможность такого «я», которое постигает в опыте такую причину, — такого «я», которое не есть я сам. Итак, должна была бы существовать возможность вчувствования, и должны были бы быть исполнены неотмыслимые от нее далеко простирающиеся сущностные условия. Все они заключены в формально однозначном высказывании: всякий возможно существующий для меня «другой» должен был бы содержаться, наряду со всем иным, в горизонте моего фактического мира опыта — подобно тому как, например, существуют для меня как открытая возможность человекоподобные существа, живущие в недоступных мне, но все же относящихся к окрестному миру моего «я» звездах. Подобные возможности — это отнюдь не просто «представимости» («вообразимости»); они означают, что внутри взаимосвязи мотиваций моего опыта, как протекает он фактически, для меня могут возникать некоторые представляющиеся эмпирически необходимыми или эмпирически несомненными антиципации опыта и предметов опыта, реальное опытное постижение которых неосуществимо для меня вследствие того, как фактически устроена моя жизнь — т. е. неосуществимо всего лишь по случайной устроенности фактического, — между тем как эти антиципации эмпирических достоверностей, или предположительностей, или вероятностей обладают своей несущей силой и уполномочивают меня к индуктивным, основанным на опыте высказываниям (высказываниям об индуктивных действительностях, предположительностях, вероятностях). Что же касается, далее, возможности того, чтобы антиципируемое сбывалось, то такая возможность мотивируется общей структурой моей опытной жизни — постольку, поскольку я и в своей более непосредственной опытной жизни то и дело натыкаюсь на различия между тем, что фактически доступно, и тем, что фактически недоступно мне в опыте; происходит это так, что торможения согласно хорошо известной типической схеме сковывают свободу моего постигающего в опыте приближения к антиципируемому, между тем как все антиципируемое, будучи мотивированным, сохраняет для меня свою значимость, либо делая возможным индуктивные выводы, которые затем многообразно подтверждаются, либо же также через осуществление прямого собственного опытного постижения, на которое указывают они в качестве антиципации, или через опыт других людей, становящегося известным мне из своих вчувствований.
Итак, мы обретаемся в универсальной сфере эмпирико-индуктивных достоверностей, предположительностей, вероятностей, которые не выходят за пределы всеобъемлющей взаимосвязи моего возможного опыта, моего действительного (настоящего, прямого) опыта и моих антиципации, не выходят и тогда, когда отсылают к возможному опыту других, поскольку, как уже говорилось, всякий «другой», существуя для меня в достоверности или в возможности (предположительности), сохраняет для меня свою бытийную значимость по способу опытного постижения, присущего вчувствованию — непосредственному или же опосредованному, мотивированному антиципациями, — т. е. ео ipso принадлежит к универсальной сфере моего возможного опыта.
На это возразят, утверждая, что причинные реальности, какие предполагает естествоиспытатель, будучи точным физиком, и какие он считает подлинной природой, не доступны прямому чувственному опыту ни нашему, ни иных субъектов, а именно, такие реальности — это не доступные чувственному созерцанию вещные данности («вещи чувств»), но принципиально им трансцендентные. Подобные трансценденции, стоящие на более высокой ступени, будто бы и есть подлинные объекты природы, поскольку существуют в себе, между тем как вещи чувств все же остаются чисто субъективными созданиями.
Мы не можем заняться сейчас систематически исчерпывающим разбором всех подобных отношений. Для наших целей достаточно отчетливо выделить некоторые из основных пунктов.
Чтобы начать, возьмем легко поддающуюся проверке констатацию: при физическом методе сама же воспринимаемая вещь всегда и принципиально есть точно та же вещь, которую исследует и научно определяет физик.
Кажется, что такое положение противоречит прежде высказанным нами тезисам,[58] где мы пытались точнее определить смысл обычных высказываний физиков или же смысл традиционного разделения качеств на первичные и вторичные. Тогда, отсеяв очевидные недоразумения, мы говорили, что «вещь, в собственном смысле постигнутая в опыте», дает нам просто «вот это» — некий пустой «х», становящийся затем носителем точных физических определений, которые сами по себе не относятся к сфере, собственно, опыта. А тогда «физически истинное» бытие есть нечто «определяемое принципиально иначе», нежели то бытие, что «телесно» дано в самом восприятии. Это последнее наделено исключительно чувственными определенностями, которые как раз и не являются физическими определениями.
Между тем оба способа представлять себе вещи вполне согласуются друг с другом, и нам не приходится всерьез сражаться с только что приведенной интерпретацией физического постижения вещей. Нужно только правильно понять ее. Никоим образом мы не должны впадать в принципиально ошибочные теории образов и знаков, о которых мы уже рассуждали безотносительно к физической вещи и которые мы отвергли с радикальной всеобщностью[59]. Образ или знак указывает на нечто лежащее за его пределами, — это нечто может быть постигнуто благодаря переходу в иной способ представления, в способ представления «самого» дающего созерцания. Знак и образ не «изъявляет» своей самостью означаемую (или отображаемую) самость, он не дает себя. Физическая же вещь никоим образом не чужда тому, что является чувственно-телесно, а изъявляет себя в нем, причем a priori (по неотменимым сущностным основаниям) изъявляет себя изначально только в нем. При этом и чувственное наполнение того х, которое функционирует как носитель физических — определений, отнюдь не есть лишь чуждое этим последним, скрывающее их облачение, — напротив, лишь в той мере, в какой х есть субъект чувственных определений, он есть и субъект определений физических, со своей стороны изъявляющихся через определения чувственные. Вещь, притом как раз именно та вещь, о которой говорит физик, согласно всему подробно изложенному выше, может быть принципиально дана лишь чувственно, через чувственные «способы явления», то же, что физик подвергает причинному анализу, исследованию в поисках реальных взаимосвязей необходимости, есть то идентичное, тождественное, что само же является во всей переменчивой непрерывности способов явления, в сопряженности со всеми доступными опыту (т. е. воспринимаемыми или доступными восприятию) взаимосвязями. Вещь, которую физик наблюдает, с которой он экспериментирует, которую он постоянно видит перед собой, берет в руки, кладет на весы, помещает в плавильную печь, — вот эта самая и не иная вещь и есть субъект физических предикатов, как-то: вес, температура, электрическое сопротивление и т. д. И точно так же именно эти же самые воспринимаемые процессы и взаимосвязи и определяются такими понятиями, как сила, ускорение, энергия, атом, ион и т. д. Итак, чувственно являющаяся вещь с ее чувственными формой, цветом, запахом и вкусом отнюдь не есть знак чего-либо иного, но в известном смысле есть знак самой себя.
Что все это означает, нетрудно пояснить; мы можем говорить лишь следующее, и не более того: для физика, который уже вообще произвел физическое определение таких-то и таких-то вещей, при такого-то вида взаимосвязях явлений, такая-то, наделенная такими-то чувственными свойствами и являющаяся при данных феноменальных обстоятельствах вещь есть признак известной полноты причинных свойств этой же самой вещи, свойств, которые изъявляют себя как таковые при хорошо известных по их виду зависимостях явления. То, что изъявляет себя при этом, очевидно, принципиально трансцендентно — именно потому, что изъявляет себя в интенциональных единствах переживаний сознания.
После всего сказанного теперь ясно и то, что высшая трансценденция физической вещи тоже не означает выхода за пределы мира для сознания, Для всякого «я», функционирующего в качестве субъекта сознания.
Положение дел в самом общем плане таково: на основе естественного опытного постижения (или же естественных полаганий опыта) выстраивается физическое мышление, которое следует разумным мотивам, какие предоставляют ему взаимосвязи опыта, и которое принуждено осуществлять известные способы постижения, известные интенциональные конструкции, какие требуются разумом, — осуществлять их для теоретического определения постигаемых в опыте чувственных вещей. Именно вследствие этого возникает противоречие между вещью, принадлежащей незамысловатой чувственной imaginatio, и вещью физической intellectio; на пользу последней и воздвигаются все те идеальные онтологические построения мысли, какие находят выражение в физических понятиях и черпают свой смысл исключительно в естественнонаучном методе.
Если, таким образом, получается, что разум, следующей логике опытного постижения, вырабатывает под наименованием физики некий интенциональный коррелят, занимающий высшую ступеньку, — вырабатывает из незамысловато являющейся природы природу физическую, — то мы займемся мифологизацией, если эту самую, вполне доступную нашему усмотрению данность разума, какая не заключается ни в чем ином, как в определении просто и наглядно данной природы согласно логике опытного постижения, станем выставлять в качестве некоего неведомого мира вещных реальностей в себе, в качестве мира, который в целях причинного объяснения явлений подкреплен гипотетическими субструкциями.
Итак, вещи чувств и физические вещи противосмысленно связываются причинными отношениями. При этом реализм обыкновенно смешивает чувственные явления, т. е. являющиеся предметы как таковые (они уже суть трансценденции), — они будто бы лишь субъективны, и только, — с конституирующими их абсолютными переживаниями явления, переживаниями постигающего в опыте сознания вообще. Подмена происходит как минимум в такой форме: рассуждают так, как если бы объективная физика была занята объяснением «вещных явлений» — не в смысле являющихся вещей, но в смысле конституирующих переживаний постигающего в опыте сознания. Причинность, место которой принципиально во взаимосвязи конституирующегося интенционального мира, — только в нем причинность обладает смыслом, — тут превращают не просто в мифическую связь, соединяющую «объективное» физическое бытие и бытие «субъективное», являющееся в непосредственном опыте, связь между «чисто субъективными» вещами чувств и «вторичными качествами», но, неправомерно переходя от «субъективного» бытия к конституирующему его сознанию, превращают причинность в связь, соединяющую физическое бытие и абсолютное сознание, в особенности же чистые переживания опытного постижения. При этом вместо физического бытия подставляется мифическая абсолютная реальность, тогда как вовсе не замечают подлинно абсолютное, чистое сознание как таковое. Поэтому незамеченной остается и абсурдность, заключающаяся в том, что возводится в абсолют физическая природа, этот интенциональный коррелят логически определяющего мышления; остается незамеченным и то, что природа, определяющая со стороны логики опыта непосредственно наглядно созерцаемый мир, природа, прекрасно известная в этой своей функции (бессмысленно искать что бы то ни было за такой природой), превращается в некую неведомую, таинственно возвещающую о себе реальность, которую как таковую, в ее самости, невозможно постичь ни в каком из ее самоопределений, — затем же возлагают на эту природу роль причинной реальности в отношении к процессам субъективных явлений и опытно постигающих переживаний.
Немалое влияние во всех этих лжеистолкованиях несомненно принадлежит следующему обстоятельству: ложное истолкование получает, прежде всего, чувственная отвлеченность, безобразность, присущая всем категориальным мыслительным единствам, естественно, в особенно бросающейся в глаза мере образованным весьма опосредованным путем, а затем полезная в практике познания склонность подкладывать чувственные образы, «модели», под такие мыслительные единства, — все, что отвлечено от чувственной наглядности, это будто бы символически репрезентирует нечто сокровенное; будь наша интеллектуальная организация совершеннее, и это сокрытое можно было бы привести к обычному чувственному созерцанию; модели же будто бы служат в качестве наглядных схематических образов такого сокровенного, и функция у них будто бы примерно та же, что у гипотетических рисунков палеонтолога, пытающегося на основе жалких данных набросать облик давно исчезнувших живых существ. Не обращают внимания на вполне ясный для усмотрения смысл конструктивных мыслительных единств как таковых, и не замечают того, что все гипотетическое связано здесь со сферой мыслительного синтеза. И божественная физика не способна превратить категориальные определения реальности в наглядные, подобно тому как божественное всемогущество не в состоянии сделать так, чтобы можно было живописать или же исполнять на скрипке эллиптические функции.
Сколь бы ни нуждались в дальнейшем углублении наши выводы, сколь бы остро ни ощущалась нами потребность в полном прояснении всех относящихся сюда отношений, — ясно одно, и как раз это нужно нам сейчас для наших целей; трансцендентность физической вещи — это трансцендентность конституирующегося в сознании и связанного с сознанием бытия; ситуация математического естествознания (сколь бы загадок ни заключалось в присущем ему познании) ничего не меняет в наших выводах.
Заранее понятно, что все прояснившееся для нас относительно природных объективностей как «просто вещей» сохраняет свою значимость и для всех фундированных в них аксиологических и практических объективностей, эстетических предметов, культурных образований и т. д. Сохраняет свою значимость, наконец, для всех вообще трансценденций, конституирующихся по мере сознания.
§ 53. Животные существа и психологическое сознание
Весьма важно расширить пределы наших рассуждений и в ином отношении. Мы включили в круг своих утверждений всю материальную природу в ее совокупности — как чувственно являющуюся, так и основанную на ней в качестве более высокой ступени познания физическую природу. Однако как же обстоит дело с животными реальностями, с людьми и животными? Как обстоит дело с ними, что касается их душ и душевных переживаний? Ведь мир в его полноте — это не просто физический, но психофизический мир. Ему принадлежат — кто возьмется отрицать это? — и все потоки сознания, связанные с одушевленными телами. Однако получается так, что с одной стороны, сознание — это абсолютное, в котором конституируется все трансцендентное, т. е. в конечном счете конституируется весь психофизический мир, а с другой стороны, сознание — это подчиненный реальный процесс в рамках этого мира. Как это согласуется?
Проясним следующее: как может быть так, что мое сознание, которое, будучи в своей имманентной своемирскости положено в чисто имманентном опыте, всякий раз предшествует тому трансцендентному, что полагается и подтверждается в этом мире, а тем самым всякий раз предшествует тому, что осмыслено и бытийно значимо для меня как «мир», как может быть так, что это сознание входит, так сказать, в «мир», в существующий для меня мир, как может жертвовать своей имманентностью абсолютное в себе, принимая характер трансценденций? Мы сейчас же увидим, что происходить это может лишь благодаря известной причастности к трансценденции в первоначальном, первозданном смысле, а это, очевидно, трансценденция материальной природы. Лишь благодаря своей сопряженности в опыте с телом сознание становится сознанием реально человеческим и реально животным, и лишь благодаря этому оно получает место в пространстве природы и во времени природы — во времени, которое измеряется физически. Вспомним и о том, что лишь благодаря опытному постижению скрепленности сознания и плотского тела в одно естественное, эмпирически-зримое единство возможно нечто подобное взаимоуразумению между принадлежащими к одному миру животными существами и что лишь благодаря этому каждый познающий субъект обретает мир в его полноте, включающий его и все иные субъекты, и в то же время может познавать его как один и тот же, принадлежащий совместно ему и всем другим существам окрестный мир.
Особый способ постижения, опытного постижения, особый способ «апперцепции» осуществляет это так называемое «прикрепление», эту реализацию сознания. В чем бы ни состояла эта апперцепция, какого бы особого способа подтверждения она ни требовала, очевидно одно, — сознание даже в этих своих апперцептивных сплетениях, даже в этой своей психофизической сопряженности с телесным не утрачивает ничего в своей сущности, оно не способно вобрать в себя ничего, что было бы чуждо его существу, — иное было бы противосмысленным. Что в действительности принимает сознание, — это новый слой сознания. Телесное бытие — это бытие принципиально являющееся, бытие, представляющее себя через посредство чувственного нюанса. Само же природно апперципированное сознание, поток переживаний, данный как поток переживаний человеческий и животный, стало быть, постигнутый в своей прикрепленности к телесному, — все это, естественно, само по себе не становится чем-то являющимся через посредство нюанса.
И тем не менее сознание становится иным, становится составной частью природы. В себе самом сознание остается тем, что оно есть, его сущность абсолютна. Однако сознание схватывается не в такой своей сущности, не в этой его текучей этости, — оно «постигается как нечто (как состояние)»; в таком своеобразном постижении конституируется своеобразная трансценденция, — отныне является состояние сознания тождественного реального человеческого субъекта, который в этих состояниях сознания изъявляет свои индивидуальные реальные свойства, причем отныне — будучи единством таких изъявляющихся через состояния свойств — сознательно как единые с его являющимся телом. Итак, по мере явления природное психофизическое единство «человек» или «животное» конституируется как телесно фундированное единство — в соответствии с тем, как фундируется апперцепция.
Как в случае любой трансцендирующей апперцепции, и здесь по мере сущности необходимо осуществлять двойную установку. При одной установке схватывающий взор достигает апперципируемого предмета как бы проходя сквозь трансцендирующее постижение, при другой установке он рефлектирует само это постижение, — это чистое постигающее сознание. Соответственно в нашем случае перед нами, с одной стороны, психологическая установка, при которой естественно установившийся взор направлен на переживания, например, на переживание радости как на одно из состояний человеческих или животных переживаний. С другой стороны, перед нами сплетшаяся со всем этим, как сущностная возможность, феноменологическая установка, — она, рефлектируя и выключая трансцендентные полагания, обращается к абсолютному, чистому сознанию и тогда обретает пред собою апперцепцию состояния абсолютного переживания, — в вышеприведенном примере это эмоциональное переживание радости как абсолютная феноменологическая дата, погруженная, однако, в среду одушевляющей ее функции постижения, именно той функции, которая заключается в том, чтобы «изъявлять» скрепленное с являющимся телом состояние человеческого «я»-субъекта. «Чистое» переживание чувства в известном смысле «лежит» внутри психологически апперципируемого, в переживании как человеческом состоянии; оставаясь в своей сущности, чистое переживание принимает форму состояния, а тем самым интенциональную сопряженность с человеческим «я» и человеческой телесностью. Если же соответствующее переживание, в нашем примере это чувство радости, утрачивает такую интенциональную форму (это вполне мыслимо), то оно, конечно, испытывает перемену, однако перемена заключается лишь в том, что оно упрощается в чистом сознании и уже не обладает природным значением.
§ 54. Продолжение. Трансцендентное психологическое переживание случайно и относительно, трансцендентальное переживание необходимо и абсолютно
Представим себе, что мы осуществляем естественные апперцепции, однако они постоянно оказываются недействительными, перечеркиваются дальнейшим ходом опыта, не допускают непротиворечивых взаимосвязей, в которых могли бы конституироваться для нас единства опыта; другими словами, помыслим себе, в смысле вышеизложенного,[60] что вся природа, прежде всего физическая, «уничтожена», — тогда не было бы уже тел, а тем самым и людей. Я как человек уже не существовал бы, и тем более для меня не существовали бы ближние. Однако мое сознание, как бы ни изменился состав его переживаний, продолжало бы оставаться абсолютным потоком переживаний со своей особой сущностью. Если бы при этом в остатке оказывалось еще нечто такое, что позволяло бы нам понимать переживания как «состояния» такого-то человеческого «я», в смене которых изъявляют себя тождественные психические свойства человека, то мы можем помыслить себе, что и у этих постижений отнята их бытийная значимость, — тогда они останутся у нас как чистые переживания. Но если мы с самого начала редуцируем к трансцендентально чистому, то у нас и в нормальном случае значимости останутся конституирующие многообразия интенциональныхформ, их конституирующие, — чистые переживания. Психические состояния тоже указывают на упорядочивания абсолютных переживаний, в которых они конституируются, в которых они принимают интенциональную, а по ее способу трансцендентную, форму — «состояние».
Безусловно мыслимо и бесплотное, а также, сколь бы парадоксально это ни звучало, и бездушное, не одушевляющее человеческую телесность сознание, т. е. такой поток переживания, в котором не конституировались бы интенциональные единства опытного постижения — тело, душа, эмпирический «я»-субъект, в котором для всех этих понятий опыта, а тем самым и для понятия переживания в психологическом смысле (переживания объективно реальной личности, животного «я») не было бы никакой опоры, в котором они во всяком случае были бы лишены всякой значимости. Любые эмпирические единства, а, стало быть, и психологические переживания — показатели абсолютных взаимосвязей переживания, отмеченных определенной сущностной устроенностью, — наряду с ними мыслимы и совсем иные устроенности; любые эмпирические единства в одинаковом смысле трансцендентны, лишь относительны, случайны. Нужно убедиться в том, что само собой разумеющаяся уверенность, с которой любое собственное и чужое переживание принимается, по мере опыта, за психологическое и психофизическое состояние животных субъектов — принимается с полным правом! — все же ограничено в указанном аспекте; необходимо убедиться в том, что эмпирическому (реальному психологическому) переживанию человека в мире, как предпосылка его смысла, противостоит абсолютное переживание, что сказанное — не метафизическая конструкция, но нечто при своей абсолютности вполне доказуемое и доступное в прямом созерцании благодаря соответствующему изменению установки. Необходимо убедиться в том, что психическое вообще в смысле психологии, что психическая личность, психические свойства, переживания и состояния — это реальные, т. е. эмпирические в указанном смысле слова единства, что они, как и реальности любого вида и любой ступени, суть просто единства интенциональной «конституированности» — подлинно существующие в их собственном смысле: их можно созерцать, постигать в опыте, научно определять на основе опытного постижения, — и все же они «только интенциональны» и тем самым лишь «относительны». Полагать же их сущими в абсолютном смысле противосмысленно.
§ 55. Заключение. Любая реальность суща через «наделение смыслом». Отнюдь не «субъективный идеализм»
Известным способом с известной осторожностью, что касается употребления слов, можно сказать и так: любые реальные единства суть «единства смысла». Единства смысла предполагают (подчеркиваю еще и еще раз: не потому что мы выводим это из каких-то метафизических постулатов, а потому что мы можем обнаружить это в интуитивном и не подлежащем ни малейшему сомнению процессе) существование наделяющего смыслом сознания, которое со своей стороны абсолютно и в свою очередь существует не потому, что его наделили смыслом. Если понятие реальности выводить из естественных реальностей, из единства возможного опыта, тогда «Вселенная», «Природа», конечно, то же самое, что реальности в их совокупности; однако отождествлять такую совокупность с совокупностью бытия, тем самым абсолютизируя ее, — это противосмысленность. Абсолютная реальность значит ровно столько, сколько круглый квадрат. «Реальность» и «мир» — здесь только наименования известных значимых смысловых единств, а именно единств «смысла», сопрягаемых с известными взаимосвязями абсолютного, чистого сознания, с взаимосвязями, по самой их сущности наделяющими смыслом именно так, а не иначе, и подтверждающими значимость смысла.
Кто, перед лицом наших разъяснений, возразит нам, что мы превращаем мир в субъективную кажимость и бросаемся в объятия Беркли с его идеализмом, тому мы ответим только так — он не постиг смысла наших разъяснений. У сохраняющего всю полноту своей значимости мира, этой совокупности всех реальностей, мы отнимаем столь же мало, сколь мало теряет квадрат — во всей полноте своего геометрического бытия, — когда мы отрицаем (в этом случае дело, впрочем, само собой разумеется!), что он кругл. Мы не переосмысляли и тем более не отрицали реальную действительность, мы только устранили противосмысленное ее толкование — такое толкование, которое противоречит ее же собственному, проясненному смыслу. Оно идет от философской абсолютизации мира, вполне чуждой естественному взгляду на мир. Этот последний как раз весьма естественен, он живет наивным совершением общего полагания, описанного нами выше, и он поэтому никогда не может сделаться противосмысленным. Противосмысленность возникает лишь тогда, когда мы начинаем философствовать и, стремясь обрести последнюю истину относительно смысла мира, вообще не замечаем того, что сам же мир обладает своим бытием как неким «смыслом», предполагающим абсолютное сознание в качестве поля, на котором совершается наделение смыслом[61]; и когда мы вместе с тем не замечаем и того, что это поле — бытийная сфера абсолютных истоков — доступно созерцающему исследованию и несет на себе бесконечную полноту доступных ясному усмотрению познаний, отмеченных величайшим научным достоинством. Правда, последнее мы еще не продемонстрировали, однако по ходу наших изысканий прояснится и этот момент.
Заметим в завершение, что не должна возмущать та всеобщность, с которой в только что проведенных нами рассуждениях говорилось о конституировании природного мира в абсолютном сознании. Опытный ученый читатель уже по понятийной определенности нашего изложения заключит о том, что мы отнюдь не шли на риск каких-либо философских наитий, а напротив, опираясь на фундаментальную работу на этом поле, сконцентрировали в обобщенных описаниях осторожно добытые нами выводы. Вероятно, остро ощущается потребность в более подробных анализах, в заполнении лакун, — так это и должно быть. Дальнейшее изложение призвано внести существенный вкладе конкретизацию всего, что до сих пор удалось очертить лишь контурно. Следует, однако, помнить и о том, что цель наша заключалась сейчас не в том, чтобы излагать подробную теорию трансцендентального конституирования и тем самым схематически набрасывать новую «теорию познания» относительно различных сфер реальности, а в том, чтобы прояснить для усмотрения лишь общие идеи, которые способствовали бы обретению идеи трансцендентально чистого сознания. Существенна для нас не та очевидность, — не так уж трудно и обрести ее, — что феноменологическая редукция возможна как выключение естественной установки, или же, иначе, ее общего полагания, — существенным для нас было то, что после осуществления феноменологической редукции остается абсолютное, или трансцендентально чистое сознание и что приписывать реальность еще и этому остатку — противосмысленно.
Глава четвертая. Феноменологическая редукция
§ 56. Вопрос об объеме феноменологической редукции. Науки о природе и науки о духе
Выключая полагание мира, природы, мы воспользовались этим методическим средством для того, чтобы вообще стал возможным поворот взгляда к трансцендентально чистому сознанию. Теперь же, когда такое сознание стоит перед нашим созерцающим взором, все еще полезно поразмыслить, напротив, о том, что же вообще должно быть выключено для того, чтобы могло исследоваться чистое сознание, и относится ли необходимость выключения к одной только сфере природы. Если же смотреть на эти вопросы со стороны феноменологической науки, которую предстоит основать, то они означают также: в каких науках она может черпать материал, не нарушая чистоты своего смысла, какими она вправе воспользоваться как заведомо данными и какими нет, какие, следовательно, нуждаются в том, чтобы их «заключили в скобки»? Своеобразная сущность феноменологии как науки об «истоках» такова, что ей необходимо тщательно продумывать методические вопросы такого порядка, весьма далекие для любой наивной («догматической») науки.
С самого начала само собой разумеется, что вместе с выключением природного мира со всеми его вещами, живыми существами, людьми из нашего поля суждений выключаются также и все индивидуальные предметности, конституирующиеся благодаря оценивающим и практическим функциям сознания, — всевозможные культурные образования, произведения технических и изящных художеств, наук (в той мере, в какой они входят в рассмотрение не как единства значимости, а именно как культурные факты), эстетические и практические ценности любого вида. Равным образом, разумеется, и действительности такого рода, как государство, нравственность, право, религия. Тем самым подлежат выключению из сферы наших суждений все науки о природе и о духе вместе со всем составом своих познаний — они подлежат выключению именно как науки, нуждающиеся в естественной установке.
§ 57. Вопрос о выключении чистого «я»
Трудности возникают в одной пограничной точке. Человек как естественное существо и как лицо в союзе лиц, в «обществе», выключен; равным образом выключено и всякое животное существо. А как же обстоит дело с чистым «я»? Не стало ли вследствие феноменологической редукции трансцендентальным ничто также и заведомо обретаемое нами феноменологическое «я»? Совершим редукцию к потоку чистого сознания. В рефлексии всякая осуществленная cogitatio принимает экплицитную форму cogito. Утратит ли она такую форму, если мы осуществим трансцендентальную редукцию?
Наперед ясно одно: произведя подобную редукцию, мы в потоке многообразных переживаний — в этом трансцендентальном остатке — нигде не повстречаемся с чистым «я» как переживанием среди переживаний, не повстречаемся с ним также и как с фрагментом переживания, который возникал бы и вновь исчезал вместе с самим переживанием, часть которого он составлял бы. Представляется, что «я» постоянно и даже необходимо должно присутствовать здесь, и это постоянство, очевидно, не постоянство некоего тупо застрявшего на месте переживания, «фикс-идеи». Напротив, «я» принадлежит к любому переживанию, которое появляется и затем уплывает вместе с потоком, его «взор» проникает «сквозь» любое актуальное cogito, направляясь к предметному. Луч этого взгляда заново возникает с каждым новым cogito и исчезает вместе с ним. А «я» — тождественно. По меньшей мере, если рассуждать принципиально, любая cogitatio может сменяться, она может прибывать и убывать, хотя можно и усомниться в том, каждая ли необходимо преходяща, а не просто, как мы это заведомо обнаруживаем, фактически преходяща. В отличие от этого, чистое «я» представляется, однако, чем-то принципиально необходимым, чем-то абсолютно тождественным при любой действительной и возможной смене переживания, а потому ни в каком смысле не может считаться реальной частью или моментом самих переживаний.
Чистое «я» живет в особом смысле во всяком актуальном cogito, однако и все переживания заднего плана принадлежат ему, а оно — им, и все они, принадлежа к одному и тому же — моему — потоку переживания, обязаны превращаться в актуальные cogitationes или же имманентно включаться в таковые; говоря языком Канта (не станем решать, в его ли смысле): «„Я мыслю“ должно быть таким, чтобы оно могло сопровождать все мои представления».
Если после произведенного нами феноменологического выключения мира и принадлежащей к нему эмпирической субъективности у нас получается остаток — чистое «я» (если сделать здесь необходимые оговорки), причем для всякого потока переживаний принципиально отличное, то тогда, вместе с этим чистым «я», предлагается своеобразная трансценденция, — в известном смысле не конституированная, — трансценденция в пределах имманентности. Притом, что эта трансценденция играет непосредственно существенную роль во всякой cogitatio, мы не вправе подвергать ее выключению, хотя для весьма многих изысканий вопросы чистого «я» могут оставаться во взвешенном состоянии, in suspenso. Однако мы намерены считаться с чистым «я» как феноменологической датой лишь настолько, насколько простирается его установимая с непосредственной очевидностью сущностная специфичность и данность вместе с чистым сознанием, в то время как любые учения относительно чистого «я», которые выходят за рамки сказанного, должны быть подвергнуты исключению. Кроме того у нас будет еще повод посвятить особую главу (во второй книге этого сочинения) сложным вопросам чистого «я», а вместе с тем и обеспечению той предварительной позиции, какую заняли мы теперь.[62]
§ 58. Выключение трансцендентности бога
Покинув природный мир, мы наталкиваемся еще на иную трансцендентность, данную не так, как чистое «я», непосредственно вместе с подвергшимся редукции сознанием, но осознаваемую совершенно иначе, — она как бы прямо полярно противостоит трансцендентности мира. Мы имеем в виду трансцендентность бога. Благодаря сведению природного мира к абсолютному сознанию выявляются фактические взаимосвязи известных типов переживаний сознания с особо отмеченными законопорядками, в которых, в качестве интенционального коррелята, конституируется морфологически упорядочиваемый в сфере эмпирического созерцания мир, т. е. такой мир, в отношении которого могут существовать классифицирующие и описательные науки. Этот же самый мир, что касается его нижней материальной ступени, одновременно допускает, чтобы теоретическое мышление математического естествознания определяло его как «явление» физической природы, подчиненной строгим законам природы. Во всем этом — поскольку рациональность, какую осуществляет факт, расходится с той, какой требует сущность, — заключена чудесная телеология.
Далее: систематическое исследование любых телеологии, обретаемых в самом эмпирическом мире, — таково, для примера, фактическое развитие ряда организмов вплоть до человека, в развитии человечества возрастание культуры с ее сокровищами духа и т. д., — отнюдь не завершается вместе с естественнонаучным объяснением всех подобных построений на основе данных фактических обстоятельств и согласно законам природы. Напротив, переход в чистое сознание посредством метода трансцендентальной редукции необходимо приводит к вопросу об основании обнаруживающейся теперь фактичности соответствующего конституирующего сознания. Не факт сам по себе, но факт как источник восходящих в бесконечность ценностных возможностей и действительностей — вот что вынуждает нас ставить вопрос об «основании»; естественно, что это основание не в смысле вещно-причинной зависимости. Мы обойдем сейчас все то, что способно подводить к тому же самому принципу со стороны религиозного сознания, а именно как разумно обосновывающий его мотив. Нас в этом религиозном сознании касается сейчас лишь одно, а именно то, что, как подсказывают различные группы подобных разумных доводов в пользу существования некоторого находящегося за пределами мира «божественного» бытия, оно было бы трансцендентно не только по отношению к миру, но, очевидно, и по отношению к «абсолютному» сознанию. Итак, божественное бытие было бы «абсолютным» в совершенно ином смысле, нежели абсолютность сознания, и в то же время оно было бы трансцендентным в совершенно ином смысле, нежели трансцендентность в смысле мира.
Естественно, что мы распространяем нашу феноменологическую редукцию и на такое «абсолютное» и «трансцендентное». Оно должно быть выключено из нового поля изысканий, какое предстоит нам создать, — постольку, поскольку оно должно быть полем самого чистого сознания.
§ 59. Трансцендентность эйдетического. Выключение чистой логики как mathesis universales. Феноменологическая норма
Выключив индивидуальные реальности в любом смысле, мы попробуем теперь выключить и все иные виды «трансцендентности». Это касается ряда «всеобщих» предметов, сущностей. И они тоже известным образом «трансцендентны» по отношению к чистому сознанию и не обретаются в нем реально. Однако мы не можем без конца и края выключать трансценденции, трансцендентальное очищение не означает выключения всех трансценденций, потому что в противном случае хотя и останется чистое сознание, но уже не будет возможности для существования науки о чистом сознании.
Это нам следует уяснить вполне. Начнем с попытки предельно далеко заходящего выключения всего эйдетического, а, стало быть, и всех эйдетических наук. Любой регионально изолируемой сфере индивидуального бытия соответствует, в предельно широком логическом смысле, определенная онтология, — например, физической природе соответствует онтология природы, животной природе — онтология всего животного, и все эти дисциплины, все равно, разработанные или только теперь постулируемые, подлежат редукции. Материальным онтологиям противостоит «формальная» онтология (единая с формальной логикой мыслительных значений), и ей, в качестве квазирегиона, принадлежит «предмет вообще». Если мы попытаемся выключить также и этот квазирегион, то у нас возникают сомнения, касающиеся одновременно и самого же бескрайнего включения всего эйдетического вообще.
Напрашивается следующая цепочка мыслей. Всякой области бытия мы обязаны приписывать в научных целях известную эйдетическую сферу — не в качестве собственно области исследования, но в качестве места сущностных познаний, — должно быть так, чтобы исследователь соответствующей области мог в любую минуту обратиться к ней, как только это будет подсказано ему теоретическими мотивами, связанными с сущностной спецификой соответствующей области. Уж на формальную логику (или, соответственно, формальную онтологию) у всякого исследователя должно быть право свободно ссылаться. Ибо, что бы он ни исследовал, это всегда предметы, и что formaliter верно относительно предметов вообще по любым категориальным показателям (свойства, положения дел вообще и т. п.), то верно и для него и принадлежит ему. И всякий раз, когда он формулирует понятия и тезисы, делает выводы, его, как и равным образом любого специалиста в своей области, касается все, что в формальной всеобщности утверждает относительно таких значений и типов значений формальная логика. Тем самым это касается и феноменолога. Предельно широкому логическому смыслу предмета подчиняется и любое чистое переживание. Итак, мы не можем выключить формальную логику и онтологию — так представляется нам. И точно так же, очевидно по тем же самым причинам, мы не можем выключить и всеобщую ноэтику, высказывающую сущностные выводы относительно разумности и неразумности логического мышления вообще, содержание значений которого определяется при этом лишь формально-всеобще.
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется при соблюдении известных условий возможность «помещения в скобки» формальной логики, а вместе с нею и всех дисциплин формального матесиса (алгебры, теории чисел, теории множеств и т. д.). А именно, если предположить, что феноменологическое исследование чистого сознания не ставит и не должно ставить перед собой иных целей, кроме задач дескриптивного анализа, решаемых в пределах чистой интуиции, то теоретические формы математических дисциплин и все их опосредованные теоремы окажутся бесполезны для него. Если образование понятий и суждений совершается так, что при этом отсутствует конструирование, не строятся системы опосредованной дедукции, то учение о формах дедуктивных систем, содержащееся в математике, и не может функционировать как инструмент материального исследования.
А феноменология и на деле чисто дескриптивная дисциплина, которая исследует поле трансцендентально чистого сознания, следуя исключительно интуиции. Поэтому логически положения, на которые у нее мог бы когда-либо возникнуть повод ссылаться, были бы исключительно логическими аксиомами наподобие положения об исключенном третьем, причем всеобщность и абсолютность подобных аксиом феноменология могла бы доводить до ясного усмотрения на своих собственных данностях. Итак, мы можем и формальную логику, и весь матесис вообще ввести в εποχή, производящую выключение, и в этом отношении быть уверены в правомерности нормы, какой мы намерены следовать как феноменологи: не претендовать ни на что кроме того, что способны довести до ясного усмотрения, по мере сущности, в чистой имманентности самого сознания.
Вместе с этим мы одновременно достигаем эксплицитного осознания того, что дескриптивная феноменология принципиально независима от любой из перечисленных дисциплин. Утверждение это не лишено значения в плане философского использования выводов феноменологии, а потому небесполезно тотчас же отметить его для себя по этому случаю.
§ 60. Выключение материально-эйдетических дисциплин
Что же касается материально-эйдетических сфер, то одна из них столь особо отмечена для нас, что, само собой разумеется, мы не можем думать о выключении ее, — это сущностная сфера самого же феноменологически очищенного сознания. Даже если бы мы ставили перед собой цель изучения чистого сознания в его частных обособлениях, следовательно, со стороны науки о фактах, хотя и не эмпирико-психологических (потому что мы продолжаем вращаться в феноменологическом кругу, где мир выключен), мы все равно не могли бы обойтись без априори сознания. Наука о фактах не может отказаться от своего права пользоваться сущностными истинами, имеющими касательство к индивидуальным предметностям, что принадлежат ее же собственной области. А наше намерение, как было сказано уже во введении, заключается как раз в том, чтобы положить основание феноменологии как эйдетической науке, как сущностному учению о трансцендентально очищенном сознании.
Если это нам удастся, то феноменология охватит, как принадлежащие ей, все «имманентные сущности», т. е. те сущности, какие индивидуализируются исключительно в индивидуальных событиях потока сознания, в каких бы то ни было текущих отдельных переживаниях. Теперь же для нас фундаментально значительным станет усмотрение того, что отнюдь не все сущности входят в круг феноменологии, но что, подобно тому, как среди индивидуальных предметностей имеет место различение предметностей имманентных и трансцендентных, это самое значимо и для соответствующих сущностей. Так, «вещь», «пространственная форма», «движение», «вещный цвет» и т. п., но также и «человек», «человеческое ощущение», «душа», «душевное переживание» (переживание в психологическом смысле), «личность», «свойство характера» и т. п. — все это трансцендентные сущности. Если же мы намерены формировать феноменологию как чисто дескриптивное сущностное учение об имманентных образованиях сознания, о событиях, схватываемых в потоке переживания в рамках феноменологического выключения, то к этим рамкам не принадлежит ничего трансцендентно-индивидуального, равно как к феноменологии не принадлежит ни одна из «трансцендентных сущностей», логическое место которых, скорее, в сущностном учении о соответствующих трансцендентных предметностях, в онтологии их.
Итак, феноменологии с ее имманентностью не придется производить никаких бытийных полаганий подобных сущностей, не придется высказываться об их значимости и не-значимости или, скажем, об идеальной возможности соответствующих им предметностей, не придется устанавливать каких-либо относящихся к ним сущностных законов.
Трансцендентно-эйдетические регионы и дисциплины принципиально не могут создать предпосылки для феноменологии, если только она действительно намерена связать себя областью чистого переживания. Поскольку же наша цель как раз и состоит в том, чтобы положить основание феноменологии именно в такой чистоте (в соответствии с уже высказанной нормой), и поскольку величайший философский интерес также связан со вполне сознательным поведением такой чистоты, то мы осуществляем эксплицитное расширение первоначальной редукции и распространяем ее теперь на все трансцендентно-эйдетические области и принадлежащие к ним онтологии.
Итак: подобно тому как мы выключаем действительную физическую природу и эмпирическое естествознание, мы выключаем и эйдетическое естествознание, т. е. те науки, которые онтологически исследуют то, что сущностно принадлежит к физической природной предметности как таковой. Геометрия, кинематика, «чистая» физика материи — все они заключаются в скобки. Равным образом, подобно тому как мы выключили все опытные науки о животных существах и все эмпирические науки о духе, изучающие личные существа в личных союзах, людей как субъектов истории, как носителей культуры, а также и сами культурные образования и т. д., точно также мы выключаем теперь и соответствующие этим предметностям эйдетические науки. Мы поступаем так наперед и в идее, потому что, как хорошо известно всем, эти онтологически эйдетические науки (например, рациональная психология, социология) еще не получили своего основания или по крайней мере своего чистого и безукоризненного основания.
С учетом тех философских функций, какие призвана взять на себя феноменология, здесь уместно внятно заявить о том, что нашими данными здесь рассуждениями была установлена абсолютная независимость феноменологии как от всех прочих, так и от материально-эйдетических наук.
Произведенные расширения феноменологической редукции, очевидно, лишены того же основополагающего значения, какое имеет первоначальное выключение природного мира и сопряженных с ним научных дисциплин. Вследствие этой первой редукции стало впервые возможно обратить взор на феноменологическое поле, на постижение его данностей вообще. Прочие редукции предполагают первичную редукцию, поэтому они вторичны, но оттого имеют не меньшее значение.
§ 61. Методологическое значение систематики феноменологических редукций
Для феноменологического метода (а в дальнейшем и для метода трансцендентально-философского исследования вообще) чрезвычайно важно систематическое учение обо всех феноменологических редукциях, какие мы пытались схематически обрисовать выше. Производимое феноменологией эксплицитное «занесение в скобки» обладает методической функцией, постоянно напоминая нам о том, что соответствующие бытийные и познавательные сферы лежат принципиально за пределами тех трансцендентально-феноменологических сфер, которые необходимо исследовать здесь, и что любое внедрение предпосылок, принадлежащих областям, что внесены в скобки, служит признаком противосмысленного смешения, подлинной μετάβασις. Если бы область феноменологии представлялась нам со столь же само собою разумеющейся непосредственностью, что область естественной установки опыта, или если бы она возникала в итоге простого перехода от естественной к эйдетической установке, подобно тому как область геометрии берет начало с эмпирически-пространственного, тогда нам не потребовалось бы обстоятельных редукций с неотмыслимыми от них сложными раздумьями. И если бы не постоянное искушение совершить ошибочную μετάβασις, особенно при интерпретации относящихся к эйдетическим дисциплинам предметностей, то не потребовалось бы и такой тщательности при размежевании отдельных шагов. Однако искушение столь сильно, что грозит даже и тому, кто уже отделался в отдельных областях от общераспространенных лжеистолкований.
Первое место среди искушений занимает чрезвычайно распространенная склонность нашей эпохи психологизировать все эйдетическое. Многие именуют себя идеалистами, однако уступают такому искушению, — вообще среди идеалистов весьма действенны взгляды в духе эмпиризма. Тот, кто в идеях, сущностях видит «психические образования», кто, изучая операции сознания, в которых на основе созерцания вещей с вещными цветами и формами приобретаются «понятия» цвета, формы, смешивает появляющееся в итоге сознание этих сущностей с самими сущностями, тот приписывает потоку сознания в качестве его реальной составной части нечто принципиально трансцендентное ему. С одной стороны, это порча психологии, поскольку касается эмпирического сознания, с другой же, — и это затрагивает нас, — это порча феноменологии. Итак, если только мы действительно хотим обрести искомый нами регион, очень важно, чтобы в этом отношении существовала полная ясность. На нашем пути, согласно природе вещей, это достигается так, что сначала мы оправдываем эйдетическое вообще, а затем, в связи сучением о феноменологической редукции, мы особо выключаем все эйдетическое.
Впрочем это последнее, т. е. выключение эйдетического, мы должны были ограничить эйдетикой трансцендентных индивидуальных предметностей в любом смысле. Здесь заявляет о себе новый фундаментальный момент. Если мы уже избавились от склонности к психологизации сущности и сущностных отношений, то тогда нам предстоит следующий большой шаг, который не вытекает так просто из первого, а именно, нам необходимо познать и последовательно проводить повсюду столь чреватое последствиями различение имманентных и трансцендентных сущностей, как сформулировали мы его выше. С одной стороны, сущности образований самого же сознания, с другой, сущности индивидуальных событий, трансцендентных относительно сознания, т. е. сущности того, что лишь «изъявляет» себя в образованиях сознания, например «конституируется» по мере сознания через посредство чувственных явлений.
По крайней мере, мне этот второй шаг после первого дался с трудом. Это не ускользнет от любого внимательного читателя «Логических исследований». Первый шаг производится там со всей решительностью, особые права эйдетического подробно обосновываются в противоположность его психологизации, — и это решительно расходилось с настроенностью той эпохи, которая столь бурно реагировала на «платонизм» и «логицизм». Что же касается второго шага, то и в некоторых теориях, например, в теории логико-категориальных предметностей, в теории сознания, дающего эти предметности, он совершался решительно, между тем как в других рассуждениях того же тома очевидными становятся колебания, поскольку понятие логического предложение сопрягается то с логико-категориальной предметностью, то с соответствующей, имманентной выносящему мышлению сущностью. Для начинающего феноменолога самое трудное как раз и заключается в овладении в своей рефлексии различными установками сознания с их различными предметными коррелятами. И это сохраняет значение для всех сущностных сфер, которые не принадлежат к самой имманентности сознания. Не только в отношении формально-логических или же онтологических сущностей и сущностных отношений (т. е. в отношении таких сущностей, как «предложение», «вывод» и т. п., а также «число», «порядок», «многообразие» и т. д.) необходимо достичь такого усмотрения, но также и в отношении сущностей, заимствуемых в сфере природного мира («вещь», «телесная форма», «человек», «личность» и т. д.). Показатель того, что усмотрение достигнуто, — расширение феноменологической редукции. Большое методологическое значение приобретает то практическое сознание, какое овладевает нами вследствие произведенной феноменологической редукции: подобно сфере природного мира, и все эйдетические сферы принципиально не могут считаться данными в отношении их подлинного бытия; в целях обеспечения чистоты его исследовательского региона все эти эйдетические сферы должны быть занесены в скобки; во всех имеющих сюда отношение наук не может быть заимствована и использована как предпосылка для целей феноменологии ни одна-единственная теорема и даже ни одна-единственная аксиома. Именно благодаря всему этому мы методически предохраняем себя от всех тех смешений, что слишком глубоко укоренены в нас, прирожденных догматиках, для того чтобы мы могли избегать их просто так.
§ 62. Теоретико-познавательные предзнаменования. «Догматическая» и феноменологическая установка
Я только что употребил слово «догматик». В дальнейшем обнаружится, что это не просто словоупотребление по аналогии, но что призвук теоретико-познавательного идет здесь от самого существа вещей. Вполне уместно вспомнить сейчас о теоретико-познавательной противоположности догматизма и критицизма и обозначить как догматические все те науки, что подлежат феноменологической редукции. Потому что на основании существенных источников можно усмотреть, что все эти науки как раз и суть те, что нуждаются в «критике», причем в такой, какую они не в состоянии произвести собственными силами, и что, с другой стороны, та наука, которая наделена единственной в своем роде функцией производить такую критику для других и одновременно для себя, и есть не какая иная наука, но именно феноменология.[63] Говоря точнее: отличительная особенность феноменологии заключается в том, что в объеме ее эйдетической всеобщности она охватывает все способы познания и все науки, притом в аспекте всего того, что доступно в них непосредственному усмотрению, что по меньшей мере должно бы быть доступно в них такому усмотрению, будь только они подлинным познанием. Смысл и право всех непосредственных исходных пунктов и всех непосредственных шагов возможного метода относятся к области феноменологии. Тем самым в феноменологии заключены все эйдетические (т. е. безусловно общезначимые) познания, которые могут разрешить все радикальные проблемы «возможности», сопряженные с любыми данными познаниями и науками. Таким образом, как прикладная, феноменология производит самую последнюю, выносящую окончательное суждение критику любой принципиально специфической науки, а тем самым в особенности производит окончательное определение смысла «бытия» ее предметов и принципиальное прояснение ее методики. Таким путем становится понятным то, что феноменология была как бы тайной мечтою всей философии Нового времени. Тяга к ней ощутима уже в поразительно глубокомысленных картезианских размышлениях, затем снова в психологизме локковской школы; Юм почти уже вступает на ее территорию, однако с завязанными глазами. Однако впервые по-настоящему узрел ее Кант, величайшие интуиции которого становятся вполне вразумительны лишь нам, когда мы со всей сознательной ясностью выработали специфику феноменологической области. И нам становится очевидным, что умственный взор Канта покоился на этом поле, хотя он еще и не был способен обратить его в свое достояние и распознать в нем поле, на котором будет трудиться особая строгая наука о сущностях. Так, к примеру, трансцендентальная дедукция в первом издании «Критики чистого разума» разворачивается, собственно, уже на почве феноменологии, однако Кант ложно истолковывает ее как почву психологии, а потому в конце концов оставляет ее.
Впрочем, этими рассуждениями мы предвосхищаем дальнейшее изложение (третьей книги настоящего сочинения). Здесь же все сказанное в форме предзнаменования пусть послужит нам в оправдание того, почему мы именуем «догматическим» весь комплекс подлежащих редукции наук и почему противопоставляем его феноменологии, науке с совершенно иными измерениями. Одновременно мы в параллель такому противопоставлению выставляем догматическую и феноменологическую установку, причем, очевидно, естественная установка подчиняется, как особый случай, установке догматической.
Примечание
То обстоятельство, что специфически феноменологические выключения, о каких мы учили, независимы от эйдетического выключения индивидуального существования, подсказывает нам следующий вопрос: не возможна ли в рамках этих выключений фактическая наука трансцендентально редуцированных переживаний? Как и всякий принципиальный вопрос о возможности, он может быть разрешен лишь на почве эйдетической феноменологии. Ответ на этот вопрос делает понятным, почему любая попытка приступить к феноменологической науке фактов до разворачивания феноменологического учения о сущностях была бы нонсенсом. А именно, оказывается, что наряду с внефеноменологическими фактическими дисциплинами не может существовать параллельная им и одинаково устроенная феноменологическая дисциплина фактов — не может существовать на том основании, что окончательное использование всех фактических дисциплин приводит к совмещению в едином целом всех соответствующих им фактических и мотивированных в качестве фактических возможностей феноменологических взаимосвязей, причем эта объединенная общность есть не что иное, как поле феноменологической науки о фактах, которой нам теперь недостает. Итак, в одной своей главной части эта наука есть именно производимое эйдетической феноменологией «феноменологическое обращение» обычных фактических дисциплин, и остается нерешенным лишь вопрос о том, в какой мере с такой позиции можно достигнуть большего.
Раздел третий. Вопросы методики и проблематики чистой феноменологии
Глава первая. Предварительные методические соображения
§ 63. Особое значение методических соображений для феноменологии
Если мы будем соблюдать нормы, предписываемые нам феноменологическими редукциями, если мы в точном соответствии с их требованиями выключим все трансценденции и, следовательно, станем брать переживания в их чистоте по их собственной сущности, то перед нами откроется, согласно вышеизложенному, поле эйдетического познания. После того, как мы преодолеем первоначальные трудности, оно предстанет как бесконечное простирающееся во все стороны поле. А именно, многообразие способов и форм переживания вместе со всеми их реальными и интенциональными составами сущностей неисчерпаемо, а потому неисчерпаемо и многообразие основывающихся внутри их сущностных взаимосвязей и аподиктически необходимых истин. Итак, задача наша в том, чтобы возделывать это бесконечное поле присущего сознанию априори, что никогда еще не удостаивалось положенного ему по праву и даже вовсе еще не было увидено до сей поры, и чтобы взращивать на нем полноценные плоды. Но как же обрести правильное начало? На деле начало здесь самое трудное, и ситуация необычна. Отнюдь не простирается это поле перед нашими глазами так, чтобы высились на нем хорошо заметные данности, а нам оставалось только черпать их полными пригоршнями в полной уверенности, что возможно обратить их в объекты науки, не говоря уже об уверенности в методе, которым следует при этом пользоваться.
Здесь все совсем не так, как с данностями естественной установки, особенно же с объектами природы, хорошо знакомыми нам из непрерывного опыта, из мыслительных упражнений, продолжающихся вот уже тысячи лет; когда мы пытаемся самостоятельно продолжать и двигать вперед их познание, нам уже известны многообразные их особенности, элементы, законы. При этом все неизвестное — горизонт известного. Любое методическое усилие продолжает уже данное, совершенствование метода опирается на уже наличествующий метод; в общем и целом речь идет о развитии специальных методов, которые встраиваются в заранее данный, установивший стиль оправдавшей себя научной методики и, изыскивая новое, руководствуются этим стилем.
Насколько все иначе в феноменологии! Мало того, что еще до всякого определяющего существо дела метода ей уже потребен метод — для того, чтобы вообще доставить схватывающему взору поле трансцендентально чистого сознания; мало того, что ей необходимо отвращать взор от остающихся в сознании природных данностей, которые как бы сами собой сплетаются с новыми интендированными данностями, и все это дается с трудом, так что вечно грозит ей опасность перепутать одни и другие, — недостает ведь и всего того, что так идет на пользу сфере природных предметов, а именно привычной близости им благодаря давно усвоенному видению, дара полученных по наследству теоретических ходов мысли и методов, отвечающих своему предмету. Само собой разумеется, что и уже развитая методика не встречает того доверия, которое могло бы питаться многообразными удачными, оправдавшими себя применениями ее в признанных всеми дисциплинах и в практике жизни.
Так что выступающая на сцену феноменология должна считаться с настроениями скепсиса. Ей надлежит не просто развивать свой метод, из предметов нового типа извлекать новые и необычные познания, но она должна достигнуть полнейшей ясности относительно смысла и значимости этого метода, с тем чтобы она могла стойко выдерживать все серьезные возражения.
К этому прибавляется и нечто более важное, поскольку сопряженное с принципами: по своей сущности феноменология должна претендовать на роль «первой» философии, которая предложит средства для любой критики разума, какую еще предстоит осуществлять, и именно потому она требует полной беспредпосылочности и, что до нее самой, то абсолютной ясности рефлективного усмотрения. Сущность самой феноменологии в том, чтобы реализовать совершеннейшую ясность относительно ее собственной сущности, а, стало быть, и относительно принципов ее метода.
Но всем этим причинам для феноменологии совсем иное значение, нежели аналогичные усилия других наук, приобретают тщательные усилия добиться ясного усмотрения основных составных частей метода, т. е. того, что методически определяет эту новую науку с самого начала и на всем протяжении ее поступательного движения.
§ 64. Самовыключение феноменолога
Прежде всего упомянем одно методическое сомнение, которое способно было бы сковать и самые первые наши шаги.
Мы выключаем весь совокупный природный мир, все трансцендентно-эйдетические сферы и благодаря этому будто бы обретаем «чистое» сознание. Но не сказали ли мы только что — «мы» выключаем? В состоянии ли мы, феноменологии, вывести из игры самих себя, потому что ведь и мы тоже сочлены природного мира?
Очень скоро можно убедиться в том, что это совсем не трудно, — если только у нас не сместился смысл «выключения». И мы можем даже преспокойно продолжать столь же естественно говорить, как все люди, ведь, будучи феноменологами, мы не перестаем быть природными существами и полагать себя таковыми также и в своих речах. Однако, будучи частью метода, мы, для тех утверждений, что должны быть внесены в кадастр феноменологии, какой самое время теперь завести, будем предписывать себе норму феноменологической редукции — таковая включает в себя наше эмпирическое существование и препятствует вносить в книгу такие положения, которые в эксплицитном или имплицитном виде содержали бы естественные полагания. Пока речь идет об индивидуальном существовании, феноменолог поступает точно так, как и всякий эйдетик, например геометр. В своих научных работах геометры нередко говорят о самих себе и своей исследовательской работе, однако сам этот занимавшийся математикой человеческий субъект отнюдь не относится к эйдетическому содержанию математических тезисов.
§ 65. Обратная возвратная соотнесенность феноменологии с самой собой
Далее, можно было бы видеть препятствие в следующем: при феноменологической установке мы направляем свой взгляд на чистые переживания, с тем чтобы исследовать их, однако переживания самого этого исследователя, переживания самой этой установки и самого направления взгляда, если рассматривать их в феноменологической чистоте, одновременно так или иначе принадлежат области того, что тут исследуется.
Но и здесь нет ни малейшего затруднения. Точно та же ситуация в психологии и в логической ноэтике. Мышление психолога тоже есть нечто психологическое, мышление логика — нечто логическое, т. е. оно и само входит в объем логических норм. Подобная возвратная обратная соотнесенность науки сама с собой могла бы вызывать опасения лишь в том случае, если бы от феноменологических, психологических и логических выводов такого-то мышления такого-то мыслителя зависело познание всего прочего в соответствующих областях исследования, но это противосмысленное предположение.
Правда, во всех подобных дисциплинах, возвратно соотносящихся с самими собою, имеется трудность, заключающаяся в том, что и вводя в эти дисциплины и впервые погружаясь в них исследовательским взором, приходится оперировать такими вспомогательными средствами метода, которые в окончательном научном виде сформируются лишь позднее. Замысел новой науки невозможен без предварительных и приготовительных соображений, касающихся как существа дела, так и метода. Однако и понятия, и прочие элементы метода, какими оперирует в таких подготовительных работах психология, феноменология и т. д. сами суть понятия и элементы психологические, феноменологические и т. д. — свое окончательное научное отпечатление они приобретают лишь в системе науки, которая, стало быть, уже фундирована.
Очевидно, что в этом направлении нас не ожидают какие-либо серьезные сомнения, какие могли бы воспрепятствовать действительной разработке подобных наук и в особенности феноменологии. Коль скоро же феноменология предполагает быть в рамках лишь непосредственной интуиции чисто «дескриптивной» наукой о сущностях, то всеобщность ее метода дана заранее — как нечто вполне само собою разумеющееся. Дело феноменологии в показательном виде предъявлять взору чистые события сознания, доводить их до полной ясности, упражняться в их анализе, в постижении их сущности в пределах такой ясности, преследовать доступные ясному усмотрению сущностные взаимосвязи, то, что было усмотрено, выражать в адекватных понятийных выражениях, смысл которых предписывается исключительно узренным, то есть тем, что вообще ясно усмотрено. Наивное пользование подобным методом поначалу служит лишь тому, чтобы мы могли как-то осмотреться в новой области, поупражняться на ее территории в умении смотреть, схватывать и анализировать и как-то познакомиться с данностями этой области, — напротив, научная рефлексия сущности самого метода, сущности разыгрывающихся в нем видов данностей, рефлексия сущности, возможностей и условий полной, ясности и совершенного усмотрения, равно как вполне адекватного и четкого понятийного выражения и т. п. и т. д. принимает на себя функцию всеобщего, логически строгого фундирования метода. Если такую рефлексию совершают сознательно и последовательно, то она приобретает характер и достоинство научного метода, который в данном конкретном случае, применяя строго формулируемые методические нормы, позволяет себе критику — критику, ограничивающую и совершенствующую метод. Возвратная соотнесенность феноменологии с самой собою проявляется тогда в том, что все обдуманное и четко установленное методичной рефлексией относительно ясности, усмотрения, выражения и т. п., в свою очередь принадлежит владениям феноменологии, в том, что все саморефлексивные анализы оказываются также феноменологическими сущностными анализами, а получаемые методологические усмотрения также подпадают под действие норм, которые они же формулируют. Во всякой новой рефлексии, таким образом, необходимо, чтобы мы могли постоянно убеждаться в том, что высказываемое в методологическом высказывании положение дел может быть передано в полнейшей ясности, что понятия, какими мы пользуемся, действительно адекватны данному и т. д.
Сказанное, очевидно, сохраняет значимость и для всех методологических исследований, которые соотносятся с феноменологией, сколь бы широки ни были их пределы, а потому разумеется само собою, что настоящее сочинение, ставящее своей целью готовить путь феноменологии, по своему содержанию само есть от начала и до конца феноменология.
§ 66. Адекватное выражение ясных данностей. Однозначные термины
Не откладывая на будущее, чуть продолжим те методологические размышления предельно всеобщего свойства, которые заявили о себе в предыдущем параграфе. Феноменология не стремится быть чем-то иным, нежели учением о сущностях в пределах чистой интуиции; на показательным образом представляемых данностях трансцендентально чистого сознания феноменолог осуществляет следующее: он непосредственно узревает сущности и фиксирует свое созерцание понятийно, т. е. терминологически. Слова, которыми он пользуется, могут происходить из общего языка, они могут быть многозначны и неопределенны в своем переменчивом смысле. Однако, как только они, оказываясь выражением актуального, совпадают с данными интуиции, они приобретают определенный, hie et nunc[64] актуальный и ясный смысл: если опираться на такой их смысл, их можно научно фиксировать.
Потому что, осуществив это, т. е. применив какое-либо слово в адекватном приспособлении его к интуитивно постигнутой сущности, мы еще не достигли всего, хотя со стороны самого интуитивного постижения все необходимое совершено. Наука возможна лишь тогда, когда результаты мысли могут сохраняться в форме знания, когда эти результаты приняли форму системы высказываний и их можно применять для дальнейшего мышления, когда высказывания отчетливы по своему логическому смыслу, однако могут пониматься или же актуализоваться по мере суждения уже без ясности самих лежащих в основе представлений, т. е. уже без ясного усмотрения этих основ. Правда, одновременно с этим наука требует, чтобы существовали субъективные и объективные приемы, позволяющие по мере необходимости в любой момент восстанавливать (причем интерсубъективно значимо) соответствующие обоснования и актуальные усмотрения.
Сюда же относится еще и следующее: одни и те же слова и положения получают однозначную соотнесенность с определенными интуитивно постижимыми сущностями, какие «исполняют их смысл». На основе интуиции, а также отдельных, хорошо освоенных созерцаний, эти слова и предложения наделяются четкими и единственными значениями: иные напрашивающиеся (как это обычно и бывает) значения как бы «перечеркиваются», а мыслительные понятия слов и предложений фиксируются во всех возможных взаимосвязях актуального мышления и утрачивают свою способность приспособляться к иным интуитивным данностям с иными «исполняющими» их сущностями. Тем не менее, поскольку мы с полным основанием избегаем искусственных слов, чуждых общераспространенным языкам, в условиях существующей в обычном словоупотреблении многозначности требуется особая осторожность — необходимо постоянно проверять, действительно ли все зафиксированное в прежней взаимосвязи применено с тем же смыслом в новой связи. Впрочем, здесь не место подробнее разбирать это и иные близкие правила (например, тоже и те, которые относятся к науке как к образованию, складывающемуся в интерсубьективном сотрудничестве).
§ 67. Метод прояснения. Наделяющее сознание. «Близость» и «дальность» данностей
Более интересны для нас методические соображения, относящиеся не к выражению, а к сущностям и взаимосвязям сущностей, которые должны быть выражены, но еще прежде постигнуты. Если исследующий взгляд направлен на переживания, то таковые представятся, как это обычно и бывает, с такой пустотой и неопределенной дальностью, что не будут годны ни для единичных, ни для эйдетических констатации. Все будет, однако, совершенно иначе, если мы вместо того, чтобы интересоваться самим переживанием, пожелаем исследовать саму сущность пустоты и неопределенности, — ведь эти-то последние выступают, как данности, отнюдь не неопределенно, но в полнейшей ясности. Однако, если необходимо, чтобы само неопределенно сознаваемое, например неясно мелькающее в воспоминании или в фантазии, выдавало нам свою сущность, то она будет лишь весьма неполной; это означает, что если лежащие в основе сущностного постижения единичные интуиции отличаются более низкой ступенью ясности, то таким же будет и постижение сущности, — постигнутое будет коррелятивно «неясным» по своему смыслу, ему присуща своя размытость, ему присущи всякого рода внешние и внутренние неразличенности. Тогда будет невозможно решить — или же будет возможно решать лишь в самых «грубых» чертах, — постигается ли нами одно и то же (например, одна и та же сущность) или же различное; нельзя будет установить, какие действительные компоненты заключены в постигаемом или же, например, что это за компоненты, коль скоро они неясно отделяются друг от друга и предстают в колеблющемся свете.
Итак, задача, стало быть, заключается в том, чтобы всё, растекающееся в неясности, пребывающее на большем или меньшем удалении для созерцания, было доставлено на нормально близкое расстояние, чтобы оно представало в совершенной ясности, — только тогда можно будет практиковать созерцание сущности, только тогда интуиции будут соответственно полноценными, и интендируемые сущности и сущностные отношения будут достигать совершенной данности.
По этой причине самому постижению сущности присущи различные ступени ясности точно так же, как и самой единичности, что предстает нашему взору. Однако можно сказать, что для всякой сущности, равно как для всякого отвечающего ей момента в индивидуальном, может существовать, так сказать, абсолютная близость, — при такой близости сущность дана, если исходить из существования ступеней ясности, абсолютно, то есть это чистая данность такой сущности, ее чистая самоданность. Предметное в таком случае осознается не просто как вообще «само» стоящее перед взором и как «данность», но оно осознается как «само оно», данное во всей его чистоте — целиком и полностью, каково оно вообще само по себе, в самом себе. Пока остается еще хотя бы след неясности, он продолжает затенять в «самости» данного моменты, которые тем самым не попадают в светлый круг чистой данности. В случае же полной неясности — полюс, обратный полной ясности, — вообще не достигает данности, сознание «темно», то есть оно ничего уже не созерцает, оно уже не дающее и не наделяющее в собственном смысле слова. Потому, в соответствии с изложенным, нам надлежит сказать следующее:
Сознание дающее в точном смысле слова, и сознание наглядно созерцающее — в противоположность не представляющему наглядно, — и сознание ясное — в противоположность темному, — все это совпадает. Далее: существуют ступени данности, наглядности, ясности. «Нуль» — темнота, «единица» — полная ясность, наглядность, данность.
При этом данность не следует понимать как подлинную данность, тем самым и как данность по мере восприятия. Мы не отождествляем «самоданное» с «подлинно», с «живо и телесно» данным, В том смысле, какой мы отметили выше как вполне определенный, «данность» и «самоданность» — это одно и то же, а пользование плеонастическим, чрезмерно полным выражением должно послужить нам лишь для того, чтобы исключить более широкий смысл данности, а именно тот, в каком, в конце концов, обо всем, что представляется, можно говорить, что оно дано в представлении (пусть хотя бы и дано «пустым образом»).
Далее, определения наши, что видно и без пояснений, значимы для любых созерцаний, в том числе и для пустых представлений, то есть они значимы без ограничения характера предметностей, стало быть, со включением сюда и категориального самосозерцания, хотя нас сейчас интересуют лишь способы данности переживаний и их феноменологические (реальные и интенциональные) составы.
Однако, имея в виду будущие наши анализы, нам не следует забывать о том, что наиболее существенное в положении дел сохраняется независимо от того, проницает ли взор чистого «я» соответствующее переживание сознания или, говоря яснее, «обращается» ли чистое «я» к некой «данности» и «постигает» ли оно ее или нет. Поэтому, «быть данным по мере восприятия» может, к примеру, означать не то же самое, что «быть воспринимаемым» в собственном и нормальном смысле постижения бытия такой данности, но и просто — «быть готовым к восприятию»; а «быть данным по мере фантазии» вовсе не непременно означает «быть постигнутым в фантазии», и так во всем, включая также и ступени ясности — темноты. Заранее обращаем внимание на это понятие «готовности», которым нам еще предстоит заняться, однако заметим также, что под словом «данность» мы разумеем также и постигнутость, если только не сказано ничего иного и если это иное не разумеется само собою в контексте речи, а под словами «сущностная данность», «данность сущности» — также и подлинную постигнутость. (это проблематика темпоральности, поскольку данность всегда одна, а мышление думает во времени)
§ 68. Подлинные и неподлинные ступени ясности. Сущность нормального прояснения
Наши описания должны быть продолжены. Говоря о ступенях данности или ясности, мы должны различать подлинные градации ясности, в параллель к которым можно поставить и градации в пределах темного, и неподлинные ступени ясности, а именно ступени экстенсивного расширения объема ясности, возможно и при одновременном возрастании степени интенсивности ясного.
Уже данный и действительно усмотренный момент может быть дан в большей или меньшей ясности, например, звук, цвет. Исключим пока постижение всего, что выходит за рамки наглядно данного. Тогда мы имеем дело с градациями в рамках, где наглядно созерцаемое является действительно наглядным; такая наглядность в смысле своей ясности допускает континуум различий по степени интенсивности, которые, как и любая интенсивность, начинаются с нуля и заканчиваются твердым пределом. На такой твердый предел известным образом, можно сказать, указывают низшие ступени: созерцая цвет в модусе несовершенной ясности, мы «подразумеваем» цвет, каков он «сам по себе», «в себе самом», то есть именно цвет, данный в совершенной ясности. Между тем и этот наш образ — «цвет указывает» — не должен сбивать нас с толку, — как если бы нечто было знаком чего-то иного, — и точно так же недопустимо говорить здесь (напомним здесь то, что уже было однажды сказано ранее)[65] о том, что нечто ясное «само по себе» репрезентируется неясным, — подобно тому, как некое вещное свойство «репрезентируется» — преломляется, нюансируется — в созерцании моментом чувства. Различия ясности по степеням — это различия исключительно способа данности.
Совершенно иначе обстоит дело, когда постижение, выходящее за пределы наглядно данного, сплетает пустые постижения с действительно наглядным постижением, а тогда, как бы поднимаясь по ступеням ясности, все больше пустых представлений могут становиться наглядными и все больше наглядных представлений могут становиться пустыми. Прояснение состоит в таком случае в двух соединяющихся друг с другом процессах — в процессе перехода в наглядность и в процессе возрастания ясности всего уже ставшего наглядным.
Тем самым описана, однако, сущность нормального прояснения, ибо правило состоит вот в чем: не бывает «просто» созерцаний и только, не бывает так, чтобы исключительно пустые представления переходили в исключительно наглядные; напротив, главную роль, иногда в качестве промежуточных ступеней, играют созерцания, лишенные чистоты, — соответствующая им предметность представляется в известных своих сторонах или моментах наглядно, в других — лишь пусто.
§ 69. Метод совершенно ясного схватывания сущности
Совершенно ясное схватывание обладает тем преимуществом, что по своей сущности позволяет с абсолютной несомненностью идентифицировать и различать, эксплицировать и сопрягать, то есть с ясным «усмотрением» совершать любые «логические» акты. К числу таковых относятся и акты схватывания сущности, на предметные корреляты которых переносятся, как было сказано выше, более проясненные теперь нами различия в степени ясности, подобно тому как, с другой стороны, наши только что полученные методологические выводы переносятся на достижение совершенной сущностной данности.
Итак, в общем и целом метод, составляющий основу метода эйдетической науки вообще, требует от нас, чтобы мы двигались вперед шаг за шагом. Вполне может быть так, что единичные интуиции, служащие целям постижения сущности, ясны уже в той степени, что позволяют в полной ясности обрести нечто сущностно-всеобщее, — однако этого недостаточно для нашей ведущей интенции; нет ясности со стороны более конкретных определений иных, сплетающихся с этой сущностей, а потому необходимо приблизить к глазам некоторые показательные детали или позаботиться о приобретении иных, более подходящих, по контрасту с которыми ярче выступят и затем будут доведены до максимально ясной данности такие отдельные черты, которые до этого интендировались сбивчиво и темно.
Приближение к взору совершается повсюду уже и в сфере темного. Темное представление по-своему приближается к нам и наконец стучит во врата созерцания, но от этого оно еще не переступает их порог (возможно, и не способно на это «вследствие психологических торможений»).
Упомянуть необходимо и о следующем: все, что дано нам, как правило, бывает окружено ореолом, — это ореол неопределенно определимого, и он обладает своим способом «раскрывающегося» приближения к взору, раскладываясь на ряды представлений, поначалу, скажем, еще в темноте, затем вновь в сфере данности, пока, наконец, интендируемое не вступит в ярко освещенный круг совершенной данности.
Обратим внимание и еще на одно: вероятно, чрезмерным было бы утверждение, будто очевидное схватывание сущности всякий раз нуждается в полной ясности лежащих в основе деталей, в их конкретности.. Наиболее всеобщих сущностных различений, например, цвета и звука, восприятия и воли, вполне достаточно для того, чтобы дать показательный образец на низкой ступени ясности. Представляется, что в них уже вполне дано наиболее всеобщее, род (цвет вообще, звук вообще), но не различение. Такое мое утверждение вызывающе, но не знаю, как избегнуть его. Представьте себе существо дела посредством живой интуиции.
§ 70. Метод прояснения сущности и роль восприятия в нем. Преимущественное положение нескованной фантазии
Выделим следующие особо важные черты метода сущностного схватывания. От общей сущности непосредственно интуитивного сущностного постижения неотделимо то, что оно — мы и прежде придавали этому особое значение[66] — может осуществляться на основе просто лишь того, что мы вызываем в себе показательные детали. И, как мы уже говорили выше, такое вызывание, например фантазия, может быть столь совершенно ясным, что допускает совершенное схватывание и усмотрение сущности. В общем и целом восприятие, дающее саму доподлинностъ, обладает преимуществами перед всеми видами вызывания, особенно же, конечно, внешнее восприятие. И притом не просто как акт постижения в опыте, дающий основания для констатации наличного существования — о чем нет у нас сейчас и речи, — но как фундамент феноменологических сущностных констатации. Внешнее восприятие располагает совершенной ясностью в отношении всех предметных моментов, которые на деле достигают в нем данности в модусе доподлинности и, соответственно, совершенства, в каком они доподлинны. Однако восприятие при возможном соучастии и рефлексии, возвратно направленной на него, предлагает также некоторые ясные и выдерживающие критику обособленные единичности для всеобщих сущностных анализов в феноменологическом духе, даже конкретнее — для анализа актов. Так, гнев испаряется благодаря рефлексии и по содержанию своему быстро модифицируется. Он не всегда пребывает в той готовности, что восприятие, и его не породить по мере необходимости простыми экспериментальными средствами. Рефлексивно исследовать гнев в его доподлинности значит изучать гнев, который тает и испаряется; правда, и это не лишено значения, но, возможно, не то, что следовало бы изучать. Внешнее же восприятие, несравненно более доступное, напротив того, не «тает» и не «испаряется» вследствие рефлексии; его общую сущность, как и сущность общих относящихся к нему компонентов и сущностных коррелятов, мы можем изучать в рамках доподлинности, не особенно беспокоясь о достижения ясности. Если нам скажут, что и восприятия различны по степени ясности, поскольку бывает восприятие во тьме, в условиях тумана и т. д., то мы не станем пускаться сейчас в обсуждение того, равнозначны ли подобные различия тем, о каких речь шла выше. Достаточно того, что нормальным образом восприятие не погружено в туман, и, если нам надо, то ясное восприятие всегда находится в нашем распоряжении.
Будь преимущества доподлинности чрезвычайно важны методически, нам следовало бы обсудить сейчас вопрос о том, в какой мере реализуются они в различных видах переживания, какие из видов переживания ближе в этом отношении области чувственного восприятия и всякие подобные вопросы. Между тем мы можем отвлечься от всего этого. Есть основания для того, чтобы в феноменологии, как и во всех эйдетических науках, вызывание, а, точнее, свободное фантазирование обретало преимущественное по сравнению с восприятием положение, причем даже и в феноменологии самого же восприятия, правда, за исключением феноменологии данных ощущения.
Геометр в своем исследовательском мышлении несравненно больше оперирует с фигурой или с моделью в фантазии, чем в восприятии, причем геометр «чистый», то есть такой, который не пользуется алгебраической методикой. Правда, в фантазии он обязан стремиться к ясности созерцания, от чего освобождают его рисунок и модель. Однако, рисуя и моделируя на деле, он связан, тогда как, фантазируя, он пользуется несравненной свободой, поскольку может произвольно преобразовывать воображаемые фигуры, пробегать целым континуумом модифицируемых форм, порождая таким путем бесчисленное множество новых фигур; такая свобода впервые открывает перед ним доступ в широту сущностных возможностей с их бесконечными горизонтами сущностного познания. Поэтому нормальное положение таково, что рисунок следует за фантастическими конструкциями, следует за осуществляющимся на основе фантазии эйдетически чистым мышлением и служит главным образом для того, чтобы фиксировать этапы уже пройденного процесса с тем, чтобы их в свою очередь было легче вызывать в сознании. И даже тогда, когда мысль «следует» за фигурой, начинающиеся вслед за тем новые мыслительные процессы — это процессы фантазирования по их чувственному основанию, процессы, результаты которых фиксируются в новых линиях фигуры.
В самом общем смысле ничуть не отличается от этого положение феноменолога, который имеет дело с подвергшимися редукции переживаниями и относящимися к ним по мере сущности коррелятами. И феноменологических сущностных образований тоже бесконечно много. Вспомогательным средством доподлинной данности он может пользоваться тоже лишь в ограниченной степени. Правда, в его полном распоряжении, причем в их доподлинной данности, все основные типы восприятий и вызывания — они доступны ему в качестве перцептивных экземплификаций для целей феноменологии восприятия, фантазии, воспоминания и т. д. Точно так же он располагает в сфере доподлинности, — что касается наиболее всеобщего, — примерами суждений, предположений, чувств, волнений. Однако, разумеется, он располагает примерами не всех образований, как не располагает и геометр рисунками и моделями всех бесконечно многообразных видов тел. Во всяком случае, и здесь свобода сущностного изыскания необходимо требует оперирования в фантазии.
С другой стороны, и здесь, естественно (вновь как в самой геометрии, где в последнее время не напрасно придают такое значение собраниям моделей и т. п.), необходимо упражнять фантазию в достижении совершенного прояснения, без чего здесь не обойтись; необходимо упражнять ее в свободном перестраивании данностей фантазии, однако прежде всего необходимо оплодотворить фантазию предельно разнообразными и четкими наблюдениями сферы доподлинного созерцания, — впрочем, необходимость оплодотворения фантазии, естественно, не означает, что опыт как таковой наделяется функцией, фундирующей значимость. Чрезвычайно большую пользу можно извлечь из картин истории и еще более многообразную — из представлений искусства, особенно поэзии, — все это, правда, плоды воображения, однако по оригинальности новообразований, по богатству конкретных черт, по полноте мотивировок они высоко поднимаются над тем, что способна создавать наша собственная фантазия, а к тому же, благодаря захватывающей силе средств художественного воплощения, они, при условии понимающего их постижения, с особой легкостью переводятся в совершенно ясные представления фантазии.
А потому мы, при известном пристрастии к парадоксам, действительно, можем сказать, сказать, твердо соблюдая истину, — и при условии хорошего разумения многозначного смысла, — что «фикция» составляет жизненный элемент феноменологии, как и всех эйдетических дисциплин, что фикция — источник, из которого черпает познание «вечных истин».[67]
§ 71. Проблема возможности дескриптивной эйдетики переживаний
Выше мы не раз прямо называли феноменологию дескриптивной наукой. И тут вновь встает один фундаментальный методический вопрос и возникает сомнение, воспрещающее нетерпеливое проникновение в новую область. Верно ли ставить перед феноменологией лишь цели описания, дескрипции? Дескриптивная эйдетика, — может быть, это вообще что-то несообразное?
Мотивы таких вопросов слишком близко затрагивают всех нас. Кто, подобно нам, так сказать, ощупью находит путь в новую эйдетическую дисциплину, спрашивая, какого же рода исследования возможны здесь, с чего следует начинать, каким методам следовать, тот непроизвольно обращается в сторону прежних высокоразвитых эйдетических дисциплин, то есть в особенности дисциплин математических, прежде всего геометрии и арифметики. Однако мы тут же замечаем, что в нашем случае эти дисциплины вовсе не призваны к руководству, потому что в них все обстоит существенно иначе. Для того же, кто еще недостаточно знаком с подлинно феноменологическим анализом сущностей, здесь заключен известный источник опасности, заставляющий усомниться в возможности феноменологии как науки, поскольку сейчас лишь математические дисциплины в состоянии действенно репрезентировать идею научной эйдетики, поначалу кажется далекой мысль о возможности совершенно иначе устроенных эйдетических дисциплин, не математических и по всему своему теоретическому типу резко отличающихся от известных наук. Итак, если общие рассуждения и расположили кого-то в пользу постулата феноменологической эйдетики, первый же неудачный опыт создания чего-либо вроде математики феноменов может побудить его оставить самую идею феноменологии. Но вот это было бы уж совсем несуразно! Нам необходимо в самом общем виде прояснить специфику математических дисциплин в противоположность учению о сущности переживаний а тем самым прояснить, что же это, собственно, за цели и методы, которые якобы принципиально неприложимы к сфере переживания.
§ 72. Конкретные, абстрактные, «математические» науки о сущности
Начнем с того, что разграничим материальные и формальные сущности и науки о сущностях. Мы можем сразу же оставить в стороне формальные науки, а тем самым и всю совокупность формальных математических дисциплин, поскольку феноменология, очевидно, принадлежит к числу материальных эйдетических наук. Если вообще методически допустимо руководствоваться аналогией, то таковая заявит о себе наиболее энергично, когда мы, ограничившись материальными математическими дисциплинами, например геометрией, спросим конкретнее, должно ли или возможно ли конституировать феноменологию как «геометрию» переживаний.
Чтобы достичь здесь желаемой ясности усмотрения, необходимо держать перед глазами некоторые важные положения общей теории науки.[68]
Каждая из теоретических наук объединяет в целое некую идеально замкнутую совокупность, соотнося ее с известной областью познания, которая в свою очередь определяется каким-либо высшим родом. Решительное единство науки мы обретаем лишь через обращение к предельно высшему роду, то есть к соответствующему региону с его региональными родовыми компонентами — к высшим родам, объединяющимся и, возможно, основывающимся друг на друге в регионе рода. Строение наивысшего конкретного рода (региона) из отчасти дизъюнктных, отчасти фундированных друг в друге (и, таким образом, охватывающих друг друга) наивысших родов соответствует строению относящихся сюда конкретностей из отчасти дизъюнктных, отчасти фундированных друг в друге низших дифференций; такова, например, временная, пространственная и материальная определенность вещи. Каждому региону соответствует региональная онтология с целым рядом самостоятельных, замкнутых в себе, и, возможно, опирающихся друг на друга региональных наук, — каждая такая наука и отвечает одному из наивысших родов, сходящихся в единстве региона. Подчиненным родам соответствуют просто дисциплины или так называемые теории, — так, роду «конические сечения» отвечает теория конических сечений. Такая дисциплина понятным образом лишена полной самостоятельности — лишена постольку, поскольку она по природе вещей вынуждена в своих выводах и в обосновании их располагать совокупным фундаментом сущностных выводов, образующим единство в соответствующем ему высшем роде.
В зависимости от того, региональны ли (конкретны ли) наивысшие роды или же они просто компоненты региональных родов, науки бывают конкретными или абстрактными. Такое разделение, очевидно, соответствует разделению на конкретные и абстрактные роды вообще.[69] Данной области в соответствии со сказанным принадлежат либо конкретные предметы, как в эйдетике природы, либо абстрактные, как например, пространственные фигуры, временные и динамические образования. Сущностная соотнесенность всех абстрактных родов с конкретными и, в конце концов, с региональными задает сущностную соотнесенность всех абстрактных дисциплин и полновесных наук с дисциплинами и науками конкретными, региональными.
Между тем параллельно разделению эйдетических наук происходит разделение наук, основанных на опыте. Они в свою очередь членятся по регионам. Так, к примеру, мы имеем одно физическое естествознание, а все отдельные науки о природе — это собственно дисциплины; единство им придает солидный запас не только эйдетических, но и эмпирических законов, относящихся к физической природе вообще, до всякого разделения ее на природные сферы. Вообще же и различные регионы могут соединяться между собой эмпирическими установлениями, как, например, регион физического и регион психического.
Если мы взглянем теперь на известные нам эйдетические науки, то нам бросится в глаза, что они не следуют описательным методам, то есть, к примеру, геометрия не схватывает в единичных интуициях, не описывает и не упорядочивает в классификациях низшие эйдетические дифференций, то есть бесчисленное множество фигур, какие можно изобразить в пространстве, то есть поступает не так, как дескриптивные науки о природе поступают с эмпирическими природными образованиями. Наоборот, геометрия фиксирует лишь немногие виды основных фигур, а также идеи тела, плоскости, точки, угла и т. д. — те самые, которые играют определяющую роль и в «аксиомах». С помощью аксиом, то есть первоначальных сущностных законов, геометрия оказывается в состоянии чисто дедуктивно выводить все «существующие» в пространстве, т. е. идеально возможные пространственные фигуры и все принадлежащие к ним сущностные отношения, производя это в форме точно определенных понятий, репрезентирующих сущности, в основном чуждые нашей интуиции. Сущность области геометрии и устроена, по мере ее рода, так, и так устроена чистая сущность ее пространства, что геометрия может быть вполне уверена в действительном и точном владении всеми своими возможностями, согласно ее методу. Другими словами, многообразие пространственных фигур вообще обладает замечательной фундаментальной логической особенностью, для которой мы вводим наименование «дефинитного» многообразия, или же «математического многообразия в точном смысле слова».
Такое многообразие характеризуется тем, что конечное число почерпаемых в сущности соответствующей области понятий и теорем полностью и однозначно, по способу чисто аналитической необходимости, определяет совокупность всех возможных внутри этой области образований, так что внутри этой области в принципе совсем не остается открытых вопросов.
Поэтому мы может сказать и так: подобное многообразие обладает особо отмеченным свойством быть математически исчерпывающе дефинируемым. «Дефинируемость» заключена в системе аксиоматических понятий и аксиом, а «математически-исчерпывающее» — в том, что дефиниционные утверждения, соотносимые с многообразием, имплицируют предельно мыслимую предопределенность — не остается ничего, что не получало бы определения.
Эквивалент понятия дефинитного многообразия заключается также и в следующих положениях:
Всякое высказывание, образуемое из отмеченных аксиоматических понятий, согласно каким бы логическим формам то ни совершалось, всегда есть чисто формально-логическое следствие аксиом или же точно такое же ложное противоследствие, то есть следствие, формально противоречащее аксиомам, так что в таком случае контрадикторное противоречие — это формально-логическое следствие аксиом. Внутри математически-дефинитного многообразия понятие «истинного» ипонятие «формально-логического следствия» эквивалентны, и точно так же эквивалентны понятие «ложного» и понятие «формальнологического противоследствия аксиом».
Я называю дефинитной системой аксиом такую, которая чисто аналитическим способом «исчерпывающе дефинирует» многообразие, как то описано выше; всякая дедуктивная дисциплина, опирающаяся на подобную систему аксиом, есть дефинитная, или в точном смысле слова математическая дисциплина.
Все дефиниции продолжают существовать и тогда, когда мы оставляем в полной неопределенности материальные различения внутри многообразия, то есть производим формализующее обобщение. Тогда система аксиом преобразуется в систему аксиоматических форм, многообразие — в форму многообразия, дисциплина, соответствующая такому многообразию, в форму дисциплины.[70]
§ 73. Применение к проблеме феноменологии. Описание и точное определение
Как же обстоит дело с феноменологией в сравнении с геометрией как представительницей материальной математики вообще? Ясно, что феноменология принадлежит к числу конкретно-эйдетических дисциплин. Ее объем составляют сущности переживания, тем самым не абстрактное, а конкретное. Эти сущности как таковые включают в себя и разного рода абстрактные моменты, и вопрос состоит теперь в следующем: образуют ли относящиеся к этим абстрактным моментам наивысшие роды область дефинитных дисциплин, дисциплин «математических», подобных геометрии? Должны ли мы и здесь искать дефинитную систему аксиом и возводить на ней дедуктивные теории? Или же, соответственно, должны ли мы искать здесь «основные фигуры», чтобы затем конструировать, то есть дедуктивно выводить из них, последовательно применяя аксиомы, все принадлежащие к этой области сущностные образования и их сущностные определения? Но от сущности такого дедуктивного выведения — и на это тоже следует обратить внимание — неотмыслима опосредованность логического определения, результаты которого, будь они даже «изображены в виде фигуры», принципиально не могут быть схвачены в непосредственной интуиции. Наш вопрос мы можем формулировать и в следующих словах, одновременно придавая ему коррелятивный поворот: есть ли поток сознания подлинное математическое многообразие? Подобен ли он, будучи взят со стороны своей фактичности, физической природе, которую следовало бы, — будь только идеал, каким руководствуется физик значим и отлит в строгие понятия, — назвать конкретным дефинитным многообразием?
Достичь полнейшей ясности относительно всех обнаруживающихся здесь принципиальных вопросов и, следовательно, обдумать, после фиксации понятия дефинитного многообразия, все необходимые условия, каким должна удовлетворять материально определяемая область, чтобы целиком и полностью соответствовать такой идее, — вот в высшей степени значительная проблема теории науки. Есть одно условие такого соответствования — точность «образования понятий», точность, которая не есть дело нашего выбора и задача логического искусства, но которая, что касается аксиоматических понятий, на какие мы претендовали и каким пришлось бы, однако, подтверждаться в непосредственном интуировании, предполагает точность внутри самих схватываемых сущностей. Однако исключительно от специфики той или иной области сущностей зависит, в какой мере в ней обретаются «точные» сущности, и тем более, под все ли схватываемые в действительном интуировании сущности и под все ли сущностные компоненты могут быть подведены точные сущности.
Только что затронутая нами проблема тесно сплетена с фундаментальными, не получившими пока разрешения проблемами, относящимися к прояснению отношения «описания» с его «дескриптивными понятиями» и «однозначного», «точного определения» с его «идеальными понятиями»; одновременно с этим необходимо прояснение малопонятого пока отношения, какое существует между «описательными» и «объясняющими» науками. Относящийся к этой проблеме опыт будет сообщен в продолжение настоящих исследований. Пока же мы не можем больше задерживать главный ход наших рассуждений, да мы пока и недостаточно подготовлены к тому, чтобы исчерпывающе исследовать все подобные вопросы уже сейчас. В дальнейшем достаточно будет указать на некоторые моменты, которые необходимо ближе рассмотреть в общей форме.
§ 74. Дескриптивные и точные науки
Наши рассуждения опираются на контраст между геометрией и дескриптивным естествознанием. Геометр в отличие от занятого описанием естествоиспытателя не интересуется фактическими чувственно созерцаемыми образованиями. Геометр не создает, подобно естествоиспытателю, морфологических понятий, относящихся к неопределенным типам фигур, которые прямо схватываются на основе чувственного созерцания и именно в такой неопределенности, такими, каковы они на деле, получают понятийную, то есть терминологическую, фиксацию. Неопределенность понятий, то обстоятельство, что сфера их применения — текучесть, не есть недостаток, за который следовало бы их корить, ибо для той сферы познания, какой они служат, они попросту неизбежны или же они даже в такой сфере единственно правомерны. Когда все дело в том, чтобы придать сообразное понятийное выражение наглядным вещным данностям с их наглядно данными сущностными характеристиками, то нужно брать их такими, какими они дают себя. Они же дают себя текучими, и не иначе, и сущность их типов можно схватывать лишь в непосредственно анализирующем сущностном интуировании. И самая совершенная геометрия, и самое совершенное практическое овладение ею не помогут описывающему природу естествоиспытателю выразить (в точных геометрических понятиях) именно то, что он — просто, понятно и вполне адекватно — выражает словами «зазубренное, насеченное, в форме чечевицы, зонтичное» — сплошь понятия существенно и неслучайно неточные и именно поэтому нематематические.
Геометрические понятия — это понятия «идеальные», они выражают нечто такое, что нельзя «видеть»; у них существенно другой «исток», а тем самым и существенно другое содержание, чем у описательных понятий, которые выражают сущности, почерпнутые в простом бесхитростном созерцании, а отнюдь не «идеальное». Корреляты точных понятий — сущности, подобные «идеям» в кантовском смысле. Таким идеям или же идеальным сущностям противостоят морфологические сущности, корреляты дескриптивных понятий. Тот процесс идеации, в результате которого складываются идеальные сущности — идеальные «границы», которые принципиально невозможно обрести в чувственном созерцании, к которым лишь более или менее приближаются, никогда не достигая их, морфологические сущности, — этот процесс идеации фундаментально-сущностно отличен от схватывания сущности через посредство простой «абстракции», когда некоторый вычлененный «момент» возвышается до области сущностей именно как принципиально неопределенный, как «типичный» — отвечающий «типу».[71] С устойчивостью и аккуратной различимостью родовых понятий, или родовых сущностей, объем которых составляет нечто текучее, не следует смешивать точность идеальных понятий, родов, объем которых составляет исключительно идеальное, а также и точных в себе самих формально-онтологических понятий. Однако эти последние не могут приниматься во внимание в материальной сфере. Далее же необходимо ясно усмотреть и то, что точные и чисто дескриптивные науки, хотя и находятся в связи между собой, но не могут подменять друг друга, — как бы далеко ни зашло развитие точных, то есть оперирующих идеальными субструкциями наук, они никогда не смогут решить изначальные, оправданные задачи чистого описания.
§ 75. Феноменология как дескриптивное учение о сущности чистых переживаний
Что касается феноменологии, то она намерена быть дескриптивным учением о сущности трансцендентально чистых переживаний в феноменологической установке, и, подобно всякой дескриптивной, не субструирующей и не идеализирующей дисциплине, она заключает свою правомерность в себе самой. Любые подвергаемые редукции переживания, какие только можно схватить в чистом интуировании, принадлежат феноменологии как ее собственность, и именно в них для нее великий источник абсолютного познания.
Однако следует ближе присмотреться, чтобы узнать, в какой мере на феноменологическом поле с его бесчисленным множеством эйдетических конкретностей действительно могут утвердиться научные дескрипции и на что они могут оказаться тут способными.
Своеобразие сознания вообще в том, что оно есть протекающая в самых различных измерениях флуктуация, так что здесь не может быть и речи о понятийно-точной фиксации каких-либо эйдетических конкретностей и непосредственно конституирующих их моментов. Если взять, например, переживание относящееся к роду «вещная фантазия», как дано оно нам в феноменологически-имманентном восприятии или же в каком-либо ином (непременно подвергшемся редукции) созерцании, то феноменологически единичным (эйдетической единичностью) и будет это самое представление вещи в фантазии со всей полнотой его конкретности, с каким протекает оно в потоке переживания, точно с той степенью определенности и неопределенности, с какой являет фантазия вещь, давая проявиться то одним, то другим ее сторонам, с той самой степенью четкости или размытости, с той самой вечно колеблющейся степенью ясности и нарушающими ее мгновениями темноты, что и свойственно ей, фантазии. Феноменология жертвует лишь индивидуацией все же сущностное наполнение она во всей полноте его конкретности возвышает до эйдетического сознания, рассматривая его как идеально самотождественную сущность, которая, как и всякая сущность, существует не только hic et nunc, но и может разособляться в бессчетном количестве экземпляров. Без всяких дальнейших пояснений можно видеть, что о понятийной и терминологической фиксации подобной текучей конкретности нечего и думать и что это верно и относительно любых ее непосредственных, но менее текучих частей и абстрактных моментов.
Но, если нет и речи об однозначном определении эйдетических единичностей в нашей дескриптивной сфере, то совершенно иначе обстоит дело с сущностями на более высокой ступени их видового воплощения. Эти сущности уже доступны для устойчивого различения, для последовательно проводимой идентификации, для строгого понятийного схватывания, равно как доступны для аналитического разложения на составляющие их сущности, а потому в отношении их осмысленно ставить задачи всеобъемлющего научного описания. Так мы описываем, а вместе с тем и определяем в строгих понятиях (по мере движения) родовую сущность восприятия и сущность подчиненных видов, как-то: восприятия физической вещественности, животных существ и т. д., равно как и сущность воспоминания вообще, вчувствования вообще, веления вообще и т. д. Однако им еще предшествуют наивысшие всеобщности, такие, как переживание вообще, cogitatio вообще, — они уже делают возможными объемлющие сущностные описания. При этом в природе общего схватывания сущности, анализа, описания, очевидно, заключено то, что не существует такого рода зависимости результатов, получаемых на более высоких ступенях, от результатов, получаемых на низших, чтобы требовался, скажем, систематический индуктивный метод, который постепенно восходил бы по ступеням всеобщности.
Присоединим сюда и еще одно последствие. Согласно всему выше изложенному, дедуктивная теоретизация в феноменологии исключена. Но косвенные заключения в ней прямо не запрещены; поскольку, однако, выводы феноменологии должны быть дескриптивными, чисто соответствующими имманентной сфере, то умозаключения и всякого рода лишенные наглядной зримости приемы обладают в феноменологии лишь методическим значением, то есть они должны вести нас навстречу тому, что движущееся следом прямое созерцание сущности должно превратить в данность. Аналогии, какие напрашиваются, быть может, подскажут некие предположения относительно сущностных взаимосвязей еще до осуществления настоящей интуиции, и из этих подсказок могут делаться выводы, которые продвинут нас вперед, — однако, в конце концов, любые догадки должны быть подтверждены действительным созерцанием сущностных взаимосвязей. Пока этого не произошло, нами не получен феноменологический результат.
Правда, это все еще не ответ на вопрос, который напрашивается здесь сам собою: не может ли в эйдетической области подвергаемых редукции феноменов (в целой области или в какой-то ее части) наряду с описательным существовать и идеализирующий метод, который поставлял бы под наглядно узреваемые данности чистые и строгие идеалы, что могли бы служить тогда даже и фундаментальными средствами матезиса переживаний — в дополнение к описательной феноменологии.
Однако, сколько бы вопросов ни оставили открытыми проведенные нами исследования, они существенно продвинули нас вперед, и не только тем, что внесли в круг нашего рассмотрения ряд важных проблем. Метод аналогий — теперь это уже нам совершенно ясно — не сможет дать ничего Для обоснования феноменологии. Полагать, что метод исторически данных априорных наук — все они без исключения суть точные идеальные науки, — обязан быть безусловным образцом для всякой новой науки, и, следовательно, и для нашей трансцендентальной феноменологии, — это только предрассудок, способный вводить в заблуждение: как будто на свете могут существовать только эйдетические науки одного-единственного методического типа, типа «точного»! Но трансцендентальная феноменология, будучи дескриптивной наукой о сущностях, принадлежит к совершенно иному фундаментальному классу эйдетических наук, нежели науки математические.
Глава вторая. Всеобщие структуры чистого сознания
§ 76. Тема последующих изысканий
Через посредство феноменологической редукции все царство трансцендентного сознания выявилось для нас как царство бытия в определенном смысле «абсолютного». Вот изначальная категория бытия вообще (или же, в нашей речи, изначальный регион), — в ней коренятся все иные регионы бытия, по своей сущности сопрягаемые с нею, посему сущностно от нее зависимые. Учение о категориях обязано безусловно исходить из такого различения бытия — наирадикальнейшего из всех бытийных различений, — бытие как сознание и бытие как бытие «изъявляющее» себя в сознании, бытие «трансцендентное»; само же различение, что всякий усматривает, — оно может быть во всей своей чистоте получено и по достоинству оценено лишь благодаря методу феноменологической редукции. На сущностную сопряженность трансцендентального и трансцендентного бытия опираются и те сопряженности, каких мы уже не раз касались и какие еще предстоит нам исследовать глубже, — это сопряженности между феноменологией и всеми другими науками, такие сопряженности, в самом смысле которых заложено то, что область господства феноменологии известным, весьма примечательным образом распространяется на все прочие науки — на те самые, какие она выключает. Выключение обладает в одно и то же время свойством менять предначертанные знаки и все переоценивать, а вместе с этим все прошедшее переоценку вновь входит в сферу феноменологии. Говоря образно, все заключаемое в скобки отнюдь не стерто с доски феноменологии, — оно всего лишь заключено в скобки, и не более того, а это значит — снабжено определенным индексом. Но, снабженное индексом, оно остается главной темой научного исследования.
Безусловно необходимо, чтобы это положение дел, со всеми присущими ему различными точками зрения, уразумевалось капитально, с самого основания. Сюда, например, относится следующее: физическая природа подлежит выключению, между как в то же самое время имеется не только феноменология естественнонаучного сознания со стороны естественнонаучного опытного постижения и мышления, но и феноменология самой природы как коррелята естественнонаучного сознания. Равным образом имеется — хотя психология и наука о духе затронуты операцией выключения — и феноменология человека, его личности, его личных свойств и протекания его (человеческого) сознания; помимо этого имеется феноменология социального духа, общественных образований, культурных формосложений и т. д. Все трансцендентное — постольку, поскольку оно обретает данность по мере сознания, — оказывается объектом феноменологического разыскания не только со стороны сознания этого трансцендентного, например, со стороны различных способов сознания, в каких это трансцендентное обретает свою данность как то же самое трансцендентное, но также как данное и как принимаемое вместе со всеми данностями, — хотя это существенно переплелось с первым.
Имеются в этом роде мощные домены феноменологического исследования, — если исходить из идеи переживания, то их вовсе и не ждешь, в особенности же если (как все мы) начинаешь с психологической установки, а понятие переживания первым делом перенимаешь от психологии нашего времени: даже и признавать такие домены вообще феноменологическими на первых порах никто не будет слишком склонен — под влиянием внутренних затруднений. Вследствие такого учета и всего того, что введено в скобки, для психологии и для науки о духе возникают совершенно особенные и на первых порах запутывающие ситуации. Чтобы показать это хотя бы на примере психологии, мы констатируем, что сознание — это, как данное психологического опыта, то есть как сознание человека или животного, объект психологии — психологии эмпирической для исследований экспериментально-научных, психологии эйдетической — для исследований науки о сущностях. С другой же стороны, весь мир вместе с их наделенными душой индивидами и психическими переживаниями последних относится к феноменологии — претерпев модификацию заключения в скобки; все перечисленное есть коррелят абсолютного сознания. Итак, выходит, что сознание выступает в различных способах постижения и в различных взаимосвязях, а именно — во-первых, в себе самом как сознание абсолютное, во-вторых же, в корреляте, как сознание психологическое, каковое включается тогда в порядок природного мира — тут оно известным образом претерпевает переоценку и все же не утрачивает свое собственное содержание как сознание. Сложны такие взаимосвязи — и чрезвычайно важны. Ведь от них же зависит и то, что любая феноменологическая констатация, касающаяся абсолютного сознания, может быть переосмыслена в констатацию эйдетически-психологическую (каковая, по строгом размышлении, никоим образом не есть еще констатация феноменологическая), причем, однако, феноменологический способ рассмотрения более всеобъемлющ и, как абсолютный, более радикален. Усмотреть все это, а затем довести до полной проясненности сущностные сопряжения, какие существуют между чистой феноменологией, эйдетической и эмпирической психологией соответственно, или же, наукой о духе, — это великое дело для всех соучаствующих тут дисциплин и для философии. В особенности же свое радикальное, в настоящее время все еще недостающее ей основоположение может обрести столь могуче устремляющаяся в наши дни ввысь психология — при том условии, что она будет располагать далеко простирающимися усмотрениями относительно отмеченных сейчас сущностных взаимосвязей.
Только что данные указания позволяют нам почувствовать, сколь далеки мы пока от уразумения того, что такое феноменология. Мы поупражнялись в феноменологической установке, устранили ряд вводящих в заблуждение сомнений методическою порядка, мы защитили права чистого описания, — свободное поле разысканий перед нами. Но мы еще не знаем, каковы тут большие темы, конкретнее же не знаем, какие основные направления описания предначертаны наиболее всеобщей сущностной сложенностью переживаний. Чтобы и в этих сопряжениях создать ясность, в последующих главах мы постараемся охарактеризовать эту наиболее всеобщую сущностную сложенность хотя бы по наиболее важным ее чертам.
Приступая к этим новым рассуждениям, мы вовсе не оставляем в стороне проблемы метода. Обсуждение метода уже и раньше определялось у нас самыми всеобщими усмотрениями сущности феноменологической сферы. Само собою разумеется, что и более глубокое познание таковой — не в ее деталях, но по ее всепроникающим всеобщим свойствам — предоставит нам более содержательные методические нормы — такие, каких придется уже придерживаться любым специальным методам. Ведь метод — это не что-то такое, что вносится или должно вноситься в какую-либо область извне. Формальная логика или же ноэтика — они дают не метод, но форму возможного метода, и, сколь бы полезным ни было познание формы в методологическом отношении, определенный метод — не просто по чисто технической своей специфичности, а по всеобщему типу метода — это норма, какая проистекает из фундаментальной региональной сложенности такой то области и ее всеобщих структур, то есть существенно зависит в своем постижении по мере познания от познания самих этих структур.
§ 77. Рефлексия как фундаментальная особенность сферы переживания. Этюды рефлексии
Среди всеобщих сущностных особенностей сферы чистого переживания мы займемся прежде всего рефлексией. Мы поступим так ввиду ее универсальной методологической функции: феноменологический метод безусловно и исключительно вращается среди актов рефлексии. Однако, на эффективность рефлексии, а тем самым на возможность феноменологии распространяются скептические сомнения, которые мы и хотели бы основательно устранить в самую первую очередь.
Уже и в своих предварительных обсуждения нам пришлось говорить о рефлексии.[72] Хотя тогда мы не ступали еще на почву феноменологии, полученные нами тогда результаты все же мы можем позаимствовать оттуда, при строгом осуществлении феноменологической редукции, поскольку тогдашние констатации касались лишь своебытно-сущностного в переживании, то есть того, что, как мы знаем, остается нашим твердым достоянием и лишь по способу постижения трансцендентально очищается. Прежде всего мы повторим то, что уже известно нам, а одновременно попробуем проникнуть поглубже в сами вещи, равно как в характер тех феноменологических штудий, какие становятся возможными благодаря рефлексии и выставляются таковой как требование.
Каждое «я» переживает свои переживания, а в таковых заключено многое, и реально, и интенционально. Каждое «я» их переживает — это не значит, что оно обладает ими, как и всем, что в них заключено, во «взгляде» на них, постигая их по способу имманентного опыта или же какого-либо иного имманентного созерцании и представления. Любое переживание, какого нет во «взгляде», может в идеале становиться переживанием, усматриваемым во «взгляде» направляющейся на него рефлексии «я», тогда оно становится объектом для «я». Точно так же все обстоит с возможными взглядами «я» на компоненты и на интенциональности переживания (на все то, сознанием чего они выступают). Рефлексии же в свою очередь суть переживания и, как таковые, могут становиться субстратами новых рефлексий, и так до бесконечности, в принципиальной всеобщности.
Всякое действительно переживаемое переживание подает себя — вступая в рефлектирующий взгляд — кок действительно переживаемое, как существующее вот «теперь»; однако мало этого — оно подает себя и как вот только что бывшее и — если оно не было усмотрено во взгляде — именно как таковое, как не бывшее рефлектируемым. При естественной установке, мы, без всяких размышлений по сему поводу, принимаем за само собою разумеющееся то, что переживания существуют не только тогда, когда мы обращаемся к ним, постигая их в имманентном опыте, и что они существовали действительно, и существовали действительно как переживаемые нами, если они «еще сознаются» нами — как «вот только что» бывшие в нашей имманентной рефлексии в рамках ретенции («первичного» воспоминания).
Далее, мы всегда убеждены, что и рефлексия на основе вспоминаемого вновь и внутри такового подает нам весть о наших прежних переживаниях — «тогда» они были настоящими, доступными имманентному восприятию, хотя и не были имманентно восприняты. Согласно наивно-естественному взгляду, то же самое верно и в отношении предваряющего памятования, заглядывающего вперед ожидания. Тут первым делом речь может идти о непосредственной «протенции», как могли бы мы сказать, — о прямой противоположности непосредственной ретенции, — а затем о совершенно иным способом переводящем в настоящее — репродуцирующем предваряющем памятовании в более собственном смысле, каковое составляет прямую противоположность воспоминанию вновь чего-то бывшего. При этом и интуитивно ожидаемое, то, что в бросаемом вперед взгляде сознается как «грядущее», обладает, благодаря возможной «в» предваряющем памятовании рефлексии, значением того, что будет воспринято — подобно тому как вспоминаемое задним числом наделено значением бывшего воспринимаемым. Так что и в предваряющем памятовании мы можем рефлектировать, сознавая собственные переживания, на какие у нас не было установки в таковом, как принадлежащие к предваряюще-памятуемому как таковому: так мы всегда и поступаем, говоря, что мы увидим, что будет, причем рефлектирующий взгляд в таком случае всякий раз уже обращен к «грядущему» переживанию восприятия.
Все подобное мы проясняем себе при естественной установке, — скажем, как психологи, прослеживая и все дальнейшие взаимосвязи.
Если же мы совершаем феноменологическую и эйдетическую редукцию, то все констатации обращаются (находясь в скобках) в показательные случаи сущностных всеобщностей, каковые мы можем усваивать себе и систематически изучать в рамках чистой интуиции. Так, к примеру, мы в живом созерцании (пусть то будет даже и воображение) перенесемся в совершение некоего акта, — скажем, радости по случаю незатрудненно, свободно и плодотворно протекающего теоретического хода мыслей. Мы совершаем все редукции и видим, что же заключено в чистой сущности феноменологических вещей. Итак, прежде всего — обращенность к протекающим мыслям. Мы продолжаем строить свой показательный феномен: так, в течение приятного для нас протекания, пусть рефлектирующий взгляд обратится к радости. Тогда таковая станет увиденным, имманентно воспринимаемым переживанием, таким-то и таким-то образом струящимся и замирающим во взгляде рефлексии. При этом страдает свобода протекания мыслей, протекание сознается в модифицированном виде, приятность, сопринадлежащая его ходу, существенно затрагивается — и это тоже можно констатировать, причем мы обязаны совершать и новые повороты взгляда. Однако оставим эти последние сейчас без рассмотрения, а обратим внимание лишь на следующее.
Первая же рефлексия радости обнаруживает таковую как актуально наличествующую в настоящем, однако не начавшуюся вот только что. Она выступает перед нами как длящаяся — и прежде этого она уже переживалась и только что не была схвачена во взгляде. Тем самым, совершенно очевидным образом, существует возможность того, чтобы мы прослеживали уже прошедшую длительность и способ данности приятного и обращали внимание на уже прошедший отрезок протекания теоретической мысли, но также и на взгляд, какой был обращен на него прежде; с другой же стороны, мы можем обращать внимание на радость, обращаемую к нему, и, по контрасту, можем постигать отсутствие обращенного к радости взгляда в уже протекшем феномене. Но у нас есть и еще одна возможность — совершать, что касается радости, задним числом становящейся объектом, совершать рефлексию относительно рефлексии, объективирующей эту радость, тем самым еще действеннее проясняя различие между пережитой, но не схваченной во взгляде, и схваченной во взгляде радостью, равно как прояснять модификации, какие входят сюда вместе с актами постижения, эксплицирования и т. д., начинающимися с обращения взгляда.
Все это мы можем рассматривать в феноменологической установке и эйдетически — все равно, в более ли высокой обобщенности и по тому, что, по мере сущности, прояснится тут для особенных разновидностей переживания. Тем самым весь совокупный поток переживания с его переживаемыми в модусе нерефлектируемого сознания переживаниями может быть подчинен научному, сущностному, преследующему систематическую полноту, изучению, притом как в аспекте всех возможностей интенционально заключенных в них моментов переживания, так и в особенности в аспекте переживаний, возможно сознаваемых в них в модифицируемом виде и их интенционалий. С примерами последнего мы познакомились в форме тех модификаций переживания, какие интенционально заключены во всех переводящих в настоящее репродукций и какие могут извлекаться изнутри их посредством рефлексий, — таково «бывшее воспринимаемым», что заключено во всяком воспоминании; таково «то, что будет воспринимаемым», что заключено во всяком ожидании.
Изучение потока переживания со своей стороны совершается в разного рода своеобразно построенных рефлективных актах, какие и свою очередь принадлежат к потоку переживания и, путем соответствующих рефлексий высшей ступени, могут делаться объектами феноменологических анализов, да и должны ими делаться. Ибо такие анализы осоновополагающи для всеобщей феноменологии, для совершенно неизбежного для нее методологического усмотрения. Нечто подобное очевидно значимо и для психологии. Неопределенных речей касательно изучения переживания в рефлексии или в воспоминании, — последнее обычно отождествляют с первым, — тут мало, не говоря уж о том ложном, что обыкновенно (именно, по той причине, что не производится серьезный сущностный анализ) немедленно приплетается сюда, — вроде того, например, что вообще не может быть ничего похожего на имманентное восприятие и наблюдение. Войдем несколько конкретнее в сами вещи.
§ 78. Феноменологическое изучение рефлексий переживания
Рефлексия — это, согласно только что изложенному, общая рубрика для всех тех актов, в каких становится очевидно схватываемым и анализируемым поток переживания со всем многообразно встречающимся в нем (моменты переживания, интенционалии). Рефлексия — мы можем выразить это и так — это название для того метода, каким сознание пользуется в познании сознания вообще. Однако внутри именно этого метода она сама становится объектом возможных штудий: рефлексия — это и название существенно сопринадлежных разновидностей переживания, следовательно тема одной из основных глав феноменологии. Задача же самой главы — такова: различать различные «рефлексии» и анализировать таковые полностью, в систематическом их порядке.
При этом необходимо поначалу прояснить для себя то, что любая — какой бы она ни была — «рефлексия» обладает характером модификации сознания, причем такой, какую в принципе может испытать любое сознание.
О модификации тут речь идет в той мере, в какой любая рефлексия сущностно выходит из перемен установки, через посредство каковых некое данное заранее переживание либо же данные (нерефлектируемые) переживания испытывают известное преобразование, а именно преобразование в модус рефлектируемого сознания (либо же рефлектируемого сознаваемого). Уже и само данное заранее переживание может обладать характером рефлектируемого сознания чего-либо, так что имеет место модификация более высокой ступени, однако в конце концов мы возвращаемся к абсолютно нерефлектируемым переживаниям и их реальным или интенциональным данностям. По закону же сущности любое переживание может быть переведено в его рефлективные модификации, причем в различных направлениях, с чем нам еще предстоит точнее познакомиться.
Фундаментальное методологическое значение сущностного изучения рефлексий для феноменологии и — не менее того — для психологии сказывается в том, что под понятие рефлексии подпадают все модусы имманентного постижения сущности, — с другой же стороны, и все модусы имманентного опыта. Следовательно, к примеру, и имманентное восприятие, какое и на деле есть рефлексия, если только оно предполагает поворот взгляда — от чего-либо сознаваемого к сознанию такового. Равным образом, чего мы уже (в предыдущем параграфе) касались, обсуждая все, что разумеется само собой в естественной установке, любое воспоминание допускает не только рефлективное обращение взгляда на себя самого, но и своеобразную рефлексию «в» воспоминании. Пусть поначалу в воспоминании будет сознаваться протекание музыкальной пьесы — нерефлектированно и в модусе «прошедшего». Однако к сущности того, что сознается подобным образом, принадлежит возможность рефлектировать его же «бывшее воспринимаемым». Равным образом и для ожидания, для сознания «грядущего», для сознания, смотрящего вперед, существует сущностная возможность отвлекать свой взгляд от этого грядущего и переводить его на «будущее воспринимаемого» в таковом же. От этих сущностных взаимосвязей и зависит то, что суждения: «Я вспоминаю А» и «Я воспринимал А»; «Я ожидаю А» и «Я буду воспринимать» a priori и непосредственно эквивалентны, — однако они лишь эквивалентны, потому что смысл каждого — различный.
Феноменологическая же задача здесь такова — систематически исследовать всю совокупность подпадающих под рубрику рефлексии модификаций переживания во взаимосвязи со всеми модификациями, с каковыми они находятся в сущностной сопряженности и каковые предполагают их наличие. Задача систематического исследования относится ко всей совокупности сущностных модификаций, какие не может не испытать любое переживание во время своего первозданного протекания, а кроме того и ко всем различным видам модификаций, какие идеально могут мыслиться как осуществленные в любом переживании по способу совершаемых над ним «операций».
Любое переживание в самом себе есть поток становления; то, что, оно есть, оно есть в своем исконном порождении неким неизменным сущностным типом; оно есть непрестанный поток ретенций и протенций, опосредуемых также текущей фазой первозданности, в каковой живое «теперь» переживания сознается по контрасту с «до» и «после». С другой же стороны, любое переживание обладает своими параллелями — это различные формы его воспроизведения, какие могут рассматриваться как идеальные «оперативные» преобразования изначального переживания: каждое обладает своей «точно соответствующей», а при этом насквозь модифицированной противоположностью — ив воспоминании, и в возможном предваряющем памятовании, и возможной голой репродуктивной фантазии и вновь при повторах всех подобных видоизменений.
Естественно, мы мыслим все эти поставленные в параллель переживания как переживания, имеющие общий для них сущностный состав: параллельные переживания обязаны обладать, как осознанными, теми же самыми интенциональными предметностями, причем как осознанными в тождественных способах данности из всего круга всех тех, какие могут иметь место в иных аспектах возможных вариаций.
Коль скоро постигаемые во взгляде репродуктивные модификации принадлежат любому переживанию в качестве идеально возможных видоизменений его, следовательно в известной мере обозначают идеальные операции, какие можно мыслить как совершаемые над любым переживанием, то они повторимы до бесконечности, и они могут совершаться также и над уже модифицированными переживаниями. И наоборот, от любого переживания, каковое уже характеризуется как такая модификация, а в таком случае всегда характеризуется как такое в себе самом, мы возвращаемся к известным прапереживаниям, к «впечатлениям»', каковые представляют абсолютно первозданные переживания в феноменологическом смысле. Так, восприятия вещей суть первозданные переживания в отношении любых воспоминаний, наглядных представлений фантазии и т. д. Они настолько первозданны, насколько вообще могут быть таковыми конкретные переживания. Ибо, если точно посмотреть, то в своей конкреции они обладают лишь одной-единственной, но притом и беспрестанно непрерывно текущей абсолютно первозданной фазой — моментом живого «теперь».
Модификации мы можем первично сопрягать с нерефлективно сознаваемыми актуальными переживаниями, поскольку тотчас же можно видеть, что все рефлективно сознаваемые модификации ео ipso обязаны получить свою долю в этих первичных модификациях — постольку, поскольку сами они, как рефлексии переживаний, взятые во всей своей конкреции, суть нерефлективно сознаваемые переживания, и в качестве таковых принимающие любые модификации. Но, конечно, безусловно то, что сама рефлексия есть такая всеобщая модификация нового образца — когда Я направляет себя на свои переживания, а в единстве с этим совершаются акты cogito (в особенности акты самого низшего, фундаментального слоя — слоя простых представлений), «в» которых Я направляет себя на свои переживания, когда рефлексия сплетается с интуитивными или же с пустыми постижениями, или же, иначе, схватываниями, то все это обуславливает, для изучения рефлективной модификации, непременное сплетение такового с изучением тех модификаций, на какие было указано выше.
Лишь благодаря рефлективно постигающим на опыте актам мы и знаем хотя бы что-то о потоке переживаний и о необходимой сопряженности такового с чистым Я, то есть знаем о том, что поток переживания есть поле свободного совершения когитаций одного и того же чистого Я, что все переживания, относящиеся к этому потоку, суть переживания этого Я именно постольку, поскольку это Я может направлять свой взгляд на них, а «через них» может бросать взгляд и на иное — на чуждое этому Я. Мы убеждаемся, что всякий такой опыт сохраняет свой смысл и свои права и как редуцируемый, и мы постигаем право вот так сложившегося опыта вообще — постигаем его в сущностно-всеобщей генерализации, равно как, в параллель к этому, постигаем право сущностных созерцаний, сопрягающихся вообще с переживаниями.
Так, например, мы постигаем абсолютное право имманентно воспринимающей рефлексии, т. е. имманентного восприятия попросту как такового, причем в соответствии с тем, что приводит ее в конце концов к подлинно первозданной данности; равным образом, и абсолютное право имманентной ретенции касательно всего того, что сознается в ней как «еще» живое и «вот только что» здесь бывшее, — впрочем, право такое простирается лишь настолько, насколько хватает содержания того, что охарактеризовано подобным образом. Так, например, в том отношении, что это восприятие звука, а не восприятие цвета. Равным образом постигаем мы и относительное право имманентного воспоминания — таковое простирается настолько, насколько в самом наполнении воспоминания, рассматриваемого по отдельности, проявляется подлинный характер воспоминания (что никоим образом не относится вообще ко всякому моменту вспоминаемого), — право такое имеет место в любом воспоминании. Однако, впрочем, право это лишь «относительно» — такое право, над которым что-то может и брать верх, хотя это тоже право. И т. д. Итак, теперь мы усматриваем с самой совершенной ясностью и в сознании безусловной значимости: противосмысленно было бы полагать, что переживания удостоверены лишь постольку, поскольку они даны в рефлектирующем сознании имманентного восприятия, или же тем более, что они будто бы удостоверены лишь в соответствующем актуальном «теперь»; неразумно было бы сомневаться в «прошедшем» преднайденного в качестве «еще» сознаваемого при обращении взгляда назад (непосредственной ретенции) или, напротив, сомневаться, не обращаются ли в нечто toto coelo любые переживания, если только они вступили во взгляд, и т. д. Тут важно лишь одно — не дать сбить себя с толку аргументами, которые при всей своей формальной точности не соразмеряются с праисточниками значимости, с праисточниками чистой интуиции; важно хранить верность «принципу из принципов»: полная ясность есть мера всякой истины, а высказывания, точно и верно выражающие свои данности, не обязаны заботиться ни о каких дополнительных аргументах, сколь бы красивыми те ни были.
§ 79. Критический экскурс. Феноменология и трудности «самонаблюдения»
Из только что изложенного всякому видно, что феноменологию не затронул тот методологический скепсис, который, параллельно, в эмпирической психологии так часто приводил к отрицанию или же несообразному ограничению ценности внутреннего опыта. Совсем недавно Г. И. Ватт[73] тем не менее полагал, что может представлять такой скепсис перед лицом феноменологии, причем он, правда, не постиг специфического смысла чистой феноменологии, ввести которую пытался я в «Логических исследованиях», и не увидел различия между чисто-феноменологическим и эмпирически-психологическим положением дел. Сколь бы близки ни были трудности в той и другой области, все же есть разница, ставится ли вопрос о широте и принципиальной познавательной ценности констатации существования здесь, выражающих данности нашего (человеческого) внутреннего опыта, т. е. вопрос психологического метода, или же, с другой стороны, ставится вопрос о принципиальной возможности и широте сущностных констатации, каковые должны относиться, на основе чистой рефлексии, к переживаниям как таковым, по их собственной, не зависящей от естественной апперцепции сущности. И все же между этим и другим вопросами существует внутренняя сопряженность, и в значительной мере существуют между ними и конгруэнтности, которые и оправдывают учет возражений Ватта, в особенности же столь примечательных его суждений, как, например, следующее:
«Едва ли возможно хотя бы гадать о том, как достигается познание непосредственного переживания. Ибо такое познание — и не знание, и не предмет знания, а нечто иное. Непонятно, как выливается на бумагу отчет о переживании переживания, даже если таковое и наличествует». «Так или иначе, это последний вопрос фундаментальной проблемы самонаблюдения». «В наши дни такое абсолютное описание называют феноменологией».[74]
Реферируя изложенное у Т. Липпса, Ватт вслед за тем говорит: «Той действительности, о которой мы знаем, действительности предметов самонаблюдения, противостоит действительность нынешнего Я и нынешних переживаний сознания. Эта действительность пережита [т. е. просто пережита — она не „знаема“, т. е. не схвачена рефлективно]. Именно поэтому она и абсолютная». «Можно быть весьма различного мнения относительно того, — прибавляет Ватт со своей стороны, — как поступать с этой абсолютной действительностью… Возможно, речь здесь идет также только о результатах самонаблюдения. Если это последнее — лишь глядящее назад созерцание, знание переживаний, каковые имелись в качестве предметов, то как же можно устанавливать состояния, относительно которых не может быть знания, которые лишь сознаются? Именно потому-то вокруг всего этого и вращается вся столь важная дискуссия, именно вокруг выведения понятия непосредственного переживания, каковое не есть знание. Наблюдать — это надо уметь. Переживать же — переживает каждый. Но только он не знает этого. А если бы и знал, как бы мог он знать, что его переживание действительно абсолютно таково, каким он мыслит его себе! Из чьей головы феноменология выскочит во вполне сложившемся виде? Возможна ли и в каком смысле возможна феноменология? Такие вопросы встают сами собою. Может быть обсуждение самонаблюдения в экспериментальной психологии и прольет новый свет на всю эту область. Ибо проблема феноменологии необходимо возникает и для экспериментальной психологии. Возможно также, что ответ с ее стороны будет более осторожным — ведь ей недостает рвения первооткрывателя феноменологии. Во всяком случае как таковая, она более зависит от индуктивного метода».[75]При столь благочестивой вере во всесилие индуктивного и к тому же косвенного метода, выраженной в последних строках (Ватт едва ли стал бы держаться их, если бы задумался об условиях возможности такого метода) весьма неожиданно признание того, «что функционально анализирующая психология никогда не сможет объяснить факт знания».[76]
В противовес таким, характерным для современной психологии высказываниям, именно в той мере, в какой они разумеются психологически, нам следовало бы заявить о проведенном выше различении психологического и феноменологического вопросов, подчеркнув в этой связи, что феноменологическому учению о сущностях столь же мало приходится беспокоиться о методах, посредством которых феноменолог мог бы удостоверится в существовании переживаний, служащих опорой для его феноменологических констатации, как геометрии не приходится интересоваться тем, каким образом следует методически удостоверяться в существовании фигур на доске или моделей в шкафу. Ни геометрия, ни феноменология, будучи науками о чистой эссенции, не ведают констатации относительно реального существования. С этим-то и связано то обстоятельство, что ясные фикции предоставляют им не только столь же хорошее, но — ив большом объеме — лучшее основание, нежели данности актуального восприятия и опыта.[77]
Если же теперь феноменология и не обязана давать никаких констатации относительно существования переживаний, т. е. не ставит никаких «опытов» и «наблюдений» в естественном смысле, в том, в каком наука о фактах обязана опираться на подобные вещи, то все же — в том принципиальное условие ее возможности — она дает сущностные констатации относительно нерефлектируемых переживаний. А этими констатациями она обязана рефлексии — конкретнее же, рефлективной интуиции сущностей. Стало быть, скептические сомнения касательно самонаблюдения должны быть учтены и феноменологией, причем постольку, поскольку они вполне понятным образом могут распространяться с рефлексии имманентно постигающей и вообще на любую рефлексию.
И на деле, что бы сталось с феноменологией, если бы нельзя было усмотреть, «как выливается на бумагу отчет о переживании переживания, даже если таковое и наличествует»? Что сталось бы с нею, если бы ей было разрешено высказываться о сущностях «знаемых», рефлектируемых переживаний, но не было бы разрешено — о сущностях переживания попросту как таковых? Что бы с нею сталось, если бы едва ли возможно было «хотя бы гадать о том, как достигается познание непосредственного переживания» — или же, иначе, познание его сущности? Пусть феноменолог не обязан совершать какие-либо констатации относительно существования переживаний, какие рисуются ему в качестве показательных для его идеаций. Все же в этих идеациях — вот как можно было бы возразить — он усматривает лишь идеи того, что он имеет перед глазами в качестве показательного примера. А когда его взгляд обращается к переживанию, это последнее и становится тем, в качестве чего оно отныне представляется ему, — когда же он отвратит свой взор, переживание опять-таки делается иным. Схваченная сущность — это лишь сущность рефлектируемого переживания, и совершенно необоснованно мнение, будто посредством рефлексии можно обрести абсолютно значимое познание — все равно, переживаний ли вообще, или же переживаний рефлектируемых или нерефлектируемых. «Как же можно устанавливать состояния, — пусть даже и сущностных возможностей, — относительно которых не может быть знания?»
Это, очевидно, относится к любому виду рефлексии, хотя в феноменологии, собственно, каждый вид претендует на свою значимость в качестве источника абсолютных познаний. Фантазия рисует мне вещь — пусть бы то был даже и кентавр. Я полагаю теперь, будто знаю, что таковой предстает в известных «способах явлениях», в известных «нюансированиях чувства», в постижениях и т. п. Я полагаю, будто обладаю сущностным усмотрением того, что такой предмет вообще может созерцаться лишь в подобных способах явлениях, лишь посредством подобных функций нюансирования и т. п. касательно того, что вообще может играть тут какую-либо роль. Однако, пока я обладаю кентавром в своем взгляде, я не обладаю в своем взгляде его способами явления, нюансирующими данными, постижениями, и пока я схватываю его сущность, я не схватываю их и их сущность. Для последнего же необходимы известные рефлективные повороты взгляда — такие, однако, которые приводят в движение и модифицируют все переживание; и так я, с каждой новой идеацией, получаю нечто новое в своем взгляде и не в праве утверждать, будто обрел сущностные компоненты нерефлектированного переживания. Я не в праве утверждать, что к сущности вещи принадлежит то, что она предстоит в «явлениях», будучи нюансируема данными ощущения, которые со своей стороны испытывают определенные постижения, и т. д.
Трудность, очевидно, касается и анализов сознания в аспекте «смысла» интенциональных переживаний и всего того, что принадлежит к подразумеваемому в мнении, к интенционально-предметному как таковому, к смыслу высказывания и т. п. Потому что и это все — анализы в пределах специфически направленных рефлексий. Сам Ватт заходит очень далеко, говоря следующее: «Психология обязана уяснить себе, что вместе с самонаблюдением изменяется предметная сопряженность подлежащих описанию переживаний. Вполне возможно, что такое изменение отличается куда большим значением, чем склонны мы думать».[78] Будь Ватт прав, то, стало быть, мы утверждали слишком многое, если бы констатировали путем самонаблюдения, что мы только что внимательно смотрели вот на эту книгу да и все еще смотрим на нее. Последнее было бы верно до рефлексии. Таковая же изменяет «подлежащее описанию переживание» внимания, причем (согласно Ватту) в аспекте его предметной сопряженности.
Любой подлинный скептицизм, какому бы виду и направлению он ни принадлежал, заявляет о себе принципиальной противосмысленностью своей аргументации, — в качестве возможности ее значимости, он предпосылает именно то, что отрицается его тезисами. Можно без труда убедиться в том, что этот признак верен и для той аргументации, какая обсуждается сейчас нами. Ведь и говорящий: Я сомневаюсь в познавательном значении рефлексии, — утверждает противосмысленное. Потому что, делая высказывания о своем сомнении, он рефлектирует, и, если принять такое высказывание как значимое, необходимо предпослать, что рефлексия действительно и несомненно обладает той самой познавательной ценностью (скажем, для данных случаев), что она не изменяет предметной сопряженности, что нерефлектируемые переживания, переходя в рефлексию, не утрачивают свою сущность.
Далее: во всей такого рода аргументации о рефлексии постоянно говорится как о факте — постоянно говорится и о том, в чем таковая повинна или не повинна; тем самым речь, естественным образом, постоянно идет и о «не знаемых», нерефлектируемых переживаниях — вновь как о фактах, а именно таких, из которых вырастают факты рефлектируемые. Так что постоянно предпосылается знание о нерефлектируемых переживаниях, а среди них и о нерефлектируемых рефлексиях, между тем как в то же самое время возможность такого знания ставится под вопрос. Именно так — в той мере, в какой сомнения вызывает возможность констатировать что бы то ни было относительно содержания нерефлектируемого переживания и о функции рефлексии, — в какой мере таковая изменяет изначальное переживание и не подделывает ли она его, так сказать, обращая в нечто тотально иное.
Однако ясно ведь, что будь только это сомнение и полагаемая им возможность оправданы, не останется ни малейшего оправдания для уверенности в том, что вообще имеется и может существовать как нерефлектированное переживание, так и рефлексия. Далее, ясно, что переживание — постоянная предпосылка — может быть «знаемым» лишь через посредство рефлексии и, как непосредственное знание, обосновываться лишь рефлективным, дающим созерцанием. Равным образом и касательно утверждения о действительности или возможности модификаций, наступающих через посредство рефлексии. Однако, если все подобное дано через созерцание, то оно дано в некоем содержательном наполнении созерцания, а тогда противосмысленно утверждать, что тут вообще нет ничего познаваемого — ничего относящегося к содержательному наполнению нерефлектируемого переживания и способа модификации, каковой оно испытывает.
Сказанного достаточно, чтобы отчетливой стала противосмысленность. Здесь, как и всегда, скепсис утрачивает свою силу, когда мы от словесной аргументации возвращаемся назад к сущностной интуиции, к первозданно, из самого источника, дающему созерцанию и к исконнейшему праву этого последнего. Правда, все зависит от того, будем ли мы действительно осуществлять таковое, будем ли мы действительно способны возвысить стоящее под вопросом, явив его в свете подлинной сущностной ясности, или же воспринять то изложение, какое мы пытались дать в предыдущем параграфе, столь же интуитивно, как оно было осуществлено и предложено. Феномены рефлексии — это на деле сфера чистых и при известных условиях совершенно ясных данностей. То, что от предметно данного как такового возможно рефлектировать к дающему сознанию и его субъекту, от воспринимаемого, физически наличного «вот здесь» — к акту восприятия, от воспоминаемого, пока таковое «преподносится» нам как таковое, как «бывшее», — к акту воспоминания, от высказывания в его протекающей данности — к акту высказывания, — это все в любое время достижимое — ибо непосредственное — усмотрение сущности: при этом данностью становится акт восприятия как акт восприятия именно этого воспринимаемого, соответствующее сознание — как сознание вот именно этого сознаваемого. Очевидно, что по мере сущности, — стало быть, не просто по случайным основаниям, скажем, просто «для нас» и для нашей случайной «психологической конституции» — нечто подобное сознанию и содержанию сознания (в реальном и интенциональном смысле) познаваемо лишь посредством рефлексий указанного вида. Подобной абсолютной и усмотримой необходимостью связан даже и сам бог — как, скажем, и тем усмотрением, что 2 + 1 = 1 + 2. И он мог бы обретать познание своего сознания и содержательного наполнения такового лишь рефлексивно.[79]
Тем самым одновременно сказано, что рефлексия не может вовлекаться в какой-либо антиномический спор с идеально совершенным познанием. У всякой разновидности бытия — это нам доводилось уже не раз подчеркивать — свои способы данности, по мере сущности, а тем самым и свои способы познавательного метода. Обходиться с существенно своеобразными чертами таковых как с недостатками, тем более приписывать их «нашему человеческому» познанию в качестве случайных, фактических недостатков такового — все это противосмысленность. Другой же вопрос, который равным образом следует обсуждать через посредство сущностного усмотрения, — это вопрос о возможной «широте» познания, о каком идет сейчас речь, следовательно вопрос о том, как нам уберегать себя от высказываний, которые выводили бы за пределы вот такого-то действительно данного и эйдетически схватываемого; и вот еще один вопрос — вопрос об эмпирической методике — как мы, люди, скажем, психологи, должны поступать в данных психофизических обстоятельствах, дабы придавать возможно высокое достоинство нашим человеческим познаниям.
В остальном же следует подчеркнуть, что все вновь и вновь воспроизводимый нами рекурс к усмотрению (очевидности или, иначе, интуиции) здесь, как и всегда, — не фраза: этот рекурс означает (в смысле вводного раздела), возвращение к тому, что последнее во всяком познании, — точь-в-точь в том самом смысле, и каком говорится об усмотрении самых первоначальных аксиом логики и арифметики.[80] Однако, всякий, кто научился постигать данное в сфере сознания с усмотрением, подивится фразам вроде той, что была приведена выше: «Едва ли возможно хотя бы гадать о том, как достигается познание непосредственного переживания»; отсюда можно заключить лишь об одном — о том, что имманентный сущностный анализ продолжает оставаться чуждым современной психологии, хотя таковой есть единственно возможный метод фиксации понятий, каким положено функционировать в качестве определяющих в любой имманентной психологической дескрипции.[81][82]
Во всех проблемах рефлексии, какие обсуждали мы сейчас, особенно чувствительно сказывается внутренняя взаимосвязь феноменологии и психологии. Всякое сопрягающееся с разновидностями переживания сущностное описание выражает безусловно значимую норму такого-то возможного эмпирического существования. В особенности это, естественно, касается всех тех разновидностей переживания, которые конститутивны для психологического метода, — таковое верно относительно всех модусов внутреннего опыта. Следовательно, феноменология — это инстанция для основополагающих методологических вопросов психологии. То, что она установила в общем виде, должно признаваться психологом как условие возможности всякой дальнейшей его методики, а при случае и использоваться им. Все же то, что оказывается в несогласии со сказанным, отмечено принципиальной психологической противосмысленностью, — точь-в-точь как в сфере физики любое оспаривание истин геометрии, как и истин онтологии природы вообще, есть характерная черта принципиальной естественнонаучной противосмысленности.
Такого рода принципиальная противосмысленность и сказывается в надеждах на то, что скептические сомнения относительно возможности самонаблюдения могут быть преодолены на путях экспериментальной психологии через посредство психологической индукции. И тут все точь-в-точь так, как с параллельным скепсисом, какой проявляется в области физического познания природы, если бы тут желали преодолевать средствами экспериментальной физики, — таковая на каждом шагу предполагает права внешнего восприятия, — сомнения в том, не обманывает ли нас, в конце концов, совершенно любое внешнее восприятие (ведь и действительно — любое восприятие, взятое по отдельности, может нас обманывать).
В остальном же пусть все сказанное здесь в общем виде обретет вящую убедительность в дальнейшем — прежде всего благодаря прояснению объема рефлективного усмотрения сущностей. Сопряженности, какие существуют между феноменологией (или же пока не отделенной здесь от нее — и в любом случае тесно с нею связанной эйдетической психологией) и психологией как опытной экспериментальной наукой и какие были лишь затронуты сейчас, тоже должны быть прояснены в дальнейшем, вместе со всеми относящимися сюда глубокими проблемами, — в книге второй настоящего сочинения. Я твердо уверен в том, что в не столь отдаленное время всеобщим достоянием станет следующее убеждение: феноменология (или же эйдетическая психология) есть методологически основополагающая наука для психологии в том самом смысле, в каком содержательные математические дисциплины (например, геометрия и кинематика) служат основополагающими дисциплинами физики.
Старинное учение онтологии — познание «возможностей» должно предшествовать познанию действительности — это, на мой взгляд, великая истина, — если только она понята верно и верно поставлена на службу делу.
§ 80. Сопряженность переживаний с чистым Я
Среди всеобщих сущностных своеобразных черт трансцендентально очищенной области переживании первое место подобает, собственно говоря, сопряженности любого переживания с «чистым» Я. Любое «cogito», любой акт в указанном смысле характеризуются как акт Я: акт «проистекает из Я» Я «актуально живо» в акте. Мы об этом уже говорили и сейчас лишь кратко напомним об излагавшемся ранее.
Наблюдая, я что-то примечаю; равным образом я, вспоминая, бываю «занят» чем-то; в своем фантазировании я слежу за всем, что творится в сфантазированном мире. Или же я размышляю, делаю умозаключения; я беру назад какое-то свое суждение или же вообще «воздерживаюсь» от суждения. Мне что-то нравится или не нравится — я совершаю и такой акт; я радуюсь или огорчаюсь, я желаю или же я чего-то хочу и делаю это; или же я «воздерживаюсь» от радости, от желания, от воления и действия. Во всех таких актах я — тут как тут: я актуально здесь. Рефлектируя же, я постигаю себя при этом как человека.
Однако если я и совершаю феноменологическую εποχή, если, как и весь мир естественного тезиса (полагания), так и «я, человек», подвергаюсь выключению, то тогда остается чистое переживание акта с его собственной сущностью. Но я вижу также и то, что постижение такового в качестве человеческого переживания, — отвлекаясь от тезиса существования, — вносит сюда немало всякого, чему вовсе не необходимо при этом быть, и что, с другой стороны, никакое выключение не может тут снять форму cogito и вычеркнуть «чистого» субъекта акта: «направленность-на», «занятие-чем», «выбор позиции-к», «постижение-чего», «страдание-от» — все это необходимо таит в своей сущности то, что все идет либо «от Я — туда», либо, с обратным направлением луча, — «к Я — сюда», — а такое Я есть Я чистое, никакая редукция не способна что-либо с ним поделать.
До сих пор мы говорили о переживаниях особенного типа — «cogito». Прочие переживании, слагающие общую среду актуального Я, лишены, правда, маркированной сопряженности с Я, каковую мы вот только что обсуждали. Однако и они тоже имеют долю в чистом Я, а это последнее — в них. Они «принадлежны» к нему как «его» переживания, они составляют фон его сознания, его поле свободы.
При таких специфических сплетенностях со «своими» переживания переживающее Я — тем не менее, вовсе не то, что могло бы быть взято для себя и обращено в особый объект изысканий. Если отвлечься от его «способов сопряжения» или «способов отношения», то оно совершенно пусто — в нем нет никаких сущностных компонентов, нет никакого содержании, какое можно было бы эксплицировать, в себе и для себя оно не подлежит никакому описанию — чистое Я, и ничто более.
И все-таки оно подает повод ко множеству важных описаний, как раз в том, что касается особенных способов, как переживающее Я есть в соответствующих разновидностях или модусах переживания. При этом постоянно различается — несмотря на необходимую сопряженность одного с другим — само переживание и чистое Я переживания. И далее: то, что составляет чисто-субьективную сторону способа переживания и все прочее, так сказать, отвернувшееся от Я содержательное наполнение переживания. Так что в сущности сферы переживания пребывает известная чрезвычайно важная двусторонность, — о ней мы можем также сказать, что в переживаниях следует различать сторону субъективно ориентированную и сторону объективно ориентированную, — способ выражения, каковой никоим образом нельзя разуметь ложно — так, как если бы мы учили, будто возможный «объект» переживания есть в этом последнем нечто аналогичное чистому Я. И все же такой способ выражения оправдает себя. И мы сразу же прибавим к сказанному, что такой двусторонности, по крайней мере на участках длительной протяженности, соответствует разделение (хотя и вовсе не действительное размежевание) разных изысканий — одни ориентируются на чистую субъективность, другие — на то, что относится к «конституированию» объективности для такой субъективности. Нам еще предстоит сказать многое об «интенциональной сопряженности» переживаний (или же чистого переживающего Я) с объектами и о разного рода компонентах и «интенциональных коррелятах» переживания, связанных с такой сопряженностью. А такого рода вещи могут исследоваться и описываться в обстоятельных изысканиях либо аналитически, либо синтетически — без сколько-нибудь глубоко заходящих занятий чистым Я и его способами соучастия во всем названном. Касаться такого Я, конечно, придется неоднократно, коль скоро уж оно есть тут столь необходимая «принадлежность».
Те же медитации, какие мы намерены в дальнейшем предпринять в этом разделе, по преимуществу будут относиться к объективно ориентированной стороне — таковая предстает первой при нашем исходе из естественной установки. На эту сторону указывают уже и проблемы, обозначенные во вводных параграфах настоящей работы.
§ 81. Феноменологическое время и сознание времени
Особого обсуждения требует феноменологическое время — как всеобщая специфическая черта всех переживаний.
Нужно учитывать различие между таким феноменологическим временем — единой формой всех переживаний в одном потоке переживания (в потоке переживания одного чистого Я) и «объективным», т. е. космическим временем.
Благодаря феноменологической редукции сознание не только утратило свою апперцептивную «прикрепленность» (впрочем, это образ) к материальной реальности и свою, пусть даже и вторичную, включенность в пространство, но даже и свою включенность в космическое время. То же время, какое по мере сущности принадлежит переживанию как таковому, — время с его модусами данности: «теперь», «до», «после», модально определяемые «одновременно», «одно после другого» и т. д., — это время не измерить ни положением солнца, ни с помощью часов, ни какими-либо средствами физики, — что вообще нельзя измерить.
Космическое время к феноменологическому относится известным образом по аналогии с тем, как «простертость», принадлежная к имманентной сущности такого-то конкретного содержания ощущения (например, визуального в поле визуальных данных ощущения), относится к объективной пространственной «протяженности», т. е. к протяженности являющегося и визуально «нюансирующегося» в данных ощущения физического объекта. И сколь противосмысленно подводить под один и тот же род сущности момент ощущения, как-то цвет и простертость, и нюансируемый в них вещный момент, как-то цвет вещи и вещная протяженность, настолько же противосмысленно и подведение под один и тот же род сущности феноменологически-временное и космически-временное. В переживании и в моментах переживания трансцендентное время может репрезентироваться по мере явления; однако в принципе и в этом, и в иных случаях не имеет смысла предполагать образное сходство репрезентации и репрезентируемого — такое, которое, будучи сходством, предполагало бы сущностную единость.
В остальном же мы вовсе не хотим этим сказать, что способ, каким космическое время изъявляет себя во времени феноменологическом, — точь-в-точь тот самый, каким феноменологически репрезентируются иные реальные сущностные моменты мира. Нет сомнения в том, что саморепрезентация цвета и прочих чувственно-вещных качеств (в соответствующих чувственных данных полей чувств) — это сущностно одно, а самонюансирование вещно-пространственных форм в формах простертости и в пределах данных ощущения — другое. Однако, что касается излагавшееся выше, то тут повсюду общность.
Между прочим, — что будет явствовать из позднейших изысканий, — время — это рубрика совершенно изолированной от всего прочего проблемной сферы — с какой связаны исключительные трудности. Позднее окажется, что все наше предыдущее изложение в известной мере умалчивало — да и обязано было умалчивать — о целом особом измерении, с тем чтобы не вносить путаницу в то, что становится зримым первым делом лишь в феноменологической установке и что, невзирая на новое измерение, составляет замкнутую область разысканий. Трансцендентальное «абсолютное», извлеченное нами благодаря осуществленным редукциям, — это на самом деле еще не последнее, — это то, что конституирует само себя в некоем глубоко лежащем и вполне своеобытном смысле, в качестве праисточника своего обладая неким последним и подлинно абсолютным.
К счастью, в наших предварительных анализах, мы можем, отнюдь не подвергая опасности строгость, вывести из игры загадки, связанные с сознанием времени.[83] И мы только едва коснемся таковых, сказав следующее:
То сущностное свойство переживаний вообще, какое выражается рубрикой «временность», — оно обозначает не только нечто такое, что принадлежало бы к каждому отдельному переживанию, но обозначает необходимую форму, связывающую переживания с переживаниями.[84] Всякое действительное переживание (мы осуществляем такую очевидность на основе ясного интуирования переживаемой действительности) — необходимо длится, а вместе с длительностью оно входит в бесконечный континуум длительностей — и заполненный континуум. Оно необходимо обладает заполненным временным горизонтом, каковой бесконечен во все стороны. Одновременно это же значит: оно принадлежит одному бесконечному «потоку переживания». Любое отдельное переживание как начнется, так и кончится, а кончившись, завершит свою длительность, — таково, например, переживание радости. Поток же переживания не может начаться и кончиться. Любое переживание как бытие временное есть переживание своего чистого Я. Необходимо к этому принадлежит возможность (как мы знаем, отнюдь не пустая логическая возможность) того, чтобы Я направляло на это переживание свой чистый взгляд Я, схватывая его как действительно сущее или, иначе, как длящееся в феноменологическом времени.
И вновь к сущности этого положения дел принадлежит возможность того, чтобы Я направляло взгляд на темпоральный способ данности, с очевидностью познавая (подобно тому, как и мы, проживая описанное в своей интуиции, на деле обретаем такую очевидность) то, что никакое длящееся переживание невозможно, — разве что оно конституирует себя — как единство события или, иначе, дления — в континуальном потоке модусов данности; далее же познавая то, что такой способ данности вот такого-то временного переживания в свою очередь тоже есть переживание, хотя и переживание нового вида и измерения. Так, к примеру, я могу поначалу иметь в чистом взгляде саму радость — она начинается и кончается, а между своим началом и концом длится, — двигаясь вместе с ее временными фазами. Но я могу направить свое внимание и на ее способ данности — на соответствующей модус «теперь», и на то, что к этому «теперь», и принципиально ко всякому «теперь», примыкает, в необходимой непрерывности континуума, все новое и новое «теперь», что одновременно с этим любое актуальное «теперь» сдвигается в некоторое «вот только что», а «вот только что» вновь — и в непрерывном континууме — во все новые и новые «вот только что» того, что было «вот только что» и т. д. И так со всяким новопримкнувшим «теперь».
Актуальное теперь необходимо есть нечто точечное и остается таковым — устойчиво пребывающей формой вечно новой материи. Точно так же дело обстоит и с континуальностью того, что «вот только что» было, — все это непрерывная континуальность форм вечно нового содержания. Одновременно это же значит: длящееся переживание радости «по мере сознания» дано в некоем континууме сознания постоянной формы, — фаза «импрессия» как пограничная фаза непрерывного континуума ретенций, каковые однако не со-стоят рядом одна с другой, но нуждаются в сопряжении друг с другом в континууме интенциональности, — непрестанный континуум вложенных друг в друга ретенций ретенций же. Форма получает все новое содержание, следовательно ко всякой импрессии, в какой дано «теперь» переживания, «льнет» новая импрессия, соответствующая — в континууме непрерывности — новой точке длительности; в непрерывном континууме импрессия сдвигается в ретенцию: эта последняя — в непрерывном континууме же — в модифицируемую ретенцию и т. д.
Но сюда прибавляется еще и противонаправленность непрерывного континуума изменений: тому, что «до», соответствует то, что «после», континууму ретенций — таковой же протенций.
§ 82. Продолжение. Троякий горизонт переживания, и одновременно он же в качестве горизонта рефлектируемого переживания
Но мы еще и большее познаем при этом. Любое «теперь» переживания, — будь то даже начальная фаза нового переживания, — необходимо обладают своим горизонтом того, что «до». Таковой же в принципе не может быть каким-либо пустым «до» — пустой формой без содержания, нонсенсом. То, что «до», необходимо имеет значение некоего прошедшего «теперь», каковое охватывает в этой форме некое прошедшее нечто, прошедшее переживание. Необходимо всякому заново начинающемуся переживанию предшествовали по времени переживания — прошлое переживания непрерывно заполнено, как континуум. Однако, любое «теперь» переживания обладает и своим необходимым горизонтом того, что «после», и таковой тоже никогда не бывает пуст; необходимо любое «теперь» переживания, будь то даже конечная фаза длительности переживания, каковое ныне прекращается, сдвигается в новое «теперь», и это последнее с необходимостью заполнено.
Можно также сказать по этому поводу: необходимо к сознанию того, что «теперь», примыкает сознание того, что — «вот только что прошло», каковое сознание само по себе в свою очередь есть некое «теперь». Ни одно переживание не может прекратиться помимо сознания прекращения и прекращенности, и таковое есть некое новое, заполненное «теперь». Поток переживания есть бесконечное единство, а форма потока — это форма, которая необходимо объемлет все переживания такого-то чистого Я, форма с многообразного рода системами форм.
Более конкретное развитие таких усмотрений, подтверждение их огромных метафизических последствий — все это мы приберегаем для объявленных уже будущих книг.
Только что обсуждавшаяся нами всеобщая своеобразная черта переживаний как возможных данностей рефлектирующего (имманентного) восприятия есть составная часть иного, куда более широкого своеобразия, выражающегося в сущностном законе: любое переживание не только, с точки зрения временной последовательности, пребывает в существенно замкнутой в себе взаимосвязи переживания, но также и с точки зрения одновременности. Это означает, что любое переживание теперь обладает горизонтом из переживаний, которые, как и оно, тоже обладают формой первозданности (из самого первоисточника) «теперь» и как таковые составляют единый первозданный горизонт для такого-то чистого Я, его совокупного первозданного (из самого первоисточника) сознания теперь.
Как единый, этот горизонт входит в модусы прошедшего. Любое «до», будучи модифицированным «теперь», ко всякому схваченному во взгляде переживанию, чье «до» оно есть, имплицирует бесконечный горизонт, — объемля все то, что принадлежит к тому же самому модифицированному «теперь», короче говоря, его горизонт «одновременно бывшего». Итак, те описания, какие мы давали прежде, необходимо дополнить новым измерением, и только когда мы так поступим, мы возьмем все феноменологическое временное поле чистого Я, поле, которое это Я может, исходя из любого «своего» переживания, вымерять по трем измерениям — тому, что «до», тому, что «после», тому, что «одновременно»; или же, говоря иначе, мы возьмем весь целый, единый по своей сущности и строго замкнутый в себе поток временных единств переживания.
Одно чистое Я — один поток переживания, заполненный по всем трем измерениям, сущностно взаимосвязный в такой заполненности, взыскующий себя в своей содержательной непрерывности, — таковы необходимые корреляты.
§ 83. Схватывание единого потока переживания как «идеи»
С этой проформой сознания следующее, согласно закону сущности, находится в сопряжении.
Если чистый взгляд Я, рефлектируя, притом перцептивно схватывая, падет на какое-либо переживание, то существует априорная возможность того, чтобы взгляд обращался к иным переживаниям — насколько простирается эта взаимосвязь. В принципе же никогда не бывает так, чтобы такая целая взаимосвязь давалась или могла даваться одним-единственным чистым взглядом. Известным образом, пусть и принципиально иного вида, она, эта взаимосвязь, тем не менее интуитивно схватываема, а именно по способу «безграничности в наследовании» имманентных созерцаний — от фиксируемого переживания к новым входящим в его горизонт переживания переживаниям, от фиксации последних к фиксации их горизонтов переживания и т. д. Речь же о горизонте переживания означает в этом месте не только горизонт феноменологической временности в соответствии с описанными его измерениями, но и отличия новых по своему виду модусов данности. В согласии с этим некое переживание, ставшее объектом для взгляда Я, а следовательно обладающее модусом увиденного, наделено своим горизонтом неувиденных переживаний; то, что схватывается в модусе «внимания» и, возможно, даже с нарастающей ясностью, наделено горизонтом невнимательности на заднем плане с относительными различиями между ясным и темным, равно как вычлененным и невычлененным. Во всем этом коренятся эйдетические возможности — возможность неувиденное доставлять чистому взгляду, замеченное между делом обращать в замечаемое в первую очередь, невыделенное превращать в выделенное, темное делать ясным и все более и более ясным.[85]
В непрерывном переходе от схватывания к схватыванию мы, сказал я, известным образом схватываем и поток переживания как единство. Мы схватываем его не как единичное переживание, но по способу идеи в кантовском смысле. Поток переживания — это не что-то полагаемое и утверждаемое наобум, — это нечто абсолютно-несомненно данное, в соответственном широком смысле слова «данность». Источник такой несомненности, хотя и она опирается на интуицию, — все же совершенно иной, нежели тот, что существует для бытия переживаний, каковые, таким образом, достигают чистой данности в имманентном восприятии. Своеобразное идеации, созерцающей кантовскую «идею», которая вовсе не лишается от этого усматриваемой однозначности, как раз заключается в том, что адекватное определение ее содержания, т. е. здесь — потока переживания, недостижимо. Одновременно мы видим, что от потока переживания и его компонентов как таковых неотделим ряд различимых модусов данности, систематическое исследование которых составит главную задачу общей феноменологии.
Из наших размышлений мы можем вынести также и то эйдетически значимое и очевидное положение, что ни одно конкретное переживание не может иметь значения в полном смысле самостоятельного. Любое переживание «требует дополнения» в отношении взаимосвязи — по виду и форме не произвольной, но связанной.
Пример: если мы станем рассматривать, в его конкретной полноте, какое-либо внешнее восприятие, скажем, вот это определенное восприятие дома, то тогда от него неотделимо, в качестве необходимого фрагмента его определения, окружение переживания; впрочем, это фрагмент своеобразный, он необходим, а в то же время «внесущностен», а именно он таков, что изменение его ничего не изменяет в собственном сущностном содержании переживания. Итак, в зависимости от изменения определенности окружения, само восприятие меняется, между тем как наиболее низкая дифференциация рода «восприятие», ее внутреннее своеобразие, может мыслиться тождественным.
В принципе невозможно, чтобы два восприятия, сущностно тождественные в таком своем своеобразии, были бы тождественны и по своей определенности окружения, — они были бы в таком случае одним восприятием. В любом случае таковое возможно усмотреть, что касается двух восприятий и, следовательно, двух переживаний, принадлежащих одному потоку переживания. Любое переживание оказывает свое влияние на ореол — светлый или темный — дальнейших переживаний.
Кроме того, более конкретное рассуждение показало бы нам, что немыслимы два потока переживания (сферы сознания двух чистых Я) с тождественным сущностным наполнением, равно как — это можно усмотреть уже из вышеизложенного — немыслимо, чтобы вполне определенное переживание одного потока принадлежало к другому потоку: общими у таковых могут быть лишь переживания с тождественной внутренней устроенностью (хотя, как индивидуально тождественные, они им не общи) — но не два индивидуально определенных переживания, тем более с абсолютно одинаковым «ореолом».
§ 84. Интенциональность как главная феноменологическая тема
Теперь мы перейдем к той особенности переживаний, какую можно прямо назвать генеральной темой «объективно» ориентированной феноменологии, — к интенциональности. Таковая есть сущностная особенность сферы переживаний вообще в той мере, в какой все переживания каким-либо образом причастны к интенциональности, хотя мы и не о каждом переживании можем в том же смысле говорить, что он обладает интенциональностью, в каком мы о каждом вступающем во взгляд возможной рефлексии в качестве объекта переживании, и будь то даже абстрактный момент переживания, можем говорить, что переживание это — временное. Интенциональность — это то, что характеризует сознание в отчетливом смысле, то, что оправдывает характеристику всего потока переживания в целом как потока сознания и как единства одного сознания.
Уже и в подготовительных сущностных анализах раздела второго (о сознании вообще) нам пришлось, — еще не открывая врат феноменологии и именно с целью завоевать их с помощью метода редукции, — выработать целый ряд самых общих определений касательно интенциональности и отличительных черт «акта» — «cogitatio».[86] Такими определениями мы и пользовались в дальнейшем, имея на то право, хотя первоначальные наши анализы осуществлялись еще без подчинения их явной норме феноменологической редукции. Ибо затрагивали они лишь чистую индивидуальную сущность переживаний, а следовательно не задевались выключениями психологической апперцепции и бытийного полагания. Поскольку же теперь речь идет, однако, и том, чтобы обсудить и обосновать интенциональность в качестве всеобъемлющей рубрики сквозных феноменологических структур и дать очерк сущностно сопряженной с такими структурами проблематики, то мы повторим сказанное ранее, но только в таком раскладе, в каком нуждаемся в настоящую минуту ввиду существенно иначе направленных целей.
Под интенциональностью мы понимали свойство переживании «быть сознанием чего-либо». Первым делом это чудесное свойство, к какому нас возвращают любые загадки теории разума и метафизики, выступило перед нами в эксплицитном cogito: восприятие есть восприятие чего-то, скажем, вещи; суждение есть суждение о каком-либо положении дел; оценивание — оценивание какой-либо ценностной ситуации; желание — желательного обстоятельства и т. д. Действование направлено на такое-то действие, поведение — на поступок, любовь — на то, что любимо, радование — на радостное и т. д. В любом актуальном cogito «взгляд», как луч исходящий от чистого Я, направляется на «предмет» соответствующего коррелята сознания, на вещь, положение дел и т. д., осуществляя весьма разнообразное сознание такого-то. Правда, феноменологическая рефлексия учила нас, далее, тому, что не во всяком переживании можно обрести такую представляющую, мыслящую, оценивающую и т. д. обращенность Я, не во всяком можно обнаружить такую актуальную завязанность с коррелятивным предметом, не во всяком — подобную направленность на него (или, наоборот, от него — однако, все равно со взглядом на него), между тем как переживание все равно может скрывать в себе интенциональность. Так, например, ясно, что предметный фон (задний план), из которого когитативно воспринятый предмет вычленяется благодаря тому, что ему уделяется отмечающая его обращенность Я, — это действительно предметный фон по мере переживания. Это значит, что пока мы обращены к чистому предмету в модусе «cogito», все же «являются» всякого рода предметы, они наглядно «сознаются», они стекаются в наглядное единство сознаваемого предметного поля. Таковое есть потенциальное поле восприятия в том смысле, что на все являющееся подобным образом может быть обращено особое восприятие (замечающее его cogito), — но не в том, чтобы все наличные по мере переживания нюансы ощущения, например, визуальные, простирающиеся в единстве визуального поля ощущения, были лишены какого бы то ни было предметного постижения и наглядные явление предметов впервые конституировались лишь вместе с обращенным на них взглядом.
Далее, сюда же принадлежат и переживание фона актуальности — вроде всяких «веяний»: веяний вкуса, суждения, желания и т. д. — на различных ступенях более далекого или более близкого заднего плана, или, как мы тоже могли бы сказать, удаленности и приближенности Я, коль скоро актуальное, ведущее свою жизнь в соответствующих cogitationes чистое Я служит тут точкой сопряженности. Испытывать удовольствие, желать, судить — все это можно в специфическом смысле «осуществлять», — и совершается все такое тем Я, какое «живо деятельно» в подобном совершении (и какое актуальное «страдает», как при «совершении» печали); однако может быть и так, что все подобные способы сознания уже «веют», «копошатся», всплывают на «заднем плане», еще не будучи «осуществляемы». Но по своей собственной сущности все подобного рода не-актуальности — все же уже суть «сознание чего-то». Вот почему мы и не ввели в сущность интенциональности саму специфику cogito, «взгляд-на» или же обращенность Я (каковую, кстати говоря, надлежит уразумевать и феноменологически исследовать не в одном отношении);[87] напротив, все такое когитативное имело для нас значение особенной модальности того всеобщего, что мы именуем интенциональностью.
К терминологии
В «Логических исследованиях» это же самое всеобщее названо «характером акта», а всякое конкретное переживание такого характера — «актом». Однако ложные истолкования, каким постоянно подвергалось это понятие, побудили меня (в лекциях уже в течении ряда лет) определять терминологию несколько предусмотрительнее и не пользоваться выражениями «акт» и «интенциональное переживание» как равнозначными без принятия предварительных мер. В дальнейшем прояснится и то, что без моего первоначального понятия «акт» мы совершенно не можем обходиться, но что необходимо постоянно учитывать модальные различия между актами осуществленными и не осуществленными.
Где нет дополнительных слов и попросту говорится об актах, будут разуметься исключительно акты настоящие, в собственном смысле, так сказать, актуальные, осуществленные.
В остальном же необходимо сделать совершенно общее замечание о том, что в нашей начинающейся феноменологии все понятия и соответственно термины известным образом должны оставаться в текучем состоянии, как бы в постоянной готовности немедленно дифференцироваться по мере продвижения анализа сознании и по мере распознавания все новых феноменологических наслоений в пределах того, что на первых порах узревается лишь в своем нерасчлененном единстве. Во всех выбираемых нами терминах заключается некая тяга к взаимосвязанности, они указывают в таких направлениях сопряженности, где позднее нередко выясняется, что источник таковых — не один лишь сущностный слой, из чего одновременно и следует, что терминологию можно определить лучше или же нужно как-то модифицировать. Так что на какую-либо окончательность терминологии можно рассчитывать лишь на очень продвинутой стадии развития нашей науки. Заблуждением и капитальной нелепостью было бы прилагать внешне формальные масштабы логики к терминологии такого научного изложения, где сама наука еще только-только пытается как-то пробиться на поверхность, и в самом начале требовать терминологии в духе той, в какой фиксируются лишь заключительные итоги большого научного развития. Поначалу же всякое выражение хорошо, и особенно же хорошо любое подходящее образное выражение, какое способно привлечь наш взгляд к какому-либо ясно схватываемому феноменологическому событию. Ясность не исключает известного ореола неопределенности. Дальнейшее определение, или же, иначе, прояснение такового — это как раз и есть дальнейшая задача, как, с другой стороны, и внутренний анализ, какой надлежит совершать путем сопоставлений или путем смены взаимосвязей, — разбиение на компоненты или слои. Те же, кто, не будучи удовлетворены предложенными интуитивными разворачиваниями, начинают — как в «точных» науках — требовать тут «дефиниций» или же полагают, что вправе по собственному усмотрению и в лишенном наглядности научном мышлении распоряжаться феноменологическими понятиями, какие якобы обретены как твердые и неподвижные на основании нескольких примитивных анализов, и думают, что приносят тем пользу феноменологии, — так это только новички, не постигшие еще ни сущности феноменологии, ни методики, какая в принципе требуется таковою.
В не меньшей степени сказанное значимо и для эмпирически направленной психологической феноменологии в смысле описания психологических феноменов, какое связывало бы себя имманентно-сущностным.
Понятие интенциональности, постигнутое, как у нас сейчас, в неопределенной широте, — это совершенно неизбежное для начал феноменологии исходное, основополагающее понятие. Сколь бы неопределенным ни было то общее, что обозначается этим понятием, для последующего более конкретного исследования, в каком бы многообразии существенно различных сложений ни выступало это общее, сколь бы трудным делом ни было прояснять, путем анализа строгого и ясного, что же, собственно говоря, составляет сущность интенциональности в чистом виде, какие компоненты конкретных сложенностей, собственно говоря, заключают в себе такую сущность, а каким она внутренне чужда, — в любом случае переживания рассматриваются под определенным и в высшей степени важным углом зрения, когда мы познаем их как интенциональные, говоря, что они суть сознание чего-то. Когда же мы так говорим, то нам, кстати, совершенно едино, идет ли тут речь о конкретных переживаниях или об абстрактных слоях переживания, потому что и последние тоже могут проявлять свойство, о каком идет сейчас речь.
§ 85. Сенсуальная ϋλη, интенциональная μορφή
Уже выше (назвав поток переживания единством сознания) мы указывали на то, что интенциональность, если отвлекаться от ее загадочных форм и ступеней, подобна также некой универсальной среде, какая в конце концов заключает в себе все переживания, в том числе и те, которые не характеризуются как интенциональные. Однако на той ступени рассмотрения, к какой мы пока — впредь до дальнейшего — привязаны и не положено спускаться в темные глубины последнего сознания, что конституирует все временение переживаний в целом,[88] скорее, переживания берутся здесь такими, какими предстают они в имманентной рефлексии — как единые временные события, и здесь мы обязаны в принципе различать:
1) все те переживания, какие в «Логических исследованиях» были названы «первичными содержаниями»;[89]
2) те переживания или же моменты переживаний, какие заключают в себе специфику интенциональности.
К числу первых принадлежат известные «сенсуальные» (единые по своему наивысшему роду) переживания, «содержания ощущения» вроде данных цвета, вкус, звука и т. п., — их мы уже не будем смешивать с являющимися вещными моментами — цветом, шероховатостью и т. д., какие, напротив, «репрезентируются» посредством первых, по мере переживании. Равным образом сюда же принадлежат и сенсуальные ощущения удовольствия, боли, щекотания и т. д., а также и сенсуальные моменты сферы «влечений». Подобного рода конкретные данные переживаний мы обнаруживаем в качестве компонентов в более всеобъемлющих конкретных переживаниях, интенциональных как целое, причем обнаруживаем их так, что над названными сенсуальными моментами располагается как бы «одушевляющий» их, наделяющий смыслом (или же сущностно имплицирующий наделение смыслом) слой — такой слой, благодаря которому из того сенсуального, что не заключает в себе никакой интенциональности, как раз и складывается конкретное интенциональное переживание.
Сейчас невозможно решать вопрос о том, необходимо ли и всегда ли такие сенсуальные переживания в потоке переживания заключают внутри себя какое бы то ни было «одушевляющее постижение» (вместе со всем тем, что, в свою очередь, требовало или делало возможными вот такие-то характерные свойства), или же, как мы тоже говорим, всегда ли они выполняют интенциональные функции. С другой же стороны, мы оставляем пока без ответа и вопрос о том, могут ли существенно конституирующие интенциональность характерные свойства обладать конкрецией без сенсуальной подкладки.
Во всяком случае во всей феноменологической области (во всей — в пределах той ступени конституируемой временности, какой нам следует постоянно держаться здесь) главенствующую роль играет примечательная двойственность и единство сенсуальной ϋλη, и интенциональной μορφή. На деле, эти понятия материи и формы прямо-таки навязывают себя нам, когда мы актуализуем какие бы то ни было ясные созерцания или же со всей ясностью осуществленные оценивания, воления, акты вкуса и т. п. Интенциональные переживание выступают тогда как единства благодаря наделению смыслом (в весьма расширительном смысле). Чувственные данные даются в качестве материалов для интенционального формирования или наделения смыслом на различных ступенях, как простого, так и своеобразно фундируемого; все это мы еще будем обсуждать конкретнее. До какой степени удачны все эти выражения, подтвердит еще со своей стороны и учение о «коррелятах». Что же касается тех возможностей, какие выше были оставлены открытыми, то их следовало бы обозначить как бес-форменные материалы и без-материальные формы.
В отношении терминологии надлежит еще прибавить следующее. Выражение «первичное содержание» не представляется уже достаточно характерным. С другой же стороны, выражение «чувственное содержание» для обозначения того же понятия непригодно по той причине, что этому препятствуют общепринятые выражения, такие, как «чувственные восприятия», «чувственные созерцания» вообще, «чувственная радость» и т. п., причем «чувственными» тут именуются не только гилетические, но и интенциональные переживания; очевидно, что положение не улучшится и в том случае, если мы станем говорить о «простых» или «чистых» чувственных переживаниях, поскольку таковые несут с собою новую многозначность. Сюда же прибавляется и собственная многозначность слова «чувственное» — она сохраняется и в феноменологической редукции. Если отвлечься от двусмысленности, какая выступает наружу в контрасте «наделяющего смыслом» и «чувственного, сенсуального»,[90] — как бы ни мешала она нам порой, ее уже не избежать, — то тут следовало бы упомянуть, что чувственность в более узком смысле обозначает феноменологический остаток всего, что опосредуется «чувствами» при нормальном внешнем восприятии. Оказывается, после осуществления редукции, что соответственные «чувственные» данные внешнего созерцания сущностно родственны между собой, и такому их сродству отвечает особая родовая сущность, или же, иначе, фундаментальное понятие феноменологии. В более широком же — в едином по сущности — смысле чувственность объемлет и чувственные эмоции и влечения, обладающие своим родовым единством, а с другой стороны, и сущностным сродством общего порядка со всеми «чувственностями» в более узком смысле, — все это еще притом, что мы отвлекаемся от той общности, какую выражает функциональное понятие «гиле». Все это, вместе взятое, было вынужденно порождено давним переносом «чувственности» в первоначально более узком смысле на сферу душевности и воления, а именно на интенциональные переживания, в каких в качестве функционирующих «материалов» выступают чувственные данные только что названных сфер. Так что у нас вновь появляется потребность в новом термине, который выражал бы всю группу в единстве ее функции и по контрасту к формующим характерным свойствам, — в качестве такового мы выберем выражение «гилетические данные», или же «материальные данные», — или попросту «материалы». В тех же случаях, когда надо будет напоминать о прежних, по-своему неизбежных выражениях, то мы будем говорить — «сенсуальные», а иногда и — «чувственные материалы».
Формует материалы, обращая их в интенциональные переживания и внося сюда специфику интенциональности, то самое, что придаст специфический смысл высказываниям о сознании: именно в связи с этим сознание eo ipso указывает на нечто такое, сознание чего оно сеть. Поскольку же, далее, выражения вроде «моментов сознания», «осознанности» и тому подобные словообразования, и равным образом и выражение «интенциональные моменты» совершенно непригодны по причине многообразия эквивокаций, какие еще выступят впоследствии со всей отчетливостью, то мы вводим термин «ноэтический момент», или же, короче, «ноэса». Ноэсы и составляют специфику нуса в самом широком смысле этого слова, — нус и возвращает нас, согласно со всеми его актуальными жизненными формами, к cogitationes, а затем и к интенциональным переживаниям вообще, а тем самым охватывает все (и по существу только это), что служит эйдетической предпосылкой идеи нормы. Одновременно тут весьма кстати оказывается и то, что слово «нус» напоминает об одном из отмеченных своих значений, именно о «смысле», хотя «наделение смыслом», осуществляющееся в ноэтических моментах, объемлет многое, а то «наделение смыслом», какое примыкает к отчетливому понятию смысла, — лишь в качестве фундамента.
С хорошим основанием можно было называть и психической эту ноэтическую сторону переживаний. Ибо когда философические психологи говорили о ψυχή психическом, они направляли свой взгляд по преимуществу на то, что вносит сюда интенциональность, тогда как чувственные моменты оставались за телом и деятельностью его органов чувств. Новейшее свое запечатление эта старинная тенденция получает у Брентано, который различает «феномены» «психические» и «физические». Это различение особенно значительно, поскольку проложило путь развитию феноменологии, — несмотря на то что сам Брентано остался чуждым феноменологической почве, а своим различением достиг вовсе не того, чего, собственно, искал, — размежевания опытных областей физического естествознания и психологии. Сейчас же из всего этого нас касается только одно: хотя Брентано и не обрел еще понятия материального момента, — не обрел, поскольку не учитывал принципиального размежевания между «физическими феноменами» как материальными моментами (данными ощущения) и «физическими феноменами» как предметными моментами (цвет, форма вещей и т. п.), как они предметно являются в ноэтическом схватывании первых, — но зато он, с другой стороны, охарактеризовал понятие «психического феномена», в одном из очерчивающих его границы определений, как раз через своеобразие интенциональности. Именно благодаря этому он привнес в горизонт нашей эпохи «психическое» — в том отмеченном смысле, каковой в историческом значении этого слова получал известный акцент, хотя и вовсе не вычленялся.
Однако против употребления такого слова в качестве эквивалента интенциональности говорит то обстоятельство, что конечно же никуда не годится одинаково обозначать психическое в этом смысле и психическое в смысле психологического (т. е. того, что составляет своеобразный объект психологии). К тому же и в этом последнем понятии мы обладаем крайне неприятной двусмысленностью, источник которой — известное тяготение к некоей «психологии без души». С этой тенденцией и связано то, что, говоря о психическом — в особенности же, об актуально психическом в противоположность соответствующим «психическим предрасположенностям», — предпочтительно думают о переживаниях в пределах единства эмпирически полагаемого потока переживаний. Но ведь совершенно неизбежно именовать психическими — или, скажем, объектами психологии — и реальных носителей психического, т. е. живые существа, или же их «души» и их психически-реальные свойства. Как нам кажется, «психология без души» вроде бы смешивает операцию выключения некоей душевной сущности в смысле какой-нибудь туманной метафизики и операцию выключения души вообще, т. е. той фактически данной в эмпирии психической реальности, состояния каковой суть переживания. Такая реальность — это вовсе не только поток переживаний, привязанный к телу и определенными способами эмпирически упорядочиваемый, а понятия предрасположенности — не просто показатели таких упорядочиваний. Однако, как бы то ни было, наличествующая многозначность, а прежде всего то обстоятельство, что преобладающие понятия психического не подходят к специфически интенциональному, делают это слово непригодным для нас.
Итак, мы остаемся при слове «ноэтическое» и тогда говорим:
В потоке феноменологического бытия есть слой материальный и слой ноэтический.
Феноменологические рассуждения и анализы, особо относящиеся к материальному, могут называться гилетически-феноменологическими; те же, что, с другой стороны, сопряжены с ноэтическими моментами, — ноэтически-феноменологическими. Несравненно более важные и богатые анализы производятся на этой стороне ноэтического.
§ 86. Функциональные проблемы
Однако самые большие проблемы — функциональные, или же, иначе, проблемы «конституирования предметностей сознания». Они относятся к тому, как, — скажем, в отношении природы, — ноэсы, одушевляющие материальное и сплетающиеся между собою в многообразно-единые континуумы и синтезы, производят сознание чего-то так, что в таковом может адекватно «изъявляться», «подтверждаться» и «разумно» определяться объективное единство предметности.
«Функция» в этом смысле (полностью отличного от понятия математики) есть нечто единственное в своем роде, нечто основывающееся в чистой сущности ноэс. Сознание — это именно сознание «чего-либо»; сущность сознания — в том, чтобы скрывать в себе «смысл», так сказать, квинтэссенцию «души», «духа», «разума». «Сознание» — это не рубрика для «психических комплексов», для каких-то сплавившихся воедино «содержаний», для «связок» или потоков «ощущений», каковые, бессмысленные в себе самих, и в любой смеси не в состоянии были бы дать нам «смысл», — нет, оно всецело и исключительно есть «сознание», источник разума и неразумности, нрава и несправедливости, реальности и фикции, ценности и бросовости, деяний и злодеяний — всего и всяческого такого. Следовательно, сознание toto coelo отлично от того, что единственно угодно видеть сенсуализму, — от материала, какой сам по себе бессмыслен, иррационален, — хотя, впрочем, и доступен рационализации. Что означает такая рационализация, вскоре мы еще лучше научимся понимать.
Точка зрении функции — центральная во всей феноменологии; лучи изысканий, исходящие оттуда, обнимают, можно сказать, всю феноменологическую сферу в целом, и в конце концов вообще все феноменологические анализы поступают к ней на службу в качестве составных или же в качестве подчиненных ступеней. На место анализов и сопоставлений, описаний и классификаций, какие липнут к отдельным переживаниям, заступает рассмотрение деталей под «телеологическим» углом зрения их функции — обеспечивать «синтетическое единство». Наше размышление обращается к тем многообразиям сознания, которые, по мере сущности, как бы предначертаны в самих переживаниях, в их смысловых наделениях, и их ноэсах вообще, которые как бы следует извлекать из них: так, например, в сфере опыта и мышления на основании опыта наше размышление обращается к многоликим континуумам сознания и отложившимся сочетаниям переживаний сознания, каковые в себе сочетаются благодаря своей смысловой сопринадлежности, благодаря едино объемлющему их сознания одного и того же — являющегося то таким, то иным способом, наглядно дающего себя или же определяющегося по мере мысли — объективного. Наше размышление стремится исследовать, каким образом то же самое, каким образом объективные, не реально имманентные единства всякого рода суть «сознаваемые», «подразумеваемые» и «имеемые в виду», каким образом к тождественности подразумеваемого принадлежат сложения сознания с их весьма различным, а притом все же именно требуемым по мере сущности строением, и — затем — каким образом возможно методически строго описывать такие сложения. Далее же наше размышление стремится исследовать, каким образом, в соответствии с двойной рубрикацией «разума» и «неразумия», единство предметностей каждого предметного региона, каждой предметной категории позволяет и должно позволять — «подтверждать» и «отвергать» себя, по мере сознания, определять себя в формах мыслительного сознания, определять себя «конкретнее» или же «иначе», а то и целиком и полностью отклонять себя в качестве «ничтожной» «кажимости». В связи со всем этим находятся любые разделения и размежевания, производимые под столь тривиальными, а притом все же столь загадочными названиями, как-то: «действительность» и «кажимость», «подлинная» реальность, «мнимая реальность», «истинные» ценности, «кажущиеся» и «ложные ценности» и т. д., феноменологическое прояснение каковых берет свое начало отсюда.
Итак, с абсолютно всеобъемлющей всеобщностью надлежит исследовать, каким же образом «конституируются, по мере сознания», объективные единства любого региона, любой категории. Необходимо систематически показать, каким образом их сущностью предначертываются все взаимосвязи действительного и возможного сознания их же самих, — именно как сущностные возможности: интенционально сопрягаемые с ними простые или фундируемые созерцания, мыслительные образования низшей и высшей ступеней, путанные и ясные, явные или неявные, донаучные и научные — вплоть до величайших образований строгой теоретической науки и всей культуры. Необходимо изучить и сделать доступными усмотрению — систематически в эйдетической всеобщности и феноменологической чистоте — все основные виды возможного сознания и по мере сущности принадлежные к таковым вариации, сплавления, синтезы; каким образом эти основные виды благодаря их собственной сущности предначертывают все бытийные возможности (и бытийные невозможности), каким образом предмет, сущий согласно с абсолютно неподвижным законам сущности, выступает как коррелят взаимосвязей сознания с их совершенно определенным сущностным наполнением, а равно и наоборот — каким образом бытие так устроенных взаимосвязей оказывается равнозначным сущему предмету; все это — в постоянной сопряженности со всеми регионами бытия и со всеми ступенями всеобщности вплоть до бытийных конкреций.
В своей чисто эйдетической, «выключающей» любые трансценденции установке феноменология на своей собственной почве чистого сознания необходимо достигает всего этого комплекса проблем, трансцендентальных в специфическом смысле, а потому она и заслуживает названия трансцендентальной феноменологии. На своей собственной почве она должна добиться того, чтобы переживания рассматривать не как те или иные, все равно какие, мертвые вещи, как «комплексы содержаний», которые просто суть, но ничего не значат, ничего не подразумевают, классифицируя их по элементам, комплексным образованиям, разрядам и подразрядам, натуралистически рассматривая их как основания для объяснений, — нет, она должна овладеть принципиально-специфической проблематикой, какую переживания предоставляют как переживания интенциональные, предоставляют ее исключительно благодаря своей эйдетической сущности, будучи «сознанием чего-либо».
Естественно, что чистая гилетика подчинена феноменологии трансцендентального сознания. Кстати говоря, эта чистая гилетика обладает характером замкнутой в себе дисциплины, как таковая, имеет свою внутреннюю ценность, а, с точки зрения функциональной, и значение — благодаря тому, что она вплетает возможные нити в интенциональную паутину, поставляет возможный материал для интенциональных формований. Эта чистая гилетика не только в том, что касается сложности, но и ранга проблем, если смотреть с позиции идеи абсолютного познания, очевидно, стоит значительно ниже ноэтической и функциональной феноменологии (ноэтическое и функциональное тут, собственно, нельзя разделять).
Переходим теперь к более конкретному изложению в целом ряде глав.
Примечание
Словом «функция» в словосочетании «психическая функция» Штумпф в своих академических исследованиях, имеющих большую важность,[91] пользуется в противоположность тому, что он именует «явлением». Если это размежевание понимается как психологическое, тогда оно совпадает с нашим (но только поворачиваемым в психологическую сторону) противопоставлением «актов» и «первичных содержаний». Нужно обратить внимание на то, что упомянутые термины в нашем изложении имеют совершенное иное значение, нежели у почтенного ученого. Уже не раз случалось, что поверхностные читатели работ Штумпфа и моих смешивали его понятие феноменологии (как учения о «явлениях») с нашим. Феноменология Штумпфа соответствовала бы тому, что выше названо гилетикой, только что наше определение таковой в методическом смысле существенно определено всеобъемлющими рамками трансцендентальной феноменологии. С другой же стороны, идея гилетики ео ipso переносится с феноменологии на почву эйдетической психологии, в какую, по нашему разумению, включится и «феноменология» в понимании Штумпфа.
Глава третья. Ноэсис и ноэма
§ 87. Предварительные замечания
Нетрудно обрисовать специфику интенционального переживания в его всеобщности, — мы все понимаем выражение «сознание чего-либо», особенно на показательных примерах. Тем труднее чисто и правильно схватить соответствующие ему феноменологические сущностные особенности. Что такое наименование ограничивает широкое поле мучительных констатаций, притом констатаций эйдетических, это, если судить по литературе, до сих пор, кажется, недоступно большинству философов и психологов. И решительно ничего не достигается тем, что все говорят и все ясно усматривают: всякое представление сопрягается с представляемым, всякое суждение — с тем, о чем выносится суждение, и т. д. Или же тем, что нас, помимо этого, отсылают к логике, гносеологии, этике с множеством заключающихся в них очевидностей, характеризуя их все как относящиеся к сущности интенциональности. В то же время это очень простой прием — делать вид, будто феноменологическое учение о сущности существовало издревле, будто это только новое название старой логики и других, занимающих равное с ней положение дисциплин. Ибо, не постигнув своеобразия трансцендентальной установки и не освоив на деле поле чистой феноменологии, можно, конечно, повторять слово «феноменология», но от этого еще не начинаешь обладать ею. Кроме того, вовсе недостаточно просто переменить установку, например, просто выполнить феноменологическую редукцию, чтобы превратить чистую логику в некое подобие феноменологии. Ибо отнюдь не лежит на поверхности, в какой мере выражается нечто действительно феноменологическое логическими, а равным образом и чисто онтологическими, чисто этическими и какими угодно априорными положениями, сколько бы их ни приводилось, и каким феноменологическим слоям принадлежит все это. Тут, напротив, заложены наитруднейшие проблемы, смысл которых естественным образом скрыт от всех тех, кто не имеет ни малейшего понятия о задающих меру фундаментальных различениях. И на деле — если только дозволено мне судить по собственному опыту — труден и усеян колючками путь, что ведет от чисто логических усмотрений, от усмотрений семантических, онтологических, ноэтических, а также и от обычной нормативной и психологической теории познания к постижению в подлинном смысле имманентно-психологических, а затем феноменологических данностей, и, наконец, ко всем тем сущностным взаимосвязям, которые делают для нас понятными трансцендентальные связи a priori. То же самое можно сказать и о пути, — где бы он для нас ни начинался, — который ведет нас от предметных усмотрений к существенно принадлежащим феноменологии.
Итак, «сознание чего-либо» есть нечто разумеющееся само собою и, однако, в то же самое время нечто в высшей степени непонятное. Первые попытки рефлексии уводят нас в лабиринт ложных дорог, и это легко рождает тот скепсис, который склонен отрицать существование всей этой сферы столь неудобных проблем. Есть немало таких, кто закрывает себе доступ в эту сферу просто тем, что не может решиться постигать интенциональное переживание, например переживание восприятия, в его присущей ему как таковому сущности. Они никак не могут добиться того, чтобы, живя в восприятии, направлять свой наблюдающий и теоретизирующий взгляд не на воспринимаемое, но вместо этого на само же восприятие, или же на те особенности, какими отличается способ данности воспринимаемого, и брать то, что предстает в имманентном анализе сущностей таким, каким оно себя дает. Если же удается обрести верную установку, укрепив ее затем упражнением, а прежде всего если удается обрести мужество для того, чтобы, решительно отбросив предрассудки и нимало не печалясь обо всех перенятых и расхожих теориях, просто следовать за ясными сущностными данностями, то вскоре обнаруживаются прочные результаты, причем одинаковые у всех, разделяющих одну и ту же установку; появляются несомненные возможности передавать увиденное другим, поверять описания, данные другими, вычленять в описаниях занесенные туда примеси пустого словесного мнения, соразмеряя описание с интуицией, отмечать в нем и отбрасывать ошибки, которые здесь возможны точно так же, как и в любой сфере значимости. Однако теперь обратимся к самим вещам.
§ 88. Реальные и интенциональные компоненты переживания. Ноэма
Если, как это и происходит всегда в наших размышлениях, мы устремимся к наиболее всеобщим различениям, которые можно схватить, так сказать, на самом пороге феноменологии и которые определят, как нам методически поступать впредь, то тут, что касается интенциональности, мы тотчас же наталкиваемся на одно весьма фундаментальное различение, а именно — на различение реальных компонентов интенциональных переживаний и их интенционалъных коррелятов, или же компонентов последних. Мы коснулись этого различения уже в наших предварительных эйдетических соображениях, в разделе третьем.[92] Оно позволило нам тогда прояснить специфическое бытие феноменологической сферы на переходе от естественной к феноменологической установке. Однако тогда не могло быть и речи о том, что это различение приобретает радикальное значение внутри самой этой сферы, то есть в рамках трансцендентальной редукции, обусловливая всю проблематику феноменологии. Итак, с одной стороны, мы должны различать те части и моменты, какие мы обретаем в реальном анализе переживания, причем мы с переживанием обращаемся, как с любым другим предметом, задавая вопрос о его частях или несамостоятельных, реально составляющих его моментах. Но, с другой стороны, интенциональное переживание есть сознание чего-либо, и таково оно по своей сущности, как воспоминание, суждение, воля и т. д., а потому мы можем спрашивать, о чем тут сказать по мере сущности этого «чего-либо».
Любое интенциональное переживание благодаря своим ноэтическим моментам есть именно переживание ноэтическое; это означает, что сущность его в том, чтобы скрывать в себе нечто, подобное «смыслу», скрывать в себе даже и многогранный смысл и затем, на основе такого наделения смыслом и воедино с этим, осуществлять иные свершения, которые именно благодаря такому наделению смыслом и делаются «осмысленными». Вот примеры таких ноэтических моментов: направленность взгляда чистого «я» на тот предмет, который благодаря наделению смыслом подразумевается, имеется в виду, мнится «я», на тот предмет, который «у него на уме»; затем схватывание и фиксация такого предмета, между тем как взор уже обратился к другим предметам, вступившим в его «мнение»; равным образом деятельность эксплицирования, сопряжения, совместного схватывания, занятия многообразных позиций веры, предлолагания, оценивания и т. д. Все это можно обрести в соответствующих переживаниях, всегда построенных весьма по-разному и переменчивых внутри себя. Однако, как бы ни указывал этот ряд показательных моментов на реальные компоненты переживаний, он одновременно указывает — благодаря «смыслу» — на компоненты нереальные.
Многообразным датам[93] реального, ноэтического наполнения всегда отвечает многообразие дат коррелятивного «ноэматичекого наполнения», дат, подтверждаемых в действительно чистом интуировании, — говоря коротко, это даты «ноэмы» — термин, который мы, начиная с этого момента, будем употреблять постоянно.
Восприятие, к примеру, обладает своей ноэмой, на нижней ступени — смыслом восприятия[94] то есть воспринимаемым как таковым. Подобно этому всякое воспоминание обладает воспоминаемым как таковым, именно как своим, точно так же, как в нем есть «подразумеваемое» и «сознаваемое»; суждение в свою очередь обладает кок таковым тем, о чем выносится суждение, удовольствие — тем, что доставляет удовольствие, и т. д. Ноэматический коррелят, который именуется здесь (в чрезвычайно расширительном значении) «смыслом», следует брать точно так, как «имманентно» заключен он в переживании восприятия, суждения, удовольствия и т. д., то есть точно так, как он предлагается нам переживанием, когда мы вопрошаем об этом чисто само переживание.
Как понимаем мы все это, станет совершенно ясно после выполнения показательного анализа, который мы намерены совершать в чистом интуировании.
Предположим, что мы с удовольствием смотрим в саду на цветущую яблоню, на свежую зелень травы и т. д. Очевидно, что восприятие и сопровождающее его удовольствие — не то же самое, что воспринимается и доставляет удовольствие. При естественной установке яблоня есть для нас нечто сущее в трансцендентной пространственной действительности, а восприятие, равно как удовольствие, — психическое состояние, свойственное реальным людям. Между одним и другим реальным, между реальным человеком, его реальным восприятием и реальной яблоней существуют реальные отношения. В иных случаях при такой ситуации переживания говорят: это восприятие — «просто галлюцинация», воспринимаемое, то есть вот эта яблоня перед нами, вовсе не существует в «действительной» реальности. Тогда реальное отношение, которое раньше подразумевалось как действительно существующее, нарушается. Остается одно восприятие; нет ничего действительного, с чем бы оно сопрягалось.
Теперь же мы переходим в феноменологическую установку. Трансцендентный мир получает свои «скобки», мы осуществляем εποχή в отношении действительности. Мы спрашиваем теперь о том, что по мере сущности обретается в комплексе ноэтических переживаний восприятия и оценивания (как удовольствия). Вместе со всем физическим и психическим миром действительное существование реального отношения между восприятием и воспринимаемым заключено в скобки, и тем не менее, очевидно, осталось отношение между восприятием и воспринимаемым (как и между удовольствием и тем, что доставляет удовольствие), отношение, которое достигает сущностной данности в «чистой имманентности», а именно чисто на основе подвергшегося феноменологической редукции переживания восприятия и удовольствия, каким входит переживание в трансцендентальный поток переживаний. Вот это положение дел и должно занимать нас теперь, положение дел чисто феноменологическое. Может случиться так, что феноменологии будет что сказать, и, вполне вероятно, весьма немало, и относительно галлюцинаций, иллюзий, вообще ложных восприятий, — однако очевидно, что все подобное при той роли, какую оно играло при естественной установке, подлежит сейчас феноменологическому заключению в скобки. Сейчас, вопрошая восприятие, да и любую продолжающуюся, длящуюся взаимность восприятий (как если бы мы ambulando — прогуливаясь — рассматривали цветущее дерево), мы не обращаемся к ним с вопросами подобного рода: соответствует ли им что-либо в «самой» действительности. Нам не приходится производить тех «перечеркиваний», какие иной раз бывают мотивированы взаимосвязью опыта и выражаются как раз словами вроде «иллюзии» и т. д. — мы не имеем права полагать ни бытия, ни небытия в самой действительности (ни полагать, ни даже «принимать» их). Ведь эта действительность не налична для нас сейчас по мере суждения, и не налично ничто, что требовало бы такого полагания или «принимания» как полагаемая или «принимаемая» действительность. И тем не менее все остается, так сказать, как было. И подвергшееся феноменологической редукции переживание восприятия по-прежнему остается восприятием «вот этой цветущей яблони в этом саду и т. д.», и точно так же подвергшееся редукции удовольствие остается удовольствием, доставляемым все тем же. Яблоня не утратила ни малейшего нюанса из всех тех моментов, качеств, характерных свойств, с какими являлась она в этом восприятии, с какими выступала она «в» этом удовольствии, — «красивая», «чудесная» и т. п.
При феноменологическом восприятии мы можем и должны ставить вопрос о сущности: что есть «воспринимаемое как таковое», какие сущностные моменты скрывает оно в себе самом, будучи вот этой ноэмой восприятия. Мы получаем ответ, когда мы со всей чистотой отдаемся тому, что по мере сущности дает, мы можем адекватно, с полнейшей очевидностью, описывать «являющееся как таковое». Иное выражение для всего этого: «описывать восприятие в ноэматическом аспекте».
§ 89. Высказывания ноэматические и высказывания о действительности. Ноэма в психологической сфере. Психолого-феноменологическая редукция
Ясно, что все эти описательные высказывания, будь они даже тождественны высказываниям относительно действительности, на деле уже испытали решительную модификацию смысла, подобно тому как и само описываемое, хотя оно и дает себя «точно так, как прежде», стало решительно иным, так сказать, путем перемены знака на противоположный. «Внутри» подвергшегося редукции восприятия (в феноменологически чистом переживании) мы, как совершенно неотмыслимое от такого восприятия, обретаем воспринимаемое как таковое; выразить мы это можем так: «материальная вещь», «дерево», «цветущее» и т. д. Очевидно, что кавычки наделены здесь значением, — они-то и выражают перемену знака на противоположный и соответствующую решительную модификацию значения слов. Само дерево, вещь природы, не имеет ничего общего с этой воспринятостью дерева как таковой, каковая как смысл восприятия совершенно неотделима от соответствующего восприятия. Само дерево может сгореть, разложиться на свои химические элементы и т. д. Смысл же — смысл этого восприятия, нечто неотделимое от его сущности, — не может сгореть, в нем нет химических элементов, нет сил, нет реальных свойств.
Всё присущее переживанию чисто имманентно и после произведенной редукции, всё неотмыслимое от него, каково оно в себе, всё ео ipso переходящее при эйдетической установке в эйдос — всё это отделено от любой природы и физики и, не менее того, от психологии глубочайшей пропастью, — и даже это сравнение в духе натурализма недостаточно ярко, чтобы показать существующее тут различие.
Что разумеется само собою, смысл восприятия принадлежит тоже и к восприятию, не подвергшемуся феноменологической редукции (восприятию в психологическом смысле). Сейчас можно попутно прояснить и то, что феноменологическая редукция может приобретать полезную для психолога методическую функцию, а именно, фиксируя ноэматический смысл в резком отграничении его от самого предмета, она позволяет распознать все неотделимо принадлежащее чисто психологической сущности интенционального переживания, которое в таком случае будет пониматься как реальное.
Однако как при психологической, так и при феноменологической установке необходимо твердо помнить, что «воспринимаемое» не заключает в себе как смысл воспринимаемого ничего (причина, почему ему нельзя ничего приписывать и на основе «косвенных источников»), кроме того, что «действительно является» в являющемся по мере восприятия, причем в том именно модусе, в том способе данности, в какой являющееся и осознается в восприятии. На этот имманентный восприятию смысл всегда может быть направлена специфическая рефлексия, и феноменологическое суждение обязано верно следовать тому и только тому, что охватывается ею, находя для этого адекватное выражение.
§ 90. «Ноэматический смысл» и различение «имманентных» и «действительных объектов»
Подобно восприятию, любое интенциональное переживание — это и составляет самую основу интенциональности — обладает «интенциональным объектом», то есть своим предметным смыслом. Иными словами: обладать смыслом («иметь что-нибудь на уме») — это основной характер сознания вообще, которое благодаря этому есть не только переживание, но и переживание, обладающее смыслом, переживание «ноэтическое».
Правда, то, что выделилось в нашем показательном анализе как «смысл», не исчерпывает всю ноэму; в соответствии с этим ноэтическая сторона интенционального переживания состоит не только в моменте, собственно, «наделения смыслом», с которым в качестве коррелята и соотносится именно «смысл». Вскоре окажется, что полная ноэма заключается в целом комплексе ноэматических моментов, что специфический момент смысла образует в этом комплексе лишь своего рода необходимое ядро, или центральный слой, в котором сущностно фундируются другие моменты, — только поэтому мы и были вправе называть их смысловыми моментами, однако в расширительном смысле слова.
Однако пока остановимся лишь на том, что ясно выступило в предыдущем изложении. Мы показали, что интенциональное переживание вне всякого сомнения устроено так, что при соответствующей направленности взгляда из него можно извлечь «смысл». То положение, дел, какое определяет для нас этот смысл, а именно то обстоятельство, что несуществование (или, скажем, возникающее впоследствии убеждение в несуществовании) «самого» представляемого или мыслимого объекта не может отнимать представляемое как таковое у соответствующего представления (и у соответствующего интенционального переживания вообще), не может отнимать у него то, что так или иначе осознается в нем, так что необходимо различать «сам» объект и представляемое, — это положение дел не могло оставаться незамеченным и прежде. Различие это бросается в глаза, а потому должно было получить свое выражение и в литературе. И на деле на него указывает производившееся в схоластической философии различение «ментального» «интенционального» или «имманентного» объекта, с одной стороны, и «действительного» — с другой. Однако гигантский шаг разделяет самое первое схватывание некоторого различения в сознании и его правильную, феноменологически чистую фиксацию и вполне корректное оценивание, — и как раз этот шаг, решающий для разработки непротиворечивой и плодотворной феноменологии, не был осуществлен. Решающее при этом — прежде всего абсолютно адекватное описание всего наличествующего в феноменологической чистоте и устранение любых толкований, которые трансцендировали бы данное. Уже термины выдают здесь истолкованность, и нередко весьма ложную. Это проявляется уже в таких выражениях, как «ментальный», «имманентный» объект, и по меньшей мере способствует такому истолкованию выражение «интенциональный» объект.
Весьма соблазнительно говорить так: в переживании дана интенция вместе с ее интенциональным объектом, который как таковой неотделим от нее, то есть реально присутствует в ней. Этот интенциональный объект остается ведь в ней как подразумеваемый, представляемый и т. п. независимо от того, существует ли в действительности соответствующий «действительный объект» или нет, уничтожен ли он тем временем и т. д.
Однако, если мы попробуем разделять таким путем действительный объект (в случае внешнего восприятия — воспринимаемую вещь природы) и интенциональный объект и реально вкладывать последний как «имманентный» объект восприятия в переживание, то мы окажемся в затруднительном положении, когда противостоять друг другу будут две реальности, между тем как наличествует и возможна лишь одна. Я воспринимаю вещь, природный объект, например дерево в саду, — это и только это есть действительный объект воспринимающей «интенции». Второе же имманентное дерево или хотя бы «внутренний образ» действительного, стоящего перед моим окном дерева отнюдь не даны, и если гипотетически предполагать подобные вещи, то это ведет лишь к противосмысленности. Отражение как реальный момент психологически-реального восприятия было бы в свою очередь чем-то реальным — таким реальным, которое лишь функционировало бы, как образ, взамен другого. Однако оно могло бы функционировать так лишь при условии, что существовало бы сознание отражения: в нем нечто сначала являлось бы — тут мы имели бы первую интенциональность, — а затем функционировало бы по мере сознания как «образ-объект» взамен другого, — для этого необходима вторая, фундируемая в первой интенциональность. Не менее очевидно, однако, и то, что каждый из этих способов сознания уже требует различения имманентного и действительного объекта, то есть заключает в себе ту самую проблему, которая должна была быть разрешена всей этой конструкцией. Вдобавок и сама конструкция вызывает то самое возражение, которое мы однажды уже разбирали:[95] вкладывать в восприятие физического функции отображения — значит подводить, подкладывать под восприятие сознание образа, которое при дескриптивном рассмотрении оказывается конструируемым существенно иначе. Но главное, однако, заключается здесь в том, что приписывание восприятию, а стало быть, если быть последовательным, то и всякому интенциональному переживанию функции отображения неизбежно — это явствует без дальнейших разъяснений из нашей критики — влечет за собой уход в бесконечность.
В противовес подобным заблуждениям мы должны твердо держаться данного в чистом переживании, принимая его в рамках ясности таким, каким оно «дает себя». «Действительный» же объект того необходимо заключить в скобки. Поразмыслим над тем, что это означает: если нам начинать как людям с естественной установкой, то действительный объект — это вещь, она там, снаружи. Мы видим вещь, мы стоим перед ней, мы устремили на нее свой взор; обретая ее в пространстве напротив себя, мы описываем ее и делаем свои высказывания о ней. Равным образом мы занимаем свою позицию, оценивая ее: это находящееся напротив нас, что видим мы в пространстве, нравится нам или побуждает нас к таким-то и таким-то действиям; то, что здесь нам дано, мы либо берем в руки, либо обрабатываем и т. д. и т. д. Если же теперь мы осуществим феноменологическую редукцию, то каждое трансцендентное полагание, то есть прежде всего всякое полагание, заложенное в самом же восприятии, получает скобку, выключающую его, и скобка такая распространяется на все фундируемые акты, на каждое суждение о восприятии, на ценностное полагание, основывающееся на нем, на любое возможное суждение о ценности и т. д. Это влечет за собой следующее: мы позволяем себе рассматривать и описывать все эти восприятия, суждения и т. д. лишь как сущности, каковы они в самих себе, констатировать все то, что очевидно дано в них; но мы не позволяем себе суждений, которые пользовались бы полаганием «действительной» вещи, равно как и всей трансцендентной природы, которые разделяли бы такое полагание. Будучи феноменологами, мы воздерживаемся от всех подобных полаганий. Однако, если мы не стоим на почве таких полаганий, если мы не участвуем в них, то это не значит, что мы отбрасываем их. Они ведь здесь, наличны, они сущностно принадлежат самому феномену. Напротив, мы всматриваемся в них; вместо того чтобы участвовать в них, мы превращаем их в объекты, мы принимаем их как составные части самого феномена, а осуществляемое восприятием полагание — именно как его компонент.
А тогда мы спросим в самом общем смысле, твердо придерживаясь произведенных выключений с их ясным смыслом: что же такое очевидным образом заключается — «лежит» во всем подвергшемся редукции феномене? Ну, конечно, именно в восприятии заключается ведь и то, что оно обладает своим ноэматическим смыслом, его «воспринимаемым как таковым», «цветущим деревом там, в пространстве», — все это следует разуметь в кавычках, — именно самим коррелятом, неотделимым от сущности подвергшегося феноменологической редукции восприятия. Говоря образно: введение в скобки, какое претерпело восприятие, препятствует любому суждению о воспринимаемой действительности (то есть вообще всякому, которое фундируется в неподвергшемся модификации восприятии, стало быть, вбирает в себя осуществляемое восприятием полагание). Однако введение в скобки не мешает выносить суждение о том, что восприятие есть сознание какой-либо действительности (полагание которой, однако, не может уже «совершаться» нами теперь), и оно не мешает описывать эту являющуюся по мере восприятия «действительность» как действительность являющуюся, со всеми теми особенными способами, в каких она сознается, например, именно как воспринимаемая лишь «односторонне», в такой-то и такой-то ориентации являющаяся. Со всей тщательностью и аккуратностью мы должны следить за тем, чтобы не вкладывать в переживание что-либо еще помимо того, что действительно заключено в нем, и чтобы заключающееся в нем «вкладывать» в него именно так, как оно «лежит» в нем.
§ 91. Перенос на предельно расширенную сферу интенционального
То, что выше излагалось нами с преимущественным вниманием к восприятию, в действительности значимо относительно всех видов интенциональных переживаний. После произведенной редукции мы обнаруживаем в воспоминании вспоминаемое как таковое, в ожидании ожидаемое как таковое, в воображающей фантазии воображаемое как таковое.
В каждом из этих переживаний «обитает» ноэматический смысл. И, сколь бы родствен ни был этот смысл различных переживаний, сколь бы существенно тождествен ни был он по своему основному составу, он, во всяком случае, различен в различных видах переживаний и даже возможное общее по меньшей мере получает иную характеристику, причем со всей необходимостью. Может случиться так, что всякий раз речь идет о цветущем дереве и что всякий раз оно является таким, чтобы адекватное описание являющегося необходимо пользовалось одними и теми же выражениями. Однако ноэматические корреляты восприятия, фантазии, образного вызывания в памяти, воспоминания тем не менее будут сущностно различны. В одном случае являющееся характеризуется как «живая действительность», в другом — как фикция, затем — как вызывание в памяти и т. д.
Таковы характеристики, которые мы обретаем как наличные в воспринимаемом, воображаемом, вспоминаемом и т. д. как таковые — как нечто, неотделимое от них — в самом смысле восприятия, в самом смысле фантазии, всамом смысле воспоминания, как необходимо принадлежащее вкорреляции к соответствующим видам ноэтических переживаний.
Итак, если необходимо адекватно и полно описать интенциональные корреляты, мы должны учесть и зафиксировать в строгих понятиях все подобные характеристики, — те, которые не случайны, но упорядочены по сущностным законам.
Благодаря этому мы замечаем, что в пределах полной ноэмы мы должны на деле, как мы и предупреждали об этом уже заранее, разделять сущностно различные слои, группирующиеся вокруг центрального «ядра», чисто «предметного смысла», то есть вокруг того, что в наших примерах может описываться сплошь в одних и тех же выражениях, поскольку различные по виду, но параллельные друг другу переживания могут заключать в себе тождественное. Одновременно мы видим, что если мы вновь устраним скобки, в какие были помещены полагания, то параллельно, соответствуя различным понятиям смысла, должны различаться разные понятия не подвергшихся модификации объективностей, из которых «сам» предмет, то есть именно тождественное, которое один раз воспринимается, другой раз вызывается в памяти, третий раз образно представляется на живописном полотне и т. п., возвещает лишь одно центральное понятие. Пока нам достаточно этого указания.
Нам остается получше осмотреться в сфере сознания, чтобы попытаться ознакомиться с ноэтически-ноэматическими структурами на примере основных способов сознания. Действительно подтверждая их, мы одновременно удостоверимся, двигаясь шаг за шагом, в постоянной значимости фундаментальной корреляции между ноэсисом и ноэмой.
§ 92. Аттенциональные сдвиги в ноэтическом и ноэматическом аспекте
В подготовительных главах мы не раз уже говорили об особого рода сдвигах сознания, какие пересекаются со всеми прочими видами интенциональных событий и тем самым составляют совсем особую весьма всеобщую структуру сознания. Принято метафорически говорить о, «духовном взоре», о «луче взгляда» чистого Я, о том, куда обращается и от чего отворачивается этот луч. Соответствующие этому феномены выделились для нас как совершенно ясное и четкое единство. Они играют главную роль, когда речь заходит о «внимании», и их же, не размежевывая феноменологически с другими феноменами и смешивая с этими последними, именуют модусами внимания. Мы, с нашей стороны, намерены зафиксировать это выражение и, кроме того, говорить об аттенциональных сдвигах, имея в виду исключительно четко вычлененные нами события, равно как группы родственных феноменальных сдвигов, которые нам предстоит еще конкретнее описывать в дальнейшем.
Речь при этом идет о серии idealiter[96] возможных сдвигов; они уже предполагают существование ноэтического ядра и необходимо неотъемлемо характеризующих его моментов различного рода, сами по себе не переменяют относящиеся сюда ноэматические осуществления, но все же представляют собой изменения переживания в целом как по его ноэтической, так и по его ноэматической стороне. Лучи чистого «я» проходят то сквозь этот, то сквозь тот ноэтический слой, или же (как то бывает при воспоминаниях внутри воспоминаний, которые могут быть в свою очередь воспоминаниями второй и более высокой степени) лучи проникают внутрь заключенных друг в друге слоев, то двигаясь по прямой вперед, то возвращаясь назад, в рефлексии. В пределах данного совокупного поля потенциальных ноэс и соответствующих ноэтических объектов мы то бросаем взгляд на некое целое, например на дерево, перцептивно наличное, то на отдельные части и моменты его, то на какую-то находящуюся поблизости другую вещь, то на какую-то сложную взаимосвязь или происшествие. Вдруг мы обращаем свой «взор» на объект воспоминания, который внезапно «приходит нам в голову», — вместо того чтобы следовать ноэсе восприятия, которая в целостном, хотя и многообразно расчлененном континууме конституирует для нас непрестанно являющийся вещный мир. Наш «взор» через посредство ноэсы воспоминания переходит в мир воспоминаний, блуждает в нем или же переходит затем к воспоминаниям иных ступеней, в чисто фантастические миры и т. д.
Останемся ради простоты в одном интенциональном слое, в мире восприятия, который пребывает в бесхитростной достоверности. Зафиксируем в идее, по его ноэматическому наполнению, некую сознаваемую по мере восприятия вещь или же некий происходящий с вещами процесс, равно как зафиксируем, по его полной имманентной сущности, на соответствующем отрезке его феноменологической длительности, все целое конкретное сознание такой вещи или такого процесса. Тогда к такой идее будет непременно относиться и фиксация аттенционального луча с относящимся к нему определенным блужданием. Потому что и этот луч — тоже момент переживания. Тогда очевидно, что в идеале возможны такие способы изменения зафиксированного переживания, которые мы назовем так: «изменения просто в распределении внимания и его модусов». Ясно, что ноэматический состав переживания остается тождественным, так что мы можем сказать: одна и та же предметность характеризуется как постоянно живо телесно наличествующая и предстающая в тех же самых способах явления, с теми же ориентациями и с теми же признаками; такой-то и такой-то состав содержания этой предметности сознается в тех же модусах неопределенного намекания и лишенного наглядности соприсутствования. И изменение, говорим мы, выделяя и сопоставляя между собой параллельные ноэматические составы, состоит исключительно в том, что в одном привлекаемом для сравнения случае «предпочтение», как оказывается, отдается одному, в другом — другому предметному моменту или же что в одном случае один и тот же момент оказывается «напрямую и особо замеченным», в другом — «замеченным только наряду с другими», в третьем он остается «совершенно незамеченным», хотя он и продолжает оставаться являющимся. Есть различные такие модусы, которые в основном принадлежат вниманию. При этом группа модусов актуальности отделяется от модуса неактуальности и от того, что мы попросту называем невниманием, так сказать, модусом мертвой осознанности.
С другой стороны, ясно и то, что все эти модификации относятся не только к переживанию в его ноэтическом составе, но что они затрагивают также и ноэмы переживания, что со стороны ноэмы они — невзирая на тождественность ноэматического ядра — представляют собою особый род характеристик. Обычно внимание сравнивают с ярким светом, который освещает пространство. То, что специфически замечается во внимании, находится в более или менее ярком световом пятне, но это замеченное может затем и зайти в полутень, и задвинуться в полнейшую тьму. Этот образ не способен охарактеризовать все модусы, какие зафиксирует со всеми различиями, существующими между ними, феноменология, однако он достаточно показателен, чтобы выявить происходящие со всем являющимся перемены. Изменения в степени освещенности не меняют являющееся в его собственном смысловом составе, однако свет и тьма модифицируют способ его явления, их следует находить и описывать в направлении взгляда на ноэматический объект.
При этом модификации внутри ноэмы, очевидно, не таковы, чтобы в идеальном пограничном случае к чему-то остающемуся тождественным привходили некие добавления извне, — нет, именно конкретные ноэмы претерпевают коренные изменения, речь идет о необходимых модусах способа данности тождественного.
При ближайшем рассмотрении все же оказывается, что положение не таково, чтобы все совокупное ноэматическое содержание, характеризующееся соответствующим модусом внимания, так сказать, аттенциональное ядро, сохранялось постоянно при всевозможных аттенциональных модификациях. Напротив, обнаруживается, если смотреть с ноэтической стороны, что известные ноэсы, то ли по необходимости, то ли по определенной их возможности, обусловливаются модусами внимания, а прежде всего — позитивной внимательностью в особо отмеченном смысле снова. Любое «совершение акта», например: «актуальное занятие позиции», «вынесение» решения в случае сомнения, акт отклонения и отвержения, акт полагания субъекта и акт дополнительной предикации, совершение оценивания, оценивания «за другого», акт выбора и т. д. — все это предполагает позитивное внимание или, вероятно, лучше сказать, заключает в себе позитивное внимание, обращаемое на то, в направлении чего занимает позицию «я». Однако сказанное отнюдь не меняет того, что функция блуждающего и в отношении охватываемого им пространства то расширяющегося, то сужающегося взгляда означает существование особого рода измерения коррелятивных ноэтических и ноэматических модификаций, систематическое исследование сущности которых относится к основным задачам общей феноменологии.
Аттенциональные конфигурации обладают в своих модусах актуальности в особо отмеченной степени характером субъективности, и такой характер приобретают затем и все те спонтанные, функции, которые именно модализируются этими модусами, то есть предполагают таковые по их устроенности. Луч внимания «дает себя» так, что он излучается чистым «я» и ограничивается предметным, — направляясь к последнему или отвлекаясь от него. Такой луч не расстается с «я», но он есть луч «я» и остается таковым. «Объект» задевается им, он может быть целью луча, но он все же лишь полагается в сопряженность с «я» (и полагается самим же «я»), а не становится сам «субъективным». То занятие позиции, какое несет в себе луч «я», есть вследствие этого акт самого же «я»; «я» действенно и страдательно, оно свободно или детерминировано. «Я», говорили мы выше, «живет» в таких актах. Эта «жизнь» означает не просто то, что какие-то «содержания» пребывают в некоем потоке содержаний, она означает многообразие доступных описанию способов того, как чистое «я», — эта «свободная сущность», каковая есть оно, — живет внутри известных интенциональных переживаний с общим для них модусом cogito. Выражение «свободная сущность» и означает не что иное, как именно такие жизненные модусы — модусы вольного исхождения из себя самого, возвращения в себя и к себе, спонтанной деятельности, страдания, возможности познавать нечто в объектах опытным путем и т. д. Все же то, что происходит в потоке переживаний помимо луча «я», помимо cogito, характеризуется существенным образом иначе, — все это лежит за пределами актуальности «я», однако, как замечали мы уже ранее, принадлежит «я» постольку, поскольку все это — поле потенциальности, на котором совершает свои свободные акты «я».
На этом завершим общую характеристику ноэтически-ноэматических тем, которые должны с систематической основательностью трактоваться феноменологией внимания.[97]
§ 93. Переход к ноэтически-ноэматическим структурам сферы высшего сознания
В дальнейшей серии рассуждений мы намерены обсудить структуры сферы «высшего сознания», где в единстве конкретного переживания многократно надстраиваются друг над другом ноэсы, в соответствии с чем фундируются и ноэматические корреляты. Ибо не бывает ноэтического момента без специфически принадлежащего ему ноэматического — гласит сущностный закон, находящий свое подтверждение на каждом шагу.
И при ноэсах высшей ступени, взятых конкретно полно, в ноэматическом составе выступает центральное ядро, которое по преимуществу выходит на первый план, — это «подразумеваемая объективность как таковая» (слово «объективность» в кавычках, как того и требует феноменологическая редукция). И здесь эту центральную ноэму следует брать в том ее подвергшемся модификации объективном составе, в каком она и есть именно ноэма, то есть сознаваемое как таковое. После чего можно видеть и здесь, что такая объективность — нового рода, — ибо объективное, что берется нами модифицированно, под именем «смысл», как это и происходит, например, в нашем научном исследовании, вновь становится чем-то объективным, однако отличающимся уже своим собственным достоинством, — что такая объективность обладает своими способами данности, своими «характеристиками», своими многообразными модусами, вместе с которыми она сознается в полной ноэме соответствующего ноэтического переживания, или же соответствующей разновидности переживания. Естественно, и здесь любым различениям внутри ноэмы должны соответствовать параллельные различения в не подвергшейся модификации объективности.
Дело дальнейшей феноменологической работы — установить, рассматривая ноэмы определенной разновидности (например, восприятия) с ее переменчивыми обособлениями, что по сущностному закону связано для нее именно самой разновидностью, а что — дифференцирующими обособлениями. Связь же проходит насквозь — в сфере сущностей не бывает случайного, всё соединено сущностными связями, и так в особенности ноэсис и ноэма.
§ 94. Ноэсис и ноэма в области суждения
Рассмотрим как пример из этой сферы фундируемых сущностей предицирующее суждение. Ноэма вынесения суждения, то есть конкретного переживания суждения, — это «то, что судится как таковое», но это есть не что иное или по меньшей мере в своем основном ядре есть не что иное, как то, что обыкновенно мы попросту называем суждением.
Чтобы была схвачена полная ноэма, суждение действительно должно быть взято в его полной ноэматической конкретности, в какой оно сознается в конкретном вынесении суждения. «То, что судится» нельзя смешивать с «тем, о чем выносится суждение». Если суждение строится на основе восприятия или какого-либо иного просто «полагающего» представления, то ноэма представления входит в полную конкретность вынесения суждения (как, равным образом, и представляющий ноэсис становится сущностной составной частью конкретного ноэсиса суждения) и принимает в суждении известные формы. Представляемое как таковое получает форму апофантического субъекта или объекта и т. п. Ради простоты мы абстрагируемся здесь от высшего слоя словесного «выражения». «Предметы, о которых» выносится суждение, — в особенности предметы, представляющие собой субъект суждения — суть присущее суждению «то, о чем». Сформированное из них целое, совокупное «что» суждения, причем взятое точно так, с той характеризацией, в том способе данности, в каком оно «сознается» в переживании, — это «что» составляет полный ноэматический коррелят, предельно широко понимаемый «смысл» переживания суждения. Говоря точнее, это «смысл в как его способа данности», насколько этот способ может быть обретен в нем как характеристика.
При этом нельзя, однако, забывать о феноменологической редукции, которая требует от нас заключить в «скобки» вынесение суждения, если только мы хотим обрести в чистом виде ноэму нашего переживания, переживания суждения. Если мы произведем редукцию, тогда окажется, что друг другу во всей феноменологической чистоте противостоят полная конкретная сущность переживания суждения, или, как выразимся мы теперь, ноэсис суждения, конкретно схваченный как сущность, и принадлежащая ему и необходимо единая с ним ноэма суждения, то есть «вынесенное суждение» как эйдос, в свою очередь во всей феноменологической чистоте.
Психологистов все тут будет раздражать, потому что они не склонны различать суждение как эмпирическое переживание и суждение как «идею», как сущность. Для нас же такое различение уже не нуждается в обосновании. Однако тот, кто примет его, будет смущен. Потому что это потребует от него признания того, что различения такого не довольно, что после него требуется фиксировать целый ряд идей, заключенных в сущности интенциональности суждения и расходящихся в две разные стороны. Прежде же всего необходимо понять, что в суждении, как и в любых интенциональных переживаниях, следует принципиально различать две стороны — ноэсис и ноэму.
Критически заметим по этому поводу, что установленные в «Логических исследованиях» понятия «интенциональной» сущности и сущности «по мере познания»,[98] правда, корректны, однако допускают еще и второго рода истолкование, а именно они могут принципиально пониматься как выражения не только ноэтической, но и ноэматической сущности, и что ноэтическое понимание, односторонне проведенное в «Логических исследованиях», как раз и не есть то понимание, какого требует концепция чисто логического понятия суждения (то есть понятия, в каком нуждается чистая логика в противоположность ноэтическому понятию суждения в нормативной логической ноэтике). Вероятно, в верную сторону указывает уже и то различение, которое утверждает себя в обыденной речи, а именно различение вынесения суждения и вынесенного суждения, — оно указывает на то, что переживанию суждения коррелятивно принадлежит само суждение как ноэма.
Вот это последнее и следовало бы тогда понять как «суждение», то есть предложение в чисто логическом смысле, — только что логика не интересуется ноэмой в ее полном составе, а интересуется лишь суждением в его исключительной определенности, более узкой сущностью, к более конкретному определению которой и был указан путь «Логическими исследованиями», тем упомянутым выше опытом разграничения, какой содержался в них. Если же мы, исходя из определенного переживания суждения, намерены обрести полную ноэму, то, как говорилось выше, мы должны брать «это» суждение точно таким, каким сознается оно в этом переживании, между тем как при формально-логическом рассмотрении тождественность «этого» суждения простирается куда дальше. Очевидное суждение «S есть Р» и «то же самое» суждение, вынесенное вслепую, ноэматически различны, однако ядро их смысла тождественно, и как раз только оно и играет решающую роль в формально-логическом рассмотрении. Это различие подобно тому, какое мы рассматривали выше, — различию между ноэмой восприятия и ноэмой параллельного вызывания в памяти, где один и тот же предмет представляется с одним и тем же содержательным наполнением, с одной и той же характеристикой (как «достоверно сущий», как «сомнительный» и т. п.). Виды актов различны, и вообще остается еще весьма широкий простор для феноменологических различении, — однако ноэматическое «что» тождественно. Прибавим еще к этому, что только что охарактеризованной идее суждения, составляющей основное понятие формальной логики (относящейся к предикативным значениям дисциплине mathesis universalis), коррелятивно противостоит ноэтическая идея — «суждение» во втором смысле, а именно суждение, понятое как вынесение суждения вообще, в его эйдетической и только формой определенной всеобщности. Это фундаментальное понятие формального ноэтического учения о суждении.[99]
Все вышеизложенное значимо и для всех прочих ноэтических переживаний, например, само собой разумеющимся образом для всех тех, что сущностно родственны суждениям как предикативным достоверностям, — таковы допущения, предположения, сомнения, отвержения, — причем сходство может заходить настолько далеко, что в ноэме будет выступать одно и то же смысловое наполнение, но только снабжаемое различными «характеристиками». Одно и то же «S есть Р» в качестве ноэматического ядра может выступать как «содержание» некой уверенности, некоторого возможного предположения или допущения и т. д. В ноэме это самое «S есть Р» присутствует не в одиночку, — как содержание, которое мыслится, оно есть нечто несамостоятельное; оно всегда сознается в пределах переменчивых характеристик, без которых никак не может обойтись ноэма в ее полноте; оно осознается под знаком «вероятного» или «возможного», «достоверного», «немыслимого» и т. п. — все это характеристики, которые уместно ставить в модифицирующие кавычки, и которые как корреляты специально придаются таким ноэтическим моментам переживания, как признание возможным, вероятным, немыслимым и т. п.
Вместе с тем видно, что здесь начинают вырисовываться два фундаментальных понятия «содержания суждения», а также и содержания предположения, вопрошания и т. д. Логики нередко говорят о содержании суждения так, что очевидно (хотя без столь необходимых различений) подразумевается ноэтическое или же ноэматически-логическое понятия суждения, то есть те два понятия, которые мы охарактеризовали выше. Параллельно этим двум понятиям, впрочем, естественно, никогда не совпадая ни с ними, ни друг с другом, идут соответствующие пары понятий, относящиеся к предположениям, вопрошаниям, сомнениям и т. д. Но здесь мы получаем второй смысл понятия «содержание суждения» — это то «содержание», которое может быть общим у суждения с предположением (предполаганием), с вопросом (вопрошанием) и иными ноэмами актов или же с ноэсами.
§ 95. Аналогичные различения в сфере души и воли
Как нетрудно убедиться, аналогичные рассуждения значимы и для сферы души и воли, для переживаний удовольствия и неудовольствия, оценивания во всех смыслах слова, желания, решения, действия, — все это переживания, содержащие неоднократные и нередко весьма многократные напластования — ноэтические и соответственно также ноэматические.
При этом напластования в общем и целом таковы, что самые верхние слои совокупного феномена могут «отпасть», отнюдь не мешая всему прочему быть конкретно полным интенциональным переживанием (впрочем, это вызывает модификацию несмотря на всю тождественность), и что, наоборот, конкретное переживание может принять новый ноэтический совокупный слой, — так бывает, например, когда на конкретное представление «наслаивается» несамостоятельный момент «оценивания» или же когда он, напротив, «отпадает». Однако вместе с его отпадением происходят и известные феноменологические модификации нижних слоев.
Если восприятие, фантазирование, суждение и т. п. фундируют таким путем совершенно перекрывающий их слой оценивания, то в этом фундируемом целом, по своей высшей ступени обозначаемом как конкретное переживание оценивания, перед нами различные ноэмы, или же, соответственно, смыслы. Воспринимаемое как таковое, как смысл, специально относится к восприятию, однако оно тоже входит в смысл конкретного оценивания, фундируя его смысл. Соответственно мы должны различать, с одной стороны, предметы, вещи, обстоятельства, положения дел, которые пребывают в оценивании как ценности, или же, соответственно, как ноэмы представления, суждения и т. п., фундирующие сознание ценности; с другой стороны, сами ценные предметы, сами отношения ценностей или, соответственно, отвечающие им ноэматические модификации, и затем принадлежащие конкретному ценностному сознанию полные ноэмы.
Для того чтобы пояснить сказанное, заметим прежде всего, что ради большей отчетливости мы поступим разумно, если введем здесь (как и во всех аналогичных случаях) различающие относительные термины, чтобы лучше разграничить ценный и ценностный предмет, ценное и ценностное положение дел, ценное и ценностное свойство. Мы говорим о «вещи», которая ценна, которая имеет характер ценности, ценностность и, напротив, о конкретной ценности, даже о ценностной объектности. Мы параллельно говорим о простом положении дел, или о простом положении вещей, и о ценностном положении дел, или о ценностном положении вещей — там, где оценивание в качестве фундирующей его основы располагает сознанием положения дел. Ценностная объектность имплицирует свой предмет, в качестве нового объективного слоя она вносит сюда ценностность. Ценностное положение дел заключает в себе относящееся к нему «простое» положение дел, ценностное свойство — свойство вещи и сверх того — ценностность.
Далее, и здесь тоже необходимо различать между «самой» ценной объектностью и ценной объектностью в кавычках, заключающейся в ноэме. Подобно тому как восприятию противостоит воспринимаемое как таковое в таком смысле, который исключает вопрос о том, правда ли, что это воспринятое есть на деле, так и оцениванию — оцениваемое как таковое, и вновь так, что не ставится вопрос о бытии ценности (бытии оцениваемой вещи и его поистине ценностного бытия). Любые актуальные полагания необходимо выключить для постижения ноэмы. И необходимо вновь хорошо помнить о том, что к полноте «смысла» оценивания вновь принадлежит «что» оценивания во всей его полноте, в какой сознается оно в соответствующем ценностном переживании, и что ценная объектность в кавычках не есть заведомо то же самое, что полная ноэма.
Точно так же проводятся такие различения и в сфере воли.
С одной стороны, перед нами то решение или «решание», какое мы всякий раз осуществляем, со всеми переживаниями, в каких нуждается оно как в основе и какие оно заключает в себе, взятое в своей конкретности. Сюда относится и немало ноэтических моментов. В основе полаганий воли лежат оценивающие, вещные полагания и т. п. С другой стороны, мы находим решение как вид специфически относящейся к области воли объектности, а эта объектность, очевидно, фундирована в иных, подобных же ноэматических объектностях. Если мы как феноменологи выключим все наши полагания, то за феноменом воли как феноменологически чистым интенциональным переживанием вновь останется его «валимое как таковое» как присущая волению ноэма, — подразумеваемое волей, причем точно так, как «подразумевается», «разумеется», «мнится» оно в этом волении (в его полной сущности), со всем тем, что здесь волится и «ради чего» это волится.
Мы только что упомянули «мнение». Слово это повсюду напрашивается здесь — подобно словам «смысл» и «значение». Мнению или подразумеванию соответствует «мнение», приданию значения соответствует значение. Между тем все эти слова несут в себе вследствие перевода и переноса, возможность столь многих эквивокаций — они в немалой степени происходят от соскальзывания в коррелятивные слои, научное размежевание которых должно проводиться со всей должной строгостью, — что в отношении их уместна величайшая осторожность. Наши рассуждения движутся сейчас в предельно широком объеме сущностного рода «интенциональное переживание». Речь же о «мнении»-«подразумевании» нормальным образом ограничивается более узкими сферами — теми, что одновременно функционируют как нижние слои феноменов более широких сфер. Поэтому как термин это слово (все родственные ему выражения тоже) заслуживает внимания лишь в отношении более узких сфер. Что же касается общих положений, то наши новые термины с приданными им показательными анализами, несомненно, послужат нам гораздо лучше.
§ 96. Переход к последующим главам. Заключительные замечания
Мы потому положили столь тщательный труд на общую разработку того различия, какое существует между ноэсисом (то есть конкретным полным интенциональным переживанием, получающим наименование, подчеркивающим ноэтические компоненты его) и ноэмой, что постижение этого различия и овладение им чрезвычайно значительны для феноменологии и даже выступают как решающие факторы ее подлинного обоснования. В первый момент кажется, что речь идет о чем-то разумеющемся само собою, — любое сознание есть сознание чего-либо, а способы сознания весьма различны. При ближайшем подходе мы ощутили, однако, огромные трудности. Они касаются уразумения способа бытия ноэмы, того, как ноэма заключается, «лежит» в переживании, как она «сознается» в нем. Они в совсем особой степени касаются аккуратного разграничения того, что по способу реальной составной части относится к самому переживанию и что к ноэме, что может быть причислено к ноэме в качестве ее собственности. А после этого значительные трудности доставляет и правильное членение параллельных строений ноэсиса и ноэмы. Даже при условии, что мы уже успешно произвели, в основном и главном, относящиеся сюда различения на анализе представлений и суждений, где они впервые предстают перед нами, для чего логика дает нам ценные, однако далеко не достаточные предварительные разработки, все еще требуется особый труд и все еще приходится бороться с самим собой для того, чтобы не просто постулировать параллельные различения в отношении душевных актов, не просто заявлять об их существовании, но для того, чтобы действительно довести их до ясной данности.
Здесь, в контексте наших медитаций, ведущих ввысь, задача наша не может состоять в том, чтобы систематически разрабатывать отдельные части феноменологии. Конечно, наши цели требуют того, чтобы мы глубже прежнего входили в суть дела и схематически набрасывали начала подобных исследований. Это необходимо, поскольку нужно прояснять ноэтически-ноэматические структуры настолько, чтобы стало понятным значение их для проблематики и методики феноменологии. Содержательное представление о плодотворности феноменологии, о значительности ее проблем, о характере ее процедур может быть получено нами лишь тогда, когда мы на деле вступаем в одну область за другой, когда зримой становится широта проблем, открывающаяся в каждой из них. Однако мы вступаем в каждую из них, ощущая их как твердую почву, на какой развернется наш труд, лишь после того, как произведем феноменологические исключения и прояснения, в связи с чем впервые становится понятным и смысл тех проблем, которые решаются здесь. И в дальнейшем, как это отчасти было уже и раньше, мы, анализируя, обнаруживая и подтверждая существование проблем, будем строго придерживаться такого стиля работы. Сколь бы многоликими ни представлялись новичку материи, о которых мы трактовали, мы пребываем в ограниченных пределах. Естественно, мы отдаем предпочтение тому, что располагается относительно недалеко от входов в феноменологию и что безусловно необходимо для того, чтобы прослеживать основные систематические линии. Трудно все, все требует мучительной концентрации на данностях специфически феноменологического сущностного созерцания. В феноменологию, а значит, и в философию не ведет «царский путь». Есть только один путь — тот, что предначертан их собственной сущностью.
В заключение да будет позволено следующее замечание. В нашем изложении феноменология предстает как наука, которая теперь только начинается. Лишь будущее покажет, что из итогов тех анализов, на какие мы решались, окажется окончательным. Конечно, многое из того, что мы описывали, sub specie aeterni должно описываться иначе. Однако к одному мы вправе и должны стремиться — к тому, чтобы, делая новый шаг, верно описывать то, что мы действительно видим с нашей точки зрения даже и после самого серьезного изучения. Мы поступаем так, как поступает путешественник в неведомой части света, — он тщательно описывает все, что повстречается ему на неторных путях, которые не всегда бывают самыми короткими. Он может спокойно сознавать — он высказывает именно то, что надо было высказать при сложившихся обстоятельствах времени и места; все это как верное выражение увиденного навсегда сохранит свою ценность, даже если новые исследования и потребуют новых, значительно усовершенствованных описаний. Станем и мы придерживаться такого взгляда и будем выступать в дальнейшем верными излагателями феноменологических образований, в прочем же храня позицию внутренней свободы даже и в отношении своих собственных описаний.
Глава четвертая. К проблематике ноэтически-ноэматических структур
§ 97. Гилетические и ноэтические моменты в качестве реальных, ноэматические — в качестве нереальных моментов переживания
Вводя различение ноэтического и ноэматического, мы в предыдущей главе пользовались выражениями «реальный» и «интенциональный анализ». С этого и продолжим. Есть реальные компоненты феноменологически чистого переживания. Ради простоты ограничимся ноэтическими переживаниями самой низкой ступени, стало быть, такими, какие не стали в своей интенциональности комплексными благодаря многократно надстраивающимся друг над другом ноэтическим слоям, как то констатировали мы для мыслительных актов, для актов душевной сферы и воли.
Примером пусть нам послужит какое-нибудь чувственное восприятие, простое восприятие дерева, — таковое мы, вот в это мгновение выглядывая в сад, и обретаем, когда мы в единстве сознания рассматриваем это дерево вон там: вот оно стоит недвижно, вот ветер колышет его ветки, и дерево еще и потому представляется нам в весьма различных способах явления, что мы, непрестанно рассматривая его, меняем свое пространственное положение относительно его, скажем, то подходя к окну, то меняя положение головы, то — положение глаз, и в тоже самое время то напрягая, то ослабляя аккомодацию и т. д. Единство одного восприятия может в таком роде обнимать громадное многообразие модификаций, каковые мы, как наблюдатели с естественной установкой, то приписываем действительному объекту в качестве изменения такового, то реальному и действительному отношению к нашей реальной психофизической субъективности, то, наконец, этой последней. Теперь же мы должны описать, что из всего этого пребудет в качестве феноменологического остатка после редукции к «чистой имманентности» и что при этом сможет считаться реальной составной чистого переживания, а что — нет. И тут все дело в одном — в том, чтобы вполне прояснить для себя, что хотя к сущности переживания восприятия в нем самом и принадлежит «воспринятое дерево как таковое», или же, иначе, полная ноэма, которая отнюдь не затрагивается тем, что действительность самого дерева и вообще всего мира выключена нами, но что, с другой стороны, эта ноэма с ее «деревом» в кавычках точно также не содержится в восприятии, как и само действительное дерево.
Что же реально найдем мы в восприятии как чистом переживании, что реально содержится в нем, — подобно тому, как в целом содержатся его части, его фрагменты и нефрагментируемые моменты? Мы уже иной раз вычленяли такие подлинные, реальные составные, именуя их составными материальными и ноэтическими. Сопоставим таковые как контраст ноэматическому составу.
Цвет ствола дерева, сознаваемый исключительно по мере восприятия, — это точь-в-точь тот цвет, какой, до феноменологической редукции, мы принимали за цвет ствола действительного дерева (по крайней мере, поступая как «естественные» люди и до вмешательства сюда знания физики). Вот этот цвет, введенный в скобки, принадлежит теперь ноэме. Но он теперь уже не принадлежит, как реальная составная, к переживанию восприятия, хотя мы и продолжаем обнаруживать в нем «нечто подобное цвету», а именно «ощущаемый цвет», гилетический момент конкретного переживания, в каком «нюансируется» ноэматический и, соответственно, «объективный» цвет.
При этом этот — один и тот же — ноэматический цвет, каковой в непрерывном единстве изменчивого сознания восприятия сознается как тождественный и неизменный в себе, нюансируется в непрерывной множественности ощущаемых цветов. Мы видим дерево, цвет которого — цвет его, дерева, — не изменяется, между тем как поворот глаз, наша ориентация относительно дерева многократно меняется, наш взгляд непрестанно бродит по стволу и ветвям по мере того, как мы подходим ближе к дереву, таким путем, самыми разными способами, придавая подвижность переживанию восприятия. Если совершать теперь рефлексию ощущения, скажем рефлексию нюансирований, то мы будем схватывать их как очевидные данности, и с такой же совершенной очевидностью, сменяя установку и направление внимания, можем также приводить в сопряженность и нюансирования и соответствующие предметные моменты, распознавая таковые как соответствующие им и при этом также видя, без каких-либо дополнительных усилий, что, к примеру, какой-либо фиксированный цвет вещи и принадлежные к нему нюансируемые цвета соотносятся как «единство» и непрерывное «многообразие».
И мы, совершая феноменологическую редукцию, может обретать даже и генеральное сущностное усмотрение того, что этот предмет «дерево» может является в восприятии вообще как объективно определенный именно так, как он является, лишь тогда, когда гилетические моменты (или же в случае непрерывного континуума целого ряда восприятий — лишь когда непрерывные гилетические сдвиги) — именно такие, а не иные. Вот в чем, выходит, и заключено то, что любое изменение гилетического наполнения восприятия, если только таковое не прерывает сознание восприятия вообще, по меньшей мере приводит к тому, что являющееся становится объективно «иным» — все равно, в себе ли самом, в принадлежном его явлению способу ориентации относительно его и т. п.
Вместе со всем этим становится совершенно несомненным, что «единство» и «многообразие» принадлежат тут совершенно различным измерениям, а именно, все гилетическое принадлежит к конкретному переживанию в качестве реальной составной, между тем как все «репрезентирующееся» и «нюансирующееся» в нем в качестве многообразия принадлежит к ноэме.
Материалы же — так говорили мы уже и раньше — «одушевляются» ноэтическими моментами, они — в то время как Я обращено не к ним, но к предмету, — претерпевают «постижения», «наделения смыслом», каковые мы в рефлексии схватываем именно в этих материалах и вместе с ними. Откуда относительно всего этого немедленно следует: не только гилетические моменты (ощущаемые цвета, звуки и т. д.), но и одушевляющие их постижения, — следственно, и то и другое водном, — включая сюда и явление цвета, звука и вообще любого качества предмета — все это принадлежит к «реальному» составу переживания.
И теперь значимо вообще: восприятие в себе самом есть восприятие его предмета, а всякому компоненту, какой вычленяет в предмете «объективно» направленное описание, соответствует реальный компонент восприятия: однако — на это следует обратить особое внимание — лишь постольку, поскольку описание твердо держится предмета, как сам он «пребывает» вот в этом восприятии. Все такие ноэтические компоненты и называть мы можем, лишь возвращаясь к ноэматическому объекту и моментам такового, и, следовательно, мы можем говорить: сознание, конкретнее же — сознание восприятия вот такого-то ствола дерева, вот такого-то цвета ствола дерева и т. д.
С другой же стороны, наше рассуждение показало и то, что единство переживаний гилетических и ноэтических составных — совершенно иное, нежели «сознаваемое в нем» единство составных ноэмы, и, далее, в свою очередь иное, нежели то единство, какое объединяет весь реальный состав переживания с тем, что, в качестве ноэмы, осознается благодаря нему и в них. Все «трансцендентально конституируемое» «через посредство» ноэтических функций «на основании» материальных переживаний — это, конечно, нечто «данное», причем — если верно и точно описывать переживание и ноэматически сознаваемое в нем в чистом интуировании — с очевидностью данное; однако это данное принадлежит к переживанию в совершенно ином смысле, нежели реальные, а тем самым настоящие, в собственном смысле, конституенты такового.
Если мы феноменологическую редукцию, а равным образом и чистую сферу переживания называем «трансцендентальными», то такое именование основывается как раз на том, что мы в такой редукции обретаем некую абсолютную сферу материалов и ноэтических форм, к определенным образом устроенным сплетениям каковых и принадлежит как раз, согласно имманентной сущностной необходимости, сама эта чудесная осознанность некоего даваемого так-то и так-то определенного или же определимого, каковое для самого сознания есть нечто противолежащее, принципиально иное, ирреальное, трансцендентное, и что здесь — праисточник единственно мыслимого разрешения глубочайших познавательных проблем, касающихся сущности и возможности объективно значимого познания всего трансцендентного. «Трансцендентальная» редукция совершает εποχή касательно реальности, — однако к тому, что сохраняет она от действительности, принадлежат ноэмы с заключенным в них ноэматическим единством, а тем самым и тот способ, каким именно сознается и в специфическом смысле дается реальное в сознании. Осознание того обстоятельства, что тут речь идет исключительно об эйдетических, следовательно, безусловно необходимых взаимосвязях, открывает широкое поле перед исследованием — поле сущностных сопряженностей ноэтического и ноэматического, переживания сознания и коррелята сознания. Последняя же из названных сущностных рубрик включает в себя и следующее: предметность сознания как таковую, а одновременно и все формы ноэматического «как» подразумеваемости или же, соответственно, данности. Если оставаться в кругу нашего примера, то тут первым делом появляется всеобщая очевидность того, что восприятие есть не пустая актуализация предмета в настоящем, но что к собственной сущности восприятия («априорно») принадлежит то, что у него есть «свой» предмет, каким восприятие к тому же всегда обладает как единством определенного ноэматического состава, каковой для других восприятий «того же самого» предмета непременно будет иным, хотя и всякий раз предначертанным по мере сущности, или же, иначе, что к сущности такого-то, объективно определенного так-то и так-то предмета принадлежит то, что лишь в восприятиях подобной дескриптивной устроенности он бывает ноэматическим, только в них может быть таковым и т. д.
§ 98. Способ бытия ноэмы. Учение о формах ноэс. Учение о формах ноэм
Однако есть еще нужда в важных дополнениях. Прежде всего надо обратить внимание на то, что любой переход от феномена к рефлексии, каковая сама реально анализирует таковой, или же к совершенно иначе устроенной рефлексии, какая подвергает расчленению его ноэму, порождает новые феномены, и что мы впали бы в заблуждение, если бы стали смешивать новые феномены, которые в известной мере являются преобразованиями прежних, с прежними и все заключенное — реально или ноэматически — в новых приписали бы прежним. Так, например, отнюдь не подразумевается, что материальные содержания, скажем нюансируемые содержания цвета, точно так же наличествуют в переживании восприятия, как наличествуют они в анализируемом переживании. В первом из них, — чтобы указать лишь на одно обстоятельство, — они содержались как реальные моменты, однако не воспринимались, не схватывались предметно. В анализируемом же переживании они предметны, они здесь — цели ноэтических функций, каковые прежде не наличествовали. А сами материалы хотя и по-прежнему нагружены своими репрезентативными функциями тем не менее уже испытали существенное изменение (правда, изменение в ином измерении). Все это мы еще обсудим в дальнейшем. Очевидно, что такое различение должно существенно учитываться в феноменологическом методе.
После такого замечания все свое внимание уделим следующим относящимся к нашей особенной теме пунктам. Прежде всего: любое переживание устроено так, что существует принципиальная возможность обращать на него и на его реальные компоненты наш взгляд, равно как и — в направлении обратном — обращать его на ноэму, скажем, на дерево, которое мы видим, как таковое. Конечно, все данное в такой позиции взгляда, — тоже, говоря логически, есть предмет, однако предмет целиком и полностью несамостоятельный. Его esse состоит исключительно в его «percipi» — только что такое положение никоим образом не значимо здесь в берклиевском смысле, коль скоро ведь percipi не содержит здесь esse как свою реальную составную.
Все это, естественно, переносится в эйдетический способ рассмотрения: эйдос ноэмы указывает на эйдос ноэтического сознания, тот и другой эйдетически сопринадлежны друг другу. Интенциональное как таковое есть то, что оно есть, — как интенциональное так-то и так-то сложенного сознания, каковое есть сознание этого интенционального.
Несмотря на эту несамостоятельность ноэма, рассматриваемая сама по себе, может сравниваться с другими ноэмами, исследоваться в своих возможных модификациях и т. д. Можно набрасывать всеобщее и чистое учение о формах ноэм, учение, которому коррелятивно противостояло бы всеобщее и не менее чистое учение о формах конкретных ноэтических переживаний с их гилетическими и специфическим ноэтическим компонентами. Естественно, то и другое учение никоим образом не стали бы соотноситься друг с другом как зеркальные отражения, переходя друг в друга путем простой перемены индекса, скажем так, что мы любой ноэме N субституировали «сознание-чего» — сознание N. Это вытекает уже и из излагавшегося выше относительно сопринадлежности единых качеств в вещной ноэме и их гилетических нюансируемых многообразий в возможных восприятиях вещи.
Теперь может показаться, что то же самое должно быть непременно значимо и относительно специфически ноэтических моментов. В особенности можно было бы указывать на те моменты, благодаря которым определенное комплексное многообразие гилетических данных, например данных цвета, вкуса и т. д., обретает функцию многообразного нюансирования одной и той же объективной вещи. Достаточно ведь только напомнить о том, что в самих материалах, по сущности таковых, сопряженность с объективными единством предначертана не однозначно, и один и тот же материальный комплекс может напротив того испытывать многократные постижения, дискретные и переходящие-перескакивающие одно в другое, — по мере таковых будут сознаваться различные предметности. Не ясно ли уже в связи с этим, что в самих же одушевляющих постижениях как моментах переживания уже заключены существенные различия, так что эти постижения расходятся с нюансированием, каким они следуют и через одушевление которых они конституируют «смысл»? Вследствие чего и хотелось бы сделать следующий вывод: между ноэсисом и ноэмой хотя и наличествует параллелизм, однако наличествует он так, что все образования должны описываться на каждой из сторон — в их со-ответствовании друг другу по мере сущности. Ноэматическое пусть будет полем единств, ноэтическое — полем «конституирующих» многообразий. Сознание же, «функционально» единящее многообразие и одновременно с тем конституирующее единство, на деле никогда не являет тождества там, где в ноэматическом корреляте дано тождество «предмета». Так, если, к примеру, различные отрезки длительного, конституирующего вещное единство восприятия являют тождественное, а именно вот это одно, неизменное в смысле такого восприятия дерево, — оно дается то в такой, то в этакой ориентации, сейчас с передней, потом с задней стороны, cейчас нечетко и неопределенно в отношении визуально схватываемых свойств такого-то места, потом отчетливо и определенно и т. п., — то тогда наличный в ноэме предмет сознается как тождественный в буквальном смысле, однако сознание такового на различных отрезках его имманентного дления — не тождественное, лишь связное, непрерывно-единое.
Сколь бы много верного ни содержалось во всем сказанном сейчас, все же выводы не вполне корректны, — вообще в таких трудных вопросах уместна величайшая осторожность. Существующие здесь параллелизмы — а их несколько, и их очень уж легко спутывать, — отягощены большими трудностями, какие еще нуждаются в прояснении. Мы должны тщательно сохранять во взгляде различие между конкретными ноэтическими переживаниями, переживаниями вкупе с их гилетическими моментами и чистыми ноэсами как простыми комплексами ноэтических моментов. А далее мы должны точно также соблюдать различие между полной ноэмой и, например, в случае восприятия, «являющимся предметом как таковым». Если мы возьмем теперь этот «предмет» и все его предметные «предикаты» — ноэматические модификации предикатов воспринимаемой вещи, какие в нормальном восприятии полагаются попросту как действительные, — то, конечно, и этот предмет и его предикаты — все это единства в сравнении с многообразиями конституирующих переживаний сознания (конкретных ноэс). Однако они же и единства ноэматических многообразий. Мы поймем это сразу, как только включим в круг своего внимания ноэматические характеристики ноэматиче-ского «предмета» (и его «предикатов»), которыми мы до сих пор страшно пренебрегали. Так что несомненно, к примеру, что являющийся цвет — это единство в сравнении с ноэтическими многообразиями, а в особенности в сравнении с многообразиями характерных черт ноэтического постижения. Однако, ближайшее рассмотрение показывает, что любым сдвигам таких характерных черт соответствуют ноэматические параллели если не в самом «цвете», каковой ведь является беспрестанно, то в переменчивых «способах данности» такового. Так что в ноэматических «характеристиках» вообще отражаются ноэтические.
Каким образом это так, и притом не только в сфере восприятия, какой в качестве показательной отдано здесь у нас предпочтение, — это должно стать темой всеобъемлющих анализов. Мы будем анализировать различные виды сознания с их многообразными ноэтическими характеристиками по порядку, старательно разыскивая в них ноэтически-ноэматические параллели.
Однако уже и наперед мы обязаны твердо запомнить, что параллелизм единства предмета, так-то и так-то «подразумеваемого» ноэтически, — предмета в «смысле» — и конституирующих образований сознания («ordo et connexio rerum — ordo et connexio idearum»)[100] не может смешиваться с параллелизмом ноэсиса и ноэмы, в особенности же если таковой разуметь как параллелизм ноэтических и соответствующих ноэматических характерных черт.
Последнему посвящены ниже следующие размышления.
§ 99. Ноэматическое ядро и его характеристики в сфере актуализаций и реактуализации
Итак, наша задача — в том, чтобы значительно расширить круг обнаруженного в параллельных рядах ноэтических и ноэматических событий, — дабы достигнуть полной ноэмы и полной ноэсы. Все, что по преимуществу имели мы до них пор в виду, правда, еще без всякого предощущения заключенных здесь великих проблем, — это именно только центральное ядро, притом еще даже и не однозначно ограниченное.
Вспомним прежде всего о том «предметном смысле», какой раскрылся для нас выше[101] благодаря сопоставлению ноэм различно устроенных представлений, восприятий, образных представлений и т. п., — раскрылся как нечто доступное описанию в сплошь объективных выражениях, а в особо благоприятно выбранном пограничном случае даже и попеременно с тождественными им, — такой случай предоставляет совершенно одинаковый, одинаково ориентированный, во всех отношениях одинаково постигаемый предмет, — например, дерево, — репрезентирующий себя по мере восприятия, по мере воспоминания, по мере образа и т. д. В противоположность тождественному «являющемуся дереву как таковому» с его тождественными «объективными» «как» его явления все различия, меняющиеся от одного вида созерцания к другому, меняющиеся и вообще с видами представления, остаются различиями по способу данности.
Тождественное сознается сейчас «первозданно», из самого источника, в другой раз — «по мере воспоминания», затем — «по мере образа» и т. д. Однако всеми такими выражениями обозначаются характеристики «являющегося дерева как такового», обнаружимые в направленности взгляда на ноэматический коррелят, а не на переживание и его реальный состав. В них выражаются не «способы сознания» в смысле ноэтических моментов, но те способы, какими дает себя сознаваемое и как таковое. Характеристики, так сказать, идеального, они и сами «идеальны», а не реальны.
При более точном анализе замечаешь, что названные для примера характеристики не все принадлежат одному ряду.
С одной стороны, перед нами простая репродуктивная модификация, попросту реактуализация, которая — это достаточно примечательно — в своей же собственной сущности дает себя как модификация иного. Реактуализация в настоящем указывает назад — на восприятие в его собственной феноменологической сущности: так, к примеру, что отмечали мы уже и раньше, воспоминание о прошедшем имплицирует «воспринятость», так что известным образом «соответствующее» восприятие (восприятие того же самого смыслового ядра) сознается в воспоминании, хотя в действительности и не содержится в нем. Воспоминание же именно по своему собственному существу есть «модификация» восприятия. Коррелятивно же охарактеризованное как прошедшее даст себя в себе самом как «бывшее в настоящем», следовательно как модификацию «настоящего, актуального», того самого, что в своем немодифицированном виде есть именно «первозданное», т. е. «живо-телесное актуальное» восприятия.
С другой же стороны, переводящая в образ модификация принадлежит иному ряду модификаций. Она реактуализует «в» «образе». Однако образ может быть первозданно-являющимся, например, «написанным красками» образом (отнюдь не вещью «картина», т. е. тем, о чем говорится, что оно висит на стене[102]), какой мы перцептивно схватываем. Но образ может быть и репродуктивно-являющимся, как, например, мы в воспоминании или в вольной фантазии имеем представления образов.
Одновременно мы наблюдаем, что характеристики этого нового ряда не только сопряжены с характеристиками первого, но что они предполагают и усложнения. Последнее — если иметь в виду ноэматически принадлежное сущности сознания различение «образа» и «отображенного». Тут становится видно и то, что ноэма содержит здесь по паре указывающих друг на друга, хотя и принадлежных, как таковые, к различным объектам представления характеристик.
И, наконец, представления знаков с аналогичным противоположением знаков и означенного предоставляют нам родственный и тем не менее новый тип модифицируемых ноэматических характеров, причем и тут вновь выступают комплексы представлений, а в качестве коррелятов их специфического единства как представлений знаков — вновь пары ноэматически сопринадлежных характеристик пар ноэматических объектов.
Можно заметить также и то, что подобно тому как «образ» в себе, по мере его смысла как образа, дает себя как модификацию чего-либо — того, что, не будь этой модификации, пребывало бы перед нами как живо-телесное или реактуализованное «само», так и «знак», но только последний своим способом, — и знак тоже есть модификация чего-либо.
§ 100. Шкала представлений в ноэсисе и ноэме согласно закону сущности
Все обсуждавшиеся у нас до сей поры модификации представлений доступны для образования все новых и новых ступеней, так что даже и интенциональности в ноэсисе и ноэме постепенно надстраиваются друг над другом или же, скорее, единственным в своем роде способом вставляются друг в друга.
Есть простые реактуализации, простые модификации восприятий. Но есть и реактуализация второй, третьей и — по мере сущности — любой ступени. Примером могут служить воспоминания «в» воспоминаниях. Живя в воспоминании, мы «совершаем» взаимосвязь переживания в модусе реактуализации. В этом мы можем убеждаться благодаря тому, что мы рефлектируем «в» воспоминании (такая рефлексия есть со своей стороны реактуализующая модификация первозданного рефлектирования), а тогда мы обнаруживаем, что взаимосвязь переживания охарактеризована как «бывшее пережитым» по мере воспоминания. Среди характеризуемых таким образом переживаний, рефлектируем мы их или нет, могут вновь выступать воспоминания, характеризующиеся как «бывшие пережитыми воспоминания», и взгляд может быть направлен сквозь них на вспоминаемое второй ступени. В такой вторично модифицированной взаимосвязи переживания вновь могут выступать воспоминания — и так в идеале до бесконечности.
Простая замена индекса (особенности таковой нам еще предстоит понять) переводит все эти события в тип «вольная фантазия», а отсюда вытекают фантазии внутри фантазий, и так до любой ступени вставленности одного в другое.
Равным образом и смешения. Мало того, что любая реактуализация по своей сущности скрывает в себе модификации реактуализации восприятий относительно любой последующей ступени, — тогда такие восприятия, реактуализуемые в настоящем, вступают благодаря чудесной рефлексии в схватывающий их взгляд, но в единстве феномена реактулиазиации мы наряду с реактуализацией восприятий можем обнаруживать и реактуализации воспоминаний, ожиданий, фантазий и т. д., причем соответствующие реактуализации могут относиться к любому из этих типов. И все это — на различных ступенях.
Все это значимо и для комплексных типов «отраженное представление» и «представление знака». Вот пример крайне запутанных, но при этом и легко понятных образований представлений из представлений высшей ступени. Произносят какое-то имя, и оно напоминает нам о Дрезденской галерее и нашем последнем посещении ее, — мы бродим по залам и останавливаемся перед картиной Тенирса, изображающей картинную галерею.
Если бы — прибавим к этому — картины, изображенные на картине, в свою очередь изображали картины, да еще так, чтобы можно было прочитать подписи под ними, то без труда можно измерить, какой же строй вложенностей и какие опосредованности действительно можно создавать, что касается схватываемых предметностей. Однако в качестве показательного примера сущностных усмотрений, в особенности же в качестве примера для усмотрения идеальной возможности произвольно продолжать подобное вкладывание одного в другое нам и не требуются столь сложные случаи.
§ 101. Характеристики ступеней. Разного рода «рефлексии»
Во всех ступенчатых построениях подобного рода, содержащих в своей почлененности повторные модификации реактуализации, очевидно, конституируются ноэмы соответствующей ступени образования. В сознании отражения второй ступени «образ» сам по себе есть образ второй степени, характеризуемый как образ образа. Если мы вспомним сейчас, как вчера мы вспоминали переживания своей юности, то уже ноэма «переживания юности» сама по себе характеризуется как вспоминаемое второй ступени. И так повсюду:
Любой ноэматической ступени принадлежна характеристика ступени, своего рода индекс, каким любое характеризуемое изъявляет свою принадлежность к своей ступени, будь то первичный или же расположенный в каком-либо рефлективном направлении взгляда объект. Ибо ведь к любой ступени принадлежат возможные рефлексии в ее пределах, — так, относительно вещей, вспоминаемых на второй ступени воспоминания, возможны рефлексии относящихся к этой же ступени (следовательно, реактуализуемых на этой второй ступени) восприятий именно этих же самых вещей.
Далее: любая ноэматическая ступень есть «представление-чего» — представление данностей ступени последующей. «Представление», однако, не означает здесь переживания представления, а «чего» не выражает здесь сопряженности сознания и объекта сознания. Тут как бы ноэматическая интенциональность в сравнении с ноэтической. Последняя несет в себе первую как коррелят сознания, а ее интенциональность известным образом пересекает линию интенциональности ноэматической.
Все это становится яснее, если мы примечающий взгляд Я направим на предметность сознания. Тогда такой взгляд пройдет через ноэмы всей последовательности ступеней — насквозь, вплоть до объекта самой последней из них, сквозь которую он не проходит и которую он фиксирует. Однако взгляд может и переходить со ступени на ступень и, вместо того чтобы проходить через все насквозь, может направляться на данности каждой из них, их фиксируя, причем и это последнее либо в «прямой» направленности взгляда, либо в рефлектирующей.
Вот в примере, какой был дан выше: взгляд может остаться на ступени «Дрезденская галерея» — тогда мы «в воспоминании» гуляем по Дрездену и его галерее. Затем мы можем, вновь оставаясь в пределах воспоминаний, жить созерцанием картин, а тогда будем находиться в мирах этих образов. Затем, обратившись в сознании образов второй ступени, к написанной красками галерее, мы созерцаем ее картины, написанные маслом; или же, переходя со ступени на ступень, мы рефлектируем их ноэсы и т. д.
Такое многообразие возможных направлений взгляда сущностно принадлежит к многообразию сопрягаемых друг с другом и фундируемых друг в друге интенциональностей, и если мы где-то обнаруживаем аналогичные фундирования — впоследствии нам предстоит еще познакомиться со многими устроенными совсем иначе — объявляются аналогичные возможности переменчивой рефлексии.
Не нужно даже и говорить о том, в какой степени подобные отношения нуждаются в научном, тщательном исследовании сущности.
§ 102. Переход к новым измерениям характеристик
Касательно всех своеобразных характеристик, какие повстречались нам в многоликой области модификации через посредство актуализации в настоящем, мы, очевидно, должны, причем уже по причине, указанной выше, различать ноэтическое и ноэматическое. Ноэматические «предметы» — объект образа и отображаемый объект, функционирующее в качестве знака и означаемое, отвлекаясь при этом от принадлежных им характеристик: «образ для», «отраженное», «знак для», «означаемое», — очевидным образом суть как сознаваемые в переживании, однако трансцендентные таковому единства. Коль скоро, однако, так, то характеристики, выступающие в них по мере сознания и схватываемые в установке взгляда на них как присущие им особенности, не могут рассматриваться как реальные моменты переживания. Как соотносится между собой то и другое, — реальный состав переживания и то, что сознается в таковом как нереальное, — может повлечь за собой проблемы сколь угодно большой сложности, и все же мы должны повсюду проводить свое размежевание, причем как относительно ноэматического ядра, «интенционального предмета как такового» (взятого по его «объективному» способу данности), каковой выступает как соответствующий носитель ноэматических «характеристик», так и относительно самих характеристик.
Однако характеристик, постоянно держащихся ноэматического ядра, немало и совсем других, а видов принадлежности ему — много самых разных. Так складываются фундаментально различные роды, так сказать, фундаментально различающиеся измерения характеристики. При этом следует с самого начала указать на то, что все характеры, как уже указанные, так и те, какие еще предстоит указать (сплошь рубрикации необходимых аналитически-дескриптивных изысканий), отличаются универсальной феноменологической широтой. Если мы поначалу и обсуждаем их, отдавая предпочтение интенциональным переживаниям с их относительно наипростейшим строением, обобщаемым определенным и фундаментальным понятием «представления», — они создают необходимую для всех прочих интенциональных переживаний опору, — то все же те же самые основополагающие роды дифференции и различия характеристик обнаруживаются также и во всех этих фундируемых, а, стало быть, вообще во всех интенциональных переживаниях. Причем положение дел таково, что всегда, совершенно необходимо, сознается некое ноэматическое ядро, «предметная ноэма», какая должна как-то характеризоваться, причем согласно такой-то или же иной дифференциации (они исключают друг друга) каждого из родов.
§ 103. Характеристики верования и характеристики бытия
Если осмотреться теперь в поисках новых характеристик, то наше внимание обратит на себя то, что с теми группами характеристик, какие обсуждались у нас ранее, связываются совершенно иначе устроенные характеристики бытия. Так, ноэтические, коррелятивно сопряженные с модусами бытия характеристики — «характеристики доксы», или «верования», — это в наглядных представлениях, например, реально заключающееся в нормальном восприятии как «примечании чего-либо» верование в восприятие, а, конкретнее, скажем, уверенность в восприятии; последней, как ноэматический коррелят в самом являющемся «объекте», соответствует характеристика бытия — «действительно». Такую же ноэтическую или, соответственно, ноэматическую характеристику являют и «достоверная» реактуализация и «уверенное» вспоминание бывшего, ныне сущего, будущего (последнее — в предпамятующем ожидании). Все это «полагающие» бытие «тетические» акты. Однако, пользуясь этим последним выражением, надо обращать внимание на то, что если оно и указывает на акт, на занятие позиции в особом смысле, то как раз это-то должно оставаться у нас без рассмотрения.
Все являющееся по мере восприятия или по мере воспоминания обладало в той сфере, какую мы пока рассматривали, характеристикой «действительно» сущего, и только, — сущего «достоверно», как мы тоже говорим по контрасту с иными бытийными характеристиками. Ибо та же самая характеристика может модифицироваться — либо же сдвигаться в том же самом феномене посредством актуальных модификаций. Способ «достоверного» верования может перейти в способ простого допущения, или подозревания, или вопрошания, или сомнения; и в зависимости от обстоятельств являющееся (характеризовавшееся по первому измерению характеристик как «первозданное», или как «воспроизводящее» и т. п.) обладает теперь модальностями бытия: «возможно», «вероятно», «под вопросом», «сомнительно».
Вот пример: воспринимаемый предмет пребывает поначалу просто в само собой разумеющемся, в достоверности. Вдруг мы начинаем сомневаться, не сделались ли мы жертвой простой «иллюзии» и не «простая ли кажимость» все то, что мы видим, слышим и т. п. Или же являющееся сохраняет свою бытийную достоверность, и только мы утратили уверенность относительно какого-то комплекса свойств. Вот эта вещь «представляется» человеком. А потом включается предположение обратного, — может быть, это только дерево на ветру, которое в полумраке выглядит как человек, который совершает какие-то движения. Потом «вес» одной из «возможностей» начинает возрастать, и мы решаем, — ну скажем, с определенностью предполагая: «Нет, все-таки это было только дерево».
Точно так же, и только еще чаще, модальности бытия сменяются в воспоминании, причем так, что они в большой мере устраиваются и чередуются здесь чисто в рамках созерцаний, или же, иначе, темных представлений, без какого-либо соучастия «мышления» в специфическом смысле, помимо «понятия» и предикативного суждения.
Одновременно можно видеть и то, что относящиеся сюда феномены подсказывают нам множество различных штудий, что тут выступают всякого рода характеристики (вроде «решительно», «вес» возможностей и т. п.) и что в особенности вопрос о существенных основаниях соответствующих характеристик требует еще более глубоких разысканий в упорядоченном согласно закону сущности здании ноэм и ноэс.
Однако, как и всегда, нам довольно сейчас того, что мы выделили группы проблем.
§ 104. Модальности доксы как модификации
Относительно ряда модальностей верования, какой занимает нас сейчас, следует указать еще и на то, что и в этом ряду вновь приобретает значимость особо отмеченный, специфически интенциональный смысл сказанного о модификации — тот, какой мы прояснили, анализируя предыдущие ряды ноэтических и соответственно ноэматических характеристик. В теперешнем же ряду роль немодифицированной, или, как следовало бы сказать здесь, «немодализированной» проформы способа верования, очевидно, играет достоверность верования. Соответственно тому и в корреляте: характер бытия просто как таковой (ноэматическое — «достоверно», или «действительно» сущее) фундирует в качестве проформы всех бытийных модальностей. На деле все проистекающие из таковой бытийные характеристики, какие в их специфичности следует именовать модальностями бытия, в своем собственном смысле сопрягаются с праформой. «Возможно» — это в себе самом значит: «возможно сущее», «вероятно», «сомнительно», «под вопросом» значат: «вероятно сущее», «сущее сомнительно и под вопросом». Интенциональность ноэс отражается в подобных ноэматических сопряжениях, и вновь начинает, прямо-таки чувствовать в себе побуждение попросту говорить о «ноэматической интенциональности» как «параллели» интенциональности ноэтической и называемой так в собственном смысле слова.
Это переносится затем и на полные «предложения», т. е. на единства смыслового ядра и бытийного характера.[103]
Кстати говоря, очень удобно применять термин «модальность бытия» для целого ряда таких характеристик бытия, а потому охватывать им также и немодифицированное «бытие», когда бы таковое ни выступало в качестве члена этого ряда, — примерно подобно тому, как в арифметике и «один» тоже охватывается понятием «числа». В этом же смысле мы обобщаем и смысл речей о модальностях доксы, под каковые, причем нередко с сознательной двусмысленностью, мы подводим и ноэтические и ноэматические параллели.
Кроме того, обозначая немодализированное бытие словами «достоверно быть», (или безусловно) следует обращать внимание на путаницу со словом «достоверно», и не только в том отношении, что оно означает то ноэтическую, то ноэматическую «достоверность» и «безусловность». Это слово служит ведь еще и для того (и это вносит сюда большую путаницу), чтобы вырезать коррелят утверждения — «да» в противоположность «нет» и «не». Последнее должно тут быть строго-настрого исключено. Значения слов постоянно сдвигаются в рамках логически-непосредственной эквивалентности. А наше дело — всюду вычленять такие эквивалентности и отчетливо разделять, что из сущностно-различных феноменов может скрываться за эквивалентными понятиями.
Достоверность верования — это вера просто как таковая, в отчетливом смысле. Согласно производимым нами анализам она и на деле занимает в высшей степени примечательное особое положение в том многообразии актов, какие постигаются под рубрикой «верование» — или «суждение», как говорят нередко, и вполне неуместно. Требуется особое выражение, какое отдавало бы должное исключительности этого положения и гасило бы всякое воспоминание о равном положении достоверности и прочих модусов верования. Мы вводим термин праверование, или, иначе, прадокса, что и весьма адекватно запечатляет выявленную нами обратную сопряженность любых «модальностей верования». Прибавим еще к сказанному сейчас, что этим последним выражением (или же выражением «модальность доксы») мы будем пользоваться для всех тех интенциональных сдвигов, какие основываются в сущности прадоксы, в том числе и для тех, какие еще выявятся в последующих анализах.
Едва ли еще нуждается в какой-либо критике глубоко ложное учение, согласно которому в достоверности, допущении и т. д. просто дифференцируется единый род «верование» (или «суждение»), — так, как если бы речь шла о ряде одинаково упорядочиваемых видов (где бы ни прерывать этот ряд), подобно тому, как цвет, звук и т. д. суть скоординированные в роде «чувственное качество» виды. Кроме того, нам и сейчас, как всегда, приходится отказывать себе в том, чтобы прослеживать вытекающие из наших феноменологических констатации выводы.
§ 105. Модальность верования как верование, модальность бытия как бытие
Если в отношении описанных выше в высшей степени примечательных ситуаций мы говорим об интенциональности, с помощью которой вторичные модусы устанавливают свое обратное сопряжение с прадоксой, то это по своему смыслу требует, чтобы существовала возможность многократной направленности взгляда — такого вида, какой вообще принадлежит к сущности интенциональностей высшей ступени. Такая возможность существует на деле. Мы, с одной стороны, например, живя в сознании вероятности (в допущении), можем смотреть в сторону того, что вероятно; с другой же стороны, мы можем смотреть на само вероятное как таковое, т. е. на ноэматический объект в той его характеристике, какой наделила его ноэса допущения. Однако «объект» с его чувственным составом и с такой присущей ему характеристикой вероятности дан — во второй позиции взгляда — как сущий, a потому в своей сопряженности с таковым сознание есть простое верование в немодифицированном смысле. Точно так же мы можем жить в сознании возможности или же в вопрошании сомнения, направляя свой взгляд на то, что сознается нами как возможное, сомнительное, находящееся под вопросом. Однако мы можем смотреть и на самые возможности, сомнительности, вопросительности и, при известных обстоятельствах, постигать в чувственном объекте, путем эксплицирования и предицирования, бытие возможного, бытие сомнительного, бытие находящегося под вопросом, — таковое дано тогда как сущее в немодифицированном смысле.
Так что мы сможем вообще констатировать в высшей степени примечательную сущностную черту: любое переживание функционирует как сознание верования в смысле прадоксы тогда, когда оно сопряжено со всеми теми ноэтическими моментами, какие конституируются его ноэсами в «интенциональном объекте как таковом»; или же — так мы тоже можем сказать:
Любое привхождение новых ноэтических характеристик или же любая модификация прежних конституирует не только новые ноэматические характеристики, но вместе с этим ео ipso для сознания конституируются новые объекты бытия; ноэматическим характеристикам соответствуют новые характеристики, предицируемые чувственному объекту — в качестве действительных, а не просто ноэматически модифицируемых, предикабилий.
Эти предложения обретут дополнительную ясность, когда мы ознакомимся с новыми ноэматическими сферами.
§ 106. Утверждение и отрицание, их ноэматические корреляты
Отклонение, а также аналогичное таковому согласие — вот и еще одна новая модификация с обратной сопряженностью, причем при известных обстоятельствах относящееся к высшей ступени благодаря своей сущностной интенциональной обратной сопряженности с любыми модальностями верования. Более специально это отрицание и утверждение. Любое отрицание есть отрицание чего-то, а это что-то отсылает нас к какой-либо модальности верования. Итак, ноэтически отрицание есть «модификация» какой-либо «позиции»; что означает — не негация аффирмации, а негация какого-либо «полагания» в расширенном смысле: какой-либо модальности верования.
Новое ноэматическое свершение этой модификации — это «перечеркивание» соответствующей позициональной характеристики, специфический ее коррелят — это характеристика перечеркивания, характеристика «нет». Черта негации зачеркивает нечто позициональное, конкретнее же некое «положение», причем в силу перечеркивания его специфического характера положения, т. е. ее бытийной модальности. Вместе с этим и именно поэтому сама характеристика и само положение пребывают здесь в качестве «модификации» чего-то иного. То же самое иначе: благодаря преобразованию простого сознания бытия в соответствующее сознание негации в ноэме из простой характеристики «сущее» делается «несущее».
Аналогично из «возможного», «вероятного», «стоящего под вопросом» делается «невозможное», «невероятное», «не стоящее пол вопросом». А вместе с этим модифицируется вся ноэма, все «положение», взятое в конкретной ноэматической полноте.
И точно так, как негация — говоря образно — перечеркивает, так аффирмация «подчеркивает», она «подтверждает» — «соглашаясь» — такую-то позицию, вместо того чтобы «снимать» ее подобно негации. Это тоже дает ряд ноэматических модификаций — в параллель модификациям перечеркивания, что не приходится сейчас далее прослеживать.
Мы отвлекались до сих пор от своеобразия «выбора позиции» чистым Я — таковое при отклонении, в особенности же при отклонении отрицающем, «обращается» против отклоняемого, против подлежащего перечеркиванию бытия, — подобно тому как при утверждении она склоняется к утверждаемому, направляется на него. Эта дескриптивная сторона положения дел не может не замечаться, и она нуждается в особых анализах.
Равным образом следует учитывать и то обстоятельство, что, по мере вложенности интенциональностей друг в друга, возможны соответственно различные направления взгляда. Мы можем жить в негирующем сознании, — другими словами, «совершать» негацию; тогда взгляд Я направлен на то, что претерпевает перечеркивание. Однако мы можем направить свой взгляд как взгляд схватывающий и на перечеркиваемое как таковое — на снабженное чертой, — тогда это последнее начинает пребывать здесь в качестве нового «объекта», причем пребывать в простом доксическом прамодусе «сущее». Новая установка не порождает новый бытийный объект, и в «совершении» отклонения тоже сознается отклоняемое в характеристике его перечеркнутости; однако лишь с новой установкой такая характеристика становится предицируемым определением ноэматического смыслового ядра. То же самое относится, естественно, и к аффирмации.
Итак, задачи феноменологического анализа сущности лежат и в этом направлении.[104]
§ 107. Повторные модификации
Усвоенного нами из начатков подобного анализа уже достаточно для того, чтобы незамедлительно совершить следующий шаг вперед в усмотрении:
Коль скоро всякий негат и аффирмат сам есть бытийный объект, то он, как и все сознаваемое в каком-либо бытийном модусе, может утверждаться или отрицаться. Итак, вследствие совершающегося с каждым шагом заново бытийного конституирования создастся бесконечная в идеале цепь повторных, итерируемых модификаций. Так, на первой ступени, — «не-несущее», «не-невозможное», «не не стоящее под вопросом», «не-не-сущее невероятным» и т. д.
То же самое значимо, — что возможно обозревать непосредственно, — и для всех обсуждавшихся ранее бытийных модификаций. Что нечто возможно, вероятно, стоит под вопросом и т. д., в свою очередь само может сознаваться в модусе возможности, вероятности, поставленное под вопрос; ноэтическим образованиям соответствуют ноэматические бытийные образования: возможно, что это возможно, что это вероятно, что это стоит под вопросом; вероятно, что это возможно, что это вероятно; и так — во всех усложнениях. Более высоко расположенным образованиям в свою очередь соответствуют аффирматы и негаты, вновь модифицируемые, и так — в идеале — продолжается до бесконечности. Речь при этом отнюдь не идет о простых словесных повторах. Достаточно лишь напомнить о теории вероятности с ее применениями, где без конца что-либо взвешивается, отрицается, ставится под сомнение, допускается, констатируется, ставится под вопрос и т. д.
Однако всегда необходимо обращать внимание на то, что всякий разговор о модификациях сопряжен, с одной стороны, с возможным преобразованием феноменов, т. е. с возможной актуальной операцией, с другой же, с куда более интересной сущностной особенностью ноэс и, соответственно, ноэм, что они, в своей собственной сущности и без малейшего соучета возникновения генезиса, указывают назад — на иное, немодифицированное. Однако и в том, и в другом случае мы стоим на чисто феноменологической почве. Ибо и разговор о преобразовании и возникновении сопрягается сейчас с феноменологическими сущностными событиями и не сообщает ровным счетом ничего об эмпирических переживаниях как фактах естества.
§ 108. Ноэматические характеристики — отнюдь не определенности «рефлексии»
Всякий раз, как мы доводим до ясности сознания какую-либо новую группу ноэс и ноэм, нам необходимо заново удостоверяться в том фундаментальном выводе, который столь противен мыслительным обычаям психологизма, а именно в том, что между ноэсисом и ноэмой следует проводить действительные и корректные различения — точно так, как того требует верность дескрипции. Если уж ты нашел себя в чисто имманентной сущностной дескрипции (сколь многим, кто готов восхвалять дескрипцию, это так и не удается) и выразил готовность признавать за всяким сознанием интенциональный объект — ему принадлежный и доступный имманентному описанию, — то все равно по прежнему велик соблазн постигать ноэматические характеристики, в особенности же те, какие мы вот только что обсуждали, как простые «определенности рефлексии». Вспоминая обыденно привычное узкое понятие рефлексии, мы разумеем, что сие значит, — это определенности, которые прирастают к интенциональным объектам от того, что те сопрягаются со способами сознания, в каковых они и присутствуют в качестве объектов сознания.
Итак, тогда получается, что негат, аффирмат и т. п., происходят оттого, что предмет «суждения» характеризуется — в сопрягающей рефлексии с отрицанием как отрицаемый, с утверждением — как утверждаемый, с допущением как вероятный, и так повсюду и во всем. Это не более, как конструкция[105], нелепость которой сказывается уже в том, что, будь только все эти предикаты действительно всего лишь сопрягающими предикатами рефлексии, они могли бы даваться исключительно в актуальной рефлексии совершаемого акта, на стороне его совершения, и в сопряженности с таковой. Однако они, как очевидные, они не даются такой рефлексией. То, в чем собственная суть коррелята, мы постигаем в прямом направлении взгляда ни на что иное, как на коррелят. И всякие негаты и аффирматы, возможное и стоящее под вопросом и т. д. — все такое мы схватываем в являющемся предмете как таковом. При этом мы вовсе не смотрим назад — на сам акт. И наоборот: прирастающие благодаря такой рефлексии ноэтические предикаты отнюдь не обладают одинаковым с ноэматическими предикатами, о которых идет речь, смыслом. С этим связано и то, что с позиции истины не-бытие, очевидно, лишь эквивалентно, а не тождественно «значимой негированности», бытие возможным не тождественно «значимым образом считаемому возможным бытию» и т. п.
Естественная, не сбитая с толку психологическими предрассудками речь тоже свидетельствует в нашу пользу (если бы нам нужно было лишнее свидетельство). Глядя в стереоскоп, мы говорим: вот эта являющаяся пирамида — «ничто», просто «кажимость», — являющееся как таковое — вот что есть тут очевидный субъект предицирования, и ему (т. е. вещной ноэме, а отнюдь не вещи) мы приписываем то, что обретаем в нем самом в качестве характеристики, а именно «ничтожествования». Здесь, как и всегда, феноменолог должен иметь мужество все действительно усматриваемое в феномене брать ровно таким, каким оно дает себя, не переосмысливая и давая честное описание его. И любая теория обязана направляться по сему.
§ 109. Модификации нейтральности
Среди всех сопрягаемых со сферой верования модификаций нам остается отметить еще одну в высшей степени важную, которая занимает совершенно изолированное положение, следовательно, никак не может быть поставлена в один ряд с обсуждавшимися выше. Своеобразие ее отношения к полаганиям верований, а также то обстоятельство, что она вырисовывается в своем своеобразии лишь при более глубоком исследовании, — в качестве отнюдь не принадлежащей к сфере верования, а, скорее, в качестве в высшей степени значительной общей модификации сознания, — все это оправдывает более пространное рассуждение о ней сейчас. При этом нам предоставится возможность обсудить и еще одну разновидность подлинной модификации верования, какой нам пока еще недоставало и с какой легко смешивают нашу новую, — это модификация приниманий.
Речь идет у нас сейчас о такой модификации, которая известным образом полностью снимает любую модальность доксы, с какой сопрягается, полностью отменяет таковую, — однако и совершенно в ином смысле, нежели негация, которая к тому же, как мы видели, заключает в своем негате некое позитивное совершение, такое не-бытие, которое в свою очередь тоже есть бытие. Наша же модификация ничего не перечеркивает, она ничего не «совершает», в ней, по мере сознания, прямая противоположность любому совершению — нейтрализация такового. Последняя заключена в любом воздержании от какого-либо делания, в переводе чего бы то ни было в бездействие, в заключении в скобки, и оставлении чего-либо без разрешения, не решенным, а, далее, и в том, чтобы обладать чем-либо в таких состояниях оставленности и воздержания, и в том, чтобы вдумываться внутрь всякого совершения, или же, иначе, в том, чтобы «просто мыслить» совершаемое, не «соучаствуя» в совершении.
Поскольку такая модификация никогда научно не прояснялась, потому и не фиксировалась терминологически (всякий раз, когда затрагивали ее, ее тут же смешивали с другими модификациями), и поскольку и в общем языке для нее нет однозначного имени, то мы можем подойти к ней, лишь описывая ее со всех сторон, циркумскриптивно, и шаг за шагом отделяя излишнее. Ибо все выражения, только что поставленные нами в ряд для предварительного указания на нее, содержат в своем смысле нечто чрезмерное. Каждым из них со-обозначается некое произвольное действование, между тем как именно ничего подобного тут и не должно быть. Итак, все такое мы изымаем. Во всяком случае итог такого действования заключает в себе некое своеобразное содержательное наполнение, какое можно рассматривать и в себе, отвлекаясь от того, что результат «происходит» (что, естественно, тоже есть феноменологическая данность) от действования, «берет в нем начало», — ведь такое содержательное наполнение возможно и встречается во взаимосвязи переживаний и без всякого произвола. Итак, выключим во всем том, что оставляется в неразрешенности, все волевое, но не будем разуметь такую оставленность и в смысле чего-либо сомнительного и гипотетического, — вот тогда-то у нас и останется некая «оставленность», или же, еще лучше сказать, останется некое «пребывание» того, что действительно не сознается как пребывающее. Характер полагания выведен из действия. Теперь и отныне верование — это уж не всерьез какое-то верование, и допущение — это уж не всерьез какое-то допущение, и отрицание — это уже не всерьез какое-то отрицание. Теперь и отныне все это «нейтрализованное» верование, допущение, отрицание и т. п., корреляты каковых воспроизводят таковые немодифицируемые переживаний, однако воспроизводят их в радикально модифицируемом виде: сущее попросту как таковое, и сущее возможным, вероятным, под вопросом, равно как и все несущее, как и все прочие негаты и аффирматы, — все это здесь, все это пребывает здесь по мере сознания, но только не по способу «действительного», но по способу «просто мыслимого», «просто мысли». Все получает модифицирующую «скобку», а таковая состоит в ближайшем родстве с той другой, о· которой мы так много говорили прежде и которая столь важна для приуготовления путей феноменологии. Всякие полагания вообще, полагания не нейтрализованные — они в качестве своих коррелятов имеют в итоге свои «положенности» («предложения», «тезисы»), какие в целом виде характеризуются как «сущие». Возможность, вероятность, сомнительность, нет-бытие и да-бытие — все это еще нечто «сущее», а именно характеризуемое в качестве такового в своем корреляте, в качестве некоей «подразумеваемости» в сознании. Нейтрализуемые же полагания существенно отличаются от всего подобного тем, что их корреляты не содержат ничего, что можно было бы полагать и чему можно было бы что-либо предицировать: нейтральное сознание ни в каком отношении не играет для сознаваемого им роли «верования».
§ 110. Нейтрализованное сознание и правосудие разума. Принимание
Что перед нами действительно ясная несравненная своеобразность сознания, это сказывается в том, что настоящие, в собственном смысле, не нейтрализованные ноэсы по своей сущности подлежат суду разума, его правосудию, между тем как для ноэс нейтрализованных вопрос о разуме и неразумии лишен всякого смысла.
То же самое, коррелятивно, и для ноэм. Все ноэматически характеризуемое как сущее (достоверно), как возможное, предположительное, как стоящее под вопросом, ничтожное и т. д. может характеризоваться в качестве такового «значимым» или «незначимым» образом, может быть «по истине», возможным, ничтожным и т. д. Напротив того простое думание-себе ничего не «полагает», это не позициональное сознание. «Просто мысль» о действительностях, возможностях и т. п. ни на что не «притязает», ее нельзя ни признать правильной, ни отвергнуть как неправильную.
Правда, всякое просто думание-себе может быть переведено в принимание, в пред-полагание, а тогда такая новая модификация (равно как и модификация думания-себе) подлежит безусловно свободному произволению. Однако пред-полагание вновь нечто вроде полагания, пред-положение — вновь нечто подобное «заложенности» и «предложению», только что это совсем особая модификация полагания и верования, лежащая в стороне от обсуждавшегося выше основного ряда и насупротив такового. Такая модификация может и входить как член (ее пред-полагание — как гипотетический «продосис» или аподосис) в единство подлежащих суждению по мере разума полаганий, тем самым подвергаясь оцениванию со стороны разума. Не о какой-то просто стоящей тут мысли, но о гипотетическом пред-положении вполне можно говорить, что таковое — верно или неверно. Смешивать одно с другим — это фундаментальная ошибка, как и не замечать путаницы и подстановки, заключенной в словах о простом думании-себе, или же, иначе, о простой мысли.
К этому присовокупляется еще и та, равным образом сбивающая с толку путаница и подстановка, которая заключена в слове «мыслить» («думать») постольку, поскольку оно то сопряжено с особо отмеченной сферой эксплицирующего, постигающего и выражающего мышления, с мышлением логическим в специфическом смысле, то на позициональное как таковое, какое — это мы только что видели сами — не спрашивает ни об эксплицировании, ни о постигающем предицировании.
Все обсуждаемые события мы обнаруживаем в той сфере, какой отдавалось на первых порах нами предпочтение, в сфере просто чувственных созерцаний и их вариациях в неясные представления.
§ 111. Модификация нейтральности и фантазия
Однако объявляется и еще одна опасная путаница и подмена, связанная с выражением «просто думать-себе», или же, иначе, возникает вопрос о возможности предотвратить напрашивающуюся само собою подмену, а именно спутывание модификации нейтральности и фантазии. Спутывающее — и действительно не легко распутываемое — заключается тут в том, что фантазия действительно есть некая модификация нейтральности, что несмотря на особенность своего типа она отмечена универсальным значением и применима ко всем переживаниям, что она играет свою роль в большинстве образований думание-себе, а притом все же должна быть отличена от общей модификации нейтральности с ее многообразными, следующими за всеми видами полагания образованиями.
Более конкретно, фантазирование — это вообще модификация нейтральности «полагающей» реактуализации, следовательно, воспоминания в мыслимо широком смысле.
Тут необходимо учитывать то, что в обычной речи реактуализация (репродукция) и фантазия беспорядочно подменяют друг друга. Мы же употребляем эти выражения так, что, принимая во внимание свои же анализы, не поясняем общее слово «реактуализация» в отношении того, настоящим ли, в собственном смысле, или нейтрализованным оказывается принадлежное к нему «полагание». Затем же все реактуализации разделяются на две группы: любые воспоминания и модификации нейтральности таковых. В дальнейшем все же окажется, что такое разделение отнюдь не может считаться подлинной классификацией.[106]
С другой стороны, всякое переживание вообще (всякое, так сказать, действительно живое) — это «сущее в настоящем» переживание. От его сущности неотделима возможность рефлексирования его, в каковом переживание необходимо характеризуется как переживание сущее в настоящем и достоверно. Соответственно тому каждому переживанию, как и каждому первозданно, из самого источника, сознаваемому индивидуальному бытию, отвечает серия возможных в идеале модификаций воспоминания. Переживанию как первозданному, из самого источника, сознанию переживания отвечают, в качестве возможных параллелей, воспоминания его, а тем самым, в качестве модификаций нейтральности, фантазии. Это верно для всякого переживания, как бы ни обстояло тут дело с направлением взгляда чистого Я. Следующее пусть послужит нам разъяснением.
Сколь бы часто ни реактуализовали мы какие бы то ни были предметы, — допустим с самого начала, что это чисто фантастический мир, а мы со всем вниманием обращены к нему, — к сущности фантазирующего сознания принадлежит здесь то, что тут бывает сфантазирован не только одновременно этот мир, но сфантазировано и само «дающее» восприятие. Мы обращены к этому миру — к «восприятию же в фантазии» (т. е. к модификации нейтральности, относящейся к воспоминанию), лишь в том случае, когда мы — это уже было обсуждено у нас — «рефлектируем в фантазии». И вот дело фундаментальной значительности — не спутать эту в идеале всегда возможную модификацию, какая перевела бы в точно соответствующую переживанию простую фантазию, или же, что одно и то же, в нейтрализованное воспоминание любое переживание, даже и переживание сфантазированное, с той модификацией нейтральности, какую мы можем противопоставлять любому «полагающему» переживанию. В этом аспекте воспоминание есть некое сугубо специальное полагающее переживание. Другое — это нормальное восприятие, и вновь другое — перцептивное или же репродуктивное сознание возможности, вероятности, вопросительности, сознание сомнения, негации, аффирмации, пред-полагания и т. д.
Мы можем для примера убедиться в том, что модификация нейтральности, относящаяся к нормальному, полагающему в немодифицируемой достоверности восприятию, есть нейтральное сознание объекта-образа, каковое обретается нами в нормальном созерцании перцептивно репрезентируемого отраженного мира, в качестве компонента такого. Попытаемся пояснить это: будем созерцать, скажем, дюреровскую гравюру на меди — «Рыцарь, Смерть и Дьявол».
Тут мы первым делом различим нормальное восприятие, коррелятом какового выступает вещь «гравюрный лист» — вот этот лист в папке с гравюрами.
Во-вторых же, — перцептивное сознание, в каком перед нами являются проведенные черными линиями и нераскрашенные фигурки — «рыцарь на коне», «смерть», «дьявол». В эстетическом созерцании мы не обращены к ним как объектам, — мы обращены к ним как репрезентированным «в образе», точнее же, как к «отображенным» реальностям, рыцарю из плоти и крови и т. д.
Сознание же «образа» (маленьких темных фигурок в каких, посредством фундируемых ноэс, благодаря сходству «отображенно репрезентируется» иное), сознание, опосредующее и делающее возможным отображение, — это и есть пример модификации нейтральности в отношении восприятия. Отображающий образ-объект — он не пребывает перед нами ни как сущий, ни как не-сущий, ни в какой-либо иной модальности полагания, или же, лучше сказать, он сознается как сущий, но только как как бы — сущий в модификации нейтральности бытия.
Однако точно так же пребывает и отображенное, если только наше отношение — чисто эстетическое и мы принимаем его «просто как образ», не ставя на нем печать бытия или небытия, бытия возможного или предполагаемого и т. п. Однако, что явно, все это означает не привацию, а модификацию, именно ту самую модификацию нейтрализации. Только мы никоим образом не должны представлять себе таковую как операцию преобразования, примыкающую к предварительному полаганию. При случае она может быть и таковой. Но только она не обязана таковой быть.
§ 112. Повторяемость модификации фантазии. Неповторяемость модификации нейтральности
Радикальное различие между фантазией, в смысле нейтрализующей актуализации и нейтрализующей модификации вообще, сказывается — чтобы со всей остротой подчеркнуть еще и этот решающий момент расхождения — в том, что модификация фантазии как реактуализация повторима, итерируема (существуют фантазии любой ступени — фантазии «в» фантазиях), в то время как повтор «операции» нейтализирования исключен по мере сущности. Можно считаться с тем, что наше утверждение касательно возможности итерируемых (равно как отображающих) модификаций столкнется с почти всеобщими возражениями. Перемены наступят только тогда, когда опытность в делах подлинно феноменологического анализа станет более распространенной, нежели в наши дни. Пока же с переживаниями обращаются как с «содержаниями» или как с психическими «элементами», на какие, несмотря на моду оспаривать психологию, все обращающую в атомы и все овеществляющую, все-таки смотрят как своего рода маленькие вещицы, пока надеются обрести различие «содержаний ощущения» и соответствующих им «содержаний фантазии» лишь в вещных приметах вроде «интенсивности», «полноты» и т. п., — лучше не станет.
Надо бы поначалу научиться видеть, что тут все дело в различии сознания, что, стало быть, фантасма — это не просто поблекшая данность ощущения, но, по своей сущности, фантазия-чего — фантазия соответствующей данности ощущения, что это самое «чего» никак не может войти сюда через посредство разжижения интенсивности, содержательной полноты и т. д. соответствующей данности ощущения, — сколь бы щедрым ни быть на жидкость.
Кто опытен в рефлексиях сознания (а прежде того вообще научился видеть данности интенциональности), тот без труда разглядит и ступени сознания, каковые наличествуют в фантазиях внутри фантазий, в воспоминаниях внутри воспоминаний или внутри фантазий. Тот разглядит и все заключенное в сущностном складе таких поступенных образований, а именно, что любая фантазия высшей ступени может быть переведена в прямое фантазирование того, что опосредовано сфантазировано в первой, между тем такая же свободная возможность перехода от фантазии к соответствующей перцепции вовсе не имеет места. Здесь перед спонтанной произвольностью разверзается пропасть, какую чистое Я может преодолеть, лишь переходя к сущностно новой форме реализующего действия и творчества (к чему следует причислять и произвольное галлюцинирование).[107]
§ 113. Актуальные и потенциальные полагания
Наши размышления о модификации нейтральности и о полагании влекут нас к важным продолжениям. До сих пор, говоря о «полагающем» сознании, мы понимали его очень широко, и тут необходимы дифференциации.
Различим полагание актуальное и потенциальное, а в качестве общей рубрики — все равно неизбежной — станем пользоваться «позициональным сознанием».
Различие между актуальностью и потенциальность полагания находится в близкой связи с ранее обсуждавшимися[108] различениями актуальности внимания и невнимания, однако не совпадает с таковыми. Если принимать во внимание модификацию нейтральности, то в общее различение актуальности и неактуальности в аттенциональной обращенности Я входит двойственность, или же, соответственно, в понятие речей об актуальности — двусмысленность, сущность которой нам надлежит теперь прояснить.
Модификация нейтральности выступила перед нами в контрасте между действительной верой, допущением и т. д. и своеобразно модифицированным сознанием «просто-вдумывания» в веру, допущения и т. д., говоря же коррелятивно, в контрасте между «действительно» обладанием пред собою сущим, вероятно-сущим и т. д., «действительно положенностью» такового и «не действительно положенностью» такового по способу «пребывающего в неразрешенности». С самого начала мы указывали тут и на сущностно различное отношение не-нейтрального и нейтрального сознания касательно потенциальности полагании. Из любого «действительного» сознания можно вынести множество потенциально заключенных в нем полаганий, и таковые в этом случае — действительные полагания; во всем, что разумеется действительно тетически, заложены действительные предикабилии. Нейтральное же сознание отнюдь не «содержит» в себе «действительных» предикабилии. Раскрытие такового посредством аттенциональных актуальностей, посредством обращенности к различным предикатам сознаваемого предметного — все это ведет лишь к актам сплошь нейтральным, либо же к предикатам, сплошь модифицированным. Разного рода потенциальность в сознании нейтральном и в сознании ненейтральном, примечательность того, что общая потенциальность аттенциональных обращений раскалываются надвое, нуждается теперь в более глубоком исследовании.
Размышления предпоследнего параграфа позволили нам выяснить, что любое действительное переживание как сущее в настоящем — или, как мы тоже могли бы сказать, как временное единство, конституируемое в феноменологическом сознании времени — известным образом ведет за собой свой бытийный характер — наподобие того как и само же воспринимаемое. Любому актуально настоящему переживания в идеале отвечает модификация нейтральности, а именно возможное и содержательно точно соответствующее ему настоящее фантазируемого переживания. Любое такое переживание фантазии характеризуется не как действительно сущее в настоящем, а как «как бы» сущее в настоящем. Итак, с ним дело обстоит тут весьма похоже на то, как при сравнении ноэматических данностей произвольно выбранного восприятия с данностями точно соответствующего ему фантазирования (рассмотрения в фантазии): любое воспринимаемое характеризуется как «действительно бытие в настоящем», а любое параллельно фантазируемое — как содержательно то же самое, однако наличное как «простая фантазия», как наличное «как бы» в настоящем бытие. Итак:
Изначальное сознание времени само функционирует как сознание восприятия, обладая своей противоположностью в соответствующем ему сознании фантазии.
Однако само собой разумеется, что это всеохватное сознание времени не есть непрерывное имманентное восприятие в отчетливом смысле, т. е. в смысле актуально полагающего восприятия, каковое ведь есть переживание в нашем смысле, нечто заключенное в имманентном времени, длящееся в настоящем, конституированное в сознании времени. Говоря другими словами, разумеется само собой, что переживания могли бы становиться в специфическом смысле положенными, актуально постигаемыми как сущие предметными отнюдь не в непрерывном внутреннем рефлектировании.
Среди переживаний имеются особо отмеченные рефлексии, называемые имманентными, специальнее же — имманентные восприятия, — таковые направлены на их предметы как актуально схватывающие и полагающие их бытие. Наряду с такими, среди переживаний имеются и трансцендентно направленные, равным образом полагающие бытие, — это так называемые внешние восприятия. «Восприятие» в нормальном смысле слова означает не только вообще, что какая-либо вещь является Я в своем живом и телесном настоящем и телесном настоящем присутствии, но и то, что Я примечает являющуюся вещь, схватывает и полагает ее как действительно сущую здесь. В перцептивном сознании образа нейтрализуется, согласно изложенному ранее, такая актуальность полагания бытия здесь. Будучи обращены к «образу» (не к отображаемому), мы схватываем в качестве предмета не действительное, но именно образ, фиктум. «Схватывание» обладает тут актуальностью обращения-к, но оно не есть «действительное» схватывание, а простое схватывание в модификации «как бы», полагание — это не актуальное полагание, а модифицируемое в таком «как бы».
Когда же духовный взор отвлекается от фикта, то аттенциональная актуальность нейтрализованного полагания переходит в потенциональность: образ по-прежнему является, однако он оставляется «без внимания», он не постигается в модусе «как бы». В сущности такого положения дел и его потенциальности заключены возможности актуальных обращений взгляда, однако таковые никогда не дают выступить актуальностям полагания.
Очень похоже дело обстоит тогда, когда мы сравниваем «актуальные» (не нейтральные, не действительно полагающие) воспоминания с такими, в каких воспоминаемое, — скажем, путем отведения взгляда — хотя по-прежнему и является, но уже не полагается актуально. Потенциальность полагания «все еще» являющегося означает здесь, что благодаря аттенциональной актуальности тут не только выступают вообще схватывающие cogitationes, но схватывающие исключительно «действительно», актуально полагающие. В модификации нейтральности, относящейся к воспоминаниям, т. е. просто к фантазиям, мы вновь обладаем аттенциональными потенциальностями, преобразование которых в актуальности, правда, производит «акты» (cogitationes), однако акты исключительно нейтрализованные, исключительно доксические полагания в модусе «как бы». Фантазируемое сознается не как «действительно» сущее в настоящем, прошлом или будущем, оно лишь «витает» — помимо актуальности полагания. Простое обращение взгляда не способно устранить такую нейтральность — равно как в иных случаях не способно породить актуальность полагания.
Любое восприятие — это может еще послужить нам для целей дальнейшего иллюстрирования — обладает своим задним планом воспринимания. Специально схватываемая вещь обладает своим вещным окружением — таковое перцептивно со-является, однако лишено особых полаганий существования. И такое окружение — «действительно сущее», оно сознается так, что — в смысле сущностной возможности — на нее могут направляться взгляды, полагающие актуальное бытие. Такое окружение — нечто подобное единству потенциальных полаганий. Все обстоит точно так и в воспоминании, что касается его заднего плана, а также и в восприятии или же в воспоминании, что касается его ореола из ретенций и протенций, воспоминаний о прошлом и памятований наперед, какие напрашиваются в большей или меньшей полноте, меняясь по степени своей ясности, но никогда не осуществляются в форме актуальных полаганий или тезисов. Во всех подобных случаях актуализация «потенциальных полаганий» посредством соответствующих обращений взгляда (аттенциональная актуальность) необходимо приводит ко все новым актуальным полаганиям, и это неотделимо от сущности таких положений дел. Если же теперь мы перейдем к параллельным модификациям нейтральности, то все переводится в модификацию «как бы», в том числе и сама «потенциальность». Аттенциональными задними планами обладает также — и необходимо обладает — объект-образ или объект фантазии. Вновь «задний план» — это рубрика для потенциальных обращений взгляда и «схватываний». Однако установление действительного обращения приводит здесь принципиально не к действительным полаганиям, но всегда лишь к полаганиям модифицированным.
Точно так же обстоит дело — что особо интересует нас здесь — с модальными сдвигами специфических тезисов верования (доксических пра-тезисов) с допущениями, предположениями, вопрошаниями и т. д., равно как и с отрицаниями и утверждениями. Сознаваемые в них корреляты — возможность, вероятность, небытие и т. п. — могут претерпевать доксическое полагание, а тем самым, и в то же самое время, и испытывать специфическое «опредмечивание», однако пока мы живем «в» допускании, вопрошании, отклонении, утверждении и т. п., мы не осуществляем никаких доксических пра-тезисов — хотя, правда, и совершаем иные «тезисы», в смысле необходимого обобщения этого понятия, а именно тезисы допущения, предполагания, вопрошания, отрицания и т. д. Однако в любой момент мы способны осуществить соответствующие доксические пра-тезисы: в сущности феноменологического положения дел основывается идеальная возможность актуализовать заключенные в них потенциальные тезисы.[109] Такая актуализация — если только с самого начала тут имелись актуальные тезисы, — все снова и снова приводит к актуальным тезисам как уже потенциально заключавшимся в тезисах исходных. Если же мы переводим исходные тезисы на язык нейтральности, то и потенциально тоже переводится на этот язык. Если же мы допущения, вопросы и т. п. осуществляем в простой фантазии, то все излагавшееся выше остается в силе, только с измененным знаком-индексом. Тогда нейтрализуются все доксические тезисы и модальности бытия, какие можно извлекать из первоначального акта или же ноэмы акта путем возможного обращения к ним внимания.
§ 114. Дальнейшее о потенциальности тезиса и модификации нейтральности
Различие не-нейтрального и нейтрального сознания касается, согласно проведенным анализам, не только переживания сознания в аттенциональном модусе cogito, но также и в аттенциональной неактуальности. Это различие заявляет о себе двойным поведением «задних планов» сознания при аттенциональном переводе их в «передние планы», говоря же точнее, при их преобразовании в аттенциональные актуальности, вместе с которыми первоначальное переживание переходит в доксическое cogito и даже в пра-доксу. Само собой разумеется, что таковое возможно при всех обстоятельствах, ибо от сущности любого интенционального переживания неотделима возможность «взглядывать» на свои ноэсы и на сами ноэмы, на ноэматически конституируемые предметности и на предикаты таковых — схватывать их, полагая по способу прадоксы.
Положение, как могли бы мы тоже сказать, — таково, что модификация нейтральности — это не специальная модификация, какая примыкает к актуальным тезисам — единственно действительным тезисам, — но она затрагивает фундаментально-сущностную особенность любого сознания вообще, каковая выражается в отношении к актуальной полегаемости или неполагаемости по мере прадоксы. Отсюда необходимость раскрыть таковую именно в актуальных праполаганиях и, соответственно, в претерпеваемых таковыми модификациях.
Конкретнее же, речь идет о следующем:
Сознание вообще — какого бы вида и какой формы оно ни было — все целиком пронизано радикальным размежеванием: прежде всего, как мы знаем, от любого сознания, в каком чистое Я не с самого начала живет как «осуществляющее» таковое, т. е. не с самого начала обладающее формой «cogito», неотделима возможная, по самой сущности, модификация, переводящая сознание в эту форму. В способе же осуществления сознания в пределах модуса cogito имеются две основные возможности; или же, если выразить это иначе: К любому cogito принадлежит точно соответствующая ему противоположность — принадлежит так, что ноэма его обладает точно соответствующей ей противоноэмой в параллельном cogito.
Отношение параллельных «актов» состоит в том, что один из них — «действительный акт» и cogito его — «действительное», «действительно полагающее», между тем как другой акт — это «тень» акта, cogito не настоящее, в собственном смысле, не «действительно» полагающее. Один — действительно совершает, другой же — простое отражение совершения.
Соответствует тому и радикальное различие коррелятов: по одну сторону — конституируемое ноэматическое совершение с его характеристикой немодифицированного действительного совершения, по другую — «просто мысль» о точно соответствующем совершении. Действительное и модифицированное соответствуют друг другу в идеале абсолютно точно, и все же то и другое — не одной и той же сущности. Ибо модификация переносится и на сущности: первозданной, из первоисточника, сущности отвечает ее противосущность в качестве «тени» той же самой сущности.
Естественно, что в эту образную речь, где говорится о тенях, отражениях и образах, нельзя вносить чего-либо от простой кажимости, от обманчивого мнения, потому что вместе с этим были бы ведь даны действительные акты и, соответственно, позициональные корреляты. А что касается иной подмены, какая напрашивается сама, подмены той модификации, какая обсуждается сейчас: с модификацией фантазии, которая тоже создает противоположность любому переживанию — как настоящему переживания во внутреннем сознании времени, — а именно образ такового в фантазии, то против такой подмены уже не приходится и предупреждать.
Радикальное разделение интенциональных переживаний на два класса, соотносящихся как действительность и бессильное отражение ноэматического совершения, заявляет о себе для нас здесь (когда мы исходим из области доксы) следующими фундаментальными положениями:
Любое cogito в себе самом — это либо доксическое праполагание, либо же нет. Однако в силу определенного закона, вновь неотделимого от генеральной основополагающей сущности сознания вообще, любое cogito может переводиться в доксическое праполагание. Причем весьма многообразно, а в особенности так, что любая — в самом широком смысле — «тетическая характеристика», конституируемая в ноэме этого cogito в качестве коррелята принадлежащего к cogito ноэтического «тезиса» (соответственно в самом широком смысле), претерпевает преобразование в характеристику бытия, тем самым принимая форму модальности бытия в предельно широком смысле. Таким путем характеристика «вероятно» — ноэматический коррелят предположения, причем специфически «характера акта», «тезиса» предположения как такового, — преобразуется в бытие вероятным, равно как ноэматическая характеристика «под вопросом», — специфический коррелят тезиса вопросительности — преобразуется в формы бытия под вопросом, коррелят негации — в форму небытия — сплошь формы, которые, так сказать, приобрели отпечаток актуального доксического пра-тезиса. Однако все это продолжается и дальше. У нас найдутся основания для того, чтобы распространить понятие тезиса на все сферы актов и таким образом говорить о тезисах вкуса, желания, воли с их ноэматическими коррелятами «нравится», «желательно», «практически должно» и т. п. Эти корреляты благодаря априорно возможному переводу соответствующего акта в доксический пра-тезис тоже принимают модальности бытия в до предела распространенном смысле, — так «нравится», «желательно», «должно» и т. д. обретают возможность получать предикаты, потому что в актуальном полагании праверования осознаются, как — сущее нравящимся, сущее желательным и т. д.[110] Перевод же следует в этих случаях разуметь так, что в нем сохраняется по всей ее сущности ноэма изначального переживания — если отвлечься только от модуса данности, каковой закономерно изменяется вместе с переводом. Однако этот пункт еще нуждается в дополнении.[111]
Оба случаи радикально размежеваны благодаря тому, что соответствующая прадокса — либо действительная, так сказать, действительно веруемая вера, либо же ее бессильная противоположность, просто «думать-себе» (о бытии просто как таковом, бытии возможным и т. д.).
Что же даст — само по себе — доксическое преобразование соответствующего изначального переживания, — разворачивания ли его ноэматических составов в действительные доксические праполагания или же таковые разворачиваются исключительно в доксические нейтральности, — все это абсолютно твердо предопределено сущностью соответствующего интенционального переживания. Следовательно, с самого начала в сущности любого переживания сознания предначертана твердая сумма потенциальных полаганий бытия, причем, в зависимости от того, каким образом устроено с самого начала соответствующее сознание, — это либо поле возможных действительных полаганий или же возможных нейтральных «теневых полаганий».
И вновь — сознание вообще устроено так, что оно отличается двойственностью типа: праобраз и тень, позициональное сознание и — нейтральное. Одно характеризуется тем, что его доксическая потенциальность приводит к действительно полагающим доксическим актам, другое же — тем, что оно дает выйти из себя лишь теням таковых, лишь модификациям нейтральности, однако, я полагаю, что в его ноэматическом составе вообще нет ничего доксически схватываемого, или же, что равнозначно, что оно содержит не «действительную» ноэму, а лишь противоположность таковой. И за нейтральными переживаниями остается лишь одна доксическая возможность полагания — та, что принадлежит к ним как данным имманентного сознания времени и определяет их именно как модифицированное сознание модифицированной ноэмы.
Отныне переживания «позиционально» и «нейтрально» послужат нам в качестве терминов. Любое переживание — имеет ли оно форму cogito, есть ли оно в каком-то особенном смысле акт или нет — подпадает под эту противоположность. Итак, позициональность означает не наличие или осуществление действительной позиции, этим выражается лишь известная потенциальность совершения актуально полагающих доксических актов. Однако случай, когда переживание с самого начала есть осуществленная позиция, мы введем в понятие потенциального переживания, что тем не менее предосудительно, что согласно закону сущности ко всякому осуществленному полаганию принадлежит множественность потенциальных полаганий.
Как и подтвердилось, различие позициональности и нейтральности вовсе не выражает какое-либо своеобразие, которое просто сопрягалось бы с полаганиями верования, какой-либо вид модификаций верования, вроде предполагания, вопросительности и т. п. или, в иных направлениях, принятия, отрицании, аффирмирования, стало быть, не интенциональные сдвиги прамодуса, сдвиги верования в отчетливом смысле. Такое различие и на деле, как мы это и предсказывали, есть универсальное различие сознания, различие, которое, однако, в ходе наших анализов с полным основанием является в качестве примыкающего к (специально выявленному в узкой сфере доксического cogito) различению позиционального (т. е. актуального, действительного) верования и его нейтральной противоположности (простого «думать-себе»). Тут и выступили в высшей степени примечательные и глубоко заложенные сущностные сплетения верования как характера акта и всех иных видов характеров акта, а тем самым и всех видов сознания вообще.
§ 115. Применения. Расширенное понятие акта. Совершения и копошения акта
Важно еще учесть некоторые высказывавшиеся ранее замечания.[112] Вообще cogito — это эксплицитная интенциональность. Вообще понятие интенционального переживания уже предполагает противоположность потенциальности и актуальности, причем в общем значении, — в той мере, в какой мы лишь на переходе к эксплицитному cogito и в рефлексии не эксплицированного переживания и его ноэтически-ноэматических составов в состоянии распознавать, что такое переживание таит в себе интенциональности и, соответственно, ноэмы, какие ему присущи. Так, к примеру, обстоит дело касательно сознания оставляемого без внимания, однако задним числом доступного вниманию заднего плана — в восприятии, воспоминании и т. д. Эксплицитное интенциональное переживание — это «совершаемое», «осуществляемое» «Я мыслю». Но и последнее может переходить в «несовершаемое», «неосуществляемое» путем аттенциональных сдвигов. Переживание осуществляемого восприятия, осуществляемого суждения, чувства, воления не исчезает, когда внимание «с исключительностью» обращается к чему-то новому, — от чего и зависит, что Я «живет» исключительно в новом cogito. Прежнее cogito «замирает», оно опускается во «тьму», однако его существование здесь все еще продолжается, пусть и модифицировано. Равным образом на заднем плане переживания стремятся выйти на поверхность cogitationes — то по мере воспоминания или в нейтрально модифицированном виде, а то и немодифицировано. Вот, к примеру, вера, действительная вера — она «копошится»; мы веруем — «еще прежде чем знаем». Точно также при случае живы — еще раньше, чем мы «в» них «живем», полагания того, что нравится, того, что не нравится, всяческих желаний и вожделений, даже и решений — раньше, чем мы совершим настоящее, в собственном смысле, cogito, раньше, чем Я станет «деятельным» — вынося суждения, желая, воля, решая, что нравится, а что — нет.
Итак, cogito означает на деле (таким мы это понятие с самого начала и вводили) настоящий, в собственном смысле, акт восприятия, суждения, удовольствия, и т. д. С другой же стороны, тогда, когда переживание лишено такой актуальности, все строение переживания, со всеми его тезисами и ноэматическими характерами, остается тем же, что в описанных случаях. Таким образом, более отчетливо мы различаем акты совершаемые и не совершаемые; последние — это либо «выпавшие из своего совершения» акты, либо же копошения актов. Последнее слово мы вполне можем применять и вообще для обозначения не совершаемых актов. Копошения актов переживаются вместе со всеми их интенциональностями, однако Я живет в них не как «совершающий», «осуществляющий субъект». Тем самым понятие акта расширяется в определенном смысле — без какого нам и не обойтись. Совершаемые же акты, или, как в известном аспекте (именно в том, что тут речь идет о процессах) лучше сказать, совершения, осуществления, актов составляют «занятия позиции» в самом широком смысле слова, в то время как речь о занятии позиции в отчетливом смысле указывает на фундируемые акты — так, как это конкретнее еще будет обсуждаться у нас, — к примеру, на занятие позиции ненависти, или, соответственно, на занятие позиции ненавидящим в отношении ненавистного, что со своей стороны уже конституировалось для сознания в ноэсах низшей ступени в качестве существующей личности или вещи; равным образом сюда же будут относиться и занятия позиции негации или аффирмации в отношении притязаний на бытие и т. п.
Теперь ясно, что акты в более широком смысле точно также, как и специфические cogitationes, несут в себе различения нейтральности и позициональности, что они еще и до своего преобразования в cogitationes — уже тетически совершающие, только что мы их совершения способны рассмотреть лишь благодаря актам в более узком смысле, благодаря cogitationes. Полагания и, соответственно, полагания в модусе «как бы» в этих актах более широкого смысла действительно наличны с полными ноэсами, к каким принадлежат такие полагания, — предполагая возможность идеального случая, когда вместе с преобразованием сами акты интенционально не обогащаются и вообще не изменяются каким-либо образом. Однако в любом случае мы способны исключать такие изменения (в особенности, те интенциональные обогащения и новообразования, которые наступают в потоке переживания после преобразования).
Во всех наших обсуждениях, относящихся к рубрике «нейтральность», преимущество отдавалось доксическим полаганиям. Индекс нейтральности заключался в потенциальности. Все основывалось на том, что тетический по своему характеру любой акт вообще (любая «интенция» акта, например, интенция удовольствия, интенция оценивающая, волящая, специфический характер полагания удовольствия, воли) таит в своей сущности такой характер рода «доксический тезис», какой в известных способах «покрывается» с ним. В зависимости от того, какова соответствующая интенция акта, — не нейтрализованная или нейтрализованная, таковой и заключающийся в ней доксический тезис, — каковой мыслился у нас как пра-тезис.
Отдававшееся доксическим пра-тезисам предпочтение будет ограничено в дальнейших анализах. Станет понятным, что выработанная нами сущностная закономерность требует своего более точного определения как только прежде «доксических тезисов», должны будут обретать свою значимость, заступая их место, доксические модальности (в специфическом смысле, объемлющем также и допущения). А затем уже, в рамках этого общего преимущества, получаемого доксическими модальностями вообще, доксический пра-тезис, достоверность верования, пользуется тем совершенно особенным преимуществом, что все модальности сами преобразуются в тезисы верования, так что всякая нейтральность обладает своим индексом — в особо отмеченном, сопрягаемым с npa-тезисом смысле — в доксической потенциальности. При этом более конкретное определение свое получит и тот способ, каким тетическое вообще «покрывается» доксическим.
Теперь же положения, сразу же выставленные (пусть и с некоторой неполнотой) во всей своей широчайшей всеобщности, однако доведенные до усмотрения лишь в специальных сферах актов, нуждаются в более широкой базе своего обоснования. Параллелизм ноэсиса и ноэмы мы еще не обсуждали подробно во всех интенциональных областях. И вот именно эта главная тема нашего раздела сама по себе и заставляет нас расширить границы анализа. Пока же такое расширение будет осуществляться, общие положения, выдвинутые нами относительно модификации нейтральности, будут одновременно и подтверждаться и дополняться.
§ 116. Переход к новым анализам. Фундируемые ноэсы и их ноэматические корреляты
До сей поры мы изучали, в широких, и, однако, очень ограниченных рамках, ряд всеобще происходящего в строении ноэс и ноэм, — правда, изучали в скромных масштабах, лишь постольку, поскольку требовало того определенное выделение каждого и руководившая нами цель — доставить себе общее, но притом содержательное представление о тех проблемных группах, какие ведет с собой двойная, универсальная тема, ноэсис и ноэма. Наши штудии, сколь многообразные усложнения ни вовлекали они сюда, относились только к нижнему слою потока переживаний, к которому принадлежат все еще относительно просто сложенные интенциональности. Мы — если только отвлекаться от последних, заглядывавших вперед рассуждений — предпочитали чувственные созерцания, в особенности созерцания являющихся реальностей, а равным образом и чувственные представления — те, что исходят из созерцаний посредством затемнения таковых и, само собой разумеется, объединяются с ними в одну родовую общность. Выражение «представление» одновременно и обозначало этот род. Правда, мы включали в свое рассмотрение все существенно принадлежные к ним феномены, как-то: рефлективные созерцания и представления вообще — те, предметы которых — уже не чувственные вещи.[113] Как только мы начинаем расширять рамки своего исследования, общезначимость наших результатов начинает — при том способе, каким вели мы свои изыскания, всякий раз давая почувствовать второстепенность, побочность всего того, что могло бы привязывать нас к области низшего, — напрашивается сама собою. Тут мы и видим, что все различия между центральным смысловым ядром (таковой, впрочем, еще нуждается в дальнейшем анализе) и группирующимися вокруг его тетическими характерами — повторяются, как, равным образом, повторяются и все модификации — например модификации актуализация, внимания, нейтрализации, которые задевают своими собственными способами и смысловое ядро, оставляя ему, несмотря ни на что, его «тождественное».
Теперь мы можем идти дальше по двум различным направлениям, одинаково ведущим к интенциональностям, фундируемым в представлениях, — либо в направлении ноэтических синтезов, либо же в направлении, выводящем нас наверх к нового вида «полаганиям», притом фундируемым.
Если двигаться в последнем направлении, то мы натолкнемся тут на чувствующие, вожделеющие, валящие ноэсы (поначалу наивозможно простые, т. е. свободные от синтезов на низшей или высшей ступени), — таковые фундированы в «представлениях», в восприятиях, воспоминаниях, знаковых представления и т. д. и в своем строении являют очевидные различия поступенного фундирования. Теперь для актов, какие берутся в их совокупности, мы будем повсюду предпочитать позициональные формы (отчего, однако, вовсе не обязаны исключать низшие, относительно их, нейтральные ступени), и поскольку все, что можно сказать о них, переводится — при условии подходящей модификации — в соответствующие нейтрализации. Так, для примера, эстетическое удовольствие фундируется в сознании нейтральности с перцептивным или репродуктивным содержательным наполнением, радость или скорбь — в веровании (не нейтрализованном) или же в одной из модальностей верования, воления и противоволение — как и предыдущее, но только в сопряжении с тем, что оценивается как приятное, прекрасное и т. п.
Что же интересует сейчас нас, еще до всякого вхождения в разновидности подобного строения, так это то, что вместе с новыми ноэтическими моментами и в коррелятах начинают выступать новые ноэматические моменты. С одной стороны, это новые характеристики, аналогичные модусам верования и однако, в то же самое время, сами же обладающие при своем новом содержательном наполнении доксологической положимостью; с другой же стороны, с нового типа моментами сочетаются и нового типа «постижения», конституируется новый смысл, фундируемый в смысле лежащей ниже его ноэсы и одновременно объемлющий таковой. Новый смысл вносит совершенно новое измерение смысла, вместе с ним не конституируются какие-либо новые, новоопределяемые куски просто «вещей», но конструируются ценности вещей, ценностности, и, соответственно, конкретные ценностные объективности: красота и безобразность, благость и скверность; объект пользования, художественное произведение, машина, книга, поступок, действие и т. д.
В остальном же любое полное переживание высшей ступени являет в своем полном корреляте строение подобное тому, какое мы усматривали на самой низшей ступени ноэс. В ноэме высшей ступени, скажем, оцениваемое есть, как таковое, смысловое ядро, окруженное новыми тетическими характеристиками. «Ценно», «приятно», «радостно», и т. д. — все это функционирует подобно «возможно», «предположительно» или же «ничтожно» или «да, как действительно», — хотя и нелепо было бы включать первые в ряды этих последних.
При этом сознание вновь позиционально относительно такой новой характеристики: «ценно» — это доксическая полагаемость, «ценно сущее». Принадлежное к «ценно» в качестве его характеристики «сущее» может, далее, мыслиться и модализированно, подобно любому «сущему» или «достоверному»: в таком случае сознание есть сознание возможной ценности, «вещь» в таком случае лишь предположительно ценна, или же — такое тоже возможно — она сознается как вероятно ценная, как не-ценная (что, однако, не означает «лишенная ценности» подобно дурному, безобразному и т. д., — в «не-ценном» выражается лишь перечеркивание «ценного», и не более того). Все подобные модификации задевают ценностное сознание, ноэсы оценивания не только внешне, но и внутреннее, равно как соответственно задевают и ноэмы. И вновь, как следствие, образуется многообразие глубоко заходящих изменений в форме аттенциональных модификаций, в зависимости от того, как внимающий взгляд проходит сквозь различные интенциональные слои к самой «вещи» и к вещным моментам, — в результате образуется сопринадлежная система модификаций, уже известная нам в качестве ступени нижней, а затем и к ценностным, к конституируемым определенностям высшей ступени, сквозь конституирующие ее постижения; а также и к ноэмам как таковым, к их характеристикам или же, в иного рода рефлексии, к ноэсам, — и все это во всех различных специфических модусах замечающего внимания, замечания между прочим, не-замечания и т. п.
Необходимо проводить чрезвычайно трудные разыскания, чтобы аккуратно размежевывать все эти сложные структуры, доводя их до полной ясности, — как, например, соотносятся «ценностные постижения» с вещными постижениями, новые ноэматические характеристики («хорошо», «красиво» и т. д.) — с модальностями верования, как они систематически упорядочиваются в ряды и виды, и т. д. и т. д.
§ 117. Фундируемые тезисы и завершение учения о модификации нейтрализации. Общее понятие тезиса
Теперь же мы еще поразмыслим над отношением новых ноэтических и ноэматических слоев сознания к нейтрализации. Эту последнюю модификацию мы сопрягали с доксической позициональностью. В чем легко убедиться, доксическая позициональность на деле играет в тех слоях, что вычленены теперь нами, ту самую роль, какую уделили мы ей наперед в самой широкой сфере актов, обсудив таковую специально в сфере модальностей суждения. В сознании предполагания позиционально «заключено» «предположительно», «вероятно», как — точно так же — в сознании удовольствия «приятно», в сознании радости — «радостно» и т. д. «Заключено» — это значит доступно доксическому полаганию, а потому может получать предикаты. Согласно этому всякое сознание душевного с его нового типа фундируемыми ноэсами подпадает под понятие позиционального сознания, каким обработали мы для себя это понятие — в сопряженности его с доксическими потенциальностями, а напоследок и с позициональными достоверностями.
Однако, присмотревшись пристальнее, мы должны будем признать, что сопрягание модификации нейтральности с доксической потенциальностью, сколь бы важные усмотрения ни лежали в основе ее, известным образом все же представляет собою окольный путь.
Давайте уясним себе поначалу, что акты удовольствия — все равно, «осуществляемые» или нет, — равно как акты душевного и акты воли любого типа — это именно «акты», «интенциональные переживания» и что от них неотделима «intentio», «занятие позиции», или же, выражая это иначе, все это в предельно широком смысле слова «полагания», но только именно не доксические. Выше мы как-то на ходу вполне корректно говорили о том, что характеристики актов — это вообще «тезисы», — тезисы в расширенном смысле, которые лишь в особенных случаях бывают тезисами верования или модальностями таковых. Очевидна сущностная аналогия специфических ноэс удовольствия с полаганиями верования, равно как аналогия ноэс желания, ноэм желания и т. д. И в оценивании, желании, волении нечто «полагается» — отвлекаясь от той доксической позициональности, какая во всем этом «заключена». Ведь и это — тоже источник любых параллелей, проводимых между различными видами сознания и различными классификациями — классифицировали всегда, собственно говоря, виды полагания. К сущности любого интенционального переживания, что бы ни обреталось в его конкретном составе, принадлежит обладание по меньшей мере одним, как правило же, несколькими, связываемыми по способу фундирования, «характеристиками полагания», «тезисами» — в такой множественности затем с необходимостью одна из них, — так сказать, архонтическая, что объединяет всех их в себе и правит в них.
Наивысшее единство рода, связующее все эти специфические «характеры актов», «полаганий», не исключает сущностных и родовых различений. Так все полагания душевного как полагания родственные полаганиям доксическим, однако далеко не столь тесно, как любые модальности верования. Вместе с родовой сущностной общностью всех характеристик полагания дана родовая сущностная общность всех их ноэматических коррелятов полагания («тетических характеристик в ноэматическом смысле»), и если брать последние вместе с их далее следующими ноэматическими подосновами, тогда ео ipso дана сущностная общность всех «положенностей» вообще. А в этой последней в конечном счете основываются всегда ощущавшиеся аналогии всеобщей логики, всеобщего учения о ценностях и этики, — таковые, прослеживаемые до своих предельных глубин, ведут к конституированию всеобщих параллельных дисциплин формального свойства — формальной логики, формальной аксиологии и практики.[114]
Итак, мы снова подводимся к обобщенной рубрике «тезис», и теперь мы сопрягаем с ней следующее положение:
Любое сознание — «тетично»: либо актуально, либо потенциально. Прежнее понятие «актуального полагания», а вместе с ним и понятие позициональности претерпевает соответствующее свое расширение. В этом же заключено: наше учение о нейтрализации и сопряженности таковой с позициональностью переносится на расширенное понятие тезиса. Итак, тетическому сознанию вообще — все равно, осуществленному или нет, принадлежит всеобщая модификация, какую назовем нейтрализующей, причем принадлежит она ему прямо, следующим образом. С одной стороны, мы характеризовали позициональные тезисы так — они либо тезисы актуальные, либо же переводимые в таковые, в согласии с чем они действительно обладают ноэмами, какие дозволяют свое «действительное» полагание — они актуально положимы в расширенном смысле. Им противостоят ненастоящие, в несобственном смысле, «как 6ы»-тезисы, бессильные отражения, не способные вбирать в себя какие бы то ни было относящиеся к их — к их именно нейтрализованным ноэмам актуально-тетические совершения. Различие нейтральности и позициональности — это различие параллельное: ноэтическое и ноэматическое, оно прямо, как это и понимается сейчас, касается всех разновидностей тетических характеристик — прямо, без всякого обходного пути через «позиции» в узком и единственно употребимом смысле доксических праполаганий, — т. е., через то, где различие только и может выявить себя.
Но это говорит о том, что у предпочтения, отдаваемого таким специальным доксическим полаганиям, — глубокий фундамент в самих вещах. Согласно нашим анализам как раз доксические модальности, а среди таковых в особенности доксический пра-тезис — пра-тезис достоверности верования, — обладает единственным в своем роде преимуществом, — его позициональная потенциальность объемлет всю сферу сознания. По закону сущности любой тезис, к какому бы роду он ни относился, может, в силу доксических характеристик, неотменимым, неснимаемым образом принадлежных к нему, преобразовываться в актуальное доксическое полагание. Позициональный акт полагает, однако, в каком бы качестве он ни полагал, он полагает и доксически: что бы ни полагалось им в иных модусах, вместе с тем положено и как сущее — но только не актуально. Актуальность же может быть порождена по мере сущности способом принципиально возможной «операции». Любое «предложение», например, любое предложение пожелания может быть преобразовано в доксическое предложение, а тогда оно двояко в одном — одновременно и доксическое предложение и предложение пожелания.
При этом сущностная закономерность, как уже указывали мы и выше, первым делом состоит в том, что преимущество доксического, собственно говоря, всеобщим образом касается доксических модальностей. Ибо любое переживание душевного, любое оценивание, желание, воление в себе самом характеризуется либо как достоверность, либо как предположительность, либо как предполагающее и сомневающееся оценивание, желание, воление. При этом, к примеру, ценность, если наша установка не направлена на доксические модальности полагания, отнюдь не полагается в своем доксическом характере. Ценность сознается в оценивании, приятное в приятствовании, радостное в радовании, однако иной раз, что мы, оценивая, бываем не вполне «уверены», или же так, что вещь либо предполагается ценной, либо она вероятно ценна — так что, оценивая, мы еще не готовы стать на ее сторону. Живя в подобных модификациях оценивающего сознания, мы не нуждаемся в том, чтобы установка наша направлялась на доксическое. Однако мы можем в том нуждаться — так, если мы живем в тезисе предположенности и потом перейдем к соответствующему тезису верования, каковой получит тогда, предикативно постигнутую, такую форму: «Эта вещь, должно быть, ценная» — или же, при обращении к ноэтической стороне и к оценивающему Я: «Вещь представляется мне ценной (быть может, и ценной)». Это же значимо и для других модальностей.
Таким путем во всех тетических характерах скрываются доксические, а если модус — достоверность, то и доксические пра-тезисы: все они по своему ноэматическому смыслу покрываются тетическими характерами. Поскольку, однако, таковое значимо и для доксических сдвигов, то в каждом акте — но только уже без совпадения в ноэматическом — заложены доксические пра-тезисы.
Мы можем, стало быть, сказать и так: любой акт и, соответственно, любой коррелят акта таят в себе «логическое» — эксплицитно или имплицитно. Акт всегда возможно логически эксплицировать — именно в силу той всеобщности (по мере сущности), с какой ноэтический слой «акт выражения» льнет ко всему ноэтическому (и, соответственно, слой выражения — ко всему ноэматическому). При этом очевидно, что с переходом в модификацию нейтральности нейтрализуется как само выражение, так и его выраженное как таковое.
Из всего этого следует, как итог, что все акты вообще — тоже и акты душевного, и акты воли — суть акты «объективирующие», изначально «конституирующие» свои предметы, — необходимые источники различных регионов бытия, а тем самым и принадлежащих к таковым онтологии. Пример: оценивающее сознание конституирует новую — по сравнению с прошлым миром вещей — «аксиологическую» предметность, нечто «сущее» и нового региона, — постольку, поскольку именно через посредство оценивающего сознания вообще предначертываются, в качестве идеальных возможностей, актуальные доксические темы, каковые вычленяют — как «разумеемые» оценивающим сознанием — нового содержательного наполнения предметности — ценности. В акте душевного таковые разумеются по мере душевности и посредством актуализации доксического наполнения этих актов они обретают свою доксическую, а в дальнейшем и логически эксплицированную подразумеваемость.
Любое сознание акта, осуществляемое недоксически, таким образом есть сознание потенциально объективирующее; только доксическое cogito совершает актуальную объективацию.
Вот где глубочайший из источников, какие способны просветить нас относительно универсальности логического, наконец же и предикативного суждения (куда присоединим и конкретнее еще не обсуждавшийся у нас слой выражения по мере значения), и отсюда понятно и самое последнее основания универсальности господства самой логики. В дальнейшем же понятна и возможность, даже и необходимость сущностно сопрягающихся с интенциональностью душевного и волевого формальных и материальных ноэтических и, соответственно, ноэматических и онтологических дисциплин. Позже мы подхватим эту тему, дабы удостовериться в некоторых дополнительных выводах.[115]
§ 118. Синтезы сознания. Синтактические формы
Если же мы направим теперь свое внимание на второе из указанных выше направлений, на формы синетического сознания, то в наш горизонт вступят многообразные способы образования переживаний путем интенциональных сцеплений, способы, которые, как сущностные возможности, отчасти принадлежат ко всем интенциональным переживаниям вообще, отчасти же к своеобразию особенных родов таковых. Сознание и сознание не просто связываются между собой, но они связываются между собой в одно сознание, коррелят которого — одна ноэма, в свою очередь фундируемая в ноэмах связанных между собою ноэс.
Сейчас мы направили свой взор не на единство имманентного сознания времени — хотя должно вспомнить и о таковом как о всеобъемлющем единстве всех переживаний в одном потоке переживания, причем как о единстве сознания, что связывает сознание и сознание. Если мы возьмем какое-либо отдельное переживание, то таковое конституируется как простершееся в феноменологическом времени единство в пределах непрерывного «изначального» сознания времени. При подходящей рефлективной установке мы можем направлять внимание на способ данности (по мере сознания) отрезков переживания, принадлежащих к известным отрезкам длительности переживания, а после этого говорить, что все сознание в целом, непрерывно-континуально конституирующее из отрезков все это единство длящегося, непрерывно-континуально компонуется из отрезков, в каких конституируются отрезки длительности переживания, и что тем самым ноэ-сы не только соединяются, но и конституируют одну ноэсу с одной поэмой (исполненной длительностью переживания), каковая фундированна в ноэмах соединенных между собою ноэс. Значимое для отдельного переживания значимо и для всего потока переживания. Сколь бы чужды одно другому ни были переживания в сущности, они в своей совокупности конституируются как один поток времени, как звенья одного феноменологического времени.
Между тем мы ведь в явном виде исключили выше такой прасинтез изначального сознания времени (его не следует мыслить как активный и дискретный синтез) вместе со всей принадлежной сюда проблематикой. Поэтому сейчас мы намерены говорить о синтезах не в рамках такого сознания времени, но в рамках самого времени — конкретно исполняемого феноменологического времени или, что то же самое, о синтезах переживаний попросту вообще, взятых так, как брали мы их до сих пор, — как длящиеся единства, как протекающие события в потоке переживаний, в потоке, который и сам есть не что иное, как исполненное феноменологическое время. С другой же стороны, мы вовсе не будем входить в разбирательство безусловно чрезвычайно важных непрерывных синтезов, каковые, например, сущностно принадлежат к любому сознанию, что конституирует пространственную вещность. Позднее у нас будет достаточно возможностей для того, чтобы ближе узнать такие синтезы. А сейчас мы свой интерес обратим, напротив, к почлененным синтезам, т. е. к тем своеобразным способам, какими дискретные, отделенные друг от друга акты связываются в почлененное единство, в единство синтетического акта высшей ступени. Мы не говорим об «акте высшего порядка»[116] в применение к континуально-непрерывному синтезу, а единство (как ноэтически, так и ноэматически и предметно) принадлежит к той же ступени порядка, что и объединяемое. В остальном же легко можно видеть, что многое из того общего, что будет изложено у нас в дальнейшем, равным образом верно и для континуально-непрерывных, как и для почлененных — политетических — синтезов.
Примеры синтетических актов высшей ступени дают нам — в сфере воли сопрягающее воление «ради иного», в кругу актов чувствования — сопрягающее удовольствие, радование «с учетом…», или же, как мы тоже говорим, «ради иного». И все прочее подобным же образом происходящее в актах различных родов акта. Очевидно, и акты предпочтения тоже принадлежат сюда же.
Ближайшему рассмотрению подвергнем и другую, в известном виде универсальную группу синтезов. Таковая объемлет синтезы — коллигирующие (собирающие), дизъюнгирующие (направленные на «это или то»), эксплицирующие, сопрягающие, — вообще говоря, целый ряд синтезов, каковые определяют формально-онтологические формы согласно чистым формам конституирующихся в них синетических предметностей, с другой же стороны, что касается строения ноэматических образований, отражаются в апофантических формах значения формальной логики (логики предложений, сориентированной исключительно ноэматически).
Сопряженность с формальными онтологией и логикой уже показывает нам, что речь идет тут о сущностно замкнутой группе синтезов, каким подобает безусловная всеобщность возможного применения, что касается видов связываемых переживаний, какие со своей стороны тоже, следовательно, могут быть сколь угодно комплексными ноэтическими единствами.
§ 119. Преобразование актов политетических в монотетические
Для всех видов почлененных синтезов, политетических актов первым делом следует принимать во внимание следующее:
Любое синтетически-единое сознание, сколь бы много особенных тезисов и синтезов ни было включено в него, обладает принадлежным ему как синтетически-единому сознанию совокупным предметом. Совокупным же таковой именуется в противоположность предметам, какие интенционально принадлежат к синтетическим звеньям более низкой или более высокой ступени — постольку, поскольку и таковые вносят свой вклад в него по способу фундировния и включаются в его порядок. Любая своеобразная, отграничивающаяся ноэса, пусть даже и не самостоятельная, вносит свое в конституирование совокупного предмета, — так, например, момент оценивания — несамостоятельный, поскольку необходимо фундированный сознанием вещи, — конституирует предметный слой ценности — слой «ценностности».
Такие же новые слои — и специфически синтетические из общего числа названных выше наиболее универсальных синтезов сознания, т. е. все те формы, происходящие из синтетического сознания как такового, стало быть, формы связывания и синтетические формы, какие держатся самих членов, звеньев (коль скоро таковые включены в синтез).
В синтетическом сознании, говорили мы, конституируется синтетический совокупный предмет. Однако «предметен» он в таком сознании в совсем ином смысле, нежели конституируемое простого тезиса. Синтетическое сознание и, соответственно, чистое Я «в» таковом направляются на свое предметное многими лучами, просто тетическое сознание — одним лучом. Так, синтетическое коллигирование — это сознание «плюральное»: берется вместе одно, и еще одно, и еще одно. Равным образом сопряжение в первоначально сопрягающем сознании конституируется в двойном полагании. Подобно этому и повсюду.
К любой из таких конституируемых многими лучами (политетических) синтетических предметностей — по их сущности они «изначально» могут сознаваться лишь синтетически — принадлежит сущностно-закономерная возможность превращать сознаваемое под многими лучами в просто сознаваемое в одном луче, синтетически конституируемое в первом — «опредмечивать», в специфическом смысле, в «монотетическом» акте.
Так становится предметной в особо отмеченном смысле синтетически конструируемая коллекция, она становится предметом простого доксического тезиса посредством обратного сопряжения простого тезиса с вот только что изначально конституируемой коллекцией — становится путем своеобразного ноэтического примыкания какого-либо тезиса к синтезу. Иными словами: плюральное сознание может переводиться, по мере сущности, в сознание сингулярное, каковое изымает из первого множественность — как один предмет, как отдельное; такая множественность может теперь в свою очередь сочетаться с другими множественностями и прочими предметами, может полагаться в сопряжение с таковыми и т. д.
Очевидно, что все обстоит точно так же и для построенного совершенно аналогично сознанию коллигирующему сознания дизъюнгирующего и его онтических и, соответственно, ноэматических коррелятов. Точно также путем примыкающего простого тезиса из сопрягающего сознания может изыматься синтетически-изначально конституируемая сопряженность, делаемая тогда предметом в отмеченном смысле, — таковая может затем сравниваться с другими сопряженностями, вообще применяться в качестве субъекта предикатов.
Но при этом необходимо доводить до полной очевидности то, что просто опредмечиваемое и синтетически единое — это действительно одно и то же и что последующий тезис и, соответственно, изымание не припишут ничего лишнего синтетическому сознанию, а будут схватывать то, что оно даст. Правда, столь же очевиден и существенно отличный способ данности. В логике такая закономерность заявляет о себе законом «номинализации», согласно которому любому предложению и любой различимой в таковом частной форме соответствует нечто номинальное: самому предложению, — пусть то будет «S есть Р», — номинальное предложение-что, например, место субъекта в новых предложениях вместо «есть Р» занимает быть-Р, место отношения «сходно» занимает сходность, место множественного числа — множественность и т. д.[117]
Проистекающие из «номинализации» понятия, мыслимые как исключительно определяемые чистыми формами, составляют формально-категориальные сдвиги претворения идеи предметности вообще и поставляют фундаментальный понятийный материал для формальной онтологии, и — заключенные в нем — все формально-математические дисциплины. Это положение — решающей важности для уразумения отношения между формальной логикой как логикой апофансиса и универсальной формальной онтологией.
§ 120. Позициональность и нейтральность в сфере синтезов
Все настоящие, в собственном смысле, синтезы, — а таковые мы постоянно сохраняли во взгляде, — надстраиваются над простыми тезисами, если слово это разуметь в зафиксированном выше общем смысле, охватывающем все интенции, все «характеры акта»; сами же синтезы — они суть тезисы, тезисы высшей ступени.[118] В согласии с этим все наши констатации относительно актуальности и неактуальности, нейтральности и позициональности переносятся — это не требует пояснений — на синтезы.
Напротив того более конкретное исследование было бы необходимо сейчас для того, чтобы мы могли констатировать, какими — различными — способами позициональность и нейтральность фундирующих тезисов относится к фундируемым тезисам.
Вообще говоря, ясно, что не только в отношении лишь специальных фундируемых актов, какие мы называем синтезами, нельзя просто так сказать — позициональный тезис высшей ступени предполагает сплошь позициональные тезисы низших ступеней. Вот ведь актуальное узрение сущности — это акт позициональный, а не нейтрализованный, он фундирован в каком-нибудь экземплярно созерцающем сознании, которое со своей стороны вполне может быть и сознанием нейтральным, и сознанием фантазии. Подобное значимо и относительно эстетического удовольствия, что касается являющегося объекта удовольствия, и относительно позиционального сознания отображения, что касается отображающего «образа».
Если же мы теперь станем рассматривать интересующую нас группу синтезов, то мы сейчас же поймем, что в ней любой синтез зависим по своему позициональному характеру от характера фундирующих ноэс, точнее же — что он позиционален (и только и может быть такой), когда позициональны все ее низшие тезисы, и нейтрален, когда таковые не позициональны.
Так, например, коллигирование — либо действительно таково, либо же таково в модусе «как бы», оно действительно или же нейтрализованно тетично. В первом случае все сопрягаемые с отдельными звеньями коллекции акты суть действительные тезисы, во втором — нет. Точно так дело обстоит и со всеми прочими синтезами отражающегося в логических синтаксисах класса. Чистая же нейтральность никогда не может функционировать вместо позициональных синтезов, она должна по меньшей мере испытать преобразование в «пред-положенности», скажем, в гипотетические продосисы или аподосисы, в гипотетически пред-полагаемые номинальные формы типа «Псевдо-Дионисий» и т. п.
§ 121. Доксические синтаксисы в сфере душевного и волевого
Если спросить теперь, каким же образом синтезы этой группы способны выражаться в синтактических формах высказываний — тех, какие систематически разворачивает логическое учение о форме предложений, — то ответ не вызывает никаких сомнений. Ведь все это — так можно будет сказать — как раз не что иное, как доксические синтезы, или же, как можно даже говорить, вспоминая те логико-грамматические синтезы, в каких они запечатлеваются, — доксические синтаксисы. От специфической сущности доксических актов неотделимы такие синтаксисы с «и» и, соответственно, формами множественного числа и синтаксисы с «или», синтаксисы сопрягающего полагания какого-либо предиката на основе полагания субъекта и т. д. Никто не станет сомневаться в том, что «верование» и «суждение» в логическом смысле близки и сопринадлежны (если только не угодно их отождествлять), что синтезы верования находят свое выражение в формах высказываний. И это верно, однако нужно усмотреть и то, что описанное постижение не схватывает всей истины. Такие синтезы — синтезы «и», «или», «если» или же «потому что» и «так», — короче говоря, все синтезы, дающие себя первым делом доксически, — они не только, не просто доксические.
Фундаментальный факт[119] — такие синтезы принадлежат и к собственной сущности недоксических тезисов, притом в следующем смысле.
Несомненно имеется нечто подобное коллективной радости, коллективному удовольствию, коллективному волению и т. д. Или, как я обычно это выражаю, наряду с «и» доксическим (логическим) существует «и» аксиологическое и практическое. Это же значимо относительно «или» и всех относящихся сюда синтезов. Пример: мать, с любовью взирающая на окружающих ее детей, обнимает единым актом любви каждое дитя по отдельности и всех их вместе. Единство коллективного акта любви — это не любовь плюс коллективное представление, пусть даже последнее и причислялось бы к любви в качестве необходимой подосновы. Нет, сама такая любовь коллективна, она точно так же — со многими лучами, как и «под-лежащее» представление и, при возможных обстоятельствах, плюральное суждение. Можно прямо говорить о плюральной любви, точно в том самом смысле, как говорят о плюральном представлении и, соответственно, суждении. Синтактические формы входят в самую сущность актов душевного, а именно в специфически присущий им тетический слой. Сейчас это невозможно провести относительно всех синтезов, так что данного примера довольно в качестве указания.
Теперь же припомним исследованное выше сущностное сродство тезисов доксических и тезисов вообще. В любом тезисе вообще — в согласии с тем, что совершает он, скажем, в качестве вот этой интенции любви, — скрыт параллельный логический тезис. Очевидно, параллелизм принадлежных к сфере доксических тезисов синтаксисов и синтаксисов иных, принадлежных к другим тезисам, — параллелизм логического «и», «или» и т. д. и ценностного, волевого — это особенный случай того же самого сущностного сродства. Ибо синтетические акты душевного, а именно акты синтетические относительно обсуждаемых сейчас синтактических форм, конституируют синтетические предметы душевного, каковые через посредство соответствующих доксических актов достигают своей эксплицитной объективации. Стайка любимых детей в качестве объекта любви — это коллективум; сказанное означает, если перенести изъясненное выше на коррелятив, — не вещный коллективум плюс любовь, а коллективум любви. Подобно тому как в ноэтическом аспекте луч любви, исходящий от Я, разделяется на пучок лучей, из которых каждый направляется к отдельному объекту, так на коллективум любви распределяется ровно столько ноэматических характеров любви, сколько коллигировано тут предметов, и тут ровно столько же позициональных характеров, сколько синтетически связывается в ноэматическое единство одного позиционального характера.
Мы видим, что все эти синтактические формы — формы параллельные, т. е. что они могут принадлежать как самим актам душевного с их специфическими компонентами душевного и синтезами такового, так и параллельным первым, сущностно единым с ними доксическим позициональностям, каковые можно извлекать из них путем подходящего обращения взгляда на соответствующие нижние и верхние ступени. Естественно, все с ноэтической переносится на ноэматическую сферу. Аксиологическое «и» сущностно таит в себе «и» доксическое, любая аксиологическая синтактическая форма рассмотренной сейчас группы — форму логическую, — точь-в-точь так, как любой простой ноэматический коррелят заключает в себе либо «сущее», либо какую-либо иную модальность бытия, а в качестве своего субстрата — форму «нечто» и иные принадлежные модальности формы. Сложить из акта душевности, в каком мы, так сказать, лишь душевно живем, стало быть не актуализуем доксические потенциальности, акт новый, в каком предметность душевного, поначалу лишь потенциональная, преобразуется в актуальную, доксически, а при обстоятельствах, возможно, и в явной форме эксплицированную, — это всякий раз дело особенных, возможных по мере сущности поворотов взгляда и заключенных в таковых тетических и тетически-доксических процедур. При этом возможно, а в эмпирической жизни это и вполне обычно, что мы, к примеру, смотрим сразу же на несколько наглядных предметов, доксически их полагая, что мы одновременно с этим совершаем синтетический акт душевного, — скажем, осуществляем единство коллективного удовольствия, или осуществляющего выбор акта душевного, акта удовольствия, осуществляющего предпочтение, акта неудовольствия, нечто отодвигающего вглубь — при этом мы вовсе даже и не переходим к тому, чтобы доксически поворачивать весь феномен в целом. Зато это последнее мы делаем — тогда, когда делаем определенное высказывание, к примеру, выражая свое удовольствие некоей множественности, или чем-то одним из такой множественности, или предпочтительностью одного по сравнению с другим и т. д. Не приходится подчеркивать, сколь важно тщательное проведение таких анализов для познания сущности аксиологических и практических предметностей, значений и способов сознания, следовательно для проблем «истока» этических, эстетических и иных сущностно-родственных им понятий и выводов.
Поскольку же сейчас наша задача, собственно, вовсе не в том, чтобы решать феноменологические проблемы, а в том, чтобы научно вычленять главные проблемы феноменологии и, соответственно, предначертывать взаимозависящие с таковыми направления исследований, то для нас сейчас довольно того, чтобы мы довели все вещи до этого места.
§ 122. Модусы совершения артикулируемых синтезов. «Тема»
К царству тезисов и синтезов принадлежит важная группа общих модификаций, краткое обсуждение которых, с общими указаниями, лучше всего поместить сразу же сюда.
Синтез может совершаться шаг за шагом — он становится, он возникает в изначальном продуцировании. Такая первозданность становления в потоке сознания весьма своеобразна. Тезис и синтез становятся — в то время как чистое Я делает свой шаг, и в то время как оно актуально делает каждый свой шаг; само же Я живет в своем шаге — оно «вы-ступает» вместе с каждым таковым. Полагать, предполагать, сополагать и располагать — все это вольная спонтанность, активность чистого Я; в своих тезисах Я живет не как пассивное внутри-бытие, — нет, тезисы — это излучения изнутри его как праисточника порождений. Любой тезис начинается с точки включения — с точечного полагания истока — так тезис первый, так и любой последующий. Подобное «полагающее включение» именно неотъемлемо от тезиса как такового — примечательный модус изначальной актуальности. Оно — словно полагающая точка включения воления и действования.
Однако общее нельзя смешивать с особенным. Спонтанная решимость, волевое, приводящее в исполнение, действование — это акт среди актов, один акт наряду с другими, его синтезы — особенные среди других. Однако любой акт, все равно какого вида, может возникать в этом модусе спонтанности, так сказать, творческого зачина, в каком чистое Я обладает своим выходом — выступлением в качестве субъекта спонтанности.
Такой модус включающегося полагания немедленно, причем согласно сущностной необходимости, переходит в иной модус. Так, например, воспринимающее схватывание-постижение немедленно и без запинки претворяется в «схваченность» того, что у нас в руках.
Сюда же примыкает еще и иное модальное изменение — тогда, когда тезис был лишь шагом к синтезу, а чистое Я осуществляет новый шаг и теперь, в сплошном единстве синтетического сознания, продолжает «еще» «держать в руках» то, что оно вот только что «схватило», — оно схватывает и новый тематический объект или, лучше сказать, схватывает в качестве первичной темы новое звено совокупной темы, однако не расстается и со звеном, схваченным прежде того, коль скоро таковое тоже принадлежно к этой самой совокупной теме. Пример: коллигируя, я не отпускаю от себя вот только схваченное в восприятии, хотя и обращаю свой схватывающий взгляд к новому объекту. Осуществляя доказательство, я шаг за шагом пробегаю все предварительные допущения, не отказываюсь ни от одного синтетического шага, не выпускаю из рук уже полученного много, — однако с совершением новой тематической праактуальности модус актуальности уже существенно переменился.
Тут речь идет в том числе и о затемнениях, однако отнюдь не только о них. Напротив, те различия, какие мы только что пытались описывать, представляют собою совершенно новое измерение по сравнению с различиями ясности и неясности, хотя и одни, и другие тесно переплетаются друг с другом.
Далее, нам следует обратить внимание на то, что новые различения в не меньшей мере, нежели различия по ясности и все прочие интенциональные различия, подчиняются закону корреляции ноэсиса и ноэмы. Итак, вновь ноэтическим модификациям актуальности принадлежного сюда вида соответствуют модификации ноэматические. Т. е. способ данности «подразумеваемого как такового» изменяется со сдвигами тезиса и, соответственно, с шагами синтезирования, и такие изменения можно, раскрывать на соответствующем ноэматическом содержательном наполнении, вычленяя их в нем в качестве особенного слоя.
Если же модус актуальности (говоря ноэматически — модус данности) необходимо сдвигается, проходя — если отвлечься от гладко-непрерывных изменений — известными дискретными типами, то все равно всегда сквозь все сдвиги проходит и нечто сущностно общее. Ноэматически — в качестве тождественного смысла сохраняется некое «что»; на стороне же ноэтической — коррелят такого смысла, и помимо этого и вся форма артикуляции по тезисам и синтезам.
А тогда получается новая сущностная модификация. Чистое Я может полностью выйти из своих тезисов, оно выпускает из «рук» тетические корреляты и «обращается к другой теме». То самое, что вот только было его темой (теоретической, аксиологической и т. д.) — вместе со всеми пусть и более или менее затемненными артикуляциями, теперь не исчезло из сознания, все еще сознается, однако уже не в тематическом схватывании.
Это значимо и для отдельных тезисов и для звеньев синтезов. Вот я размышляю о только что написанном, и тут свист с улицы на мгновение отвлекает меня от моей темы (в этом случае — мыслительной темы). Мгновение обращенности к звуку, но вскоре же возврат к прежней теме. Схватывание звука не стерлось, свист — в модифицированном виде — еще сознается, но только уже не в его схватывании духом. Он не относится к теме — не относится и к параллельной теме. Всякий тут заметит, что подобная возможность одновременных тем и тематических синтезов — по обстоятельствам они могут пролагать себе путь и вторгаться как помехи — указывает еще и на возможность дальнейшей модификации, отчего рубрика «тема», сопрягаемая со всеми фундаментальными видами актов и синтезов таковых, составляет важную тему феноменологических анализов.
§ 123. Запутанность и отчетливость как модусы совершения синтетических актов
Теперь рассмотрим еще модальности совершения, которые, так сказать, располагаются в противоположном направлении от того модуса, какому отдавалось у нас предпочтение, — от модуса пра-истекающей актуальности. Мысль — простая или же снабженная многообразными тезисами — может выплывать на поверхность как «путанная». Тогда она дает себя как простое представление без какой-либо актуально-тетической артикуляции. Вот мы припоминаем какое-то доказательство, теорию, беседу — они «приходят нам на ум». При этом мы поначалу вовсе не обращены к ним, они выплывают наружу где-то на «заднем плане». Затем взгляд Я своим лучом направляется на такую мысль, своим непочлененным схватыванием постигая соответствующую ноэматическую предметность. Тогда может включиться новый процесс, и путанное воспоминание перейдет в отчетливое и ясное: шаг за шагом мы припомним ход доказательства, «вновь» породим тезисы и синтезы доказательства, «вновь» пройдем всеми стадиями вчерашней беседы и т. п. Естественно, несущественно то, что это — репродуцирование по способу воспоминания, порождения — наново — «более ранних» первозданных порождений. И новое теоретическое наитие, касающееся проведения сложной теории, мы получаем сначала в путанно-нерасчленном виде, потом, вольно-спонтанно совершаемым шагами, разворачиваем его, преобразуя в синтетические актуальности. Само собой разумеется, что все указанное сейчас равным образом сопрягается со всеми разновидностями актов.
Это важное различение запутанности и отчетливости играет важную роль в феноменологии «выражений», экплицированных представлений, суждений, актов душевного и т. д., какие предстоит еще обсуждать в дальнейшем. Достаточно подумать только о том, каким образом мы обыкновенно схватываем в любом случае чрезвычайно сложные синтетические образования, какие составляют «мыслительное содержание» нашего чтения, после чего стоит поразмыслить над тем, что же в уразумении прочитываемого достигает действительно первозданной актуализации, относительно этой так называемой мыслительной подосновы выражений.
§ 124. Ноэтически-ноэматический слой «логоса». Означивание и значение
Со всеми рассмотренными выше актами сплетаются выражающие — в специфическом смысле «логические» слои актов, относительно которых тоже необходимо убедительно прояснить параллелизм ноэсиса и ноэмы. Всеобщая, неизбежная двусмысленность речей, обусловленная таким параллелизмом и проявляющая свою действенность всюду, где обсуждаются соответствующие отношения, — она, естественно, сказывается и в речах о выражении и значении. Эта двусмысленность опасна лишь до тех пор, пока она не познана как таковая и, соответственно, не разграничены параллельные структуры. Но если это уже произошло, то следует лишь позаботиться о том, чтобы во всех конкретных случаях оставалось несомненным, с которой из двух структур сопрягается речь.
Мы начнем с известного различения чувственной, — так сказать, — телесной стороны выражения и его нечувственной, «духовной» стороны. Пускаться в ближайшие разъяснения первой нам не приходится — точно так же, как и способа, каким единятся обе стороны. Само собой разумеется, что и всем этим обозначаются рубрики довольно важных феноменологических проблем.
Мы же будем устремлять свой взор исключительно на «означивание» и «значение». Первоначально оба эти слова сопряжены со сферой языка, со сферой, в которой что-либо «выражается». Однако почти неизбежный и одновременно важный шаг состоит в расширении и подходящей модификации значения этих слов, вследствие чего они известным образом находят применение во всей ноэтически-ноэматической сфере, — следовательно, применяются ко всем актам, сплетены таковые с актами выражения или же нет.[120]Так и мы, рассуждая об интенциональных переживаниях любого рода постоянно говорили о «смысле» — слово, какое в общем и целом применяют как равнозначное «значению». В целях отчетливости мы намерены отдавать предпочтение слову «значение», когда речь пойдет о прежнем понятии, особенно в комплексных словах «логическое» или «выражающее» значение. Словом же «смысл» мы будем, как и прежде, пользоваться, разумея его шире.
Пусть, чтобы начать с примера, здесь присутствует предмет, с определенным смыслом, монотетически полагаемый в определенной полноте. Мы — как это нормальным образом и происходит, без запинок присоединяясь к первому, простому схватыванию восприятия — осуществим экспликацию данного и сопрягающее отождествление вычлененных частей или моментов, — скажем, по схеме «Это — белое». Такой процесс не требует ни малейшего «выражения» — ни выражения в смысле гласящих слов, ни выражения в смысле, сколь-нибудь подобном словесному означиванию, — каковое последнее может ведь наличествовать и вполне независимо от гласящих слов, если бы, к примеру, таковые были бы «забыты». Однако, если только мы «помыслили» или высказали — «Это — белое», — вместе с тем возник новый слой, нераздельный с «подразумеваемым как таковым» чисто по мере восприятия. Таким способ эксплицируемо и выразимо и любое вспоминаемое и любое фантазируемое как таковое. Любое «подразумеваемое как таковое» — любое мнение в ноэматическом смысле (а притом как ноэматическое ядро) любого акта выразимо посредством «значений». Итак в общей форме предположим: Логическое значение есть выражение.
Гласящие слова могут именоваться выражением только потому, что выражают принадлежное им значение — в таковом изначально заключено выражающее. «Выражение» — форма примечательная; она позволяет приспособить себя ко всякому «смыслу» (ноэматическому «ядру»), возвышая таковой до царства «логоса», до царства понятийного, а тем самым «всеобщего».
При этом последние слова поняты в совершенно определенном значении, какое следует отличать от других значений этих же слов. Вообще говоря, только что указанным отмечена большая тема феноменологических анализов, тема, основополагающая для прояснения сущности логического мышления и его коррелятов. В ноэтическом аспекте рубрикой «выражающее» будет обозначаться особый слой актов — такой, к какому возможно своеобразно приспособлять и с каким возможно замечательным образом сливать все прочие акты, именно так, что любой ноэматический смысл акта, а, стало быть, заключающаяся в таковом сопряженность с предметностью отпечатляется в ноэматическом аспекте выражения «понятийно». Перед нами своеобразная интенциональная среда, по своей сущности отмеченная тем, что она способна, так сказать, отражать по форме и содержанию любую иную интенциональность, отображая таковую в своем собственном окрашивании и при этом вводя в нее свою собственную форму «понятийности». Однако назойливые речи об отражении и отображении следует принимать с осторожностью, поскольку опосредующая их применение образность легко могла бы ввести в заблуждение.
Чрезвычайно трудные проблемы начинаются с феноменов, принадлежных к рубрикам «означивание» и «значение».[121] Поскольку любая наука в своем теоретическом содержательном наполнении, во всем том, что есть в ней «учение» (теорема, доказательство, теория), объективируется в специфически «логическом» медиуме — в медиуме выражения, то для философа и психолога, руководствующихся общелогическими интересами, проблемы выражения и значения — самые ближайшие, и они же — первые, какие вообще, как только всерьез пробуем дойти до самой их основы, толкают нас к феноменологически-сущностным разысканиям.[122] Отсюда мы увлекаемся к таким вопросам, как, к примеру: как следует разуметь «выражение» «выражаемого», как соотносятся выраженные переживания с не выраженными и что претерпевают последние благодаря привходящим выражениям, — нас отсылают тут к «интенциональности» переживаний, к их «имманентному» смыслу, «материи» и качеству (т. е. к присущему тезису характеру акта), к различению вот этого смысла и вот этих сущностных моментов, заключенных в «пред-выражаемом», к различению значения самого выражающего феномена и свойственных такому значению моментов и т. д. По сегодняшней литературе еще хорошо видно, в сколь же малой степени отдают должное тем огромным проблемам с их полным, глубоко заложенным смыслом, на какие только указано сейчас.
Слой выражения — вот что составляет его специфическое своеобразие — не продуктивен, если отвлечься от того, что он как раз и сообщает выражение всем прочим интенциональностям. Или, если угодно: продуктивность этого слоя, ее ноэматическое свершение исчерпывается выражением и вступающей вместе с таковым новой формой понятийного.
При этом слой выражающий совершенно сущностно неразделен по своему тетическому характеру с тем слоем, какой претерпевает выражение, и в этом их совпадении друг с другом первая настолько принимает сущность последней, что мы так просто и называем выраженное представление — представлением, выраженное верование, предположение, сомнение само по себе и как целое — верованием, предположением, сомнением, равным образом и выраженное желание или воление — желанием или волением. Что и различие позициональности и нейтральности переходит в выражение, непосредственно очевидно, и мы это уже упоминали. Выражающая же сторона не может обладать тезисом, позициональным или нейтральным, квалифицируемым иначе, нежели тезис слоя претерпевающего выражение, и в совпадении обоих слоев мы обнаруживаем не две тесы, какие надлежало бы размежевывать, но лишь один тезис.
Полное прояснение принадлежных сюда структур доставляет значительные трудности. Уже признание того, что после абстрагирования от чувственного слоя гласящих слов в наличии действительно остается еще одно наслоение такого же вида, как предполагали мы это здесь, стало быть, в любом случае — даже и в случае сколь угодно неясного, пустого, чисто вербального мышления — слой выражающего означения и нижний слой выражаемого, — уже это дается нелегко, а тем более уразумение сущностных взаимосвязей всех этих наслоений. Ибо на образ наслоения нельзя слишком уж полагаться; выражение — это не нанесенный сверху лак и не напяленное сверху платье; это — духовное формование, какое исполняет в интенциональном нижнем слое новые интенциональные функции и испытывает на себе ее коррелятивно интенциональные функции. Что означает этот новый образ, нужно изучать в самих феноменах и во всех существенных их модификациях. В особенности важно уразумение различных разновидностей «всеобщности», какие выступают тут, — с одной стороны, та всеобщность, какая неотделима от каждого выражения и от любого его момента, включая и несамостоятельное: «есть», «не», «и», «если» и т. д., с другой же стороны, всеобщность «всеобщих имен», как-то «человек», в противоположность именам собственным, как-то «Бруно», и, напоследок, та всеобщность, что принадлежит даже и синтактически бесформенной внутри себя сущности в сравнении столько что затронутыми различными всеобщностями значения.
§ 125. Модальности совершения в сфере логического выражения и метод прояснения
Очевидно, для того чтобы прояснить трудности, на какие мы указывали выше, необходимо особо учитывать обсуждавшиеся выше[123] различия модусов актуальности — модальностей совершения актов, каковые задевают тезисы и синтезы выражения, как и любые другие тезисы и синтезы вообще. Причем двояким образом. С одной стороны, они затрагивают слои значения, т. е. сам специфически логический слой, с другой же стороны — фундирующие низшие слои.
Когда мы читаем, мы можем совершать любое значение артикулировано и вольно-деятельно, можем при этом синтетически сочетать значения со значениями, согласно предначертанному. В таком совершении актов значения настоящего в модусе порождения в собственном смысле мы обретаем совершенную отчетливость «логического» разумения.
Такая отчетливость может переходить в запутанности во всех выше описанных модусах: только что прочитанное предложение погружается во тьму, утрачивает свою живую артикуляцию, оно перестает быть нашей «темой» и не остается у нас «в руках».
Подобные отчетливость и запутанность следует, однако, отличать от тех, что задевают выраженные нижние слои. Отчетливое уразумение слова и предложения (и, соответственно, отчетливое, артикулированное совершение актов высказывания) согласуется с запутанностью подосновы. Последняя означает не просто неясность, хотя и таковую тоже. Нижний слой может быть запутанно единым (как чаще всего и бывает), — он не заключает свою артикуляцию в себе самом актуально, а обязан таковой лишь своему простому приспособлению к действительно артикулированно и в изначальной актуальности совершаемому слою логического выражения.
Все это имеет в высшей степени важное методологическое значение. Мы замечаем, что наши прежние рассуждения касательно метода прояснения[124] нуждаются в существенных дополнениях с учетом высказывания, этого жизненного элемента науки. Теперь легко обозначить все необходимое для перехода от запутанного мышления к настоящему и вполне эксплицитному познанию, к отчетливому и одновременно ясному совершению мыслительных актов: прежде всего следует все «логические» акты (акты означивания), поскольку они совершались еще в модусе запутанности, перевести в модус первозданной спонтанной актуальности, следовательно учредить совершенную логическую отчетливость. Однако, аналогичное следует совершить и в обосновывающем нижнем слое — все неживое следует преобразовать в живое, всякую запутанность — в отчетливость, но также и всякую не-наглядность — в наглядность. И только тогда, когда мы совершим эту работу в нижнем слое, в действие — если только проявляющиеся тут несовместимости не сделают дальнейший труд излишним, — вступает ранее описанный метод, причем надо учитывать и то, что понятие созерцания, ясного сознания переносится с монотетических на синтетические акты.
Во всем остальном же, как показывает более глубокий анализ, все дело в том виде очевидности, какая должна быть тут конкретно получена, и, соответственно, в слое, к какой обращена она. Очевидности, сопрягающиеся с чисто логическими отношениями, с сущностными взаимосвязями ноэматических значений, — следовательно, те очевидности, какие обретаем мы относительно фундаментальных законов формальной логики, — требуют именно данности значений, а именно данности выражающих предложений тех форм, какие предписываются соответствующим законом значения. Несамостоятельность значений влечет за собой то, что экземплификация сущностных образований логики, опосредующая очевидность закона, ведет за собой и очевидность нижних слоев, причем тех, какие претерпевают логическое выражение; однако тогда, когда речь идет о чисто логическом усмотрении, нет необходимости доводить до ясности эти нижние слои. В соответствующей модификации это значимо и для всех «аналитических» выводов прикладной логики.
§ 126. Полнота состава и всеобщность выражения
Следует, далее, подчеркнуть различие между полным и неполным выражением[125]. Единство выражающего и выражаемого в феномене отличается, правда, известным их наложением, однако верхний слой не обязан простираться над всем нижним, выражая его. Выражение полно по своему составу, если отпечатлевает все систетические формы и материи нижнего слоя понятийно и по мере значений; оно не полно, если достигает этого лишь частично — вроде того, как мы, наблюдая комплексный процесс, — например, в ворота въезжает карета с давно уже ожидавшимися гостями, — восклицаем: Карета! Гости! Само собой разумеется, что такое различие по полноте пересекается с различием по относительной ясности и отчетливости.
Совершенно иная неполнота — это, в отличие от только что обсуждавшейся, неполнота, неотделимая от сущности выражения как такового, а именно его всеобщности. «Пусть» выражает — в общем виде — пожелание, форма приказа — приказ, «может быть» — предположение и, соответственно, предполагаемое как таковое и т. п. Все конкретнее определяющее в единстве выражения — все такое в свою очередь выражено вновь в общем виде. К сущности выражения принадлежит всеобщность, и в смысле таковой заложено то, что в выражении никогда не могут рефлектироваться все обособления выражаемого. Слой означивания — это не вид удвоения, редупликации низшего слоя, и это принципиально так. Из низшего слоя не вступают в выражающее означивание целые измерения вариабильности, и эти последние, а также их корреляты вообще не получают «выражения» — так модификация относительной ясности и отчетливости, аттенциональные модификации и т. д. Но и в том, на что указывает особый смысл разговоров о «выражении», имеются существенные различия — так, они касаются того способа, каким получают свое выражение синтетические формы и синтетические материи.
Указать сейчас следует и на «несамостоятельность» всех значений формы и всех «синкатегорематических» значений. Взятое по отдельности «и», «если», взятый по отдельности родительный падеж «неба» — все это понятно, все же несамостоятельно, все это испытывает нужду в дополнении. Вопрос теперь в том, что же означает эта нужда в дополнении, что означает она для обоих слоев и с учетом возможностей неполного по составу означивания.[126]
§ 127. Выражение суждений и выражений ноэм душевного
Во всех этих пунктах должна быть наведена ясность, если только должна быть решена одна из самых древних и наиболее трудных проблем сферы значения, остававшаяся до сих пор без разрешения именно по причине отсутствии необходимых феноменологических усмотрений, — проблема, как высказывание в качестве выражения суждения соотносится с выражениями прочих актов. У нас имеются экспрессивные предикации, в каких свое выражение получает некое «Это — так!». У нас имеются экспрессивные предположения, вопросы, сомнения, выраженные пожелания, приказания и т. д. Язык предлагает нам отчасти своеобразно построенные формы предложений, какие получают однако двусмысленную интерпретацию; к высказываниям примыкают вопросительные, предположительные, желательные, повелительные предложения и т. д. Первоначальный спор относился к тому, идет ли при этом речь — если отвлекаться от грамматической стороны гласящих слов и их исторических форм — о видах значений одинакового порядка и не являются ли все эти предложения по своему значению поистине высказываниями. В последнем случае все принадлежные сюда образования актов, например, образования сферы душевного — сами по себе вовсе не акты суждения — могли бы достигать «выражения» лишь окольным путем: через фундируемое в них суждение.
Однако недостаточно сопрягать всю проблему с актами, ноэсами, и сильно препятствует уразумению вещей постоянное невнимание к ноэмам, на какие, при такой рефлексии значений, как раз и бывает направлен взгляд. Вообще говоря, чтобы пробиться здесь к хотя бы корректной постановке проблем, нужно принимать во внимание различные раскрытые нами структуры — общий вывод ноэтически-ноэматической корреляции как проходящей сквозь все интенционалии, сквозь все тетические и синтетические слои; равным образом разделение логического слоя значений от слоя низшего, подлежащего выражению через посредство первого; далее, усмотрение сущностно возможных — здесь, как и во всей интенциональной сфере, — направлений рефлексии и направлений модификации; специально же требуется усмотрение тех способов, какими любое сознание может быть переведено в сознание суждения, какими из всякого сознания можно извлекать положения дел ноэтического ноэматического вида. Радикально же поставленную проблему, к какой в конце концов мы здесь возвращаемся, следует — это вытекает из всей взаимосвязи последних рядов наших проблемных анализов — формулировать так:
Есть ли среда выражающего означивания, своеобразная среда логоса, среда специфически доксическая? Не покрывается ли она, в приспособлении означивания к означиваемому, тем доксическим, что заключено во всякой позициональности?
Естественно, это не исключало бы того, что имеется много способов выражения, скажем, переживаний душевного. Одним способом было бы прямое, а именно простое выражение переживания (и, соответственно, для коррелятивного смысла речи о выражении — его ноэмы) путем непосредственного приспособления почлененного выражения к почлененному переживанию душевного, причем доксическое покрывалось бы доксическим. Внутренне присущая переживанию душевного, по всем его компонентам, доксическая форма — вот что делало бы в таком случае возможным приспособление выражения как исключительно доксотетического переживания к переживанию душевного, к переживанию, которое как таковое и по всем своим звеньям множественно тетично и среди всего прочего и с необходимостью доксотетично.
Говоря же точнее, прямое выражение, если только оно верно и полно по составу, подобало бы лишь доксически немодализированным переживаниям. Если я в своих пожеланиях не уверен, то будет некорректно, если я стану говорить в прямом приспособлении: пусть S будет Р. Потому что все выражение в смысле полагаемого в основание постижения — это доксический акт в отчетливом смысле, т. е. достоверность верования.[127] Стало быть, он может выражать лишь достоверности (к примеру, достоверности желания, воли). Выражение — если оно должны быть верным — в подобных случаях можно было бы свершать лишь не прямо, скажем, в такой форме: может быть, «Пусть, возможно, S будет Р». Как только начинают выступать модальности, то, чтобы получить наивозможно приспособленное выражение, необходимо возвращаться к доксическим тезисам, которые, так сказать, пребывают в них скрыто.
Если мы будем считать такое понимание верным, то следовало бы дополнительно изложить еще и следующее:
Постоянно имеется множество возможностей непрямых выражений на «окольных путях». От сущности любой предметности как таковой, — все равно, какими бы актами она ни конституировалась, простыми или же многократно и синтетически фундированными, неотделимы многообразных видов возможности сопрягающей экспликации; следовательно, к каждому акту, например, к акту пожелания, могут примыкать различные акты, сопрягающиеся с ним, с его ноэматической предметностью, с его совокупной ноэмой, — акты, взаимосвязи субъектных тезисов, положенные на них тезисы предикатов, скажем, такие, в каких то, что подразумевалось в желательном смысле в изначальном акте, теперь разворачивается по мере суждения, получая и соответствующее тому выражение. Тогда выражение прямо приспособлено — но не к изначальному феномену, а к выведенному из него предикативному.
При этом необходимо постоянно принимать во внимание то, что экспликативный или аналитический синтез (суждение, предшествующее понятийному выражению по мере значения), а, с другой стороны, высказывание, или суждение в обычном смысле и наконец докса (belief) — это вещи, которые следует различать. Что именуют теперь «теорией суждения», — это нечто страшно многозначное. Сущностное прояснение идеи доксы — это нечто иное, нежели сущностное прояснение высказывания или же экспликаций.[128]
Раздел четвертый. Разум и действительность
Глава первая. Ноэматический смысл и сопряженность с предметом
§ 128. Введение
Феноменологические странствия последней главы приводили нас, можно сказать, во все интенциональные сферы. Повсюду мы, руководимые радикальной точкой зрения размежевания анализов реальных и интенциональных, ноэтических и ноэматических, наталкивались на структуры, все разветвляющиеся и разветвляющиеся. И мы уже не можем более противостоять тому усмотрению, что в деле подобного размежевания речь на деле идет о такой фундаментальной структуре, которая проходит сквозь все интенциональные структуры, — она тем самым должна составить господствующий лейтмотив феноменологической методики, определяя ход всех относящих к проблемам интенциональности исследований.
Одновременно ясно и то, что вместе с таким размежеванием ео ipso произошло выделение двух радикально противоположных, а при этом все же, по мере сущности, сопряженных друг с другом регионов бытия. Ранее мы подчеркивали, что сознание вообще должно значиться как особый регион бытия. Однако затем мы поняли, что сущностная дескрипция сознания ведет назад к сущностной дескрипции сознаваемого в нем, что коррелят сознания неотделим от сознания, а при том все же реально не содержится в нем. Так выделилось ноэматическое — в качестве принадлежной сознанию, а притом все же своеобразной предметности. Заметим при этом: в то время как предметы вообще (разумея их в немодифицированном смысле) принадлежат совершенно различным высшим родам, все предметные смыслы и все ноэмы полного состава, сколь бы различны они ни были, в принципе принадлежат одному-единственному роду. Далее, однако, значимо и то, что сущности «ноэма» и «ноэсис» нераздельны: любая низшая дифференциация на стороне ноэматического эйдетически указывает назад — на низшие дифференциации на стороне ноэтического. Естественно, это переносится на все родовые и видовые образования.
Познание сущностной двусторонности интенциональности с ноэсисом и ноэмой следствием своим имеет то, что систематическая феноменология не может односторонне направлять свои намерения на реальный анализ переживаний и специально переживаний интенциональных. Поначалу искушение поступать именно так было чрезвычайно велико, поскольку исторический путь от психологии к феноменологии естественно влечет за собой то, что имманентное изучение чистых переживаний, их специфики, как бы само собою разумелось как изучение их реальных компонентов.[129] На самом же деле большие области эйдетических исследований открываются в обе стороны, и они постоянно сопряжены друг с другом и все же, они, как оказывается, на больших участках разъединены. В большой мере то, что считалось анализом актов, актов ноэтических, было получено исключительно в направленности взгляда на «подразумеваемое как таковое», так что описывали при этом не что иное, как ноэматические структуры.
В наших последующих размышлениях мы обратим свое пристальное внимание на всеобщее строение ноэмы — под таким углом зрения, который до сих пор часто назывался, однако не выступал в качестве руководящего в ноэматическом анализе, — это феноменологическая проблема сопряжения сознания с предметностью, прежде всего обладающая своей ноэматической стороной. Ноэма сама в себе обладает предметной сопряженностью, причем посредством присущего ей «смысла». Если же спросить теперь, каким же образом «смысл» сознания подступается к «предмету», который есть его предмет и который в многообразных актах весьма различного ноэматического содержательного наполнения может быть «тем же самым», и каким образом мы углядываем это в самом смысле, — то воспоследуют новые структуры, чрезвычайное значение которых сразу же явствует. Поступательно двигаясь в этом направлении и, с другой стороны, рефлектируя параллельные ноэсы, мы в конце концов наталкиваемся на вопрос, что же, собственно, означает «претензия» сознания действительно «сопрягаться» с чем-либо предметным, быть «адекватным», каким образом феноменологически, согласно ноэсису и ноэме, проясняется «значимая» и «незначимая» предметная сопряженность, — а тем самым мы оказываемся перед великими проблемами разума, уяснение которых на трансцендентальной почве, формулирование которых в качестве проблем феноменологических и будет нашей целью в этом разделе.
§ 129. «Содержание» и «предмет»; содержание как «смысл»
В наших анализах до сих пор постоянную роль играла одна универсальная ноэматическая структура, — отмеченная отделением известного ноэматического «ядра» от переменчиво принадлежных ему «характеристик», вместе с какими ноэматическая конкреция кажется втянутой в поток многоразличных модификаций. Однако такое ядро еще не положено ему по праву в науке. Оно отделялось интуитивно, едино — и ясно в той мере, что мы могли сопрягаться с ним в общем и целом. Теперь же пришла пора рассмотреть его конкретнее, поставив в центр феноменологического анализа. Как только мы так поступим, выступят универсальные по своему значению различия, проходящие сквозь все роды актов и ведущие для целых больших групп разысканий.
Будем исходить из обычных сбивчивых речей о содержании сознания. В качестве содержания мы будем понимать «смысл», о котором говорим, что в нем или через посредство его сознание сопрягается с чем-либо предметным как «своим». Так сказать, в качестве титула и цели нашего рассуждения мы возьмем такое положение:
У каждой ноэмы есть «содержание», именно ее «смысл», и через посредство него она сопрягается со «своим» предметом.
В новейшие времена славят как великий прогресс достигнутое наконец основополагающее различение акта, содержаний и предмета. Три этих слова в таком порядке сделались прямо-таки лозунгом дня, особенно после выхода в свет прекрасного трактата Твардовского[130]. Между тем, сколь бы велики ни были заслуги этого автора, проницательно проанализировавшего некоторые общераспространенные смешения и с очевидностью показавшего допускаемые тут ошибки, все же следует сказать, что он (это отнюдь не упрек) поднялся, в прояснении принадлежных сюда понятийных сущностей, совсем незначительно над тем, что было уже известно философам прежних поколений (несмотря на все их неосторожные смешения). Радикальный прогресс и не был возможен до появления систематической феноменологии сознания. От феноменологически не проясненных понятий вроде «акта», «содержания», «предмета» «представлений» нет нам никакой пользы. Чего только не назовешь актом, и чего — содержанием представления и самим представлением! То же, что можно так называть, важно само понимать научно.
В этом отношении попытка сделать первый и, как мне кажется, необходимый шаг была произведена феноменологическим вычленением «материи» и «качества», затем идеей «интенциональной сущности», размежеванной с «сущностью по мере познания». Односторонность ноэматического направления взгляда, в каком были осуществлены и в каком они тут разумелись, легко преодолевается учетом ноэматических параллелей. Так что мы можем разуметь понятия ноэматически; «качество» (качество суждения, качество желания и т. д.) — это не что иное, как то самое, что обсуждалось у нас под именем характера «полагания», «тетического» характера в предельно широком смысле слова. Само выражение «качество», происходящее из современной психологии (психологии Брентано), кажется мне теперь малоподходящим; любой своеобразный тезис обладает своим качеством, но его самого нельзя называть качеством. И, очевидно, «материя», какая всякий раз есть то самое «что», какое получает от «качества» характеристику полагания, соответствует «ноэматическому ядру».
Такова ныне и задача — это последовательное разрабатывание такого начала, более глубокое прояснение и дальнейшее разложение таких понятий, их корректное проведение по всем ноэтически-ноэматическим областям. Любой действительно успешный прогресс в этом направлении будет отмечен исключительным значением для феноменологии. Тут ведь речь идет не о каких-то стоящих в стороне специальных вещах, но о сущностных моментах, принадлежащих к центральному строю любого интенционального переживания.
Присоединим сюда, чтобы подойти немножко ближе к вещам, следующее рассуждение.
Интенциональное переживание — так принято говорить — обладает «сопряженностью с предметным»; но говорят и так — оно есть «сознание чего-либо», например, сознание вот этой цветущей яблони вот в этом саду. Имея дело с такими примерами, нам на первых порах не придется различать оба эти способа выражения. Если же вспомнить наши предшествующие анализы, то мы обнаружим, что полный ноэсис сопрягается с полной ноэмой как ее аттенциональным полным что. Однако тогда ясно, что такая сопряженность — не та, что подразумевается словами о сопряженности сознания с его интенционально-предметным, ибо каждому ноэтическому моменту, специально же всякому моменту тетически-ноэтическому, соответствует момент ноэмы, а в этой последней от комплекса тетических характеристик отличается характеризуемое ими ноэматическое ядро. Если же мы вспомним, далее, о «взгляде-на», который при известных обстоятельствах проходит сквозь ноэсу (сквозь актуальное cogito), который преобразует специфически тетические моменты в лучи актуального полагания со стороны Я, и если мы будем внимательно следить за тем, каким образом это Я — как Я схватывающее бытие, или предполагающее, или желающее и т. д. — своими лучами «направляется» на предметное, каким образом взгляд его проходит сквозь ноэматическое ядро, — то мы обратим внимание на то, что, говоря о сопряжении (и специально «направлении») сознания на его предметное, мы отсылаемся к наивнутреннейшему моменту ноэмы. Это не само только что упоминавшееся ядро, а нечто такое, что, так сказать, составляет необходимую центральную точку ядра, функционируя в качестве «носителя» специально принадлежных ему ноэматических своеобразий, а именно ноэматически модифицируемых свойств «подразумеваемого как такового».
Как только мы начинаем точнее входить во все это, то мы замечаем в себе то, что различение «содержания» и «предмета» следует производить на деле не только для «сознания», интенционального переживания, но и для ноэмы, взятой в ней самой. Стало быть, и ноэма тоже сопрягается с предметом и обладает «содержанием», «посредством» которого она сопрягается с этим предметом, — при этом предмет тот же, что и у ноэсы, но вновь повсеместно подтверждается параллелизм.
§ 130. Ограничивание сущности «ноэматический смысл»
Приблизим к себе эти примечательные структуры. Мы упростим свое рассуждение, оставив без внимания аттенциональные модификации и, далее, ограничившись позициональными актами, в тезисах каковых мы живем, — это, по обстоятельствам, значит, согласно последовательности ступеней фундирования, то больше в одном, то больше в другом из частных тезисов, в то время как остальные хотя и совершаются, но выступают во вторичной функции. То же, что наши анализы от этого ничуть не страдают в отношении всеобщности своей значимости, можно показать впоследствии, выявляя это без лишних слов. Речь ведь как раз идет о сущности, невосприимчивой к подобным модификациям.
Если же перенестись теперь в живое cogito, то таковое обладает по мере своей сущности «направлением» — в отмеченном смысле — на предметность. Иными словами к его ноэме принадлежна «предметность» — в кавычках — с определенным ноэматическим составом, каковой развертывается в описании с определенной ограниченностью, а именно в такой, которая, как описание «подразумеваемого предметного, каким таковое подразумевается», избегает любых «субъективных» выражений. Применяются формально-онтологические выражения, как-то «предмет», «устроенность», «положение дел»; материально-онтологические, как-то «вещь», «фигура», «причина»; вещные определения, как-то «шероховатое», «жесткое», «цветное» — все в кавычках, как обладающие ноэматически модифицированным смыслом. Напротив того исключены для описания такого разумеемого предметного как такового выражения вроде «по мере восприятия», «по мере воспоминания», «ясно-наглядно», «по мере мысли», «данное», — они принадлежат к иного измерения описаниям, не к предметному, которое сознается, но к способу, каким оно сознается. Напротив того, в случае являющегося вещного объекта вновь оказалось бы в рамках входящего сейчас в рассмотрение описания, если бы мы говорили так: его «фронт» так-то и так-то определен по цвету, фигуре и т. д.; его «тыл» окрашен, но в цвет, который конкретнее не определен, объект вообще в таком-то и таком-то аспекте «неопределен» — такой он или такой.
Это значимо не только для предметов природы, но и вообще — например, для ценностных объективностей; от описания таковых неотъемлемо описание подразумеваемой «вещи», а сверх того указание предикатов «ценности» — как когда мы о являющемся дереве «в смысле» нашего оценивающего подразумевания говорим, что оно покрыто «великолепно» пахнущими цветами. При этом и ценностные предикаты обретают свои кавычки — это не предикаты ценности просто как таковой, но предикаты ценностной ноэмы.
Очевидно, что тем самым отграничивается устойчивое содержательное наполнение всякой ноэмы. У всякого сознания — свое «что», и каждое разумеет «свое» предметное; очевидно, что в отношении любого сознания мы должны в принципе уметь совершать подобное ноэматическое описание такого предметного — «точно так, как оно подразумевается»; благодаря экспликации и понятийному постижению мы обретаем замкнутую совокупность формальных или материальных, вещно определенных или же и «неопределенных» («пусто» подразумеваемых[131]) «предикатов», а эти последние определяют в своем модифицированном значении «содержание» того предметного ядра, о каком конкретно идет разговор.
§ 131. «Предмет», «определимое X в ноэматическом смысле»
Но предикаты — это предикаты «чего-то», и такое «что-то» тоже принадлежит — и, очевидно, неотделимо от такового — к рассматриваемому ядру, — вот центральная точка единства, о какой говорили мы выше. Вот точка схождения, или «носитель», предикатов, но никоим образом не единство таковых в том же смысле, в каком можно было бы назвать единством какой-нибудь комплекс предикатов, какое-нибудь соединение их. Такую точку необходимо непременно отличать от последних, но только не ставя ее рядом с ними и не отделяя ее от них, подобно тому как и сами они суть ее предикаты, немыслимые без нее и все же отделимые от нее. Мы говорим: интенциональный объект непрестанно сознается в непрерывном или синтетическом ходе сознания, однако «дается» в таковом все иным и иным; он — «тот же самый», он лишь дается с другими предикатами, с другим содержательным наполнением определения, «он» только показывается с разных сторон, причем остававшиеся неопределенными предикаты определяются конкретнее; или же: вот «этот» объект оставался на этом участке данности неизменным, а теперь «он», — «тождественное» — изменяется, благодаря такому изменению он остановится красивее, утрачивает потребительскую ценность и т. д. Если таковое постоянно понимается как ноэматическое описание соответственно подразумеваемого как такового и если описание такое, что всегда возможно, совершается в чистой адеквации, то, очевидно, тождественный интенциональный «предмет» отделяется от меняющихся и переменчивых «предикатов». Отделяется как центральный ноэматический момент — «предмет», «объект», «тождественное», «определимый субъект возможных предикатов» — просто X при абстрагировании от всех предикатов, — и отделяется от этих предикатов, или, точнее, от ноэм предикатов.
Одному объекту мы соопределяем многообразие способов сознания, акты, соответственно, ноэмы актов. Очевидно, тут нет ничего случайного, — не мыслим объект без того, чтобы мыслимы были многообразные интенциональные переживания, сочетаемые в непрерывном или в собственно синтетическом (политетическом) единстве, в каких сознается «он», объект — как тождественный и все же ноэматически различными способами, — так, что характеризуемое ядро изменчиво-непостоянно, а «предмет», просто субъект предикатов, именно тождествен. Ясно, что мы уже и на любой частичный участок имманентной длительности акта можем смотреть как на «акт», а на совокупный акт — как на известное согласованное единство непрерывно соединяемых актов. Мы можем также говорить: у каждой из вот этих ноэм актов свое ядро, однако все они несмотря на это смыкаются в единство тождественности, в единство, в каком «нечто» — то определимое, что заключено в каждом ядре, — сознается в качестве тождественного.
Однако точно так же могут смыкаться во «взаимосогласное» единство и раздельные акты, например, два восприятия или восприятие и воспоминание, а в силу своеобразия такого смыкания, каковое, очевидно, не чуждо сущности смыкающихся актов, нечто поначалу раздельных ядер — нечто, определяемое то так, то так, — сознается как то же самое нечто, или как взаимосогласно тот же самый «предмет».
Итак, в каждой ноэме в качестве точки единства заключено такое просто предметное нечто, а одновременно мы видим, что в ноэматическом аспекте следует различать два понятия предмета — вот эта просто точка единства, вот этот ноэматический «предмет просто как таковой», и «предмет, взятый в том, как его определенности», — относя сюда же и соответствующие «остающиеся открытыми» и со-подразумеваемые в этом модусе неопределенности. При этом «то, как» следует брать точно так, как предписывает это соответствующий акт, именно таким, каким оно действительно принадлежит к своей ноэме. «Смысл» же, о каком говорили мы не раз, есть вот этот ноэматический «предмет в том, как», вместе со всем тем, что способно с очевидностью обнаруживать в нем и понятийно выражать выше охарактеризованное описание.
Следует обратить внимание — мы осторожно сказали сейчас: «смысл», а не «ядро». Потому что позднее прояснится, что для того, чтобы обрести действительное, конкретно-полное ядро ноэмы, нам придется учесть еще одно измерение различения — то, которое не находит еще своего отпечатления в охарактеризованном выше, дефинирующем для нас смысл, описании. Если же держаться пока исключительно того, что постигает наше описание, то «смысл» — это фундаментальный кусок ноэмы. В общем и целом «смысл» меняется от ноэмы к ноэме, но при известных обстоятельствах он бывает и абсолютно одинаковым, а иногда даже характеризуется как «тождественный» — именно постольку, поскольку «предмет в том, как определенности» с обеих сторон пребывает здесь как тот же самый и описываемый абсолютно одинаково. Ни в одной ноэме не может недоставать «смысла» и не может недоставать необходимого центра ноэмы, точки единства, определимого «просто X». Не может быть «смысла» без его «чего-то», и не может опять же и без «определяющего содержания». При этом очевидно, что что-либо подобное не укладывается сюда лишь позднейшим анализом и описанием, но что это — в качестве условия возможности очевидного описания и до такового — действительно заключено и корреляте сознания.
Благодаря принадлежному к смыслу носителю смысла (как пустому X) и основывающейся в сущности смыслов возможности взаимосогласного соединения в смысловые единства любой ступени не только у всякого смысла есть свой «предмет», но и различные смыслы сопрягаются с тем же самым предметом именно постольку, поскольку они включаемы в смысловые единства, в которых определимые X объединенных смыслов покрываются как друг другом, так и X совокупного смысла соответствующего смыслового единства.
Изложенное нами с монотетических актов переносится на акты синтетические, или же, говоря отчетливее, на акты политетические. В тетически почлененном сознании у любого звена — описанное ноэматическое строение; любое обладает своим X с его «определяющим содержанием»; но в дополнение к этому ноэма синтетического совокупного акта обладает, в сопряженности с «архонтовым»[132] тезисом, синтетическим X и его определяющим содержанием. В совершении акта луч взгляда чистого Я, разделяясь на множественность лучей, направляется на те X, что вступают в синтетическое единство. В преобразовании номинализации синтетический совокупный феномен модифицируется — так, что луч актуальности направляется на высшее синтетическое X.
§ 132. Ядро как смысл в модусе своей полноты
Смысл, как определили мы его, — это не конкретная сущность в совокупном составе ноэмы, а своего рода вселившаяся в таковой абстрактная форма. А именно, если мы зафиксируем смысл, стало быть, «подразумеваемое» точь-в-точь с тем содержательным наполнением определениями, в каком оно есть подразумеваемое, то в результате бессомненно выявится второе понятие «предмета в том, как», предмета в том, как его способов данности. Если отвлечься при этом от аттенциональных модификаций, от любых различий того вида, какого сами модусы осуществления, то и в рассмотрение входит — во все той же сфере позициональности, какой отдано у нас предпочтение, — различия по степени ясности, столь определяющие по мере познания. Сознаваемое темно как таковое и то же самое, сознаваемое ясно, весьма различны в аспекте своей ноэматической конкреции — не менее различны, нежели целые переживания. Однако ничто не препятствует тому, чтобы содержательное наполнение определениями, с какими подразумевается сознаваемое темно, было абсолютно тождественно наполнению сознаваемого ясно. Их описания покрывали бы друг друга, и синтетическое сознание единства так обнимало бы тогда сознание того и другого, что действительно речь бы шла о том же самом подразумеваемом. В соответствии с чем, в качестве полного ядра мы будем числить полную конкрецию соответствующего куска ноэматического состава, — стало быть, смысл в модусе его полноты.
§ 133. Ноэматическое предложение. Тетические и синтетические предложения. Предложения в области представлений
Теперь надо было бы тщательно провести эти различения по всем областям актов, а также, ради дополнения до целого, принять во внимание тетические моменты, какие особо сопряжены со смыслом — со смыслом ноэматическим. В «Логических исследованиях» таковые с самого начала (под рубрикой «качество») были восприняты в понятие смысла («сущности по мере значения»), а тем самым в этом единстве были различены оба компонента — «материя» (смысл в теперешнем понимании) и качество.[133] Однако кажется более подходящим определять термин «смысл» только как эту самую «материю», а тогда единство смысла и тетического характера называть предложениями. Тогда у нас имеются одночленные предложения (как в случае восприятий и прочих тетических созерцаний) и предложения многочленные, синтетические, как-то предикативные доксические предложения (суждения), предположительные предложения с предикативно почлененной материей и т. д. Одночленными и многочленными, кроме того, бывают и предложения удовольствия, пожелания, приказания и т. д. Понятие предложения при этом, правда, чрезвычайно расширяется, что, возможно, и непривычно, однако происходит это в рамках важного сущностного единства. Ведь необходимо постоянно иметь в виду, что понятия «смысл» и «предложение» не содержат для нас ничего от выражения и понятийного значения, зато обнимают собою все выраженные предложения и, соответственно, значения предложений.
Согласно нашим анализам эти понятия обозначают абстрактный слой, принадлежный к полной ткани всех ноэм. Весьма перспективно для нашего познания, если бы удалось обрести этот слой в его полноохватной всеобщности, следовательно, усмотреть то, что ему действительно есть место во всех сферах актов. В простых созерцаниях понятия «смысл» и «предложение», неотделимо принадлежные к понятию «предмет», тоже находят свое необходимое применение — необходимо установить и особыми понятия «смысл созерцания» и «предложение созерцания». Так, например, в области внешнего восприятия из «воспринимаемого предмета как такового», путем абстрагирования от характера воспринятости, можно вы-смотреть — как нечто заключенное в этой ноэме до всякого эксплицирующего и постигающего мышления — смысл предмета: вещный смысл этого восприятия — таковой бывает иным от восприятия к восприятию (в том числе и относительно «той же самой» вещи). Если брать этот смысл полностью — с его наглядной полнотой, то в результате выявится определенное, весьма важное понятие явления. Таким смыслам соответствуют предложения: предложения созерцания, представления, предложения перцептивные и т. д. В феноменологии внешних созерцаний, которая как таковая имеет дело не с предметами просто как таковыми, в немодифицированном смысле, но с ноэмами в качестве коррелятов ноэс, понятия типа тех, что выявлены сейчас, находится в самом центре научного исследования.
Если же теперь мы сначала вернемся к нашей общей теме, то тут воспоследует дальнейшая задача — задача систематического различения основных видов смыслов: простых и синтетических (т. е. принадлежных к синтетическим видам), первой и более высоких ступеней. Отчасти следуя основным видам содержательных определений, отчасти основным формам синтетических образований, которые одинаково играют свою роль для всех областей значения, и так отдавая должное всему, что является определяющим по форме и содержанию для всеобщего строения смыслов, что общо для всех сфер сознания или свойственно замкнутым родовым сферам, мы восходим к идее систематического и универсального учения о формах смыслов (значений). Если же мы в дополнение к этому еще примем к сведению и систематическое различение характеров полагания, то тем самым одновременно будет создана систематическая типика предложений.
§ 134. Апофантическое учение о формах
Тут главная задача в том, чтобы дать очерк систематического «аналитического» учения о формах «логических» значений и, соответственно, предикативных предложений, «суждении» в смысле формальной логики, — такое учение принимает во внимание лишь формы аналитического или предикативного синтеза, оставляя в неопределенности все входящие в эти формы термины смысла. Хотя задача эта и специальная, она получает универсальную широту благодаря тому, что рубрика «предикативный синтез» обозначает класс всех возможных смысловых видов возможных операций; повсюду равно возможные операции экспликации и сопрягающего постижения эксплицированного: в качестве определения субъекта определения, в качестве части целого, в качестве релата его референта и т. д. С этим сплетаются операции коллекции, дизъюнкции, гипотетического сочетания. Все это — до всякого высказывания и до впервые выступающего вместе с таковым выражающего, или «понятийного» варианта, как выражение по мере значения льнущего ко всем формам и материям.
Это учение о форме, идеи которого мы уже не раз касались и которое, согласно нашим демонстрациям, составляет принципиально необходимую нижнюю ступень научной mathesis universalis, благодаря результатам настоящих исследований утрачивает свою изоляцию, она обретает свой кров в пределах замышляемого как идея всеобщего учения о формах смыслов вообще и место своего конечного истока — в ноэматической феноменологии.
Несколько приблизим это к себе.
Аналитически-синтактические операции — это, говорили мы, возможные операции для всех возможных смыслов и, соответственно, предложений, какое бы содержательное наполнение определениями ни заключал в себе соответствующий «не-эксплицированно» ноэматический смысл (каковой ведь есть не что иное, как «подразумеваемый» предмет как таковой, в соответствующем «как» своего содержательного наполнения определениями). Однако такой смысл всегда возможно эксплицировать, и всегда возможно осуществить какие-либо сущностно связанные с экспликацией («анализом») операции. Вырастающие таким путем синтетические формы (мы назвали их синтактическими по созвучию с «синтаксисами» грамматик) — вполне определены, принадлежны жесткой системе форм, их можно выделять и понятийно-выраженно постигать посредством абстракции. Так, например, с воспринятым в простом тезисе восприятия как таковым мы можем обращаться аналитически таким способом, какой проявится в выражения: «это черное; чернильница; эта черная чернильница — не белая; если белая, то не черная» и т. п. Тут мы с каждым шагом получаем новый смысл, вместо первоначально одночленного предложения — предложение синтетическое, которое можно привести к выражению и, соответственно, предикативному высказыванию согласно закону о выразимости всех предложений пра-доксы. В пределах почлененных предложений каждый член обладает своей синтаксической формой, берущей начало в аналитическом синтезе.
Допустим, что принадлежные к этим формам смыслов полагания суть доксические праполагания; тогда вырастают различные формы суждений в логическом смысле (апофантические предложения). Цель априорного определения всех этих форм, овладения, в систематической полноте, всеми бесконечно многообразными и все же закономерно ограниченными формообразованиями — эта цель отмечает для нас идею учения о формах апофантических предложений и, соответственно, синтаксисов.
Однако полагания, — в особенности же таково совокупное синтетическое полагание, — могут быть и доксическими модальностями: скажем, мы предполагаем и эксплицируем это в модусе «сознаваемое предположительно», или же нечто стоит для нас под вопросом, и мы эксплицируем стоящее под вопросом в вопрошающем сознании. Если мы выразим ноэматические корреляты таких модальностей («S, может быть, есть P», «S — это Р?» и т. п.) и если поступим точно так же и в отношении самого простого предикативного суждения, подобно тому, как выражаем утверждение и отрицание (к примеру: «S не есть P», «S все же есть P», «S есть безусловно, действительно Р»), то вместе с этим расширяется понятие формы и идея учения о формах предложений. Теперь[134] форма многократно определена — отчасти посредством собственно синтактических форм, отчасти посредством доксических модальностей. При этом всякий раз к совокупному предложению принадлежен совокупный тезис, в таковом же заключен доксический тезис. Одновременно с этим любое такое предложение с прямо приспособленным к нему понятийным «выражением» — путем экспликации смысла и предикации, преобразующей модальную характеристику в предикат, — можно переводить в предложение высказывания, в суждение, каковое судит о модальности такого-то содержания такой-то и такой-то формы (к примеру: «Это достоверно, это возможно; вероятно, S есть Р»).
Точно так же, как с модальностями суждения, все обстоит и с фундируемыми тезисами и, соответственно, смыслами и предложениями сферы душевности и воли, со специфически принадлежными к ним синтезами и соответствующими способами выражения. Тогда легко определяется и цель новых учений о формах предложений и специально предложений синтетических.
При этом сразу же видно, что в подходящим образом расширяемом учении о формах доксических предложений — если только мы, подобно тому, как мы поступали с модальностями бытия, если аналогии тут допустимы, станем перенимать в материю суждения также и модальности долженствования, — отражается учение о формах всех предложений. Что значит перенимать, не требует долгих разъяснений, а в крайнем случае нуждается в иллюстрировании примерами: так, вместо «Пусть S будет Р» мы будем говорить: «Пусть будет так, что S будет Р», «Это желательно» (не: «желается»); вместо «S должно быть Р» — «Чтобы S было Р, это должно быть»; «Это — должное» и т. д.
Сама же феноменология видит свою задачу не в том, чтобы систематически строить такие учения о формах, в которых, как тому можно научиться на примере апофантического учения о формах, из первоначальных аксиоматических основополагающих образований дедуктивно выводятся систематические возможности всех дальнейших образований; поле феноменологии — это анализ раскрываемого в непосредственной интуиции априори, фиксаций непосредственно усмотримых сущностей и взаимосвязей таковых и их дескриптивное познание в системном союзе всех слоев в трансцендентально чистом сознании. То, что логик-теоретик изолирует в формальном учении о значениях, то, с чем он вследствие одностороннего направления своих интересов обращается как с чем-то для себя, не учитывая и не разумея ноэматических и ноэтических взаимосвязей, в какие вплетается все это, — то самое феноменолог берет во всей полноте взаимосвязей. Его большая задача — всесторонне исследовать все феноменологические сущностные сплетения. Любое простое аксиоматическое раскрытие одного из основных логических понятий становится особой рубрикой феноменологических исследований. Как только то самое, что, в наиширочайшей логической всеобщности, попросту выявляется как «предложение» (предложение суждения), как предложение категорическое или гипотетическое, как атрибутивное определение, как номинализованное прилагательное или как номинализованное относительное местоимение и т. п., помещается нами в соответствующие ноэматические взаимосвязи сущностей, из каких извлек их теоретизирующий взгляд, отсюда сразу же воспоследуют трудные и простирающиеся далеко группы проблем чистой феноменологии.
§ 135. Предмет и сознание. Переход к феноменологии разума
Если любое интенциональное переживание обладает ноэмой, а внутри таковой — неким смыслом, посредством какового сопрягается с предметом, то и, наоборот, все, что называем мы предметом, все, о чем говорим, что имеем перед своими глазами в качестве действительности, что считаем возможным или вероятным, что мыслим хотя бы даже и крайне неопределенно, — все это тем самым уже есть предмет сознания, и это означает, что — что бы ни было миром и что бы ни именовалось действительностью — должно репрезентироваться соответствующими смыслами, наполненными более или менее наглядным содержанием, и, соответственно, предложениями. Поэтому если феноменология совершает «выключения», если она вводит в скобки, как трансцендентальное, всякое актуальное полагание реальностей и осуществляет, как описывали мы это ранее, все прочие заключения в скобки, то теперь мы с более глубоким основанием уразумеваем смысл и правильность прежнего тезиса: все феноменологически выключенное все же, с известной переменой индекса, принадлежит к пределам феноменологии.[135] А именно, те реальные и идеальные действительности, какие подлежат выключению, репрезентируются в сферу феноменологии соответствующими им совокупными многообразиями смыслов и предложений.
Итак, если обратиться к примеру, любая действительная вещь природы репрезентируется всеми теми смыслами и меняющими свое наполнение предложениями, в каких она, как так-то и так-то определенная и в дальнейшем еще определяющаяся вещь, есть коррелят возможных интенциональных переживаний, следовательно, репрезентируется многообразиями «полных ядер», или, что означает то же самое, всех возможных «субъективных способов явления», в каких она может ноэматически конструироваться как тождественная. Конституированность же сопрягается в первую очередь с сущностно возможным индивидуальным сознанием, затем с возможным общим сознанием, т. е. с некоторой сущностно возможной множественностью находящихся между собой в «общении» Я-сознаний и потоками сознания, для которых интерсубъективно возможно давать и отождествлять какую-либо вещь как то же самое действительное. Необходимо постоянно принимать во внимание, что все наши мысли следует понимать в смысле феноменологических редукций и в эйдетической всеобщности.
С другой стороны, каждой вещи, в конце концов и всему вещному миру с одним и тем же пространством и с одним и тем же временем соответствуют многообразия возможных ноэтических событий, возможных сопрягающихся с ними переживаний отдельных и собирательных индивидов, переживания, которые, будучи параллелями рассмотренным выше ноэматическим многообразиям, в самой своей сущности обладают свойством сопрягаться, согласно смыслу и предложению, с этим вещным миром. В них встречаются, следовательно, соответствующие многообразия гилетических данных с принадлежными им «постижениями», характерами тетических актов и т. д., которое в своем взаимосвязном единстве и составляют то, что называем мы опытным сознанием такой вещности. Единству вещи противостоит бесконечное идеальное многообразие ноэтических переживаний совершенно определенного и, несмотря на бесконечность, обозримого сущностного содержательного наполнения, — все эти переживания сходятся в том, что они суть сознание «того же самого». И само это схождение достигает данности в сфере сознания — в переживаниях, какие со своей стороны опять же со-принадлежат к группе, которую мы сейчас отграничили.
Ибо ограничение опытно постигающим сознанием разумелось у нас лишь в смысле показательного примера, точно так же, как и ограничение «вещами мира». Все и каждое — сколь бы широко ни простирали мы наши рамки и на какой бы ступени всеобщности и обособления ни вращались, спускаясь даже до самых низших конкреций, — предначертано по мере сущности. Сфера переживаний столь же строго закономерна в своем трансцендентальном сущностном строении, любое возможное сущностное образование столь же жестко определено в ней по ноэсису и ноэме, как определена сущностью пространства любая возможная вписанная в него фигура — согласно закономерностям, значащим безусловно. Итак, все то, что именуется тут — по одну и другую сторону — возможностью (эйдетической экзистенцией), есть абсолютно необходимая возможность, есть абсолютно твердое звено в абсолютно жестком построении эйдетической системы. Цель же — научное познание последней, т. е. теоретическое отпечатление таковой и овладение ею в целой системе понятий и высказываний — высказываний законов, проистекающих из чистой интуиции сущностей. Все фундаментальные размежевания, какие производит формальная онтология и примыкающее к таковой учение о категориях — как учение о разграничении регионов бытия, так и учение о конституировании адекватных им содержательных онтологии, — все эти фундаментальные размежевания суть основные рубрики феноменологических исследований, что в дальнейшем продвижении вперед мы еще сможем уразуметь до самых деталей. Главным же рубрикам исследований необходимо соответствуют ноэтически-ноэматические сущностные взаимосвязи, какие надлежит систематически описать, определив согласно возможности и необходимости.
Если точнее поразмыслить над тем, что означают или что должны были означать охарактеризованные в предшествующем рассуждении сущностные взаимосвязи между предметом и сознанием, мы ощутим некую двусмысленность, а, прослеживая ее, мы заметим, что нам в наших исследованиях предстоит совершить огромный поворот. Предмету мы соопределяем многообразия «предложений» и, соответственно, переживаний с известным ноэматическим смысловым наполнением, причем так, что благодаря нему становятся возможными априорные синтезы отождествления, в силу которых предмет может и должен пребывать здесь как тот же самый. В различных актах и, соответственно, в ноэмах таковых, наделенных различным «содержательным наполнением определениями», X необходимо сознается как то же самое. Но действительно ли это X — тоже самое? И «действителен» ли сам предмет? Не могло ли быть так, что он был недействительным, в то время как протекали бы, по мере сознания, многообразные внутренне непротиворечивые и даже исполненные созерцания предложения — все равно какого сущностного наполнения?
Нас интересуют не фактичности сознания в его протекании, а сущностные проблемы, которые следовало бы формулировать здесь. Сознание и, соответственно, сам субъект сознания судят о действительности, спрашивают о ней, предполагают ее, сомневаются в ней, решают свои сомнения, а притом осуществляют «правосудие разума». Не должно ли быть так, что в сущностной взаимосвязи трансцендентального сознания, следовательно, чисто феноменологически, могла бы достигать ясности сущность такого права и, коррелятивно, сущность «действительности» — в сопряжении их со всеми разновидностями предметов и согласно всем формальным и региональным категориям?
Итак, в наших словах о ноэтически-ноэматическом «конституировании» предметностей, например, вещных предметностей, была заложена двусмысленность. Во всяком случае под предметностью мы мыслили по преимуществу «действительные» предметы, вещи «действительного мира» или, по меньшей мере «такого-то одного» действительного мира вообще. Однако что означает «действительно» для предметов, какие, по мере сознания, даны лишь посредством смыслов и предложений? Что означает это для самих этих предложений, для сущностного склада ноэм и, соответственно, параллельных им ноэс? Что означает это для особых способов их строения, по форме и наполнению? Как особится такое строение согласно особенным регионам предметов? Следовательно, вопрос таков: как, пребывая в пределах феноменологической научности, описывать — ноэтически и, соответственно, ноэматически — все те взаимосвязи сознания, какие делают необходимым, именно в его действительности, предмет просто как таковой (что по смыслу обычной речи всегда и означает действительный предмет). В дальнейшем же смысле предмет — «все равно, действительный или нет» — «конституируется» в известных взаимосвязях сознания, заключающих в себе единство, доступное усмотрению, — постольку, поскольку они, по мере сущности, влекут за собой сознание тождественного X.
На деле изложенное затрагивает не просто действительности в некоем отчетливом смысле. Вопросы действительности заложены в любом познании как таковом, в том числе и в нашем феноменологическом познании, сопрягаемом с возможным конституированием предметов: ведь любое познание обладает, в качестве своего коррелята, «предметами», какие подразумеваются как «действительно сущие». Когда же — так можно вопрошать всегда и везде — ноэматически «подразумеваемая» тождественность X есть «действительная тождественность» вместо «просто» подразумеваемой и что бы такое означала такое «просто подразумеваемое»?
Итак, мы должны посвятить новые размышления проблемам действительности и проблемам коррелятивным таковым — проблемам сознания разума, сознания, их в себе выявляющего.
Глава вторая. Феноменология разума
Когда говорят о предметах попросту, то нормальным образом подразумевают действительные, истинно сущие предметы соответственной категории бытия. Что бы тогда ни говорили о предметах, — если только говорят разумно, — то как подразумеваемое, так и высказываемое должно при этом «обосновываться», «подтверждаться», давать себя прямо «видеть» или опосредованно «усматривать». В принципе в сфере логической, т. е. в сфере высказываний, «истинно» или «действительно» быть и «быть разумно подтверждаемым» обретаются в корреляции, — так это для всех доксических модальностей бытия и, соответственно, полагания. Само собой разумеется, что обсуждаемая сейчас возможность разумного подтверждения понимается у нас не как эмпирическая, но как «идеальная», как возможность сущностная.
§ 136. Первая из основных форм сознания разума: первозданно дающее «видение»
Если спросить теперь, что же такое разумное подтверждение, т. е. в чем состоит сознание разума, то интуитивное припоминание примеров и самое начало совершаемого сущностного анализа таковых тотчас же предоставляет нам несколько различий:
Прежде всего различие между позициональными переживаниями, в каких полагаемое достигает первозданной данности, и такими, в каких таковое этой данности не достигает, — стало быть, между «воспринимающими», «видящими» актами — актами в предельно широком смысле — и актами не «воспринимающими».
Так, сознание воспоминания, скажем, пейзажа, — не первозданно: пейзаж не воспринят, как если бы мы действительно видели его. Мы не хотим сказать этим, что такое сознание лишено своего собственно права, но вот именно «видящим» оно не является. Аналог выступающей здесь противоположности феноменология раскрывает для всех видов позициональных переживаний, — так, мы можем «слепо» предицировать, что 2 + 1 = 1 + 2, однако это же самое суждение мы можем осуществлять и способом усмотрения. Тогда положение дел, предметность, соответствующая синтезу суждения, дана первозданно, из самого источника и постигнута первозданным образом. После же того, как живое усмотрение совершено, оно испытывает затемнение, переходя в модификацию ретенции. Пусть последняя и имеет преимущество разумности по сравнению с каким-либо еще темным или запутанным сознанием того же самого ноэматического смысла, например, по сравнению с «бездумным» воспроизведением когда-то давно выученного и, может быть, даже усмотренного, — но первозданно дающим сознанием она уже не является.
Все такие различия никак не задевают голый смысл и, соответственно, голое предложение, потому что предложение — тождественно во всех членах двух противоположных примеров, и по мере сознания оно тоже в любой миг усмотримо как тождественное. Различие касается способа, каким простой смысл и, соответственно, просто предложение суть смысл и предложение исполненные или не исполненные, — будучи просто абстрактами, они в конкреции ноэмы сознания требуют некоторых дополнительных моментов.
Одной полноты смысла мало, тут дело и в том, как ис-полнения. Один способ переживания смысла — «интуитивный», когда «подразумеваемый как таковой предмет» наглядно сознается, а при этом особо отмеченный случай — это тот, когда способ созерцания именно — первозданно, из самого источника, дающий. Когда пейзаж воспринимается, смысл перцептивно ис-полнен, воспринимаемый предмет — с его цветом, формами и т. д. (постольку, поскольку таковые оказываются в восприятии) — сознается по способу «физически-живого». Подобного рода отмеченность мы обнаруживаем и во всех сферах актов. Само же положение дел вновь, в духе параллелизма, — двойственное: ноэтическое и ноэматическое. В установке на ноэму мы обретаем характеристику живо-физического (первозданную ис-полненность) в ее слитости с голым смыслом, а смысл, наделенный такой характеристикой, функционирует как подоснова ноэматического характера полагания, или, что в данном случае то же самое, характера бытия. Параллельное же значимо в установку на ноэсу.
Специфический же характер разума свойствен характеру полагания в качестве отмеченности, каковая, по мере сущности, подобает ему тогда и только тогда, когда он есть полагание на основе ис-полненного, первозданно дающего смысла — не вообще какого-то.
Сейчас, как и во всех видах сознания разума, особое значение приобретает разговор о принадлежании. Вот пример: ко всякому явлению вещи в живо-телесном принадлежно полагание, и таковое не просто вообще едино с этим явлением (скажем, как попросту всеобщий факт, — что сейчас не относится к делу), оно едино с ним весьма своеобразно — оно «мотивировано» явлением, и однако и в этом случае тоже не попросту вообще, но «мотивировано разумно». Это означает: полагание обладает своим изначальным правовым основанием в этой первозданной данности. В иных способах данности правовое основание вовсе не отсутствует, однако отсутствует преимущество изначального основания, каковое при относительном расценивании правовых оснований играет свою особо отмеченную роль.
Равным образом полагание сущности или же некоторого сущностного положения дел, данных «первозданно» в сущностном видении, принадлежно не к чему-либо, но именно к его «материи полагания», к «смыслу» по его способу данности. Тогда полагание — разумное, а как достоверность верования, — изначально мотивированное; оно обладает специфическим характером полагания «усматривающего». Если же полагание — слепое и если значения слов совершаются на основе темной и сознаваемой путано подосновы акта, то тут необходимо недостает разумного характера усмотрения, — подобный характер по мере сущности несовместим с таким способом данности (если еще угодно употреблять это последнее слово) положения дел и, соответственно, с таким оснащением смыслового ядра. С другой же стороны, это не исключает вторичного характера разума, как показывает пример несовершенной реактуализации в воспоминании сущностных познаний.
Итак, усмотрение и вообще очевидность есть событие исключительной отмеченности; по своему «ядру» очевидность есть единство разумного полагания со всем мотивирующим ее по мере сущности, причем все такое положение дел может разуметься ноэтически, а также и ноэматически. По преимуществу же слова относительно мотивации подходят к сопряженности полагания — ноэтического и ноэматической положенности по его способу ис-полненности. Выражение «очевидное предложение» непосредственно вразумительно в его ноэматическом значении.
Двусмысленность слова «очевидность», применяемого то к ноэтиче-ским характеристикам, и, соответственно полным актам (к примеру: очевидность с какой выносится суждение), то к ноэматическим предложениям (к примеру: очевидное логическое суждение, очевидное предложение высказывания), — это один из случаев всеобщей и необходимой двузначности всех выражений, сопрягаемых с моментами корреляции между ноэсисом и ноэмой. Феноменологическое обнаружение истока такой двузначности лишает ее какой-либо вредности и даже позволяет понять ее необходимость.
Остается отметить, что слово «ис-полнение» обладает и расположенной в совсем ином направлении двусмысленностью: «ис-полнение» — это и «исполнение интенции», т. е. характеристика, обретаемая актуальным тезисом вследствие особенного модуса смысла, и сама же особенность модуса или же особенность соответствующего смысла, скрывающая в себе разумно мотивирующую «полноту».
§ 137. Очевидность и усмотрение. «Первозданная» и «чистая», ассерторическая и аподиктическая очевидность
Двойные примеры, какими мы воспользовались выше, одновременно иллюстрируют и второе и третье важные различия. То, что мы обычно называем очевидностью и усмотрением (или усматриванием) — это позициональное доксическое — притом адекватно дающее сознание, исключающее какое-либо «инобытие»; тезис же благодаря адекватной данности мотивирован совершенно исключительным образом, он есть в высшей степени акт «разума». Это показывает нам пример из арифметики. В примере же с пейзажем у нас есть, правда, видение, но только не очевидность в обычном отчетливом смысле слова, не «усмотрение». Если же мы рассмотрим примеры точнее, то в их контрастности заметим двойное различение: в одном примере все дело — в сущностях, в другом — в индивидуальном; во-вторых же первозданная данность в эйдетическом примере — адекватная, в примере же из сферы опыта — неадекватная. Оба различения могут еще, при обстоятельствах, и пересекаться, и они позднее окажутся весьма значительными, что касается вида очевидности.
Что до первого различения, то феноменологически следует констатировать, что, так сказать, «ассерторическое» видение чего-то индивидуального, например, когда мы «замечаем» вещь или индивидуальное положение дел, сущностно отличается в своем разумном характере от видения «аподиктического», от усмотрения сущности или сущностного положения дел, однако также и от такой модификации усмотрения, какая может совершаться путем смешения одного и другого, как когда мы применяем усмотрение к чему-либо ассерторически увиденному или же вообще познаем необходимость бытия таким для такого-то отдельного.
Слова «очевидность» и «усмотрение» понимают как равнозначные в обычном отчетливом смысле — понимают их как аподиктическое усмотрение. Мы же терминологически разделим оба слова. И нам безусловно необходимо более общее слово, какое охватывало бы своим значением ассерторическое видение и аподиктическое усмотрение. Следует рассматривать как феноменологический вывод огромной важности то, что и то, и другое действительно относится к одному роду сущностей и что — постигая это еще более общо — разумное сознание означает вообще высший род тетических модальностей, внутри которого как раз «видение» (в расширенном до крайности смысле), сопрягаемое с первозданной данностью, составляет видовое образование со своими четкими границами. Теперь, чтобы наименовать высший род, у нас есть выбор — либо мы расширим (как делали вот только что, но заходя в этом еще куда дальше) значение слова «видение», либо значение слов «усмотрение», «очевидность». Для наиболее общего понятия самым подходящим будет выбрать слово «очевидность», — тогда для любого тезиса разума, характеризующегося мотивационной сопряженностью с первозданностью данного, само собою представиться выражение «первозданная очевидность». Далее, следовало бы различать ассерторическую и аподиктическую очевидность, оставляя за словом «усмотрение» лишь обозначение «аподиктичности». В дальнейшем надлежало бы противопоставлять чистое и нечистое усмотрение (например, усмотрение необходимости того фактического, бытию какого не приходится даже и быть очевидным), и точно так же — столь же общо — чистую и нечистую очевидность.
Если же продолжать изыскания в глубину, то выступят и дальнейшие различения — различения среди мотивирующих подоснов, задевающих характер очевидности. К примеру, различение чисто формальной («аналитической», «логической») и материальной (синтетически-априорной) очевидности. Однако пока мы не в праве выходить за рамки самых первых начертаний.
§ 138. Адекватная и неадекватная очевидность
Примем теперь во внимание второе из указанных выше различений очевидности — различение, взаимосвязанное с различием адекватной и неадекватной данности; оно в то же самое время даст нам повод описать особо отмеченный тип «нечистой» очевидности. Хотя полагание на основе живого, телесного явления вещи есть полагание и разумное, однако явление всегда — лишь одностороннее, «несовершенное»; не только «собственно» являющееся — вещь предстоит как живо-телесное — как сознаваемое так, но и попросту сама вот эта самая вещь, само целое — сообразно совокупному, хотя лишь односторонне наглядному, а притом и многообразно неопределенному смыслу. Притом «собственно» являющиеся вещи никак не отделить в качестве особой вещи для себя, — ее смысловой коррелят составляет лишь несамостоятельную часть во всей полноте вещного смысла, а такая часть может обладать смысловым единством и смысловой самостоятельностью в таком целом, какое необходимо скрывает в себе пустые и неопределенные компоненты.
В принципе нечто вещно-реальное, некое бытие с таким смыслом в качестве такого замкнутого явления может являться лишь «неадекватно». С этим, по мере сущности, взаимосвязано то, что ни одно полагание разума, покоящееся на такой неадекватно дающем явлении, не может быть «окончательным», ни одно не может быть «непревозмогаемым», и то, что ни одно полагание в своем индивидуальном обособлении не равнозначно безусловному — «Вот эта вещь действительна», — а равнозначно лишь — «Вот это действительно», — последнее в предположении, что дальнейший ход опыта не принесет с собой «более сильных мотивов разума», благодаря каким первоначальное полагание выступило бы в дальнейшей взаимосвязи как подлежащее «перечеркиванию». При этом разумно мотивированно полагание лишь явлением в себе и для себя, — несовершенно ис-полненным смыслом восприятия, — рассматривая таковое в его индивидуальном обособлении.
Итак, феноменологии разума надлежит изучать в сфере тех видов бытия (трансценденций в смысле реальностей), что в принципе могут даваться лишь неадекватно, различные, априорно предначертанные в этой сфере события. Ей надлежит довести до ясности, в каком отношении ко всем новым и новым, непрерывно переходящим друг в друга явлениям с одним и тем же определимым X находится неадекватное сознание данности, одностороннее явление, пребывающее в непрерывном поступательном движении, какие сущностные возможности вытекают отсюда в результате; каким образом возможен тут, с одной стороны, поступательный ход опыта, непрестанно разумно мотивируемый непрерывно-континуально предшествующими полаганиями разума, — именно тот самый ход опыта, в каком заполняются пустоты предшествующих явлений, конкретнее определяются неопределенности — и так все непрестанно, по способу последовательно согласующего ис-полнения с его постоянно все нарастающей силой разума. С другой же стороны, нужно прояснить возможности противоположного — случаи слияний или политетических тезисов несогласицы, «определения в качестве иного» постоянно сознаваемого тем же самым X — определения его иначе, нежели то соответствовало первоначальному придаванию смысла. При этом надо показать, как компоненты полагания из ранее протекавшего восприятия вместе с их смыслом претерпевают перечеркивание, как, при известных обстоятельствах, все восприятие, так сказать, взрывается, распадаясь на «противоборствующие вещные постижения», подступы к вещным полаганиям, как снимают себя тезисы таких подступов, своеобразно модифицируясь в таком своем снятии, или как известный тезис, оставаясь немодифицированным, «обуславливает» перечеркивание «противо-тезиса», — и какие бы подобные события ни встретились еще тут.
Ближайшим образом следует изучать и своеобразные модификации, претерпеваемые первоначальными полаганиями разума вследствие того, что в поступательном ходе согласующего ис-полнения они испытывают позитивное феноменологическое возрастание, что касается их мотивирующей «силы, что их вес» непрестанно увеличивается, так что они хотя и постоянно и сущностно содержат в себе вес — однако вес, различный в своей градации. Далее, следует анализировать и другие возможности — в аспекте того, каким образом вес полаганий страдает от своих «противомотивов», каким образом они в сомнительных случаях «удерживают друг друга в равно-весии», каким образом одно полагание, конкурируя с другим, может быть «пере-вешано» более тяжелым — «более сильным» весом и тогда «отброшено» и т. д.
Для всего этого, естественно, необходимо подвергать всеобъемлющему сущностному анализу те происходящие в самом смысле события (как сопринадлежной материи полагания), какие определяют, по мере сущности, изменения характера полагания (к примеру, события «противоборствования», или же «состязания» явлений). Ибо здесь, как и повсюду в феноменологической сфере, нет случайностей, нет фактичностей — все определенно мотивировано по мере сущности.
Равным образом следовало бы — во взаимосвязи общей феноменологии ноэтических и ноэматических данностей — проводить сущностное исследование всех видов непосредственных актов разума.
Любому региону и любой категории заявляющих о себе предметов феноменологически соответствует не только некий основополагающий вид смыслов и соответственно, предложений, но и основополагающий вид первозданно дающего сознания таких смыслов, а также принадлежный такому виду основополагающий тип первозданной очевидности, какая мотивирована, по мере сущности, так устроенным видом первозданной данности.
Любая такая очевидность — разумея слово в нашем расширенном смысле — это либо адекватная очевидность, какую в принципе невозможно ни «подкрепить», ни «лишить силы» и какая, следовательно, обходится без градаций веса, либо неадекватная и тем самым способная к возрастанию и убыванию. Возможен ли в такой сфере тот или этот вид очевидности, зависит от типа этой сферы, к какому она принадлежит по своему роду; итак вид очевидности априорно пред-образован, и было бы противосмысленно требовать совершенства, принадлежащего к очевидности в одной сфере (например, в сфере сущностных сопряжений), требовать в иных сферах, которые по мере сущности исключают подобное совершенство.
Надо отметить еще, что мы вправе переносить изначальное, сопряженное со способом данности, значение понятий «адекватно» и «неадекватно» на фундируемое ими сущностное своеобразие самих же полаганий разума, причем именно в силу такой взаимосвязи, — одна из тех неизбежных подстановок через перенос, какие безвредны, как только поняты как таковые, при вполне сознательном различении изначального и выводимого.
§ 139. Сплетенности всех видов разума. Истина — теоретическая, аксиологическая и практическая
Согласно излагавшемуся до сих пор полагание все равно какого качества обладает, как полагание своего смысла, своим правом, если полагание разумно; именно сам же характер разума и есть характер правоты, какой «подобает» последней по мере сущности, стало быть, не как случайный факт в случайных обстоятельствах какого-либо полагающего фактичность Я. Коррелятивно и предложение тоже именуется оправданным: в сознании разума оно пребывает, будучи наделенным ноэматическим характером правоты, каковой далее вновь принадлежит по мере сущности к предложению как так-то и так-то квалифицируемому ноэматическому тезису и вот такой материи смысла. Говоря точнее, к предложению «принадлежит» так-то и так-то устроенная полнота, которая со своей стороны обосновывает отмеченность тезиса разумом.
Тут предложение само по себе обладает правом. Однако может быть и так, что «что-либо говорит в пользу такого-то предложения»; и не будучи «само» разумным, предложение все же может быть причастным к разуму. Чтобы остаться в доксической сфере, вспомним о своеобразной взаимосвязи, в какой доксические модальности обретаются с пра-доксой;[136] все они указывают назад — на нее. Если, с другой стороны, мы рассмотрим принадлежные к этим модальностям характеристики разума, то сама собою напрашивается мысль, что все они, столь различные по материи и мотивационному статусу, так сказать, указывают назад на единый характер пра-разума, принадлежный к домену пра-верования — на случай очевидности первозданной и в конце концов совершенной. Становится заметно, что между этими двумя видами указывания назад существуют глубоко заложенные сущностные взаимосвязи.
Чтобы отметить лишь следующее: допущение может характеризоваться в себе как разумное. Если мы последуем за заложенным в нем указанием назад — на соответствующее пра-верование и усвоим себе таковое в форме некоего «приступа к полаганию», то «нечто говорит в пользу верования». Не само верование, просто как таковое, характеризуется как разумное, хотя оно и причастно к разуму. Мы видим: здесь необходимы дальнейшие, относящиеся к теории разума, размежевания и соответствующие таковым разыскания. Начинают выступать сущностные взаимосвязи между различными качествами со свойственными им характерами разума, причем взаимосвязи обоюдные; а в конце концов все линии сбегаются назад к пра-верованию и его пра-разуму — и, соответственно, к «истине».
Очевидно, истина — это коррелят совершенного характера разума, присущего пра-доксе, достоверности верования. Выражения «Предложение пра-доксы, например, предложение высказывания, истинно» и «Соответствующему верованию, вынесению суждения подобает совершенный характер разума» — это эквивалентные корреляты. Естественно, у нас нет речи о факте переживания и о выносящем суждение, хотя эйдетически само собой разумеется, что истина может быть актуально дана лишь в актуальном сознании очевидности, а следовательно, и истина самого этого само собою разумеющегося тоже, истина выше отмеченной эквивалентности тоже. Если же у нас нет пра-доксической очевидности, нет присущей таковой достоверности верования, то, говорим мы, вместо смыслового содержательного наполнения таковой — «S есть Р», может быть очевидной одна из доксических модальностей, например, предположение — «S, может быть, есть Р». Такая модальная очевидность явно эквивалентна некой пра-доксической очевидности с измененным смыслом и необходимо соединена с таковой, а именно с очевидностью — и, соответственно, истиной — «Что S есть Р, предположительно (вероятно)»; с другой же стороны, и с истиной «В пользу того, что S есть Р, говорит нечто»; и далее — «В пользу того, что S истинно есть Р, говорит нечто» и т. д. Вместе со всем этим начинают выступать сущностные взаимосвязи, нуждающиеся в феноменологических исследованиях происхождения.
«Очевидность» же — никоим образом не просто рубрика всех подобных событий разума в сфере верований (или, тем более, только в сфере предикативного суждения), но это рубрика для всех тетических сфер, а в особенности для значительных протекающих между ними сопряжений разума.
Это, следовательно, касается в высшей степени трудных и широкоохватных групп проблем разума в сфере тезисов душевного и волевого,[137] равно как и переплетений последних с «теоретическим», т. е. доксическим разумом. «Истина теоретическая», или «доксологическая», и, соответственно, очевидность получает в качестве параллели себе «истину аксиологическую и практическую и, соответственно, очевидность», причем «истины» рубрик, названных последними, достигают своего выражения и познания в истинах доксологических, а именно специфически логических (апофантических).[138] Не приходится говорить о том, что для разработки подобных проблем основополагающими должны стать исследования в духе тех, к каким пытались приступать мы выше, — исследования, касающиеся сущностных сопряжений, соединяющих доксические тезисы со всеми иными видами полагания, с полаганиями душевного и волевого, а также сущностных сопряжений, возводящих доксические модальности назад к пра-доксе. Именно посредством всего этого можно сделать вразумительным — на самых последних основаниях — то, почему достоверность верования и, в полном соответствии с этим, истина играют столь преобладающую роль во всяком разуме — роль, которая, кстати говоря, сейчас же обращает в нечто само собою разумеющееся то, что проблемы разума в доксической сфере, что касается разрешения их, должны предшествовать проблемам разума аксиологического и практического.
§ 140. Подтверждение. Оправдание помимо очевидности. Эквивалентность позиционального и нейтрального усмотрения
Нужны дальнейшие штудии проблем, какие преподносят нам те связи взаимного «перекрывания», какие (чтобы только назвать особо отмеченный случай) необходимо устанавливать, по их сущности, между актами того же самого смысла и того же самого предложения, однако различной ценности по разуму. Так, к примеру, могут перекрывать друг друга акт очевидный и акт неочевидный, причем при переходе от последнего к первому первый принимает характер обосновывающего, последний — обосновывающегося. Полагающее усмотрение одного функционирует как «подтверждающее» для неусматривающего полагания другого. «Предложение» «подтверждается», или «оправдывается», несовершенный способ данности преобразуется в совершенный. Как выглядит, как может выглядеть подобный процесс, предначертано сущностью соответствующих видов полагания и, соответственно, сущностью соответствующих предложений в их совершенной ис-полненности. Для любого рода предложений должны быть феноменологически прояснены формы принципиально возможного их оправдания.
Если полагание не неразумно, то из его сущности необходимо извлекать мотивированные возможности того, что оно может — и как оно может — быть переведено в оправдывающее его актуальное разумное полагание. Можно усматривать, что не всякая несовершенная очевидность предписывает при этом такой путь ис-полнения, какой непременно завершится соответствующей первозданной очевидностью, очевидностью того же самого смысла, — напротив, известные виды очевидности в принципе исключают подобное первозданное оправдание. Это так для воспоминания о былом, в известной мере для всякого воспоминания вообще, а также, по мере сущности, и для вчувствования, каковой мы в следующей книге соотнесем известный основополагающий вид очевидности (и какую мы будем конкретнее исследовать там). Во всяком случае сейчас нами отмечены весьма важные феноменологические темы.
Следует еще принять во внимание и то, что та мотивированная возможность, о которой шла речь выше, решительно отличается от пустой возможности;[139] она определенно мотивирована тем, что заключает в себе предложение — в той своей ис-полненности, в какой оно дано. Вот что такое пустая возможность — это, например, возможность того, чтобы вот этот письменный стол имел — с той нижней своей стороны, какая вот сейчас не видна, — десять ножек, вместо четырех, какие имеет он в действительности. А для определенного восприятия, какое я осуществляю именно сейчас, такая четверка есть, напротив, мотивированная возможность. Для всякого восприятия вообще мотивировано то, что «обстоятельства» восприятия могут известным образом изменяться, что «вследствие» этого восприятия, следуя известным способам, может переходить в ряды восприятия — в определенным образом устроенные ряды, какие предначертаны смыслом моего восприятия и какие ис-полняют мое восприятие, подтверждая полагание такового.
В остальном же, относительно «пустых» или «простых» возможностей подтверждения, вновь следует различать два случая: либо возможность покрывается действительностью, а именно так, что усмотрение возможности ео ipso влечет за собою первозданное сознание данности и сознание разума, либо же это не так. Последнее значимо в только что использованном нами примере. Действительный опыт, а не просто пробегание «возможных» восприятий в их реактуализации — вот что дает нам действительное подтверждение полаганий, восходящих к реальному, скажем, полаганий существований природных процессов. Напротив того в случае полагания сущности и, соответственно, в случае сущностной положенности наглядная реактуализация ее совершенного ис-полнения равнозначна самому ис-полнению, подобно тому как наглядная реактуализация и даже простое фантазирование сущностной взаимосвязи и усмотрение таковой — «равнозначны», т. е. одна переходит в другое путем простого изменения установки, и возможность такого обоюдного перехода — не случайна, но сущностно необходима.
§ 141. Непосредственное и опосредованное полагание разума. Опосредованная очевидность
Как известно, любое опосредованное обоснование восходит назад — к непосредственному. Праисточник всего права — что касается всех областей предметов и сопрягаемых с ними полаганий — заключен в непосредственной и, если поставить еще более узкие границы, — первозданной очевидности. Косвенно же черпать из этого источника можно различными способами; из него можно выводить, а если полагание — непосредственно, то им можно подтверждать и укреплять разумную ценность такого полагания, какое в себе самом отнюдь не обладает очевидностью.
Рассмотрим последний случай. Укажем на примере те трудные проблемы, какие касаются сопряженности неочевидных непосредственных полаганий разума с первозданной очевидностью (в нашем смысле, сопрягаемом с первозданностью данного).
Любое ясное воспоминание обладает — известным образом — своим изначальным непосредственным правом: рассмотрение в себе и для себя, оно что-то «весит» — все равно, много ли, мало ли, — у него есть свой «вес». Однако право его относительно и несовершенно. Что касается всего, что реактуализирует воспоминание, — скажем, прошлое, — то в воспоминании заложена сопряженность с актуально настоящим. Оно полагает прошлое и вместе с тем необходимо со-полагает известный горизонт — пусть даже и неопределенным, темным, расплывчатым образом; будь последний доведен до ясности и тетической отчетливости, он допускал бы свою экспликацию в виду целой взаимосвязи тетически осуществленных воспоминаний, каковая завершалась бы актуальными восприятиями, актуальным hicet nunc. То же самое значимо для любого рода воспоминания в нашем предельно широком, сопрягающимся с любыми модусами временного смысле.
Вне всякого сомнения, в таких предложениях высказываются сущностные усмотрения. Последние указывают на такие сущностные взаимосвязи, вместе с раскрытием которых прояснился бы смысл и вид оправдания, на какие способно и в каких «нуждается» любое воспоминание. Воспоминание подтверждается всяким шагом от воспоминаний к воспоминанию — всяким шагом, уводящим внутрь проясняющей взаимосвязи воспоминания, самый последний конец каковой простирается в само настоящее восприятий. Подтверждение до известной степени и взаимное, вес всякого вспоминаемого функционально зависит от веса всего прочего вспоминаемого, воспоминание во взаимосвязи обладает силой, возрастающей по мере расширения связи, силой большей, нежели та, какой обладало бы оно в узкой связи или в своей индивидуальной обособленности. Если же эксплицирование доведено до актуального «теперь», то на весь ряд воспоминаний проливается нечто подобное свету восприятия и его очевидности.
Можно было бы даже сказать: разумность и правовой характер воспоминания тайно проистекает из силы восприятия, что действенна во всей смутности и темноте, находись она даже и «вне совершения».
Однако во всяком случае есть нужда в таком оправдании — с тем чтобы ясно выступало наружу, что же туг, собственно, несет на себе опосредованный отблеск восприятия с его правом. Воспоминанию присущ свои вид неадекватности — в том, что с «действительно вспоминаемым» может смешиваться невспоминаемое, или же в том, что различные воспоминания могут проникать друг другу, выдавая себя за единство одного воспоминания, между тем как при актуализующем разворачивании его горизонта принадлежные сюда ряды воспоминаний расстанутся друг с другом, причем так, что единый образ воспоминания «взорвется», разойдясь в множественность несовместимых друг с другом созерцаний, — тут пришлось бы описывать происходящие события, похожие на те, какие при случае указывали мы (способом, явно допускающим значительную степень обобщения) для восприятий.[140]
Все сказанное пусть послужит нам в качестве указания на примерах больших и важных групп проблем — проблем «подтверждения» и «оправдания» непосредственных полаганий разума (равно как и в качестве иллюстрации разделения полаганий разума на чистые и нечистые, несмешанные и смешанные); прежде же всего тут можно постигнуть тот смысл, в каком значимо положение о том, что всякое опосредованное разумное полагание, а в дальнейшем и всякое предикативное и понятийное познание ведет назад — к очевидности. Разумеется, лишь первозданная очевидность есть «изначальный» источник права, а, для примера, разумное полагание воспоминания и точно так же всех репродуктивных актов, в том числе и вчувствования, не изначально и «выведено» согласно известным видам полагания.
Однако из источника первозданной данности можно черпать и в совершенно иных формах.
Одна из таких форм уже неоднократно указывалась при случае — это ослабление разумных ценностей в сплошном переходе от живой очевидности к неочевидности. Сейчас же укажем и на сущностно иную группу случаев, когда известное предложение опосредованно сопрягается с непосредственно очевидными основаниями в синтетической взаимосвязи, очевидной во всех своих шагах. Вместе с этим перед нами встает новый общий тип полаганий разума, феноменологически иного характера разума, нежели непосредственная очевидность. Так что и тут мы получаем разновидность выводимой, «опосредованной очевидности» — ту самую, на какую обыкновенным образом исключительно и нацеливаются, когда пользуются этим выражением. Однако по своей сущности такой выведенный характер очевидности может выступать лишь в качестве последнего звена такой взаимосвязи полагания, какая исходит из непосредственных очевидностей, протекает в различных формах и во всех своих дальнейших шагах опирается на очевидности, причем эти последние — отчасти непосредственные, отчасти уже выведенные, отчасти усмотримые, отчасти неусмотримые, первозданные и непервозданные. Тем самым обозначено новое поле феноменологического учения о разуме. Здесь задача — и в ноэтическом, и в ноэматическом аспекте — изучать сущностные события разума, как генеральные, так и специальные, в непосредственном обосновании, обнаружении любых видов и форм и во всех тетических сферах, возводить к их феноменологическим истокам, делая их «вразумительными» на основании таковых с учетом всех соучаствующих феноменологических слоев, различные «принципы» такого обнаружения-обоснования, которые, к примеру, бывают существенно иными, идет ли речь о предметностях имманентных или трансцендентных, дающихся адекватно и неадекватно.
§ 142. Тезис разума и бытие
Вместе со всеобщими сущностными уразумениями разума, что и есть цель указанных выше групп исследований, — разума же в наиширочайшем, простирающемся на все виды полагания, в том числе и на аксиологические и практические, смысле, — непременно ео ipso должно быть обретено прояснение сущностных корреляций, связующих идею истинно бытия с идеями «истина», «разум», «сознание».
Тут очень скоро наступает генеральное усмотрение, а именно усмотрение того, что эквивалентные корреляты — это не только «истинно сущий предмет» и «разумно полагаемый предмет», но и «истинно сущий» и полагаемый в изначальном совершенном тезисе разума предмет. Такому тезису разума предмет давался бы не неполностью, не просто «односторонне». Подлежащий ей в качестве материи смысл ни с какой предначертанной по мере постижения стороны не оставлял бы ничего «открытого» в отношении определимого X, — тут не было бы определимости, не ставшей определенностью, не было бы смысла, не ставшего полностью определенным, завершенным. А коль скоро тезис разума — не какой-нибудь, но изначальный, то он своим разумным основанием должен обладать в первозданной данности определившегося в полноте смысла: X не просто подразумевается в полной определенности, но первозданно дан не в какой-либо, но именно в таковой. Указанная эквивалентность гласит теперь:
В принципе (в априори безусловной сущностной всеобщности) любому «истинно сущему» предмету соответствует идея возможного сознания, в каком сам предмет схватываем первозданно, а притом совершенно адекватно. Наоборот: если такая возможность обеспечена, предмет ео ipso — истинно сущий.
Особым значением отличается здесь еще и следующее: в сущности любой категории постижения (коррелята любой предметной категории) определенно предначертано, какие образования конкретных, совершенных или несовершенных постижений предметов такой-то категории вообще возможны. И наоборот: для всякого несовершенного постижения предначертано, по мере сущности, как его усовершенствовать, как дополнять до целого его смысл, как ис-полнять его созерцанием и как в дальнейшем обогащать созерцание.
Любая предметная категория (и, соответственно, любой регион и любая категория в нашем суженном, отчетливом смысле) — это всеобщая сущность, какую и саму можно в принципе доводить до адекватной данности. В своей же адекватной данности категория предписывает усмотримое генеральное правило — предписывает любому особенному, осознаваемому в многообразиях конкретных переживаний предмету (переживания здесь, естественно, берутся не как индивидуальные единичности, но как сущности, как конкретности низшего вида). Предметная категория предписывает правило для того способа, каким подчиненный ей предмет можно было бы, по смыслу и способу данности, приводить к полной определенности, к адекватной первозданной данности, какими отъединенными или же непрерывно протекающими взаимосвязями сознания, каким конкретным наделением сущностью этих взаимосвязей. Сколь много заключено в этих коротких предложениях станет понятно благодаря более конкретному изложению заключительной главы (начиная с § 149). Пока же довольно для примера и одного намека на видимые нами определенности такой-то вещи — это, как и все вещные определенности вообще, мы знаем с аподиктической очевидностью — это необходимо пространственные определенности, и это дает сообразное с закономерностью правило для всех возможных способов пространственного восполнения незримых сторон являющейся вещи — правило, какое в своей полной развернутости именуется чистой геометрией. Дальнейшие же вещные определенности суть определенности временные, суть определенности материальные: от них неотделимы новые правила возможных (следовательно, не произвольных) дополнений смысла, а далее и возможных тетических созерцаний и, соответственно, явлений. Априорно предначертано и то, какого сущностного содержательного наполнения могут быть эти последние, каким нормам подчиняются их материалы, их возможные ноэматические и, соответственно, ноэтические характеры постижения.
§ 143. Адекватная данность вещи как идея в кантовском смысле
Однако прежде чем мы станем исходить отсюда, нам необходимо одно дополнение, призванное устранить видимость противоречия с нашим прежним изложением. Тогда мы говорили, что в принципе имеются лишь неадекватно являющиеся (следовательно, лишь неадекватно воспринимаемые) предметы. Однако не следует упускать из виду прибавляемое далее ограничение. Мы говорили так: доступные неадекватному восприятию в своем завершенном явлении. Бывают такие предметы — к ним принадлежат все трансцендентные предметы, все «реальности», обнимаемые рубриками «природа» или «мир», какие не могут быть даны ни в каком завершенном сознании в полной своей определенности и в столь же полной своей наглядности.
Однако как «идея» (в кантовском смысле) полная данность все равно предначертана — как система (по своему сущностному типу абсолютно определенная) бесконечных процессов непрерывно-континуального явления и, соответственно, как априорно определенный, в качестве поля таких процессов, континуум явлений с различными, однако определенными измерениями, — континуум, насквозь пронизанный твердой сущностной закономерностью.
Конкретнее такой континуум определяется как бесконечный во все стороны, во всех своих фазах состоящий из явлений того же самого доступного определению X, причем в такой связной упорядоченности и определенности своим сущностным содержательным наполнением, что любая произвольно выбранная линия такого континуума дает в своем гладком пробегании внутренне согласную взаимосвязь явления (таковую в свою очередь должно определить как единство подвижного явления), в каком одно и то же постоянно даваемое X при своей конкретизации определяется континуально-согласно — и никогда не определяется «инаково».
Коль скоро же завершенное и замкнутое единство пробегания, следовательно конечный и только что подвижный акт — не мыслим (в силу бесконечности — во все стороны — такого континуума), — в противном случае возникала бы противосмысленная конечная бесконечность, — то идея такого континуума и идея преобразуемой таковым совершенной данности лежит перед нами как доступная усмотрению — усмотримая, как вообще может быть усмотримой «идея», своей сущностью отмечающая особый тип усмотрения.
Идея мотивированной по мере сущности бесконечности сама — вовсе не бесконечность; то усмотрение, что такая бесконечность в принципе не может быть дана, не исключает идеи такой бесконечности, а, напротив, требует усмотримой данности таковой.
§ 144. Действительность и первозданно дающее сознание: заключительные определения
Итак, все остается при том, что эйдос «истинно быть» коррелятивно равнозначен эйдосу «быть адекватно данным» и «быть с очевидностью положимым», причем либо в смысле конечной данности, либо в смысле данности в форме идеи. В одном случае бытие — «имманентное»: бытие как завершенное переживание или ноэматический коррелят переживания; в другом случае бытие — трансцендентно, т. е. «трансценденция» его заключена именно в бесконечности ноэматического коррелята, какого бытие требует в качестве своей «материи».
Однако так, где дающее созерцание адекватно и имманентно, там хотя и не совпадают смысл и предмет, зато совпадает первозданно ис-полненный, смысл и предмет. Предмет и есть именно то самое, что в адекватном созерцании схватывается, полагается как первозданное «самое», — в силу первозданности с усмотрением, в силу смысловой полноты состава и полной по составу первозданной смысловой ис-полненности — с усмотрением абсолютным.
Там же, где дающее созерцание — трансцендирующее, там предметное не может постигать своей адекватной данности, — даваться может лишь идея такого предметного и, соответственно, его смысла, его «сущности по мере познания», а тем самым известное априорное правило для — не каких-либо, но именно сообразных закону — бесконечностей неадекватного опыта.
Правда, на основе как конкретно осуществленного опыта, так и такого правила (или же многообразной системы правил, им охватываемой) невозможно однозначно установить, как сложится дальнейшее протекание опыта. Напротив, остаются открытыми бесконечное множество возможностей, которые однако по типу своему предобразованы весьма содержательной априорной системой правил. Система правил геометрии абсолютно жестко определяет все возможные фигуры движения, какие могли бы восполнить фрагмент движения, наблюдаемого сейчас и здесь, однако она особо не выделяет ни одно из действительных протеканий движения чего-то, что действительно движется. Каким образом тут помогает продвинуться вперед эмпирическое мышление, основанное на опыте, каким образом становится возможным нечто подобное научному определению вещностей как полагаемых по мере опыта единств, притом что таковые обнимают бесконечные многозначности, каким образом в рамках тезиса природы может достигаться цель однозначного определения в соответствии с идеей объекта природы, природного события и т. д. (с идеей, которая, будучи идеей чего-то индивидуально единственного, получает свое полное определение), — все это относится к новому слою исследований, к феноменологии специфически-опытного разума, специально же разума физического, психологического, вообще естественнонаучного, к феноменологии, каковая ведет назад, к феноменологическим истокам, все онтологические и ноэтические правила, принадлежные к опытной науке как таковой. Но это означает, что такая феноменология устанавливает и эйдетически исследует те феноменологические слои, как ноэтические, так и ноэматические, в русле каких протекает содержание этих правил.
§ 145. Критическое к феноменологии очевидности
Из проведенных рассуждений становится ясно, что феноменология разума, ноэтика в отчетливом смысле слова, какая намеревается подвергнуть интуитивному исследованию не сознание вообще, но сознание разумное, безусловно и исключительно предполагает существование общей феноменологии. То обстоятельство, что тетическое сознание любого рода — в царстве позициональности[141] — подчиняется нормам, само есть феноменологический факт; нормы — это не что иное, как сущностные законы, сопрягающиеся с известными ноэтическими и ноэматическими взаимосвязями, какие надлежит строго анализировать и описывать по виду и форме их. Естественно, что при этом следует всемерно учитывать, в качестве негативной противоположности разума, и «неразумие» — точь-в-точь подобно тому, как феноменология очевидности обнимает собою также и феноменологию противоположного таковой, абсурдности.[142] Общее сущностное учение об очевидности со всеми ее анализами, относящимися к всеобщим сущностным различениям, составляет относительно малый, однако фундаментальный отдел феноменологии разума. При этом подтверждается все то, что было заявлено в начале нашей книги[143] против неверных интерпретаций очевидности — и проведенных по сю пору рассуждений вполне достаточно для совершенного усмотрения этого.
И на деле, очевидность — это вовсе не какой-то индекс сознания, привешенный к суждению (а обычно ведь об очевидности говорят лишь в связи с суждениями), какой, словно мистический глас из лучших миров обращается к нам, восклицая: «Вот — истина!» — так, как если бы такому гласу было бы что сказать нам, вольным умам, и как если бы ему не надо было подтверждать свои правовые полномочия. Разбирать скептические возражения и всякие сомнения старого типа нам уже сейчас не приходится, — их не преодолеть никакой теории индекса и никакой эмоциональной теории очевидности, — не мог бы какой-нибудь Дух лжи (картезианская фикция) или же роковое изменение течения дел в этом мире привести к тому, чтобы как раз любое ложное суждение наделялось таким индексом, таким чувством мыслительной необходимости, трансцендентного долженствования и если перейти к изучению самих относящихся сюда феноменов, притом в рамках феноменологической редукции, то начинаешь понимать, с полнейшей ясностью, что речь тут идет о своеобразном модусе полагания (стало быть, ничуть не о содержании, как-то привешенном к акту, ничуть о какой-то прибавке к нему), какой принадлежен к эйдетически определенному сущностному конституированию ноэмы (так, например, модус «изначальная усматриваемость» принадлежен к ноэматической устроенности «'первозданно' дающее сущностное созерцание»). Далее же начинаешь понимать, что сопряжение позициональных актов, не обладающих такой отмеченной конституцией, с теми, какие ею обладают, вновь регулируется сущностными законами; что, к примеру, есть нечто такое, как сознание «исполнения интенции» — оправдания и укрепления, сопрягаемых с тетическими характерами, — подобно тому как имеются и противоположные, соответствующие первым, характеры лишения прав, лишения крепости-силы. Начинаешь в дальнейшем понимать, что логические принципы требуют своего глубокого феноменологического прояснения и что, к примеру, закон противоречия возвращает нас к сущностным взаимосвязям, в каких происходит возможное подтверждение и возможное лишение силы (и, соответственно, разумное перечеркивание).[144] Вообще начинаешь достигать усмотрения того, что тут везде речь идет не о случайных фактах, а об эйдетических событиях, пребывающих в своей эйдетической взаимосвязи, и что, следовательно, все, что имеет место в эйдосе, функционирует как абсолютно непреодолимая норма для факта. В этой главе феноменологии начинаешь понимать также и то, что не всякое позициональное переживание (к примеру, любое случайное переживание суждения) может становится очевидным одним и тем же образом, а специально — что не каждое может становится очевидным непосредственно; далее же, что все способы разумного полагания, все типы непосредственной или опосредуемой очевидности коренятся в феноменологических взаимосвязях, в каких ноэтически-ноэматически расходятся фундаментально различные регионы предметов.
В особенности же важно систематически, согласно с феноменологической конституцией, изучать во всех областях как непрерывно-континуальные сведения в тождественность единения, так и синтетические отождествления. Если на первых порах ты познакомился с внутренним строением интенциональных переживаний в соответствии со всеми общими структурами, — а это первое, в чем тут есть нужда, — с параллелизмом таких структур, с наслоениями ноэмы, как-то: смысл, субъект смысла, тетические характеры, полнота, то теперь во всех синтетических единениях необходимо довести до полной ясности то, что в них не просто имеют место сочетания актов, но сочетание в единство одного акта, в особенности же — каким образом возможны отождествляющие единения, каким образом определимое X тут и там совпадает, как при этом ведут себя смысловые определения и их пустые места, т. е. здесь, их моменты неопределенности, равным же образом и то, каким образом достигают ясности и аналитического усмотрения ис-полненности, а тем самым и формы подтверждения, оправдания, движущегося поступательными шагами познания на низкой и на более высокой ступени сознания.
Но только эти и все параллельные штудии разума проводятся в «трансцендентальной», феноменологической установке. Ни одно суждение, какое тут выносится, не есть суждение естественное, такое, какое предполагало бы в качестве своего заднего плана тезис естественной действительности, даже и тогда, когда тут занимаются феноменологией сознания действительности, познания природы, созерцанием и усмотрением ценностей, сопрягаемыми с природой. Повсюду мы исследуем формосложения ноэс и ноэм, мы набрасываем систематическую и эйдетическую морфологию, повсюду выделяем сущностные необходимости и сущностные возможности — последние же как возможности необходимые, т. е. как формы единения совместимого, предписываемые изнутри сущности и ограничиваемые сущностными законами. «Предмет» же для нас повсюду и везде — рубрика для сущностных взаимосвязей сознания; он первым делом выступает как ноэматическое X, как смысловой субъект различных сущностных типов смыслов и предложений. Далее же «предмет» выступает в качестве рубрики «действительный предмет», а тогда служит рубрикой для известных эйдетически рассматриваемых взаимосвязей разума, в каких единое в них, по мере смысла, X получает свое сообразное с разумом полагание.
Точно такие же рубрики определенных, эйдетически ограничиваемых и подлежащих фиксации при изучении сущностей групп «телеологически» со-принадлежных образований сознания и выражения «возможный предмет», «вероятный», «сомнительный» и т. д. Взаимосвязи тут все снова и снова иные, подлежащие строгому описанию в своей инаковости, — так, к примеру, нетрудно усмотреть, что возможность так-то и так-то определяемого X подтверждается не просто первозданной данностью такого X в его смысловом составе, следовательно, обнаружением его действительности, но что могут взаимно усиливать друг друга и попросту репродуктивно фундируемые пред-чувствования, если они единогласно сливаются вместе, и точно так же что сомнительность подтверждается феноменами противоборствования различных педализированных созерцаний известной дескриптивной сложенности и т. д. Тем самым связываются те относящиеся к теории разума исследования, какие относятся к различению вещей, ценностей, практических предметностей, и те, какие изучают те сложения сознания, какие конституируются для выше названных. Так что феноменология действительно объемлет весь естественный мир и все те идеальные миры, какие она подвергает выключению; она объемлет их как «мировой смысл» — теми сущностными закономерностями, какие вообще соединяют между собой предметный смысл и ноэму — и замкнутую систему ноэс, специально же — теми относящимися к закону разума сущностными взаимосвязями, коррелятом которых служит «действительный предмет», какой, следовательно, со своей стороны представляет всякий раз соответствующий индекс для совершенно определенных систем телеологических единящихся образований сознания.
Глава третья. Ступени всеобщности проблем теории разума
Наши касавшиеся проблематики феноменологии разума медитации держались до сей поры на такой высоте всеобщности, какая не позволяла выступить существенным разветвлениям проблем и связям таковых с формальными и региональными онтологиями. В этом аспекте мы должны подойти ближе к ним; только тогда и раскроются перед нами полный смысл феноменологической эйдетики разума и все богатство ее проблем.
§ 146. Наиболее общие проблемы
Вернемся к источникам проблематики разума и будем прослеживать их в их разветвлении, по возможности систематично.
Проблемная рубрика, объемлющая всю феноменологию в целом, называется интенциональностью. Эта рубрика выражает основополагающее свойство сознания, — все феноменологические проблемы, даже и гилетические, включаются в нее. Тем самым феноменология начинает с проблем интенциональности, однако поначалу во всеобщности и не вовлекая в свой круг вопросы бытия действительным (истинным) того, что сознается в сознании. Остается вне рассмотрения то, что позициональное сознание с его тетическими характерами может, в наиболее общем смысле, именоваться «подразумеванием» и что, как таковое, оно необходимо подчиняется заключенной в разуме противоположности значимости и незначимости. К этим проблемам мы могли теперь подойти в последних главах, с учетом тех главных структур сознания, какие между тем стали понятны нам. Поскольку речь тут идет о начатках эйдетического, мы, естественно, совершали свои анализы в наивозможной всеобщности. Во всех эйдетических сферах путь систематический ведет от всеобщности высшей — к низшей, хотя бы разыскивающий проблемы анализ и льнул к особенному. Мы говорили о разуме и о тезисе разума вообще, об очевидности первозданной и выведенной, адекватной и неадекватной, о сущностном усмотрении и об индивидуальной очевидности и т. п. Наши описания предполагали уже широкую феноменологическую базу, целый ряд трудных различений, полученных нами в тех главах, какие были посвящены наиболее общим структурам сознания. Ведь без понятий «смысл», «предложение», «ис-полненное предложение» (сущность по мере познания на языке «Логических исследований») вообще не приблизиться к радикальному формулированию какой бы то ни было проблемы теории разума. А эти понятия в свою очередь предполагали другие — с соответствующим таковым сущностным размежеванием — различия позициональности и нейтральности, тетических характеров и их материй, вычленение своеобразных сущностных модификаций какие не входят в эйдос «предложение», как-то модификации аттенциональные и т. д. Одновременно с этим мы подчеркнем — с тем, чтобы не недооценивался объем необходимых анализов в том наиболее общем слое теории разума, о котором говорим мы сейчас, — что сущностные дескрипции последней главы должны считаться только началами. Как и повсюду, мы и здесь лишь проводили свой методологический замысел, разрабатывая лишь ровно столько твердой почвы, сколько необходимо для того, чтобы удостовериться в каждом принципиально новом слое, какой должен быть обрисован как поле феноменологических разысканий, формулировать сопряженные с нею исходные и основополагающие проблемы и иметь возможность бросать свободный взгляд на окружающий ее проблемный горизонт.
§ 147. Разветвления проблем. Формальная логика, аксиология и практика
Если принять во внимание дальнейшие структурные различия, какие сказываются определяющими для характеров разума, — на различия по основным видам тезисов, на различия тезисов простых и фундируемых и на пересекающиеся с названными различия одночленных тезисов и синтезов, — то общая феноменология разума разветвляется. Главные группы проблем разума (проблем очевидности) сопрягаются с главными родами тезисов и теми материями полагания, какие, по мере сущности, требуются первыми. На первом месте, естественно, стоят пра-докса, доксические модальности с соответствующими им модальностями бытия.
Преследуя такие цели теории разума, необходимо достигаешь проблем прояснения формальной логики со стороны такой теории, а также и прояснения параллельных ей дисциплин, названных у меня формальной аксиологией и практикой.
Отошлем поначалу к прежним соображениям[145] касательно чистых учений о формах предложений и специально предложений синтетических в сопряженности таковых с предикативным доксическим синтезом, равно как с доксическими модальностями и далее — с принадлежными к актам душевного и волевого синтетическим формам. (Так, к примеру, к формам предпочитания, оценивания, желания «ради другого», к формам аксиологических «и» и «или»). В таких учениях о формах говорится — ноэматически — о синтетических предложениях по их чистой форме, причем вопрос о значимости и незначимости для разума не встает. Тем самым такие учения еще не принадлежат к тому слою, что учение о разуме.
Но как только мы поднимаем этот вопрос, причем для предложений вообще, поскольку они мыслится как определенные исключительно чистыми формами, мы обретаемся в пределах формальной логики и вышеназванных параллельных ей формальных дисциплин, какие по своей сущности возводятся на соответствующих учениях о формах как предварительных своих ступенях, В синтетических формах — как формы тезисов и, соответственно, предложений соответствующей категории предложений они, явно, предполагают весьма многое, оставляя притом это многое неопределенным по его обособлению, — заложены априорные условия возможной значимости, какие достигают своего выражения в сущностных законах дисциплин, сюда относящихся.
Специально же в чистых формах предикативного (аналитического) синтеза заключены априорные условия возможности доксической достоверности разума, — говоря же ноэматически, возможной истины. Объективное выявление таковых совершает формальная логика в самом узком смысле — формальная апофантика, (формальная логика «суждений»), обладающая своим фундаментом в учении о формах этих «суждений».
Подобное же значимо и для синтезов и ноэматических коррелятов таковых, принадлежных к сфере душевного и волевого, следовательно для относящихся к ним видов синтетических «предложений», систематическое учение о формах каковых вновь составляет подоснову для построения учений о формальной значимости. Дело в том, что в голых синтетических формах этих сфер (например, во взаимосвязях целей и средств) действительно заложены условия возможности аксиологической и практической «истины». При этом, в силу «объективации», какая, к примеру, совершается и в актах душевного, любая аксиологическая и практическая разумность оборачивается — способом, нам понятным, — разумностью доксической, ноэматически же — истиной, a предметно — действительностью: мы говорим об истинных или о действительных целях, средствах, совершенствах и т. д.
Само собой разумеется, со всеми этими взаимосвязями сопрягаются особые и в высшей степени важные феноменологические исследования. Уже сам вид только что данной формальным дисциплинам характеристики феноменологичен, и он предполагает многое из проведенных нами анализов. В чистой логике, разрабатываемой «догматически», исследователь схватывает, абстрагируя, апофантические формы («предложение вообще», или «суждение», суждение категорическое, гипотетическое, конъюнктивное, дизъюнктивное и т. д.) и фиксирует для них аксиомы формальной истины. Такой исследователь не знает ровным счетом ничего об аналитическом синтезе, о ноэтически-ноэматических сущностных сопряжениях, о включении вычлененных и понятийно зафиксированных им сущностей в сущностные комплексы чистого сознания; он, изолируя, изучает то самое, что свое полное разумение может находить лишь в полноте сущностных взаимосвязей. Лишь феноменология, возвращаясь к источникам интуиции в трансцендентально очищенном сознании, проясняет для нас, в чем тут, собственно, дело, если мы говорим то о формальных условиях истины, то о формальных условиях познания. В общем виде феноменология просвещает нас относительно сущности и сущностных отношений, принадлежных понятиям познания, очевидности, истины, бытия (предмет, положение дел и т. д.); она учит нас уразумевать построения как вынесения суждения, так и самого суждения, тот способ, каким структура поэмы оказывается определяющей для познания, то, каким образом «предложение» играет при этом свою особую роль, а затем и различные возможности его «полноты» по мере познания. Феноменология показывает, какие способы ис-полнения служат сущностными условиями разумного характера очевидности, о каких видах очевидности всякий раз спрашивается и т. д. В особенности же феноменология позволяет нам уразуметь то, что, когда мы говорим об априорных истинах логики, речь идет о сущностных взаимосвязях между возможностью интуитивного исполнения предложения (благодаря чему соответствующее положение дел достигает синтетического созерцания) и чисто синтетической формой предложения (формой чисто логической) и что одновременно первая возможность есть условие возможной значимости предложения.
Феноменология показывает также, что, если точно всмотреться, здесь необходимо различать двоякое — в соответствии с коррелятивностью ноэсиса и ноэмы. В формальной апофантике (к примеру, в учении о силлогизмах) речь ведется о суждениях как ноэматических предложениях и их «формальной истине». Установка тут исключительно ноэматическая. С другой стороны, в формальной ноэтике апофансиса установка — ноэтическая; тут говорится о разумности, правильности вынесения суждения; тут высказываются нормы такой правильности, причем в сопряженности с формой предложений. Так, к примеру, противоречие нельзя считать «истинным»; кто выносит суждение, сообразуясь с формами предпосылок значимых модусов умозаключения, «обязан» выводить следствия соответствующих форм и т. д. Такие параллели без лишних объяснений понятны в феноменологической взаимосвязи. События, затрагивающие вынесение суждения, ноэсу, равно как соответствующие, по мере, сущности, в ноэме, в апофансисе, исследуются тут именно в своей необходимой взаимосопряженности и в своей полной сплетенности в сознании.
Естественно, что то же самое значимо и для всех остальных формальных дисциплин, касательно параллелизма ноэтических и ноэматических установлений.
§ 148. Проблемы формальной онтологии, относящиеся к теории разума
Поворот ведет нас от этих дисциплин к соответствующим им антологиям. Феноменологически взаимосвязь дана уже вообще возможными поворотами взгляда, которые могут совершаться в пределах любого акта, причем те составы, какие доставляются этими поворотами взгляду, сплетены между собою разного рода сущностными законами. Первичная установка — это установка на предметное, ноэматическая рефлексия ведет к составам ноэматическим, ноэтическая — к ноэтическим. Интересующие нас сейчас дисциплины путем абстракции изымают из этих составов чистые формы, а именно: формальная апофантика — ноэматические, параллельная ей ноэтика — ноэтические формы. Формы ноэматические и ноэтические скреплены друг с другом, а те и другие скреплены с онтическими формами, какие схватываемы путем поворота взгляда назад — к онтическим составам.
Любой формально-логический закон можно обратить, путем поворота, в закон формально онтологический. Тогда мы судим: вместо суждений — о положениях дел, вместо членов суждения (например, именных значений) — о предметах, вместо значений предиката — о признаках и т. д. И речь уже не идет об истине, о значимости предложений суждения, но о составе положений дел, о бытии предметов и т. д.
Само собою разумеется, что и феноменологическое содержательное наполнение поворота допускает свое прояснение путем возвращения к содержательному наполнению соответствующих понятий.
Впрочем, формальная онтология выходит очень далеко за пределы сферы таких простых обращений формальных апофантических истин. К ней прирастают обширные дисциплины — путем тех «номинализаций», о каких мы уже говорили прежде.[146] В суждениях во множественном числе множественное выступает как тезис множественности. Путем обращения в имя это множественное число становится предметом «множество», и так возникает основополагающее понятие учения о множествах. В таковом выносят суждения о множествах как предметах, обладающих своеобразными видами свойств, отношений и т. д. Это же значимо и для понятий «отношения», «количественное число» и т. д. — как основополагающих понятий математических дисциплин. Вновь, как и тогда, когда мы говорили о простых учениях о предложении, мы должны сказать, что задача феноменологии — не в том, чтобы развивать эти дисциплины, т. е. не в том, чтобы заниматься математикой, учением о силлогизмах и т. п. Феноменологию интересуют лишь аксиомы и понятийный состав таковых, задающий рубрики для феноменологических анализов.
Сказанное само собою переносится на формальную аксиологию и практику, равно как на те формальные онтологии ценностей (в весьма расширительном смысле), благ, каковые, как теоретические дезидераты, следует присовокупить к первым, — короче говоря, на формальные онтологии всех онтических сфер — коррелятов сознания душевного и волевого.
Конечно, заметно, что понятие «формальной онтологии» в наших рассуждениях расширилось. Ценности, практические предметности, — таковые входят в формальную рубрику «предмет», «вообще нечто». Так что с позиции универсальной аналитической онтологии — это материально определенные предметы, а принадлежные им «формальные» онтологии ценностей и практических предметностей — материальные дисциплины. С другой стороны аналогии, основывающиеся внутри параллелизма тетических родов (верование и, соответственно, модальность верования, оценивание, желание) и специфически соотносимых с таковыми синтезов и синтактических формований, — эти аналогии тоже обладают силой, причем столь действенной, что Кант отношение между желанием цели и желанием средств прямо называет отношением «аналитическим»[147], правда, смешивая при этом аналогию с тождественностью. Собственно аналитическое — принадлежное к предикативному синтезу доксы — никак не должно смешиваться с его формальным аналогом, сопрягаемым с синтезами тезисов — тезисов душевного и волевого. Глубокие и важные проблемы феноменологии разума примыкают к радикальному прояснению этих аналогий и параллелей.
§ 149. Проблемы региональных онтологии, относящиеся к теории разума. Проблемы феноменологического конституирования
После обсуждения проблем теории разума, поставляющих нам формальные дисциплины, можно осуществить переход к дисциплинам материальным, и прежде всего к региональным антологиям.
Каждый предметный регион конституируется по мере сознания. Определенный своим региональным родом предмет обладает, как таковой, коль скоро он — предмет действительный, своими заранее предначертанными способами — способами быть воспринимаемым, вообще — ясно или темно — представимым, мыслимым, обнаружимым и подтверждаемым. Итак, что касается фундирующего разумность, то мы вновь возвращаемся назад — к смыслам, предложениям, сообразным познанию сущностям, но только теперь не просто к формам, а, поскольку мы имеем в виду материальную всеобщность региональной и категориальной сущности, — к предложениям, содержательное наполнение которых определениями заимствуется в региональной определенности такой сущности. Любой регион предоставляет руководящую нить для особой, замкнутой группы исследований.
Возьмем, к примеру, в качестве такой руководящей нити регион «материальная вещь». Коль скоро мы верно разумеем суть такого руководства, мы вместе с тем одновременно схватываем и всеобщую проблему, задающую меру целой обширной и относительно замкнутой феноменологической дисциплине, — проблему всеобщего «конституирования» предметностей региона «вещь» в трансцендентальном сознании, или же, выражая это короче, феноменологического конституирования вещи вообще. А не отрываясь от этого, мы узнаем и соопределенный такой руководящей проблеме метод исследования. То же самое значимо для каждого региона и для каждой дисциплины, сопряженной с феноменологическим конституированием региона.
Вот о чем идет тут речь. Идея вещи — чтобы уж остаться в этом регионе — репрезентируется, по мере сознания, когда мы говорим о ней сейчас, понятийной мыслью «вещь» известного ноэматического состава. Каждой ноэме соответствует, по мере сущности, идеально замкнутая группа возможных ноэм, обладающих своим единством благодаря своей способности к синтетическому унифицированию через наложение. Если ноэма, как сейчас, внутренне согласная, то в группе обнаруживаются и наглядные и, в особенности, первозданно дающие ноэмы, в каких находят свое ис-полнение, путем отождествляющего наложения, все входящие в группу ноэмы иного вида, какие, в случае позициональности, почерпают в первых свое подтверждение, полноту своей разумной силы.
Итак, мы исходим из словесного, возможно, что и целиком темного представления «вещь» — из того самого, какое у нас только, вот сейчас, имеется. Свободно и независимо мы порождаем наглядные представления такой «вещи» — вообще и уясняем себе расплывчатый смысл слова. Поскольку же речь идет о «всеобщем представлении», то мы должны действовать, опираясь на пример. Мы порождаем произвольные созерцания фантазии вещей — пусть то будут вольные созерцания крылатых коней, белых ворон, златых гор и т. п.; и все это тоже были бы вещи, и представления таковых служат целям экземплификации не хуже вещей действительного опыта. На таких примерах, совершая идеацию, мы с интуитивной ясностью схватываем сущность «вещь» — субъект всеобще ограничиваемых ноэматических определений.
Теперь надо принять во внимание (вспоминая уже констатированное ранее[148]) то, что хотя при этом сущность «вещь» и дается первозданно, однако данность ее в принципе не может быть адекватной. Ноэму или же смысл вещи мы еще можем привести к адекватной данности, однако многообразные смыслы вещей, даже и взятые в их полноте, не содержат в качестве имманентного им первозданно наглядного состава, региональную сущность «вещь», как и многообразные, сопрягаемые с одной и той же индивидуальной вещью чувства не содержат индивидуальную сущность вот этой вещи. Иными словами, идет ли речь о сущности индивидуальной вещи или о региональной сущности «вещь вообще», отдельного созерцания вещи, или конечной замкнутой континуальной непрерывности, или коллекции вещных созерцаний никоим образом не достаточно для того, чтобы обрести желаемую сущность во всей полноте ее сущностных определений адекватным образом. Для неадекватного же узрения сущности достаточно и одного, и другого, и третьего, — в сравнении с пустым схватыванием сущности, какая устанавливается на показательной подоснове темного представления, неадекватное узрение в любом случае обладает великим преимуществом — оно дает сущность первозданно.
Это значимо для всех ступеней сущностной всеобщности, от сущности индивидуальной и до региона «вещь».
Однако генеральное сущностное усмотрение заключается в том, что любая несовершенная данность (любая неадекватно дающая ноэма) таит в себе правило идеальной возможности ее усовершенствования. От сущности явления кентавра — явления, лишь «односторонне» дающего сущность кентавра, — неотъемлемо то, что я могу следовать за разными сторонами вещи, могу, вольно фантазируя, все остававшееся поначалу неопределенным и открытым, сделать определенным и наглядным. Мы в значительной мере свободны в ходе такого процесса фантазии, какой делает для нас вещь все более совершенно наглядной и определяет ее все конкретнее; ведь мы можем наглядно, по собственному произволу, примерять фантазируемому кентавру конкретно определенные свойства и изменения таковых; однако мы не совершенно свободны, поскольку ведь должны поступательно двигаться в смысле взаимосогласного хода созерцания, в каком получающий определения субъект остается тождественным себе тем же и постоянно может оставаться таким взаимосогласно определимым. К примеру, мы связаны рамками закономерного пространства, какие жестко предписывает нам идея возможной вещи вообще. Сколь бы произвольно ни деформировали мы фантазируемое нами, все равно пространственные фигуры переходят вновь в пространственные фигуры.
Что же феноменологически означают эти слова о правиле, или законе? Что же заключено в том, что неадекватно даваемый регион «вещь» предписывает правила ходу возможных созерцаний, — и это ведь явно значит то же, что многих восприятий?
Наш ответ гласит: от сущности подобной вещной ноэмы неотделимы — и это абсолютно усмотримо — идеальные возможности «безграничности поступательного движения»[149] согласованных созерцаний, причем по определению предначертанным типам направлений (стало быть, есть и параллельные безграничности в континуально-непрерывных рядоположениях соответствующих ноэс). Вспомним, как выше излагалось обретение через усмотрение всеобщей «идеи» «вещь вообще», — все это остается значимым для любой из низших ступеней всеобщности вплоть до самой низкой конкреции индивидуально определяемой вещи. Трансцендентность вещи выражается в этих самых безграничностях в поступательном движении созерцания этой вещи. Все снова и снова возможно переводить созерцания в континуальные непрерывности созерцания и расширять предзаданные непрерывности. Ни одно восприятие вещи не бывает последним и заключительным, всегда остается пространство для новых восприятий, какие конкретнее определяют неопределенности и ис-полнят неисполненности. С каждым поступательным шагом обогащается содержательное наполнение вещной ноэмы, какая плавно и постоянно принадлежит к той же самой вещи X, определениями. Сущностное усмотрение таково: любое восприятие, любое многообразие восприятий способны к расширению, процесс, следовательно, бесконечен; сообразно с этим никакое интуитивное схватывание вещной сущности не может быть столь полным, чтобы дальнейшее восприятие не могло присоединить к нему ноэматически новое.
С другой стороны, мы все же с очевидностью и адекватно схватываем «идею» «вещь». Мы схватываем ее в вольном процессе пробегания, в сознании безграничности поступательного хода внутренне согласных созерцаний. Поначалу и первым делом мы схватываем неис-полненную идею вещи, вот этой индивидуальной вещи, как чего-то такого, что дано ровно «настолько», насколько «простирается» само согласованное созерцание, но что остается при этом определимым «in infinitum». «И т. д.» — вот усмотримый и абсолютно необходимый момент вещной ноэмы.
На основе экземплифицированного сознания такой безграничности мы, далее, схватываем «идею» определенных бесконечных направлений, причем для каждого из направлений наглядного протекания, каким мы пробегаем. Вновь мы схватываем региональную «идею» вещи вообще — как того тождественного, что выстаивает в так-то и так-то устроенных определенных бесконечностях протекания и изъявляется в принадлежных, определеннее устроенных рядах бесконечности ноэм.
Как вещь, так затем и всякая принадлежная своему сущностному содержательному наполнению устроенность, и прежде всего любая конститутивная «форма» — это идея, и это значимо от региональной всеобщности и до самой низкой обособленности. В более конкретном изложении:
Вещь в своей идеальной сущности дает себя как res temporalis, в необходимой «форме» времени. Интуитивная «идеация» (как узревание «идеи» таковая совершенно особо достойна тут такого именования) учит нас тому, что вещь есть вещь необходимо длящаяся, в принципе бесконечно распространимая в аспекте своего дления. В «чистом созерцании» (ибо такая идеация — это феноменологически проясненное понятие Кантова чистого созерцания) мы схватываем «идею» временности и всех заключенных в ней сущностных моментов.
Далее же, вещь по своей идее есть res extenso, так, к примеру, она в пространственном аспекте способна на бесконечно многообразные превращения формы и, при твердо удерживаемых в тождественности фигуре и изменениях таковой, на бесконечно многообразные изменения положения; вещь in infinitum «подвижна». Мы схватываем «идею» пространства и включенные в нее идеи.
Наконец, вещь есть res materialis, это субстанциональное единство и, как таковое, единство причинностей, — согласно возможности, бесконечно многообразных. И вместе с такими специфически реальными свойствами мы тоже наталкиваемся на идеи. Так что все компоненты вещной идеи в свою очередь суть идеи, и каждый имплицирует свое «и так далее» «бесконечных» возможностей.
То, что излагаем мы сейчас, — это не «теория», не «метафизика». Речь идет о сущностных необходимостях — таковые заключены в вещной ноэме и, коррелятивно таковой, и в дающем вещь сознании и неустранимы, неснимаемы, их возможно постигать посредством усмотрения и систематически исследовать.
§ 150. Продолжение. Регион «вещь» как трансцендентальная руководящая нить
После того как сделали теперь понятными — в самом что ни на есть общем виде — бесконечности, что таит в себе созерцание вещи как таковое (по ноэсису и ноэме), или же, как тоже можно сказать, после того как мы сделали понятными идею вещи и все измерения бесконечности, какие только таит она в себе, — мы сможем вскоре понять и то, насколько регион «вещь» может послужить феноменологическим исследованиям в качестве руководящей нити.
Созерцая индивидуальную вещь и следя в созерцании за тем, как она движется, приближается и удаляется, крутится и вертится, как изменяется ее форма и качество, каким способом ставит она себя причинно, мы совершаем плавные непрерывности созерцания, таковые же покрываются так-то и так-то, сливаются в сознания единства, — взгляд направляется при этом на тождественное, на X смысла (и, соответственно, позиционального или нейтрализованного предложения), на одно и то же — изменяющееся, крутящееся и т. д. Так и тогда, когда мы в вольном созерцании следим бесконечно возможные модификации по различным основополагающим направлениям, в сознании безграничности в поступательном движении такого процесса созерцания. И вновь все точно так, когда мы переходим к установке идеации и, скажем, доводим до ясности региональную идею вещи, — при этом поступая подобно геометру в свободе и чистоте его геометрического созерцания.
И однако, вместе со всем этим, мы ничего не знаем еще о процессах самого созерцания, о принадлежных таковому сущностях и сущностных бесконечностях, ничего не знаем о его материалах и ноэтических моментах, о его ноэматических составах, о слоях его — двусторонне различимых и схватываемых эйдетически. То, что мы актуально переживаем (и, соответственно, сознаем — помимо рефлексии — в модификации фантазии), — этого мы не видим. Итак, необходимо изменение установки, необходимы различные — гилетические, ноэтические, ноэматические — «рефлексии» (все по праву называемые так, поскольку они суть отвлечения от первоначальной, «прямой», направленности взгляда на X). Эти рефлексии и открывают для нас обширное и внутренне связное поле исследований и, соответственно, обширную, подчиненную идее «регион вещь», проблематику.
Тут встает именно такой вопрос:
Как систематически описывать принадлежные к единству наглядно представляющего сознания ноэсы и ноэмы?
Если придерживаться сферы ноэматической, то тогда вопрос гласит:
Как выглядят многообразные полагающие созерцания, «предложения созерцания», в каких достигает своей данности «действительная» вещь, обнаруживая и подтверждая, по мере созерцания, в изначальном «опыте», свою действительность?
Как выглядят, чтобы абстрагироваться от доксического тезиса, просто ноэматически разумеемые явления, какие «доставляют к явлению» одну и ту же, всякий раз вполне определенную вещь, принадлежную, в качестве необходимого коррелята, к такому многообразию созерцания и, соответственно, явления? Феноменология в принципе не застревает на расплывчатых речах, на темных всеобщностях, она требует систематически определяемого, внедряющегося в сущностные взаимосвязи — вплоть до самых последних достижимых обособлений таковых — прояснения, анализа и описания: феноменология требует работы, какая доводит дело до конца.
Региональная идея вещи, тождественное X таковой с определяющим смысловым содержательным наполнением, положенное как сущее, — предписывает правила многообразиям явлений. Сказанное значит: это — не вообще многообразия, случайно сошедшиеся, что проистекает ведь уже и из того, что сами в себе, исключительно по мере сущности, они сопряжены с вещью, с определенной вещью. Идея региона предписывает совершенно определенные, определенным образом упорядоченные, поступательно продолжающиеся in infinitum, взятые же в качестве идеальных совокупностей строго замкнутые ряды явления, определенную внутреннюю организацию протекания таковых — организацию, какая, по мере сущности и доступно для исследования, связана с частичными идеями, что начертаны в региональной идее вещи в качестве ее компонентов. Так, к примеру, обнаруживается, что единство простой res extensa мыслимо помимо того единства, что формирует идею res materialis, хотя не мыслима ни одна res materialis, которая не была бы res extensa. А именно, выясняется (все это — в эйдетически-феноменологическом интуировании), что любое явление вещи необходимо таит в себе слой, который назовем вещной схемой, — это всего лишь исполненная «чувственных» качеств пространственная фигура — помимо какой бы то ни было определенности «субстанциональности» и «каузальности» (в кавычках, ибо в ноэматически модифицированном разумении). Уже и принадлежная сюда идея простой res extensa — это рубрика для настоящего изобилия феноменологических проблем.
Все, что мы в феноменологической наивности своей принимаем за голые факты, — то, что пространственная вещь всегда является «нам, людям» в известной «ориентации», к примеру, в визуальном поле зрения ориентированной по верху и низу, по праву и леву, по близи и дали; что мы можем видеть вещь лишь в известной «глуби», на известном «удалении»; что все эти переменные удаления, на каких можно видеть вещь, сопрягаются с незримым, однако прекрасно известным нам в качестве идеальной точки границы центром любых ориентации по глубине, с центром, какой «локализуется» нами в голове, — все эти мнимые фактичности, стало быть, случайности пространственного созерцания, чуждые «истинному», «объективному» пространству, оказываются — за вычетом незначительных эмпирических особенностей — сущностными необходимостями. При этом оказывается, что нечто подобное пространственно-вещному доступно созерцанию — притом не только для нас, людей, но и для бога, — лишь посредством явлений, в каких это самое пространственно-вещное дается — и должно даваться не иначе, как именно так, — лишь «перспективно», со сменой многообразных, однако определенных способов явления, и притом в сменных «ориентациях».
Теперь важно не просто обосновать сказанное как общий тезис, но проследить его во всех единичных сложениях. Проблема «происхождения представления о пространстве», глубочайший феноменологический смысл которой никогда не был постигнут, сводится к феноменологически-сущностному анализу всех ноэматических (и, естественно, ноэтических) феноменов, в каких наглядно репрезентируется пространство и в каких «конституируется» как единство явлений, дескриптивных способов репрезентации, пространственное.
Проблема конституирования вполне недвусмысленно означает при этом не что иное, как то, что все ряды явления, упорядоченные и необходимо со-принадлежные к единству такого-то являющегося, могут интуитивно обозреваться и теоретически постигаться, несмотря на все свои (как раз однозначно овладеваемые в определенности своего «и так далее») бесконечности, что они в своей эйдетической особливости вполне доступны анализу и описанию и что закономерное достижение и производство корреляции между таким-то являющимся как единством и определенным бесконечным многообразием явлений может быть вполне усмотрено, и тем самым с него могут быть совлечены все его загадки.
Это значимо и для единства, заключающегося в res extensa (и в res temporalis), но не менее того и для высших единств, для единств фундируемых, о каких объявляет выражение «материальная вещь», т. е. вещь субстанциально-каузальная. Все такие единства конституируются на ступени опытно постигающего созерцания в «многообразиях», и везде и повсюду должны полностью, во всех слоях своих, проясняться обоюдосторонние сущностные взаимосвязи — по смыслу и смысловой полноте, по тетическим функциям и т. д. 6 конец концов должно возникать совершенное усмотрение того, что в феноменологически чистом сознании репрезентирует идея действительной вещи, каким образом вещь есть необходимый коррелят структурно исследуемой и по мере сущности описываемой ноэтически-ноэматической взаимосвязи.
§ 151. Слои трансцендентального конструирования вещи. Дополнения
Наши исследовании существенно определены различными ступенями и слоями конституирования вещи в рамках сознания, первозданно постигающего в опыте. Каждая ступень и каждый слой ступени характеризуется тем, что они конституируют особое единство, какое со своей стороны есть необходимое посредующее звено полного конституирования вещи.
Если мы возьмем, скажем, ступень просто перцептивного конституирования вещи, коррелятом какого служит снабженная чувственными качествами чувственная вещь, то мы сопрягаемся с одним единственным потоком сознания, с возможными восприятиями одного-единственного воспринимающего Я-субъекта. Тут мы обнаруживаем немало слоев единства, сенсуальных схем, «видимых вещей» высшего и низшего порядка, какие должны совершенно выявляться в этом своем порядке и изучаться по своей ноэтически-ноэматической конституции, как отдельно, так и во взаимосвязи. Выше всего среди слоев этой ступени стоит субстанциально-каузальная вещь — уже реальность в специфическом смысле, однако все еще конститутивно связанная с одним постигающим в опыте субъектом и его идеальными многообразиями восприятия.
На ступень выше стоит затем интерсубъективно тождественная вещь — конститутивное единство высшего порядка. Конституирование таковой сопряжено с открытой множественностью субъектов, находящихся в отношении «взаимосогласия»). Интерсубъективный мир — вот коррелят интерсубъективного, т. е. опосредуемого «вчувствованием» опыта. Тем самым мы отсылаемся к многообразным единствам чувственной вещи, уже индивидуально сконструированным многими субъектами, далее — к соответствующим, многообразиям восприятия, принадлежным к различным Я-субъектам и потокам сознания, но прежде всего — к тому новому, что вносит вчувствование, и к вопросу о том, каким образом оно играет конституирующую роль в «объективном» опыте, придавая единство раздельным многообразиям.
При этом все исследования должны проводиться в той полноте и всесторонности, какие требуются сущностью самого дела. Так, выше, сообразно с целью введения, мы постигали во взоре лишь самую первую — лежащую в основе систему конституирующих многообразий явления, а именно ту, в какой одна и та же вещь постоянно является внутренне-согласно. Восприятия по всем систематическим линиям в безграничном поступательном движении покрываются без остатка, тезисы беспрестанно получают подтверждение. Имеет место лишь более конкретное определение, и никогда не бывает определения в качестве иного. Ни одна достигшая своего полагания вследствие протекания предшествующего опыта вещь (в пределах такой идеально замкнутой системы) не претерпевает «перечеркивания» и «замены» другими определениями той же самой категории устроенности, нормально предначертанными сущностью региона. Согласованность не бывает нарушаема, и не бывает событий, выравнивающих нарушенное, не говоря уж о тех «взрывах» согласности, когда целиком и полностью перечеркивается положенная вещь. Но ведь однако и эти случаи противоположного следует учитывать феноменологически, поскольку и они играют или могут играть свою роль во взаимосвязи возможного конституирования опытной действительности. Путь как фактического, так и идеально возможного познания ведет через заблуждения, причем так уже и на самой низшей ступени познании, на ступени созерцающего схватывания действительности. Итак, надлежит систематически характеризовать, по их ноэтическим и ноэматическим составам, такие протекания восприятия, когда возникают частичные нарушения согласности и последняя достигается лишь путем поправок, «корректур»: изменения постижения, своеобразные тетические события, переоценивания, отъятия ценности у прежде постигнутого в опыте как «кажимости», «иллюзии», переход в невыравниваемое на каком-то протяжении «противоборствование» и т. д. Отличные от непрерывно-континуального синтеза согласности синтезы противоборствования, перетолкования и определения иным и как бы они еще ни именовались должны получить положенное им по праву, — для феноменологии «истинной действительности» совершенно неизбежна также и феноменология «ничтожной кажимости».
§ 152. Перенос проблемы трансцендентального конституирования на другие регионы
Тут без всяких лишних слов ясно, что все сказанное выше относительно конституирования выбранной в качестве показательного примера материальной вещи — а притом в аспекте конституирования в системе многообразий опыта, пред-шествующего всякому «мышлению» — должно переноситься на все регионы предметов, по самой проблеме и по методу. Что касается «чувственных восприятий», то тут, естественно, вступают соопределяемые соответствующим регионам, по мере сущности, виды первозданно, из самого источника, дающих актов, какие до этого должен выявить и изучить феноменологический анализ.
Весьма сложные проблемы связаны со сплетенностью различных регионов. Они обусловливают сплетения в конституирующих образованиях сознания. Как то уже было заметно по данным выше намекам на интерсубъективную конституцию «объективного» вещного мира, вещь по отношению к постигающему в опыте субъекту вовсе не есть нечто изолированное. Теперь же и сам этот постигающий в опыте субъект конституируется в опыте как реальное, как человек или животное, равно как конституируются и интерсубьективные общности как общности живых существ.
Такие общности, пусть они и сущностно фундируются в психических реальностях, в свою очередь фундируемых в реальностях физических, оказываются нового вида предметностями высшего порядка. Вообще обнаруживается, что имеются всякого вида предметности, упрямо противостоящие любым своим психологистическим и натуралистическим перетолкованиям. Таковы все виды ценностных и практических объектов, все конкретные культурные сложения, определяющие нашу актуальную жизнь в качестве жестких действительностей, — таковы, к примеру, государство, право, обычай, церковь и т. д. Все такие объектности должны описываться такими, какими достигают они своей данности, согласно основополагающим видам их и в их порядке ступеней, и в отношении их должны ставиться и решаться проблемы конституирования.
Само собой разумеется, что их конституирование возвращает также и назад — к конституированию пространственных вещностей и психических субъектов: первые и фундируются именно в такого рода реальностях. А в качестве самой низшей ступени в конце концов в основе всех иных реальностей лежит материальная реальность, а тем самым феноменологии материальной природы принадлежит особо отмеченное положение. Однако, если смотреть непредвзято и все феноменологически возводить к истокам, то фундируемые единства — это именно не что иное, как фундируемые и новообразные единства: то новое, что конституируется вместе с ними, как показывает сущностное интуирование, никогда и ни при каких условиях не может быть сводимо к простым суммам иных реальностей. Так что на деле любой своеобразный тип таких действительностей ведет с собой свою особую конститутивную феноменологию, а тем самым и новое конкретное учение о разуме. Всюду задача с ее принципиальной стороны одна и та же: все дело — в познании полной системы образований сознания, конституирующих первозданную данность всех таких объектностей, по всем ступеням и слоям их, а тем самым в уразумении эквивалента соответствующего вида «действительность» существующего в сознании. И все то, что можно тут сказать сообразно с истиной, дабы исключить многие напрашивающиеся само собой недоразумения, относящиеся к корреляции бытия и сознания (например, что любая действительность «разрешается в психическое»), может быть сказано лишь на основе сущностных взаимосвязей конститутивных групп постигнутых в феноменологической установке и в свете интуирования.
§ 153. Полная протяженность трансцендентальной проблемы. Членение исследований
Выдержанное в столь общих чертах обсуждение только что постигнутых в качестве возможных и требуемых исследований, какое было возможно для нас до сих пор, конечно же не способно создать сколько-нибудь удовлетворительного представления о колоссальной пространности таковых. Для этого, по крайней мере в отношении главных типов действительностей, необходимы были бы отделы излагающих исследований, т. е. того самого метода, какому следовали мы, излагая проблематику всеобщих структур сознания. Между тем, в следующей книге у нас будет повод, обсуждая столь занимающие нашу современность спорные вопросы взаимоотношений между тремя обширными группами наук, обозначаемых рубриками «естествознание», «психология» и «наука о духе», в особенности в их отношении к феноменологии, приблизить к себе и сделать более осязаемыми также и проблемы конституирования. Пока же, должно быть, ясно стало, что тут речь действительно идет о серьезных проблемах и что тут открываются области исследования, затрагивающие все подлинно принципиальное каждой содержательной науки. «Принципиальное» — это ведь нечто иное, как то, что группируется, согласно основополагающим понятиям и основополагающим познаниям, вокруг идеи каждого региона и находит — или же должна находить — свое систематическое разворачивание в соответствующей региональной онтологии.
Сказанное о содержательной переносится на формальную сферу и присваиваемые ей онтологические дисциплины, следовательно, на все принципы и на все науки о принципах вообще, если только мы подходящим образом расширим идею конституирования. При этом, правда, и рамки конститутивных исследований расширяются настолько, что они в конце концов способны объять всю феноменологию. Все это само собою выступит, если только поразмыслить, дополнительно, о следующем:
В первую очередь проблемы конституирования предмета сопряжены многообразиями возможного первозданно, из самого источника, дающего сознания. Так, например, что касается вещей, — то со всей совокупностью возможных опытных постижений и даже восприятия одной и той же вещи. К этому примыкает дополняющий учет репродуктивных позициональных видов сознания и исследование свершений конститутивного для них разума, или же, что по существу то же самое, их свершений для просто созерцающего познания, а равным образом и учет темно представляющего (однако простого) сознания и сопрягающихся с последним проблем разума и действительности. Короче, мы на первых порах вращаемся в сфере просто «представления».
А со всем этим связаны и соответствующие разыскания, сопрягаемые со свершениями сферы высшей, в более узком смысле так называемой сферы «рассудка» или «разума» с ее эксплицирующими, сопрягающими и прочими «логическими» (а затем, стало быть, и аксиологическими и практическими) синтезами, с их «понятийными» операциями, их высказываниями и новыми, опосредующими формами обоснования. Итак, выходит, что предметности, поначалу данные в монотетических актах, скажем, в простых опытных постижениях (или же мыслимые как данные в идее), можно подвергнуть игре синтетических операций, конституируя посредством их предметности все более и более высокой ступени, какие в единстве совокупного тезиса будут содержать многократные тезисы, а в единстве своей совокупной материи — многообразные, членящиеся материи. Можно коллигировать, можно «образовывать» коллективы (множества) различных ступеней (множества множеств), можно «выделять» или «вычленять» «части» «целого», свойства, предикаты субъекта, можно «полагать в сопряжение» предметы, по своему усмотрению один делать референтом, другой — релатом и т. д. Можно осуществлять такие синтезы «действительно», «в собственном смысле», т. е. в синтетической первозданности, — тогда синтетическая предметность будет по своей синтетической форме обладать характером первозданно данной (к примеру, действительно данной коллекции, субъекции, сопряженности и т. д.), и она будет обладать полным характером первозданности, если обладают таковым тезисы, т. е. если характеры тетического акта мотивированы первозданно как разумные. Можно и привлекать сюда вольные фантазии, можно сопрягать между собой первозданно данное и как бы данное или же совершать синтезы исключительно модифицированно, сознаваемое таким образом превращать в «приступ к полаганию», «образовывать» гипотезы, «выводить следствия» из них; или же можно осуществлять сравнения и различения, данные в таковых равенства и различия в свою очередь вновь подвергать операции синтезирования, связывать их со всеми идеациями, сущностными полаганиями или пред-полаганиями, и так in infinitum.
При этом в основе таких операций лежат отчасти наглядные, отчасти же не наглядные или, при обстоятельствах, даже совершенно путанные акты более низкой или более высокой ступени объективации. В случае темноты или спутанности можно стремиться к тому, чтобы прояснять синтетические «образования», поднимать вопрос об их возможности, о выполнении таковых «синтетическим созерцанием», или же также к тому, чтобы ставить вопрос об их «действительности», об их выполнимости эксплицитными и первозданно дающими синтетическими актами или же, при обстоятельствах, на путях опосредующих «умозаключений» или «доказательств». Феноменологически все эти типы синтезов в их корреляции с «конституируемыми» в них синтетическими предметностями надлежит подвергать исследованию с тем, чтобы прояснить различные модусы данности и значение таковых для «действительного бытия» таких предметностей или для их истинного бытия возможными, для их действительного бытия вероятными, и так — согласно всем вопросам разума и истины и, соответственно, действительности. Так что и тут у нас есть «проблемы конституирования».
Далее же, логические синтезы хотя и основываются на самых низших тезисах с простыми материями (чувствами), однако основываются они таким способом, что сущностные закономерности синтетической ступени и, в особенности, законы разума — в крайне широкой, со всей определенностью ограничиваемой сфере — независимы от особенных материй синтезируемых звеньев, членов. Именно благодаря этому и возможна ведь общая и формальная логика — таковая абстрагируется от «материи» логического познания и мыслит себе таковую в неопределенной свободно вариативной всеобщности (в качестве «чего-нибудь»). Сообразно этому сопрягающиеся с конституированием исследования разделяются на такие, какие примыкают к формальным основным понятиям, только таковые и избирая в качестве «руководящих нитей» для проблем разума и, соответственно, проблем действительности и истины; с другой же стороны, на такие, какие были описаны выше, а именно такие, какие примыкают к основным понятиям регионов, прежде же всего к самому понятию региона, притом задаваясь вопросом, каким же образом достигает данности нечто индивидуальное такого региона. Вместе с региональными категориями и исследованиями, предначертываемыми таковыми, получает положенное ей по праву то особое определение, какое получает благодаря региональной материи синтетическая форма, а равным образом положенное ему по праву получает и то влияние, какое оказывают на действительность региона особые связанности (те, что находят свое выражение в аксиомах региона).
Изложенное у нас явно переносится на все сферы актов и предметов, следовательно, и на те предметности, конституирование каковых априорно обязаны брать на себя акты душевного с их специфическими тезисами и материями — и таким способом, прояснить какой по форме и материальной особости вновь есть огромная, почти не ощущаемая — не говоря уж о том, чтобы быть предпринятой, — задача соответствующей конститутивной феноменологии.
Тем самым очевидной становится и глубинная сопряженность конститутивной феноменологии с априорными онтологиями и наконец со всеми эйдетическими дисциплинами (саму феноменологию мы в этом случае исключаем). Порядок ступеней, на каких располагаются формальные и материальные учения о сущности известным образом предначертывает порядок ступеней, на каких располагаются конститутивные феноменологии, определяет ступени их обобщенности и, в виде онтологических и материально эйдетических основных понятий и принципов, дает им в руки «руководящие нити». Так, к примеру, основные понятия онтологии природы, как-то время, пространство, материя и ближайшие их производные — это все индексы слоев конституирующего сознания материальной вещности, равно как принадлежные сюда принципы — это индексы сущностных взаимосвязей в этих слоях и между этими слоями. Феноменологическое прояснение всего чисто логического делает затем понятным и то, что — и почему — все опосредованные положения чистого учения о времени, геометрии и вообще всех онтологических дисциплин тоже суть индексы сущностных закономерностей трансцендентального сознания и его конституирующих многообразий.
Однако необходимо заметить и подчеркнуть, что во всех взаимосвязях конститутивных феноменологии и соответствующих формальных и материальных онтологии нет ничего похожего на то, чтобы первые обосновывались последними. Когда феноменолог признает онтологическое понятие или онтологическое положение индексом конститутивных сущностных взаимосвязей, видит в таковом руководящую нить для своих интуитивных обнаружений, какие свое право и свою значимость содержат исключительно в себе самих, то феноменолог не выносит свои суждения онтологически. Эта общая констатация еще подтвердится позднее благодаря более основательным рассуждениям, какие, ввиду важности этого положения дел, безусловно необходимы.
Всестороннее решение проблем конституирования, в равной мере учитывающее и ноэтические, и ноэматические слои сознания, было бы явно равнозначно полной феноменологии разума согласно всем ее формальным и материальным образованиям — одновременно как аномальным (негативно-разумным), так и нормальным (позитивно разумным). Далее же, напрашивается и то, что столь полная феноменология разума совпала бы с феноменологией вообще, что систематическое проведение всех дескрипций сознания, что требуется совокупной рубрикой «конституирование предмета», должно было бы объять собой вообще все дескрипции сознания.
Выходные данные
Научное издание
Гуссерль Эдмунд
ИДЕИ К ЧИСТОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
КНИГА ПЕРВАЯ. ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В ЧИСТУЮ ФЕНОМЕНОЛОГИЮ
Edmund Husserl
IDEEN ZU EINER REINEN PHANOMENOLOGIE UND PHÂNOMENOLOGISCHEN PHILOSOPHIE
Компьютерная верстка К. Крылов
Корректоры А. Конькова, Т. Коновалова
ООО «Академический Проект»
Изд. лиц. № 04050 от 20.02.01.
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Подписано в печать 16.09.08.
Формат 84x108 1/32.
Гарнитура MyslC. Бумага писчая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,04.
Тираж 3000 экз. Заказ № 709.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ОАО «ИПП „Уральский рабочий“»
620041, ГСП-148, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.