

ПОВЕСТИ
МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1986
Рецензент В. Потанин.
Издательство «Современник», 1986.
Високосный год
Глава первая
1
Удивительные здесь места! Реки, озера, холмы с ельниками, березняками, осинником. В лугах разнотравье: метлица, душистый колосок, лисохвост, дикий клевер, мышиный горошек. У дорог пастушья сумка да пижма, в низинках, на межах — багульник, иван-чай, по берегам рек таволга. В погожие дни запах стоит плотный и тягучий, такой, что голова от него кружится. Крошечные кузнечики стрекочут негромко, но столь проворно и усердно, будто они одни на земле задают ритм всей жизни.
Живности тут хватает. Оранжевая, пятнистая божья коровка то замрет на глянцевитом листке, то вдруг расправит крылышки — чешуйки и — глядь, уже на другом листке ползет по своей, должно быть, очень важной надобности. Бабочка с пестрыми широкими крыльями — опахалами зигзагами низко порхает над лугом, будто лепесток большого цветка, подхваченный слабым ветром. А шмель! С какой уверенной деловитостью проверяет он каждый цветок, не осталось ли там драгоценного нектара.
Хороши в погожие дни луговые просторы, когда земля цветет в полную силу и все сущее живет на ней в свое удовольствие. Лисицын не раз, оставив на проселке свой газик, отходил в сторону и ложился на траву, раскинув руки и глядя в небо. Закрывал глаза и слушал этих неутомимых кузнецов своего счастья, в грудь ему вливался аромат трав, и голова кружилась, и он словно бы плыл куда-то в сторону. Плыл вместе с Землей по ее орбите.
Шофер Сергей Воронков, заглушив мотор, выглядывал из кабины со снисходительной усмешкой, зная эту привычку Лисицына валяться на траве. «Ну как ребенок. Как пацан…» Сергею тоже хотелось полежать так, но он сдерживался.
А Степан Артемьевич словно бы ощущал всем телом мощную глубинную силу, исходящую от земли. От нее он набирался мудрого спокойствия, и ему казалось, что с нею он теперь может обращаться на «ты». И Нечерноземье в такие минуты не вязалось с шелковистыми травами, акварельно тонкими березами в колках, с бабочками и шмелями в ромашково-лютиковом буйстве.
Так бывало в солнечную погоду где-нибудь в середине лета. Но чаще погода стояла плохая. Север — он Север и есть. Облака, дожди, туманы, холода, ранние заморозки. Все это порядком мешало в работе. И определение «Нечерноземье» уже казалось вполне уместным и точным: помимо не всегда ласковой погоды — скуповатые суглинки и супеси…
Сегодня, проезжая мимо поля, что раскинулось в низине за еловым перелеском, Лисицын велел шоферу остановиться. Сергей затормозил у обочины, где трава была погуще и помягче. Но Степан Артемьевич не собирался на ней лежать… Он вышел из машины и, щурясь от резкого ветра, окинул взглядом поле. Ветер чуть не сорвал с него кепку, и он поглубже нахлобучил ее на голову. Сергей, веселый рыжеватый парень в джинсах и сером пиджачке, тесноватом в плечах, тоже вышел из газика и стал рядом. Лисицын наклонился, сорвал стебелек ячменя, помял его в руке.
— И пересев не помог, — сказал он и прошел дальше по меже, вминая былинки в землю. — Что делать с этим полем?
— Пустить на зеленую подкормку, и точка. Пока стебли не загрубели, — посоветовал Сергей. — Сарафанов всегда так делал: скосят и свезут на ферму коровам.
— Так то Сарафанов! — с неудовольствием продолжал Лисицын. — Зерно нам дано природой для того, чтобы, посеяв его, получить много зерен.
— Вам, конечно, виднее, — сказал шофер. — Но смотрите: колоски мелкие, тощие, больше силы не наберут. Земля взялась коркой.
Лисицын остановился, слушая вкрадчивый шелест недозревших злаков. Почва на участке и в самом деле высохла, потрескалась, хотя жары не было. «Земля сырая, болотина, — размышлял директор. — Известкование не помогло — кислотность высока. Да и посеяли ячмень вынужденно и уже поздно».
В конце прошлого лета тут сеяли рожь, но осень стояла дождливая, слякотная, озими вымокли, пошли под снег неокрепшими, а весной сильно подопрели, и поле пришлось пересевать ячменем. Но и он зачах…
Всю дорогу до центральной усадьбы Лисицын хмурился и недовольно посматривал по сторонам.
Поднявшись по нешироким ступенькам на крыльцо совхозной конторы, Степан Артемьевич заглянул на минутку в бухгалтерию и прошел узким полутемным коридором к себе в кабинет. Несколько раз передвинул кресло, которое никак не хотело становиться на положенное место. Кресло осталось от прежнего директора, вышедшего на пенсию и уехавшего в город к сыну. Старинное, с полумягким сиденьем, оно было неуклюжим с виду, но удобным, и он оставил его в кабинете, хотя оно и не очень вписывалось в новый полированный гарнитур. Теперь оно обиженно скрипнуло под ним, и Лисицын провел руками по лицу, как бы снимая этим жестом усталость. Тут же Степан Артемьевич позвонил управляющему Борковским отделением Каретникову и спросил:
— Как быть с ячменным полем, которое пересевали? Я сейчас смотрел: неважный ячмень. Прежде, говорят, такие участки скашивали на подкормку? Или лучше оставить дозревать?
Каретников помолчал. Степан Артемьевич представил, как он размышляет, держа телефонную трубку в руке и одновременно поглядывая в окно.
— Я тоже видел поле, Степан Артемьевич, — сказал Каретников после солидной паузы. — Если скосить сейчас — проку мало. Ячмень низкоросл, зеленой массы пустяки… Пусть уж дозревает. Зимой все сгодится — и стебельки, и колоски. Будем измельчать и запаривать в кормоцехе.
Лисицын не стал возражать и положил трубку.
Он подумал, что с посевами зерновых вообще дела плохи. «Каждый год во время уборки — ненастье, дожди. Сушильного хозяйства нет. Из-за этого фермам не хватает «сильных» кормов. Надеемся только на помощь государства. Но сколько можно? Когда-нибудь скажут: хватит вам просить!»
В конце рабочего дня с телефонного аппарата брызнула резкая трель звонка. Из обкома профсоюза работников сельского хозяйства некий Востряков, зав. каким-то сектором, — Лисицын точно не знал каким, — предложил ему туристскую путевку за границу на сентябрь.
— Ты ведь не пользовался путевками, — сказал Востряков покровительственно. — Мы при распределении вспомнили о тебе.
«Вспомнили!» — Лисицын удивленно вскинул белесые густые брови над карими быстрыми глазами и усмехнулся.
— А куда путевка? Какой срок?
— В Санта-Крус. Двадцать дней.
— Санта-Крус? Это — нечто итальянское?
— Нет. Испанская провинция. Город на Канарских островах в Атлантическом океане. Советую ехать. Место интересное, экзотика! Климат райский. Там, представь, драконовы деревья три тысячи лет растут!
— Какие деревья?
— Драконовы. Острова вулканического происхождения.
— Ты меня хочешь отправить на вулканы? Чем я провинился?
— Они давно потухли. Гарантирую. Остальное узнаешь на месте. Сейчас июнь, время для сборов есть.
Лисицын думал, ехать или нет, — ведь он так мечтал об отдыхе!
— Ну так что? — спросил Востряков.
— А путевка одна? Хотелось бы с женой…
— Поезжай с женой.
— Подумать надо.
— Думай. Только недолго.
— Ладно, спасибо, — Лисицын положил трубку.
Если быть точным, то он не отдыхал по-настоящему почти полтора года. В прошлом году в конце лета лили дожди, уборочная затянулась, и ему было не до отдыха. А поздней осенью под покров отпуск тоже брать не хотелось. Почему бы теперь не съездить? В его отсутствие камни с неба не свалятся. Нынче многие ездят по заграницам, чем он хуже других?
Однако… Ох уж это словечко! Оно предостерегало, настораживало, заставляло хорошенько подумать, перед тем как принять решение. Однако… Столько дел, столько забот! Что скажут люди? Картошку не убрал, зябь не допахал, стойловый период на носу, а он улизнул за границу от всех забот. Во Лисицын! Во, даёт! И это называется современный молодой директор!
«Современный и молодой» — о нем частенько так говаривали за глаза, — Лисицын это знал. Знал и то, что в устах людей такая характеристика иной раз звучала двусмысленно. Дескать, молодо-зелено, опыта еще маловато. Районное начальство многое ему прощает, когда у него что-нибудь не ладится, и, отечески похлопывая по плечу, ограничивается внушением вместо хорошей припарки.
А все же хотелось бы съездить отдохнуть, рассеяться, на белый свет посмотреть, послушать плеск океанской волны.
В конце дня, зайдя к секретарю парткома Новинцеву, Лисицын рассказал ему о предполагаемой поездке.
Иван Васильевич был в решениях нескор, любил все прежде хорошенько взвесить.
— С чего тебя потянуло за границу? — удивился он. — Махнул бы в Крым или Сочи.
— Они сами предложили путевку, я не просил.
— А где он, этот Санта-Крус? И надолго ли надо ехать?
Степан Артемьевич объяснил.
— Так — Новинцев глянул на Лисицына теперь вприщур, с недоверчиво-сдержанной улыбочкой. — Далековато. А что там, интересно?
— Востряков хвалит.
— Он всегда хвалит. Ему бы только сбыть горящую путевку.
— Эта, наверное, не горящая.
— Возможно. А с райкомом ты советовался? А со своим сельхозуправлением?
— Еще нет. Я прежде к тебе пришел. — Лисицын придвинулся поближе, оперся о стол локтями, чуть наклонив лобастую голову, и посмотрел в упор на Новинцева. Черный свитерок-водолазка и серый пиджак плотно сидели на его широких плечах. — Как думает комиссар? — он смахнул со лба прядку жестких русых волос.
Новинцев в сравнении с ним несколько проигрывал во внешности: невысокий, лысоватый, с самым обычным лицом и серыми глазами, он, пожалуй, не походил на руководящего товарища даже местного, сельского масштаба. Ни фигуры, ни осанки. И выражение лица его было этаким простецким, располагающим к откровенности,
В совхоз «Борок» Новинцева назначили год назад, после окончания партийной школы. А до этого он работал инструктором райкома. Лисицын после института около года заведовал механическими мастерскими, а уж потом стал директором.
— Отдохнуть тебе, конечно, надо, — размышлял вслух Новинцев. — Только вот время… В сентябре разгар картофельной страды, канун зимовки скота…
— Я так и знал, — огорченно отозвался Лисицын и стал закуривать. — Вы тут без меня не в состоянии управиться? На мне свет клином сошелся?
— Ну ладно, ладно, — сказал парторг. — Обеспечь задел и поезжай. Как я могу возражать? Ты сам себе хозяин. К тому же ты давно не был в отпуске. А каждому человеку, даже директору совхоза, положено отдыхать
— Очень остроумно! — рассмеялся Лисицын. — Именно: даже директору… Развивай, Иван Васильевич, в себе этот бесценный дар!
Оставалось переговорить с супругой. Когда во время ужина Степан Артемьевич сообщил Лизе о возможной поездке, она переспросила:
— Куда ехать? Я не очень поняла.
— Санта-Крус на Канарских островах в Атлантическом океане.
— Вон куда! А пляж там есть?
— Должен быть.
— И фрукты, конечно?
— Разумеется. Между прочим, там растут драконовы деревья. Долгожители редкого вида. Экзотика!
— Надо бы съездить. А то никаких светских развлечений. Одни серенькие будни.
Степан Артемьевич помолчал, думая о том, как он обеспечит «задел», то есть успеет управиться до отъезда с главными хозяйственными заботами.
— Время еще есть, — подытожил он вслух.
Лиза, пожав плечами, поставила перед мужем стакан в мельхиоровом подстаканнике и налила чаю. Она не сразу села за стол, видимо, предстоящая поездка ее взволновала. Степан Артемьевич принялся за чай. Он был жидковат и припахивал поздним осенним сенцом. Но бог с ним, с чаем. Лисицын в эти минуты подумал о жене:
«В самом деле, свозить бы ее за границу. Посмотрит, как люди живут, настроение поднимется. Мало я о ней забочусь… Дел невпроворот, жене ноль внимания. Так не годится. Хотя бы ради нее следует съездить».
Когда он приехал в областной центр за направлением на работу, у него оставалось несколько свободных дней, и он решил заглянуть в областную библиотеку, ознакомиться с новинками сельскохозяйственной литературы. Библиограф — молоденькая внимательная и предупредительная, принесла из фондов нужные ему издания, и он, сев за стол в читальном зале, принялся за дело. Но статьи показались ему неинтересными, особых открытий для себя он в отраслевых журналах не нашел, заскучал и стал посматривать по сторонам. Ему все хотелось видеть девушку-библиографа, — она время от времени бесшумно и плавно проходила мимо столов.
Ему удалось познакомиться с ней на другой день, когда он опять зашел «почитать что-нибудь». Когда она, окончив работу, собралась домой, Степан Артемьевич попросил разрешения проводить ее. Девушка, поглядев на него внимательнее и подумав, согласилась.
Ее звали Лизой. Она понравилась Степану Артемьевичу, и он, кажется, тоже произвел на нее благоприятное впечатление. Более того, Степан Артемьевич отчаянна влюбился, чего с ним еще не бывало, — сразу вот так, с головой в омуток… Лиза изящная, стройная. Она носила в те дни платье вишневого цвета, перехваченное в талии мягким пластиковым пояском. Из стоячего воротника видна была шея, которую, за недостатком других эпитетов называют точеной. Голова небольшая, гордо посаженная, с модной прической.
Один восточный мудрец сказал: «Сначала глаз видит, потом сердце одобряет, когда сердце одобрит, природа к ней начинает склоняться и тогда уже требует свидания с ней». Так случилось и с Лисицыным. Ему хотелось видеть Лизу все чаще, и, оставшись в городе еще на несколько дней, он встречался с ней вечерами. Перед отъездом он пригласил ее на концерт гастролирующего здесь ансамбля «Эра». Судя по всему, концерт Лизе не очень понравился: музыканты, не заботясь о гармонии, вовсю дули в свои саксы и трубы. Когда музыкальные пассажи достигали взрывной силы, Лиза прикрывала руками уши, поглядывая на Лисицына с растерянной улыбкой. Он восторженно и чуть озорно заметил:
— Во дают ребята! На всю железку…
И рассмеялся от души.
Как бы там ни было, знакомство с Лизой все же было закреплено и продолжено. После концерта они шли по набережной Северной Двины. Последняя строительная мода одела ее в бетон и гранит. Вдоль набережной высажены молодые деревца, кустарники, по которым уже не раз прошлись садземтрестовские ножницы, придавшие растительности унылый парковый стандарт. Солнце стояло в малооблачном небе над Заречьем — большое, цвета красной малины. По реке проходили солидные, важные морские лесовозы, шумели волны, у пирса покачивались небольшие речные буксиры. Все было наполнено движением. Неподвижным казалось только солнце, но и оно постепенно опускалось, будто кто его тянул в дымчато-синий разлив заречных лесов.
Лиза в ответ на его вопрос, понравился ли ей концерт, ответила:
— По крайней мере, такого я еще не слыхала. Нечто грандиозное… — она улыбнулась Степану Артемьевичу. — Куда до них Моцарту или Шопену! Даже органная музыка блекнет перед этими могучими электроревами…
— Вы предпочитаете классику? — поинтересовался он.
— Люблю просто хорошую музыку. Всякую. Только хорошую. А эта раздражает, бьет по нервам, оглупляет слушателя… Может быть, я не понимаю ее…
— Я тоже. Не дорос, — согласился он. — Наверное, для знатоков она не так уж плоха.
— Ну, бог с ней, с музыкой. Расскажите о себе, — попросила она.
Степан Артемьевич стал рассказывать про родную деревеньку Дешевиха, что в Вологодской области на речке Уфтюге, про то, какие там бывают летние вечера — прозрачные, прохладные. Рассказал, как учился в школе, а потом в институте в Пушкине под Ленинградом.
Проводив ее до дома, Степан Артемьевич с неохотой стал прощаться. Она, заметив это, взяла его за руку:
— Зайдемте к нам. Я познакомлю вас с мамой. И выпьем чаю.
Анна Павловна, мать Лизы, приняла Степана Артемьевича дружелюбно. Невысокая, худощавая и такая белокурая, что в волосах почти не заметной была седина, с умными, чуточку настороженными голубыми глазами, Анна Павловна была похожа скорее на скромную конторскую служащую, чем на педагога. Она напоила их чаем со смородиновым вареньем, оделась и ушла к подруге. Лиза и Лисицын остаток вечера провели в разговорах.
Последующие дни Степана Артемьевича были полны удивления и восторга. Лисицын удивлялся, что так неожиданно, словно утреннее солнце в ненастную погоду, пришло к нему это большое и сильное чувство — любовь, и осветило его, и согрело теплом, от которого на душе радостно и чуть-чуть тревожно. У него теперь есть необыкновенно красивая и умная девушка. И глядит она на него с доброй и таинственной улыбкой, обещающей нечто такое, от чего кружится голова и готов скакать и прыгать подобно мальчишке, увидевшему впервые в этом огромном и прекрасном мире цветок в росе и шмеля на нем, или невиданной формы облако в голубом и легком летнем небе.
О настоящей любви не говорят — она пуглива. Одного неосторожного слова достаточно, чтобы вызвать сомнение или недоверие… И Степан Артемьевич молчал. Все в Лизе прекрасно — в этом он был совершенно уверен. Позже он приметит в ее характере опасные подводные рифы и научится обходить их с искусством двинского лоцмана; он откроет в предмете своего обожания новые черточки, новые достоинства. А пока все обстояло именно так, как при первых встречах.
А что Лиза? Нравился ли он ей? Ничего определенного Лисицын сказать не мог. Отношение Лизы к нему было ровным и спокойным.
Нет, положительно женщины — непонятные натуры! Они умеют так тонко и ловко скрывать свои истинные чувства и водить мужчину за нос, пока не доведут его до состояния полной неуверенности в себе.
А быть может, все обстояло гораздо проще и он очень уж усложнял и возводил свои сомнения в степень чудовищной гиперболы?
Оказывается, и в самом деле просто. Когда он уезжал к себе в Борок в тихий, с накрапами ленивого дождика пасмурный вечер, Лиза, провожая его, на пристани сказала ему:
— Ты мне нравишься, увалень. Без тебя я буду скучать. Приезжай поскорее!
«Увалень» она произнесла так, как женщины тоже умеют — ласково, и он возликовал.
Они стали переписываться. А бывая в областном центре, Степан Артемьевич продолжал встречаться с Лизой и наконец сделал ей предложение.
Она не сразу согласилась выйти замуж. Тому были довольно веские причины. Он жил в деревне, она — в городе с матерью, которая частенько прихварывала. Поехать к нему — значило оставить мать без присмотра.
Наконец Лиза все же дала согласие. Решающим при этом было слово Анны Павловны, которой Лисицын понравился.
— Борок ведь недалеко, — сказала она. — Ты, Лиза, можешь приехать ко мне в любое время. Главное, чтобы ты была счастливой. Обо мне не беспокойся.
В то время Степан Артемьевич занимался в совхозе ремонтом машин и жил одиноко, по-холостяцки, на квартире у бывшей телятницы, пенсионерки Любовцевой. Она варила ему щи, грела самовар, прибирала комнату и время от времени справлялась: «Скоро ли молоду женку привезете?» И другие боровские старожилки, «товарки» Любовцевой, сгорали от нетерпения, всем было дело до его семейного положения. Когда Степан Артемьевич, собравшись в город, шел мимо изб на двинскую пристань, они перешептывались:
— Зачем в город поехал? Не за женой ли?
И шли к Любовцевой выяснять, поехал инженер за супругой или просто по служебным делам.
Наконец она приехала. К тому времени ему дали квартиру в новом двухэтажном доме, построенном для совхозных специалистов и молодоженов, и они стали ее обживать. Лизе нашлась и работа в библиотеке при сельском клубе. Когда она направлялась туда по узким деревянным мосточкам, пенсионерки откровенно глазели на нее. Оценив по достоинству осанку и медлительную походку инженеровой жены, они все же по привычке перемывали ей косточки:
— Ишь, идет, не торопится!
— Известно: городская, балованная. Скоро уедет.
— И не говори, матушка. Разве у нас такая приживется. Уедет беспременно.
— Чего ей здесь делать-то? Книжки выдавать скоро прискучит. Вон, заречного зоотехника жена бросила. Сбежала в Соломбалу. Говорят, за морского офицера замуж выскочила по второму разу…
— И эта, должно быть, укатит.
Но Лиза, судя по всему, не собиралась убегать из Борка от мужа, и это порядком-таки озадачило старух.
Лиза выросла в городе на Северной Двине, и этим сказано все. Без Двины нет северянина. Без нее этот обширный край превратится в унылое тундровое болото. Двина кормит, поит и вдохновляет всех, кто на ней родился и вырос. Она питает воображение, рождает былины, сказы и песни, водит по холстам рукой художников. Она одинаково властно удерживала возле себя юношей и степенных бородачей. На ее берегах рождались, жили, работали и умирали в преклонных летах шлюпочные мастера, лоцманы и шкиперы, полярные исследователи, военные моряки и цивильные капитаны дальнего и каботажного плаваний. С весны до поздней осени на двинском стрежне дрожали от ветров туго натянутые, промытые дождями паруса рыбачьих шхун, коптили небо паровые суда, шлепая по волнам плицами первобытных колес; в более поздние времена ее воды бороздили тральщики и лесовозы, дизель-электроходы и «Ракеты». Разве только не навещали двинское устье из-за большой осадки атомные ледоколы…
Архангельск жил Северной Двиной. Ей, словно родимой матушке, он поверял свои радости и печали. В летнюю пору по выходным дням жители шли на берег подышать чистым воздухом, послушать ропот волн. Даже поздней осенью, одевшись потеплее, иной горожанин выходил на набережную полюбоваться густой и холодной кромешной тьмой, в которой слышался плеск тяжелых предзимних волн, и, словно светляки, плыли мимо разноцветные сигнальные огни портовых буксиров.
Лиза с детских лет полюбила Двину, и по правде говоря, она, будучи горожанкой, поехала в село не без опасений. Но Двина, река ее детства, здесь тоже была рядом. Это до некоторой степени утешало ее. И нельзя было не считаться с работой и положением мужа.
Прибыла она сюда два года назад, в середине июля. Муж встретил на пристани, отправил вещи на машине объездной дорогой и предложил Лизе пройтись пешком напрямик через луг.
Было тепло и чуточку влажно от вчерашнего дождика. На лугу отцветали травы, готовясь лечь под острые ножи тракторных косилок. Степан Артемьевич рассказывал Лизе, что луг веснами заливает водой, а потом она уходит, и потому тут такой богатый травостой. Кое-где в траве поблескивали под солнцем маленькие озерца. Он сказал, что в половодье в них заходит рыба из реки и, не успев уйти до спада воды, остается тут на радость рыболовам.
Лиза радовалась тому, что тут тепло, воздух чистый и в небе тянутся к горизонту тоже чистые белые облака. Ей стало даже жарко, она сняла кофточку. И рядом шагал муж, такой уверенный, молодой, сильный, и ветер играл его русыми волосами.
Потом луг сменился картофельным полем. Тропка продергивалась сквозь светло-зеленую ботву наискосок, к зарослям ивняка, что кудрявились впереди. За ивняком оказалась река Лайма, узенькая, неторопливая, равнинная, со спокойным течением и красноватой водой. Пройдя через Лайму по деревянному пешеходному мостику, они стали подниматься в гору. Гора была крутая, высокая, и там они остановились перевести дух. Лиза вспомнила слова бабушки, которая, бывало, в детстве рассказывала ей сказки, и в одной из них было такое:
А жить ты будешь на высокой-высокой горе,
На самой вершине…
Она улыбнулась и посмотрела на Степана. Он тоже улыбнулся и сказал:
— Вот мы и дома.
Жили они дружно, в полном согласии, если не принимать во внимание маленьких случайных размолвок по совершенно незначительным поводам. Без них ведь не обходится в семьях. Недаром говорится: «Милые бранятся — только тешатся». Лишь одно грустное обстоятельство в известной степени омрачало семейное житье-бытье, У них пока не было детей. Но что за дом без детских голосов? Степан Артемьевич переносил бездетность стоически, надеясь на обещанное врачом туманное будущее, но у Лизы это выливалось в повышенную нервозность. Муж успокаивал ее, был предупредителен и ласков, но дурное настроение последнее время посещало ее частенько.
Как-то, придя с работы, Степан Артемьевич после ужина по привычке прилег на диван с газетой в руках. Лиза прибирала со стола, мыла посуду. Вдруг она уронила чашку в миску с водой, села на стул и тихонько заплакала. Он встревожился и спросил:
— Что случилось, Лиза? Почему ты плачешь?
Она утерла слезы концом полотенца, которое держала в руках, и сказала в отчаянии:
— Зачем я сюда приехала? Боже мой, тут и слова-то сказать не с кем. И что я вижу? Квартира — библиотека, библиотека — квартира. Вот и все…
— А что нужно еще? — развел он руками в растерянности. — Ты ведь и в городе видела то же самое: квартира — библиотека и наоборот. Ну еще в свободное время посещала лавочки, покупала парфюмерию. В кино ходила… Так ведь и здесь показывают кино, и в сельповском магазине есть кое-какие помады…
— Ах, оставь свой детский юмор! — Лизе не понравился его тон.
— Зато тут чистый воздух, прекрасная природа! Гуляй в свободное время, любуйся пейзажами. Познакомься с местной интеллигенцией, сходи в школу, к учителям. Или хочешь я познакомлю тебя с агрономом, зоотехником, инженером? Пригласим их в гости.
— Ах, оставь! И вообще… — Лиза метнула на мужа разгневанный взгляд. — Если бы я была Левитаном, то сидела бы с этюдником где-нибудь на берегу и молчала. А с твоей интеллигенцией знакома, бывают в библиотеке. Люди неплохие, но скучные…
— Напрасно ты так о них. Нельзя поверхностно судить о людях и делать поспешные выводы. — Он осторожно положил руки на ее мягкие теплые плечи. — Зачем хандрить? Надо беречь нервы и вообще здоровье. Почему ты представляешь все в мрачном свете? Здесь живут и вовсе не сетуют на судьбу и не хнычут люди, ничем не хуже нас. Вот закончат строительство коттеджа — переедем туда из каменного дома. Там будет участок, станем разводить цветы, сажать овощи. У тебя появятся новые заботы, привьется вкус к сельской жизни, к природе пробудится интерес.
— Природа — это хорошо. Но разве дело только в ней? — суховато спросила Лиза, еще раз утерев слезы. — Прости… У меня почему-то плохое настроение…
Он вздохнул и отошел несколько озадаченный.
Минутные приступы меланхолии приходилось прощать жене. Что поделаешь, она же горожанка и ей тут и в самом деле скучновато. Подруг не завела. Потому и требует повышенного внимания к себе. А он вечно занят. «Управлять» женой для Степана Артемьевича было, пожалуй, не легче, чем совхозом. Там хоть, по крайней мере, у него были помощники. А тут ему одному приходилось улавливать малейшие отклонения в ее настроении и приноравливаться к ней…
Но он любил жену и потому прощал ей все. Откуда ему было знать, что всепрощение порой приводит к отрицательным последствиям?
«Свозить бы ее в этот самый Санта-Крус, полегчало бы», — подумал Степан Артемьевич.
2
Погода была не то чтобы чрезмерно уж скверной, с проливнями и пронизывающими холодами, но неприветливо-странной. Недаром люди твердили о високосном годе. В небе уже которую неделю толпились низкие и плотные облака, напоминающие серый подкладочный ватин, и солнце никак не могло пробуровить их плотные пласты. Порой из облаков сеялся мелкий холодный дождик — скупой и нерешительный, будто выжатый. Степану Артемьевичу казалось, что эти угрюмые «несельскохозяйственные» облака, напоминающие коричневатый дым из трубы старой котельной, будут торчать над Борком, над лугами, полями и перелесками до тех пор, пока не загубят на корню весь урожай трав и злаков.
Будто канули в вечность добрые старые времена, когда все было объяснимо и предсказуемо: если уж мороз, так под минус сорок, а жара — так раздевайся до трусов и загорай. А случится дождик, так непременно ливень с веселым громом на полчасика, а потом — опять ясно. «Пожалуй в детстве всегда было так, — думал Лисицын. — Природа, по крайней мере, не знала полутонов, краски у нее были яркие, радужные, или контрастно-темные. А теперь — ни то, ни се, ни солнце, ни гроза. Одна муть в небе и тягучая тоска».
В мае было переменно, с преобладанием солнечных дней, но потом откуда-то навалился циклон. Облачные напластования закружились, словно гигантская карусель, против часовой стрелки, и ось этой карусели оказалась прямо над Борком. Все в небе было похоже на циклопическую океанскую воронку, затягивающую в себя вся и все, как в одном из рассказов Эдгара По.
Один борковский старожил, из тех, у кого барометр помещается в суставах и пояснице, Еремей Чикин, утверждал, что этот циклон, который «приперся с запада», задержал льды в Баренцевом море, и потому в Борке, как и во всем понизовье Северной Двины, холодно и неуютно, словно в нежилой избе с нетопленной печью.
Так обстояло дело с погодой. Сельскому жителю приходилось приспосабливаться к ней. И рабочие совхоза поступали именно так. Сенокос начинать рановато, уборку — тем более. Трудились по-настоящему только животноводы да трактористы на разных работах. Остальные занялись благоустройством своих усадеб, перекрывали шифером крыши, опушали вагонкой стены домов.
В Борке было две улицы. Одна тянулась вдоль угора, другая пересекала ее и обрывалась там, где под угором начинался обширный приречный луг. Конец поперечной улицы шел на север и у околицы переходил в проселок, что вел через поле к леску. Перед леском на холме стояла еще деревенька — Горка. Когда-то в ней было до полусотни дворов, и там располагался центр колхоза, созданного в тридцатые годы. Но теперь Горка захирела, часть жителей перебралась в Борок, а другие разъехались по городам. Большинство старых изб перевезли на центральную усадьбу или раскатали на дрова. Теперь на Горке в шести домах жило около десятка пенсионеров. Они никак не хотели переезжать в Борок, сколько Степан Артемьевич их ни уговаривал. Он намеревался вовсе ликвидировать Горку с ее древними избами и, распахав там землю, засеять ее кормовыми культурами. Но, поскольку ее обитатели не хотели покидать свою отчину и сопротивлялись директорским нововведениям, он пока отложил эту затею. Упрямству горских старожилов не было предела, никакие доводы на них не действовали.
В центре Борка на перекрестке стоял бывший купеческий дом, занятый под школьный интернат. В летнюю пору он пустовал, и здесь временно поселяли студентов или шефов из города, приезжавших на сенокос или уборку. Напротив интерната — клуб, через два дома от него сельсовет, а дальше продмаг и сельмаг. Там же располагалась и совхозная контора. На западной окраине Борка появился новый «микрорайон» — три двухэтажных восьмиквартирных жилых дома и общественная баня с котельной. Еще дальше, за селом — конюшня. Два дома и баню возводил старый директор, а третий дом достраивал Степан Артемьевич. Под его же руководством в совхозе соорудили свинарник, телятник и провели по улицам ко всем домам водопровод. С момента заселения этих земель новгородцами ничего подобного здесь не было: жители пользовались колодцами или носили воду ведрами из речки.
В общем, Борок представлял собой некое смешение старого и нового. Старое еще преобладало, новое начиналось. Дедовские избы подновлялись, обшивались вагонкой, украшались резными балкончиками, покрывались шифером, а новые каменные постройки являлись провозвестниками будущего.
В старой деревне имелись свои минусы, которые неизбежно и закономерно тянулись из прошлого. Главным, что раздражало директора и не давало ему покоя, было двадцать пустующих домов в Борке. Внешне они выглядели отнюдь не сиротскими — были и облицованы, и покрашены, и у них имелись хозяева. Но они жили в городе или в ближайших поселках лесорубов и сплавщиков и работали на производстве. В избах в качестве сторожей обитали древние старушки. Летом горожане приезжали целыми семьями в отпуск в дедовские избы и отдыхали здесь, как на дачах. А зимой избенки опять казались нежилыми…
Степан Артемьевич думал, как бы покончить с этими «дачами», передающимися по наследству, покончить навсегда, бесповоротно. Но осуществить такое наступление на дачный сектор мешал Закон о личной собственности граждан. А какое право они имеют на такую собственность, если в селе не живут и не работают?
Степан Артемьевич предпринял попытку наступления на дачный сектор. Было это в июне, в пору теплых дождей и обильного цветения всего сущего на земле. Он пригласил к себе в кабинет помощников, чтобы посоветоваться с ними.
— Рабочих рук, особенно молодых и сильных, у нас нехватка, — сказал он. — Я подумал и решил обратиться в бюро по трудоустройству населения. Дадим заявку, обговорим условия найма. Но у нас нет свободных квартир. Если люди приедут, разместить их по избам рабочих совхоза вряд ли удастся. Известно — чужой человек в доме помеха. Не сделать ли так: в Борке я насчитал по меньшей мере двадцать домов бывших колхозников, нынешних горожан. В них бы и разместить дополнительных работников. Правильно ли, когда на совхозной земле стоят жилые постройки, принадлежащие людям, которые давно утратили связь с совхозом? Они же приезжают на лето только как дачники.
— Наследные принцы! — неодобрительно заметил главбух Ступников.
— Вот именно — наследные…
— Вряд ли они сдадут нам свои особняки в аренду, — засомневался Новинцев.
— Я веду речь не об аренде, — продолжал Степан Артемьевич. — Надо обобществить эти дома, выдав их хозяевам денежную компенсацию. Ведь можно нам выделить для этого средства? — обратился он к главбуху.
— Надо подумать, — осторожно ответил тот. — В районе посоветоваться.
— И ты уверен что владельцы эти продадут нам дома? — усомнился Новинцев. — Вряд ли. Горожанам нужны дачи. Деньжата у них водятся.
— Пошлем им письма с таким предложением: или переезжайте к нам и работайте в совхозе, или продайте нам дома, — настаивал Лисицын.
— За такие ультиматумы нас очень свободно могут взгреть, — Новинцев озадаченно наморщил лоб. — Это личная собственность, охраняемая законом.
— А общественные интересы? Разве не должны они ставиться выше личных! Я думаю, в районе нас поддержат, — закончил Лисицын.
Все призадумались. Предложение директора было не лишено здравого смысла и казалось осуществимым. Однако Новинцев все сомневался.
— Могут поддержать, а могут и не поддержать, — глубокомысленно заметил он.
Зоотехник Яшина, молодая рослая женщина с пышными формами, жена главного инженера Челпанова, прервала затянувшуюся паузу:
— Никак не могу понять, как это люди оставляют отцовский кров и разъезжаются по городам. Что их там привлекает?
— Вечная тема! — махнул рукой ее муж, невысокий, лысенький и востроглазый. — Сколько об этом говорить? Ведь все ясно как божий день.
Эта супружеская пара приехала в совхоз после института года четыре назад. Боровчане удивились, что муж и жена живут под разными фамилиями, но потом привыкли. И мало кто подумал, что этот вроде бы незначительный внешне факт некоторым образом выражал характеры в общем дружных, любящих друг друга людей. А характеры были разные. Так, например, если один из супругов высказывал по какому-либо поводу свое мнение, другой незамедлительно противоречил ему и старался во что бы то ни стало утвердить свою правоту. Даже внешне они выглядели разными: маленький, тщедушный Челпанов рядом с дородной супругой Яшиной казался всего лишь неким приложением к ней. Несмотря на это, он обладал более сильным характером, и его стремление возражать супруге было неукротимым.
У них имелось трое мальчиков. Живые, озорные, они бегали по селу, проказничали, и боровчане окрестили их «Яшины-Челпановы огольцы».
Супруги умолкли. Они сделали свое дело: одна сказала, другой возразил. Но дальше эту тему стал развивать главбух Ступников.
— Всему виной образованность, — произнес он категорически. — Именно! Надо смотреть правде в глаза. Окончил молодой человек школу — ему уже зазорно жить в родном селе, вкалывать на полях и фермах. Ему подавай институт, университет, акадэмию (он сделал ударение на «э»). Ну, на худой конец, какое-нибудь училище. Он желает стать классным специалистом, интеллектуалом, кандидатом каких-нибудь наук, хочет жить в городских апартаментах. Он пуще всего боится, чтобы про него говорили: «он из деревни». А что деревня? Вся Россия-матушка вышла из нее. Испокон веку город черпал здесь силы и людей. И еще скажу: вот прежде, до революции, были белая кость и черная кость. Белая не работала, а только управляла и пользовалась всеми привилегиями. Но ее, белой кости, было в общем немного. А черная кость — все остальное население — работала ручками, ручками! Пахала землю, возила навоз, косила сено, пасла и доила коров. Теперь черной кости у нас вроде нет, осталась одна белая. Вот в городе, говорят, в больницах некому горшки выносить из палат, санитарок нету. Одни медицинские светила. А уборщиц в иные учреждения, чтобы полы подмести да ковры пропылесосить, агитируют с цветами, чуть ли не с духовым оркестром. Во, брат, дожили! Простую физическую работу никто не желает выполнять, потому как осталась белая кость, а черной нету. Все с образованием и с… претензиями.
Ступников, мужчина средних лет, рябоватый и длинноносый, произнеся эту тираду, разволновался, на щеках у него пятнами выступил румянец, и обычно серые холодные глаза негодующе засверкали. Выслушав его довольно консервативное суждение о «белой» и «черной» кости, Степан Артемьевич расхохотался от души. А Новинцев нахмурился и счел нужным поправить главбуха.
— Дремучее невежество, — сказал он. — Вы, товарищ Ступников, мыслите устаревшими категориями. В вас заговорил деревенский мещанин. Разве образованность — не великое достижение общества? Тут дело совсем в другом.
— В чем же, по-вашему? — глаза у Ступникова загорелись, как у заядлого спорщика. — Надо резать правду-матку!
— Ваша правда однобока. Вы смотрите только со своей колокольни, — продолжал Новинцев. — Дело вовсе не в том, что они не хотят, как вы говорите, выполнять простую физическую работу. Неужели вам не ясно: на промышленных предприятиях и стройках хорошо отлажены производство и быт. А у нас эти условия мало чем отличаются от тех, что были и десять, и двадцать лет назад, за небольшим исключением. Когда мы поставим хозяйство на современный уровень и построим хорошие жилые дома, клубы и прочее, люди, наоборот, станут приезжать к нам.
— Хорошо бы! — сухо проговорил Ступников. — Только когда это будет?
— В передовых хозяйствах страны дело обстоит именно так.
Лисицын вернул сослуживцев к тому, ради чего собрались:
— Ладно, давайте конкретно. Вы поддерживаете мое предложение?
Его поддержали все, кроме Новинцева, который стоял на своем: нельзя замахиваться на личную собственность. Лисицыным же руководило то, что ежегодные летние наезды «наследных принцев», как их называли в Борке, их праздное времяпрепровождение привносили в трудовую совхозную жизнь некоторый разлад и отрицательно влияли на дисциплину.
Когда все разошлись и Лисицын с Новинцевым остались вдвоем, Иван Васильевич сказал:
— Затея твоя с этими избами все-таки зряшная. Нам надо вести новое строительство. В районе тебя не поддержат, и ты окажешься в неловком положении.
— Посмотрим! — упрямо стоял на своем Лисицын. — Пойми, Иван Васильевич, что эти пустующие избы и дачники у меня как бельмо на глазу. Пора с этим покончить. Пусть себе строят дачи в других местах и отдыхают в свое удовольствие. Совхозная земля не для этого. Новое надо, но ведь и старое еще пригодится. Я собираюсь дать заявку о найме рабочих со стороны. Приедут люди — где разместим? Ну, несколько семей устроим, а если больше?
— Наивный ты человек. Кто приедет к нам работать по найму?
Лисицын все-таки поступил по-своему, отправился в районный центр за поддержкой.
…ГАЗ-69 резво мчался по большаку. Дожди кончились, дорога подсохла, и за машиной оставался пыльный шлейф. Было ясно, солнечно и сухо. Это благотворно действовало на Степана Артемьевича, который строил в пути далеко идущие планы.
Но парторг оказался прав. Лисицын там не получил добро, да и сам понял, что, оказывается, не очень продумал свое решение.
В сельскохозяйственном управлении ему сказали, что никаких денег на покупку частных домов выделить не могут. Однако начальник управления, видя огорчение Лисицына, счел нужным заметить, что директор совхоза является распорядителем кредитов и при известной находчивости может выйти из положения. Это было сказано в виде намека: дескать, ты хозяин, тебе и карты в руки.
Степан Артемьевич вышел из управления озадаченным, перебирая в уме возможные варианты выкраивания денег на это «сомнительное», как заметил начальник управления, предприятие.
Потом он заглянул в контору службы трудоустройства.
Служба состояла из одного заведующего отделом по труду. Он сидел в маленьком кабинете и рылся в ящиках письменного стола, выдвигая и со стуком задвигая их. Увидев посетителя, он перестал выдвигать ящики, поздоровался и указал на стул. Лисицын сел. Заведующий — тощий, предпенсионного возраста мужчина — сказал:
— Я слушаю вас.
Он был чем-то озабочен, в движениях его сквозила нервозность. Степан Артемьевич, отметив это про себя, приступил к делу.
— Я — директор совхоза «Борок», — представился он. — Мы хотим дать заявку о найме рабочих. Нам потребуется на первых порах человек двадцать.
Заведующий протянул руку:
— Давайте.
— Заявку я еще не принес. Зашел выяснить, можете ли нам помочь и каким образом.
Рука заведующего опустилась. Он полуприкрыл усталые тускловатые глаза чуть припухшими веками и заговорил сухо и отрывисто:
— Делается все просто. Вы дадите заявку, оплатите счет. Мы извещаем население о наборе рабочих. Как придут люди — направляем к вам.
— И все?
— Да. Но я не очень уверен, что охотники поехать на село найдутся. Гарантии нет. Впрочем, там видно будет. — Заведующий взял со стола объявление. — Вот, полюбопытствуйте, каков спрос.
Степан Артемьевич ознакомился с объявлением. На ремонтно-механический завод приглашались аппаратчики, машинисты компрессорно-кислородных установок, электрослесари, фрезеровщики, шоферы, грузчики, инженеры связи и так далее. Завод обещал предоставить нуждающимся общежитие, семейным — квартиры и всем сдельно-премиальную оплату труда.
«Заманчивые условия. — Лисицын подумал, что вряд ли он сможет предоставить всем рабочим квартиры и сдельно-премиальную оплату. — Впрочем, почему бы нет? Только не сразу».
— Таких объявлений много, — заведующий аккуратно спрятал листок в папку. — Спрос велик, скажу вам, а предложений маловато. Очень часто приходят те, у кого трудовая книжка сплошь заполнена записями «принят — уволен». Бывает, что явятся прямо с поезда и сразу требуют аванс. Хорошего работника дело держит, а плохой мотается по свету.
— Наверное, не все такие, — усомнился Лисицын.
— Не все, — охотно согласился заведующий. — Вы принесите заявочку, и все оформим.
— Ладно, принесем, — Лисицын попрощался и пошел в райисполком.
Райисполком находился в центре живописного, очень зеленого села Чеканово, раскинувшегося по берегу притока Северной Двины, в новом каменном здании. Напротив него, через площадь, почти в таком же здании располагался райком партии. Обе постройки выходили фасадами на площадь и смотрели окнами друг на друга. Их разделял только недавно разбитый в центре площади скверик. В нем на клумбах желтели ноготки и белели большие садовые ромашки.
Степан Артемьевич быстро поднялся на второй этаж в приемную, застланную широким ковром. Ему повезло: в тот день не было совещаний, никто не ждал очереди на прием, и секретарша — моложавая востроглазая женщина с шиньоном на макушке — сразу впустила его в кабинет.
Председатель райисполкома Семен Семенович Кашутин, высокий, солидный мужчина средних лет, поднялся навстречу Лисицыну, поздоровался и внимательно его выслушал. Затем вежливо улыбнулся и покачал головой:
— Значит, я понял тебя, Лисицын, так. Ты решил через бюро по трудоустройству пригласить людей на постоянную работу в совхоз, а чтобы было где им жить — купить пустующие дома частного сектора.
— Совершенно верно, — подтвердил Лисицын. — Но для этого нужны деньги и ваше разрешение.
— Деньги! — уже серьезно продолжал Кашутин. — Вот капиталисты умеют делать деньги… У них есть такой термин: «делать деньги». Миллионы делают! А мы все просим. Сколько еще будем жить на дотации? Что это за хозяйство, если от него одни убытки?
— Я ж не капиталист, — полушутя возразил Лисицын. — Вы не сказали, как они делают деньги! Они же тянут из народа все жилы!.. Они же эксплуататоры и мировые разбойники-грабители! У нас все по-другому…
— Вот-вот, — государство дай, государство выдели, государство спиши долги, государство залатай дырки. А сами что? Ну, о капиталистах я так, к слову… Мы должны быть по-советски деловыми людьми. Деловыми, понимаешь?
— Мы же… — Лисицын чуточку растерялся, — мы же не сидим сложа руки. Мы трудимся!
— Трудиться-то, конечно, трудитесь, — Кашутин вздохнул и спрятал в стол тоненькую папку. — Только результаты ваших трудов мизерны. А почему? Надо думать! Хорошенько думай, Степан Артемьевич! От средств, вложенных в хозяйство, должна быть отдача. Надо получать в несколько раз больше, чем расходовать. Это — азы хозяйствования. Понимаю — ты молодой руководитель, опыта еще маловато. Но образование у тебя — дай бог всякому. Высшее, инженерное! И смекалкой не обижен. Вот насчет старых изб ты смекнул быстро. Они рядом, купил — и весь разговор. А зачем тебе их покупать? Скажи: зачем?
— Я же объяснил…
— Лично я, дорогой мой, эту затею не одобряю.
— Почему, Семен Семенович?
— А вот почему. С одной стороны, ты затеял вроде бы нужное дело — увеличить жилой фонд совхоза. Но с другой стороны, зачем тебе покупать старье? Снаружи-то избы обшиты вагонкой и выглядят вполне прилично. А под вагонкой что? Старые трухлявые срубы. Печи, наверное, тоже не годятся. Зачем городским дачникам перекладывать их, если по зимам тут не живут? Ох, наплачешься ты с этой недвижимостью. Если купишь да займешься ремонтом — вылетишь в трубу.
— Те, кто будет жить — сами отремонтируют, — не очень уверенно возразил Лисицын.
— Вряд ли. Ты пошел не по тому пути, — Кашутин склонился над столом, подавшись к Лисицыну. — Извини, брат, но мы не можем одобрить покупку старья. На новое строительство, так и быть, деньги дадим, а старые развалюхи — это несерьезно.
— Это помогло бы временно решить проблему.
— Проблемы надо решать не временно. Решения должны быть радикальными и перспективными. Строй — и весь сказ. Людей нет — ищи, нанимай, но строй то, что надо совхозу. Пусть в хозяйстве все будет крепко, основательно. Тогда и люди придут и закрепятся на земле, на второстепенное не разбрасывайся.
— Но ведь те дома пустуют. А пустой дом, говорят, — сирота.
— Они же не твои. Пусть стоят, что тебе за дело?
— На совхозной земле? — горячо воскликнул Лисицын. — Развели по всем деревням эти дачи, ездят летом, как в дома отдыха. Грибы, ягоды запасают, винишко попивают, а кое-кто и бабенок возит тайком для увеселенья. Дачный сектор нам вовсе ни к чему.
Кашутин пожал плечами:
— Одно могу посоветовать: если кто-нибудь из горожан соберется продавать наследственные дома, то желательно, чтобы их приобрели рабочие совхоза. Теперь скажи, как у вас с надоями молока на фермах?
— График выполняем.
— А сколько молока расходуете на внутрихозяйственные нужды?
— Населению Борка в день продаем через магазин до трехсот — четырехсот литров.
— Ну вот! — Кашутин покачал головой. — Совхозную буренку по-прежнему доят и горожане, и сельчане. Есть же указание о том, чтобы держать скот в личных хозяйствах!
— На это дело у нас пока идут не очень охотно.
— Прежде коров держали, а теперь не хотят?
Лисицын пожал плечами, не найдя ответа на этот вопрос.
Кашутин внезапно умолк и словно забыл о посетителе. Он думал о том, что у сельского жителя снизился интерес к личному хозяйству. Почему все-таки? Заработки повысились, жить стали лучше? Да, это так. Есть деньги — можно купить в магазине продукты. Это легче, чем возиться с коровой, поросятами, овцами.
Но только ли в этом дело? Не только. Ликвидация скота в личных хозяйствах была мерой слишком радикальной и преждевременной. Тогда говорили, что путь к изобилию — только через общественное хозяйство, а раз так, то зачем личное? Оно только отвлекает крестьянина от работы, способствует развитию частнособственнических интересов. Но общественное хозяйство тогда, в пятидесятые годы, да и сейчас еще не достигло той мощи, чтобы можно было снабжать продуктами и сельское население, дай бог обеспечить горожан…
Кашутин посмотрел на Лисицына. Тот сидел молча, в настороженно-выжидательной позе. «Сказать ему об этом? — думал Кашутин. — А зачем? Стоит ли ворошить прошлое. Было преждевременное решение, под которое еще не подвели реальной экономической основы. Никто не отменял главного условия: путь к обилию через развитое общественное хозяйство колхозов, совхозов, через образцовые высокопродуктивные фермы в каждом селе. Но… пока это еще не достигнуто, приходится заводить в личных хозяйствах скот, хотя кормовой баланс по-прежнему напряжен».
Кашутин вернулся к прерванной беседе:
— Ведь возле каменных домов у вас хлевов для скотины нет? Где же рабочим держать коров, поросят…
— Это зерно. Пожалуй, лучше строить небольшие индивидуальные домики с необходимыми надворными помещениями, — сказал Степан Артемьевич.
— Так действуйте! — тотчас отозвался Кашутин. — Что лучше, что удобнее — выбирайте сами. Мы же не навязываем вам дома-гиганты городского типа. Есть хорошие проекты на индивидуальное строительство.
Кашутин вышел из-за письменного стола, прошелся взад-вперед по кабинету и сел за длинный приставной стол, рядом с Лисицыным.
— А что у вас в перспективе? — спросил он. — Ты ведь слышал о животноводческих комплексах?
Лисицын, подумав, ответил:
— Такой комплекс требует обширных земельных массивов поблизости, а свободных площадей у нас нет. Кормопроизводство будет затруднено. Сейчас мы едва-едва обеспечиваем имеющиеся фермы…
— Допустим, так, — согласился Кашутин. — Но хозяйство развивать надо? Поголовье увеличивать надо? Что можешь предложить взамен?
— Для нас пока самое лучшее — добиваться большей отдачи от того, что имеем. Сейчас буренка у нас дает три с половиной тысячи литров в год, а надо, чтобы давала четыре, четыре с половиной тысячи литров молока. Для этого надо добывать побольше кормов. Кроме того, нужно расширять имеющиеся фермы, держать побольше скота.
— В каждом совхозном отделении?
— Да.
— А не лучше ли все-таки вместо такого разбросанного по деревням строительства создать единый комплекс голов на восемьсот?
— Кажется, мы к этому не готовы. Впрочем, я посоветуюсь со своими работниками и дам вам ответ несколько позже.
— Хорошо. А о старых избах забудьте. Они отжили свой век. Стройте новые дома, хотя бы такие, как этот ваш коттедж. Вы ведь строите его для директора и главного зоотехника?
— Коттедж заложил еще старый директор, это не моя затея, — осторожно уточнил Лисицын. — Но не скрою, мне бы хотелось в нем поселиться. Не знаю, удобно ли будет?
— Почему неудобно? Управленцам тоже нужно хорошее жилье. У тебя маленькая двухкомнатная квартирешка. Пойдут дети — тесно в ней будет.
— Будем строить такие коттеджи и для рабочих. Пожалуй, вы правы. Это лучше, чем покупать старые избы, — признался Степан Артемьевич.
— Ага! Наконец-то ты понял, что надо. Только ведите строительство продуманно. Жилье должно быть приближено к фермам и другим производственным участкам. Ну что же, Лисицын, приезжай почаще, будем советоваться. Перестройка хозяйства — дело очень сложное. Очень! Будь смелее в решениях и действиях. Но побольше думай. По пословице — семь раз примерь, один раз отрежь.
По дороге домой, сидя рядом с шофером, Степан Артемьевич против обыкновения молчал. Сергей, привыкший к дорожным беседам и побасенкам, поглядывал на него с недоумением и наконец спросил:
— Что-то вы невеселы, Степан Артемьевич! Видимо, беседа с начальством была не очень приятной?
— Нет, почему же… Беседа была полезной, — ответил директор. — Только поехал решать один вопросик, а уезжаю нагруженный кучей новых вопросищев…
— Вопросищев? — переспросил Сергей.
— Да.
— Это новое словечко: вопросищи. Надо будет запомнить, — Сергей рассмеялся, крутанув баранку на повороте.
— Вот нынче везде строят животноводческие комплексы, — как бы между прочим сказал директор. — Как по-твоему, по плечу нам такое дело?
— Это надо обмозговать, — ответил Сергей. — Видывал я на картинках эти комплексы. Бо-о-ольшое дело! Целое предприятие. На плакате — красиво. Только нам это, пожалуй, не по плечу. Деревни разбросаны на десять и больше километров, покосы, исключая двинские заливные луга, — лесные, мелкие. Травка на них тоже мелконькая… Где наберешь кормов для такой фабрики? И дорог у нас хороших нет. Эх, Степан Артемьевич, живем мы, как говорится, среди лесов дремучих. Где уж нам заводить такие комплексы…
Глава вторая
1
Тут на юру было почти всегда холодно. По кромке обрыва сквозь блеклую травку тянулась узкая тропинка. В сухое время глинистая почва на ней ссыхалась и трескалась, а в ненастье становилась вязкой.
И здесь на высотке находилась скамейка. Ее смастерил борковский старожил Еремей Кузьмич Чикин, — вкопал в землю чурки, прибил к ним толстую прочную доску и стал частенько приходить сюда посидеть в неторопливом раздумье. Уже все привыкли к тому, что вечерами, перед тем как лечь спать, а иногда и днем, Чикин сидел здесь в ватнике, ушанке и валенках с галошами. Наряд был самый подходящий: широкие ветры на обрыве гуляли всегда и с ожесточением набрасывались на одинокую фигуру деревенского философа. Ватник, ушанка и валенки и спасали его от стужи.
Чикин не любил затишков, ему хотелось, чтобы голова проветривалась и была всегда свежей. Тогда думалось лучше, виделось острее, и мысли приходили самые разумные. Как и все старики, многое повидавшие и пережившие за свои длинные, как старинный почтовый тракт, годы, Чикин был мудр. Все явления жизни он воспринимал по-своему. Чего-то не одобрял, к чему-то относился с недоверием, критически, а что-то принимал безоговорочно, но был сдержан и суждение высказывал далеко не всегда и не каждому.
Если на улице было тихо и тепло, что по обыкновению случалось не часто, Еремей Кузьмич менял ватник на стеганую безрукавку, шапку на кепку-шестиклинку и валенки на сапоги. Со временем скамья превратилась в своего рода клуб или, лучше сказать — беседку. Вечерами к Чикину подсаживались мужики из соседних домов. Были и попытки использовать скамью не по назначению: однажды сельповский разнорабочий Поров, по прозвищу Крючок, придя на обрыв с приятелями, собрался было «раздавить полбанки на троих», но Чикин прогнал собутыльников, и они тут больше не появлялись.
Изба Чикина, старая, крытая тесом, поросшим мхом, стояла рядом и смотрела окнами на угор, на скамью, на необъятную, расстилающуюся внизу пойму Северной Двины. Место это для Чикина было своего рода наблюдательным пунктом. Отсюда далеко видно во все стороны. Внизу под обрывом тихо струилась среди поросших ивняком кочковатых берегов Лайма, за ней — картофельное поле, дальше — заливной луг и Двина с пристанью-дебаркадером. Неподалеку от избы Чикина, в низине, стоял дом, точнее, целая усадьба Трофима Спицына. К ней вполне подходила поговорка: «Мой дом — моя крепость». На усадьбе находились, кроме дома с пристройками, баня, амбар и погреб, да собачья конура, и все было обнесено высоким крепким тыном.
Трофим жил вдвоем с Марфой, пожилой дальней родственницей, выполнявшей обязанности домоправительницы. Работал в совхозе он не в полную силу — усадьба с поросятами, козами, курами тоже требовала времени. Он день-деньской копался на огороде, ездил на катере на рыбалку или ходил в лес с лайкой и ружьем. От дома к берегу вела тропка, по которой он доставлял привезенные на «Прогрессе» сено с двинских островов и дрова-плавник.
Частенько он что-нибудь мастерил, тесал топором, стучал молотком, орудовал слесарной или столярной пилой-ножовкой. А иной раз у него целый вечер во дворе визжала бензиномоторная пила «Дружба», которой он разделывал дрова.
Хозяйство Спицына было почти натуральным. В продмаге он покупал хлеб, сахар и чай. Все остальное — рыба, мясо, овощи, соленья и варенья — было у него свое. Его, как крепкого хозяина, можно было ставить в пример, но в общественном хозяйстве он работал лишь для того, чтобы иметь право на приусадебный участок.
Дальше шли другие избы — новые и старые, и среди них дома и «наследных принцев», на которые пытался было замахнуться Лисицын.
По пятницам перед выходными днями по тропке мимо чикинской скамейки с вечерней «Ракеты» или «Зари» — смотря по расписанию — тянулись в Борок горожане. Точнее, бывшие боровчане, живущие в городе. Еремей Кузьмич, сидя на своем наблюдательном пункте, встречал их здесь, на угоре. Он знал каждого в лицо и помнил его род с первого до третьего колена, включая детей и внуков.
Еремей Кузьмич считался в Борке человеком трезвым, положительным и до некоторой степени авторитетным, несмотря на его пассивное миросозерцание со скамьи на юру. Это, впрочем, воспринималось как само собой разумеющееся: «На своем веку поработал Чикин, с него и хватит. Пусть себе посиживает, никому не мешает». И Еремей Кузьмич посиживал.
В молодости, еще до войны, он работал бригадиром в колхозе, в сорок третьем вернулся из госпиталя инвалидом, списанным из армии по ранению в плечо. Руководил до конца войны колхозом, учился на курсах, был недолго председателем сельсовета, инструктором в райкоме партии, а после его опять направили в родной колхоз председателем. Тут он и закончил трудовой путь. Колхоз превратился в совхоз, а Чикин вышел на пенсию.
Он сидел на скамье, покуривая и молча глядя перед собой. Вдали на Двине к пристани подходил теплоход «Ракета». Еремей Кузьмич следил, как она подлетела к дебаркадеру и скрылась за ним так, что видна была только корма. А потом быстроходное суденышко опять вышло из-за пристани и заскользило вверх по реке.
Пассажиров, которые высадились и направились в Борок, из-за расстояния не было видно, но Чикин знал, что через полчаса они пройдут здесь, и терпеливо их поджидал.
Что-то произошло в скучноватой тишине вечера. Это в небе в разрыв облаков выглянуло предзакатное солнце. Яркий свет плеснул Чикину в глаза, и он зажмурился. «Опять солнышко садится в облака. Завтра не жди вёдра», — подумал он.
Теплые розоватые блики от солнца дрожали на стеклах изб неуверенно и робко, готовые вот-вот померкнуть. Это вскоре случилось: солнце сползло в синюю Вязкую тучу, и они исчезли.
Лиза уехала в областной центр на двухнедельный семинар культурно-просветительных работников. Степан Артемьевич проводил ее на пристань. Домой он вернулся пешком, знакомой тропинкой через луг.
Он любил этот луг — главное богатство совхоза. Здесь получали самый высокий урожай трав. Другие луга были не столь роскошны — лесные, болотистые, разбросанные в разных местах небольшими участками.
Здесь, этой тропкой, два года тому назад он вел жену в свой деревенский дом. Теперь вот она уехала, и ему стало грустно…
Солнце снижалось, готовясь уйти за борковские ельники. Они тянулись вдали темной зубчатой грядой далеко на север и на восток. Лисицын вспомнил, как шофер Сергей говорил, когда они ехали из Чеканова: «Живем мы среди лесов дремучих…» Лесная сторонка, грибная, ягодная. Лосиные и медвежьи края. В глуши, на таежной речке Воронке, можно встретить и бобровые места. Однако леса все же порядком повырублены, строевых мало. Тому, что осталось, — еще расти да расти.
А все же встречаются и настоящие чащобы. Однажды Степан Артемьевич, собирая грузди да волнушки, забрел в такую глушь, в такой бурелом, что еле выбрался, чуть не порвав о сучья одежду. Солнце тогда спряталось за тучами, и он потерял ориентировку.
Теперь солнце вдруг померкло, словно бы провалилось в облака. Они были странной, причудливой формы, не похожие ни на грозовые, ни на дождевые. Плотные, синеватые, они стояли на западе спокойно, на одном месте. Одно из них по форме напоминало туманность Конская Голова, что в созвездии Ориона. Ее Степан Артемьевич видел на фотоснимке в популярной книге по астрономии. Солнечные лучи осветили Конскую Голову слева и снизу, и она окрасилась в пурпурный цвет.
Степан Артемьевич подошел к речке Лайме, перебрался по мостику на другую сторону и поднялся на гору. Там перевел дух, осмотрелся. Горизонт чуть-чуть раздался, облаков стало больше, они нависли над широким пойменным лугом. Конская Голова поредела, стала таять, терять свои очертания. Ельники все так же синели в золотисто-сиреневой вечерней дымке.
Дома Лисицына не ждали, и он решил еще побыть на улице: воздух чистый, свежий, прохладный. Степан Артемьевич пошел по тропинке над обрывом и приметил скамейку, а на ней Чикина и подумал: «Занятный старикан. Пойти, что ли, посидеть с ним на лавочке?»
Чикин, услышав неторопливые шаги, медленно повернул голову. Степан Артемьевич подошел, поздоровался и сел рядом.
— Отдыхаете? — спросил он.
Чикин посмотрел на него приветливо, чуть-чуть подвинулся и ответил низким баском с хрипотцой:
— Отдыхать мне, собственно говоря, не от чего. Не переработал. Так просто сижу.
— А домашние дела?
— Какие дела, Степан Артемьевич! Окучил грядку картошки, поправил на крыльце ступеньку — и все заботы. Жена полы моет, так ушел, чтобы не мешать. Скоро пассажиры потянутся. Я их тут встречаю — вроде как при должности. — Чикин улыбнулся по-стариковски, чуточку отрешенно, словно мысли его были далеко, а потом застегнул пуговицу ватника. — Свежо становится.
Лисицын достал из кармана чуть смятую пачку сигарет.
— Летушко нынче неважное, — снова заговорил Чикин. — Пасмурное, без солнца. Все растет вяло. Косить бы по времени пора, а травы еще семян не сбросили. Между прочим, я слышал — вы собираетесь в отпуск?
— Пока не решил, — ответил Лисицын.
— У баб вертится на языке какой-то Кросс, будто вы едете туда. За границу?
«Уже пронюхали про туристскую путевку, — удивился Лисицын. — Кто бы мог разболтать?» Но все же уточнил:
— Санта-Крус.
— Вам отдых нужен. Я бы на вашем месте поехал. А где такой город или местечко?
Степан Артемьевич промолчал.
И вот уже потянулись пассажиры с очередной «Ракеты». Впереди осторожно, словно боясь оступиться и свалиться с обрыва, шагал высокий и худой мужчина с рюкзаком за спиной. За руку он вел мальчугана лет шести. Мужчина мельком глянул на скамейку и сказал: «Здрассте».
Чикин ответил на приветствие, Лисицын молча кивнул.
— Это Степан Паромов, — пояснил Еремей Кузьмич, когда мужчина отошел на приличное расстояние. — С внуком от дочери. А она развелась с мужем. Крепко закладывал…
Прошли три женщины с хозяйственными сумками. Лисицын невольно обратил внимание на одну из них, невысокую, в шляпке и зеленоватом легком плащике. Плащик был коротковат, и полы его развевались от быстрой ходьбы и легкого ветерка, тянувшего снизу, с луга. Крепкие ноги женщины уверенно ступали по тропе. Она, прищурясь на директора совхоза, спросила:
— Наблюдаете?
— Воздухом дышим, — ответил Чикин. — Сядь, посиди с нами.
— Спасибочки. Некогда — в родительский дом тороплюсь. А воздуха тут у нас хватает! — Женщина быстро прошла мимо, и Чикин опять пояснил:
— Роза Васильева. Работает на лесобирже. А муж у нее служит в поселке лесозавода участковым. Из Борка она уехала лет семь назад.
— Ну и чем еще знаменита эта Роза? — поинтересовался Лисицын. Тихий дремотный вечер, монотонная речь Чикина — все на него действовало успокоительно.
— Она подалась в город после школы, с подругами. — Чикин заглянул в лицо Лисицына и, убедившись, что тот его внимательно слушает, продолжал: — Сперва они хотели было пойти на ферму, но мамаши их отговорили: дескать, мы всю жизнь в коровнике проработали и вам тут маяться? Поезжайте в город, выходите в люди, у вас другая судьба. И те уехали. Роза в городе учиться не поступила, стала работать на лесозаводе, на сортировке пиломатериалов.
— Ну что же, на заводах тоже руки нужны, — ответил Лисицын, — не будем смотреть на жизнь только со своей колокольни. Пусть себе перебирает эта Роза дощечки на лесобирже.
— Оно так, конечно. Но ведь в совхозе людей нехватка! Мало трудоспособных-то. Все пенсионерская гвардия вроде меня. А те, кто в силе, еще и куражатся иной раз. Помните Чугунова?
Лисицын вздохнул. Как не помнить эту неприятную историю с Чугуновым. Здоровенный сорокалетний мужчина в разгар весеннего сева «загазовал», оросил трактор в борозде и не являлся на работу трое суток. Заменить его было некем, так и стоял трактор в поле. Директор потом наказал его выговором да рублем, и что толку? В отместку Чугунов уехал в соседний леспромхоз, устроился на трелевочный трактор и увез семью.
Пассажиры с пристани все тянулись по тропинке мимо них, с детьми и без детей, молодые и пожилые. Прошло, наверное, человек двадцать или больше того, Лисицын смотрел на горожан почти равнодушно. Чикин тоже перестал обращать на них внимание. Он смотрел вдаль на Двину. Там все более размытыми становились луг и крошечное плоское озерко на нем. И река потускнела, утратила свое жемчужное свечение. Лисицын собрался было домой, но Чикин вдруг заговорил о рождаемости, и директор насторожился.
— Вот в прежние годы в деревне хорошая, крепкая бабенка имела пять, шесть и больше детишек. Хлеба не хватало, на всю ораву пара сапожонок имелась, носили по очереди. Кому на улицу бежать — тот и надевал. А дети росли здоровые, послушные. С малых лет к труду привыкали. А нынче вроде как по лимиту — одного-двух выжмут, и точка. Стоп родилка… — Чикин рассмеялся и покачал головой. — Хоть жить теперь легче, сытнее. Без детей, брат, в избе скучновато, в деревне без них пусто. Детских голосов не слышно. Вот пишут в газетах: чтобы сохранить людские ресурсы, надо иметь двести шестьдесят детей на сто семей. Чем же все-таки объяснить низкую рождаемость? — Чикин посмотрел на директора и умолк в замешательстве. Только теперь он уразумел, что Степану Артемьевичу не очень приятен такой разговор. — Вы не думайте, что я камушек в ваш огород бросаю. Вы еще молодожены, у вас дети впереди. Нет, я вообще…
Это его оправдание еще больше усугубило неприятное впечатление. Но Лисицын не подал вида, что все сказанное ему слушать тошно. Он хотел было добавить, что дело не только в рождаемости. Есть и другие, не менее веские причины деревенского малолюдья, но тут у них за спиной раздался женский голос, резкий и грубоватый:
— Привет! Беседуете?
Лисицын и Чикин обернулись и увидели Софью Прихожаеву, доярку с Борковской фермы. Она подошла незаметно, неслышно, будто подкралась.
— Добрый вечер, товарищ директор! — Софья не сразу разглядела Лисицына и, узнав его, сменила вызывающе-развеселый тон на вкрадчиво-льстивый. — Думаю — кто тут сумерничает? Оказывается, вы. Угостили бы сигареткой.
Лисицын дал ей сигарету, зажег спичку. Софья, щуря припухшие глаза, прикурила.
— Можно к вам присесть?
Степан Артемьевич неохотно подвинулся на скамейке. Она села, заложила ногу на ногу. Чуть поддернула повыше юбку, обнажив гладкую белую коленку, и отвела в сторону руку с сигаретой.
— Значит, вы о рождаемости. Так, так… Еремей Кузьмич, почему вы, как активист-общественник и ветеран совхоза, в этом направлении никакой работы не ведете? Отвечайте на мой вопрос!
«И эта о том же!» — возмутился Лисицын и встал, чтобы уйти. Софья меж тем наседала на Чикина:
— Молчите? То-то! Куда вам… Куда вам, извините, заботиться о рождаемости! Вам уже поздновато…
— Замолчи, греховодница! — взорвался Чикин.
— А чего вы мне рот затыкаете? Я вам кто, жена? Чего вы на меня орете? Работаю честно. Товарищ директор, вы меня, конечно, извините, но вы мне в душу заглянули? Может, она у меня болит. Вы, конечно, извините меня, товарищ директор, но я хочу напомнить о себе. Я — живой человек, мне чуткость нужна. Надо, чтобы меня ценили. А вы, извиняюсь, не очень цените. Не-е-ет, не очень. Почему не выдвинете на повышение? Почему не представите к ордену или к медальке? Других обогрели вниманием, а меня забыли…
Софья опустила голову, задумалась и, не обращаясь ни к кому, сказала нараспев:
— Эх да без мила дружка постеля холодна, одеялочко заиндевело…
Лисицын махнул рукой и почти побежал с угора. Софья прокричала ему вслед:
— К молодой женке торопитесь? Очень даже правильно. — И Чикину, который тоже снялся со скамейки и пошел домой: — А ты куда, старый? Потолкуем еще. Мы не все вопросы проработали. Ха-ха-ха! Чего вы от меня удираете?
Софья, посмеиваяеь, встала со скамьи, втоптала в землю окурок и пошла в нижний конец села, бросив в тишину, как вызов всем, частушку:
Мы с милёночком стояли
У поленницы, у дров
Раскатилася поленница,
И кончилась любовь…
2
Трофим Спицын возвращался на катере с рыбалки. Он осматривал сеть, поставленную в укромном месте возле Щучьего островка, там, где Лайма выходит в Двину. Островок был красив, гладок, как лесная полянка, поросшая мелконькой травкой, и обрамлен камышом. За ним на воде покоились широкие листья кувшинок. Тут в водорослях водилась всякая рыбья мелкота: плотвички, окуни, подъязки. А где мелкота, там и щучонки. Сегодня в сеть попало несколько небольших щук-травянок да десятка полтора окуней с плотвой средних размеров. Улов для настоящего рыбака скромный, но Спицын не жадничал: что попадет, то и ладно.
Когда он был помоложе да поотчаянней, то ловил на двинской быстрине стерлядку украдкой по ночам. Теперь стерлядь стала редка. Да он и не хочет больше конфликтовать с рыбнадзором после солидных штрафов и конфискаций сетей. Теперь он старается ловить по правилам, в отведенном месте, сеткой допустимых размеров. Рыбалка дело такое: сколько ни лови, всегда мало, и чем больше попадет, тем азартнее становится рыбак. Азарт переходил в жадность. Рыбнадзор был вездесущ, и Спицын научился сдерживать свои аппетиты.
«Прогресс», тарахтя мотором, взрезал носом вечернюю гладь реки. Волны от катера большими усами расходились в стороны и бились в невысокие торфяные берега. Спицын привычно повернул катер к плоту из бревен, заглушил мотор и тихо причалил. Забрякала цепь, рыбак скидал в мешок улов, спрятал в носовой отсек якорь, черпак, взял весла, подобрал мешок с рыбой и направился к калитке
Он заметил в сумерках возле кустов ивняка одинокую женскую фигуру, пригляделся.
— А, это ты! Здравствуй.
— Здравствуй, Троша, — ответила Софья.
— Чего пришла?
— Да так… Встречаю, — она взялась рукой за мокрый рукав его ватника. От Спицына пахло речной тиной, водорослями, сыростью. Не замечая этих запахов, она хотела поцеловать его, но он увернулся:
— Полно лизаться, Соня.
— Погоди, не торопись. Улов-то каков? Дал бы на ушицу!
Спицын положил весла на землю, развернул мешок и показал ей рыбу. Софья увидела в мешке только тускловатый блеск чешуи.
— Куда тебе, в подол? — грубовато пошутил он.
— Дал бы какую-нито тару…
Трофим сходил к катеру, достал из отсека жестяное ведерко и положил в него мокрых, еще трепыхающихся окуньков, сорожек и щурят.
— На, держи, — подал он ведерко Соньке.
— Спасибо.
— Вари уху. Хлебать приду.
— А что? И сварю, — оживилась она. — Я уж думала, ты больше ко мне не придешь. Который день носа не кажешь…
— Ладно, ладно, — Спицын усмехнулся. Софья, разглядев на его широком, скуластом лице с темными цыганскими глазами улыбку, приободрилась. — Скоро придешь-то?
— Вот Марфа спать уляжется… Она ведь как дворняжка сторожит. Не любит тебя.
— Чихала я на твою Марфутку. Мне она — как репой в овечий хвост. — И Софья пошла с ведерком по тропке наверх. Спицын постоял, поглядел ей вслед, белозубо улыбнулся в сумерках.
Софья медленно брела вдоль обрыва. У маленькой сельповской столовки, закрытой из-за позднего времени на висячий замок, повернула в проулок и вышла на главную улицу. Там свернула еще раз в поперечную, что вела к деревне Горка.
Если бы не эти плотные и неподвижные облака, было бы еще светло, белые ночи не кончились. Но облака отбрасывали на окрестность необъятную густо-лиловую тень. В сумерках белели только наличники окон да тесовые мосточки. Софья шла по ним осторожно, чтобы ненароком не споткнуться и не оступиться, — очень уж узки мосточки, в три доски, — и все думала о недавнем разговоре у скамейки.
«Дернуло меня за язык… Наговорила Лисицыну этакого. Что он обо мне теперь подумает? И этот старый хрен Чикин стал еще мораль читать. Всех поучает, будто святоша. Вон в прежние годы, — от старух слыхала, — этот Чикин и винцо потягивал, и к бабенкам хаживал от жены. А теперь сидит, как филин, глазеет своими круглыми зенками на всякого, кто мимо пройдет. А директору нехорошо сказала. Извиниться, что ли, перед ним? А может, он забудет? Нет, не забудет»,
От таких дум ей стало очень неприятно, будто в дождь под капелью плеснуло ей за воротник воды прямо на голую спину. Она даже передернула плечами. «Ну к черту все! Хватит переживать. От этого люди седеют… Трофим придет — все забудется». Она даже не заметила, как прошла мимо своей калитки. Пришлось вернуться. Софья дернула за веревочку, звякнула щеколда, калитка скрипнула старыми, ржавыми петлями и впустила ее во двор. И как только Софья вошла сюда, на душе у нее вроде бы поулеглось. Тихо, травка немятая во дворе, белые, чистые мосточки. Уютно, тепло… Нехорошие мысли отступили.
Но все же в самой глубине души шевелился и беспокоил ее маленький червячок-древоточец. «Кручина, эх, кручинушка ты моя!» — вздохнула Софья, нащупала в кармане жакета ключ и, поднявшись на крылечко, отперла замок.
Чистый двор, дедовская пятиоконная изба с кухней и горницей, крашеные полы, кровать с периной, кактусы на подоконниках, телевизор «Чайка» — этот уютный домашний мир с привычной обстановкой был для Софьи единственным местом, где она по-настоящему отдыхала от всех забот, приходя в умиротворенно-спокойное состояние.
Зарабатывала она прилично — сотни три в месяц, и как доярка была не на плохом счету. Но иметь прочный, высокий авторитет ей мешал неорганизованный, несколько неуживчивый характер и сомнительное, как заметила однажды зоотехник Яшина, поведение. Впрочем, Софью не очень интересовало мнение зоотехника, и она не так уж и заботилась о своем авторитете, считая, что в ее поведении нет ничего такого, что бы мешало жить другим. Яшина, конечно, имела в виду ее связь с Трофимом Спицыным, который слыл в совхозе замкнутым человеком, бирюком. О том, что Софья крутит с ним любовь, знало все село. «Но кому какое дело? — думала она. — Живу как хочу».
Семейная жизнь у нее не заладилась. Год назад она познакомилась с молоденьким шофером районной автобазы, приезжавшим в Борок на уборку картошки. Паренек как-то сразу и легко решил перейти на работу в совхоз, жениться на Софье. Прожил с ней три месяца, потом вдруг закутил, затосковал по родине — Брянщине — и объявил жене, что хочет съездить туда на побывку. Уехал и не вернулся, написав, что дома у него есть девушка и пусть Софья не ждет его…
Вот и вся история их семейной жизни. Софья даже не успела как следует влюбиться в мужа. Так и осталась одна-одинешенька.
И тут подвернулся Спицын, записной бобыль, вдовец. Жена у него умерла, детей не было. Крепкий сорокалетний мужик стал настойчиво ухаживать за соломенной вдовой. И Софья сдалась.
На газовой горелке уха сварилась быстро. Софья попробовала ее, добавила соли, выключила газ. Подойдя к окну, посмотрела поверх занавески на улицу. Там, если приглядеться, все было пронизано мерцающим, трепетно-пугливым светом, готовым вот-вот исчезнуть. Это отблески поздней зари, малопрозрачной, красноватой, боролись с облачной сумеречностью. Облака плотно накрыли землю, оставив только у горизонта неширокую грядку заревого просвета. Розоватые блики скользили по блеклым цветкам на картофельной грядке и вскоре померкли, а цветки стали темно-серыми.
Скрипнула калитка, Трофим аккуратно закрыл ее на запор и, поглядывая в окна, направился к крыльцу. Софья отступила от окна в глубь кухни.
«Явился — не запылился», — подумала она о Трофиме почему-то с неприязнью и теперь сожалела, что позвала его. Свидание с ним не сулило ей особой радости, не вызывало приятного волнения, как прежде. Софья дивилась этому и не могла понять, что такое с ней происходит.
Однако гость был уже у порога, и ей ничего не оставалось, как принять его.
Трофим, наклонив голову под низкой притолокой, уверенно шагнул в кухню. Половицы заскрипели под его сапогами. Он был оживлен, весел и от порога сказал:
— Принимай гостя!
На губах Трофима играла многозначительная усмешка. Но он тотчас погасил ее, почувствовав, что Софья не в настроении.
— Вкусно пахнет ухой. Готова? — спросил он.
— Готова, — односложно ответила Софья. — Проходи, садись.
Трофим вынул из кармана и поставил на стол бутылку, рядом положил большой пучок свежих и сочные, только что с грядки, перьев лука.
— Так в потемках и будем сидеть? — тоном хозяина спросил он.
— Ведь видно. Ночь-то белая…
— Ладно. Как хошь.
Софья, спохватившись, принялась хозяйничать. Взяла с подблюдника тарелки, налила ухи, нарезала хлеба.
— Ешь. Горячая.
Она достала из кухонного шкафчика две граненые стопки и тоже села за стол.
— Ну вот, теперь ладно, — одобрил Трофим. — Маленько можно выпить.
— Не хочется.
Трофим не настаивал. Он прихлебывал с ложки вкусное варево.
— Попробуй-ко лук. Славный нынче вырос! — Трофим захрустел на зубах зелеными перьями.
Некоторое время они ели молча.
— Накормил свежей рыбой. Спасибо, — поблагодарила она сдержанно.
— На здоровье, — он отодвинул пустую тарелку, достал сигареты. — Курить хошь?
— Я ведь не курю всерьез. Так иногда, балуюсь.
— Курить и мужикам вредно, а бабам — тем более. Голос у них от этого грубеет. Да и табаком воняет, когда… когда целуешься.
Софья криво усмехнулась.
— Чаю хочешь?
— Давай.
Трофим выпил стакан чаю и молча вышел из-за стола. Подошел к окну, приоткрыл створки. С улицы хлынула струя сырого ночного воздуха. С болотца на задах избы донеслось верещание лягушки. К ней присоединилась другая, и начался лягушачий концерт.
— Ишь, заливаются, поскакухи, — сказал Трофим. — Слышишь?
Софья кивнула и стала прибирать на столе. Прибрав, остановилась посреди кухни, опершись о спинку стула.
— Что-то у нас с тобой сегодня разговор не вяжется, — сказал Трофим.
Софья подумала, что вот сейчас он подойдет к ней, обнимет за плечи, начнет ластиться, поцелует в щеку, потом в губы. А после походит по избе и скажет привычно, будто дома: «Отдохнуть бы… Полежать чуток».
Так оно и вышло. Трофим подошел, положил теплые тяжелые ладони ей на плечи, осторожно отвел в сторону прядку волос от ее виска и склонился, чтобы поцеловать. Она зябко повела плечами и отстранилась.
— Ты чего? — недоуменно спросил он.
— Теперь иди домой. Мне рано утром на ферму. Надо хорошенько выспаться.
— Почто так? — обиделся он. — Зачем гонишь? Или разлюбила?
— Не знаю, — вздохнула Софья. — Сейчас тебе лучше уйти. Прошу тебя…
— Да что случилось? — он повысил голос. — Чего кобенишься-то? Цену себе набиваешь? Ведь не впервой мы…
Софья молчала, вцепившись тонкими смуглыми пальцами в спинку стула.
— Настроения нет? — продолжал он. — Бывает. С любым бывает человеком. Я ведь понимаю. Ты лучше скажи, как поднять настроение-то? О чем думаешь? Что у тебя за кручина?
— Ни о чем. А ты иди. Пожалуйста…
— Ну, это уж мне и вовсе непонятно, — проворчал он. — Брось, Сонечка! — Он попытался обнять ее, но она не далась.
— Сколько тебе говорить: оставь меня!
Трофим раздосадованно вздохнул. От его внимательных и темных глаз повеяло холодком. Он взял кепку и, осердясь, бросил от порога:
— Больше не приду, раз так…
— Дело твое, — равнодушно отозвалась Софья.
Трофим широко распахнул дверь и хотел хлопнуть ею, сорвать зло, но сдержался, притворил тихонько.
Когда он шел по мосткам к калитке, походка у него была неуверенной. Софья резко закрыла створки окна, заперла дверь, разделась и легла на кровать, уткнувшись горячим лицом в прохладную подушку. Теперь она дала волю слезам, которые у нее копились весь вечер.
3
Прежний директор Сарафанов проводил планерки всегда утром. Лисицын изменил этот порядок. «С утра надо работать, а не заседать», — сказал он своим подчиненным и перенес совещания на вечер, когда было видно, кто и как потрудился за день, какие обнаружились неувязки, и выяснялось, с чего следовало начинать завтрашний день. Утром он заходил в контору, отдавал необходимые распоряжения, принимал посетителей, затем садился в машину и ехал на фермы или в полеводческие бригады с заранее намеченной целью. Около четырех часов дня он опять сидел за письменным столом. Все знали этот распорядок и приноровились к нему.
Подчиненным трудно было обмануть Степана Артемьевича неточной информацией, выговорить для себя какую-нибудь отсрочку в неотложном деле, ссылаясь на разного рода причины. Лисицын не любил отсрочек и не давал поблажек. Сначала это кое-кому не нравилось, потом привыкли.
Вчерашняя встреча на чикинской скамейке с Софьей Прихожаевой оставила у Лисицына неприятный осадок, и он решил заглянуть на ферму, где она работала.
В десять утра Степан Артемьевич вышел из конторы и сел в газик, который ждал его у крылечка.
Шофер Сергей был чисто выбрит, его румяное, в меру веснушчатое лицо дышало здоровьем, из-под кепки вихрился рыжеватый чубчик.
— Куда едем? — спросил он.
— На отгонное пастбище, — ответил Лисицын.
Машина рванулась с места, подняв облачко пыли. Шофер, глянув в открытое оконце на небо, сказал:
— Опять тучи сухие…
— Сухие?
— Ну, бесплодные. Дождей-то уж давно нет. Трава растет плохо.
— Плохо, — согласился Лисицын.
Он подумал опять о Прихожаевой: «Вчера она была груба. Неужели она и в самом деле такая? Если грубость — черта характера, то как она влияет на товарищей по работе?..»
Директорский газик Сергей водил уверенно, быстро, без лихачества. Когда в поездке по совхозным владениям они попадали на болотистую лесную дорогу и Лисицын опасался увязнуть, Сергей успокаивал его:
— Ничего, вывернемся!
Это — его любимое словечко.
Дождя не было, солнца — тоже. Облачная карусель по-прежнему медленно поворачивалась в небе. Но вот в разрыв облаков вырвался веселый, необычно яркий солнечный луч, и Сергей удивленно воскликнул:
— Смотрите-ка, откуда оно вывернулось! И надолго ли?
Солнце «вывернулось» на несколько минут и опять спряталось, будто рассердилось на Сергея за его пренебрежительный тон.
Газик мчался берегом Лаймы по следам коровьих и конских копыт, по размятым торфянистым кочкам. Сергей энергично работал баранкой. Степан Артемьевич покрепче ухватился за скобу перед сиденьем: трясло неимоверно. Машина наконец вырвалась из-за кустов на обширную поляну. Сергей сбросил скорость и вскоре заглушил мотор неподалеку от загородки с электродоильной установкой. Близко подъезжать не хотел, чтобы не побеспокоить коров, которые стояли в стайках из жердей с присосавшимися к вымени стаканами электродоильных аппаратов. Доярки в халатах и аккуратно повязанных белых косынках неторопливо занимались своими делами. В воздухе пахло парным молоком и луговым разнотравьем. Над стадом вились овода, но гнуса не было — отгонял ветер.
У самого берега в воде стояли, охлаждаясь, оцинкованные фляги с молоком. К ним подъехала повозка, с нее соскочил рыжеватый мужик в клетчатой рубахе с закатанными до локтей рукавами и почему-то в зимней шапке-ушанке. Он подошел к воде и крикнул:
— Эй, Митька!
Проходившая мимо доярка бросила через плечо:
— Ему некогда. Целуется!
И указала на загородку для дойки, возле которой стояли девушка с парнем. Парень обнимал девушку. Они прятались за стайками, но схорониться было мудрено: сквозь жердочки видно все… Доярки посмеивались:
— Глико, при всех лижутся.
— Как телята.
— Подождали бы до вечера, до темня…
— Где там!
— Вот она, нынешняя молодежь! Вся любовь на виду.
— Хватит ворчать. Вам завидно?
Лисицын улыбнулся, подошел к возчику:
— А ну, берем!
Взяв флягу за ушки, они понесли ее к повозке и погрузили. Девушка тем временем высвободилась из крепких объятий Митьки. Он поспешил на помощь:
— Степан Артемьевич, позвольте… Вам не положено по должности…
Митька стал грузить с возчиком фляги, а Лисицын подошел к дояркам поближе. К нему навстречу спешила Глафира Гашева, бригадир-животновод,
— Здравствуйте, Степан Артемьевич! Решили нас навестить?
— Мимо ехал — дай, думаю, разузнаю, как тут у вас насчет молочных рек?
Чистый, хоть и старенький халат плотно облегал фигуру Гашевой. Волосы аккуратно прибраны под косынку. Лицо у Глафиры широкое, чуточку скуластое, серые глаза — с «чудской» раскосинкой. Она поглядела на директора настороженно.
— Реки молочной нет, а ручеек струится хорошо. Можно и больше доить, да трава на пастбище мелкая, вся выщипана. И соль-лизунец кончается. Управляющий обещал подбросить, да, видно, забыл. А теперь уж и не надо…
— Такая забывчивость непростительна, — нахмурился Степан Артемьевич.
Подоенных коров женщины отпустили, и те принялись дощипывать травку, а в стайки завели других. Со всех сторон послышалось:
— Сам пожаловал!
— Свежего молочка не желаете ли, товарищ директор?
— Какие новости? В газетах что пишут?
— Премия нам в этом квартале будет ли?
Степан Артемьевич только успевал отвечать.
— Премия премией, а как у вас с дисциплиной? — спросил он в свою очередь.
— У нас порядок!
— Головы не болят?
— Что за намеки, товарищ директор?
— Мы ведь и обидеться можем.
— Мы этим не страдаем. Мозги у нас проветрены на свежем воздухе.
— Ну ладно, если так, — Лисицын переглянулся с Гашевой.
— Вчера вечерком посидели в гостях у Клавдии Кепиной. Сорок лет — бабий век. А что, разве нельзя? — спросила она.
— Ну почему же… — суховато ответил Лисицын. — После работы вы сами себе хозяева.
Он отыскал взглядом Прихожаеву. Повернувшись к нему и к Гашевой спиной, Софья склонилась возле коровы, переставляя электровакуумный аппарат. Лисицын хотел было подойти к ней, поговорить, но раздумал, и стал осматривать пастбище. Оно уже было порядком вытоптано, травы на нем осталось мало. Гашева пояснила:
— Послезавтра переведем стадо на другой участок, выше по реке. А это пастбище пусть снова наберет траву.
— Почему послезавтра, а не завтра? — спросил он.
— На новом пастбище доделывают изгородь. Рядом клевера, так опасаемся потравы.
Степан Артемьевич попрощался с Гашевой и пошел к машине. И тогда его окликнула Прихожаева:
— Степан Артемьевич!
Она быстро бежала за ним по лугу, легкая, стремительная, взволнованная. Лисицын остановился в нескольких шагах от машины.
— Извините меня. Вчера я наговорила вам лишнего. Мне стыдно… Такой характер…
Она смотрела на него снизу вверх большими серыми глазами. Маленькие смуглые руки опущены, прижаты к бедрам. Вся она будто вытянулась в струнку. Лисицын некоторое время молчал. Он был почти на голову выше ее, стройный, подтянутый, в узеньких модных вельветовых брюках, в привычном сером пиджачке. Софья встретилась с ним взглядом, потупилась.
Степан Артемьевич ехал сюда с намерением поговорить с ней построже, но только мягко упрекнул:
— Характер у вас, скажем прямо, не ангельский. Вы уж сдерживайте себя. Женщина молодая, приглядная, а позволяете… Бросьте эти рюмочки, берегите здоровье, да и репутацию. Я на вас не в обиде, но перед Чикиным надо бы вам извиниться. Старый человек…
— Хорошо, повинюсь, — послушно отозвалась Софья.
Лисицын кивнул, сдержанно улыбнулся и пошел к машине.
«Шут его знает! — с досадой подумал он, сев на сиденье и захлопнув дверку. — Надо бы с ней покруче, а не получилось. Вот уж эти бабы!»
Настороженная тонкая фигурка доярки с опущенными, как у солдата перед старшиной, руками по швам и серыми глазами долго стояла перед ним.
— Давай поедем к Каретникову, — сказал он шоферу. — Надо дать ему разгон: почему вовремя не огораживает пастбища…
Софья вернулась к стаду. Подружки стали над ней подшучивать:
— Чего там шептались? В любви призналась?
— Да полно вам! — смутилась Прихожаева. — Деловой разговор…
— Знаем, какие деловые разговоры бывают с мужиками!
— У него, кажись, жена в городе. Пока свободен…
Софья поймала на себе внимательный взгляд Гашевой. Та строила догадки: «Уж не жаловалась ли? Вроде не на что жаловаться»
Почти весь день Софья была молчалива, отвечала своим подругам невпопад. Они недоумевали. А она все видела перед собой высокого, ладного, добродушно настроенного Лисицына, и к чувству вины перед ним в душе у нее еще неотчетливо, неосознанно примешивалось какое-то другое чувство. Какое именно, она не могла взять в толк…
4
Ангелина Михайловна обычно в полдень спешила домой, в двухкомнатную угловую квартиру на первом этаже, чтобы к приходу мужа на обед заправить приготовленный с вечера бульон, а заодно проверить Кольку, Петьку и Мишку, чем они занимаются и не чрезмерно ли озорничают. Старшему из сыновей — Кольке шел седьмой год. Мать наказывала ему присматривать за меньшими братьями, чтобы они не купались в реке, не убегали далеко от дома. Но получалось наоборот: Колька в жаркие дни первым лез в воду, а за ним и братья, и уводил Петьку и Мишку в лес или в поле.
Своих непослушных сыновей Ангелина Михайловна звала чадами.
Окно, что выходило в палисадник, было открыто настежь, значит, чада вылезли на улицу и убежали, видимо, к реке, поскольку возле дома их не видать. Яшина заметила в детской комнате разбросанные в беспорядке игрушки, книжки, быстро навела кое-какой порядок и пошла на кухню чистить картошку.
Ее супруг Сергей Герасимович эти дни занимался подготовкой сеноуборочной техники и вместе с ремонтниками допоздна чинил и регулировал сенокосилки и силосоуборочный агрегат. Жена не одобряла того, что он являлся домой в перепачканном мазутом костюме и руки у него были черными.
— Почему ты сам лазишь во все дырки? Не доверяешь слесарям? Но ты же руководитель! Твое дело — указывать, советовать, проверять! А ты собираешь мазут со всех тракторов себе на пиджак и на штаны… Боже мой! — сердилась жена. — И это — заботливый и любящий муж. Каждый день — стирка и химчистка…
— Ну-ну, успокойся, дорогуша, — отвечал супруг. Подойдя к ней, привставал на цыпочки и чмокал губами жену в мягкую румяную щеку. — Я же люблю возиться с техникой. Это же мое призвание. А костюм можешь не чистить. Бесполезно. Прохожу и в таком. Дойдет до ручки — выбросим.
— Надо приучать людей к самостоятельности. Что у тебя за метода такая? — продолжала выговаривать Ангелина Михайловна.
Шумно отфыркиваясь, супруг мылся под краном, вытирал руки, оставляя на полотенце темные следы, и торопливо садился за стол. В ответ на замечания супруги он говорил:
— Вот у тебя тоже. Во время отелов… Корова не может разродиться. Так ты что, стоишь — руки в карманах — и даешь руководящие указания дояркам? Нет. Ты закатываешь до локтей рукава и поправляешь телка, помогаешь ему вылезать из утробы матери на белый свет.
— У меня другое дело, — бросала жена, поглядывая на него уже снисходительнее. — У меня — живое существо. Тут иначе нельзя.
— Для меня машина — тоже живое существо. В некотором роде. Именно так, милая моя супруженка!
Слово «супруженка» не очень понравилось Яшиной, и она бросила на мужа холодный взгляд и умолкла. Сергей Герасимович, не замечая этого взгляда, продолжал подшучивать и подначивать и, пообедав, вытирал полотенцем губы и опять тянулся к щеке жены. Она отмахивалась: «А ну тебя!» И нарочно вставала со стула, чтобы муж поднимался на цыпочки. При этом Ангелина Михайловна с невинным видом улыбалась. Сергей Герасимович, раскусив этот ее маневр, похохатывал и, надев свой замазученный пиджачок, уходил в мастерскую.
Прибегали с улицы дети и шумно садились за стол. Мать велела им мыть руки, они срывались с мест и, толкая друг друга, бежали к умывальнику, а потом возвращались к столу. Шум на время сменялся бойким бряканьем ложек о тарелки.
И вот в такое оживленное обеденное время Ангелине Михайловне позвонил Лисицын и попросил ее зайти к нему по срочному делу. Накормив мужа и чад, она пошла в контору.
Степан Артемьевич, вернувшись из поездки по хозяйству раньше обычного, сидел, обложившись пухлыми папками, и выписывал из них какие-то цифры. Он поднял на Ангелину Михайловну усталый взгляд:
— Садитесь, пожалуйста. Надо посоветоваться.
Ангелина Михайловна повесила на вешалку свой легкий плащ, поправила на себе просторное, строгого покроя шерстяное платье и, высокая, статная, словно римская матрона, прошествовала к столу и села.
— Ангелина Михайловна, — начал директор, — нам все время напоминают о необходимости увеличить надои молока. В районе нас критикуют за невысокие надои. Из критики, как вы понимаете, следует делать выводы. Этим я и занимаюсь. А посоветоваться надо с вами вот о чем. Я думаю, есть два пути. Первый — поднять удойность на имеющихся фермах, допустим, на тысячу литров молока от коровы в год. А как? Что нужно для этого, — не вообще, не по теории, а применительно к нашим условиям?
— Проще простого, — ответила Яшина. — Побольше кормов и хороший уход.
— Но ведь этого мало?! — в раздумье промолвил Лисицын. — Все-таки тысяча литров…
— Мало, верно, — соглашалась Яшина. Надо улучшать стадо, выбраковывать малоудойный скот и заводить только высокопродуктивный. Мы держим сейчас малоудойных коров, больше «для числа», чтобы нас не ругали за снижение поголовья. А проку от них ни на грош.
— Но ведь у нас все — холмогорки.
— Да, — подтвердила Яшина. — Однако среди них есть такие, что дают четыре с половиной — пять тысяч литров, а есть и такие, которые с трудом — две с половиной тысячи. Как и люди: бывают толстые, жирные, а бывают и худые, как кощеи… В таких случаях говорят: не в коня корм…
— Очень удачное сравнение! — рассмеялся Лисицын.
— Но ведь так.
— Так. Но пока разговор в общем. Нужен точный расчет структуры стада с подробным анализом кормового баланса. Если бы нам добиться этой тысячи, прирост бы составил шестьсот тонн в год. Это уже немало.
— Но добиться этого будет все же нелегко.
— Вы все-таки прикиньте, сделайте обстоятельные расчеты. И чем быстрее, тем лучше. И второе. Как вы думаете, возможно ли у нас в совхозе построить комплекс, скажем, коров на восемьсот?
— Это нереально, — ответила Яшина.
— А почему?
— Как их прокормить, восемьсот голов? Свободных площадей под кормовые культуры нет. А нам что, приказывают строить комплекс?
— Пока нет, но велели все же подумать.
— Дополнительная тысяча литров — еще так-сяк, а комплекс нам не осилить.
— А вы можете обосновать это?
— И так ясно, Степан Артемьевич!
— Надо, чтобы ясно было и для других.
— Ладно. Постараюсь представить вам расчеты.
Глава третья
1
Беседуя о перспективах хозяйства с Новинцевым, Лисицын сказал ему:
— Мы переживаем своего рода период реконструкции. Вот если сравнить совхоз со старым промышленным предприятием… Наступил такой момент, когда от него потребовали большего: увеличили план, расширили ассортимент. А мощности не позволяют. Что делать? Перестраивать цеха, ставить новое оборудование, переучивать работников. Все вместе и есть реконструкция. Так и у нас: старый способ ведения хозяйства конфликтует с новыми возросшими требованиями. Скажи, не так?
— Так, — согласился Новинцев. — И одна из главных наших трудностей — кадры. Рабочих не хватает. Где их взять? Вот ты обратился в бюро по найму. А результат?
— Нет результата, — пожал плечами Лисицын. — И будет ли?
— И не будет. Ну, возможно, приедут одиночки, кому по душе сельская жизнь на Севере. Готовить работников нам надо из своей совхозной молодежи. Надо сделать так, чтобы после восьмилетки парни и девчата поступали в сельские профтехучилища и возвращались домой работать и жить. Понятное дело — будут складываться новые молодые семьи, им потребуется жилье. Пока они учатся — его надо строить. Иначе шапку в охапку — и до свиданья родной Борок… Теперь ты понял, Степан Артемьевич, что сделал ставку не на ту лошадку?
— Пожалуй, — согласился Лисицын.
Степан Артемьевич примечал, что в Борке происходит скрытая, неприметная для постороннего глаза борьба старого, укоренившегося уклада крестьянской жизни и нового уклада, который не вполне утвердился по многим причинам. Было ясно: надо развертывать строительство домов, но каких? Небольших, на одну- две семьи, или многоквартирных, со всеми удобствами? Степан Артемьевич все еще колебался.
Принять окончательное решение помог случай.
Как-то, побывав на Горке, в вотчине стариков-пенсионеров, не согласившихся переехать на центральную усадьбу, он приметил избу, что стояла несколько на отшибе. В ней, кажется, никто не жил. Однако трава вокруг избы была почти вся выкошена, огород возделан — грядки пышные, мосточки, ведущие к крыльцу, починены. Степан Артемьевич спросил старуху, которая, услышав шум автомобильного мотора, вышла из избы поглядеть, кто и зачем приехал: «Чей это дом?» Старуха ответила: «Гашевых». — «Но ведь они живут в Борке!» — удивился Лисицын. Старуха рассмеялась и махнула рукой: «Так то фатера. А это у них вроде как дача. Глафира с мужем приходят сюда на выходные».
А вскоре появились и Гашевы. Хозяйка несла плетеную корзину, а муж на плече — косу и грабли. Степан Артемьевич увидел, как они отперли дверь в избу и, войдя в нее, распахнули окно. И сразу хозяйка направилась с ведрами к колодцу, а муж — к баньке, стоявшей на огороде. Они стали носить в баню дрова и воду. Вскоре из трубы заструился дым.
Затем хозяин принялся косить недокошенный островок травы на меже, а хозяйка — пропалывать лук.
Все это Лисицын наблюдал издали: машина стояла за разросшимися кустами смородины и малинником, и Гашевы ее не замечали.
Степана Артемьевича разбирало любопытство, он пошел к ним, поздоровался. Муж Гашевой вытер жало косы пучком травы и повернулся к директору. Хозяйка кивнула издали, продолжая прополку.
— Я, признаться, удивился, узнав, что вы приходите сюда на выходные дни, — сказал Лисицын мужу. — Это ваша изба?
Гашев Николай Сергеевич, сухощавый голубоглазый мужчина с золотистыми усами, подошел поближе и ответил:
— Наша изба. У нас в Борке, как вам известно, квартира. Но все же тянет сюда. Никак не можем привыкнуть к каменным казенным хоромам… Это — дедовский дом. Тут я родился, вырос, женился, детей вырастили. Под этой тесовой кровлей вся жизнь прошла. Что же, на слом ее теперь, на дровишки? Вот и получается: живем там, а душа-то здесь. Приходим сюда вспомнить прежнее житье-бытье. И огород тут, и банька. Мы ведь не любим в общей бане. Свою-то натопишь — и парься хоть весь день в полное удовольствие.
Гашев умолк, поглядел на Лисицына выжидательно, стараясь понять, какое впечатление произвел на него своим ответом.
— Огород — это хорошо, — согласился Лисицын. — Но мы бы нарезали вам участок на окраине Борка. Там ведь ближе.
— Там земля другая. Здешняя лучше родит. Хорошая, перегнойная. Прежде, когда держали корову и другую живность, в нее бессчетно навоз валили. А на новом участке что? Одна химия. — Гашев предложил Степану Артемьевичу пойти к избе, сесть на скамеечку и, когда сели, продолжал: — Только с ремонтом не знаю, как быть. Крыша прохудилась, перекрывать надо. А ведь не живем тут постоянно. Какой смысл чинить хоромы, если в них не жить? И не чинить нельзя: гниет дом. Перебираться сюда из Борка нет резона: далеко на работу ходить, магазин там, медпункт, клуб, сельсовет и контора совхозная. Вот так и живем, товарищ директор: одна нога там, другая здесь. Старина-матушка цепко держит, — он рассмеялся, прошелся рукой по шелковистым усам. — Вот вам старая жизнь и новая… жистянка.
— Почему жистянка?
— Дак ведь как… Там стены каменные, не дышат. Воздух спертый, сыроватый. А тут — раздолье! В избе деревянной воздух легкий, свежий.
— Значит, здесь — жизнь, а там жистянка, — Лисицын рассмеялся. — По-моему, вы не вправе обижаться. Там все же кое-какие удобства есть.
— Удобства-то есть. Но наше житье-бытье, как бы вам сказать, раздвоилось, что ли… — Гашев перевел разговор на шутку: — Мне бы теперь молодку резвую подыскать, я бы с ней сюда навовсе переселился. Ничего, что без водопровода, без общественной бани да без теплого туалета…
— Ветер в голове-то у тебя! Ишь, куда повело! — голосисто отозвалась жена от грядки. Она все слышала. — Что с молодкой-то будешь делать? Пятый десяток закругляешь.
— Возраст доброй забаве не помеха.
— А не могли бы вы сдать вашу избу совхозу в аренду или продать? Мы бы ее перевезли, починили и поселили семью.
— Как же в аренду? Такой радости лишиться? — серьезно отозвался Гашев. — Здесь мы отдыхаем, в своей родной земельке ковыряемся. Недаром сказано: «Береги землю родимую, как мать любимую»!
Глафира закончила пропалывать грядку и, вымыв руки у колодца, подошла к ним.
— Степан Артемьевич, милости просим в избу, — она поклонилась вежливо, по-старинному.
— Надо бы ехать, — директор оглянулся на машину. — Ну да ладно, зайду.
Когда сели пить чай, хозяйка поинтересовалась:
— Все Горку собираетесь закрыть? Перевезти избы в центр?
— Нет, — ответил Лисицын, — эту затею, пожалуй, придется оставить, как нереальную. Надо что-то другое,
— Хотите усовершенствовать сельский быт на городской манер? — допытывалась Глафира.
— Хотелось бы. А вот как — надо подумать.
— Ну, думайте, — мягко и чуть вкрадчиво сказала хозяйка. — Голова у вас молодая, ум гибкий. Только хорошенько думайте, чтобы всем польза была.
Эти слова Гашевой прозвучали как пожелание, как скрытый намек на что-то серьезное и значительное.
— А как надо, чтобы всем была польза? — Лисицын хотел выяснить все до конца.
Глафира отпила чаю из блюдечка, держа его по старинке, на растопыренных пальцах, и, подумав, продолжала:
— Вы спросили у Николая, почему мы сюда приходим. Он вам объяснил. В этом, Степан Артемьевич, большой смысл. Мы люди пожилые и очень привыкли к родному дому. Теперь хоть и переехали в каменный дом на Борке, и жить там удобно, хорошо, сюда все же тянет. Здесь ближе к земле. А там, в доме коммунального, городского типа, мы живем подобно птицам в клетушке. Нет простора того, что здесь. Тут все привольное, родное, знакомое с детства. Выйдешь, бывало, утром на крылечко, смотришь — солнышко встает, роса на траве играет, тяжелая, крупная. Черемуха под окном цветет — все бело. Река рядом, туман над водой легкий плывет, колышется, будто река дышит. Печь затопишь — дымок такой веселый над трубой вьется… В прежние-то годы и двор был живностью наполнен: корова, телушка, овцы, курятник на повети… Все голос подают, есть просят. Вам, наверное, этого не понять…
— Почему? Я вырос в деревне, в такой вот избе, и вас понимаю прекрасно, — сказал Степан Артемьевич. — Значит, надо, видимо, строить нам дома индивидуальные, усадебного типа, похожие на этот.
— Пожалуй. С этим я согласна. Там, в Борке, скот держать негде.
— А вы держали бы, если бы жили здесь?
— Не знаю. Корову, может, и держала бы. Только трудновато в нашем возрасте — сена надо много запасать, уход ей нужен. Отвык крестьянин от личного хозяйства, и не по своему нерадению. Было такое время: косить сено для своих коров не разрешалось. На фермах кормов не хватало
— Значит, надо наладить хорошее кормопроизводство, — раздумывал вслух Лисицын. — Такое, чтобы хватало и фермам, и для коров, находящихся в личном пользовании…
— Корма — это еще не все. Теперь придется снова прививать вкус к личному хозяйству. Особенно тем, кто помоложе. Они к этому не привыкли.
В открытое окно струился чистый, свежий воздух. Пахло багульником и мятой. Лисицын любовался видом из окна. Перед избой — грядки с острыми перьями лука, морковью, сочной картофельной ботвой. Дальше — некошеная лужайка с высокой густой травой еще дальше — пологий склон к реке, совхозный луг. Он обрывался у берега Лаймы, а на другой ее стороне — тоже луг, и за ним дымчато синел лес.
— Вид здесь — залюбуешься, — сказал Лисицын.
— Хороший вид. Природа у нас красивая, — ответила Гашева. — Останьтесь, Степан Артемьевич, сходите в баньку, попаритесь, — добавила она, видя, что Лисицын встал.
— Спасибо, но мне пора, — Лисицын вышел из-за стола. — Глафира Петровна, мне надо сказать вам пару слов. Проводите-ка меня.
Когда они вышли на улицу, Лисицын спросил:
— Что за человек Софья Прихожаева? Какая-то она неуравновешенная…
— Ничего худого о ней не скажу. Старательная. Но иногда ведет себя замкнуто, сторонится людей, — ответила Гашева. — Личная жизнь у нее не сладилась. Муж уехал, бросил. И то ли в отместку ему, то ли по слабости характера связалась она с другим. Есть тут у нас Трофим Спицын…
— Я слышал о Спицыне и о его связи с Прихожаевой. Это, конечно, их дело. Однако она ведь молодая, надо помочь ей стать на правильный путь. Поговорили бы вы с ней по душам, Вы, женщины, всегда найдете общий язык.
— Хорошо, поговорю, — охотно согласилась Гашева.
Направляясь к машине, Степан Артемьевич оглянулся. Дом Гашевых стоял посреди луга фасадом на юг. Большой, срубленный из толстого леса, с тесовой крышей, под которой было все — и жилье, и хлевы, и поветь, где хранили на зиму сено. И рядом погреб и банька… Дом стоял как символ старой деревни.
«Какой-то будет новая? Таких изб из неохватных брёвен теперь не построишь, леса изрядно вырублены», — Лисицын почувствовал, что под влиянием супругов Гашевых его охватила грусть по старой русской деревне. Так и бывает: поселится человек в новом доме, а старый к себе тянет. Слишком многое с ним связано в жизни.
А ему предстояло создавать новую деревню, и он еще не вполне представлял, какой она будет…
Северное Нечерноземье! Корни его уходят в глубь веков. В давние времена пришли сюда, в малоизведанные, необжитые земли, по рекам пращуры-новгородцы. Зоркий хозяйский глаз мужика, бежавшего от постылой жизни, приметил девственную нетронутость этих мест. Обширные леса, полноводные равнинные реки, лесные озера. И рыбы тут, и всякого зверья предостаточно.
В нижнее Подвинье, Поонежье, дальше на Север пробирался русский оратай, пока не вырвался из цепких лесных объятий на пустынные берега Беломорья. Одни селились по берегам рек с пойменными лугами, столетними борами-беломошниками на взгорках за болотами, другие спустились в низовья, расселились по прибрежной полосе, стали поморами. Земледельцы и мореходы — добытчики рыбы и морского зверя — две ветви рода мужицкого, предприимчивого и трудолюбивого.
Врубались в леса, расширяя свои владения, ставили деревни, отвоевывая у чащоб огнем и корчевкой скудные поля — новины. На палах, удобренных золой, сеяли лен, ячмень, овес, рожь, горох. Верхний плодородный слой родил недолго. Оскудевал один участок, крестьянин разрабатывал другие, родилось подсечное земледелие. Заведя скот, вносили на пашню навоз. Северный мужик держал во дворе, кроме дойных, коров-навозниц, от которых не ждал много молока.
Соха и плуг, движимые мускульной силой коня и человека, пахали неглубоко. Копни поглубже — вывалишь на поверхность бесплодный песок или глину, Такова особенность здешних почв.
С годами росли деревни, выстраивались веселыми рядами в живописных местах, у воды, у лугов и полей, у лесов с грибами и ягодами. Дружно стучали топоры плотников, оставлявших за собой целые порядки изб, пахнущих сосновой смолкой. Суровый климат продиктовал крестьянину своеобразный тип постройки: под одной крышей жилье с просторными сенями и поветью, а под ними внизу— двор для коров, денник для коня, теплый хлев для овец, стайка для новорожденного телка. Зимой в трескучий мороз легко одетая хозяйка по ночам с лучиной или фонарем шла через сени во двор проведать скотину, подбросить ей сенца через проруб в полу повети прямо в кормушку. Все — в доме, на улицу выходили лишь за дровами да за водой на колодец или к речной проруби.
Патриархальный, проверенный опытом, устоявшийся быт крестьянина-единоличника. Усадьба Гашевых — тому пример.
Эти избы, эти крестьянские усадебки пережили на своем веку немало. Во время коллективизации трактора перепахали межи, разделявшие лоскутные единоличные поля, сведя их в общие массивы. Но часть пашенок осталась в первозданном виде за перелесками, за болотцами, озерами, пожнями. Трактором на них не развернуться, колхозники по-прежнему обрабатывали эти поля лошадьми.
В те годы деревня по типу построек и бытовому укладу мало чем отличалась от старой. В полеводческих бригадах возникли МТФ — молочно-товарные фермы с дворами для коров, телятники, свинарники. Каждая бригада обслуживала свою ферму, запасала для нее корма, сдавала государству молоко, мясо. Скот во дворах стоял на соломенной подстилке. Накопленный навоз разбрасывался по пашне вилами. Это называлось — «навоз метать», «навоз разбрасывать».
Колхозницы доили коров вручную, «кулаком». Смазывали вымя сливочным маслом, массировали его, и тугие струйки со звоном ударяли в оцинкованные подойники. Труд доярок был тяжелым, кроме дойки, они сами раздавали корма, носили ведрами воду, прибирали помещение. К концу дня руки немели…
В земледелии господствовала травополка, позволявшая сохранять плодородие почв с помощью чередования культур. Подсевы клевера, кормовых трав и бобовых культур обеспечивали рыхлую структуру верхнего пахотного слоя. Опасности эрозии не существовало.
До войны в деревне было сравнительно людно, хотя город и брал оттуда немало рабочих рук. Колхозы выполняли все работы в срок, как и полагалось по сельскохозяйственному календарю. Поздней осенью по первопутку крестьяне шли работать сезонно на лесозаготовки с лошадьми и санями с подсанками. Лесная промышленность тогда не имела кадровых рабочих. Весной сезонники превращались в сплавщиков, гнали лес россыпью, «молем», по рекам и возвращались в село лишь к началу полевых работ.
Война с фашистской Германией обезлюдила село, прошлась по нему, словно острой косой по лугу… Остались женщины, старики, подростки, инвалиды и немногие демобилизованные солдаты, уцелевшие в пекле войны. Эмтээсовские механизаторы обрабатывали весь посевной клин. Колхозы несли на своих плечах всю тяжесть снабжения страны продовольствием.
Государственные поставки, натуральная оплата за работы МТС, сверхплановые закупки — все это изрядно подчищало колхозные закрома, и на трудодни в оплату сельчанам оставалось лишь небольшое количество зерна, картофеля и денег. Крестьянин в ту пору жил главным образом за счет своего личного хозяйства. «Корова во дворе — достаток на столе», — гласила поговорка. Почти все имели коров, хотя с кормами было очень туго, надо было содержать общественные фермы.
Мелкие, обескровленные войной северные колхозы все же не могли давать достаточно продукции, деревня оскудевала, жила в постоянных трудах и в постоянном… безденежье, испытывая острую нехватку и рабочего люда. А надо было развивать дальше хозяйство, расширять его, механизировать, увеличивать стада, разрабатывать залежи. Колхозам такое было не по силам, и государство пошло на создание совхозов. Им стали выделяться денежные ссуды, кредиты и разнообразные машины.
Одним из таких совхозов и стал «Борок», созданный на землях трех мелких колхозов.
Лисицын пришел сюда в канун больших перемен. Многое предстояло сделать, чтобы укрепить хозяйство, поднять его на современный уровень.
2
Лиза еще не вернулась из города. После семинара она хотела побыть у матери и, по-видимому, приедет только в конце будущей недели. Степан Артемьевич заскучал. Дело вовсе не в том, что самому приходилось готовить завтрак и ужин, — с этим еще можно было мириться. В пустой квартире он почувствовал себя совершенно одиноким. Днем еще так-сяк, масса забот, деловые встречи с людьми, поездки по хозяйству, а вечером со всех сторон, изо всех углов квартиры наползала на него скука. Слова вымолвить не с кем, будто Лиза уехала насовсем и увезла с собой все, что скрашивало его личную жизнь. Теперь он особенно остро почувствовал, что любит ее сильно и жить без нее не может…
Теперь он, пожалуй, готов был сколько угодно сносить ее маленькие капризы и причуды.
«Да что это я, в самом-то деле! — рассердился он на себя. — Расслабился, разнюнился! Подумаешь — уехала ненадолго, и места не находишь. Вернется же, наберись терпения!»
Впрочем, он крепко уставал за день, и грустить в одиночестве приходилось недолго. Поужинав, отправлялся спать, а утром уже было не до меланхолии.
Если бы Лиза жила в гостинице, он непременно бы разыскал ее по телефону и перемолвился бы словечком. Но она, конечно, находится у матери, где телефона нет. Степан Артемьевич мысленно упрекал жену: «Хоть бы позвонила с почты. Уехала — и ни слуху ни духу. Будто я для нее чужой человек. Неужели все жены таковы? А может, у нее объявился там некто из старых знакомых, и она проводит с ним весело время, развлекается, а на мужа ей чихать!» Последнее предположение вызвало у него в душе некоторое смятение. В самом деле, жить в городе до двадцати двух лет, до замужества, и не иметь знакомого молодого человека — нереально. Наверняка у нее был какой-нибудь современный бородатый парень. Ну, допустим, кандидат наук, или медик, или книжный червь, историк, аспирант, или еще черт знает кто! Приехала туда, встретилась — и все забыла. Забыла, что есть Борок, есть квартира, а в ней, полупустой и неуютной, — муж. Такой длинный, нескладный, лобастый, похудевший от вечных забот о картошке, сене и молоке, да вдобавок еще и влюбленный, как Ромео. Он чуть ли не молится на свою Джульетту, а ей и горя мало.
Но почему ее мнимый любовник должен быть непременно лицом академическим и непременно бородатым? Видимо, в его воображении существовала устойчивая связь научной библиотеки, где Лиза работала прежде, с учеными мужами.
«А, чепуха все!» — Степан Артемьевич мысленно посмеивался над собой и шел спать. Спал он по-прежнему крепко, только однажды ему приснился бородатый интеллектуал, целующийся с его женой, и Степан Артемьевич, проснувшись утром, увидел, что лежит как-то странно, чуть ли не поперек кровати…
Приходил новый день, а с ним — новые заботы о кормах, посевах и трудовой дисциплине, и тоска-злодейка пряталась до вечера.
В воскресенье он с утра сходил в магазин за хлебом и, возвращаясь домой, встретил возле крыльца Чикина. Тот вежливо поздоровался, приподняв с лысой головы кепку, и сказал:
— Травы отцвели, Степан Артемьевич. Косить пора!
Сенокос в совхозе начался вчера, во всех отделениях на луга выехали механизаторы с тракторными косилками, но, Чикин, видимо, об этом еще не знал. Лисицын спросил:
— Как вы думаете, не будет дождя?
— Погода, конечно, не благоприятствует, — Чикин озабоченно глянул в облачное небо. — Однако, как я думаю, больших дождей не предвидится. А на ветру сено и без солнца подсохнет хорошо.
— Эх вы, пророк! — Лисицын снисходительно улыбнулся и, неожиданно для себя, а тем более для Чикина, предложил: — Пойдемте пить чай. Я один в доме. Потолкуем. А сенокос начался вчера, вы прозевали.
Еремей Кузьмич из вежливости стал отнекиваться, но Лисицын, обрадовавшись, что нашел собеседника, легонько потянул его за рукав:
— Да чего там! Идемте. Не стесняйтесь.
Чикин посмотрел на свои сапоги — не грязны ли, и проследовал за директором в его двухкомнатную квартиру на втором этаже. Хозяин усадил его на диван, а сам пошел на кухню ставить чайник. Когда он вернулся, Чикин сказал:
— Обстановочка у вас, товарищ директор, скромная не по чину. Но делает вам честь…
— Не понял.
— Ну, скромно живете. Ничего лишнего. Ковров нет, телевизор черно-пестрый. У других нынче стены в коврах, полы тоже. Кто к ним приходит — разуваются. А вы вот меня и разуться не заставили. Между прочим, вы ведь собираетесь ехать по туристской путевке в Санта-Крус?
— Да, а что?
— Я могу дать вам справочку о Санта-Крусах. Их несколько. Я полистал справочник на досуге и сделал выписки. — Чикин достал из кармана листок бумаги, очки, надел их и принялся читать. — Вот, послушайте. Санта-Крус в Боливии, на реке Рио-Гранде, Санта-Крус в Аргентине, у залива Баия-Гранде, Санта-Крус — остров в северной части архипелага Малых Антильских островов в Карибском море. Дальше: Санта-Крус в группе Соломоновых островов в Коралловом море, Санта-Крус-де-ла-Пальма в группе Канарских островов на острове Пальма…
— Стоп! — сказал Лисицын. — Это, кажется, искомое.
— Понятно, — отозвался Чикин. — А все-таки я для вашего сведения дочитаю, можно?
— Валяйте.
— Значит, шестой Санта-Крус-дель-Сур на Кубе, город на побережье Карибского моря. Седьмой Санта-Крус-де-Тенерифе — тоже в группе Канарских островов, на Тенерифе. Вот и восемь Святых Крестов. Есть еще девятый, но он почему-то Санта-Круз, с буквой «з» на конце. Это город в Америке, южнее Сан-Франциско. Побережье Тихого океана. А вы уверены, что путевка на остров Пальма? Рядом с ним остров Тенерифе. И на том, и на другом — по Санта-Крусу. Который из них?
— А шут его знает. Если поедем — разберемся.
— Я все же полагаю, что вас повезут на остров Тенерифе. Он больше острова Пальме. Есть справка о Тенерифе. Значит, так. — Чикин перевернул страницу и поправил очки. — У Санта-Круса на Тенерифе наиболее вместительная стоянка кораблей с отличным дном. Он полностью открыт ветрам от зюйд-оста и зюйда, но ветра эти недолговременны. Здесь мореплаватели запасаются водой из источников, расположенных в глубине острова, — она идет по трубам. Можно достать вино, свежее мясо, свиней, овец, коз, кур, маис, виноград, груши, дыни, лук, тыквы и картофель. Вино продается (лучшее тенерифское) по цене двенадцать шиллингов за пипу…
— Пипа — что такое?
— Испанская мера жидкости.
— А где вы взяли такую справку?
— У капитана Кука. Знаменитого английского мореплавателя. Справка, правда, старая, с бородой. Может, найдете поновее. Но — дарю вам.
— Спасибо за информацию. Пейте чай, — предложил Лисицын. — Может, хотите стопочку?
— Спасибо. Не употребляю. Здоровье берегу.
Степан Артемьевич получше присмотрелся к Чикину. Перед ним со спокойным достоинством сидел скромно одетый, уже старый человек, возможно уверенный в том, что прожитая жизнь дает ему право относиться ко всему окружающему с мудрой и снисходительной усмешливостью. О таких говорят: «Себе на уме». Лицо в морщинках, брови редкие, седые волосы от середины макушки. Глаза серые, тускловатые. Но порой взгляд становился острым, и Чикин щурился, как бы прицениваясь, кто чего стоит. Голос не очень громкий, в нем иногда проскальзывали жесткие нотки. Во всей натуре Чикина ощущалась какая-то не очень ярко выраженная двойственность: скромность стояла рядом с уверенной категоричностью, тихая податливость — с непреклонностью.
Лисицын знал, что деревенский люд относился к Чикину со снисходительным уважением, как обычно относятся к старикам. Он примелькался, его постоянно видели на улице, в клубе, в библиотеке, где он, надев очки, читал от передовиц до подписи редактора газеты, чтобы быть «в курсе жизни». А вечерами он неизменно дежурил на своей скамье, встречая и провожая всех, кто ни пройдет мимо, и для соседей был, наверное, прост и ясен, как спелый огурец.
Но для Лисицына, человека здесь сравнительно нового, Еремей Кузьмич был еще в некотором роде загадкой, которую предстояло разгадать. Степан Артемьевич, придерживаясь истины — корни настоящего в прошлом, не сомневался в том, что Чикин — живая история Борка, которую ему хотелось знать возможно подробнее, и потому попросил:
— Расскажите о себе, Еремей Кузьмич.
Чикин сдержанно вздохнул и неопределенно пожал плечами:
— Жизнь у меня длинная. Всякое было.
— Все по порядку и рассказывайте. Люблю слушать старших.
— Слушать или слушаться? — не без подковырки спросил Чикин.
— И слушать, и слушаться, если старшие говорят дельно, — ответил Лисицын.
— Ладно, если так, — Чикин удовлетворенно кивнул. — Интересного в моей жизни было мало. Я — самый обыкновенный работник среднего звена первых послевоенных лет. Нас в книгах еще называют районщиками… Есть в этом слове неуважение к нашему брату. Вы согласны?
— Пожалуй.
— А между прочим, — продолжал Еремей Кузьмич, — эти самые районщики в трудные времена тянули немалый воз. Это я не к тому, чтобы себе цену набить, нет. Я говорю не о себе только. — Он умолк и махнул рукой.
— О каких трудных временах вы упомянули? — поинтересовался Лисицын.
— Ну вот, к примеру, был я в здешнем колхозе председателем. Меня тогда из райкомовских инструкторов бросили на укрепление кадров…
— Бросили?
— Ну, направили, послали, если хотите. Это после войны. Я, конечно, отказываться не стал, долг не велит. Приехал, принял хозяйство. Людей не хватает, одна нероботь — бабы, старики, подростки. Лошади на конюшне — одна хромая, другая слепая, третья жеребая… Упряжь веревочная. Скотные дворы прохудились, в щели улицу видать.
В райкоме-то дело ясное: руководи знай, езди по командировкам уполномоченным, организуй, требуй, добивайся, чтобы все было в ажуре. А тут, бывало, и за плуг сам становился; из полуголодной бабенки какой пахарь? И пашет, да неглубоко, и борозду иной раз в сторону заведет. Осенью к молотилке становился, снопы на транспортер кидал, мешки с зерном грузил. Всяко приходилось. Однако, скажу вам, со всеми работами справлялись в срок. Старались все — от мала до велика. Да и требовали с нас не так, как теперь. Тогда нам давали твердые планы: государству сдать столько-то зерна, картошки, корнеплодов, льна, мяса, молока, шерсти. Что недоберешь — закупай по дворам, а сдай точно по плану. Все было как по команде, — Чикин усмехнулся. — Нам спускали план посеять столько-то и таких-то культур. Начнешь с агрономом прикидку — площадей недостает. Силенок не хватало после войны, истощались земли из-за плохой обработки, зарастали они кустами, дичали. А в райземотделе за колхозом числилось столько пашни, сколько было с его организации. И кровь с носу — всю ту пашню должен ты засеять и отчитаться перед районом. Ты объясняешь начальству: площадей не хватает. А тебе отвечают: врешь! Не должно быть такого. У нас все учтено, в вашем колхозе столько-то гектаров. И приходилось выкручиваться.
И все же сдавали государству все, что положено. Оставляли себе только на семена да в оплату трудодней. Вы вот теперь почти не сдаете хлеб, а мы сдавали. А ведь и у нас были погодные условия: зарядят дожди — никакого просвета.
— И как же вы выходили из такого положения?
— Пускали в ход овины, зерновые сушилки строили. Сушили хлеб, потом молотили.
— От нас сдачи зерна не требуют, у нас животноводческое направление.
— Животноводческое, знаю. А сколько на фермах у вас сейчас коров?
— На трех фермах шестьсот, не считая молодняка.
— Шестьсот! А в наших трех мелких колхозах держали восемьсот коров, да еще сотни две в личном пользовании колхозников. Вот и тысяча. Нынче по утрам мы за молоком-то идем в магазин. От шестисот-то коров что остается молокозаводу? Вот, Степан Артемьевич, такая арифметика. Ну, извините, я заговорился, пора домой. — Он встал, намереваясь уйти, но Лисицын удержал его:
— Посидите еще. Поговорим. Куда вам спешить?
Чикин подумал, сел и надолго умолк. Степан Артемьевич пытался его разговорить, но Еремей Кузьмич на все вопросы отвечал односложно и не очень охотно, и Степан Артемьевич тоже задумался. Мысли его опять вернулись к хозяйству. «Почему мы теперь на землях трех колхозов, мелких, слабых, держим скота меньше и почти не выращиваем зерно на продовольственные цели? Почему в старых деревеньках избы заброшены и люди уехали из родных мест — кто в Борок, а кто в город?» Он чувствовал, что дело обстоит не так просто, есть какие-то скрытые причины всего этого. Но какие?
— Значит, у вас все делалось по команде? — спросил он.
— Под командой я разумею твердую установку сверху, — тотчас отозвался Чикин, будто очнувшись от дремоты. — Нас постоянно контролировали. Ночами у нас бывали радиопереклички. Знаете, что это такое?
— Слыхал, — ответил Лисицын. — Теперь их нет, видимо, отпала необходимость.
— Вот видите! А у нас тогда все было под напряжением, как на высоковольтной линии. Ток шел — проволока дрожала… Сейчас бы такое назвали работой на износ. Но тогда с трудностями не считались. И я понимаю, нынче методы иные. На износ работать, брать кампаниями «на ура» нельзя. Надо ритмично, продуманно, а главное, спокойно, без брани. Тогда ведь и в райцентре доставалось руководителям. Секретарь райкома, бывало, трудился по двенадцать часов в сутки. Допоздна у него в кабинете горел свет. Наш брат мелкая сошка уходил с работы как обычно, в шесть вечера, а он сходит поужинает — и опять в райком. Все вечера светились окна в его кабинете. Идешь, бывало, в кино — светит, возвращаешься домой — все горит огонек в кабинете у первого. Работы хватало. И опять же могли в любой час из области позвонить. Там тоже не спали…
— А может, для примера сидели?
— Вряд ли, — Чикин покачал головой. — Петр Михайлович Прилукин, наш первый секретарь, ныне покойный, был дельный мужик, чуткий к людям, но строгий — упаси бог! Старые люди его все же добром вспоминают.
— Вы что, хотите сказать, что нынешние руководители, поскольку они вечерами не бодрствуют в кабинетах, люди не стоящие?
— Я этого не сказал. Однако у вас все по звонку. Еще и шести нет — в конторе всех как ветром сдуло. Да что в конторе! Иной раз во время уборки тоже: час подошел — шабаш. Над лугом туча пластается, вот-вот дождик хлынет, надо бы еще посгребать сенцо, но пять часов — граблевища в землю. Пусть льет хоть дождик, пусть хоть камни с неба валятся. Рабочий день кончился…
— Тут с вами нельзя не согласиться, — заметил Лисицын. — Видимо, сознательность у людей низковата.
— А почему низка сознательность? Что, люди теперь другие? Не те, что были раньше? Нет, они хорошие, наши, советские. А лень — от благополучной, сытой жизни, — вот что я вам скажу.
— Пожалуй, с этим я не соглашусь. Просто мы не научились как следует воспитывать людей, — возразил Степан Артемьевич.
— Человека нужда да трудности воспитывают получше всяких бесед. Есть поговорка: «Хочешь жить — умей вертеться». Трудности заставляют человека пошевеливаться живее. Теперь тех трудностей, что прежде были, нет, и все стали заплывать благополучным жирком. — Чикин, сказав это, взволновался до кончика носа, на котором от горячего чая выступили капельки пота.
Помолчали. С улицы донесся шум дождя. Крупные капли застучали по оцинкованному наружному подоконнику, и вскоре дождь пошел частый, сплошной сеткой. Лисицын помрачнел, Чикин вздохнул:
— Вот тебе и сенокос…
— Да, дела неважные, — Лисицын подошел к окну.
Дождик шел, однако, недолго. Когда он прекратился, выглянуло солнце, плеснуло белым пламенем в окно и спряталось. Зашумел ветер, затрепал ветки березы, что росла через дорогу от дома. Лисицын вернулся к столу.
— Вас послушать, Еремей Кузьмич, так в те времена, когда вы руководили, куры несли золотые яйца…
— Хоть и не золотые, а несли. А сейчас кур вовсе не держат.
— В конце концов, куриной проблемы теперь нет. Построены мощные птицефабрики.
— Согласен, — сказал Чикин. — И я кур не держу. Между прочим, я их вывел да-а-вно. А дело было так. Руководил я одно время заготконторой потребкооперации. Собрали нас в райкоме и давай просвещать. Так, мол, и так, в районном центре стала расти частнособственническая тенденция. Некоторые товарищи занялись материальным обрастанием. Председатель потребсоюза держит двух кабанов, уполномоченный заготовок — корову и телку, заведующий сберкассой — целый свинарник. И курятники в коммунальных квартирах завели: грязь, антисанитария…
Меня, правда, не назвали на том совещании, но я себе намотал на ус. Дома у нас, в сенях, курятник, а в нем пять кур с петухом. Пришел домой — и давай своих кур на улицу на плаху таскать, топором им рубить головы. Всех порешил. Жена ревет, а я знай машу топоришком, как палач на лобном месте. Вот как было. Прежде чем рубить, надо было подумать. Не так ли бывает в жизни, что рубим сплеча, не заботясь о последствиях? Вот и не стало у нас с женкой яичек, а по праздникам и курятины к столу. Опыт — великая вещь, скажу вам, Степан Артемьевич. А вы бывали в Залесье?
— В Залесье? Что-то не помню. Это где?
— Само название говорит: за лесом. Это за полями третьего отделения, за Прохоровкой. Туда теперь, поди, и дороги-то нет, заросла вся. Залесье, наверное, у вас вычеркнуто из плана землепользования, потому вы и не знаете. Там прежде была бригада колхоза «Путь Октября». Большая, дружная.
— А, — вспомнил Лисицын. — Я ведь туда однажды ездил. Там деревенька домов в десяток. А живут в одной избе какие-то старики.
— Уже не живут, — уточнил Чикин. — Я их знал хорошо: Никоновы Федор да Варвара. Умерли в прошлом году в глубокой старости. Ну вот, прежде в Залесье было сорок пять дворов, ферма на сто двадцать коров, конюшня на тридцать лошадей, свинарник, телятник и прочее. Потом скот перевели в Прохоровку, ферму укрупнили. До Залесья пятнадцать километров, дорога лесная, ухаб на ухабе… Одни неудобства. Сеять зерновые там не стали, только травы. Они меньше требуют ухода. Ферму вывезли, зерно не выращивают, посеют овес с викой да с ежой сборной, скосят и увезут на зеленую подкормку. Людям-то в Залесье стало делать нечего, вот и разбрелись кто куда. Захирела деревенька. Я думаю, что вам наверняка придется расширять посевы, может, и новые фермы строить, так не мешало бы вспомнить о Залесье. Земли там неплохие. Расчистить бы их, распахать, привести в порядок.
Лисицын сразу насторожился: «Не там ли, не в Залесье ли надо искать дополнительные площади?»
— Вы уверены, что земли там хорошие? — спросил он.
— Не так чтобы уж очень хорошие, но травы и силосные культуры вполне могут расти.
— Ладно, за совет спасибо. Съезжу туда, посмотрю.
— Посмотрите. Если бы построить дорогу, там можно возродить и деревеньку. И ферму голов на полтораста.
— Вернуться к старому?
— Старое тоже было неплохо… — уклончиво вымолвил Чикин. — Однако кем заселить деревню? Некем… Пока там можно организовать бригадный стан на время полевых работ и сенокоса. А корма вывозить.
— Подумаем, — пообещал Лисицын. — Спасибо за совет.
— Пожалуйста. Ну, мне пора, — Чикин поднялся. — Женка там, поди, уж ищет. Засиделся у вас. Спасибо за угощение, и всего вам хорошего. Между прочим, Сонька приходила ко мне, извинялась. Хорошая баба, да иногда ей, как упрямой кобылке, шлея под хвост попадает. А держать вожжи некому, никого нет, кроме хахаля. А ему что? Добьется своего — и в сторону… А вы поедете по путевке?
— Пока не решил, — ответил Лисицын.
— Решайте. Такая поездка и отдых даст, и голову освежит. Вернетесь — виднее будет, как вести дальше дела…
— Вы так думаете?
— Конечно.
Лиза позвонила Степану Артемьевичу на работу рано утром в понедельник. Степан Артемьевич обрадовался, но тут же и упрекнул ее:
— Почему так долго не звонила? Когда вернешься?
— Не знаю, — ответила Лиза. — Семинар кончился, можно бы и домой, но мама серьезно заболела. Предынфарктное состояние, постельный режим. Я боюсь оставлять ее без присмотра. Может, еще в больницу заберут. — Лиза помолчала и взволнованно добавила: — Приехать не могу. Пойми меня правильно.
— Вот беда! — огорчился Степан Артемьевич. — Что же делать?
— Не знаю. — По голосу он чувствовал, как сильно расстроена жена. — Придется мне здесь пожить. Пожалуйста, сходи в сельсовет к моему начальству, пусть разрешат неделю отпуска за свой счет для ухода за больной.
— Схожу. Может быть, нужна моя помощь? Мне приехать?
— Пока не надо. Я справлюсь одна.
— Тогда звони почаще. Я не могу тебя вызвать к телефону. Если что — сразу приеду.
— Ладно. Как ты там? Питаешься чем?
— Фирменным блюдом: глазуньей. В основном. Обедать хожу в столовку.
— Ну, не скучай. Будь здоров!
— Погоди, может, привезти чего? — спросил он. Но трубка уже молчала. Он медленно положил ее на место, поднял взгляд и увидел зоотехника Яшину. Она стояла перед ним высокая, солидная, пышущая здоровьем, в светло-сером плаще из синтетики, с опущенным на плечи тонким цветистым платком.
— Здравствуйте, Ангелина Михайловна. Садитесь, пожалуйста. Как расчеты?
— Делаю. Еще не кончила.
Яшина продолжала стоять, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Лисицын заметил, что она чем-то взволнована.
— Что-нибудь случилось? — насторожился он.
— Случилось чепе. В Прохоровке вчера три доярки на вечернюю дойку не явились.
— Как? — изумленно воскликнул он. — Почему?
— Причина не вполне ясна. Кажется, загуляли по случаю какого-то праздника. И сегодня утром не вышли вовсе. Сибирцев распорядился тем, кто вышел, доить коров тех, кто не вышел.
— Кто вышел, кто не вышел? — ничего не понимаю. В чем причина?
— Я вам объяснила. Больше ничего сказать не могу. Надо туда ехать, узнать, в чем дело. — Яшина наконец села.
Лисицын пожал плечами.
— Какой праздник?
— Говорят, день святого Софрония. Такой святой местного значения, они его придумали, — Яшина кисловато улыбнулась.
— Да что они там, в самом-то деле! Спятили? А ну, едем!
— Вам пока лучше не ездить, — посоветовала Яшина. — Сама все выясню, вам доложу, а уж тогда решайте.
— Вы считаете, что мне ехать излишне? Почему? — Лисицын недоверчиво покосился на Яшину. — Выгораживаете своих подчиненных? Отводите удар?
— Я никого не выгораживаю, — с видимой досадой ответила Яшина. — Я не меньше вашего заинтересована в укреплении трудовой дисциплины. Ваши упреки несправедливы.
— Черт знает что! — Лисицын стал звонить в Прохоровку. К телефону подошла бухгалтер отделения и объяснила, что Сибирцева в конторе нет, ушел на ферму. Лисицын наказал, чтобы управляющий позвонил ему, когда вернется.
— Если еще и механизаторы празднуют, тогда уж совсем плохо, — сказал он недовольно.
— За них можете быть спокойны. Они косят на лугах. В Прохоровке домострой женский.
— Как это понимать?
— А так, Степан Артемьевич, что женщины там своих мужей держат в ежовых рукавицах и не позволяют им вольничать.
— А сами?
— А сами, как видите…
— Ладно, берите машину и поезжайте. Да будьте там построже!
— Постараюсь, — сказала Яшина и вышла.
Газик стоял у крыльца. Степан Артемьевич вскоре услышал удаляющийся шум мотора. Вошел главный бухгалтер Ступников с папкой в руках.
— Квартальный отчет готов, Степан Артемьевич. Сразу подпишете или оставить?
Лисицын растерянно посмотрел на Ступникова. Тот был чисто выбрит, в белой сорочке, при галстуке.
— Что вы сказали? — переспросил директор.
— Квартальный отчет.
— Хорошо, оставьте. Я просмотрю и подпишу.
Ступников положил перед ним папку и направился к двери.
— Погодите. Что за праздник такой — святой Софроний?
Бухгалтер обернулся с недоумением:
— А зачем он вам?
— Надо, раз спрашиваю. Вы можете ответить?
— Да кто его знает… Их, святых, тут по деревням целая дюжина. Поди разберись. Вы, наверное, имеете в виду прохоровских доярок? Так не в Софронии дело, скажу вам. Он только повод, вывеска, так сказать. Причина совсем другая…
— Какая?
— Пока уверенно не могу утверждать, только догадываюсь. Дело в том, что Сибирцев лишил некоторых доярок премии из-за снижения надоев. Вот и последствия. Но это еще требует проверки. Вот Яшина поехала, она и привезет вам причину.
— Причина причиной, — с неудовольствием отозвался Лисицын. — А они совершили прогул. В такое-то время!
— У нас все возможно, — сказал Ступников.
— У нас? — Лисицын поднял голову от бумаг.
— У нас в Борке, я имею в виду…
— Ладно, идите, — буркнул Лисицын и стал смотреть финансовый отчет.
Вскоре позвонил управляющий третьим отделением совхоза Сибирцев.
— Что у вас там происходит? — в сердцах повысил тон Лисицын. — Рабочие прогуливают, а вы молчите! Почему не поставили в известность?
— Не хотел вас беспокоить. Думаю — сам разберусь.
— Не желаете сор выносить из избы? Уже все знают, один директор в неведении. Он узнает последним.
— Сейчас я все объясню, — ответил Сибирцев уже менее спокойным тоном. — Вчера днем вывесили на ферме показатели за квартал и приказ о премировании. Три доярки — Попова, Пискунова и Рудакова — не выполнили задания и, стало быть, лишились премии. Я им все объяснил, но они, конечно, остались недовольны. В общем, произошел у нас крупный разговор. Не скрою, я погорячился… А вечером они не вышли на работу, собрались у Рудаковой и стали отмечать какой-то праздник. И утром не явились.
— А сейчас как? Все гуляют?
— Нет, да вы не беспокойтесь, все уладим, Упрямые женщины, и ругательницы — не дай бог!
— Яшина приехала к вам?
— Не видал. Приедет — поговорим.
— Смотрите, дело серьезное!
— Как не серьезное! Я ведь понимаю.
Лисицын поинтересовался, как идет сенокос. Сибирцев ответил, что три трактора с навесными косилками работают на заливном лугу. Но сено сохнет плохо.
На том разговор и закончился. Но вечером Степану Артемьевичу пришлось снова вернуться к прохоровскому чепе. Оказывается, план не выполнила только Рудакова, но заведующий фермой дал в контору неправильные сведения, и Сибирцев поторопился издать приказ. Яшиной пришлось просмотреть ежедневные сводки по каждой группе коров и заняться подсчетом, и только после этого она убедилась, что произошла ошибка.
— Можно быть уверенным, что дело обстоит именно так? — с сомнением спросил Лисицын.
— Как же, Степан Артемьевич, — Яшина даже обиделась. — Я же все проверила. Если те двое не виноваты, зачем же их наказывать рублем?
— Они бы могли избрать другую форму протеста. Могли бы, в конце концов, прийти ко мне и обжаловать!
— Для них самый главный в Прохоровке — управляющий. Директор далеко, да и высоко…
— С каких пор директор совхоза стал чем-то вроде китайского богдыхана? Ну а Сибирцев что?
— Разводит руками. Поспешил, дескать, взял на веру. Его тоже трудно винить. Ошибка пошла от заведующего фермой. Вот кого следует наказать за невнимательность.
— Нда-а-а, — Степан Артемьевич недовольно покачал головой, а потом сказал: — Спасибо вам за труды. Но вы все же напишите мне докладную.
Лисицын в приказе объявил управляющему и заведующему фермой по выговору, а дояркам распорядился выдать положенную премию. Лисицын на всякий случай спросил Яшину, не предвидится ли еще какой-нибудь святой праздник, — он теперь опасался всяких подвохов. Яшина ответила, что точно не знает, но если уж очень надо, то попытается сходить к старухам, заглянуть в святцы…
Лисицын, не уловив иронии, спросил:
— Вы это серьезно? — Он рассмеялся: — Черт знает что… Еще того не хватало — жить по святцам!
Степан Артемьевич вызвал Ступникова.
— Почему так плохо поставлена контрольно-ревизионная работа? — спросил он как можно строже.
— Не успели, Степан Артемьевич, провести квартальную ревизию. Сейчас пошлю туда человека все проверить.
— Надо успевать! — сухо отрезал Лисицын.
Уже поздно вечером дома, за стаканом чая, Степан Артемьевич подумал: если бы он поехал в Прохоровку с Яшиной, то, наверняка, будучи взвинчен, со всем пылом накинулся бы на доярок, принялся бы их воспитывать, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Не зная истинной причины конфликта, он попал бы в неловкое положение. Яшина, отговорив его от поездки, поступила осмотрительно. Теперь он даже был доволен ею: «Надо будет почаще с ней советоваться. Женщина дальновидная, толковая».
Он долго ходил по квартире, в пижаме и вельветовых шлепанцах, и половицы пели под его ногами. Он все ждал звонка жены, но Лиза в тот вечер не позвонила. «Наверное, из-за больной матери не может прийти на междугородную», — решил он.
Перед тем как лечь спать, он выключил свет, подошел к окну и посмотрел на улицу. Прямо под окнами — серая дорога с глубокими, подсохшими, тоже серыми колеями от автомобильных колес, за ней — старая береза с ветвями длинными, точно нити, унизанными зеленью листьев. Ветер все тянул с северо-запада. Холодный и довольно сильный для такого позднего часа, он трепал ветки, и они то вытягивались к изгороди, то опадали к земле, и снова под ударами ветра тянулись к пряслу, и опять свешивались вниз.
За березой — лужайка, серо-зеленая в сумеречности еще довольно светлой, хотя и облачной ночи. Дальше рядком — избы. В одной светилось окно, и перед ним росла рябинка, и ее тоже тормошил ветер. Ветки рябинки гибкие. Узорчатые листья ее дрожали на ветру, тянулись к окошку, но вниз, как у березы, не опускались.
Видимо, погода не изменится. Холодный Северо-Восток по-прежнему натаскивал непроглядно серые заполярные облака. Они закрывали все небо сплошной вязкой массой. С солнцем Борок, кажется, простился навсегда.
«В субботу, пожалуй, съезжу навещу Лизу и больную тещу, — решил Степан Артемьевич. — Нехорошо как-то получается, будто я для них чужой».
Он теперь уже не мечтал о туристской поездке. Какое там! Дел невпроворот, теща в опасном положении. Придется позвонить Вострякову и отказаться, пусть едут другие. А не хотелось бы отказываться. Черт побери, неужели я не заслужил того, чтобы поехать развеяться, стряхнуть с себя груз обыденности! Возьму и поеду…
Тут он снова начал сомневаться в возможности поездки, но все же решил: «Ладно, чуток подожду с ответом».
Лисицын опять посмотрел на березу, которую с бесцеремонной настойчивостью терзал ветер, и ему показалось, что он слышит шум листьев — тихий, вкрадчивый, размеренный. Вспомнилось ему сказочное драконово дерево где-то на Канарских островах, то, что живет три тысячи лет. «Почему драконово? Надо бы задать такой вопрос Чикину Он бы порылся в справочниках и нашел ответ…»
Мысли его вдруг легко и крылато унеслись далеко-далеко, к неведомым ему Канарским островам, что в Южной Атлантике. Океан накатывал на живописный скалистый берег грохочущие валы, в полосе прибоя с шумом и треском перекатывалась и терлась друг о друга гладкая, старательно отшлифованная морем галька. Среди непомерной тяжести воды она казалась очень легкой и разлеталась, вырвавшись из валов, во все стороны, как горох из перезревших стручков. Чайки кружились над побережьем — то парили над волнами, то внезапно ложились на крыло и косо пикировали к воде. Коснувшись волн кончиками острых перьев, они снова взмывали вверх. И что-то кричали звонко, пронзительно. А выше, по склону горы, берег поднимался террасами с ярко-зеленой растительностью. Там, должно быть, зрели виноградники, росли пальмы, кусты и те самые драконовы деревья. И среди деревьев гнездились диковинные птицы с ярким оперением. Кое-где на склонах гор виднелись белокаменные домики с черепичными крышами. И над океаном, над скалистым берегом с террасами небо было ясным, безоблачным, и в нем спускалось к горизонту, прощаясь с морем, как поется в старинном танго, «утомленное солнце…». Оно прощалось с морем и берегом до утра, и, пока оно не зашло, теплый свет от него струился на поверхность океана, на берег, на зелень, на домики. Искрами вспыхивали капли воды, стекавшие с острых чаячьих крыльев. Все кругом казалось необыкновенно прекрасным. Там, должно быть, живут счастливые, спокойные люди, трудолюбивые, добрые, не ведающие ни вражды, ни войн, ни зависти, ни неприязни к ближнему. Простые люди — везде люди, думал Степан Артемьевич. На земном шаре, на самом маленьком клочке земли. И надо им немного: мирное небо над головой, возможность благополучно жить, работать, растить детей, покоить старость. Там вечерами из поселка с белостенными домиками доносятся звон гитары, сухой треск кастаньет. И, конечно, женский голос, взволнованный и страстный. Немножко гортанный, этакий с милыми рокочущими переливами, с очаровательной картавинкой. Женщина поет, и все, в том числе и птицы, ее слушают, притаившись…
«Что и говорить! Вот как может разыграться воображение, какую картину ты себе нарисовал!.. Как это называется? Кажется, пейзанство?..» — улыбнулся Степан Артемьевич своим мыслям.
Он еще раз посмотрел в окно. Ветер все так же тормошил старую березу, и она тянулась тонкими ветками к пряслу изгороди…
Он опять прошелся по пустым комнатам, выпил воды и лег на кровать. Спалось ему в ту ночь плохо, несколько раз он просыпался от безотчетной тревоги.
Утром Степан Артемьевич собрал своих работников на экстренную планерку, чтобы решить, как быть с сенокосом. Тракторные косилки настригли уйму травы, она лежала в рядках. Но погода не позволяла пускать в ход подборщики-стогователи, трава подвяливалась, сохла медленно. И, хоть и редко, перепадали мелкие дожди. Этак можно загубить хорошие корма. Решили на время прервать сенокос и заняться силосованием. Управляющие отделениями и специалисты разошлись по участкам. Степан Артемьевич хотел было ехать в луга к механизаторам, но тут ему принесли телеграмму: «Мама скончалась. Приезжай. Потребуются деньги на расходы».
Заместитель директора Скорняков еще весной уехал учиться на девятимесячные курсы, и Степан Артемьевич во время отлучек обычно оставлял за себя главного зоотехника Яшину. Он послал за ней. Когда Яшина пришла, сообщил, в чем дело, и побежал в сберкассу снять со счета денег. Потом, положив в портфель кое-что в дорогу, расстроенный и немного растерянный помчался на машине на пристань к очередному рейсу «Ракеты». Часа через полтора он уже был в областном центре.
Глава четвертая
1
У Трофима Спицына все в жизни было взвешено и рассчитано, и всегда он добивался намеченной цели, ничего не делая зря. Сейчас он хотел накопить денег и приобрести «Жигули». Казалось бы, для чего ему автомобиль? Ездить вроде бы и некуда. Но Трофим слышал, что рано или поздно в Борок проложат дорогу от шоссе на Архангельск, и тогда можно будет возить на городской рынок продукты своего хозяйства — свинину, картошку, овощи и делать деньги. Катер «Прогресс» он собирался заменить новым, с более сильным мотором, чтобы заготовлять сено на дальних островах, собирать, где плохо лежит, лес-плавник, потихоньку продавать его тем, кто менее находчив, а более совестлив, кому надо строиться или ремонтировать дом и запасать на зиму дрова.
Сегодня он поднялся, как всегда, в шесть утра. Припечатывая крепкими пятками холодный крашеный пол и почесывая выпуклую волосатую грудь, лохматый, длиннорукий, словно лесовик, он подошел к окну, откинул занавеску и выглянул на улицу. Там было пасмурно, облачно. Зевнув, Трофим пошел во двор умываться, где у него, на столбе был прилажен бачок с водой и шлангом. Скинув нательную рубаху, вымылся до пояса, вытерся полотенцем и пошел завтракать.
После завтрака он помогал Марфе кормить свиней, пустил пастись на веревке козу, привязав ее к колышку. Затем пошел в сарай и принялся стругать рубанком косяк для кухонного окна, затеяв небольшой ремонт.
Так каждый день до восьми утра, до выхода на совхозную работу, он успевал немало сделать по дому.
Марфа была ему бесценной помощницей. Крепкая, широкая в кости, с большими жилистыми руками и некрасивым грубым лицом, она словно была создана для повседневных домашних дел. Содержала избу и всю усадьбу в полном порядке, целыми днями копалась на огороде, и каждое распоряжение Трофима понимала с полуслова.
Раньше Марфа жила со старухой матерью в своей избе. Когда мать умерла и она осталась одна, Трофим посоветовал ей продать избу, деньги положить к сберкассу и жить у него. «Скучно тебе одной. Живи у меня. Вдвоем веселее», — сказал он, и Марфа согласилась. С тех пор они и живут вместе. Трофим — хозяин, она у него вроде работницы. Но он не обижал ее, не попрекал куском хлеба, был обходителен, а порой даже и побаивался своей домоправительницы: очень уж хмур и недобр у нее взгляд, а кулаки покрепче, чем у иного мужика. Марфа не любила пьяных, и, если Трофим иной раз напивался, бесцеремонно заталкивала его в угол за печью на тюфяк, брошенный прямо на пол, и приказывала: «Спи!» В горницу его в таком виде на кровать не пускала. Сама спала зимой и летом на кухне, на русской печи.
Строгая была женщина, старообрядческого склада.
Соседи, думая, что Трофим взял Марфу себе в сожительницы, злословили: «Нашел красавицу писаную! По деревне идет — собаки лают, в окошко выглянет — лошади шарахаются!» А когда он стал похаживать к Прихожаевой, говорили: «Марфа у него для буден, а Сонька — для праздников». Но как-то прознав, что никакой близости у Трофима с Марфой быть не могло, оставили его в покое.
По утрам и вечерам Трофим возился у моторки, чинил и подновлял избу, начал пристраивать к ней вместо крыльца застекленную веранду. Он собирался устроить на огороде нечто вроде теплицы для огурцов и помидоров.
Обычно он брал двух поросят. Один теперь уже набрал вес и в конце лета будет забит. Второго, четырехмесячного, кабана он намеревался держать до поздней осени. Туговато было с кормом, но оборотистый Трофим доставал у знакомого кладовщика орса заречной сплавной конторы отруби, использовал картошку со своего огорода и остатки от стола.
Была у него еще маленькая «статья» дохода. Он подбирал то, что валялось на улице, в полях, возле мастерских и скотных дворов, то, что было выброшено или по нерадению потеряно другими: детали к сельскохозяйственным машинам — втулки, ржавые шестерни, подшипники, ножи от косилок, фасонное погнутое железо, трубы, прутья, мотки проводов, обрывки стальных тросов, канистры из-под бензина, дырявые, но при нужде еще пригодные автомобильные и велосипедные камеры. Все это он складывал в дощатой пристройке к сараю, на досуге приводил в порядок, чистил наждачной бумагой, запаивал, подкрашивал, смазывал маслом, склеивал резиновые камеры. И получалось, что иной сосед в поисках нужной детали, когда-то нерасчетливо выброшенной или потерянной, находил ее в пристройке Трофима обновленной и брал, конечно, не безвозмездно, а по устойчивой таксе — «за бутылку». Трофим посмеивался:
— Вот ведь выкинули! А я подобрал — и опять сгодилось. Что бы вы, охламоны, стали делать без меня?
Спиртное в натуре он не брал, предпочитал деньги.
В одном Трофим допустил просчет. Прежде он думал, что вполне может прожить без постоянной работы в совхозе. Когда он организовался, поначалу заработки рабочих были невысокими, и он махнул на совхоз рукой: «Не буду ишачить на дядю, так проживу». Но шло время, совхоз креп, зарплата увеличилась, пошли премиальные, и он понял, что много теряет, не участвуя в общественном труде. На него уже и посматривали косо: дескать, живет как единоличник.
Трофим пошел помогать механизаторам в ремонте техники. Всего, кажется, он достиг в жизни. Была у него и любушка — Софья. Отношения с нею целиком зависели от неуравновешенности ее характера, но почти всегда терпеливый и настойчивый Трофим одерживал верх. «Покуражится — перестанет. Заскучает — придет ко мне. Баба молодая, без мужика ей трудно обойтись…» — самоуверенно думал он. Так чаще всего и получалось.
Трофим приходил к ней всегда с вином, потому что знал: выпив, Софья становится податливей… Софья незаметно для себя привыкла к коварному зелью, а Трофим был хитер и откровенно лицемерил, говоря, что ей можно выпивать дома для «настроения», самую малость вместе с ним. Прихожаева все больше втягивалась в это тихое и умеренное пьянство и становилась безвольной. Водка упрощала взаимоотношения, делала легко осуществимыми желания. Трофим не чувствовал угрызений совести: «Так заведено», — считал он.
Софья поначалу вовсе не думала, что эти выпивки с «дролей» могут плохо кончиться, ведь он предостерегал ее от пьянства на стороне, на людях. Поняла она это в тот вечер, когда произошла размолвка, и она бесцеремонно выдворила Трофима из избы.
Ей стало ясно, что Трофим подчинил себе ее характер и волю с помощью вина. От него, от этого зелья, легкость в мыслях и покладистость. Ее все сильнее тянуло к рюмке, и ей стало страшно: ведь многих это приводило к печальному концу…
Для Трофима Софья — только забава, он не собирается на ней жениться, да и сама она не думала выходить за него замуж. Тем более, что развод с прежним мужем еще не был оформлен. На трезвую голову Трофим ей совсем не нравился. Она сошлась с ним случайно и теперь, проводя угарные ночи, а потом трезвея, все больше убеждалась в этом. Она уже стала замечать, чего прежде не замечала: Трофим — грубый, черствый, не очень опрятный человек, руки у него не очень чистые, волосы сальные, а глаза недобрые, колючие. Он скуп, прижимист, расчетлив, в голове у него только мечты о деньгах и машине…
2
После работы у Софьи оставалось много свободного времени. Она старательно пропалывала свой огород, окучивала картошку, прибиралась в избе. Потом сидела у телевизора или шла на улицу прогуляться.
Близких подруг у нее не было, зайти вечерком на чашку чая, поговорить было почти что и не с кем. Все ее сверстницы разъехались по городам. Сплетничать да пересуживать с бабами, собиравшимися на крылечке магазина, она не любила.
Последнее время от скуки она стала посещать кино, но и там ей не сиделось в тесноватом, душном зале. Молодежь три раза в неделю собиралась в клубе на танцы, но она на них не ходила — не тот возраст. Там под электропроигрыватель с громадными черными колонками парни и девушки отплясывали с какими-то непонятными ей подпрыгиваниями, подергиваниями и ужимками современные ритмы, к которым Софья была совсем равнодушна.
Ей больше нравилось гулять по улице поздно вечером, в она подолгу тихонько бродила из конца в конец села, вволю наслаждаясь вечерней тишиной и чистым, свежим воздухом.
О Трофиме Софья старалась не думать. Он тоже не появлялся, не шел на сближение, и она тому была рада. Трофим совсем разонравился ей. Да и нравился ли?
Однажды к Софье зашла Глафира Гашева, ее бригадирша.
— Ну как живем, что поделываем? — спросила она, садясь на лавку.
Софья ответила, что живет хорошо, а дел особых, кроме фермы, у нее почти что и нет.
— Нынче у нас ни скотины в хозяйстве, ни обряжанья. Никаких забот. Живем как городские барыни… Ты хоть в своей избе, а мы с Николаем и вовсе на городской манер в двухкомнатной квартирешке. Подумываем, не перейти ли в свою старую избу на Горке да не завести ли корову? Все было бы дело… Знаешь, Соня. У тебя ведь отец, кажется, был сапожником? — спросила Гашева.
— Сапожником.
— Не найдется ли в твоем хозяйстве этакого приспособления для ремонта обуви — называется сапожная «лапа»?
— «Лапа»? Что это, не помню…
— Ну, такая железная закорюка на палке. Ее засовывают в сапог, чтобы удобнее было гвозди забивать в подметку.
— А, поняла. Сейчас поищу в чулане, — сказала Софья. — Пойдем вместе, поищем.
Они долго рылись среди хлама в полутемном чулане. Наконец нашли то, что было нужно, и вернулись в избу.
— Посиди, я чаем тебя напою, — предложила Софья.
— Чаем? Пожалуй.
За чаем Глафира спросила:
— У тебя какое образование? Учиться дальше не думаешь?
— Кончила восьмилетку, — ответила Софья. — А в техникум не поехала — мама шибко болела. Батя умер, ее одну я оставить не могла. Потому и ограничилась восемью классами.
— Маловато по нынешним временам.
— Для доярки хватит, — небрежно сказала Софья.
— Ну это как сказать, — Гашева подвинула хозяйке пустую чашку: — Налей еще. Вкусный у тебя чай.
Гашева пила чай вприкуску, аппетитно, старательно дуя на горячий ароматный напиток. Широкоскулое, доброе лицо ее раскраснелось, над верхней губой выступили бисеринки пота. Гашева достала платочек, утерла лицо и посмотрела на Софью совсем уж подобревшим взглядом.
— Так вот, об образовании, — продолжала она. — Доярка — это название нашей профессии по старинке, в деревенском обиходе. По науке эта специальность теперь называется оператор машинного доения. Оператор! — Гашева многозначительно подняла руку с вытянутым пальцем. — Поняла?
— Слыхала — оператор.
— Фермы у нас пока обычные. Но Лисицын говорил, что в скором времени на них будет полная механизация и потребуются работники высокого разряда с дипломами. А у тебя только восьмилетка.
— Но кое-какой опыт ведь есть, — сказала Софья.
— Опыт — хорошо. А знания?
— Мне учиться теперь поздно.
— А сколько тебе лет?
— Двадцать восемь.
— Что за возраст! — Гашева рассмеялась, всплеснув руками. — Мне бы двадцать восемь — далеко бы пошла! Валяй-ка в техникум на заочное. Выучишься — меня заменишь. Мне уж скоро на пенсию.
— Скажете тоже, — смутилась Софья. О бригадирстве она и не помышляла.
— Я говорю дело, — прищурив серые, с раскосинкой глаза, Гашева посмотрела на Софью пытливо.
Та задумалась, неуверенно покачала головой:
— Не гожусь я в бригадиры. Авторитет не тот.
— Авторитет — дело наживное. А доярка ты хорошая, руки проворные, смекалка есть. И животных любишь. Я примечала: ласкаешь своих буренок. Еще тебе не мешало бы немножко поумнеть да полюбить людей.
Это было сказано мягко, как бы вскользь, вовсе не нравоучительно, но Софья обиделась:
— А я не люблю, что ли?
— Ты не обижайся, Соня. Примечаю я: дичишься ты, сторонишься людей. Только иногда за рюмочкой, за столом раскроешься, а так все одна и все молчишь. Эх, Соня, когда у человека на душе что-то неладно, так он в себе замыкается, — тут в голосе Гашевой появились и нравоучительные нотки. — Ты ведь еще молода, пригожа, здорова. Что тебе грустить? Живи только правильно.
— Я, что ли, неправильно живу?
— Я этого не сказала. Всяк сам себе судья. Однако нашей сестре надо помнить о женской гордости да достоинстве и нести голову высоко… Уметь выбирать надо. Любить не всякую шушеру, а человека достойного. Прости меня, это я тебе с глазу на глаз. Только между нами…
Софья нахмурилась, поняв намек Гашевой, на душе у нее стало муторно.
— Муж-то твой совсем уехал? Развелись вы с ним?
— Пока не развелись, — Софья опустила взгляд, спрятав глаза под ресницами. — Но живем врозь. Я за ним не побегу. Пусть не рассчитывает.
— Что поделаешь, у многих семейная жизнь не сложилась. Такое бывает сплошь и рядом. Может, еще наладятся у вас отношения? Время, говорят, — лучший лекарь. Давай не горюй. Отмети от себя все лишнее, дурное, что тянет в сторону. И насчет учебы подумай. Спасибо за «лапу». Николай у меня стал чинить сапоги, что-то у него не заладилось, он и послал меня по избам искать эту железную закорюку… Ну, прощевай.
Софья подошла к открытому окну. Направляясь к калитке, Гашева обернулась и сказала:
— За чай спасибо! Еще как-нибудь приду побаловаться жареной водичкой. И ты ко мне приходи.
Софья села за стол к остывшему чайнику и задумалась. Глафира Гашева оставила после себя в избе теплинку.
«Это хорошо, что бригадирша зашла ко мне и поговорила в открытую по душам, — думала Софья. — Учиться советует. И в самом деле, не поступить ли в зооветеринарный или сельскохозяйственный техникум?»
И в то же время бригадирша затронула ее больное место, так прозрачно намекнув на связь с Трофимом. «Чего это она в душу мне лезет? Воспитывать принялась: как жить да с кем водиться. А есть ли у нее на это право? Каждый волен жить как хочет». Самолюбие взыграло в Софьиной голове. Но тут же она подумала: Гашева, пожалуй, права.
3
Похоронив мать, они недолго побыли в опустевшей квартире. Весь вечер Лиза приводила все в порядок в комнатах и на кухне после похорон и поминок. Она плакала тихонько, как бы украдкой, и почти не смотрела на мужа, будто его вовсе и не было. Степан Артемьевич, как мог, помогал ей и, понимая состояние Лизы, больше молчал. Работая в совхозе, он довольно редко бывал в городе, но всякий раз, приехав сюда по делам, непременно навещал Анну Павловну и ночевал у нее. Она была неизменно приветлива и добра, расспрашивала его о сельской жизни, о том, не очень ли трудно руководить хозяйством и хорошие ли там работники. Степан Артемьевич улавливал в этих вопросах и другое — она хотела выяснить, в каких условиях находится дочь и дружны ли молодые между собой.
Убедившись, что у них все в порядке, Анна Павловна успокаивалась, гостеприимно угощала его ужином, стелила ему помягче и ставила у изголовья ночник, зная его привычку читать перед сном.
Она собиралась приехать в Борок, посмотреть, как они живут, но так и не собралась. Степан Артемьевич теперь упрекал себя в том, что все же мало заботился о теще, откладывал это «на потом». И вот это «потом» не состоялось.
Перед тем как уехать в Борок, Лиза села у стола, покрытого тканой гобеленовой скатертью с кистями, и сказала:
— Я здесь прописана. Квартиру сдавать в жэк не хотелось бы. Может, еще сюда придется вернуться… Не стану пока выписываться.
Степан Артемьевич не знал, что посоветовать в этом случае. Сказать, чтобы Лиза выписалась из квартиры и сдала ее, он не мог — боялся обидеть жену. Сам он о переезде в город не помышлял, он теперь окончательно влез в дела борковского совхоза. Подумав, что Лиза, находясь в расстроенных чувствах, не может вот так сразу расстаться с родным домом, он решил: «Ладно, подожду. Время покажет, как быть». И ответил уклончиво:
— Как знаешь, Лизок. Но не будем торопиться с этим.
— Мне так не хочется расставаться с домом, — продолжала Лиза. — Здесь я выросла, тут у меня все, что я имела в жизни. Кроме тебя, конечно…
— Я это понимаю. Ну что же, поедем? — мягко сказал он, проверив на кухне водопроводные краны и перекрыв газ.
— Придется ехать, — вздохнула Лиза. Увидев на комоде портрет матери, взяла его и спрятала в сумочку. Они заперли дверь, оставили ключ соседке, попросив ее присмотреть за квартирой, и пошли на трамвайную остановку.
Едва они сели на мягкое сиденье в салоне «Ракеты», Лиза, бесконечно усталая, изнервничавшаяся, припала головой к его плечу и задремала. Так она и спала всю дорогу до Борка, а он боялся пошевельнуться, чтобы не вспугнуть этот облегчающий сон.
Он сидел в одном положении, приклонив голову к ее голове, повязанной черным, траурным платком, и думал о жизни, в которой со смертью тещи что-то могло измениться. Но что именно и как измениться — не знал. А может, вовсе и не будет никаких перемен?
И еще он думал об отце Лизы. Где он, жив или нет? Отца у нее, можно сказать, и не было вовсе. То есть он был и как бы не был… О нем Лиза никогда подробно не рассказывала. Из случайных, очень сдержанных, разговоров Степан Артемьевич понял, что Лиза была внебрачной дочерью какого-то моряка, который неизвестно где и как живет. Во всяком случае, этот отец, вероятно, забыл, что у него есть дочь, а быть может, даже и не знал об этом. Только так мог объяснить Степан Артемьевич отсутствие отца Лизы на похоронах. Эта сторона жизни Лизы была скрыта от него, и он чувствовал, что она полна огорчений, быть может, и драматизма. Наверное, она влияет и на характер жены. Но он не расспрашивал Лизу ни о чем, боясь, что это будет неуместным и бестактным. «Всё выяснится, — решил он. — Бог с ним, с отцом. Какое мне до него дело! Важно, что Лиза со мной и я люблю ее».
В два часа дня они сошли с теплохода и направились домой. Степан Артемьевич за хлопотами не успел позвонить в совхоз, вызвать машину, и никто их не встретил. Лиза не обиделась на это и предложила пройти пешком, «как в первый раз».
По узкой тропинке, протоптанной пассажирами через заливной луг, и дальше картофельным полем они шли в Борок. Лиза вспоминала, как было здесь три года назад, после их свадьбы. Все тогда казалось для нее непривычно новым, она вырвалась из тесноты и сутолоки большого города на природу. Тогда дул теплый ветер, светило солнце, спокойные облака плыли в голубом небе. А сегодня — небо сплошь в серых тучах, холодный ветер треплет метлицу на обочине и белые ромашки в низинке. На лугу, видимо, недавно работала косилка, трава лежала в рядках и подозрительно темнела. Степан Артемьевич взял горсть недосохшего сена, мягкого и вялого. Оно начинало буреть, Степан Артемьевич вздохнул с видимой досадой.
— Ты чем-то огорчен? — спросила Лиза.
— Солнца нет, сено не сохнет, совсем испортится. Надо бы ворошить почаще, да без меня тут не распорядились.
— Ничего, высохнет, — успокоила она. — Ведь еще только середина июля.
— В погожие дни для сушки надо совсем немного времени. А теперь… Одним словом — сеногной. Есть такое слово в сельском лексиконе.
— Что же делать?
— Надо нажимать на силос.
Степан Артемьевич еще раз осмотрел луг, выкошенный примерно наполовину. Остальная трава стояла нетронутой. Силосные культуры были посеяны на соседнем поле. Он попросил жену подождать и поднялся на взгорок. Оттуда увидел издали тракторную силосорезку и грузовик. Машины медленно двигались по участку. Степан Артемьевич вернулся к жене.
— Силосуют, — сказал он облегченно.
— Ну вот, а ты переживал. — Лиза взяла его за руку, и они пошли дальше.
Опять гора, высокая-высокая… Они взбирались по ней к Борку с передышкой. Степан Артемьевич заметил:
— Природа здесь с размахом, Если луг — так на три версты, а гора, так впору альпинистам на нее взбираться. А простор какой!
Лиза окинула взглядом окрестность:
— Да, здесь воздуха много, видно далеко…
И вот опять они в своей маленькой уютной квартире. Правда, совхозные строители похвастаться отделкой не могли: половицы уже рассыхались, краска на косяках кое-где облупилась. Но все же это был дом. Лиза сразу принялась мыть посуду, в ее отсутствие Степан Артемьевич складывал тарелки в раковину, их накопилась целая груда. Горячей воды не было, пришлось пустить в ход мыло и соду. Степан Артемьевич повинился:
— Прости, что у меня накопилось столько немытых тарелок.
— Меня это не удивляет. Ты ведь мужчина. К тому же директор. Это звучит: ди-рек-тор! — с ласковой иронией сказала Лиза, впервые за эти дни рассмеялась, и Степан Артемьевич порадовался веселой минутке.
— Ну, положим, вымыть посуду я бы мог без труда. До меня это как-то не дошло. Некогда было. Впрочем, я не оправдываюсь.
— Хорошая черта характера — не оправдываться, будучи виноватым. А чай-сахар у тебя есть? А что мы будем варить на обед?
— Чай и сахар есть. Были еще яйца, только недельной давности.
— Посмотрим, — сказала Лиза. — Сходил бы ты еще в лавочку, купил чего-нибудь съестного.
Он взял хозяйственную сумку и отправился за покупками.
Вечером они смотрели телевизионный фильм. Какую-то легкомысленную оперетку, с танцами, шампанским, поцелуйчиками и интрижкой. Но Лисицыных оперетка не веселила.
Выключили телевизионный приемник, в квартире стало тихо. Лиза устроилась на диване, подобрав ноги. Степан Артемьевич сел поближе к жене. Хотелось обнять ее.
4
Пока Лисицын ездил на похороны, Яшина старательно трудилась за него. Из нее, наверное, получился бы неплохой директор. Однако она все же чувствовала беспокойство: кабинетная работа мешала ей как следует следить за качеством сеноуборки. В отделениях совхоза работали участковые зоотехники, Ангелина Михайловна им доверила, но свой глаз надежнее. Участковые — молодые девчата, недавние выпускницы техникума, еще были неопытны, а механизаторы гнались за выработкой и не всегда и не во всем были аккуратны. Потому Яшина и волновалась.
Вечерами она, выполняя поручение Лисицына, занималась оценкой полей, лугов и пастбищ и расчетами по животноводству. По всему выходило, что комплекс хозяйству пока не по плечу, сомневалась она и в возможности тысячной прибавки в надоях. В ближайшее время возможно поднять годовой надой на буренку только на четыреста — пятьсот литров. Управляющие отделениями и бригадиры-животноводы, с которыми она советовалась, подтверждали ее прогнозы.
Когда Лисицын появился в конторе, Яшина обрадовалась, и глаза ее засветились.
— Я уж тут совсем было запарилась, — сказала она. — Сиди да пиши… От посетителей отбоя нет. Ваше кресло подобно мощному электромагниту, — притянет — не оторвешься…
— Что верно, то верно, — согласился Степан Артемьевич. — Но привыкайте. Когда-нибудь станете и директором.
— Нет уж, спасибочки. Это не для меня, — полушутя ответила Яшина. И тут же высказала опасение, что недосохшую скошенную траву нельзя ни прессовать, ни стоговать, — солнца совсем нет. Сено не сохнет.
— А если пустить то, что скошено, на сенаж? — предложил Лисицын.
— По-моему трава слишком влажная. Я поеду в луга и проверю. И вот, Степан Артемьевич, то, что вы просили, — она положила перед ним папку с расчетами.
Лисицын стал неторопливо их просматривать, прочел изложенные главным зоотехником выводы и спросил:
— Значит, с комплексом у нас не выйдет?
— Да. И за год-два удои возможно поднять только на четыреста — пятьсот кило.
— Спасибо за столь кропотливый труд. Я хорошенько ознакомлюсь с вашими расчетами, — сказал Степан Артемьевич.
На улице громыхнул автомобильный мотор, заскрипели тормоза. Лисицын увидел в окно, что подошел грузовик с фургоном, покрашенным зеленой краской. В кабинет тотчас вбежал маленький, шустрый Сергей Герасимович. Он поздоровался и накинулся на супругу:
— Черт побери! Будешь ты кормить меня обедом или нет? За три дня ее диктаторства, — он уже теперь обратился к Лисицыну, — представьте, за три эти дня она ни разу не сварила домашних щей! Дети питаются всухомятку, я бегаю в столовку. А знаете, как у нас в столовке… Сегодня-то хоть накормишь обедом?
— Сегодня обеда тоже не будет. Еду на покосы, — ответила Ангелина Михайловна. — А ужин, так и быть, приготовлю.
— Зачем же тогда жена? — Челпанов развел руками, темными от машинного масла и металла. — Я с утра в мастерских вкалывал, а обеда не предвидится. Видали? Степан Артемьевич, скажу вам, что образованная жена, синий чулок, для нашего брата сущее бедствие!
— Успокойтесь, — посмеиваясь, ответил Лисицын. — Я более недели питался в столовке и, как видите, жив. Ничего не случилось.
— Выгораживаете своего зоотехника! — Челпанов снял кепку, пригладил ладонью рассыпавшиеся волосы, глянул на жену уныло и вдруг перешел на деловой тон: — Степан Артемьевич, мы оборудовали автолетучку для ремонта техники в полевых условиях. Все готово, можете посмотреть.
— Давайте посмотрим.
В фургоне автомобиля, который стоял перед окнами, имелось все необходимое для «скорой помощи» совхозным механизаторам: сверлильный станок, слесарные тиски, наборы инструментов и запасных частей. Не хватало только токарного станка, но его на машине не установишь — громоздок и тяжел.
— Токарные работы будем выполнять в мастерских. Ну как, хороша летучка? Сейчас мы ее опробуем в деле. Во втором отделении поломалась передача у силосоуборочного комбайна. Едем!
Челпанов сел в кабину, захлопнул дверцу, и машина ушла. Яшина отправилась по своим делам, а Лисицын вернулся в контору.
Стараясь сосредоточиться, он несколько минут сидел неподвижно, поглядывая на папку, оставленную Яшиной, будто в ней таилось нечто такое, что могло испортить ему настроение.
В кабинет вошел Новинцев. Он поздоровался, выразил соболезнование по поводу смерти тещи, а потом сразу ввел Лисицына в привычный деловой круговорот:
— Нам с тобой через три дня ехать на пленум. Не забыл?
— Как? Я этого не знал.
— Ну как же не знал? Разве Яшина тебе не сказала?
— Нет.
— Было письмо из райкома. Она, верно, зашилась и забыла тебе сообщить.
Лисицын открыл папку с надписью «К докладу» и стал перебирать бумаги
— Вот, есть, — сказал он и прочел вслух:
«Члену КПСС, директору совхоза «Борок»
тов. ЛИСИЦЫНУ С.А.
14 июля с. г. состоится пленум Чекановского РК КПСС с вопросом: «Ближайшие перспективы развития животноводства в колхозах, совхозах, в подсобных хозяйствах района».
Приглашаем Вас принять участие в работе пленума. Приготовьте обоснованные расчеты и предложения по увеличению поголовья и продуктивности скота в вашем совхозе.
Секретарь райкома КПСС Г. ПОЗДНЯКОВ».
Лисицын положил письмо в папку. Новинцев напомнил ему:
— Не забудьте о расчетах и предложениях.
— Они готовы, — Степан Артемьевич подал ему папку Яшиной.
— Как, уже? — удивился парторг.
— Работаем! — с напускной деловитостью ответил Лисицын. — Надо знать о намерениях начальства и уметь опережать события.
— Ну ты даешь! — одобрительно промолвил Новинцев и стал просматривать расчеты.
— Не радуйся, Иван Васильевич. В той папке утешительного мало. Не знаю, насколько права Яшина, но хвалиться особенно нечем. Надо это дело нам обсудить.
— Дай мне цифирь на вечерок. Разберусь
— Сегодня не дам. Сам буду изучать. Завтра возьмешь. Дай-ка еще взглянуть…
Новинцев вернул ему папку, Степан Артемьевич, еще раз просмотрев записи зоотехника, сказал:
— Яшина упустила из вида залежи в Залесье, поля бывшего колхоза. Расчет кормовой базы она сделала только по площадям, находящимся сейчас в хозяйственном обороте.
— Там деревня заброшена, поля вокруг заросли кустарником.
— Нам все равно придется их разрабатывать. К тому дело идет, — размышлял Степан Артемьевич. — Пленум через три дня, время еще есть. Завтра поеду и посмотрю там земли. Хочешь съездить?
— Конечно, — ответил Новинцев. — Кстати, о том чепе в Прохоровке. Я в твое отсутствие съездил туда, провел открытое партийное собрание с вопросом о трудовой дисциплине. Выяснилось: случай для отделения Сибирцева нехарактерный. Конфликт возник из-за ошибки в учете. Но поговорили как следует, по душам.
— Это ладно, — одобрил Лисицын. — Наверное, теперь там дисциплина поднялась на недосягаемую высоту!
— Все иронизируешь, друг мой. Ну что ж… Надо теперь нажать на заготовку кормов. Сводку поправить, сводку! В районе мы отнюдь не на первом месте.
— Погода подводит, — с сожалением вздохнул Лисицын.
Они еще долго обсуждали всякие неотложные дела и не заметили, как внезапно в кабинете потемнело. Начавшийся дождик забарабанил по подоконнику, по стеклам змейками потекли струйки воды. Дождик был с ветром, а вскоре застучал и град… Новинцев выглянул на улицу, Там все было как бы окутано белым дымком от града с дождем, словно начинался пожар и дым обволакивал улицу и дома, но огонь находился еще где-то в глубине, не прорезался. Новинцев сказал:
— Еще этого не хватало, чтобы и град на наши бедные головы.
— Теперь весь график опять к черту…
К вечеру небо прояснилось. На западе долго горела чистая и красивая вечерняя заря. Солнце садилось в безоблачные, спокойные дали, и Лисицын, идя домой, с надеждой подумал, что завтра будет хороший день. Но еще предстояла ночь. А она принесла боровчанам новое испытание: ветер сменился, подул сиверко, и под утро выпал иней. Все на полях и огородах поблекло, поседатело. Картофельная ботва пожухла.
Одним словом, високосный год…
Еремей Кузьмич в старинных книгах нашел подходящий случаю пример из прошлого. Подобная аномалия случалась в здешних местах. Летопись рассказывала:
«…А страда была сенная вельми дождлива и протяжна за неустроением воздуха, а хлеб яровой и рожь самое малое число, что жали, и то для толченины, а протчее косили и скоту кормили, и под снег пошло не малое число, и всякие плоды земные не родились. Многие деревенские люди для прокормления брели в верховские города».
1695 год. Времена правления на Двине воеводы Федора Матвеевича Апраксина…
Такую историческую справку Чикин хотел дать Лисицыну, но, поразмыслив, воздержался. Вряд ли она утешит директора.
5
Путь в Залесье лежал через владения Сибирцева, и они сначала заглянули в Прохоровку. Опрятная, чистая деревенька в полсотни домов располагалась на взгорке, примыкая с севера к ельнику, с юга — к берегу Лаймы. Дома стояли по обе стороны подсыпанного гравием большака. Прохоровка славилась богатой зеленью. Еще в старые годы здесь было посажено много берез, теперь они разрослись, стояли рядами, разделяя крестьянские усадьбы. В случае пожара деревья препятствовали бы огню перекинуться на соседний дом.
Прохоровка обновлялась, обустраивалась. Взамен дедовских изб механизаторы поставили новые, обшили их, покрасили. Сибирцев — опытный работник из бывших колхозных председателей — умел «выбивать» у дирекции материалы для своих застройщиков. С людьми у него было легче, чем в других отделениях совхоза, все работы выполнялись в сроки.
Неподалеку от деревни — хозяйственный центр с коровником, телятником и свинарником-откормочником. Ближе к лесу Сибирцев построил обширный навес для тракторов и комбайнов, которые прежде зимовали под открытым небом и изнашивались вдвое быстрее. Зоотехник Яшина особенно ценила Сибирцева за то, что он постепенно заменял разношерстное и малопродуктивное стадо на ферме на удойное, породистое, закупив в племсовхозе молодняк.
Директорский газик затормозил возле небольшого трехоконного домика, Лисицын и Новинцев вошли в контору.
Сибирцев сидел в кабинете. Обычно его было трудно застать здесь, он больше ездил на своем мотоцикле по участкам, и кабинетик его имел казенный, необжитой вид. На письменном столе — ничего, кроме двух-трех бумажек под стеклом. Невысокий, узкоплечий, с обветренным худощавым лицом, в поношенной синтетической куртке, Сибирцев сосредоточенно листал записную книжку и морщил лоб в раздумье. Серая кепка с мятым козырьком небрежно, набекрень, сидела на его круглой голове, за ушами кучерявились седоватые прядки давно не стриженных волос. Завидя начальство, Сибирцев встал, поздоровался. Рукопожатие его было крепким, основательным.
— Вот и руководство нагрянуло. Ну, теперь держись! — сказал он. — Редко, редко жалуете к нам. Степан Артемьевич, вчера на ферме был такой разговор. Доярки принялись спорить, какого цвета у вас глаза. Одни говорят — карие, другие — зеленые. И жену вашу вспомнили: красивая, говорят, женушка. А муж не то чтобы красивый, а рослый. Мужик, одним словом, настоящий!
— И на том спасибо, — ответил Лисицын, посмеиваясь. — Как живете?
— Живем не тужим. Сижу вот, анализирую. Есть ли рост удойности за последнюю декаду, — перешел на деловой тон Сибирцев. — Выходит — и есть и нет.
— Как так?
— По объему, по количеству литров есть, а показатель по жирности молока снизился.
— Почему? — спросил Новинцев.
— Трава на пастбищах мелкая, жесткая, как осока на суходолах. Подкормку давать коровам не из чего, все вико-овсяные и прочие смеси вбухали в силос… Лето прескверное — пасмурно, а дождей маловато. Солнца и совсем нет. Травы плохо шли в рост.
— И что собираетесь предпринять? — спросил Лисицын.
— Пока не знаю. Надо с людьми посоветоваться.
— От доярок это не зависит? — поинтересовался Новинцев.
— Вряд ли. Впрочем, кое-что зависит и от доярок. Сибирцев снял кепку, пригладил волосы, но за ушами они топорщились и вились кольцами по-прежнему. Их непокорность до некоторой степени свидетельствовала о характере хозяина. Лисицыну рассказывали любопытный эпизод из колхозного прошлого.
…Было это в период, когда в области стали внедрять посевы кукурузы на силос. В южных районах она еще подрастала до необходимых кондиций, а в северных гибла при первых же заморозках, едва выйдя в трубочку. Сибирцев наотрез отказался сеять ее в своем хозяйстве. Его хотели снять с работы, объявили строгача, но это не подействовало. Вместо кукурузы упрямый председатель достал и посеял семена капустно-брюквенного гибрида и по осени снял богатый урожай корнеплодов. Те, кто сеял кукурузу, остались ни с чем, а у него кормов хватило на всю зиму с избытком.
Вспомнив об этом, Лисицын повнимательней присмотрелся к Сибирцеву, как бы определяя, каким окажется управляющий, когда надо будет решать более важные и сложные дела. И пришел к выводу: не подведет. Однако тут же подпустил шпильку:
— А как у вас теперь насчет праздников?
— Праздников? — Сибирцев бегло глянул на календарь. — Вроде пока не предвидятся. День работников сельского хозяйства еще далеко, в октябре…
— А по святцам?
— По святцам? — Сибирцев, сообразив, куда клонит Лисицын, улыбнулся. — Это вы Софрония вспомнили. Нет пока на примете никакого святого.
— Так вам же ничего не стоит его придумать! — довольно строго заметил Новинцев. — Как теперь с дисциплиной на ферме?
— Не обижаюсь. От звонка до звонка доярочки на местах. В белых халатиках, как положено, — с напускной ласковостью ответил Сибирцев, щуря в улыбке хитроватые глаза.
— Надо нам заглянуть на ферму, — сказал Лисицьш.
— Пожалуйста, — управляющий с готовностью встал, надел свою кепочку с помятым козырьком и глянул на часы. — Дойку теперь закончили, можно идти, — объяснил он. — Во время доения коровы, завидя посторонних людей, беспокоятся…
— Это мы-то посторонние? — удивился Новинцев.
— Я не про вас. Я вообще…
Лисицын почувствовал в словах Сибирцева скрытый упрек: дескать, редко вы, начальство, бываете у нас на ферме, и чуть-чуть смутился и споткнулся о невысокий порог.
На ферме доярки, сняв на время свои белые «халатики», занимались уборкой помещения. Степан Артемьевич и Новинцев прошли из конца в конец коровника. Лисицын накоротке поговорил с женщинами. На шуточки тоже отвечал шуточками — он это умел. Новинцев был сдержан, строг и затянут в темный пиджак, как старшина в мундир. Его официальный вид несколько смущал доярок, они больше тянулись к Лисицыну, им он казался проще. А быть может, еще и потому, что собой директор был молод, пригляден, статен. Между прочим, пожаловались на нехватку чистых полотенец. Сибирцев, следовавший за начальством по пятам, укоризненно покачал головой:
— Сами бы стирали полотенца! Или разучились? Ай-яй-яй, полотенец им не хватает! Да пускай заведующий фермой придет в контору — выпишем хоть сотню.
— Давайте ежедневно хотя бы по одному, — назидательно заметил Лисицын.
— А мы не даем? Теряют же! — в сердцах отозвался Сибирцев.
Доярки тут же накинулись на него:
— Кто теряет? Нет, вы скажите, кто теряет?
— Уже недели две не меняли полотенец. Руки хоть о подол вытирай!
— Ну, ладно, ладно. Учтем, — примирительно улыбнулся Сибирцев. — А между прочим, прежде в колхозе доярки обходились без полотенец. Из дому приносили чистые холстинки. И халатов, как у вас, не было. В ватных фуфаечках работали. И как работали! Не вам чета…
— Мы, что ли, плохо работаем? — прищурясь, глянула на управляющего молодая приглядная доярка с чуточку капризным выражением лица.
— Сравнил тоже! — подхватила другая, постарше.
Осмотрели подсобные помещения, Лисицын сказал Сибирцеву, что в скором времени здесь придется расширять ферму, и поинтересовался, можно ли сделать пристройку.
— Стены капитальные, кладка кирпичная, — ответил управляющий. — Вполне можно. Но силовая установка уже не потянет. Надо подключаться к государственной электросети. Оборудование потребует замены.
Поохали в Залесье. Лисицын взял с собой и Сибирцева, объяснив ему цель поездки.
Дорога туда оказалась и дальней, и плохой, как и предостерегал Лисицына Чикин. Вначале она шла просекой с твердым песчаным грунтом, а дальше забуксовали в гнилом болотце с множеством корневищ и старой разбитой гатью. Сергей еле вывернулся из этого болотца. Потом проселок поднялся в гору к редкому и высокому сосняку. В нем было сухо, под скатами машины мягко пружинили опавшая хвоя и белый мох. Затем дорога нырнула под уклон, и впереди плотной стеной встали кусты. Корявые ветки ольшаника, ивняка, мелких березок терлись о тент и бока машины. Наконец выбрались на небольшой чистый луг. Трава на нем была выкошена и смётана в стога, завершенные плитками дерна.
— Это мы косили, — пояснил Сибирцев.
Впереди показались избы. Сергей подъехал к крайней.
— Дальше поедем? — спросил он. — Или сойдете?
— Сойдем, посмотрим. — Лисицын вышел из машины, за ним — остальные.
В пустой деревеньке — за лесами, за горами — было тихо, и Степана Артемьевича сразу охватила грусть. Зашли в одну из крайних изб, осмотрели пустые комнаты с кое-где разбросанными ненужными вещами. На полу у русской печи — сухие, пыльные поленья, на шестке закопченный чугун и мятый позеленевший самовар. Ухваты, хлебная лопата… В горнице — широкая кровать, несколько старых стульев.
Из полутемной заброшенной избы вышли снова на улицу, окинули взглядом заколоченные дома.
Все, что жило тут, работало, веселилось, грустило, беседовало и радовалось, — все люди и вся живность от кур и петухов до буренок во дворах безвозвратно ушли в прошлое. В других, более людных селах наступила новая жизнь, современная, благополучная, обустроенная. Старый быт отступал перед натиском нового. Но с исчезновением глухих, удаленных от бойких путей деревенек уменьшались, как шагреневая кожа, и поля. Когда-то их с трудом великим отвоевывали у леса, а теперь он, почувствовав слабинку, опять надвигался со всех сторон. Зарастали, заболачивались проселки. Пашни жались только к большим, развивающимся селам. Надо снова врубаться в «дремучие леса», выручать пахотные земли, луга, поскотины.
Так подумал Лисицын.
— Как по-твоему, Иван Васильевич, можно ли возродить Залесье? — спросил он парторга.
— Надо бы, — ответил тот. — Но кто поедет сюда жить и работать? Придется, можно сказать, опять идти путем древних новгородцев… А где они, современные ушкуйники?
— Давай объедем угодья, — предложил Лисицын. — Тогда будет виднее.
Снова сели в машину, поехали дальше новоявленной целиной… Увидели старый полуразобранный коровник, мельницу-столбовку за околицей с поломанными крыльями из тонких дощечек. По бездорожью не без труда объехали бывшие лоскутные поля, покосы. Сравнительно чистые от кустарника участки были обкошены, тут постарались рабочие из Прохоровки, а поля превратились в залежи, сплошь заросшие кустами, Лес наступал отовсюду, надо заново расчищать, распахивать, удобрять землю. Сибирцев пояснил.
— Земля тут неважная: глина, подзолы. Прежде она родила потому, что пахали неглубоко и вносили навоз. Скот тогда держали на соломенной подстилке.
— А между прочим, Чикин сказал, что здешние поля можно без особых затрат пустить в оборот, — вспомнил Степан Артемьевич.
— Чикин? — усмехнулся Новинцев. — Слушайте его, наговорит с три короба. Такие руководители, как он, и запустили здесь хозяйство.
— Я думаю — запустили не умышленно, не по нерадению, — возразил Лисицын. — Были какие-то причины.
— Чикин работал председателем не здесь, а в Борке, — вмешался в разговор Сибирцев. — И, между прочим, старых работников, Иван Васильевич, винить проще всего, Побыли бы в их шкуре! Техники не хватало, денег на счету кот наплакал, людей — одни бабы да старики. Это у нас нынче всевозможные машины и средства почти неограниченные. А тогда — ой-ой-ой!..
— Ладно, не будем ворошить старое, — примирительно сказал Лисицын. — Это делу не поможет. Давайте лучше думать, как возродить здесь жизнь.
— Оптимальный вариант — прислать сюда мелиоративный отряд со всей техникой. За лето он приведет земли в божеский вид. Построить не комплекс, а ферму голов на двести. И, значит, возродить и саму деревню, старые избы заменить новыми. Не все, конечно. Те, что покрепче — починить. И поселить здесь людей. Но реально ли? Ну, мелиораторы придут на помощь. А ферма, а деревня? Людей-то нет. Где взять? — развел руками Новинцев.
— Значит — нереально, — подытожил Лисицын. — По-моему, надо залежи расчистить, распахать, засеять кормовыми культурами, хорошо отремонтировать сюда дорогу и вывозить корма в Прохоровку. И в Прохоровке, у тебя, Сибирцев, расширить ферму вдвое. К имеющемуся коровнику пристроить такой же, механизировать его полностью. Как думаешь, управляющий?
— Хорошая корова, Степан Артемьевич, имеет обыкновение каждый год телиться, — ответил Сибирцев. — Значит, нужны дополнительные помещения и для молодняка. И кормоцех придется расширять.
— Разумеется.
— На это потребуется года два, не меньше, — предположил Сибирцев.
— Два года нам никто не даст. Предложат уложиться в год, в лучшем случае в полтора, — сказал Новинцев.
— А сколько на это потребуется труда и денег! — размышлял вслух Сибирцев. — Ну, с деньгами легче, дадут, А где взять рабочих?
— Почему это с деньгами легче? — возразил Лисицын. — Меня уже в райисполкоме упрекнули, что плохо мы ведем хозяйство. От вложенных средств отдача мизерна.
Яшина в кругу управленцев полушутя-полусерьезно именовала рабочие совещания «форумами». Их было два: маленький и большой. На маленький приглашались управляющие отделениями и главные специалисты. На большой, кроме них, — участковые агрономы, зоотехники, бригадиры, ведущие механизаторы.
Маленький «форум», созванный директором перед поездкой на пленум райкома, одобрил расчеты Яшиной, предложение Лисицына об освоении залежей в Залесье и строительстве в Прохоровке. Директор с парторгом могли теперь ехать в район с обстоятельно разработанной на ближайшее время программой-минимум.
— Теперь, по крайней мере, стало ясно, что надо делать, — сказал Лисицын Новинцеву, когда возвратились в Борок. — Вот только сумеем ли быстро освоить залежи… А на пристройку к ферме надо составить проект поскорее.
— Пристройка… — вздохнул Новинцев. — На пленуме наверняка будут говорить о комплексах.
— Есть поговорка: по одежке протягивай ножки, — ответил Лисицын. — Надо считаться с возможностями хозяйства. Нельзя брать на себя непосильные задачи. Пупок надорвешь.
— И все же мы ограничиваемся какими-то полумерами.
— А по-моему, мы избрали правильный путь. Сейчас возможности, заложенные в хозяйстве, мы используем только на две трети. Надо увеличивать интенсивность и землепользования, и животноводства, — сказал Лисицын уверенно.
— Разве я с тобой спорю? — сдержанно отозвался парторг.
Новинцев не ошибся: на пленуме райкома шла речь о создании в хозяйствах крупных животноводческих комплексов. Первый секретарь райкома Поздняков в докладе нажимал на них.
Кое-где эти «фабрики молока» были уже созданы. В одних хозяйствах они действовали хорошо, в других — не очень. Нехватало кормов, обслуживающего персонала, удойность была низкой. Строительные организации не справлялись с объемами работ, не полностью использовали выделенные для этого средства.
Лисицын выступил на пленуме, удивив районное начальство. Он говорил с трибуны, что их совхозу крупный животноводческий комплекс пока не по силам. Из президиума ему бросили реплику:
— Вы что же, Лисицын, не хотите ставить животноводство на промышленную основу? Вы против новою?
— Нет, — ответил он. — Я — за новое. Но в разумных пределах. Надо считаться с возможностями нашего совхоза. Мы все хорошо взвесили. Я изложил мнение актива.
— А что думает по этому поводу секретарь парткома? — спросил Поздняков, когда Лисицын сошел с трибуны.
— Я разделяю мнение директора, — ответил Иван Васильевич.
Наступила неловкая пауза. Секретарь райкома нахмурился и сказал:
— Ладно. С этим совхозом мы разберемся после…
В перерыв в фойе к Лисицыну подошел директор передового в районе совхоза «Путь Октября» Платонов — вся грудь в орденах.
— Ну ты даешь, Лисицын! — сказал он. — Не боишься дуть против ветра!
— Из молодых, да ранний, — петухом кричит! — сострил находившийся рядом председатель объединения «Сельхозтехника».
— А что, братцы, — уже другим тоном продолжал Платонов. — Он, пожалуй, прав. В «Борке» ничего лучшего не придумать. Я знаю, какие там угодья, — мелкие лесные луга и пастбища. Правда, луг по Двине у них славный. Слушай, Лисицын, уступи мне этот луг. Мы ж соседи! — Платонов рассмеялся и похлопал Лисицына по плечу. — У меня кормов нехватка…
— Я лугами не торгую, — отрезал Степан Артемьевич.
Сразу после пленума состоялось внеочередное заседание бюро райкома. Руководителей отстающих хозяйств вызвали отчитываться о ходе заготовки кормов. Пришлось держать ответ и Лисицыну с Новинцевым.
Заседание вел первый секретарь райкома Григорий Петрович Поздняков, сорокапятилетний худощавый мужчина в сером костюме. Он недавно сменил на этом посту «подзасидевшегося» прежнего секретаря Демина. Демин проработал здесь пятнадцать лет и теперь вышел на пенсию.
Поздняков взялся за дела круто, был строг и непримирим к недостаткам, и его в районе побаивались.
Разговор на бюро шел на довольно высоких тонах, потому что сенная страда затянулась, хотя по времени было пора ее кончать. Не обошлось без взысканий.
Когда очередь держать ответ дошла до Лисицына, он стал было перечислять, сколько они заготовили сена, сенажа, силоса, травяной муки. Поздняков нетерпеливо его прервал:
— Эти сведения мы имеем. Говорите по существу: чем объяснить такие низкие темпы? По сводке вы на одном из последних мест!
— Погода не благоприятствует, Григорий Петрович, — ответил Лисицын, совершив по неопытности ошибку: на погоду здесь ссылаться не принято.
— Это что же, — недовольно повысил тон Поздняков. — Если погода плохая, значит, сенокос побоку? Значит, скот обрекаем на голодную зимовку? У вас, — он указал на Лисицына тонким пальцем, — много прекрасной техники, целый штат специалистов, опытные механизаторы! Да если бы вас всех расставить по крышам разгонять тучи — сразу бы стало вёдро!
— Вернусь — так и сделаем: влезем на крыши, — запальчиво ответил Лисицын под общий смех присутствующих. Поздняков с неудовольствием ерзнул на стуле. — Мы, Григорий Петрович, силосуем. Сено-то не сохнет!..
Из Чеканова они возвращались поздно вечером. Оба устали, Лисицын на бюро понервничал и теперь чувствовал себя неважно. Хотелось спать, а более того — есть. Столовка в райцентре была уже закрыта, и поужинать не пришлось.
«Ладно, бог с ним, с ужином. Перебьемся… Скоро приедем домой». Степан Артемьевич теперь мечтал о доме, как о земле обетованной. Их маленькая стандартная квартирка казалась ему чуть ли не роскошными палатами. Уют, созданный стараниями Лизы, манил. Так хотелось поскорее увидеть свет в знакомых окнах, встретить и обнять жену, конечно же скучающую без него… Стремление это еще более усилилось, когда сгустились сумерки. Машина мчалась по мокрой от недавнего дождя лесной дороге среди высокого и густого ельника. Сергей включил фары, и мир замкнулся на серой, посыпанной гравием ленте проселка с лужами и выбоинами.
Лисицын вдруг запел. Новинцев удивленно глянул на него, а Степан Артемьевич тянул с какой-то мрачной тоской:
Среди лесов дремучих
Разбойнички идут,
В своих руках могучих
Това-а-арища несут…
Новинцев рассмеялся:
— Ты чего тоску нагоняешь? Откуда такая песня?
— Дед, бывало, пел. Выпьет рюмашку и заведет… Эх, работаешь, стараешься, и хоть бы разок похвалили. Все только ругают…
— За что же хвалить-то? — Новинцев поправил кепку, которая на ухабе съехала ему на глаза. — За что хвалить-то? Меня ведь тоже по головке не погладили. Сказали: я стал неким приложением к тебе. Вроде как хожу в няньках, вместо того, чтобы строго, по-партийному с тебя спрашивать… Помнишь?
— Помню. Вот и спрашивай. Созови партком и измолоти… Заодно уж… Помогай иммунитет вырабатывать.
— Какой такой иммунитет?
— Иммунитет — значит стойкость против разного рода житейских невзгод.
— Мудрено, батюшко, говоришь. Ишь, иммунитет ему нужен…
Помолчали, посмеялись. Новинцев обнял Лисицына, положив крепкую руку ему на плечо. Степан Артемьевич обратился к водителю:
— Сергей, как твои дела? Рассказал бы хоть анекдотец — все веселее ехать.
— Анекдоты у меня в голове не держатся, — обернулся Сергей. — Никак не запоминаются… А дела идут неплохо. Запроектирован сын…
— Как, уже?
— Надо успевать, Степан Артемьевич. Век такой.
Женился Сергей под Новый год. Лисицын вспомнил, как было весело у него на свадьбе. Гуляли по-современному, с танцами под магнитофон, с песнями.
— А если дочка? — спросил Лисицын,
— Нет, сын. В этом я уверен. Есть примета.
— Какая примета?
— Бабки говорят: если живот у будущей мамаши круглый, то родится дочка, а если остренький, то сын.
— Ишь ты! Все приметы знаешь! — сказал Лисицын.
— А как же. Иначе нельзя, — ответил Сергей. — Надо все знать.
Машина вырвалась из леса и помчалась сухой полевой дорогой.
Наконец шофер затормозил напротив одноэтажного дома, где жил с женой и двумя детьми Новинцев. Лисицын проводил его до калитки.
Было холодно и сыро. Небо к ночи прояснилось. Вдали над горизонтом, над лесами играл поздний отблеск зари. Он высветил верхний ярус облаков, они дымчато зарозовели по кромке. Новинцев и Лисицын невольно обратили внимание на этот угасающий небесный костер и уже пожелали друг другу спокойной ночи, но что-то удерживало их тут. Новинцев сказал:
— Надо нам поднажать на корма. Дела и в самом деле у нас неважные…
Лисицын ответил не сразу:
— Неужели я в самом деле либерал и слабохарактерный человек, как сказал на бюро Поздняков?
— Не думаю, — Новинцев взялся рукой за калитку. — Ты просто вежливый, обходительный. Местами деликатный…
— Это хорошо или плохо?
— Думаю — неплохо. Только надо быть потверже, более требовательным. Мне, кстати, тоже.
— Стучать кулаком по столу, ругаться, командовать? Восстанавливать всех против себя?
— Ну зачем так. Ты прекрасно понимаешь, что это вовсе не нужно. Необходимы уравновешенность и расчет. Ну, до завтра!
— До завтра, — ответил Лисицын и пошел к машине. Сергей ждал, не заглушив мотора. Степан Артемьевич отпустил шофера.
— Поезжай, отдыхай. Я пройдусь пешком, тут рядом.
Он отыскал среди других свой свет в окне и, радуясь, что Лиза еще, видимо, бодрствует, быстро пошел по влажным от дождя мосточкам.
Такого еще не бывало: едва он вошел в прихожую, как жена, мягкая, теплая, домашняя, родная, повиснув у него на шее, обняла его столь пылко, что он чуть не задохнулся.
— Как долго! — наконец вымолвила она, поправляя сбившуюся прическу. — Неужели ты не понимаешь, как мне скучно одной! Ведь кроме тебя никого у меня нет. А ты бог знает где пропадаешь целыми днями. Хоть еще ночуешь дома…
— Успокойся, Лизок. Не суди меня строго: дела. Пойми, что нелегко быть директором отстающего совхоза…
— Ты ни разу не говорил, что он отстающий.
— Не говорил, потому что не считал его таковым. А теперь вижу: отстающий.
— Ты ездил в райком? Ну и как? — спросила она, вешая его плащ.
— Все в порядке. Получил це у, — полушутя ответил он.
— Что такое це у? Ценные указания?
— Разумеется.
— Ладно. Давай ужинать. Знаешь, что я приготовила? Жареную щуку!
— Где ж ты ее поймала?
— В сельпо продавали.
— У нас, кажется, и рыбаков-то нет.
— Значит, есть.
За ужином Лиза сказала:
— Скоро будет девятый день. Поминают усопших…
— Придется ехать в город?
— Надо сходить на могилу.
— Ну что же, раз надо — съездим.
— А как же наша туристская поездка? — спросила жена погодя.
— Обстоятельства складываются так, что…
— От нее придется отказаться?
— Придется. Столько дел! И не только текущих. Настроение не отпускное.
— У меня тоже. Теперь, когда скончалась мама…
— Давай отложим поездку до будущего года. И махнем знаешь куда? В Болгарию, на Золотые пески.
— Поживем — увидим, — без особого энтузиазма ответила Лиза.
Степан Артемьевич не получил в райцентре прямого указания строить животноводческий комплекс. Ему и не было ясно, одобрена ли его идея расширения фермы с расчетом на корма, которые предполагалось получить после освоения залежей. Он рассудил так: если это поддержано совхозными специалистами, значит, надо действовать. В конце концов, они хозяева в своем совхозе, и все будут определять конечные результаты, которых надо добиваться возможно быстрее.
Директор, не откладывая, послал агронома и зоотехника еще раз осмотреть и обмерить пустующие земли и составить заявку на мелиоративные работы. Он также попросил районное управление прислать проектировщиков составить проект и смету на строительство в Прохоровке.
На Лисицына обрушился ворох дел — и текущих, и связанных с будущим совхоза. И те и другие требовали внимания: дорога в Залесье, силовое хозяйство на Прохоровской ферме, строительство жилья для тех, кто будет обслуживать животных в пристройке, и еще многое. Стоило только копнуть целину, как надо было копать все глубже и основательнее.
Степан Артемьевич понимал, что начатое — только часть дела, и притом самая неотложная. В будущем предстояло браться за более солидные и крупные решения. Спокойной жизни не будет, ибо движение вперед связано с вечным беспокойством и поисками…
В голове у него уже зрели далеко идущие планы. Он предполагал соединить три отделения совхоза кольцевой дорогой, пересмотреть структуру посевов, с тем чтобы площади под кормовыми культурами приблизить к фермам, собрав их в единый мощный массив.
Но это в будущем. А пока он занялся заготовкой кормов. В этом ему оказал помощь Новинцев. Он поручил членам парткома хорошенько ознакомиться с организацией работ в каждой бригаде, выяснить, что мешает работе, и помочь в организации труда. Лисицын почувствовал крепкую поддержку. Дела пошли, кажется, живее.
За делами да хлопотами Степан Артемьевич не скоро собрался позвонить Вострякову и отказаться от путевок. Тот сам позвонил ему.
— Придется мне от поездки отказаться. Дел много, — ответил Лисицын. — Передайте путевки другим.
Сказочно необыкновенный мираж с видом на Канарские острова, появившись над горизонтом, растаял, подобно зыбкому облачку утреннего тумана…
Глава пятая
1
Лисицыну приснилось, будто он влез на крышу конторы, стал около печной трубы и, привязавшись к ней веревкой, чтобы не упасть, поднял руки и принялся размахивать ими, стремясь разогнать «несельскохозяйственные» облака. Он делал это молча и сосредоточенно, с упорством человека, одержимого навязчивой идеей. Рядом на тесовую крышу соседнего дома вскарабкался Новинцев и занимался тем же, только махал он не пустыми руками, а чем-то белым, похожим на простыню или широкое банное полотенце. Поодаль на плоской крыше сарая стояла Яшина и размахивала своей косынкой столь энергично, что едва удерживала равновесие. Еще дальше на крыше маячил Ступников. Он изо всей силы бил в деревянную колотушку, радостно приплясывал и кричал Степану Артемьевичу: «Они уже расходятся! Уже расходятся!»
Степан Артемьевич вдруг увидел, что веревка, которой он был привязан, перетерлась об острый угол кирпичной трубы, оборвалась, и он полетел вниз, крича: «А-а-а!»
…Жена проснулась от этого всполошного утробного крика и стала трясти его за плечо:
— Степа! Да проснись же!
Он открыл глаза, бессмысленно и ошалело огляделся и, придя наконец в себя, облегченно улыбнулся. Лизе эта улыбка показалась какой-то блаженной, и она поглядела на него со страхом и состраданием.
— Ты так сильно кричал!
— Разве?
— Я очень испугалась.
— Это я полетел с крыши.
— Зачем ты влез на нее?
— Разгонять облака.
— Ка-ак? — на лице жены появилось величайшее изумление.
— А вот так, — он сел в постели, поднял руки и энергично заработал ими. Лиза пришла в ужас:
— Что с тобой? Ты нездоров?
— Я вполне здоров. А облака посоветовал мне разгонять таким способом один руководящий товарищ.
Степан Артемьевич подмигнул жене, и она недоверчиво покосилась на него. Тут зазвенел будильник, оба вздрогнули от неожиданности, рассмеялись. Лиза соскользнула с кровати и, накинув халатик, босиком подошла к окну, раздвинула штору и сказала нараспев:
— Это непостижимо-о-о! Солнце! Не зря ты старался там на крыше. Небо совсем-совсем чистое.
— Правда? — Степан Артемьевич, выглянув в окно, почти бегом направился к умывальнику. Наскоро перекусив, пошел в контору и стал звонить управляющим отделениями, чтобы не упустили хорошей погоды и вывели всю технику на луга.
День был выходной, субботний. Но, как известно, на селе в погожие дни выходных не бывает. Чтобы убедиться в том, что его распоряжение выполнено, Степан Артемьевич сел в машину и до обеда колесил из бригады в бригаду. Всюду работали, ворошили сено, стрекотали тракторные косилки, тарахтели силосоуборочные комбайны. Удовлетворенный этим, Лисицын вернулся в Борок и пошел обедать.
Необыкновенно ясный день привел его в уравновешенное, более того, в умиротворенное состояние. Степан Артемьевич подобрел, стал более улыбчив. Если вёдро постоит хотя бы с недельку, на зиму скот будет с кормом.
Было даже жарко, и ребятня, в том числе и Яшины-Челпановы огольцы, бегала по деревне в одних трусиках, а на задворках кое-где загорали приезжие люди, растянувшись на травке. Все блаженствовали. Кое-кто ковырялся в грядках на огородах. Это — «наследные принцы», приехавшие вечером на «Ракете».
За невысокой оградкой, среди картофельной ботвы, тронутой недавним заморозком, он приметил упитанное полуголое существо в сиреневом купальнике. Он шел по мосточкам, и женщина, услышав шаги, подняла голову. Степан Артемьевич узнал Розу Васильеву, о которой рассказывал ему на скамейке Чикин. Роза, застеснявшись, накинула на плечи газовый шарфик и, стянув на груди пухлыми пальцами эту чисто символическую накидку, сказала:
— Здравствуйте, товарищ директор!
Степан Артемьевич подошел к оградке и, взявшись руками за штакетины, ответил:
— Здравствуйте. Загораете?
— Да так, немножко, — сверкнула молодыми, живыми глазами Васильева, посмотрев на него искоса. При взгляде искоса, она это знала, глаза становятся выразительнее, ярче и чище сверкают белки. — Что делать? На юга дикарями нам ехать не по карману, а путевок нет. Погреться хоть здесь…
— Ну-ну, — обронил Лисицын и хотел было идти, но тут ему в голову пришла мысль, и он ей посоветовал: — Загорать надо в движении, равномерно. Если бы с грабельками на покосе!.. Поворошить бы хотя сено. Загар был бы более ровным и красивым…
Роза прищурилась и расхохоталась:
— Вон куда клоните! У вас что, работать некому?
— Почему? Работать есть кому. Это я между прочим.
Роза, ничего больше не сказав, опять растянулась на траве, на подостланной простынке, а он пошел дальше.
Но уже теперь ей спокойно не лежалось. Подняв голову, она поглядела вслед Лисицыну, и ей стало неловко. «Все работают, а я лежу. Ладно ли? Люди идут мимо, смотрят…»
Она поднялась, подхватила простынку и неохотно пошла в избу, оглядываясь.
В избе все оставалось в таком виде, как было, когда она, окончив школу, укатила в город. В кухне — стол, лавки, шкаф с посудой, никелированный самовар, ухваты у печи, ведра для воды в углу на приступке — все на месте. В горнице, просторной и прохладной, оклеенной полосатыми обоями, — широкая родительская кровать с металлическими завитушками, аккуратно застланная тканым покрывалом. На ней — гора подушек. На стене круглые заводные часы, картинки из журналов. Дом словно ждал, когда в нем хозяева снова поселятся постоянно и прочно.
Только цветы на подоконниках посохли — ухаживать за ними было некому, и у печи-голландки образовалась на боровке под потолком трещина от сырости. Печь протапливали изредка только летом или осенью. Зимой Роза сюда не заглядывала.
Натянув платье на упругое, согретое солнцем тело, Роза приготовила яичницу, вскипятила чай, поела. Потом села и задумалась. Муж обещал приехать рано утром, но, видимо, подвернулась срочная работа. Он в поселке лесозавода был участковым райотдела милиции. «Обедал, наверное, в столовой, — подумала Роза. — Приедет ли вечерним рейсом?»
В городе они жили в тесной комнате деревянного дома в рабочем поселке. В сравнении с просторной отцовской избой городское жилье выглядело клетушкой. Все в одной комнате — и столовая, и спальня, и детская… Не повернешься. Кухня общая на трех хозяек. Очередь на новую квартиру подойдет не скоро. Пройдет лет пять, а то и больше.
«Не перебраться ли сюда, в Борок? — подумала Роза. — Вон какая еще крепкая у нас изба! Я бы работала на ферме либо в полеводстве. Борис и здесь мог бы устроиться участковым. Вроде Анискина… Избу бы починили, огород есть, двор для скотины. Корову бы завели, овец, поросят. В городе-то все покупное, все втридорога. Вся зарплата уходит на хлеб насущный, и приодеться получше не на что. А тут харч был бы свой, денежки оставались. Завели бы машину или катер. Сыну Лешке тут раздолье — река рядом, лес, грибы, ягоды, рыбалка…»
Роза встала, подошла к комоду, зачем-то передвинула с места на место высокую узкогорлую вазу с прошлогодними цветками трясункой с мелкими золотистыми сердцевидными колосками. Над комодом висели в большой раме под стеклом карточки. Среди них — с открытку величиной — отцовская, фронтовая. Молодой, улыбающийся, в шинели, подпоясанной брезентовым ремнем, и в пилотке, с автоматом на груди, он стоял у стены кирпичного дома.
Он вернулся с фронта в сорок пятом, в апреле, после тяжелого ранения. Долго болел и дотянул только до весны сорок девятого… Мать одна поднимала Розу и братишку. Он теперь служит в Мурманске, на флоте, и Роза не виделась с ним давно.
Все тут, в этой избе, все воспоминания. Мать не любила сниматься, сохранилась лишь одна фотография: в цветастом платье, с косынкой на плечах, полная, темноглазая, на щеках ямочки. Улыбается. «Это в праздник снималась, Первого мая, — вспомнила Роза. — Тогда из города фотограф приезжал». В уголке рамы она увидела и себя, большеглазую, с челкой на лбу, как у лошадки… В восьмом классе тогда училась.
Роза вздохнула, прошлась по избе, выглянула в окно. Потом отправилась на поветь, нашла там старые запылившиеся грабли, они стояли в углу рядом с косой. Взяла грабли и, заперев избу, пошла на двинской луг, поворошить сено, тряхнуть стариной…
Там, на излучине, где свободно гулял ветер, пестрели ситцевые кофты и косынки и слышалась бойкая речь. Почти все население Борка пришло сюда: пенсионеры, учителя, подростки, сельсоветские служащие, доярки с ближней фермы. Растянувшись цепочкой по рядкам скошенного сена, ворошили его граблями, растряхивали. Сено уже потемнело, было неважнецкое, но при нужде зимой годное в корм. Тут Роза увидела и директора совхоза, он старательно переворачивал свой рядок. А рядом неумело действовала грабельками и его жена Елизавета, высокая, прямоногая, пригожая. Роза подошла к свободному рядку и тоже стала работать. Чикин, растряхивая поблизости сено концом граблевища, поглядел на нее и сказал:
— Ну вот, и городские пришли.
Роза ничего не ответила, даже не посмотрела в его сторону. Чикина она недолюбливала.
Вдали, у самого берега, работал трактор «Беларусь» с навесной косилкой. Он докашивал луг.
Лисицын снял рубашку, оставшись в майке. Руки у него были сильные, мускулистые, но, как у всякого интеллигента, мышцы заплыли жирком. Лиза потуже затянула косынку. Она присматривалась к работе других, стараясь приноровиться. Вскоре обогнала супруга, и он похвалил ее снисходительно, как школьницу:
— Ты у меня молодец!
— Еще бы, — отозвалась Лиза. — Лицо у нее порозовело от солнца.
Чикин крикнул командным баском:
— Эй, бабы, запевай!
— Ишь, покрикивает, как старшина на солдат! — отозвалась Софья Прихожаева. — Сам бы и запел, а мы бы подхватили! — Она одета была в мужские брюки и кирзовые сапоги, оставшиеся от беглеца мужа, плечи у нее покраснели от загара, глаза улыбались весело, открыто. Софья запела:
Меня милый изменил,
Пересел к товарочке,
А я еле усидела
На тесовой лавочке.
Ее звонкий голос разнесся по всему двинскому лугу. Бросив в него частушку, Софья смолкла, ожидая ответа. Он сразу последовал издали, от реки:
Подружка отлет
О залетке ревет,
Не реви, вертоголовая,
Никто не отберет.
— Гармонь бы, — с сожалением сказал Чикин. — Да где там! Повывелись ныне гармонисты, только магнитные фоны и слышно!
— Ничего и без гармоники, — отозвалась одна из подруг Софьи по ферме, выпрямилась и тоже запела:
Что ты, милка, окосела —
Не на те колени села!
Я совсем не окосела —
Куда надо, туда села.
Над лугом покатился веселый смех.
Чикин посмотрел на Софью со снисходительной усмешкой. От нее так и веяло здоровьем, молодой силой, задором. Плечи у нее горели жарко, пунцовели — перегрелась «Эх, солнышко, солнышко! — подумал Чикин. — Редко ты радуешь нас теплом!»
Степан Артемьевич, опершись на грабли, слушал: не запоют ли еще. Ему нравились эти минутки неожиданно радостного настроения людей, и хотелось, чтобы они продолжались. Но больше никто не запел, и он снова принялся за прерванную работу.
2
К вечеру почти весь двинской луг убрали, осталась сохнуть в рядках только свежескошенная трава. Сено, спрессованное в тюки подборщиком, свезли под навес.
Софья с луга пошла еще доить коров и вернулась домой уже в сумерках, усталая, но довольная собой. Хорошо чувствовать себя членом большой и дружной семьи, знать, что ты не лишняя спица в колеснице и твои умение и руки пригодились.
Во всем теле ощущалась расслабленность, приятная истома, как бывает после напряженного физического труда не только по необходимости, а и в охотку. Только вот немного перегрелась на солнце, кожа на плечах чуть саднила. Но это ничего, пройдет. Софья надела ситцевый домашний халатик, и ей стало приятно от прикосновения прохладной мягкой ткани.
С улицы донесся стук калитки. Она выглянула в окно: по двору неспешно шел Трофим. Она метнулась к двери и закрыла ее на запор. «Заметил ли он меня в окно?»
Решила не открывать ему, села на лавку в простенке и прислушалась. Трофим пошарил рукой по двери, подергал за скобу, потом осторожно постучал. Она молчала. Еще постучал, громче и требовательней, и притих, видимо, тоже прислушивался. Опять раздался стук в дверь. Трофим что-то проговорил там, что именно, она не разобрала. И затем послышались удаляющиеся шаги. Он постоял на крыльце, спустился на мостки, и она вздрогнула от резкого стука в окно, но с места не двинулась.
— Соня, спишь, что ли? — донеслось с улицы.
Наконец он ушел, Софья облегченно вздохнула. Она одержала победу над собой, не открыла. А то бы он уселся тут с водкой да с разговорами. Ей это теперь вовсе не нужно.
Сгустились сумерки, но она огня не зажигала, опасалась, что Трофим может вернуться. Он наверняка под хмельком, выпил для храбрости. Софья включила телевизор и стала смотреть кино. То ли от усталости, то ли передача не была интересной, она задремала. Очнулась, выключила телевизор и улеглась в постель. Но сон будто кто вспугнул: ей не спалось, и она стала думать опять о Трофиме, о том, правильно ли теперь поступает.
Вспоминала встречи с ним, жаркие хмельные объятия в угарной духоте ночной избы. Как это назвать? Любовью? Нет, просто блуд. Иначе не назовешь. Сошлась с ним от одиночества, от тоски злодейки, когда уехал муж. А теперь вот прозрела и поняла, что большого, настоящего чувства нет и не может быть. Но Трофим ведь с этим не смирится. Известное дело — повадился медведь на малину…
А может, он ее любит? Он никогда не говорил об этом. Если и любит — что из того? Чувство ведь должно быть взаимным, обоюдным.
Он все затуманил своим винишком и ласковыми уговорами и обещаниями. А в последнее время стал и нагловат, командует, будто она ему жена, будто он — хозяин в ее доме. «Все. Кончено!» — решила Софья. Сон наконец одолел ее.
На другой день она решила объясниться с Трофимом окончательно. Удобным предлогом для того, чтобы пойти к нему, оказалось ведерко, в котором она принесла тогда рыбу. Вымытое, оно было опрокинуто на лавке вверх дном и ждало своего часа.
…Софья быстро шла по тропинке на угоре. Вечернее низкое солнце просекло лучами тучи у горизонта. Эти косые, длинные лучи, вырвавшись на свободу, коснулись реки, и она заиграла, заискрилась будто живая. Скамья Чикина была пуста. Софья села на нее подумать, как и что сказать Трофиму. Поставив ведерко на землю, стала смотреть вдаль, на реку, где поблескивали под солнцем, будто чешуйки, мелкие волны и гулял ветер.
Она так ушла в свои размышления, что не заметила появления Чикина. Он подошел к ней, посмотрел, подозрительно повел носом: «Кажись, тверезая».
— Пустое ведро — худая примета, — сказал он и сел рядом. — О чем задумалась красотка?
— Красотка? — удивилась она, покачав головой. — Неужто?
— Ну, я говорю — значит, так, — спокойно ответил старик, застегивая пуговку на ватнике. — Вчера было жарко, сегодня — холодно. Север, Север-батюшко.
— Будет ли еще тепло? Вы знаете приметы…
— Должно быть, — неуверенно отозвался Чикин.
— Ну, мне надо идти. Прощевайте, — тихо сказала Софья и пошла вниз по склону.
Чикин смотрел ей вслед и думал: «К хахалю своему потопала. К Спицыну… Эх, бабы, бабы!»
Трофим пилил дрова бензопилой во дворе. Пес у будки взлаял и умолк, узнав Софью. Спицын выключил мотор, тот хлопнул и выпустил облачко вонючего дыма. Внешне спокойный, медлительный, как всегда, Трофим смерил Софью взглядом:
— Долго же ты дулась. Характер выдерживала?
— Вот ведерко принесла. Спасибо, — сказала она холодно.
— Пройдем в избу. Чайком побалуемся. Вино есть сладкое, портвейн.
— Мне некогда.
— Что так? Уж, поди, на ферме отработала!
Она чуть-чуть замялась и наконец сказала прямо и решительно:
— Вот что, Трофим, ты не приходи больше ко мне. Пожалуйста.
Он посмотрел на нее с недоумением:
— Почему так? Вроде я тебя не обижал.
— Не обижал. Но встречаться нам не надо. Я не хочу. Хватит.
— Значит, возьми свои тряпки, верни мне моих кукол, я с тобой больше не играю? Так, что ли?
— Суди как хошь.
Трофим надулся и стал, волнуясь, закуривать. Чиркнул спичку — погасла, чиркнул другую — сломалась, обжег пальцы, поморщился. Наконец прикурил.
— Значит, любовь побоку?
— Какая любовь? — тихо отозвалась она. — Ее не было. Так только…
— Погоди, брось шутить! — Трофим догнал ее, когда она уже вышла за калитку. — Может, я на тебя вид имею. Может, я собираюсь тебе сделать предложение. А ты… Давай обговорим все по-хорошему.
— Замуж я не собираюсь. За привет и ласку спасибо, а теперь прощай! — Она почти побежала по тропке.
— Нового хахаля завела? — крикнул он вдогонку. — Кто? Я ему бока намну!..
Софья даже не обернулась. Будто не слышала.
Он долго стоял возле калитки с растерянным видом и жалко улыбался. Потом вернулся во двор и включил пилу. Стиснув зубы, сердито вонзил режущую цепь в толстый обрубок. Пила загремела, задрожала в руках, вгрызаясь в дерево.
— Э, наплевать! — пробормотал он. — Подумаешь — цаца…
Но на душе у него было все же скверно. Злость на Софью уступила место сожалению и тягучей тоске. Софья ему все же нравилась.
3
В субботу Степан Артемьевич с женой отправился в город. Сергей привез их на пристань в конце дня. Лисицын отпустил шофера, и он умчался столь быстро, что Лисицын подумал: «Обрадовался, что меня не будет до понедельника и ехать ему никуда не придется».
Теплоход запаздывал. Начальник пристани, живший с женой все лето тут же на дебаркадере, пожилой, плотный мужичок в тельняшке, черных брюках и резиновых сапогах, подметал сухой метлой палубу, поднимая тучи пыли. Из конторки выглянула кассирша, его жена, и стала браниться:
— Да полил бы хоть, неумеха! Эвон какая пылища!
Начальник, видимо, привык к сварливым замечаниям супруги. Он молча взял ведерко и начал поливать палубу. Степан Артемьевич и Лиза посторонились и стали смотреть на реку.
«Ракеты» все не было. На Двине стояла настороженная тишина, только у смоленых бортов дебаркадера плескались мелкие шустрые волны. Северная сторона неба сияла голубизной, а с юга наползала темная, вязкая туча. Стало душно, Лиза пожаловалась на головную боль.
Туча вскоре плотно закрыла солнце, и там блеснула молния, пока еще далекая, красноватая. Вскоре опять сверкнуло, но уже в другом месте. Поднялся ветер, он все крепчал, и вот уже превратился в шквал. Лиза, наклонясь, обеими руками придерживала подол юбки, которую бесцеремонно трепал ветер.
— Пойдем в ожидалку, — предложила она.
— Ты беги, а я тут побуду, — сказал Степан Артемьевич.
Лиза ушла в ожидалку — небольшое помещение для пассажиров, а Степан Артемьевич стал смотреть, как начинается гроза.
Туча плотно обложила все небо, ветер кидал в лицо мелкие песчинки с пылью. Начался дождик, он шумел все сильнее, все ближе, ближе. Вода в реке отозвалась на шум дождя и забулькала, словно в нее с высоты сыпали мелкую гальку.
Дождь уже стоял сплошной стеной. С крыши пристани лились потоки воды. На лице Лисицына оседала мелкая водяная пыль, его сразу охватило холодом, сыростью и вместе с тем освежило. Голова посветлела, мысли стали яснее. Сквозь шум грозы он услышал, как о борт дебаркадера стукалась причаленная лодка, увидел, как по палубе покатилась какая-то жестянка, из нее что-то вывалилось и поползло в разные стороны. «Да это же червяки, — догадался Лисицын. — Начальник пристани заядлый рыболов». В ту же минуту банку вихрем вынесло за борт. Ветер из-за угла надстройки стремительно налетел на Лисицына, плеснул в лицо дождем, захватило дух. Но Степан Артемьевич в ожидалку все не уходил.
Завеса дождя была столь плотной, что и небо, и река, казалось, слились в одно целое. Будто вода струями поднималась от реки в небо, опадала оттуда в реку, снова поднималась от нее вверх. И тут грохнул такой гром, что Лисицын отпрянул к стене надстройки, а Лиза, выглянув из помещения, крикнула:
— Да иди же сюда! — и опять скрылась за дверью.
Степан Артемьевич не трогался с места, ему было интересно.
Ливень, сделав свое черное дело, — опять вымочил скошенное и неубранное сено, удалился к северу. Он будто повернулся к Лисицыну спиной с полным пренебрежением к его совхозным заботам. Выглянуло и ослепительно засияло солнце.
К пристани быстро подходила «Ракета». Моторы работали напряженно, и за кормой в кильватере оставался широкий пенный след. Теплоход, словно оправдываясь перед пассажирами за опоздание, лихо подвалил к дебаркадеру белым боком. Начальник пристани принял причальный конец, закрепил его за тумбу. Он сразу стал проворно подавать трап, Лисицын помог ему. По трапу сошли прибывшие пассажиры, затем на борт поднялись Степан Артемьевич и Лиза. Больше пассажиров не было, и теплоход помчался дальше.
Учительница Анна Павловна Вешнякова всю жизнь отдала детям, воспитывая и наставляя их на путь истинный. И еще она жила и трудилась ради дочери, была для нее самым близким другом и единственным родным человеком. Когда Лиза приехала в городскую квартиру и оказалась в мире привычных вещей и предметов, все опять напомнило ей о матери. Казалось, она ненадолго вышла, скоро вернется и надо только немного подождать.
Но она больше не придет. Никогда Лиза не услышит ее мягкий, негромкий голос, не увидит доброе лицо, не обнимет мать. Мать не может ни облегчить ее страдания, ни порадоваться в счастливые мгновения.
Бывают потери восполнимые, их можно заменить кем-то или чем-то. Потеря родителей невосполнима, она — как брешь, как пролом в жизни человека, и этот пролом ничем невозможно заделать…
— Ах, если бы родители никогда не умирали! — с грустью вымолвила Лиза. — Пусть бы жили до глубокой старости… Моя мама так много трудилась, так заботилась обо мне! А я… я никогда не задумывалась об этом, как будто все блага приходили сами собой. Она тащила на себе весь груз забот, тратила на меня почти целиком скромный заработок… Новое платье или туфли к празднику, поездка на юг к морю, аккуратные, из месяца в месяц, денежные переводы, когда я училась в институте. Ведь, если вдуматься, она жила только для меня, отказывая себе в самом необходимом…
Лиза медленно ходила по комнате, и глаза ее были мокры от слез. Степан Артемьевич молча сидел на диване, откинувшись на спинку и полуприкрыв глаза, и сочувственно вздыхал. Он тоже вспомнил в эти минуты о своей матери, живущей у его старшей сестры в Ярославле, и подумал, что не виделся с нею вот уже два года. «Надо непременно навестить маму, — решил он. — Вместе с Лизой съездим». Он вздохнул, взял со стола газету и развернул ее, но опустил, не читая, на колени.
— Ты права, Лиза, — заговорил он. — Я тоже вспомнил о своей маме. Неблагодарный сын! Надо будет навестить ее. — Он помолчал, положил газету обратно на стол. — Жаль, очень жаль Анну Павловну. Но что поделать? Жизнь состоит из приобретений и потерь. Последних бывает, кажется, не меньше, а больше…
Лиза, мельком глянув на него, утерла слезы и рассеянно поправила скатерть на столе. В эти минуты она вспомнила и об отце, которого никогда не видела и, наверное, не увидит… Он ни разу не появился и не давал о себе знать. Мать избегала говорить о нем.
На другой день рано утром они пошли на кладбище. Там было тихо и мрачновато. На высоких, пышно разросшихся деревьях кричали галки. В маленькую церквушку семенили благообразные старухи в черных платках, тоже похожие на галок. Редкие посетители пробирались по узким тропкам к оградам с памятниками и обелисками.
Лиза долго сидела над могилой матери. Степан Артемьевич стоял рядом молча. Потом они ушли, оставив у пирамидки цветы в стеклянной банке с водой.
Лиза сказала:
— Не знаю, долго ли простоят наши цветы… Говорят-говорят, их воруют и снова продают…
— Какое кощунство! — возмутился Степан Артемьевич. — Неужели в наше время есть кладбищенские воришки?
— Вероятно, есть, раз говорят…
Потом был поминальный ужин, а когда приглашенные разошлись, Лиза стала прибираться в квартире.
Снова, медленно передвигаясь по опустевшей комнате, Лиза рассматривала, будто впервые, разные безделушки, коробочки, статуэтки на этажерке, на туалетном столике перед трюмо, платья в шкафу. Наконец она подошла к стеллажам с книгами. На них все было аккуратно расставлено по алфавиту — Гете, Достоевский, Лермонтов, Мопассан, Олдридж, Пушкин, Рабле, Сервантес, Хемингуэй… Мать любила порядок. На отдельной полке над письменным столом — учебники, литература по педагогике. Тут Анна Павловна прежде готовилась к урокам.
Лиза взяла с полки томик, раскрыла на той странице, куда мать вложила закладку из пожелтевшей полоски бумаги, и стала негромко читать:
Ребенок сказал: «Что такое трава?» — и принес мне полные горсти травы.
Что мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его, что такое трава.
Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи цвета надежды?..
Лиза дочитала стихотворение до конца, Степан Артемьевич спросил:
— Чьи это стихи?
— Уолта Уитмена.
— Не читал. Слышал о поэте, но читать не доводилось.
— Возьмем книгу с собой. Дома прочтешь, — Лиза отложила томик в сторону. — Книги, как люди, живут дружно, рядом. Для меня они — как живые…
Она подошла к столу, села и задумалась. На стене перед ней висел отрывной календарь, на нем было число — 5 июля, день смерти матери. Предыдущий листок Анна Павловна сорвала накануне, а утром пятого уже встать не могла, и Лиза вызвала «скорую».
Она сорвала листок, чтобы его сохранить, и принялась осматривать ящики письменного стола. Их было три. В нижнем хранились писчая бумага, тетради, флаконы с чернилами, в среднем — папки с учебными планами, конспектами уроков, и еще какие-то деловые бумаги. В верхнем — старенький картонный бювар с документами, метриками, облигациями займов, ордером на квартиру, сберкнижкой и лотерейными билетами. Лиза аккуратно сложила все обратно в бювар. Выдвинув ящик побольше, она увидела конверт. На нем было написано: «Моей дочери Елизавете Михайловне Вешняковой». Лиза стала читать письмо.
Мать высказывала тревогу: у нее в последнее время появились нехорошие предчувствия, как перед серьезной болезнью или несчастьем. Поэтому она решила оставить «на всякий случай» эту записку, если вдруг что-нибудь с нею случится. Она сообщала, что, кроме дочери, наследников у нее нет, поэтому Лиза может распоряжаться имуществом и вкладом на сберегательной книжке по своему усмотрению. Дальше она писала следующее:
«Теперь об отце. Его имя — Михаил Борисович Романенко. — Четкий, каллиграфический почерк Анны Павловны стал неровным, торопливым. — Он — военный моряк, лейтенант. Я познакомилась с ним в интерклубе, и случилось так, что он ночевал у меня. А через два дня уехал, оставив свой адрес. Но я ни разу не написала ему и даже на его письма не ответила и не сообщила о твоем рождении, хотя знала, что он неженат. Он, конечно, не знал, что у меня от него ребенок, а я не хотела ему навязываться…
Видимо, я сделала ошибку. Прости меня, Лиза. Я была тогда молода, неопытна, быть может, даже и легкомысленна. Возможно, когда-нибудь он появится, так можешь показать ему это письмо. Впрочем, решай сама, как поступить.
О случившемся я не сожалею — ведь у меня есть любимая, славная доченька. Жила я только для тебя, Лиза, и ради тебя…»
— Что ты там притихла? Что читаешь? — спросил муж. Лиза, волнуясь, свернула письмо, спрятала его на прежнее место.
— Да так… Мамино старое письмо. Наверное, от подруги, — ответила она.
Степан Артемьевич, не заметив ее волнения, продолжал просматривать журнал, а Лиза стала машинально переставлять на полке книги. Она решила ничего не говорить мужу, ни об этом письме, ни об отце: «Зачем ему знать?»
Степан Артемьевич положил журнал и, встав с дивана, пошел на кухню поставить чайник.
— Попьем чайку, поужинаем, — сказал он Лизе.
Весь вечер она была молчалива, грустна, и Степан Артемьевич, понимая ее состояние, тоже молчал и был ласков и предупредителен.
Утром, когда они стали собираться в путь, кто-то позвонил в квартиру. Степан Артемьевич пошел открывать и увидел на лестничной площадке пожилого военного моряка в звании капитана второго ранга. В руках моряк держал шинель и дорожный портфель.
«Должно быть, позвонил по ошибке», — подумал Степан Артемьевич, вопросительно глянув на гостя. А тот сказал:
— Прошу прощения. Это квартира Анны Павловны Вешняковой?
— Да, — ответил Лисицын.
— Она дома?
— Нет. Видите ли… Анна Павловна недавно… скончалась
— Что вы говорите?! — растерянно отозвался гость. — Жаль. Очень жаль. Простите, я не знал. — Он постоял, медленно повернулся к лестнице и хотел уходить, но Степан Артемьевич поспешно сказал:
— Вам, наверное, хотелось узнать что-нибудь подробнее? Здесь есть дочь Анны Павловны. Зайдите в квартиру.
— Спасибо, — ответил моряк.
В квартиру он входил нерешительно и осторожно, словно опасаясь что-нибудь нечаянно задеть и уронить. Лиза, стоявшая посреди комнаты, посмотрела на гостя удивленно. Моряк, смутившись, представился:
— Романенко Михаил Борисович…
Лиза почувствовала, что теряет опору, медленно отступила назад к столу, нащупала его за спиной и оперлась руками о столешницу.
— Лисицын, — сказал Степан Артемьевич, пожав руку гостя. — А это дочь Анны Павловны, моя жена Елизавета.
Лиза молчала, сильно побледнев, Степан Артемьевич несколько суетливо подвинул гостю стул:
— Садитесь, пожалуйста.
«Как он узнал о смерти мамы? — металось в голове Лизы. — И вообще, почему он здесь?»
Романенко сел, положил фуражку на колени и объяснил свое появление:
— Видите ли… Я прежде был довольно близко знаком с Анной Павловной. Правда, давно… Лет двадцать пять тому назад. Я приезжал сюда по делам службы, и мы познакомились. И пробыли вместе три дня. А потом мне надо было уезжать в Ленинград.
— Вы с ней не переписывались? — наконец спросила Лиза глуховатым, не своим голосом.
— Я ей оставил свой адрес, написал два письма, она не ответила. Я жалел, что так оборвалось знакомство. Потом Дальний Восток, семья. Жизнь завертела, заботы, годы ушли… И вот, приехав в командировку, решил ее отыскать, повидаться… И вот беда… Старый ее дом теперь снесен, этот адрес я узнал через бюро справок.
«Показать ему письмо? — думала Лиза. — А зачем? Нет, не надо». Она посмотрела на мужа, который стоял в выжидательной позе. Лиза выпрямилась, отошла от стола, став возле окна, лицом к Романенко и мужу. «Пусть все остается по-старому. Бог с ним… Зачем мне теперь отец, который не знает, не догадывается о существовании дочери? Зачем это позднее обретение?.. Но ведь он не виноват. Но и я не виновата в том, что мы не знаем друг друга. У него своя жизнь, у меня — своя…»
— Ну, мне пора в аэропорт, — сказал Романенко. — Поверьте, я вам искренне соболезную. Аня была славная девушка — ведь я помню ее совсем-совсем молоденькой… Виноват, что не навестил ее раньше. Причиной было то, что вскоре после нашей встречи меня перевели служить на Тихий океан и я провел во Владивостоке восемь лет. Там я женился, и, как вы понимаете, все стало забываться… Извините. Прощайте.
Он взял шинель и портфель, кивнул и направился к двери. Там обернулся, поглядел на Лизу, кажется, хотел о чем-то ее спросить, но не спросил и вышел. Степан Артемьевич молча закрыл за ним дверь.
— Это он? — спросил Степан Артемьевич. — Отец?
Лиза молча кивнула.
— Я его никогда не видела. Но фамилия, имя, отчество — все верно…
— Ничего себе встреча… — удивленно протянул Степан Артемьевич.
— Чистая случайность. У него черный цвет форменной одежды… А зеленого цвета надежды нет…
— Что ты сказала?
— Уитмен. Зеленый цвет надежды… Его не было… И пусть.
Степан Артемьевич стоял посреди комнаты все еще в растерянности. Лицо его было суровым.
— Он разве ничего не знал о тебе? А ты решила не признаваться?
Лиза кивнула. Степану Артемьевичу стало невыносимо жаль жену. Он подошел к ней, мягко положил руки на ее плечи.
— Я думаю, ты поступила правильно.
Лиза молча и неподвижно глядела перед собой в одну точку.
— Зачем ему знать? Я выросла без него. Пусть все останется по-старому.
— Но он может догадаться и вернуться, — предположил муж
— Нет, нет! — Лиза порывисто встала. — Давай поедем поскорее. Ради бога, поскорее…
Они быстро собрались, заперли квартиру и отправились на пристань.
Глава шестая
1
Возвращаясь из поездок в Чеканово или в областной центр, Степан Артемьевич больше всего опасался, как бы в его отсутствие не случилось что-либо плохое. Так называемые «чепе» выбивали его, словно неопытного кавалериста, из седла и заставляли сомневаться в способностях подчиненных отводить беды. Под чрезвычайными происшествиями подразумевались всякие случайности. К примеру — вздутие животов у телят, объевшихся по недосмотру пастуха на клеверном поле, поломка в самое горячее время какой-либо машины, забубённая пьянка кого-нибудь из золотых рук, слывущего незаменимым не в силу своей исключительной мастеровитости, а просто из-за недостатка рабочей силы.
На этот раз, кажется, обошлось без происшествий. Степан Артемьевич спокойно сидел в кабинете и размышлял, и вдруг пришла Яшина. Она, как злой гений, частенько приносила плохие вести. Лисицын, поглядев на нее, сразу насторожился. Яшина с похоронным видом положила перед ним акт.
На Борковской ферме произошел несчастный случай. Одна из самых дойных коров, возвращаясь вечером с пастбища, отделилась от стада, забрела на окраину Борка и стала лакомиться возле продмага порчеными яблоками, оставленными на улице в открытых ящиках. Вместе с яблоками она проглотила ржавый гвоздик, и ее пришлось прирезать.
— Вот акт, Степан Артемьевич, — пояснила Яшина. — Вылечить животное было невозможно, гвоздик пошел по сосудам…
— Час от часу не легче! — в сердцах воскликнул Лисицын. — Кто проворонил? Кто должен ответить?
— Случайность, Степан Артемьевич, — робко вымолвила Яшина. — Пастух недосмотрел. — Она целые сутки возилась с больной коровой, даже лицо у нее осунулось. — Конечно, в первую очередь надо взыскать с пастуха. Но и у магазина беспорядок. Черт ногу сломит.
— А вы? Вы куда смотрели? — накинулся Лисицын на главного зоотехника. — Пастухи в вашем подчинении! Надо же следить за порядком!
На лице директора проступил румянец крайнего раздражения, вены на висках набухли. Он едва справился с собой, чтобы еще не накричать на Яшину, потом, немного остынув, стал звонить в сельпо. Председатель потребкооперации, как и следовало ожидать, брать вину на свое ведомство не собирался.
— Ваши коровы бродят везде без присмотра, а мы отвечай? — сказал он. — Требуйте со своих подчиненных. Пусть не распускают стадо!
— Мы обратимся в суд с иском за причиненный совхозу ущерб, — горячился Лисицын.
— Стоит ли, Степан Артемьевич? Может, корова-то съела не гвоздик, а кусочек проволоки. У вас ведь сено-то в тюках проволокой вяжут…
— Мы летом прессованным сеном коров не кормим. У нас есть вещественное доказательство — гвоздик от ящика с фруктами.
— А может, это не тот гвоздик. Мало ли их валяется на улице… Степан Артемьевич, не волнуйтесь. Ящики мы приберем, это наш святой долг. А вам надо прижать пастухов Они виноваты.
Диалог на тему гвоздь — проволока продолжался еще несколько минут. Все доводы Лисицына отметались вчистую, и он в сердцах положил трубку.
Яшина молча стояла перед ним, и вид у нее был очень обиженный и удрученный.
— Ладно. Создадим комиссию, хорошенько расследуем это дело, — сказал Лисицын. — Акт я пока не подпишу. Если пастух виноват — сделаем на него денежный начет.
— Он тогда уйдет с работы, бросит стадо вовсе, — несмело возразила главный зоотехник. — Весной я еле уговорила его попасти коров в этот сезон…
Лисицын озадаченно умолк, призадумался.
— Черт знает что… С пастухами и в самом деле трудно. Почему не хотят идти на эту работу? Зарплата приличная, заняты только летом. Ладно. Пусть этим делом займется наш народный контроль. И потом на собрании в Борке надо этот случай обсудить. Чтобы не было больше ничего подобного.
Яшина сдержанно кивнула и вышла. Лисицын взволнованно заходил по кабинету…
Опять забота.
2
Степан Артемьевич старался теперь пораньше приходить домой — беспокоился за жену. Смерть матери и такое неожиданное появление человека, который был ее отцом, вконец расстроили ее. Она стала молчаливой, задумчивой и даже рассеянной. Он видел, что жена очень тяжело переживает все это, и старался побольше быть возле нее.
Странное положение: судьба, лишив ее матери, привела в то же самое время в ее дом отца. Но он и не подозревал о своем отцовстве, он просто пришел навестить старую знакомую — и только. Это казалось объяснимым и естественным. Человек приехал в город, где некогда побывал еще в молодости, и не мог не вспомнить о прежнем своем знакомстве, быть может, увлечении. Он стал искать прежнюю связь. Совсем как у Ромена Роллана в «Кола Брюньоне»: «Я пускаюсь по дорогам былых времен собирать увядшие цветы воспоминаний»…
Но цветов не было, они повяли, засохли, превратились а пыль, прах…
Что чувствовал Романенко, побывав у них? С какими мыслями ушел? Неужели сердце не подсказало ему, что перед ним была его дочь? Она даже, если присмотреться, была похожа на него. Разве он того не заметил?
— А если бы ты призналась ему? — спросил однажды Степан Артемьевич, когда разговор коснулся Романенко.
— Что я могла ему сказать! — ответила Лиза. — Что появилась на свет как «тайный плод любви несчастной» и почти полжизни прожила тоже тайком от так называемого отца? Нет, он мне не нужен. Он даже может оказаться лишним в моей, в нашей с тобой жизни. Зачем усложнять ее, она и так нелегка. Я все время изгоняю его из своей памяти, а он настойчиво всплывает вновь и вновь.
— Так ты, дорогуша, вовсе замучишься. Эти переживания собьют тебя с панталыку, — говорил Степан Артемьевич. — Наверное, надо или совсем выбросить его из головы, или пойти в открытую, написать ему. Тогда все станет на свои места.
— Написать? Куда? На деревню дедушке? — усмехнулась Лиза. — Он не оставил адреса. Ладно, бог с ним. Будем считать, что его нет. Я больше не хочу морочить себе голову. Нет и нет! Сколько детей на земле растут и живут без отцов! Я разделяю их участь…
— Но безвестных отцов можно оправдать: они дали начало новой жизни, — неуверенно промолвил муж.
— Не вижу никаких оправданий. Кукушкины замашки! Не более того. В твоих словах нетрудно различить ваш мужской эгоизм…
— Ну зачем так… Я просто размышляю.
— Итак, забудем о нем. Навсегда.
— Забудем.
Но забыть было непросто. Мысль о том, что отец есть, где-то живет, что-то делает и не подозревает о существовании дочери, еще долго, до конца жизни, не сможет оставить Лизу. И в тот вечер, когда они вспомнили о Романенко, в их жизни произошло еще одно событие.
Решив предать забвению несчастного Романенко, они долго еще сидели, пили чай, говорили о том, о сём. Лиза поуспокоилась, овладев собой, но вдруг как-то странно выпрямилась и, быстро встав, пошла на кухню. Он, встревожась, последовал за ней. Лиза склонилась над раковиной, ее мутило.
Она еле справилась с собой и, тяжело дыша, приложила руку к животу:
— Вот тут нехорошо. Ой, как муторно!
— Надо принять желудочные таблетки, — он кинулся к домашней аптечке.
— Таблетки не помогут. Меня и прежде мутило, — изменившимся голосом сказала Лиза, умывая лицо под краном. — Еще в городе, когда была на семинаре. Кажется, у нас… у нас будет ребенок.
— Ребенок? — радостно воскликнул Степан Артемьевич.
— Значит, так.
— Это же здорово! Это же такая радость, Лизок! — Он бережно уложил жену на диван, принес подушку и прикрыл Лизу мягкой шалью. Она, полулежа на смятой подушке, смотрела на мужа с многозначительной улыбкой. Он стоял перед ней в состоянии радостного оцепенения и тоже улыбался и разводил руками.
— Это здорово, Лизок! — повторил он. — Если это действительно так, то… дай я тебя расцелую! — Он опустился перед ней на колени и стал целовать ее влажное горячее лицо. Лиза посмеивалась и слабо махала рукой:
— Не суетись прежде времени. Может, я и ошиблась…
Он испуганно посмотрел ей в глаза. Лиза полуприкрыла их пушистыми ресницами. В узких щелках век поблескивали влажные, чистые белки.
— Как ошиблась? — он поднялся с колен и опять развел руками. — Разве можно ошибаться в таком случае?
— Пожалуй, ошибки быть не может. Успокойся.
Степану Артемьевичу показалось, что в их тесноватой маленькой квартирке вдруг стало светло и празднично. Так бывает рано утром, когда солнце, поднявшись, начинает жарко полыхать в окнах, и все ночные тени исчезают, растворяются в радужном блеске нового дня.
Это прекрасно — чувствовать себя будущим отцом. Не каким-нибудь случайным, как говорят в народе — «с ветра», подобным несчастному Лизиному родителю. Законным отцом будущего ребенка! Ведь он непременно явится на свет, вырастет и бок о бок с тобой зашагает по жизни. Сознание отцовства придает человеку уверенности, он как бы становится старше на несколько лет, у него прибавляется сил, ума, чувства ответственности за все, что происходит вокруг. Еще загодя он начинает создавать условия для нормальной жизни человека, который еще не родился и, по словам шофера Сергея, только «запроектирован». Но для него надо приготовить все, что станет необходимым: от слюнявчиков и распашонок до угла в квартире — удобного, светлого, самого почетного — красного. А после присмотреть и места вне дома — на деревенской улице, на лужайках, у речки, в лугах, где будет расти, развиваться и потом вершить великие дела новый гражданин.
Такие высокие мысли приходили в те дни в голову Степану Артемьевичу. Он свозил жену в Чеканово в женскую консультацию. Предположение о беременности подтвердилось, и в жизни супругов Лисицыных взаимная любовь стала еще более крепкой и нежной.
Степан Артемьевич поторапливал плотников, которые строили на окраине села, над рекой, отдельный домик-коттедж на две квартиры — для Лисицыных и Яшиной с ее семьей. Лучше будет, если новорожденный сразу станет жить в новой квартире.
Степан Артемьевич приметил, что мосточки, ведущие к клубной библиотеке, узковаты, ненадежны, и распорядился прибавить в ширину к имеющимся еще две доски. Боровчане удивились повышенному вниманию директора совхоза к клубному подъезду, но позже сообразили, что к чему, видя, как Лиза важно, «утицей» следует на работу.
3
Время шло, как ему и положено, вперед. Вот уже и августовская желтизна вцепилась в пышные кроны берез и осин. Уже и дымки от индивидуальных бань на берегу реки стали стлаться по субботам ближе к земле, подобно вечерним туманам. По утрам женщины ходили на речку мыть в плетеных корзинах свежевыкопанную синеватую молодую картошку. Уже и мамаши школьников-первоклашек нарасхват раскупали в промтоварном магазине ученическую форму, ранцы, пеналы и тетрадки.
В совхозе закончилась заготовка кормов, и все вздохнули свободнее. Остались невыкошенными только лесные неудоби, где рабочие косьбой вручную добирали последние центнеры сена.
В середине августа поспели грибы, и по утрам, когда в низинах, среди обкошенных лугов, прозрачными слоистыми облачками стояли туманы, весь совхоз разбегался по ближайшим лесочкам. До восьми утра боровчане успевали наполнить свои корзинки и заплечные берестяные пестери крепкими рыжеватыми волнушками. Грибов уродилось много — лето стояло довольно влажное. Степан Артемьевич хмурился: с этими грибами согрешишь… Кое-кто опаздывал на работу, а управляющие отделениями и бригадиры смотрели на все сквозь пальцы.
В конце концов не выдержал и директор и в прошлое воскресенье тоже махнул с Новинцевым в лес. Поехали с женами, на машине.
Грибов набрали много. Вернувшись из леса, Степан Артемьевич и Лиза полдня чистили их, а потом залили холодной водой — вымочить перед засолкой.
Лисицын вырос в деревне и знал, как солят волнушки. Дело нехитрое: подержи их в воде сутки-другие, хорошенько пропарь ушат горячей водой с можжевельником, вытри досуха, выстели донце смородиновым листом и укладывай рядками грибы, один к одному, пересыпая их солью. Можно добавлять для аромата разрезанные дольки чеснока и тот же смородиновый лист. Зимой от такого яства за уши не оттянешь.
Замочить-то грибы он замочил, а солить некогда. Лиза нетерпеливо заглядывала в бак, где мокли волнушки, и переживала. Сама она солить не умела, а мужу все некогда. Весь день мотается по полям, а то и в райцентр ездит, а вечером сидит в прокуренном кабинете, кричит по телефону, объясняется с подчиненными. То там у них какая-то техника поломалась, то с огрехами вспахали поле или оставили на нем при уборке много колосьев. А то вдруг примутся заседать до позднего вечера в табачном дыму, в спорах и перебранках. Она заглядывала к мужу, поторапливала его, а он неизменно отвечал: «Иди, я сейчас!»
Проходил час, другой, третий, а его все не было. Лиза нервничала, скучала, бралась за домашние дела, но все у нее валилось из рук. Встречала она мужа упреками:
— Как же так можно, Степа? Ты же нисколько не отдыхаешь! Что у вас за система такая — работать до полуночи? Где охрана труда, куда смотрит профсоюз?
— Какая еще охрана труда? — отвечал Степан Артемьевич, идя к умывальнику. — Хлеба сырые, комбайны мнут солому. Вымолачивается зерно не полностью. Дела неважные, значит, поделом директору: пусть думает. Дня-то не хватает!
— Почему у тебя всегда дела неважные? Когда будут важные? — Лиза надувала губы и слегка капризничала, как маленькая девчонка.
Степан Артемьевич умывался, шумно отфыркиваясь и расплескивая воду, вытирал за собой вехоткой пол.
— Жизнь, она такая штука: в ней всегда что-нибудь не ладится. — Он выходил из кухни с полотенцем в руках.
— Невразумительно. Давай сначала поешь, потом объяснишь все хорошенько.
Он ел торопливо, с завидным аппетитом и сетовал:
— Понимаешь, мы до сих пор не можем добиться рентабельности. Рен-та-бель-но-сти, понимаешь?
— Понимаю. Совхоз работает с убытками?
— Увы. Живем на государственной дотации. И если так будет продолжаться, нам никогда не отказаться от нее. Мы — нахлебники у государства. Вот в чем дело.
— А другие?
— В нашем районе мало рентабельных хозяйств.
— Ну вот, чего же переживать? Да ты не торопись, — назидательно говорила жена. — Пищу надо прожевывать хорошенько.
— Прожевывать, прожевывать. Что ты читаешь? — бросил он беглый взгляд на книгу, которую Лиза держала в руках.
— Повесть на деревенскую тему. Хочу проникнуться… Между прочим, поучительно. Там один крестьянин уехал из своей деревни в Мурманск с мешком лука, чтобы продать его, но с полдороги вернулся, вспомнив о семье. Вернулся, а там беда: жена внезапно умерла, оставив ему кучу детей.
— Знаю, читал.
— Рабочие нашего совхоза живут значительно лучше, не так ли?
— Лучше? Пожалуй. В повести рассказано о вчерашней деревне. Тогда в ней было много труднее. У тебя сколько зарплата? Восемьдесят? То-то, а на ферме доярка теперь имеет все триста…
— Уж не хочешь ли ты сказать, что мне следует пойти в доярки?
— А почему бы и нет?
— И это говоришь ты, мой законный супруг? — удивилась Лиза, округлив свои и без того большие глаза. — Неблагодарный!
— Успокойся. Я пошутил, сказал для сравнения. Нынешняя деревня несколько иная, и люди в ней другие. За скудный трудодень, как когда-то бывало, вряд ли будут работать. Тот колхозник хотел уехать от нужды, на заработки, а скоро из города сюда люди будут переезжать. По крайней мере, так должно быть по моим прогнозам.
— Фантазируешь.
Степан Артемьевич, сытно поужинав, заговорил спокойнее, щурясь на желтоватый огонь настольной лампы, как на солнце.
— В устье Северной Двины очень заметны приливы и отливы. Хлынет вода с моря, постоит час-другой и пойдет назад. Горизонт ее то выше, то ниже, то опять выше… Так и в жизни: после отлива должен быть прилив. У нас на селе отлив слишком затянулся. Но скоро будет прилив, я верю.
— А потом опять отлив? — насмешливо спросила Лиза.
— Что ты говоришь? Какой отлив может быть потом?
— По законам природы.
— Не все законы природы применимы к общественным явлениям.
— Теперь ты начнешь читать мне лекцию?
— Лекции не будет, успокойся. Ты сама завела разговор. Ты вот приехала в деревню, живешь, трудишься и на город не оглядываешься.
— Плохо вы, товарищ директор, знаете свою жену. Как раз наоборот.
— Наоборот? Любопытно.
Лиза замялась: «Не отложить ли этот разговор до другого раза? Он устал, несколько взвинчен…» Но решила все-таки сказать то, о чем думала уже не раз.
— Наша городская, мамина квартира пустует. Отберут в жэк. Не переехать ли нам, пока не поздно, в город?
Степан Артемьевич уставился на жену растерянным и холодным взглядом.
— Ты так считаешь? — спросил он.
— Да.
Он долго молчал, обдумывая ответ, такой, чтобы не очень разволновать свою беременную супругу.
— Перебраться, конечно, было бы можно. Для тебя эго удобно, стала бы опять работать на прежнем месте. Но у меня ведь совсем другое дело! Я должен работать и жить здесь. Не хотелось бы прибегать к высоким фразам, но так велит долг.
— Долг? Перед кем? После института ты уже отработал положенный срок.
— Верно, отработал. А моя профессия? Я ведь инженер по сельскохозяйственным машинам. Что мне делать в городе?
— Ну, там сколько угодно разных инженеров, сидящих по канцеляриям. И ты бы мог…
— Увеличить число канцеляристов, протирающих штаны? Мне нужна практика. Я люблю свое дело. Как оставлю людей, которые здесь идут со мной в одной упряжке? Это же очень хорошие люди. В большинстве.
Карие глаза Лизы затуманились грустью, она заговорила с досадой:
— Я понимаю, растить хлеб и картошку, косить сено и прочее — очень важно. Но ведь ты отработал послеинститутский срок! Кто тебя упрекнет? Пусть теперь другие попробуют, поживут здесь. А мы переедем. Здесь нет даже детских яслей. Надо думать о нашем будущем ребенке.
— Ребенок — это серьезно, — отозвался он. — Однако деревня — не проходной двор. Потому-то в городах и затруднения со снабжением, что многие думают так: «пусть, дескать, другие работают на селе, только не мы. Мы хотим жить в городском тепле и уюте, с удобствами, спать мягко, есть вкусно. Одеваться с шиком в импортный вельвет и кожаные пиджаки, дефилировать по улицам и проспектам, щеголяя своей фугурой, нарядами. Мы, как сказал однажды наш главбух, «белая кость», нам сельский труд не импонирует. Мы созданы не для него. Мы — тонкие натуры, — Степан Артемьевич уже закусил удила, — на досуге занимаемся резьбой по дереву или, как чеховская Попрыгунья, живописью, ходим в дискотеки, посещаем симфонические концерты и кричим: того нет, другого нет. Давайте!
— Это уж, во всяком случае, не по моему адресу?
— Нет. Вообще. Разве я не прав?
Лиза молчала.
— Там, в городах, — продолжал он, — люди месяцами стоят в очередях за дорогими мебельными гарнитурами, волокут все это в свои квартиры, набивают шкафы носильными вещами, а стеллажи — книгами. По выходным дням, чтобы поразмяться, подышать воздухом, выезжают на так называемые дачи. Даже в сельских райцентрах — дачи! Понимаешь? Покопаться на садовом участке, на огороде. Сельский труд становится таким же хобби, как безделушки из древесных кореньев, чеканка на металле грудастых амазонок или ундин в обнаженном виде… Как коллекционирование марок и наклеек от спичечных коробков. Что это? Мамаево нашествие мещанства!
— Ну уж и развоевался! Что с тобой, Степа? Ты закатил такой страстный монолог! Кого ты обличаешь? И справедливо ли? Люди хотят жить лучше, интереснее, отдают досуг любимым занятиям. Чего тут плохого? И, кроме того, они должны и могут жить там, где хотят, где им надо.
— Ну, может, я и перехватил. Но досада берет! В селе-то пустовато! Я вот давал заявку службе трудоустройства, и что ж ты думаешь? Пока на наше приглашение никто, никто не отозвался!
Лиза пожала плечами и продолжала гнуть свою линию:
— Ну ладно, если уж тебе так необходимо быть поближе к земле, то живи в городе, а на работу сюда езди. Сообщение есть. Недельку отработаешь, а на выходные — домой. А иногда и на неделе приедешь. Меня это пока, — она сделала ударение на слове «пока», — устроит. Ведь мамина квартира хоть и небольшая, а такая уютная. Мне там хорошо будет с ребенком. И тебе, разумеется…
— Летом в Борок на «Ракете» ехать недолго. А зимой дороги хорошей нет, автобусная линия в стороне.
— Так постройте дорогу! — уже раздраженно сказала Лиза. — Для совхоза ведь она необходима. Сколько раз ты говорил, что надо бы ее построить, тогда перевозки обойдутся дешевле.
— Легко сказать — постройте.
— В конце концов, не обязательно ездить, — стояла на своем жена. — Работу ты можешь получить в областном управлении. С руками возьмут! Ты у меня дельный парень. — Она положила руку ему на плечо. — Подумай хорошенько. Давай пока этот разговор отложим, а ты все же подумай.
Степан Артемьевич погрустнел, сник. Лиза обняла его за плечи, запустила пальцы в русые волосы, заглянула ему в лицо и невинно спросила:
— Ты на меня не сердишься?
— На тебя невозможно сердиться. Но… с тобой не соскучишься. Недаром сказано: «Золото пробуется огнем, женщина — золотом, а мужчина — женщиной».
— Это ты к чему?
— А к тому…
4
Погода снова переломилась. Юго-западный ветер — шелоник разогнал беспросветные облака и притащил им на смену грозовые тучи. На улице стало тихо, ветер угомонился, перестал шуметь и тормошить деревья под окнами. С южной стороны повеяло влажным теплом. Но так продолжалось недолго. К вечеру тучи медленно, но уверенно накрыли землю, погрузив ее в полутьму, в небе стало угрожающе погромыхивать и посверкивать. Вскоре раздался мощный залп небесных пушек, запульсировали вкось и вкривь голубоватые дрожащие змейки молний. В рамах изб под напором ветра и дождя кое-где лопнули стекла. Боровчане попрятались по закуткам. Однако не асе: Трофим Спинын в это время оказался со своим катером на Двине.
Напором ветра его суденышко понесло, как скорлупку, по фарватеру. Трофим с трудом удерживал катер так, чтобы не зачерпнуть бортом воды, еле дотянул до пристанского дебаркадера и причалил к нему с подветренной стороны, зацепившись багром за брус на корме. Тут было тише — ветер нажимал на пристань с другой стороны, с носа. Трофим накинул на себя брезентовый дождевик, поднял капюшон и стал пережидать грозу.
Ливень шел такой, что ничего вокруг не рассмотришь, и конца ему не предвиделось. Идти домой сейчас несподручно, до протоки, соединявшей Двину с Лаймой, оставалось около километра по открытому месту. Спицын, держась за багровище, курил и ждал. Дым ел глаза, набиваясь под капюшон. Так и сидел он на банке, набравшись терпения.
А ветер вскоре перешел в ураганный. Вверху, на палубе пристани, захлопала дверь, кто-то быстро протопал там тяжелыми сапогами, и дверь перестала хлопать, видимо, ее закрыли на запор.
«Трах-тах-тах!» — грозилось небо, и молния слепила глаза. «Опасно сейчас на воде, — подумал Спицын. — Все мокрое: катер, одежда. Бр-р-р…» Но подняться на пристань никак нельзя, для этого надо было подойти с наветренной стороны, там трап.
И сама пристань начала под ударами ветра ходить на плаву из стороны в сторону, пришлось покрепче забить обухом топора багорный крюк в бревно. Высвободив лицо из-под капюшона, Трофим глянул на реку. Там шумели и неслись вниз по течению огромные валы — река будто вспучивалась. «Ну и дела!»
Гроза продолжалась около часа, и столько же времени буйствовал крепкий ветер. Если бы не стальные тросы, дебаркадер бы, наверное, сорвало с места и унесло вместе с катером Трофима.
Когда немного стихло, стало уже совсем темно. Спицын запустил мотор и пошел вдоль берега к протоке. И тут его острый глаз приметил бревна, плывущие вниз по течению, — много бревен. «Видимо, разбило плот, что тащил какой-нибудь буксиришко, — подумал Трофим. — У оплотника порвало цепь, и бревна рассыпались». Крадучись, на малом ходу, он подошел к бревнам, взял веревку и накинул петлю-удавку на два ближних, потом поймал еще одно и повел бревна на буксире. Мотор у него был сильный, за кормой кипела вода.
«Такой случай упустить грешно, — оправдывал он себя. — Бревна все равно раскидает по берегам, сплавная дистанция не враз отыщет их, а то и вовсе не найдет, другие подберут. — Он прибавил оборотов. — Зайду в протоку, бревна оставлю и, быстренько поймаю еще».
Так он и сделал. Войдя в протоку, отцепил бревна и затолкал их багром в прибрежный хвощ. Вышел снова в Двину и поймал еще три толстых бревна. Он спешил: надо успеть, пока на реке нет никого. Прибавив новую партию бревен к прежней, он, чуть поколебавшись, опять ринулся в погоню за плывущими бревнами. Сплавив все пойманные кряжи в протоку, выключил мотор и прислушался.
На Двине неподалеку длинно и устало прогудел гудок речного буксира. Показались сигнальные огни, луч прожектора. Трофим, привстав с банки, разглядел, как у плота, что вел буксир, возились люди в лодке. Видимо, им стоило больших трудов в такую непогоду скрепить оплотник тросом. Размеры плота сильно уменьшились, — Трофим заметил это. Значит, унесло много бревен, их будут искать только утром. А до этого он все сделает.
Он отбуксировал бревна по протоке, а из нее — по Лайме к своей избе, стоявшей на самом берегу. Повозился немало, устал как дьявол, но дело сделал. Оставалось выкатить бревна из воды, сложить в штабелек и прикрыть чем-нибудь. Пришлось позвать на помощь Марфу. Она уже улеглась спать, когда он, придя в дом, выпил кринку молока и разбудил хозяйку. «Погодил бы до утра!» — проворчала Марфа, сверкнув на него из-под распущенных седых волос злым взглядом. «До утра нельзя, — ответил он. — Пойдем».
С помощью Марфы он выкатил бревна, сложил их возле забора и забросал сеном.
В Борке все спали под шумок августовской грозы, и никто не был свидетелем его стараний. Трофим был уверен, что если уж эти бревна станут искать, то никак не здесь, возле Борка, вдали от Двины.
Подозрение появилось только у Чикина. Придя, как обычно, посидеть на скамейке, он обозрел окрестность и заметил на усадьбе Спицына у забора свежую копешку сена необычной, продолговатой формы. Хорошо зная повадки соседа, он подумал, что тот что-нибудь припрятал, иначе зачем быть на берегу такой странной копне. «Может, нашел чужую лодку, унесенную вчерашним ветром, или какие-нибудь бревна перехватил в воде». Чикин потом даже специально прошел мимо копны, когда Трофима на берегу не было, и потыкал в нее батогом. Батог уткнулся в дерево, и Чикин догадался: «Плавник! Аварийные бревна».
А когда по селу прошел слух, что ночью в грозу на Двине разбило плот с лесом, Чикин окончательно утвердился в своей догадке.
На другой день копна исчезла. У забора ничего не было, только примятая травка. Чикин удивился: «Уже и концы в воду. Уже и продал кому-то. Попробуй поймай его за руку!»
5
После ненастья выдалось спокойное золотистое воскресное утро. Степан Артемьевич сразу после завтрака принялся солить волнушки. Лиза помогала ему. О недавней размолвке, связанной с ее намерением перебраться в город, словно бы забыли, оба делали вид, что ничего не произошло. Лиза старательно укладывала в ушат смородиновые листья, Степан Артемьевич разравнивал вымоченные, пожалуй, больше, чем надо, грибы и пересыпал их крупной солью.
В разгар этой работы к ним пришел Новинцев, собравшийся на рыбалку. На нем — резиновые сапоги-бродни с подвернутыми голенищами, брезентовая куртка и какая-то легкомысленная, словно подростковая кепочка.
— Пойдем покидаем спиннинг, — предложил Иван Васильевич. — В озере Лесном должна брать щука. Вчера народился месяц.
— Разве месяц влияет на щучий жор? — спросил Лисицын.
— Представь себе. Природа — она такая штука, в ней все взаимосвязано. И надо быть ближе к ней.
— Признаться, я не думал о рыбалке, — Степан Артемьевич слегка прижал грибы в ушате ладонью и взял щепоть соли.
— Так соберись. Снасти я взял. Надень сапоги, и потопаем.
Лисицын вопросительно поглядел на жену.
— Как хочешь, — сказала та. — Я тебя не держу,
— День-то воскресный! — настаивал парторг. — Чего дома киснуть? Свежий воздух — он вот как полезен! Когда ты был на рыбалке последний раз?
— Уж и не помню…
— Ну вот. А щуки там водятся крупные. Во какие! — Новинцев широко расставил руки, посмотрел на них и немного уменьшил размах: — Нет, вот такие, пожалуй. В любом случае на жарешку добудем. Лиза нам и приготовит. Моя-то жена на работе.
— Так и быть, пойдем. Сейчас я покончу с волнухами, — согласился Лисицын. — Еще немного осталось.
Новинцев сел на табурет и стал терпеливо ждать. Супруги наконец закончили возню с грибами. Степан Артемьевич закрыл волнушки деревянным кружком, сверху положил чистый камень-голыш и поставил ушат в угол.
— Ты завтракал? — спросил он Новинцева. — Ну, тогда пошли.
Идти надо было сперва на Горку, а от нее лугом вдоль Лаймы. Озеро располагалось в лесном урочище посреди пожен.
Улица Борка была почти пустынна. Из громкоговорителя на деревянном столбе гремела музыка, передавали какую-то симфонию. Степан Артемьевич приметил: кое-где в оконца выглядывали боровчане, провожая любопытными взглядами совхозное начальство в необычной рыбацкой одежонке. Должно быть, посмеивались над длинноногим директором, который вышагивал, словно журавль, в резиновых сапогах с короткими — едва до колен — голенищами, и над Новинцевым в его легкомысленной кепочке, брезентовой куртке и сапогах с раструбами, как у бутафорского мушкетера. Новинцев нес в руке два спиннинговых удилища, а все остальное — катушки, блесны, хлеб, котелок — было у него за спиной в стареньком рюкзаке. Лисицын шел с пустыми руками.
— Ловись, рыбка, большая и маленькая, — напутствовал их мальчишка, влезший на забор неподалеку. За забором росла старая раскидистая черемуха. На крепких сучьях, словно грачи, сидели еще трое мальчишек и поедали недозрелые ягоды. Пятна солнечного света, пробиваясь сквозь листву, ложились на их лица, вихры и плечи, и от этого тщедушные фигуры мальчишек казались пестрыми. «Пятнистые мальчишки!» — подумал Лисицын с усмешкой, глубоко вздохнул и прищурился на солнце, радуясь хорошему дню, а более того — прекрасному настроению.
— Яшины-Челпановы огольцы, — рассмеялся Новинцев. — День-деньской лазят по деревьям. Такой период в развитии… занимаются собирательством, подобно первобытным людям. А Яшина их ругает на чем свет стоит: на них, говорит, рубах не напасешься.
— Дети есть дети, — сказал Лисицын. — И мы так когда-то лазили…
Один из огольцов показал ему черный от ягод язык и отвернулся. Двое других не обращали на рыбаков ни малейшего внимания. Мальчишка, что кричал с забора, присоединился к ним, заняв свободный сук.
Из дома на крыльцо вышла бабка, простоволосая, в длинной юбке, и крикнула мальчишкам:
— Ягоды-то ешьте, а сучьев не ломайте!
— Приглядная у тебя женушка, — сказал Новинцев, когда черемуха и мальчишки остались позади. — Современная, утонченный интеллект. Так ведь? А где ты ее подцепил?
— Приглядная, — согласился Лисицын. — А насчет утонченности интеллекта ты, пожалуй, преувеличил. Уж не влюбился ли? Смотри, я ревнив.
— Ревность — пережиток. И влюбляться в чужих жен мне по чину не положено… Ты, брат, извини меня, но Лиза твоя, кажется, слегка деформирована?..
Лисицын расхохотался на всю улицу:
— Ну и словечко подобрал! Погоди немного, еще больше будет де-фор-ми-ро-ва-на…
— Этот факт заслуживает всяческой похвалы, — полушутя заметил Новинцев.
— А я думал — порицания…
На околице, у крайнего домика, они увидели шофера Сергея. Он что-то делал на огороде и, завидя их, подошел к палисаднику и поздоровался. Крепкий торс его втугую обтягивала голубая майка. Шофер приветливо улыбнулся, слегка тряхнув рыжеватым чубчиком. Лицо у него было румяным — то ли от солнца, то ли от смущения, веснушки налились соком и казались выпуклыми.
— Степан Артемьевич, Иван Васильевич! Куда пошли? На Лесное? Долго ли там пробудете? Я за вами могу приехать.
— Сегодня выходной, отдыхай, — сказал директор.
— Мне надо туда заглянуть, сена посмотреть.
— Какие сена?
— Совхозные. Не загрелись ли в стогах.
Лисицын посмотрел на шофера с недоумением: почему его так интересует качество совхозных сенов, и сказал Новинцеву:
— Видите, какой сознательный у нас водитель. Сена хочет проверить.
— А чего удивляетесь? — рассмеялся Сергей. — Народный контроль. Вы разве забыли, что меня туда избрали?
— Ладно, приезжай часикам к пяти вечера.
— Приеду.
6
Лисицын последнее время не заглядывал на Горку и теперь отметил, что видимых изменений тут не произошло. Все так же вразброс стояли редкие избы, и никого возле них не было видно. Трава на пустырях вокруг домов и на запущенных огородах нежилых построек была выкошена и сметана в два небольших стога.
Новинцев сказал:
— Горка, видимо, так и останется здесь. Хоть ты на нее и замахивался.
— Пусть себе живут старики. Не будем тревожить. В общем, эта деревенька нам не мозолит глаза, места занимает немного. При необходимости в пустых домах можно будет разместить людей хотя бы временно, на лето.
Из-за деревьев показалась изба Гашевых. Степан Артемьевич вспомнил приятную беседу за самоваром и тут же удивился: на крыше Гашев настилал рифленые шиферные плиты. Забивая гвозди обухом топора, он стучал уверенно, бойко, и обух как бы утверждал: «Я тут-тут-тут!»
— Вот так штука, — сказал Лисицын. — Хозяин решил-таки сменить кровлю. А ведь колебался, делать ли ремонт. Жить тут, что ли, собирается? Пойдем, поговорим.
Гашев спустился с крыши, стряхнул с пиджака пыль и поздоровался.
— Решил-таки делать ремонт? — спросил его Лисицын.
— Надо, — ответил Гашев. — Крыша худая — и стены рушатся. А мне избу жаль. Может, еще придется тут жить, — знакомым Лисицыну жестом он прошелся рукой по золотистым усам. — Скорее всего придется.
— У вас же в Борке квартира хорошая, — сказал Новинцев.
— Видите ли, там, кроме кошки, живности не заведешь. А у меня хозяйка начала подумывать о покупке коровы. Сама на ферме бригадир, а свое молочко, говорит, лучше. От одной коровы, не от двухсот… — Николай рассмеялся, голубые глаза потеплели. — В общем, мы кажется, переберемся сюда. Боровскую квартиру сдадим. Пусть кто-нибудь живет.
— Твердо решил? — спросил Лисицын.
— Пока не окончательно. Сделаю ремонт — видно будет.
— Материалами, если надо, поможем. Приходите.
— Спасибо.
Они пошли дальше. Скоро перед ними на обкошенной поляне показались стога сена, а за ними открылось небольшое озеро Лесное. Оно лежало в низине, словно в чаше, обрамленное камышами и ельником. От елей на воду ложились тени, и вода у берегов казалась мрачной, темной, как в омутах. Поверхность была спокойной, только посредине от слабого ветра накинуло рябь поверху. Выбрав место на лужайке, рыболовы собрали удилища, соединив их трубками, закрепили катушки с лесками и блеснами и разошлись, Новинцев влево, Лисицын вправо.
Новинцев быстро наловчился закидывать блесну, у Лисицына это получилось не сразу. То он кидал ее в траву, то она цеплялась за кусты. Наконец и он приспособился.
Блеснили долго — но ни одной поклевки.
— Где же твои хваленые щуки? — спросил Лисицын.
— Должны быть, — донеслось из-за кустов, — время мы, видимо, выбрали неудачное. На вечерней бы зорьке…
Они вернулись на полянку, где было старое кострище, и устроили перекур. Сидя на обомшелом пеньке и отмахиваясь от комаров, Новинцев предположил:
— Наверное, щука нахваталась рыбы и теперь стоит где-нибудь в тенечке и переваривает…
— Переваривает? Возможно, — усмехнулся Лисицын.
— Надо подождать.
— Когда переварит?
Новинцев не придал значения иронии Лисицына.
Сидели довольно долго, потом опять стали блеснить, но все старания были напрасны.
— Кажется, в августе щука меняет зубы, — сказал Новинцев. — Тогда она не берет на блесну.
— А в каких числах?
— Точно не знаю. Кажется, в середине месяца.
— Теперь самая середина и есть. Давай перекусим.
Пища у них была позорной для рыбака: хлеб и овощные консервы. Лисицын, поев, развалился на траве и закурил.
— Ты не очень-то валяйся, — предупредил Новинцев. — Тут болотина, земля сырая. Сядь лучше на бревешко.
Лисицын послушался, сел на валявшееся поблизости обгорелое бревешко. Время меж тем близилось к вечеру. «Скоро должен приехать Сергей», — подумал Лисицын.
— Прекрасный пейзаж! — сказал он Новинцеву. — Прямо-таки васнецовский. Помнишь «Аленушку»? Тихо, благодать. Природа типично северная.
— Да, тут хорошо. Я давно на этом озере не был. Почти ничего тут не изменилось. Первозданный уголок…
Но тут раздался грохот. Из речки Лаймы, что брала начало в озере, на всем ходу вылетел моторный катер. Современный, с металлическим корпусом, из тех, какие выпускаются тысячами для того, чтобы греметь «Вихрями» в таких вот беззащитных озерках и речках, мутить воду до дна, вонять бензиновым выхлопом, разрушать берега и обращать все живое в паническое бегство. Он взорвал тишину, поднял волны, они стали бить в низкие торфянистые берега, подмывая их. Катер вышел на середину озера и сбавил обороты. В нем сидели двое мужчин. Один из сидевших заглушил мотор и взялся за весла, другой принялся с борта ставить сеть. Поставили, опять на моторе отъехали к берегу, побыли там, запустили двигатель на всю катушку и стали носиться по озеру как сумасшедшие, описывая круги, сужающиеся к центру, к месту, где стояла сеть. Мотор ревел во всю мочь, по озеру шли валы, камыши шумели, кивая тонкими вершинками.
— Ах, стервецы, что делают! — воскликнул Новинцев. — Это они загоняют рыбу в свою сетку.
— Браконьеры! — Лисицын смотрел и злился.
— Так делают, наверное, не впервые. Губят озеро. Рыбешка разбегается или очертя несется прямо в сеть.
— Эй, прекрати-и-те! — во всю мочь крикнул Степан Артемьевич.
Но из-за шума и расстояния его не расслышали.
— Кричать бесполезно, а выехать, взять их за шиворот нам не на чем, — с досадой сказал Новинцев.
Лодка меж тем продолжала чинить разбой. Описываемые ею круги все сужались, и вскоре браконьеры, приглушив мотор, стали выбирать сеть.
— Озеро ведь на территории совхоза. Надо будет выяснить, кто это, да хорошенько штрафануть.
— Рыбаки чужие. Скорее всего из поселка бумажного комбината. Из Двины — в Лайму, из нее в Лесное. Тут недалеко.
Настроение у них сразу упало, уже не радовал пейзаж с его бывшей тишиной, нарушенной грубо и бесцеремонно,
На опушке леса возле края пожни появился директорский газик. Сергей заглушил двигатель и пошел к рыболовам. Еще издали спросил:
— Ну как? Есть улов?
— Какое там! — махнул рукой Степан Артемьевич. — Те вон ловят, а мы ничего не поймали.
Сергей присмотрелся к катеру.
— Это комбинатовские. Они тут мутят воду каждый выходной. Управы на них нет. Я однажды пытался с ними поговорить, так ружьишком пригрозили. Пришлось отступиться.
— Надо было прийти ко мне, — сказал Лисицын. — Я бы вызвал рыбнадзор.
— В следующий раз учтем, — сказал Сергей.
Рыбаки в моторке выбрали сеть и поспешили скрыться.
— Удирают. Мы бы могли перехватить их на машине у Горки, — сказал Новинцев.
— Не успеть, — ответил Сергей. — Вы посидите, а я посмотрю стога.
Он обошел каждый стог, запуская в него в разных местах руку до плеча. Затем пошел к озеру и скрылся за кустами. Но вскоре вернулся с полиэтиленовым мешочком в руке, и в нем трепыхались несколько окуней, сорожек и подлещиков.
— Вот и уха, — сказал Сергей. — Здесь будем варить шли дома?
— Откуда у тебя рыба? — удивился Лисицын. — Ты, что ли, колдун?
— Нет. Все просто. Я верши поставил уже давненько. Тем, — шофер показал рукой, — есть ручей, он вытекает из озера. Вот в ручеек, в устьице, я и поставил. Изредка прихожу, осматриваю. Иной раз попадет, иной и нет. Тихий лов, без всякого шума.
— Так вот какие сена ты смотришь! — улыбнулся Новинцев. — Хитер, брат. Ну, поедем, что ли?
— И сена смотрю. Пощупал внутри — сухо. Не загрелось. А то иной раз смечут влажное сено, оно и сопреет. Зимой вместо корма — навоз…
Когда подошли к машине, стал накрапывать дождь. Лисицын глянул в небо и увидел опять те же самые «несельскохозяйственные» облака. Откуда они взялись? Ведь совсем недавно светило солнце!
Когда сели в машину, Сергей сказал:
— А щуки тут не водятся.
— Чего ж ты нам не сказал раньше? — спросил Лисицын.
— Не хотел портить вам настроение. Думаю: начальству надо отдохнуть от заседаний, проветриться. Пусть идут, мутят воду в охотку…
Он рассмеялся и дал газ.
Глава седьмая
1
Софья с получки зашла в промтоварный магазин, ей надо было купить к зиме сапоги, желательно импортные. Такая обувь и у борковских молодок считалась предметом особого шика, и за ней охотились те, у кого крепкая и упитанная деревенская нога влезала в фасонистое привозное голенище. Но импорта пока не предвиделось. Продавщица Дунечка, — есть такие женщины, которых до старости зовут Дунечками, Манечками, Лизочками, — довольно пожилая, плотная блондинка, шепнула Прихожаевой: «Будут — оставлю», и Софья, купив кое-что по мелочи, собралась домой, но тут окликнул ее Чикин. Он стоял у прилавка и выбирал расческу.
— Зачем вам расческа? — подивилась Софья. — У вас и волос на голове, как на коленке…
— Ну что там и у кого на коленке, мне неведомо, — рассмеялся Чикин. — А расческу все-таки куплю. Кое-что на затылке еще осталось.
Они вместе вышли из магазина, и Чикин поинтересовался:
— Ну как живешь, красотка?
Красоткой Софью он называл больше из стариковской лести, однако лицо у нее приятное, белое, чистое, маленький аккуратный носик, большие серые, с поволокой глаза, чуть припухлые, капризные губы. Фигура стройная, рост средний. Все это в сочетании с двадцатью восемью прожитыми годами придавало ей свежесть и неяркую, но уверенную неотразимость.
— Ничего живу. Вроде все ладом, — ответила она.
Мимо по улице тащилась широкая ломовая телега, которую лениво вез старый сельповский мерин. На телеге, свесив ноги в запачканных грязью сапогах, сидел возчик Крючок, сорокалетний чернявый мужик в ватнике и полотняном картузе с широким козырьком. Крючок — было видно — с утра опохмелился и, покачиваясь на телеге, отчаянно ругался на всю улицу. Он бранил и своего мерина, и телегу, и грязную после дождя дорогу, и председателя сельпо, который лишил его какой-то премии. Больше всех доставалось мерину. Крючок то и дело вдохновлял его вожжами. Конь косил на хозяина лютым взглядом и ожесточенно отмахивался длинным хвостом. Иногда удар хвостом приходился по физиономии Крючка, от чего тот снова взрывался… Однако мерин нисколько не прибавлял шагу и волочил телегу, как невольник во времена рабства.
— С утра набрался, — неодобрительно сказал Чикин.
Софья мельком глянула на Порова, но ничего не сказала. Чикин продолжал:
— Совсем обнаглел мужик. В рабочее-то время! Куда смотрит сельповское начальство? Вот прежде в колхозе, бывало, среди дня пьяного не увидишь. Прежде народ сознательней был, употребляли разве только по большим праздникам, да и то домоварное пиво. Водка была роскошью… Денег-то у мужика не водилось! А нынче иной всю зарплату перетаскает в продмаг. Перед похмельным часом забулдыги на крыльце в очередь выстраиваются. Ты-то, Соня, остепенилась? — со стариковской прямотой и бесцеремонностью спросил он.
— Остепенилась, — Софья поморщилась от неприятных воспоминаний.
— И хорошо. От вина бабы тоже бесятся…
— Как это понимать?
— Как хошь, так и понимай, — уклонился Чикин от ответа. — Я о тебе нынче хорошего мнения. Ну, прощевай, надо мне домой.
Софья облегченно вздохнула, отделавшись от старого резонера, и прибавила шагу.
Трофим Спицын больше не появлялся, и она старалась не думать о нем. Она теперь пораньше являлась на работу, следила за собой, одевалась опрятнее.
Доярки, заметив такие перемены, посмеивались:
— Нынче у Соньки все внимание — коровам, поскольку она дала Спицыну полную отставку.
— Вовсе переменилась. Никак, опять замуж собирается, жениха присматривает…
О женихах Софья пока не думала и пропускала мимо ушей такие колкости. Она подала заявление в чекановский зооветтехникум, сдала приемные экзамены и была зачислена на заочное отделение. Теперь у нее появилась цель — получить специальность младшего зоотехника, добавить к опыту и знания, без которых, как говорила Гашева, в наше время не проживешь.
Софья радовалась тому, что освободилась от всего лишнего, что усложняло жизнь. Стремление учиться объяснялось, пожалуй, не желанием выделиться среди подруг, нажить, как сказал бы Чикин, «моральный вес», нет, Софья хотела, чтобы люди уважали ее, считались с нею. Главное же, это Софья и от себя скрывала, чтобы ею был доволен директор совхоза Лисицын.
Почему именно он? Софья до сих пор с сожалением вспоминала, как тогда на берегу говорила ему совершенную чепуху, и, встречая Лисицына, все еще испытывала неловкость. Ей казалось, что он думает о ней плохо. «На самом-то деле я ведь не такая! Бог знает что… Какая муха меня тогда укусила?»
Недавно она приходила к Лисицыну подписать направление и характеристику для поступления в техникум. Она поздоровалась и молча положила перед Лисицыным бумаги, подготовленные Яшиной и отпечатанные на машинке. Степан Артемьевич внимательно прочел их и вроде бы чуть-чуть удивился. Он посмотрел на Прихожаеву оценивающим взглядом, улыбнулся и сказал:
— Решили учиться? Хорошо. Быть по сему, я вам подпишу направление и характеристику. Надеюсь, не подкачаете?
— Постараюсь, — ответила она.
Софья поймала его взгляд — внимательный, веселый — и потупилась. От Лисицына, такого рослого, плечистого, веяло спокойным достоинством, уверенностью и молодой силой. «На такого мужика можно положиться, он в обиду не даст», — подумала она, взяла бумаги и вышла.
И уже в полутемном коридоре конторы Софья почувствовала что-то такое, что заставило се остановиться и задуматься. Будто в директорском кабинете остался живой и теплый огонек, который обогрел ее. Она вспомнила взгляд Лисицына — веселый и вместе с тем изучающий, и эти слова его: «Надеюсь, не подкачаете». Смысл их был предельно ясен, но ей больше запомнился голос, каким они были сказаны: уверенный, звучный голос человека умного и в глубине души доброго. И глаза — живые, немножко усталые, они словно бы излучали свет, который может обогреть человека, когда он того заслуживает.
Софья собралась в библиотеку взять книги по зоотехнике, которые могли бы пригодиться для занятий. Ее вело туда также и любопытство, хотелось поближе взглянуть на жену Лисицына. В Борке говорили, что она образованная и собой очень приглядная, но знакомств избегает. Не иначе как гордячка…
Библиотека находилась в одной из больших клубных комнат. В ней стояли два круглых стола с газетами и журналами и письменный — для библиотекаря. Остальную часть помещения занимало книгохранилище с высокими, до потолка, стеллажами. Тут было тесновато, но Лизе приходилось с этим мириться — другого помещения нет. Проходы между полками с книгами узкие, полутемные, читатели в них пробирались бочком.
Посетителей в тот час не было. Лиза просматривала только что полученный толстый журнал. Прихожаева поздоровалась и спросила:
— Можно записаться в библиотеку?
— Разумеется, — ответила Лиза и, отложив журнал, взяла чистый бланк формуляра. — Вы прежде не записывались?
— Нет, было некогда, — чуть смутилась Софья.
— Садитесь, — библиотекарша согнула новую карточку пополам и взяла шариковую ручку. — Ваша фамилия, имя?..
Прихожаева отвечала на вопросы, следя, как Лиза аккуратно, убористым почерком заполняет маленькую карточку. Руки у нее белые, чистые, пальцы длинные, с маникюром. Софья мельком глянула на свои руки — небольшие, загорелые, с трещинками на коже — и нашла сравнение не в свою пользу. Лицо у директорской жены было скучное, однако приглядное, округлое, с нежной золотистой кожей. Ресницы густые, глаза большие, карие, с искоркой в глубине. «Красивые глаза, — подумала Софья, — не зря Лисицын полюбил ее». Взгляд Софьи скользнул по высокой шее Лизы, которая словно бы вырастала из стоячего воротника. Волосы, мягкие, волнистые, не рассыпались, а плавно облегали виски и уши и спускались, чуть касаясь плеч. В разрезе воротника мерцала червонным золотом тонкая цепочка с кулоном.
«Очень следит за собой, — подумала Софья. — Чистенькая, опрятная, смотреть на нее приятно».
— Что хотите почитать? — спросила Лиза.
— А и не знаю… Может, посоветуете?
— Что вас больше всего интересует? — Лиза глянула на Софью, и в глазах ее тоже появилось любопытство. — Проблемные романы или исторические, философские? А может быть, лирико-романтическая проза? Как говорят — про любовь? Или приключения? А вы любите про путешествия?
— Про путешествия, пожалуй. Никогда сама не путешествовала, так хоть про других почитаю, — Софья тихо рассмеялась.
— Хорошо, — сказала Лиза, поднялась из-за стола и помогла ей выбрать книгу. — Вот, Тур Хейердал: «Путешествие на Кон-Тики», о плавании по океану на плоту из бальзового дерева.
— Спасибо. Мне бы еще что-нибудь по зоотехнике.
— Право, не знаю. Я в этом не разбираюсь. Впрочем, вот, наверное, подойдет: «Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных». Это по вашей части?
— Отчасти и по моей части, — сострила Софья. — Для начала и хватит. Спасибо.
— Это сложная наука — зоотехника? — спросила Лиза.
— Если изучишь — не так сложно, — несколько самоуверенно ответила Софья.
— У вас что, все доярки учатся?
— Пока только я.
— Молодец. Это повысит вашу квалификацию?
— Да, повысит, — ответила Прихожаева и попрощалась.
«Она, конечно, горожанка, — думала Софья, возвращаясь домой с книгами. — С высшим образованием, а сидит тут в читалке, где и людей-то мало бывает, особенно летом. Я бы, пожалуй, не могла так сидеть… На ферме у нас весело, шуточки так и летают, бабы острые на язык. Там лучше, привычнее. И сидит она тут и не уезжает в город потому, что любит своего Лисицына… Они друг другу подходят — молодые, приглядные. Пусть сидит, и от нее польза есть. Однако она вовсе не гордячка, неверно это про нее говорят. И она беременна. Долго же у них не было детей. Лисицын-таки постарался, молодец. — Софья усмехнулась и сразу погрустнела: — А у меня ни мужика, ни семьи, ни детей… Живу пустышкой. Эх, жистянка!»
2
В Борке появились двое работников сплавной конторы. Они ходили по селу и что-то искали. Потом зашли в контору к директору. Слух об этом сразу разнесся, говорили, что приезжие ищут бревна из разбитого плота, выловленные кем-то недавней ненастной ночью на Двине. Кем именно, им, видимо, установить не удалось. Директор тоже не мог ничего им сказать — сам не знал. Сплавщики уехали, как видно, ни с чем.
А на другой день из города, из поселка лесопильного завода, прибыл участковый уполномоченный, капитан милиции Васильев, муж Розы, которую здесь все прекрасно знали. Он провел в Борке двое суток, ночуя в избе жены, и тоже искал бревна — буксир вел плот для их лесозавода. Он заходил в избы, говорил с людьми. Поиски его увенчались успехом: бревна приплавил Трофим Спицын, вытащил их из воды и продал старушке-пенсионерке, что жила в дальнем конце села. Перевезти бревна к ее избе ночью помог Трофиму Крючок на сельповском мерине, запряженном в тележный передок с одёрными колесами позади. Иначе это приспособление называется попросту: одры.
И будто бы Трофим получил со старухи за бревна пятьдесят рублей и поделился ими с Крючком. Возчик и разъезжал по селу полупьяный и ругался после того. Жена от него убежала с ребенком к своей матери, и потому, должно быть, Крючок и срывал злость на всех, кто ни попадался ему на глаза.
Васильеву помог в следствии Чикин, он сказал, что видел бревна, спрятанные Трофимом под сеном. Васильев припер к стенке Спицына, и тот во всем признался.
Когда предварительное следствие закончилось, Васильев пришел в контору к Лисицыну и сказал:
— На Спицына передадим дело в суд. Хищение и спекуляция краденым — дело серьезное.
Степан Артемьевич спросил:
— А нельзя обойтись без суда? Нет, я не выгораживаю рабочего, он, конечно, виноват. Но если он получит срок — пятно ляжет на весь коллектив. Неприятно, знаете ли…
— Но ведь он вор и своим поступком уже наложил это пятно! — капитан Васильев снял фуражку и вытер платочком лоб. — Как можно его покрывать? У вас тут наверняка плавник прибирают к рукам и другие, только еще не попадались. Это надо решительно пресечь. Осудят Спицына — другим урок.
Лисицын долго молчал, думал, как быть. Наконец он тихо заговорил, как будто совсем о другом:
— У вас, товарищ Васильев, здесь имеется дом? Знаю. Жена ваша частенько приезжает. Трудолюбивая женщина. Все с огородом занимается. Между прочим, она и совхозу помогала на двинском лугу сено убирать. Смотреть любо-дорого!
Васильев, услышав про избу и про жену, сначала насторожился, а потом заулыбался.
— Да, она, брат, у меня труженица. Хозяйка хорошая, не обижаюсь.
Степан Артемьевич тоже улыбнулся и вспомнил, как Роза, загорая на огороде, строила ему глазки…
— И знаете ли, у нас в совхозе почему-то нет участкового. Восемь деревенек, а его нет. Кабы назначили — больше бы порядка стало. Да, так вот, о Спицыне. А если судить его товарищеским судом? При всем народе! Люди у нас активные, дадут взбучку — запомнит на всю жизнь. — Он помолчал и продолжал: — Народ у нас хороший. Таких, как Спицын, не много.
Васильев опять посуровел, пошевелил густыми белесыми бровями и поглядел на директора холодновато:
— На поруки хотите взять? А не подведет? Это, говорят, еще тот тип! Вы его, видимо, плохо знаете.
— Знать-то знаю, — вздохнул Лисицын. — Он хоть и воришка, и лентяй порядочный, но умелый слесарь. Никто лучше его в мастерских при необходимости не выполнит тонкую и точную работу. Вот что вынуждает меня просить за него.
— Ну ладно. Съезжу в город, посоветуюсь с начальством. Вы дайте мне официальное ходатайство, — сдался капитан.
— Ходатайство дадим. Соберем профком, посоветуемся, — пообещал Лисицын.
Васильев, получив ходатайство, уехал и вернулся на другой день вместе с женой. Он сказал Лисицыну, что его просьба удовлетворена, а точнее — уважена в виде исключения.
Степан Артемьевич был доволен и в то же время испытывал беспокойство: «Не подведет ли меня этот пройдоха Спицын?» Иван Васильевич Новинцев упрекнул Степана Артемьевича за то, что он не посоветовался с ним, прежде чем хлопотать. «Что касается меня, — сказал Новинцев, — то я бы нипочем не стал ходатайствовать. Судить его надо было по всей строгости закона. Ну да ладно, посмотрим». После разговора с парторгом Лисицын рассердился и на Спицына, и на себя, за мягкотелость. Подобно серому волку из мультфильма, он забегал по кабинету и уже стал разговаривать вслух: «Ну, Спицын! Ну, погоди!» А потом схватил с вешалки кепку и помчался домой. Его ждала Лиза, а он опять задержался допоздна.
Васильев с женой, собрав с грядок созревший лук, остались ночевать в своей деревенской избе. Они попили чаю, поели, посидели у открытого окна и улеглись спать на мягкую родительскую перину.
Было душно, пахло сыростью необжитого полузаброшенного дома. Лежа рядом с мужем, Роза спросила!
— Ты чего это вступился за Спицына?
— Директор упросил.
— Ну, тогда ладно. А давай переедем сюда на жительство.
— Ну что ты!
— Тут хорошо летом! Приволье. А к сельскому труду мы оба привычные.
— Летом… А зимой?
— И зимой хорошо. Воздух свежий, чистый, снежок хрустит…
— Хрустит, говоришь? Ну и что?
— Должность тебе дадут. Будешь тут участковым вроде Анискина. Изба еще хорошая. Починить — век простоит.
— Изба, говоришь? Спи давай.
— Погоди, скажи — согласен?
— Что я тут буду делать?
— Ловить правонарушителей.
— Их тут мало… Спи давай.
— Я ж говорю — будешь как Анискин.
— Да спи ты, ночная кукушка!..
— Погоди. Огород есть, скотину заведем. С мясом будем и с молоком. Надоело колбасу в городе в очереди выстаивать…
— Можно и без колбасы. Есть курятина… Спи!
— Погоди…
Васильев прибегнул к последнему радикальному средству, чтобы заставить замолчать супругу: крепко обнял ее. Но она все еще жарко шептала ему в ухо: «Давай переедем, а?»
Наконец она умолкла. Слышно было, как за печкой стрекочет сверчок…
«Как это я допустил промашку с аварийными бревнами? Кто заприметил меня на реке? Кто навел на мой след участкового? Поблизости вроде бы никого не было, а вот поди ж ты, узнали, — терялся в догадках Спицын, когда Васильев, составив протокол, ушел. — Дело пахнет тюрягой. Прямо скажем, неважное дело!»
При мысли о предстоящем судебном разбирательстве ему становилось очень невесело… Он уже корил себя за жадность. «Забыл, что кругом глаза, люди завистливые. Дались мне эти бревешки! Стоило мараться из-за полста рублей. Однако теперь уже дела не поправишь».
Он пытался склонить Васильева к примирению, выставил водку и угощение, но участковый наотрез отказался от них.
Раньше Трофиму все как-то сходило — охота на дичь до срока, тайный отстрел выдр, куниц, лов семги поплавью ночами в укромных местах и такие вот «бесхозные» бревна, которые он перехватывал иногда во время ледохода. На этот раз не сошло — сам попал в ловушку.
«Кто же все-таки донес? У старухи наверняка развязался язык, призналась, что купила бревна. Но ведь если бы не показали на нее, не добрались бы и до него. А может, видели с буксира? Сработал ты не шибко чисто, раз остался за тобой след на воде, — упрекал он себя. — Забыл об осторожности. Но почему так получилось?»
Он понял, что в последнее время потерял душевное равновесие, что-то выбило его из обычного русла хитрости и расчета. Уж не разрыв ли с Сонькой? «Конечно, она, дура такая, заронила в меня неуверенность, и потому я стал неспокоен и нерасчетлив. В самом деле, не со зла ли на нее я решил поскорее собрать недостающую сумму на «Жигули», чтобы, купив их, пустить Соньке пыль в глаза, покрасоваться перед ней, щегольнуть на новеньких «колесах»?».
Теперь он напоминал дикого лесного зверя, который утратил остроту зрения и слуха и, убегая от пули, все же неосторожно попал под выстрел на охотничьей тропе.
Сколько ни думай, а ответ держать придется. Услышав, что дирекция совхоза собирается взять его на поруки и судить товарищеским судом, Трофим приободрился. «Выпутаюсь как-нибудь, пущу слезу, разжалоблю работяг. Ну, накажут, ну, оштрафуют, но это все-таки не тюремная решетка».
Его вызвали в контору к директору. Кроме Лисицына, в кабинете находились парторг Новинцев и председатель профкома Елесин. «Все совхозное начальство, — подумал Трофим, став посреди комнаты на ковровой дорожке. — Теперь держись! Мораль будут читать». И хотя он чувствовал вину, головы все же не опустил, стоял прямо, как солдат перед ротным командиром. Начальству это, видимо, не понравилось. Лисицын взглянул на него хмуро и сказал:
— Как это угораздило вас, Спицын, пуститься во все тяжкие?
— Виноват, Степан Артемьевич. Ох, виноват. Думал — никому не нужные бревешки, шут бы их взял. Плывут по Двине в чьи-то чужие руки. Так уж лучше я их подберу и пущу в дело. Прежде ведь и другие ловили плавник, и ничего, сходило…
— Это же государственное, народное добро, — строго сказал парторг. — Как можно его брать? Вы что, думаете, раз без догляда, значит, ваше? Случилось несчастье, разбило плот, и вы этим воспользовались?
Спицын пожал плечами:
— Не думал я так, Иван Васильевич, промашка вышла…
— Хороша промашка, — вставил Елесин. — Украл, продал, — деньги в карман! Преднамеренное хищение с целью наживы. Знаешь, чем это пахнет?
— Дак ведь у старухи-то крылечко вовсе покосилось! Ремонт собирается делать, а кто ей поможет, старому человеку?
— При чем тут старуха? — раздраженно бросил Лисицын. — Нашелся благодетель!
— Скажите спасибо дирекции совхоза, — уже мягче заговорил Елесин, — что отстояли вас, будем судить товарищеским судом. И не вздумайте выкручиваться!
— Понимаю, все понимаю, — облегченно вздохнул Спицын.
— Почему в совхозе работаете мало? — спросил Новинцев.» — Почему у вас забота только о личном? В мастерских особого рвения не проявили, с работы уходите когда вздумается.
— Такого за мной не водится. Врут люди.
— И тут вы неискренни. Идите и хорошенько пораскиньте мозгами, как будете дальше жить. О суде вас известят. Никуда не отлучайтесь.
— Буду дома, — Трофим кивнул и, зло сверкнув глазами, вышел из кабинета.
Суд состоялся в воскресенье при всем многолюдстве в клубе. Общественным обвинителем выступил Чикин. «Тоже мне обвинитель! — думал Спицын, слушая тщедушного, скромно одетого ветерана. — Ему в гроб пора, а туда же, обвиняет…» По правде сказать, Трофиму все равно, кто обвиняет, важно, что он скажет и как это подействует на собравшихся. Спицын сидел на «подсудимой» скамье и настороженно посматривал на односельчан.
Тут, в клубном зале, он по-настоящему узнал себе цепу в глазах людей. А они, за небольшим исключением, говорили жестко, упрекали за то, что он старается прибрать к своим рукам все, что плохо лежит, что больше занимается личным хозяйством, а на интересы совхоза ему наплевать… Припомнили и то, что свою родственницу Марфу он заставляет работать от темна до темна, да и в личной жизни у него непорядок. Тут откровенно намекали на связь с Прихожаевой.
Софья на суд не пошла, не хотела видеть Спицына, да и была уверена, что там вспомнят о их связи. Откуда знать людям, что эта связь порвана? Знали, да не все.
Суд вынес Спицыну общественное порицание, предложил незамедлительно вернуть сплавной конторе украденные бревна, благо старушка, купившая их, не успела те бревна пустить в дело. Пятьдесят рублей Трофим должен был ей также вернуть.
И еще на суде вынесли порицание разнорабочему сельпо Порову за то, что пьет и является сообщником Спицына. Председателю сельпо рекомендовали наказать Порова по служебной линии.
«Придется доставлять плавник обратным ходом, — подумал Трофим после суда. — А как? Далеко не просто. Ну дела!»
После работы он поймал возле конюшни Порова и долго упрашивал его помочь в таком нелегком и щекотливом деле. Крючок сначала ломался, важничал:
— Связался с тобой, воришкой! Сам сраму натерпелся, стыдно людям в глаза смотреть! Отстань.
— Помоги, я заплачу.
— Не нужно мне никакой платы. Отвяжись.
Поров чистил коня. Получалось это у него ловко и даже красиво. Он любовно оглаживал бока мерина сперва скребницей, затем щеткой, будто мосластый ломовик был первостатейным рысаком. Он похлопывал коня по холке, по крупу широкой темной ладонью и снова принимался обхаживать его шею, бока, грудь, ноги до самых бабок. Уже и шерсть на мерине лоснилась, как шелковая, и весь он словно помолодел, даже стал шустрее размахивать длинным хвостом. О Трофиме Крючок будто забыл, а тот стоял перед ним и уже заискивающе повторял:
— Я тебе поллитровку поставлю, только помоги!
— Нынче я не пью. Завязал.
— Неужто?
— Председатель сельпо на ковер вызывал, воткнул выговорешник, опять премии лишил… И женка меня бросила. Вот сколько бед от нее, проклятущей!
— Кончай ублажать мерина. Пойдем, последний раз поднимем по чарочке и вместе завяжем. Ну, Вася, помоги. Неужто в тебе нет товарищеской спайки?
— Была. — Поров неожиданно захохотал. — Была, только не спайка, а спойка. Это верно. Ну, ладно, надо, пожалуй, тебе подмогнуть. Только когда стемнеет, чтобы людей на улице меньше было. Ведь стыдно.
— Дак уж стыда и так натерпелись. Теперь все равно. До потемок откладывать нельзя. Сейчас бы, сразу.
Поров махнул рукой и стал запрягать коня в передок.
— Сколько их там, бревешек? — спросил он.
— Десяток. Пустяк.
— Ладно, поехали. Вот ты, помимо платы, завтра еще вечерком мне мерина вычистишь.
— Вычищу, — согласился Спицын.
…Старуха, заметив их в окошко, тотчас вышла на покосившееся крылечко и молча воззрилась на Трофима.
— Такое дело, бабуся, — заговорил он ласково. — Попался я с этими бревнами…
— Да знаю, была, чай, на суде-то. И с Васильевым, следователем, беседу вела. Думаешь, мне приятно? И что за народ пошел!
— Не говори, матушка! Несознательный народ. За такую пустяковину взыскивают, будто никто никогда плавника не имал.
— Да я не о том народе, а о тебе. Ты вот украл, а я не знала. За свои-то денежки столько нервенного расстройства! Ты чего пришел-то? Бревна забирать? Не отдам.
— Что ты, бабуся, мне велено их обратно в Двину сплавить. Я тебе деньги-то верну. — Спицын достал из кармана замусоленные кредитки и протянул старухе: — Вот.
Старуха, помедлив, взяла деньги, пересчитала.
— Э, так не пойдет! Давай в троекратном размере. За срам, который я приняла на старости лет.
— Как так? — удивился Трофим. — Ты что, бабуся, того? — он покрутил пальцем у виска. — Тронулась? Почему в троекратном?
Поров, стоя возле мерина на дороге, все слышал и хохотал, держась за живот.
— Только в троекратном, Иначе не отдам. Пойду к директору Лисицыну жаловаться. Он тебя прищучит! Ишь, воришка, сбыл краденое, да еще и ломается? Каков, а? Нашел дурочку! — Старуха села на штабелек и поджала губы.
Трофим стал ее уговаривать. Заспорили, возбужденные голоса слышны были далеко. В окна соседних домов выглядывали люди, дивовались, Наконец Трофим уломал старуху и крикнул Порову:
— Давай сюда!
Крючок подвел коня с одрами к штабельку бревен, аккуратно уложенному у крыльца.
— Много ли дал? В троекратном? — спросил он, посмеиваясь.
— Нашла дурака, — буркнул Трофим. — Однако трешку пришлось положить сверх пятидесяти, чтобы не шумела…
— Вот старухи нынче пошли! Своего не упустят, еще и чужого прихватят.
— Давай будем нагружать. Раза три придется обернуться.
Обернуться им пришлось четырежды — бревна были довольно объемистые, а дорога неровная. С последним возом пришлось повозиться. Прибыли к речке уже в сумерках и пошли подкрепиться в избу. Плотно поели и вышли на берег. Пока Трофим связывал бревна веревкой в два пучка, Поров отвел мерина на конюшню и задал ему овса. Потом вернулся к Спицыну.
Они баграми долго отпихивались с мелководья. Наконец завели мотор и отбуксировали первый пучок бревен в Двину. Вбили в дно кол, привязали к нему плотик и вернулись за вторым. Когда закончили работу, было уже за полночь.
— Ну вот, отмучились, слава богу, — Трофим устало сел на банку. — Давай-ко примем по чарочке для бодрости.
Поров положил багор и примостился рядом. Спицын достал из мешка водку, хлеб, консервы, сало. Возвращались в Борок уже совсем пьяные. Трофим еле-еле завел мотор. Поров, покачиваясь, сидел на банке и орал частушки. Его дикое, нескладное пение вспугнуло чаек, и они заметались с криками над водой. На востоке уже заалела заря, прижатая облаками к самому горизонту. Ветер зашумел в камышах, по воде пошла рябь.
Протоку прошли благополучно, но у выхода в Лайму мотор заглох. Трофим долго дергал заводной ремень, но безуспешно. Он прикрикнул на Порова:
— Хватит тебе орать! Из-за тебя мотор не заводится…
Поров выпучил на него глаза:
— Из-за меня? Из-за меня не заводится? Ты чего это говоришь-то? Чего говоришь? — Он вскочил и с маху треснул приятеля в ухо.
Удар был силен, в глазах Трофима брызнули искры, в голове зазвенело. Оправившись, он зловеще сказал:
— Ах, вот как ты! — и дал сплеча в скулу Крючку. Оба сцепились, рыча и беспорядочно награждая друг друга тычками. От такой баталии катер накренился, и приятели свалились за борт. К счастью, в том месте было неглубоко, по пояс. Вынырнули, стали друг перед другом, отфыркиваясь и бранясь. Холодная вода их слегка отрезвила. Помогая друг другу, с трудом великим и пыхтеньем забрались на катер.
— Хорошо, что мелко, — сказал Трофим. — А то бы…
— П-п-поплавали м-м-маленько, — зубы у Крючка выговаривали чечетку.
Домой добирались уже молча, дрожа от стужи: «Скорее бы в тепло».
Утром из совхозной конторы по телефону сообщили на запань, где находятся бревна, и оттуда вышел катер, чтобы забрать их.
3
В деревне трудно что-то утаить. Даже то, что было совершено, кажется, в глубокой тайне, под покровом ночи, все равно вылезало наружу. Пьяные приключения Спицына и Порова на реке дошли до дирекции совхоза. Лисицын снова вызвал Спицына, решив дать ему нагоняй. В конце концов, сколько еще возиться с этим суковатым мужиком.
— Опять дел натворили! — такими словами встретил он Трофима. — И что за человек! Только что дали вам поблажку, не довели дела до нарсуда, а вы напились и подрались с Поровым, и оба чуть не утонули.
У Трофима с похмелья голова раскалывалась, глаза бегали по сторонам. Он был зол и мрачен и посматривал на Лисицына не по-доброму.
— Ну и что?
— Как — что! — опешил Лисицын. — Совесть-то вас не мучает?
— А почему она должна меня мучить? Чего такого я натворил?
— Как чего? Напились, подрались…
— Кто вам натрепал? Почему вы собираете сплетни, разную ерунду? Где я пил, сколько и на что — это мое дело. Выпил в нерабочее время, выполняя ваше с Чикиным указание, на свои кровные… И если бы не эти проклятые бревна, может быть, ничего и не случилось бы. Каторжная работа! — Спицын хотел в сердцах сплюнуть, но, увидев под ногами ковровую дорожку, сдержался.
— Почему вы говорите со мной таким тоном? — повысил голос Степан Артемьевич. — Выходит, для вас не существует никаких норм поведения?
Директор сесть не предложил. Спицын, глянув на длинный ряд стульев у стены, сел без приглашения.
— Я их разве нарушил, эти самые нормы? Подводите под моральный кодекс? То под уголовный, то под моральный… Веселая жизнь!
— Ни с какими кодексами вы не считаетесь, — жестко продолжал Лисицын. — Все люди как люди, механизаторы вон с утра до позднего вечера в поле, трудятся для общей пользы. А вы для чего живете?
— Для себя, — отрезал Спицын. — Кто обо мне позаботится? Вот для себя и живу.
— Оно и видно. Случай с бревнами об этом говорит.
Спицын криво усмехнулся:
— Всегда было так: подбирали аварийные бревешки. Так же пропадут, затолкает в берег, затянет илом… Или весной со льдом в море утащит. Кому польза?
— Но ведь вы-то взяли тепленькие, из плота! Не бросовые балансы, не дрова, а пиловочник! И еще рассуждаете о кодексах, — Лисицын не сдержался, повысил голос. Спицын его уже порядком взвинтил.
— Это не я рассуждаю о кодексах, а вы. Вам бы все под них подогнать, подвести человека под монастырь, — Трофим достал из кармана платок, шумно высморкался. — А кто дал право? Я родился и вырос в Борке, а вы без году неделю как приехали и учите нас, как жить! Что можно, чего нельзя…
Лисицына взорвало:
— Это уже… Это уже другой разговор. Да вы знаете, меня сюда назначили работать! Меня Советская власть поставила! А вы еще упрекать вздумали. Вот что, Спицын, больше я вас защищать не буду — вижу, бесполезно. Предупреждаю последний раз. Если еще провинитесь — урежем приусадебный участок.
— От вас всего можно ожидать.
— Урежем, если не будете как следует трудиться в совхозе. А если и дальше станете пить, отправим на принудительное лечение. Все. Идите!
Трофим выскочил из кабинета, не попрощавшись.
«Вон как за меня взялись! — металось у него в голове. — Вон как вцепились! Теперь уж будут следить. Да что, в самом-то деле! Где справедливость? — Трофиму стало жаль себя, и он разозлился на всех — и на Лисицына, и на Чикина, на Софью, на Крючка, на весь белый свет. — Все против меня, будто сговорились!»
Директор грозится урезать усадьбу. Это крепко ударило бы по карману. Трофим не скупился на удобрения, получал большие урожаи картофеля, овощей, продавал их на рынке. «Нет, усадьбу надо сохранить, придется смириться», — решил он.
Когда Спицын вышел, Лисицын подумал: «Не круто ли я взял? Да нет, не круто. Мужик он упрямый и добра не ценит. Надо его хорошенько приструнить». Он взволнованно закурил и долго сидел молча, поглядывая на дверь. Ему казалось, что Спицын вернется, извинится. Но Трофим не вернулся.
Однако директорская угроза возымела действие. Трофим стал аккуратно выходить на работу в мастерские и как будто забыл о рыбалке, охоте и прочих занятиях…
4
Лиза больше не напоминала о переселении в город, но Степан Артемьевич, чувствуя, что такой разговор может в любую минуту возобновиться, стал принимать своего рода контрмеры. Он пригласил жену осмотреть строящийся коттедж.
Английское название «коттедж», пожалуй, не вполне подходило этому русскому теремку. На окраине Борка, на пологом склоне холма совхозные плотники уже заканчивали работы. Строился дом по чертежам. Невысокий, с широкими окнами, с двумя верандами и островерхой крышей с прорезными подзорами, он стоял посреди уютной лужайки. Выше по склону рос молодой березняк, внизу струилась в зарослях ивняка речка Лайма. Дом делился на две половины, в двух квартирах имелось, кроме кухонь, по три разных размеров комнаты. Поодаль сделаны сараи для дров и брусковые хлевы для скотины. У берега Лисицын намеревался устроить причал для катеров, У будущих соседей Яшиных-Челпановых имелся катер, и он хотел приобрести такой же для себя.
Когда он привел Лизу, плотники заканчивали настилать шиферную крышу. Оставалось остеклить рамы и провести в дом водяное отопление.
— Видишь, какие славные хоромы! Лучших и желать не надо, — сказал он жене и повел ее внутрь дома. — Вот здесь, в маленькой комнатке окнами на юг, будет детская. А в двух смежных — столовая и спальня.
— Да, пожалуй, — ответила Лиза. По ее глазам он видел, что новый дом ей понравился.
— А теперь вернемся на улицу. — Когда вышли из дома, он продолжал: — В палисаднике разведем малину, смородину, крыжовник. Устроим цветник. Грядки вскопаем под овощи. А по периметру участок обсадим березками или черемухами. Лучше березками, от их белых стволов больше света.
— Это и будет тот самый шалаш, в котором с милым рай? — улыбнулась жена.
— Точно! — обрадованно подхватил он. — На задах в хлевушке можно держать поросенка. Я помогу тебе ухаживать за ним,
— Ну, зачем нам поросенок?
— На мясо.
— Ты и так сумеешь обеспечить семью продуктами. Тебе не к лицу возиться с поросенком.
— Очень даже к лицу. Впрочем, не хочешь — не надо. А жить здесь будет лучше, чем в нынешней квартире.
— Ты бы такие дома строил для своих рабочих, — сказала Лиза.
— И для рабочих построим. Непременно!
— Тогда ладно. А то как-то неловко занимать такой особняк…
Лиза стала расспрашивать его, двойной ли сделали пол, хорошо ли проконопачены пазы в стенах, чем засыпают потолок — песком или опилками. Степан Артемьевич удивился такой ее осведомленности.
— Все сделаем как положено, — успокоил он жену.
Потом он решил, что надо поближе познакомить Лизу с рабочими совхоза.
— Я давно не был в твоей библиотеке, — признался он. — Сколько у тебя читателей?
— Двести тридцать один.
— Маловато. И ты, значит, сидишь и ждешь, когда они к тебе придут?
— Не мне же идти к ним.
— А если в дальних деревнях люди работают допоздна, им некогда заглянуть в библиотеку? Хочешь, по субботам я буду давать тебе свою машину?
— Зачем, Степа?
— Ты берешь в библиотеке книги, на газике едешь в отдаленную бригаду, раздаешь их там рабочим, а потом через недельку или две приезжаешь с другими книгами для обмена. Ведь просто? Можешь подключить к этому делу и комсомол, Возьми Фиму, нормировщицу, или кадровичку Клаву. Они часто бывают в бригадах, по пути и книги раздадут.
— Признаться, такое мне и в голову не приходило. Пожалуй, пока я буду ездить сама.
— Вот и хорошо. Пока сама, а потом поручим кому-либо. Заодно ближе познакомишься с людьми. Они очень интересные.
— Такие, как сельповский Крючок или этот, ну… которого недавно судили. Спицын, что ли?
— Таких немного. Коллектив у нас дружный.
Лиза довольно охотно последовала совету мужа.
В очередное воскресенье Степан Артемьевич с женой поехал по ягоды. Сергей привез их к опушке сухого и чистого сосняка, обласканного утренним августовским солнцем. Было свежо, с трав на полусонную с ночи землю стекала роса. В хвое сосен шумел ветер. На опушке в мелколесье щебетали птицы.
— Тут и соловьи есть? — спросила Лиза.
— Нет. Это — певчий дрозд, — ответил Сергей. — Соловей — птица теплых краев.
Лиза тихо шла по траве, искала ягоды.
— Рано ищете, — заметил Сергей. — Еще не пришли на место.
Сквозь подрост выбрались на небольшую гладкую полянку, усыпанную пунцово-красной брусникой. Спелая, вкусная, она тяжелыми крупными кистями лежала на кочках. Лиза пришла в восторг:
— Ой, сколько брусники!
Набрав по корзине, они стали выходить из леса. Лиза все любовалась высокими соснами. Ей нравилось ступать по опавшим иголкам, которые похрустывали под ногами, прислушиваться к пению птиц.
Уже в машине она спросила:
— Степа, почему ты раньше не возил меня в лес? Такая прелесть!
— Ты не изъявляла желания. Да и мне все было некогда. — Он положил руку на ее теплое и мягкое плечо. — Теперь будем ездить или лучше ходить по возможности чаще.
Дома за обедом Лиза все посматривала на него, а потом сказала поощрительно:
— Ты теперь вырос в моих глазах, Лисицын! Стал бо-о-ольшим психологом.
— В каком смысле?
— В том смысле, что наловчился руководить не только механизаторами и доярками, но и управлять собственной женой.
— Ты так думаешь? — нерешительно спросил он, не зная, принимать ли это всерьез.
— Признайся, ты прежде считал меня неуправляемой? — Лиза весело, заразительно рассмеялась, сверкая необыкновенно живыми, влажными глазами, и он любовался ею, более того — был прямо-таки без ума от нее.
А она меж тем продолжала:
— Ловко меня обрабатываешь: коттедж, машина для поездок в народ… Потом эта прогулка в лес за ягодами. Росистые травы, пенье дрозда… Ты гений, Степа!
— Я рад, что ты входишь во вкус сельской жизни.
— А все-таки, — она потупилась, погасила улыбку. — Нельзя ли нам оставить за собой квартиру в городе? На случай отступления.
— Отступления не будет, — твердо ответил он. — Впрочем, можно и похлопотать. Только что это тебе даст? Ведь если бы довелось жить и работать в городе, нам бы дали хорошее жилье. Какой смысл держать за собой эту квартирешку?
Лиза долго молчала, видимо хорошенько обдумывая все это.
— Здесь неплохо, — наконец сказала она с явным огорчением. — Но ты не способен понять, что мне надо, чем я жила прежде. Я совсем прекратила научную работу. А ведь так важно собирать нужный материал, обдумывать его, находить зерна истины и, если хочешь, открывать не открытое другими! Без такой каждодневной работы нормальная жизнь невозможна…
Степан Артемьевич озадаченно молчал, не зная, что сказать на этот раз. Он невольно вспомнил главного инженера Челпанова, который тогда сетовал: «Образованная жена, синий чулок, для нашего брата чистая погибель».
В мрачноватом юморке Челпанова была, как ему казалось теперь, доля истины.
— Видимо, придется тебя время от времени отпускать в город рыться в архивах и книгохранилищах, — сказал Степан Артемьевич жене.
— Время от времени? Это все, что ты мог предложить?
— Пока — да, — ответил он уныло.
И все-таки «неопознанный» отец нет-нет да и вспоминался Лизе. Однажды она увидела его во сне. Будто бы они стояли на вокзале, на перроне. Он что-то говорил ей, а она не понимала, хотя была рядом, и досадовала. Потом он удалился, уплыл куда-то в сторону, и оказался в тамбуре вагона. Он махал ей рукой, сняв свою морскую фуражку. Стояла зима, и шел крупный и мягкий снег, как перед Новым годом. Она хотела крикнуть Романенко, чтобы он надел фуражку, а то простудится. Но он сразу скрылся в вагоне, и поезд ушел…
Не изведав ни в детстве, ни в более зрелом возрасте отцовской ласки, как она, бывало, тосковала по ней!
Когда Лиза училась в школе и родителей приглашали на собрания, у нее приходила только мать. Лиза при этом чувствовала себя неловко. Мать, понимая все, старалась восполнить отсутствие отца усиленной заботой о дочери.
Что ярче всего отложилось в памяти Лизы? Ласковое прикосновение материнской руки к ее голове, когда она болела корью или скарлатиной. Пора самого раннего детства. Чай с медом, сушеной малиной. Выздоровление, неуверенные шаги по комнате, солнечный свет в окне, желание поскорее выбежать на улицу.
Каждодневные проводы в детский сад. Крепко держа дочь за руку, мать торопливо переходит улицу в самом бойком месте. Машины угрожающе гудят, пролетают мимо, обдавая их бензиновой гарью… И в конце дня мать прибегала в садик, запыхавшись, помогала Лизе одеться, вела ее домой, и опять тот же опасный переход и надежная рука матери.
Первый новогодний бал в школе. Мать смастерила ей карнавальный костюм — длинное платье из черной ткани, усыпанное звездами из блестящей фольги. Первый танец с парнем, волнение, боязнь сбиться с такта, подкачать.
Выпускной вечер, когда Лиза получила аттестат зрелости. Десятиклассники веселились, танцевали, а родители скромно сидели у стен зала на стульях. Там же сидела и Анна Павловна и бережно прижимала к груди аттестат дочери, а та поглядывала на нее издали и улыбалась. Мать отвечала ей застенчивой улыбкой, будто сама получила аттестат. Как она была похожа тогда на школьницу!
Когда Лиза училась в институте, Анна Павловна, если позволяло время, приезжала к ней, спала в общежитии с нею на одной койке, оставляла дочери денег и продуктов и возвращалась домой очень грустная. Конечно же беспокоилась за дочь и тосковала о ней.
Все годы — от младенчества до замужества — без отца…
Так придется жить и дальше. Сближение невозможно.
5
Чикин вошел в кабинет, осторожно притворив за собой дверь. В руках у него была бумага, свернутая в трубочку.
Лисицын сидел в задумчивости, нахмурясь и положив на стол руки, сжатые в кулаки. Причиной плохого настроения был недавний телефонный разговор с начальником сельхозуправления, который сделал ему выговор за то, что в «Борке» из-за разгильдяйства и халатности работников гибнут лучшие высокоудойные животные». Он имел в виду недавнее происшествие с коровой, которую пришлось прирезать из-за пресловутого сельповского гвоздика… Лисицын не оправдывался, зная, что это еще больше разозлит начальника, а тот в довершение всего заявил, что стал сомневаться в способности Лисицына руководить хозяйством.
Степан Артемьевич удивился: «Откуда в управлении стало известно об этой буренке? Неужели там каждая корова на счету?»
Намек на служебное несоответствие Лисицына больно задел его, и категорический тон начальника посеял в его душе тревогу. «Неужели там, в Чеканове, нее обо мне плохо думают? Корову они заметили, а наше решение освоить Залесье и расширить ферму до сих пор не одобрено, — подумал Степан Артемьевич. — Поздняков обещал разобраться, да так это обещание и осталось в невесомости. Начнешь делать пристройку, а вдруг заставят строить комплекс… Надо ехать в Чеканово и все выяснить», — решил Лисицын и вопросительно поглядел на Чикина.
Еремей Кузьмич снял с лысой головы кепку и, пройдя по ковровой дорожке к столу, положил перед директором аккуратно отпечатанный на машинке протокол заседания товарищеского суда:
— Вот, ознакомьтесь, пожалуйста.
Лисицын хотел было отмахнуться: не до протоколов, но все же взял его, прочитал.
— Все как положено. Только подписей нет, — сказал он.
— Подписи поставим. — Чикин взял бумажки, скрепленные канцелярской скрепкой, и, свернув их снова трубочкой, спросил: — Степан Артемьевич, вы ездили в Залесье?
— Ездил.
— И что решили?
— Залежи разработать, дорогу наладить. Корма будем вывозить в Прохоровку, а там расширим ферму.
— Так, так… Только, Степан Артемьевич, когда там начнут пахать, накажите трактористам, чтобы плуги пускали неглубоко, иначе все пойдет насмарку — выворотят с-под-низу песок да глину, загубят землю.
Лисицын уже более внимательно посмотрел на ветерана и согласно кивнул. Ему пришлось по душе, что старику до всего есть дело. Но тот не уходил.
— А как у вас с туристской поездкой? Оформились?
Лисицын отрицательно помотал головой и поморщился.
— Зря упустили такую возможность. Думаете, без вас здесь не обойтись! Хотите все время быть нянькой? Надо приучать людей к самостоятельности…
— Ну, это уже мое дело, — сухо ответил Лисицын.
Чикин, поняв, что директор не в духе, попрощался и вышел. Лисицын подумал: «Это он зашел меня уму-разуму учить. Протокол — только предлог. Хитер старина».
Степан Артемьевич на другой день опять поехал в Залесье — еще раз удостовериться в целесообразности его возрождения. «Ведь почему-то земли там запустили! — думал он. — Может, распахивать их не имеет смысла, они истощены до предела?»
Эта перепроверка вызывалась не только практической необходимостью, но и неуверенностью Лисицына в себе, которая появилась у него после прозрачного намека начальника на его деловые качества… Как много значит неосторожно и запальчиво брошенное вскользь едкое замечание вышестоящего начальника, когда подчиненный принимает это близко к сердцу.
Шофер Сергей работал на грузовике, возил с поля выкопанную картошку, и Степан Артемьевич сам вел машину.
Опять та же картина: за лугами, обкошенными прохоровскими косарями, начиналась залежь. Трава в пояс, везде кудрявятся ольшаник, ивняк. На ольхе побурели и растопорщились мелкие шишечки с семенами, на ивах зажелтела листва. Кустов было много, в низинах они стояли шпалерами. Поле превратилось в целину…
Дороги уже не было заметно, поехал прямиком, огибая островки мелколесья, заросли иван-чая, осота, багульника. Причудливая смесь разных трав в самом диком состоянии: гусиный лук, ветреница, мятлик, трясунка, лисохвост, журавельник. Почти все травы отцвели, только журавельник еще радовал глаз синенькими, в пять лепестков цветками и сочными листьями, похожими на листки купальницы.
«Поле, поле! — подобно былинному витязю подумал Степан Артемьевич. — Сколько труда надо вложить, чтобы заново все это освоить! Но какова тут все-таки почва?» Он остановил машину, достал лопату, с помощью которой Сергей иногда выручал свой газик на бездорожье. Копнул поглубже, вместе с дерном выворотил красноватую глину. «Плодородный слой тонок, — заключил он. — Раньше пахали конными плугами, неглубоко. А если пустить тракторные — вывернет с-поднизу всю глину с песком. А может, применить безотвальную вспашку? Надо посоветоваться с агрономами. И все равно придется сюда возить торф, минералкой тут не обойдешься. Заново придется создавать пахотный слой…»
Озабоченный, он поехал дальше, вдоль узенькой речушки, похожей на ручей. «Как она называется? Кажется, Говоруха. Почему так? Не потому ли, что по веснам журчит резво по камушкам? А летом мелеет. Она, кажется, впадает в Лайму».
Наткнулся на старую, с прохудившейся крышей избенку и заглянул в нее. Два оконца, нары, на них остатки слежавшегося сена, очаг из камней. Наверное, сенокосная избушка.
Отъехав подальше, копнул снова. Тут земля оказалась жирнее, подпочвенный слой лежал глубже. Какие были поля, что на них сеяли — для него сейчас было не столь важно. Главное — земля не должна больше пустовать, он со своими рабочими обязан вдохнуть в нее жизнь.
И тут без помощи мелиоративной станции с ее мошной техникой не обойтись. Он сунул лопату на место, постоял возле машины. Холодный ветер тормошил кусты, трепал метелки одичавших трав. По-прежнему низкие, серые, с бахромой по кромке облака неторопливо плыли над землей. Вдали в них появился просвет, и лучи солнца уперлись в синеватый ельник. Там высветились желтеющие листья берез, карминовый осинник. Осины пунцовеют раньше других деревьев. Теплые тона напомнили о близкой осени. «Вот и проходит лето, странное, скупое на тепло, с перемежающимися дождями. Про него уж никак не скажешь: лето красное…»
Машина чуть покачнулась, будто осела задом в мягкую, вязкую почву. Или это Лисицыну показалось? Он быстро полез в кабину, завел мотор, дал скорость. «Может, на кротовую нору наехал?» — подумал он.
Уезжать отсюда не хотелось. Странное дело: эти запущенные поля с кустами под низким сереньким небом очаровали его своей первозданной красотой. Хотелось стоять и бел конца глядеть в холодные, прозрачные дали, слушать тихий шелест листьев, дышать запахами трав и цветов…
Но красота красотой, а дело делом. Степан Артемьевич, хоть и поздновато — раньше до него не дошло, — принял еще одно решение: «Надо послать сюда косцов из отделения Сибирцева и взять эту траву. Всю, до единой травинки. Зимой все сгодится. Они тут косили, да мало».
В Прохоровке он остановился возле фермы. В скотном дворе было пусто, коровы находились на пастбище. В кормозапарочной у отопительной системы стукал-брякал гаечными ключами механик. Лисицын поинтересовался, что он тут делает.
— Готовимся к зиме, — ответил механик. — Надо на стыках труб сменить прокладки, болты подтянуть. Котлы заработают, так чтоб было все исправно.
— Есть тут кто-нибудь из животноводов?
— Только дежурные. Две доярки.
Степан Артемьевич прошел по вычищенной бетонной дорожке между стайками и разыскал доярок в молокоприемной. Они мыли под кранами молочные фляги, слышались плеск воды, звонкие голоса.
Визит директора явился для женщин неожиданностью, и они посмотрели на него с любопытством, чуть настороженно.
— Вот уж не ожидали вас, Степан Артемьевич. Правду говорят, вы всегда появляетесь, когда вас не ждут…
— Надо ждать, — в лад шутливому тону доярки ответил Лисицын, взял вымытую флягу и опрокинул ее, как положено, на стеллаж у стены.
Доярки одобрительно переглянулись. Лисицын вспомнил их фамилии: «Та, что повыше, чернявая, строгая с виду — Пискунова, а маленькая, полная, как кубышка, и голубоглазая — Рудакова».
Пискунова вытерла досуха руки полотенцем и повесила его на деревянный штырек, вбитый в стену.
— Как тут у вас дела? — спросил Лисицын.
— На душе спокойно, работа спорится. Дома порядок. Мужики трезвехоньки. Не пьют, не дерутся, — затараторила Рудакова.
— А что, разве дрались?
— Пусть-ко попробуют! Мы сами отделаем их под первый номер, как лен на мялке.
— Кстати, в прежние годы здесь сеяли лен? — спросил он.
— А как же, — сдержанно улыбнулась Пискунова одними глазами, черными, как угольки, в узких щелках век.
— И хорошие были урожаи?
— Были. В единоличном хозяйстве, на палах.
— На палах?
— Ну, сожгут лес и сеют по золе лен. Высокий родился.
— А в колхозах?
— И в колхозах сеяли. Небольшие площади.
— А что, хотите завести посевы льна? — спросила Рудакова.
— Пока не знаю. Для нас главное — молочко, — ответил Лисицын. — А где ваша третья подружка. — Попова?
— Сегодня она отдыхает. Только на дойку приходит.
— Полотенца вам дают?
— Дают, Степан Артемьевич. У нас управляющий — исправный парень. Как сказали — сделал.
— Ничего себе парень, — рассмеялась Пискунова. — Ему уж под шестьдесят.
— А все — парень. Волосики кудрявятся, бегает шустро, — расхваливала Сибирцева Рудакова. — Мы его любим еще с колхоза. Был председателем, так не сидел на месте, бегал как живчик. И, глядя на него, все шевелились…
— Шевелились? — улыбнулся в свою очередь Лисицын.
— Дела шли живым порядком.
— А теперь?
— Тоже шевелимся.
— Ох, бабоньки, шустры на язык! Вкручиваете мне мозги. У вас ведь и так бывает: рюмку на стол — и ферму побоку.
Женщины чуточку смутились. Паскунова с преувеличенным старанием принялась вытирать блестящий бок оцинкованной фляги, а Рудакова сказала:
— Это вы про тот случай с Софронием? Кто старое вспомянет, тому глаз вон!
— Знаю эту поговорочку, — ответил Лисицын. — Но почему вы избрали такую форму протеста? Почему не обратились в дирекцию?
— Да не было никакого протеста! Подвернулся праздник, выпили по рюмочке. Теперь каемся, да уж поздно. Парторг нас на собрании прорабатывал. Задал перцу. Серьезный мужик, — продолжала Рудакова.
— Вы не считайте, товарищ директор, что мы уж вовсе несознательные. Ну, случилось так. Конь о четырех ногах, да и то спотыкается, — лицо Пискуновой было серьезным, а в уголках глаз таилась смешинка.
— Ну ладно. Чтоб такое было в первый и последний раз. Премии лишать вовсе будем, — строго сказал Лисицын.
— Вам строгость не идет, — рассмеялась Рудакова. — Вы у нас вежливый, культурный директор…
— Спасибо и на том. Покажите мне ваш красный уголок.
В красном уголке стоял длинный стол, покрытый полотняной скатертью, на нем стеклянная банка с полевыми цветами. С ромашек на скатерть опало несколько белых лепестков. Поздние цветы. Лисицын посмотрел на них, на полочку с брошюрками, на Почетную грамоту в рамке, на телевизор в простенке на тумбочке.
— Чисто тут у вас, аккуратно. Признайтесь честно: что есть, чего не хватает? Претензии ко мне имеете?
— Плана хватает, а зарплаты иной раз и нет, — посмеиваясь, ответила Рудакова. — Но ведь вы ее не прибавите.
— У вас же прогрессивка. Премии и прочее. Должно хватать. Фонд зарплаты не резиновый, не растянешь больше того, что можно и нужно.
— Да напрасно ты, Глаша, так-то, — возразила Пискунова. — Заработки все же приличные. Больше мужиков иной раз получаем. Деньги есть, но в лавочке скудновато. С продуктами вот… Все больше рыбные консервы…
— Верно, — подхватила Рудакова. — Называются «Завтрак туриста». Туристам-то, может, и в охотку. Побродят по дорогам, промнутся и очистят банку за банкой. А мне дак не по вкусу, — Рудакова все улыбалась, ямочки на ее щеках углублялись, и Лисицын невольно залюбовался ею.
— По вашему виду нельзя сказать, чтобы вы плохо пиались.
— В деревне жить, да без продуктов — это уж ни в какие ворота, — Пискунова собрала со стола ромашковые лепестки себе в ладонь.
— Вот и подошли к главному, — серьезно сказал Лисицын. — Надо скота держать побольше. Корову, овец, поросят.
— А корма? — сразу отозвалась Рудакова.
— Корма надо заготовлять. Концентраты теперь бывают в продаже.
— Я держу двух поросят, — сказала Рудакова. — А коров и на ферме хватает. Евстолья вот держит, — она кивнула на подругу.
— Ну и как?
— Да ничего. Успеваю обряжаться. На ферме нынче не как прежде, занята не целый день. Механизация нынче. Молоко у меня теперь свое.
— Вот вы и убеждайте своих соседок, чтобы заводили они коров. Тогда и «Завтрак туриста» будет не нужен.
Рудакова опять перевела разговор на магазин:
— Вчера нам ковры привозили красивые. Я купила. Хочется уюта в избе. У меня дома на стене сколько лет висела баба с голыми грудями да с лебедями в пруду… Такая безвкусица! Давно хотела содрать со стены, да мужик не давал. Люблю, говорит, по утрам на нее (на бабу-то) смотреть. Настроение поднимается.
Женщины всплеснули руками, захохотали, Лисицын — тоже.
— А я ему говорю: чего тебе на стенку смотреть, когда это самое рядом есть, живое? А он говорит: там завлекательнее. На тебя, говорит, посмотрю, так ты сразу закрываешься, а она не закрывается, любуйся сколько хошь… Ну, мужик, он мужик и есть, ему все хочется на сторонке прихватить, будто там слаще. Ну, повесили ковер — шибко дородно-порато.[1] Сразу изба расцвела…
— Ну, вы даете! — хохотал Лисицын, вспомнив слова Яшиной о женском домострое в Прохоровке. — Бойки на язычок-то. Муж-то у вас чем нынче занят?
— Зябь пашет. Он у меня работяга.
— А вы что, специально с нами поговорить ехали? — спросила Пискунова.
— Попутно. Ездил в Залесье. Земли смотрел.
— Будем те земли обрабатывать?
— Непременно. Ну что же, спасибо за приятную беседу. Как говорится, приятная беседа лучше всякого обеда. Желаю вам успехов.
Доярки вышли проводить его. Рудакова, чуть помявшись, сказала:
— Ваша жена Лизавета привозит нам книжки. Спасибо ей. Только пусть она больше не ездит. Надо вам, Степан Артемьевич, поберечь женку, она беременная. Трястись в машине по худым дорогам ей совсем ни к чему.
— Да, конечно, — смутился Лисицын. — Спасибо за совет.
6
Степан Артемьевич и Яшина съездили в Чеканово, получили в райсельхозуправлении добро на разработку залежи и строительство, дали заявки на мелиорацию и на проект коровника. Из райцентра уезжали не очень довольные: мелиоративные работы обещали начать только в конце сентября.
Привычный деловой кругооборот захватил целиком Лисицына: то не упусти, не прозевай, то выправи, то другим помоги, то сам попроси помощи. А то и отчитайся. Да и отчитываться ему вскоре пришлось на партийном собрании о подготовке ферм к зиме. Новинцев — друг другом, а заставил его намотать на ус многое. Управляющие отделениями слишком долго раскачиваются, чересчур уж спокойно заявили на собрании. «Зима еще где-то, а у нас на очереди картошка». А кто виноват в таком благодушии? Конечно, директор. Он вовремя не спросил.
Но все это — очередные дела, и с ними Лисицын как-нибудь справится. Теперь у него и опыта накопилось порядком, и начальственный голос окреп. Хватит ему ходить в начинающих, это добром не кончится.
Как-то вечером Степан Артемьевич неторопливо шел по мосточкам. Мимо проехал трактор, заполнив улицу грохотом и скрежетом гусениц. В кабине сидел Рудаков, муж прохоровской доярки. Он смотрел перед собой и привычно действовал рычагами. В уголке губ — папироса. За трактором, переваливаясь на изрытой гусеницами дороге, тащилась телега Порова, нагруженная ящиками. Крючок сидел в передке, свесив ноги. Его полотняная кепочка превратилась в серый измятый блин. Заметив директора, Поров отвернулся и опустил голову, будто не видел его. Лисицын придирчиво скользнул взглядом по мерину, по Крючку, конечно, вспомнил историю с бревнами.
Поров уехал. Лисицын подумал о Лизе, о том, что ей надо будет скоро идти в декрет, о несостоявшемся отпуске, о неосуществленной поездке в Санта-Крус…
«Бог с ней, с поездкой… Дорога дальняя, Лиза беременна, где уж там…» Но в его воображении опять назойливо возник призрачный мираж: вид чужеземных островов, непременно скалистый берег и чайки, непременно белые домики, песни под гитару, треск кастаньет, рев океанского прибоя… Лисицын даже помотал головой, отгоняя это видение…
Навстречу шел Николай Гашев. Через плечо у него висела холщовая сумка, какие прежде носили деревенские пастухи, а из нее торчали топорище и конец пилы-ножовки. Гашев, уступая дорогу, сошел на обочину и поздоровался. Степан Артемьевич спросил:
— Плотничать собрались?
— Уже отработал, — Гашев снял кепку, вытер лоб рукавом пиджака, хотя на улице было прохладно. — Полы в избе на Горке перебираю. А здесь в квартире надо сменить подоконники. Посохли, растрескались…
— Значит, на два фронта?
— Выходит, так. Знаете ли, — Гашев замялся. — Планы наши с женой изменились. На Горку переезжать не будем.
— Почему?
— Хозяйка передумала. Стареем, говорит, а там надо с дровами возиться, воду таскать из колодца ведрами. Корову держать, пожалуй, не по силам. Да и на ферме ей хватает мороки с животными.
— Ну что ж, — ответил Лисицын, — вас никто не неволит.
— Оно так. К старому, видно, нет возврата. Только огород там будем по-прежнему возделывать, а летом иногда и поживем, если тепло да сухо…
— Значит — дача?
— Вроде того.
Степан Артемьевич хотел было сказать, что он рассчитывал их квартиру передать молодоженам, но воздержался, боясь обидеть Гашевых. Они попрощались и разошлись в разные стороны.
«Вот уж и осень наступила. А когда — я и не заметил», — Степан Артемьевич остановился, присмотрелся к окрестности. Почти прямая деревенская улица. По обе стороны — аккуратные, опрятные домики рабочих. Впереди у околицы, на взгорке — толпа молодых берез. За ними — невидимый отсюда спуск к Лайме. И дальше за березами, во всю ширь неба — большая-пребольшая синяя туча. Брызнуло солнце, высветило березы, кора на них стала розовой, кроны запестрели желтизной. Ярко освещенные, деревья теперь уже выделялись на фоне необъятной синей тучи рельефно, картинно, как на театральной декорации. Над ними вились чайки, по чайкам и угадывалась невидимая отсюда река в низине.
«Красота!» — Степан Артемьевич постоял, полюбовался пейзажем. Но тут солнце скрылось, сразу будто похолодало, березы померкли, чайки исчезли. Туча из синей превратилась в темно-серую, с грязноватыми подтеками.
Лисицын повернул к дому, все еще думая об осени и связанных с нею заботах. О том, что где бы он ни был, чего бы ни видел, какие бы мысли ни появлялись у него, они неизменно возвращались к хозяйству.
Но пейзаж он все-таки отметил, как нечто выходящее из будничного круга, яркое, праздничное, поднимающее настроение. Значит, он еще не утратил способности воспринимать красоту. «Аи да Лисицын! — похвалил он мысленно себя. — Приду сейчас домой и расскажу Лизе про эти высветленные березки».
Глава восьмая
1
Из непроглядных, поднадоевших всем облаков выпуталось и спустилось на землю бабье лето. Облака потеснились к северо-востоку, и, хотя они все еще толпились там, у горизонта, как бы выжидая, когда можно будет вернуться, небо ненадолго прояснилось, и над Борком засверкало солнце. Над полями со скирдами соломы, оставшейся после комбайновой уборки, пролетели на юг журавли. Их косяк величественно проплыл в прозрачном, холодном воздухе. Оттуда, сверху, доносились мелодичные крики, в которых слышались одновременно и печаль, и торжество жизни. Люди провожали птиц и говорили:
— Одна у журавля дорога — на теплые воды.
— Походили по полям, померили земельку, проверили жнивье и вот — прощаются…
Пролетая над Борком, журавли перестроились: место вожака занял другой, а тот пошел позади. Отдыхал вожак, летел там, где напор воздуха был слабее. Сменяются, как и люди…
За полетом птиц, за этим трепетным, волнистым треугольником следил и Чикин со своей скамейки у обрыва, подняв голову и ощущая на лице неожиданное благостное тепло.
Вскоре к нему присоединились двое соседей-механизаторов — Кротов и Сметанин. Оба работали на ферме, и у них выдался свободный час.
— Говорят, есть примета: «Если журавли летят к третьему спасу, то на покров будет мороз», — сказал Кротов. — А уж все три спаса прошли.
— Вот и бабье лето высветлилось, — присоединился к беседе Сметанин, рослый, плотный мужик, совершенная противоположность маленькому худому Кротову. — Хоть и без паутинок, а потеплело.
— Паутинок сей год не будет. Холода стояли, все тенетники попрятались по щелям, — заметил Кротов.
— Почему так называется — бабье лето? — спросил Сметанин Чикина.
— А кто знает. Испокон веку так говорится, — ответил тот неуверенно.
— Объяснить просто, — Кротов слегка усмехнулся. — В прежние-то годы бабы лета совсем не видели, все косили, жали, вязали снопы, детишек пестовали, ухватами по утрам гремели у печек. А приходил сентябрь, им и выпадал отдых от полевых работ. И природа им, значит, отпускала немножко тепла. Потому и бабье лето
— Может, и так, — неопределенно промолвил Чикин. — Так сказать, специально для женщин повторение лета.
— Было бы что повторять! — усмехнулся Сметании. — Нынче лета, кажись, совсем не было.
Долго еще они сидели и беседовали. Потом механизаторы ушли в коровник, а Чикин домой. Пообедал, отдохнул часик и опять вернулся на свой НП. Тут он и просидел до позднего вечера.
Солнце закатилось, скот пригнали с пастбища, травы пригнула к земле роса, «Ракета» на Двине подлетела к пристани. Вскоре опять мимо него потянулись пассажиры из города. Все видел, все отмечал для себя Чикин.
Когда стало темнеть и шум в селе начал затихать, он собрался было домой, но тут послышалось громкое пение. Хриплый мужской голос орал во все горло:
Ничего, что ноги босы,
Мы — архангельски матросы.
Кто наступит на носки,
Того изрежем на куски!
«Ишь ты, вот дает!» — ухмыльнулся Чикин и вспомнил, что, бывало, еще до войны, эту разухабистую частушку пели подвыпившие парни, стенкой «гуляя» по улице с гармонью, щеголяя своим молодечеством, показывая всей деревне, что все им трын-трава и черт им не брат…
Пенье смолкло, до слуха Чикина донеслась какая-то возня, мягкие удары, шлепки, сдержанная ругань. «Кто это там буйствует?» Звуки слышались как будто от избы Прихожаевой. «Неужели из-за нее дерутся хахали?» Еремей Кузьмич скорой походкой направился туда.
…Порову захотелось выпить просто так, без всякого повода: не было ни праздника, ни круглой даты, ни другого какого-нибудь события, достойного того, чтобы его отметить. В таких случаях выпивохи выдумывают причины, пьют, к примеру, по случаю рождения у соседской кошки семерых котят или по поводу предстоящего в будущем году лунного затмения…
Но не одному же сидеть с бутылкой! Поров после работы брел по улице, размышляя, к кому бы зайти. Прежние друзья-приятели от него отвернулись — кто попал «женке под башмак», кто избегал возлияний, выдерживая характер. И тут Поров вспомнил о Спицыне.
После товарищеского суда и той истории с бревнами они не встречались, обоим было неловко. Спицын сердился на Крючка за то, что тот очень уж безобразно орал песни тогда на реке, и к тому же затеял драку, подняв шум. Крючок все же решил зайти к Трофиму и помириться с ним.
Войдя в избу, Поров сразу почувствовал холод, исходивший от Марфы. Она кидала на непрошеного гостя недружелюбные взгляды из-под низко повязанного платка с таким видом, будто у нее нестерпимо болели зубы и ей было тошно. Крючок привык к подобной неприязни со стороны женщин и не придал этому никакого значения. Спицын был трезвый и отнесся к появлению Крючка с бутылкой очень сдержанно: события последних дней отбили у него охоту к выпивке. Но гость уже сидел за столом, разливал по стаканам хмельное зелье, и он не устоял перед ним… Поров сетовал на судьбу, ругал жену, которая уехала к родителям, бросив его. А ему в одиночестве тяжко. Спицын хотел сказать, что вино и выгнало жену из дома, но сдержался.
У него тоже было несладко на душе. Софья старательно избегала встреч. Завидя Трофима на улице, сразу переходила па другую сторону.
— Такая дрянь! — захмелев, жаловался Трофим Порову. — Сперва заманила, а теперь хвостом вильнула. Заносится, авторитет себе наживает. Я ей, видишь ли, не пара, обличье у меня не то. Ей надо повыше чином, с портфельчиком, при шляпе. А я шляп не ношу, «дипломата» — тоже. Я человек простой, работяга…
Спицын, озлобясь, подбирал самые ядовитые выражения и хлесткие характеристики для Софьи. Крючок призывал к возмездию:
— Надо ее проучить. Ты бы ее за волосья потаскал…
— Она мне не жена, чтобы за волосья.
— Тогда надо у нее в избе стекла пересчитать, ворота дегтем намазать… Хочешь, я произведу в лучшем виде?
— Не стоит ее обижать. Все-таки мы с ней жили. Она — баба ласковая…
— Ну вот! То такая-разэдакая, то ласковая! — с презрением сказал Поров. — Нет у тебя мужской гордости. Тряпка ты!
Спицын задумался. Хмельная голова все-таки требовала действий, и он начал поддаваться на уговоры Крючка.
— Пожалуй, стекла пересчитать ей не худо. Только так, чтобы никто не знал и не мог на нас показать. Украдкой надо, ночью, без свидетелей.
— Ша! Сделаю — комар носа не подточит.
Марфа, все слышавшая, следившая за ними, подошла и решительно отобрала у них недопитую бутылку:
— Хватит вам! Ты, Крючок, уходи. Хватит, говорю!
Она вытолкала Порова за дверь. Тот, наливаясь пьяной злобой, побрел к дому Прихожаевой.
Дальше события развивались стремительно. Подойдя к избе Софьи, Крючок выломал из изгороди внушительный кол и, распевая устрашающую частушку, ударил им по раме кухонного окна. Нацелился на другое окошко, но тут из избы выскочил коренастый крепыш в одних трусах. Подбежав к Крючку, он сунул ему кулаком под дых, вырвал у него кол и принялся отделывать дебошира со всем старанием. Поров, не ожидавший такого отпора, почти не сопротивлялся. Из носа у него текла кровь, под глазом вспух здоровенный синяк. Парень взял его за шиворот и с пинками выставил на улицу, с треском захлопнув калитку.
Свидетелями этой драмы были двое: ворона на соседней березе и Чикин. Ворона дремала на верхушке дерева и, очнувшись от шума, заорала во все горло: «Кар-р-р». Чикин затаился, выглядывая из-за угла стоявшей рядом избы.
Парень здорово избил Крючка, и тот долго качался у забора, держась обеими руками за штакетины. Потом пришел в себя и побрел домой.
На другой день он все вспомнил, основательно перетрусил и пошел к Прихожаевой с повинной, чтобы замять дело.
Софьи дома не было — ушла на ферму. У крыльца парень в джинсах и трикотажной футболке вырезал на столе, вынесенном из избы, алмазом стекла, чтобы вставить их в раму. Поров робко подошел, поздоровался и спросил:
— Ты кто?
— А ты кто? — вопросом ответил парень. — Ты — деревенский хулиган? Бандит? Зачем вышиб стекла?
— Прости, брат, получилось по пьяному делу. Сам не помню как… Я заплачу, только не говори никому…
— А я вот сейчас тебя разделаю на мелкую тарную дощечку! Вчера тебе мало еще попало. Надо навсегда отбить у тебя охоту вышибать рамы. Чем тебе Соня насолила?
Парень, положив стеклорез на стол и сжав кулаки, двинулся на Порова. Тот попятился, однако вчерашний хмель все еще играл в нем.
— Но-но! Ты полегче. Я ведь тоже могу тебе насовать, — сказал Крючок. — Ты ей кто будешь-то? Брат?
— Муж.
— Муж? — удивился Поров. — Ну, это ты врешь. Муж от нее сбежал в свои Брянские леса…
— Не сбежал, — воинственный пыл у парня пропал. Он вернулся к столу и, взяв стекло, стал примерять его в раме. — Я только ездил домой на побывку. И свою жену я в обиду не дам. Запомни и другим передай.
— Ну, ладно. Только ты… это самое… скажи Софье, чтобы не жаловалась. Я пришел прощенья просить. За раму я рассчитаюсь. Сколько надо?
Парень смерил его уничтожающим взглядом и презрительно сплюнул.
— Не надо нам твоих денег. Катись отсюда! Катись, говорю, а то…
Поров проворно выскочил за калитку и медленно побрел по улице, опустив голову.
Федор Краснов, муж Софьи, прибыл с последним рейсом «Ракеты». Было уже поздно, никто не видел его, а если и видел, то не обратил внимания на молодого мужика, шедшего лугом налегке, в джинсовом костюмчике и кедах, с небольшим плоским чемоданом, где у него были только смена белья да электробритва. В чем уехал Федор из Борка, в том и вернулся. Вся его одежда и вещи остались у Софьи.
Получив из техникума учебный план и первые задания контрольных работ, Софья с немалым усердием засела за книги. Позанимавшись плотно, она собралась уже было ложиться спать и выключила свет, когда раздался осторожный стук в дверь. Опасаясь, что это явился опять Трофим, она выглянула в окно и приметила, что на крыльце стоит не Спицын, а кто-то другой. Кто именно — в потемках разобрать было трудно. Она вышла в сени:
— Кто там?
— Открой, Соня, это я, Федор.
Остолбенев от неожиданности, она некоторое время стояла молча, но потом все же открыла. Федор, войдя в сени, сказал:
— Здравствуй.
— Здравствуй, — очень сухо ответила она и открыла дверь на кухню. — Каким ветром тебя занесло?
Федор вошел, нащупал на стене выключатель и зажег свет. Она на секунду зажмурилась и посмотрела на мужа изумленно. Он медленно поставил на лавку чемодан и виновато улыбнулся:
— Приехал вот. Примешь ли?
Он чуть подался к ней, хотел обнять, но сдержался. От жены веяло холодом. Тогда он встал перед ней, опустив руки.
— Развод оформлять приехал?
— Да нет же. Я совсем к тебе вернулся. Понимаешь?
— Обрадовал! — Софья нервно рассмеялась и отошла к столу, все еще настороженно глядя на Федора. — Я тебя не звала.
— Не звала. И я знал — не позовешь. Потому и приехал без предупреждения.
— Очень ты мне нужен теперь. Бери свой чемодан и вали обратно на пристань.
— Ты это серьезно? — нерешительно спросил Федор.
— Мне не до шуток.
Он все же сел на лавку, она — на стул поодаль.
— Давай поговорим серьезно, — предложил он.
— О чем?
— Я сделал ошибку. Бывает ведь, ошибаются люди, а потом исправляются. Веришь?
— Нет, не верю.
— С той девчонкой мы дружили до моего ухода в армию, потом переписывались, — тихо стал объясняться он. — Однако теперь она стала совсем другая… У нее, оказывается, там жених… Они подали заявление в загс. И я понял, что любви у нас никакой не было…
Софья презрительно усмехнулась:
— А что было?
— Просто я ею увлекся. Это я только теперь понял. И еще понял, что по-настоящему люблю только тебя. Потому и вернулся. Прости меня.
Софья встала, подошла к окну и старательно занавесила окно.
— Я тоже теперь стала другая, — отчужденно сказала она и опять села.
— Не верю.
— Верь не верь, а прежней Софьи уже нет. Неужто ты думаешь, что после того письма я осталась прежней? — Она резко обернулась к нему и, сверкнув глазами, бросила с вызовом: — Ожегся?
— Как? — не понял он.
— А так: испытал измену? А мне было каково? Мне-то легко ли было ее пережить?
— Я тебе всерьез не изменял.
— Всерьез? Как понимать?
Федор, ссутулясь, сидел на лавке, с усталым видом, осунувшийся, похудевший. На лице его только выделялись большие живые глаза под черными — вразлет — бровями. В эти глаза она и влюбилась тогда сразу, с первой встречи. Джинсовая куртка плотно обтягивала его широкие плечи, брюки на коленях лоснились от долгой, бессменной носки. Ноги в кедах он стыдливо прятал в тень под лавку и все сидел молча, в неловкой, напряженной позе.
Она помнила его не таким…
…Грузовик остановился на меже, на картофельном поле. Софья с бабами докапывала картошку лопатой на участке, оставшемся после комбайна, — тракторист почему-то объехал эту узкую полоску. Шофер открыл кабину, крикнул: «Эй, бабы! Давай нагружай!» Она крикнула в ответ: «Нашел грузчиков! Бери вон мешки-то сам, таскай поживее!» — «А что? Помочь разве вам?» — взгляд его встретился с Софьиным и сразу будто ожег, опалил ее. Такие красивые были у него большие черные глазищи. И веселые, с лукавинкой. Она подошла и стала помогать ему поднимать мешки на спину. Он похвалил: «Молодец, силенка у тебя есть. Встретимся вечерком?» — «Ты давай, давай, работай! О встрече потом». — «Нет, я люблю сразу решать. Ты — девка, вижу, славная, нравишься мне. Приходи в клуб, я билеты в кино возьму».
Тогда они и познакомились поближе. А когда уборку закончили, он съездил в Чеканово, взял расчет и вернулся в Борок.
— А если и я тебе изменила? — спросила Софья.
— Не верю.
— А если придется поверить?
— Все равно не верю, — упрямо повторил он. — И давай не будем об этом.
Софья потупилась, опустила голову, зажав ладони меж колен. Она думала о себе, о своей нелепой, такой ненужной и даже, как ей теперь казалось, постыдной связи с Трофимом. И хотя к тому вынудил ее он, Федор, уехав и написав нехорошее письмо, ей все равно было теперь неловко, тоскливо, Свершилось нечто непоправимое, что будет терзать ее долго… Было стыдно не перед мужем, а перед своей совестью. «Сказать ему всю правду? — думала она. — Все равно ведь узнает. Но — не теперь. Пусть-ка он у меня повертится, пооправдывается! Пусть его тоже совесть помучает, если она есть…»
Она поднялась и поставила греться чайник.
— Чаем уж я, так и быть, напою тебя перед обратной дорогой, — сказала сдержанно, чуточку подобрев.
— Я не уеду, — решительно ответил он. — Или ты мне не жена?
— Какая я тебе теперь жена? Сам подумай…
— Брось, Соня, не обижай меня.
— Я его обидела! — воскликнула Софья. — Это ты, ты меня обидел! Или до тебя все никак не доходит?
— Доходит, доходит, Сонечка. — Он посмотрел на свои руки. — Знаешь, мне бы умыться.
— Вон умывальник. На старом месте…
— И разуться бы…
— А мне что.
Он снял мокрые от росы кеды. Софья небрежно сунула ему шлепанцы. Надев их, Федор почувствовал себя уверенней, сбросил куртку, стянул рубаху и пошел мыться.
Она украдкой поглядывала на его молодые, сильные руки, широкие плечи, крепкую спину, и на душе у нее отлегло. Будто внутри ее, в груди, туго сжатая пружина постепенно ослабла и перестала держать ее в напряжении. Она поняла, что не может не принять Федора, если он перестал дурить и вернулся насовсем. Поняла, что по-прежнему любит его и простит ему номер, который он выкинул. Иначе быть опять одной…
Федор умылся, раскрыл чемодан и вытерся дорожным полотенцем. Потом достал плитку шоколада и положил на стол:
— Это тебе. Извини за скромный подарок.
Софья посмотрела на него, а не на шоколад:
— Ладно, чего уж там…
Стена отчужденности рухнула. Обломки кирпича, щебень, пыль осели к их ногам, и в образовавшийся светлый пролом в этой стене они кинулись друг к другу и обнялись, Софья заплакала, уткнулась лицом ему в грудь и несколько раз укоризненно ткнула Федора кулаком в бок.
— Эх, Федор, Федор! Что ты наделал! Разве так можно?
— Ну, ну перестань плакать. Хорошо, что хорошо кончается.
— Ты думаешь, так уж и хорошо?
— Иначе быть не может, — твердо ответил он. — Давай забудем все, что случилось. Навсегда забудем.
— А сможем ли забыть?
Он покачал головой и сел за стол.
— Ты чем занимался дома-то? Гулял? Ведь тебе там была полная свобода!
— Был грех, сначала увлекся. Дружки-приятели, то да се… А потом мама сказала: «Кончай гусарить, возвращайся к жене и берись за дело».
— Значит, мама. А если бы не сказала — не вернулся бы?
— Вернулся. Я и сам решил.
— Какова мать-то? Здоровье каково у нее?
— Да ничего вроде. Собирается сюда на Октябрьский праздник. И велела написать, как ты меня примешь…
— Приму, если возьмешься за работу и выпивать не будешь. Иначе — вот тебе бог, а вот — порог.
Федор чуть-чуть обиделся:
— Я же не пьяница.
— Все выпивохи не считают себя таковыми. Запомни.
— Ладно, запомню. Завтра же пойду оформлюсь на работу.
Серьезное объяснение Софья все же оставила «на потом». У нее сейчас не хватило духу сказать о знакомстве с Трофимом. Они еще долго сидели за столом, говорили, а потом стали укладываться спать. И в те самые минуты во дворе появился Крючок…
Софья, конечно, разозлилась на Порова: «Ну-ка, ни с того, ни с сего высадил раму! Позор-то какой, что люди подумают? Сущий разбойник, нет у него ни стыда, ни совести. Пропил жену с сыном и себя пропьет». Она собралась было жаловаться на него в сельсовет, но раздумала: пойдет эта история по селу, над ней же будут посмеиваться. И пальцем показывать, скажут, не зря Поров выбил стекла, тут что-то есть… Пойдут пересуды, Поров получил свое, пожалуй, с него хватит, кулаки у Федора крепкие.
Она еще подумала, что в этой грязной истории, возможно, замешан Спицын. Не он ли подослал Крючка?
— А ну его к дьяволу! — сказала она Федору. — Ты насовал ему, стекла вставил, и ладно. Не хочу огласки.
— Ладно, — ответил муж. — Только почему он выбрал именно твою избу?
— Мало ли что взбредет пьянице в голову. Бог его накажет!
Однако приструнить нарушителя спокойствия решил Чикин. Он пошел в сельсовет и все там рассказал. Сельсовет предложил председателю сельпо принять меры. Там с Поровым возились немало, он надоел всем, и его уволили с работы. Устроиться вновь куда-нибудь оказалось непросто. К кому бы ни обратился Поров, никто его не хотел брать на работу. Даже управляющий Борковским отделением совхоза, несмотря на нехватку рабочих, отказал ему в этом. Поров даже пить перестал и ходил по селу потерянным. Наконец он заколотил в избе окна и уехал в заречный поселок лесорубов. Говорили, что там его взяли было на обрубку сучьев, но вскоре за прогулы выгнали. Тогда он подался в областной центр, и там его след затерялся.
Зато в Борке стало спокойно. Лисицын, проходя мимо избы с заколоченными окнами, морщился: «Весь вид портит эта поровская избенка!» Он поручил кадровичке Клаве разыскать жену Крючка. «Пусть вернутся с сыном домой, снимут эти доски и живут тут. Если Крючок объявится и станет бузить, приструним».
2
Улицу Борка заполнила своим грохотом мощная техника — прибыл из Чеканова мелиоративный отряд, и Лисицын сам проводил его на газике к месту работ. В те же дни из города, с лесозавода, приехали шефы на уборку картофеля и овощей, их надо было принять, разместить, обеспечить питанием.
Утром в кабинет вошла невысокая молодая женщина в сапогах, ватнике и шерстяном платке. Лисицын где-то прежде ее видел. «Где? Да это же Роза Васильева, у которой муж — участковый!» — вспомнил Степан Артемьевич. Васильева спросила, на каких условиях можно ей с семьей переехать из города в Борок.
— Вы это серьезно решили? — Лисицын вспомнил, как эта дамочка загорала летом на огороде, а потом пришла на луг. «Этакая вальяжная горожаночка».
— Пока еще подумываем, — ответила Васильева. — Хотелось бы все же знать условия.
— Жилье вам не потребуется?
— У нас своя изба.
— Вот и ладно. Оформим все как положено. Будете постоянными рабочими совхоза со всеми преимуществами и льготами. Можем продать вам телку, поросят или даже корову.
— А подъемные дадите?
— Надо выяснить. Обычно они выдаются тем, кто приезжает по оргнабору. Заработки у нас хорошие, не пожалеете. Вы бы где хотели трудиться?
— Могу ходить за телятами. Или дояркой…
— А супруг?
— Его, конечно, отпустили бы сюда, перевели. Но нужен ли в Борке участковый?
— Это я узнаю и вам сообщу. Оставьте адрес.
— Я к вам еще зайду. Я ведь приехала с шефами на уборку картошки.
— Милости прошу!
Роза попрощалась и вышла. Степан Артемьевич проводил ее до двери.
А потом пришла целая семья: муж, жена и двое детей-дошколят. Их сопровождала инспектор по кадрам Клава,
— Вот, Степан Артемьевич, приехала семья из Владимирской области по направлению службы трудоустройства, — сказала Клава. — По нашей заявке.
— Да, да, — оживился Лисицын. — Садитесь, пожалуйста. Садитесь все, вон на стулья. Значит, владимирские?
— Да, — ответил глава семьи Волгин, молодой мужчина с зеленоватыми глазами, русоволосый и рослый. Жена у него была невысокая, но, как говорят, «увесистая», Толстый шерстяной жакет втугую обтягивал ее округлые плечи, полную грудь. Дети одеты заботливо, тепло. Вид у приезжих был усталый.
— Жили там в сельской местности? — спросил Лисицын.
— В сельской.
— Почему потянуло на Север?
— Я служил в этих местах в армии, понравилось здесь.
Жена с любопытством поглядывала на Лисицына, дети украдкой изучали кабинет с его обстановкой.
— Чем занимались в родных краях? — спросил Лисицын.
— Я — механизатор широкого профиля, — сказал муж. — А Дуся, — он кивнул на жену, — работала в полеводстве.
— Ну что же, мы вас примем. Работы хватит, но прежде о жилье. Сейчас мы дадим вам комнату в общежитии, а к Октябрьскому празднику получите отдельную двухкомнатную квартиру в кирпичном доме. Вас это устроит?
— Наверное, устроит, — сказала Дуся.
— Ну вот и ладно. А пока поживете в общежитии. Недолго. — Степан Артемьевич вызвал завхоза, чтобы тот определил приезжих.
Когда они ушли, Лисицын подумал: «Черт возьми, это здорово! Первая ласточка все же прилетела… Наверное, приедут еще. Надо скорее решать с жильем…»
К нему зашел Новинцев, ему не терпелось порасспросить об этой семье. Степан Артемьевич рассказал и уверенно закончил:
— Теперь будут приезжать.
— Осень на носу. Ездят больше летом, — охладил его восторг Иван Васильевич.
— Скептик ты, Иван Васильевич. Приедут. Во всяком случае, должны…
3
Лиза собралась в отпуск, и сельсовет временно взял на работу в библиотеку Еремея Кузьмича Чикина. Сдавая ему хозяйство, Лиза предупредила:
— Пожалуйста, следите, чтобы книги не терялись, не забывайте заполнять формуляры, и чтоб обращались с литературой аккуратно.
Она все рассказала и показала Чикину. Тот вздумал пересчитывать все тома, что были на полках и на руках у читателей — по формулярам. Считали весь день. Не хватило одной книги.
— Где же она? — спросил Чикин, глядя на Лизу поверх очков.
— Должно быть, кто-нибудь из приезжих не сдал, увез. Я принесу взамен равноценную книгу из дома.
— Принесите, — суховато сказал Чикин, и Лиза подумала, что у такого аккуратиста будет уж, конечно, все в порядке.
И вот она — дома, варит обеды, занимается стиркой, приборкой квартиры. Когда было все сделано по хозяйству, она заскучала. Муж, как всегда, с раннего утра до позднего вечера занят. А что делать ей? Лиза стала просматривать журналы мод, решив заняться вязаньем. Купила иглы, спицы, шерстяные нитки и принялась за дело. У нее в этом рукоделье уже имелся кое-какой опыт, унаследованный от матери. «Свяжу Степану шерстяной жилет к зиме», — решила она.
Степан Артемьевич одобрил занятие, но посоветовал:
— Тебе надо больше гулять на улице. Дыши воздухом, любуйся природой. Давай составим тебе распорядок дня.
Они вместе стали составлять «распорядок», как нечто важное, от чего зависит их будущее. В такие-то часы заниматься хозяйством, в такие-то гулять по таким-то маршрутам. Как человек пунктуальный, Лиза поначалу выполняла расписание из минуты в минуту, но вскоре это ей наскучило, и она стала полеживать на диване с книжкой. Муж делал ей замечания и отправлял на улицу.
Гуляя там, она познакомилась с бывшей квартирной хозяйкой Степана Артемьевича Любовцевой. Она тоже «гуляла» от дремучей пенсионерской скуки, целый день сидела на лавочке под березами с такими же старыми, как и сама, говоруньями соседками. Лизе нашлось место на скамейке, и она стала частенько подсаживаться к старухам. Здесь она невольно получала подробные сведения о жизни Борка, о том, что не лежало на поверхности, а таилось в глубине. Она узнала, кто с кем ссорится и дружит, кто кому и чем насолил в последнее время, кто погуливает тайком от жены или… мужа. Кто чем питается и где достает продукты и так далее. Эти старухи знали решительно все.
Любовцева стала приглашать Лизу к себе в избу на чаепитие, и вскоре «директорска женка» превратилась в заядлую чаевницу, научилась определять по вкусу и аромату сорт чая и его происхождение. Это была целая наука
— Грузинский чай вкусен, ароматен и мягок, — поучала Любовцева. — Прежде его выделывали ой как хорошо! В жестяных красивых баночках продавали, а то и наборами. А нынче он стал не такой, и сыплют его теперь в картонные коробки, а то и в прозрачные мешочки. Ну а индийский хорошо и быстро настаивается, но по вкусу резкий. Покрепче заваришь, так во рту горчит. Он много сахара требует — тогда вкусен. Грузинский больше вяжет, а этот горчит. Эти два чая у нас и есть самые лучшие, — не замечая противоречивости в суждениях, заключала Любовцева.
Лиза делилась познаниями с мужем. Он сказал, что она скоро станет чайной наркоманкой и, чего доброго, еще и родит завзятого чаевника или чаевницу…
Потом Любовцева перешла к травам. Познания ее тут тоже были безграничными.
— Вот цветок. Называется ромашка аптечная, — показывала она Лизе горсть желтых засушенных соцветий. — Цены ей нет! Хороша при простуде, при зубной боли, вспухании десен и щек, и когда горло заболит — полоскать ею надо. И по женским болезням бьет, ежели правильно употреблять. А когда у малого ребеночка запор случится, так лучше нет средства! А это — зверобой. Называется продырявленный, потому что листочки у него этакими точечками покрыты сплошь. Колит, гастрит, почки, легкие, сердце — все лечит! И не перечесть, сколько у него положительностей.
— Погодите, я запишу, — Лиза доставала блокнотик, припасенный для этой цели, и старательно записывала, какими травами что лечат.
— Народная медицина — большое дело! Тут не химия какая-нибудь в таблетках, а натуральное, что от солнышка да от земли. В каждой травинке есть лечебные свойства. Много их открыто, а еще больше не открыто.
В очередную их поездку в город был прохладный и очень прозрачный день. Бабье лето прошло скоро и незаметно, как случайная, мимолетная любовь, оставив после себя эту прозрачность и чистоту воздуха и облака в холодном, насквозь продутом сиверком небе. Облака были редкие, вытянутые и как бы сплюснутые сверху и снизу. Яркое, но холодное солнце уже не могло обогреть землю и только пронизывало ее своим космическим светом.
На пристани было холодно, реку лохматил ветер-свежак. Степан Артемьевич и Лиза прятались от него за багажным помещением.
По Двине проходили разные суда и суденышки — белые и нарядные, как морские офицеры в праздничных летних кителях, пассажирские теплоходы, темные, невзрачные на вид буксиры, увешанные по бортам вместо кранцев кольцами автомобильных покрышек, словно ладьи скандинавских викингов боевыми круглыми щитами. Буксиры, пыхтя и стараясь, тянули плоты с бревнами, баржи с картошкой и углем.
Пассажиры на дебаркадере кутались в плащи и утепленные куртки. Начальник пристани, деловой мужичок, ходил по палубе в парусиновой штормовке с капюшоном, опять с метлой и ведерком. Казалось, подметать дощатый настил было его главной и единственной обязанностью.
В городе они около двух часов пробыли на кладбище. Степан Артемьевич выкрасил деревянную оградку вокруг могилы Анны Павловны голубой эмалью. Лиза подобрала красивый букет, налила в сторожке воды в банку и поставила цветы на плоский бугорок с пожелтевшей травой.
— Как-то тревожно на душе, — сказала Лиза, взяв мужа под руку, когда пошли с кладбища. — У меня такое предчувствие, будто что-то должно случиться…
Степан Артемьевич стал ее успокаивать:
— Это пройдет. Меньше думай о грустном. Вероятно, еще и осень на тебя действует.
— Нет, — вздохнув, возразила она. — Что-то должно случиться, я чувствую.
— Да просто нервы пошаливают. Впереди — роды. Ты не думай об этом, Хочешь, пойдем в театр?
— Лучше в цирк. Там последние дни гастролей.
— Ладно, в цирк так в цирк.
Билеты были уже почти все проданы. Им достались места наверху, под самым куполом. Но оттуда было видно хорошо. Лиза смотрела на гимнастов, эквилибристов, клоунов, дрессировщиков со зверюшками и лошадок, бегающих по кругу, но ощущение тревоги не проходило. «Странно, очень странно», — думала она, но мужу больше не жаловалась.
В Борок они вернулись утром следующего дня, Степан Артемьевич, не заходя домой, пошел в контору.
У Лизы не проходила тоска. Она горевала о матери: «Как все-таки плохо без нее. Пусть бы жила, ничего не делала, только бы отдыхала. Я бы заботилась о ней. Ведь ей было только сорок восемь лет! Эх, мама, мама!»
Ребенок чуть ворохнулся у нее в животе, ее замутило. Села на стул, посидела — прошло. «Кто же будет, мальчик или девочка? А, все равно. Какая разница. Лишь бы родить благополучно». Она стала высчитывать, сколько осталось времени до появления на свет младенца, потом принялась кроить распашонки из полотна, припасенного еще матерью.
Тревога не проходила. На кухне, где варился обед, она попробовала суп и выключила газ. До обеденного перерыва еще было время, и она пошла на улицу рассеяться.
Увидев на лавочке старух, и среди них, конечно, Любовцеву, Лиза подошла, поздоровалась. Но посидеть, поговорить отказалась и направилась в библиотеку.
Еремей Кузьмич вполне освоился с новой должностью. Он сидел за столом, читал толстую книгу и попивал чай из термоса.
— А, Елизавета Михайловна! — обрадовался он. — Проведать старика захотелось? Чайку хотите?
— Спасибо, пила дома. Как живете, каковы дела?
— Да что дела… Их почти и нет. Посетителей мало, сижу вот, коротаю время.
— Что читаете?
— Ирвинг Стоун, «Муки и радости». О знаменитом итальянском ваятеле Микеланджело… Скажите, зачем им понадобилось сжигать хорошие вещи?
— Кому? Какие вещи?
— А вот послушайте: «Они побросали в костер духи, зеркала, рулоны французских шелков, шкатулки с бисером, серьгами, браслетами…» И дальше: «Поверх этой огромной груды — книги, переплетенные в кожу манус… манус-крипты, сотни рисунков, картин, все произведения античной культуры… Потом Савонарола… Савонарола поджег все это факелом»…
— Обычные деяния религиозных фанатиков.
Чикин задумался, положив на развернутую книгу небольшую темную жилистую ладонь.
— Еремей Кузьмич, — попросила Лиза. — Я хочу взять что-нибудь почитать.
— Берите! — Чикин широким жестом указал на книги. — Пожалуйста.
Лиза долго перебирала тома и взяла «Жерминаль» Золя.
Тревога ее не оставляла…
4
Календарь сельскохозяйственных работ. Как часто академически точная, разработанная наукой, строгая обоснованность его расчетов и ограничений во времени приходила в противоречие с нечерноземной действительностью! Об этом Лисицын вспоминал, как только в его хозяйстве случались досадные накладки. В идеале в рамки календаря должны последовательно вписываться все работы в определенные сроки. Как говорится: «Пора да время дороже золота». Иначе может случиться, как, например, при молевом сплаве на реке. Застрянет бревешко на отмели, на коряге или на перекате, к нему приткнется другое, третье, и вот уже неподвижные бревна лежат плитой, загромождая всю реку от берега до берега. Разбирай потом этот залом…
В нынешнем году так и получилось: сенокос затянулся, уборку хлебов начали поздновато, а картофельная страда захватила пору зяблевой вспашки. Одно наслаивалось на другое. Полеводческие бригады лихорадило, механизаторы не знали ни сна, ни отдыха, район требовал темпов, Лисицын нервничал. А всему виной скверное, пасмурное лето…
Начало октября было ясным и холодно-прозрачным, с пронизывающим сиверком. У женщин и школьников, срезавших с гряд капустные кочаны, зябли руки, впору было надевать перчатки. Но главное — сухо. Поднатужились, приналегли на «незавершенку» — и положение стало выправляться.
Степан Артемьевич высказал на совещании животноводов свои соображения по научно обоснованным нормам кормления. Его предложение вначале не вызвало желанного энтузиазма. Зоотехники и управляющие отделениями только многозначительно переглядывались. Яшина осторожно сказала:
— Научно обоснованные нормы — дело необходимое. Но, Степан Артемьевич, качество сена у нас не ахти. Лето было плохое, травы не набрали ни роста, ни питательных веществ…
— Дай бог прокормить скот зимой, — сказал управляющий Борковским отделением. — Где уж тут считать белки да каротины…
— Я смотрю на вас, товарищи, и удивляюсь, — напористо и несколько раздраженно продолжал Лисицын. — Всё работаете по старинке! Когда будем жить по-современному? Скот хороший, а удои низкие. И главная причина именно в неграмотном ведении хозяйства.
Кажется, он убедил подчиненных. Решили создать лабораторию для определения качества кормов и внести поправки в составленные рационы.
— Но имейте в виду, Степан Артемьевич, — предостерегла все же Яшина, — что, если все делать по науке, сена и силоса не хватит. Заранее надо изыскивать пути для пополнения запаса кормов. Как бы весной не оказаться на мели. «Опять проблема, — подумал Лисицын. — Сколько их еще будет, этих проблем?»
Потом он собрал механизаторов с Челпановым во главе и изложил им свои планы о выделении кормопроизводства в самостоятельную отрасль. Тут возражений не было, были только вопросы — когда и каким образом? Степан Артемьевич все представлял себе довольно отчетливо, он долго думал над этим и делился своими мыслями с подчиненными увлеченно и даже с азартом.
— Уже в будущем году начнем работать по-новому, Так себя и настраивайте, — заключил он.
Трактористы допахивали последние клинья зяби. Степан Артемьевич поехал с парторгом посмотреть, что там и как. Где-то в глубине души Лисицын не очень верил внешне благополучным сводкам.
Опять директорский газик бегал из конца в конец совхозных угодий. Мелькали стога сена на лугах, соломенные скирды в поле, леса и перелески, деревеньки и фермы.
Новинцев поглядывал по сторонам.
— А снега все еще нет, — сказал он неожиданно.
— Вот тебе на! — воскликнул Лисицын. — Ты ждешь этот подарок с небес? Ты уже махнул рукой на нашу незавершенку?
— Я интересуюсь, всегда ли явления природы совпадают с календарем. Вчера был покров.
Шофер Сергей поглядел на них через плечо:
— Выпадет снег ночью, вот увидите. Я утром встретил Чикина: идет скрюченный, на батожок опирается. Верная примета — быть снегу.
— А мелиораторы еще не закончили работу. Поздно приехали, — Лисицын тоже уныло глянул в оконце.
— Это плохо, — согласился парторг. — Хотя погода для них, пожалуй, большой роли не играет.
— Как не играет? Кому интересно мерзнуть на болоте! Ну, ледок накинет — еще так-сяк. А если снег? Прекратят корчевку. Надо съездить к ним.
— Давай съездим.
По обочине полевой дороги потянулись плотные заросли шиповника с продолговатыми и круглыми красными ягодами. Листья с кустов почти все облетели, и голые ветки были словно унизаны бусинками. Стайка чечеток вспорхнула, вспугнутая шумом мотора, и, трепыхая крыльями, улетела в сторону. Кустарник кончился, и перед ними раскинулась пашня. По ней двигался трактор с плугом.
— Стоп! — сказал Лисицын.
Сергей сбросил скорость, нажал на тормоз. Лисицын и Новинцев вылезли из машины. Трактор приблизился к ним и остановился. Рудаков, муж прохоровской доярки, рослый, широкоплечий, в ватнике и сапогах, подошел к ним. Следом подошел и прицепщик — пожилой сухонький мужичок в брезентовом дождевике.
— Много ли осталось пахать? — спросил Лисицын.
— Это поле кончаю. Еще на пару дней работы на Плёсе, километра два вверх по реке, — ответил Рудаков.
— Так, — Степан Артемьевич пошел на пашню. Влажные, тяжелые пласты суглинка почти не осыпались под ногами. Директор склонился над бороздой, прикинул на глаз глубину и хотел похвалить Рудакова, но воздержался. «Надо посмотреть, как он заделывает угол». Конец загона был близко, Лисицын пошел туда и увидел, что никакого угла не было, борозда делала плавный, дугообразный поворот. «Трудно ли спрямить угол? — подумал Степан Артемьевич. — Пожалуй, кусты мешают развернуться, но попытаюсь».
— Давно я не водил трактор, — сказал он Рудакову. — Попробовать разве?
— Пожалуйста, — ответил тракторист. — Вы здесь полный хозяин, да и трактор водите не хуже любого из нас…
— Все мы тут хозяева, — сухо отозвался Лисицын и направился к трактору. Прицепщик пошел за ним. — Попробуем спрямить угол, — сказал ему Степан Артемьевич.
Степан Артемьевич повел трактор в конец загона, там притормозил, высунулся из кабины и, примерившись, вломился в кусты, обступившие пашню. Резко развернулся и стал запахивать рудаковскую «дугу», вырезая плугом прямой угол.
Рудаков издали смотрел с настороженным любопытством. Сергей, открыв дверку газика, воскликнул:
— Ну дает директор!
Выйдя на очередной загон, Лисицын остановил агрегат и неторопливо вернулся к машине.
— Валяй, теперь борозда прямая, легче! — сказал он Рудакову с откровенной иронией.
Тракторист смутился, покраснел.
— Кусты мешают, — ответил он. — Это вам разок в охотку, а мне этих углов за глаза хватает.
— Все равно, ведь можно же спрямлять их!
— Можно, если постараться.
— А кто будет стараться — дядя? — ровным голосом продолжал Лисицын, но тракторист чувствовал, что он злится. — Если на каждом поле будем оставлять закругления — сколько пашни потеряем? Понимаешь?
— Да, понимаю, — Рудаков чувствовал себя неловко. — Признаю свою ошибку.
— Это не ошибка. Это вина, — жестко сказал Лисицын.
— Винюсь, — примирительно рассмеялся Рудаков. — А повинную голову, Степан Артемьевич, меч не сечет. Буду вырезать углы по всем правилам.
— Посмотрим, — сказал Лисицын и стал садиться в машину.
Тракторист закурил и пошел к агрегату, попыхивая из-за плеча табачным дымком. Прицепщик, идя следом, несколько раз оглянулся.
В машину быстро сел и Новинцев. Лисицын сказал Сергею:
— Поехали к мелиораторам!
Машина мчалась среди пустынных полей. Свистел холодный встречный ветер, хлопал ослабевшим, выгоревшим, промытым дождями парусиновым тентом. Сергей уверенно крутил баранку, перемотанную синей пластиковой лентой.
Новинцев с уважением поглядывал на директора, улыбаясь чуть-чуть уголками губ. «Научился требовать Лисицын, — подумал он. — Далеко пойдет. Молодец». А вслух сказал:
— Послушай, Степан Артемьевич, а как же эта поездка на Канарские острова?
— Она накрылась, — ответил Лисицын. — Жена беременна. Куда ее повезешь в таком положении?
— Да, жаль, не получилось у тебя. Когда же теперь пойдешь в отпуск? Отдохнуть непременно надо.
— Вот выпадет снег, устоится зима, возьму отпуск и буду ходить в лес на лыжах. Куплю ружье, стану охотиться на зайцев.
— Нужна будет гончая, — сказал Новинцев. — Собаки-то у тебя нет! И у меня тоже, а то бы одолжил.
— Купим и собаку. Вот, кажется, у Бунина есть такие строки:
Что ж, камин затоплю, буду пить.
Хорошо бы собаку купить…
— Пить не стоит, — рассмеялся Новинцев. — А собаку можно.
Теперь в воображении Степана Артемьевича скалистые острова южной Атлантики с неведомым Санта-Крусом уступили место первой пороше и чернотропу. Он видел себя в охотничьих доспехах, с ружьем в руках в лесу, схваченном сизым дымком первого инея. За ним послушно и легко, потряхивая висячими ушами, бежал поджарый и пегий русский гончак. Охотничья тропа казалась более реальной, чем плавание по теплому океану в дальние страны… Степан Артемьевич смотрел вперед на узкую ленту проселка. Новинцев вернул его с неба на землю:
— В райкоме нам вчера сказали, что капиталовложения в сельское хозяйство резко увеличиваются и скоро будет создано районное агропромышленное объединение. Оно будет воротить всеми делами. И вообще, предстоит крупная перестройка всего, связанного с землей. Так что и в наших планах, возможно, придется тоже кое-что пересмотреть.
— Это не исключено, — сказал Лисицын озабоченно.
Газик мчался вперед, и ветер тормошил старенький брезентовый тент, который все пузырился и хлопал. Лисицын глянул в оконце. Слева на обширном поле уже проклюнулись ростки озими. В низинках она была гуще и зеленее, на взгорках — реже. В небе неторопливо плыли осенние тяжеловатые облака. Впереди в просвет меж ними вырвались опять солнечные лучи и ударили прямо в ветровое стекло. Шофер наклонил голову, затеняя глаза козырьком кепки, и прибавил скорость.
Глава девятая
1
Осенние ночи тягучи и горьковаты, как дым от сырой осины в костре, и Еремей Кузьмич с трудом дожидался зыбкого, тусклого рассвета. Он подолгу глядел в темноту горницы, на прямоугольники окон с черными переплетами рам. В углу резво тикали недавно купленные, вошедшие нынче в моду часы с кукушкой, но кукушку Чикин «отключил», чтобы не шумела ночами.
Мучила бессонница, в голове толклись разные мысли и воспоминания о прежнем, о молодых годах. Все прошло, остались только память и дети. Они выучились, уехали в города. Старший сын Сергей живет в Мурманске, плавает механиком на тральщике, младший — Петр — сотрудник одного из проектных институтов в Ленинграде, дочь Екатерина — в Одессе, вышла замуж, родила ему двух внуков.
Еремей Кузьмич был домоседом и ездил в гости к детям очень редко. Известное дело: приедет старик из деревни погостить — и все ему будет не по душе. Квартира тесна, уставлена мебелью и книгами, воздуха в ней мало. Водопроводная вода пахнет хлоркой, — то ли дело из родника или колодца! За окнами шумят, гремят трамваи и машины, выхлопные газы лезут в форточку. Снохи вежливо-холодны. От их подчеркнутой вежливости и косых взглядов, брошенных мимоходом, на душе становится неловко. Небось думают: «Скоро ли уберется старый в свою деревеньку, торчит тут как филин».
К праздникам дети шлют стандартные поздравительные открытки с цветочками, иногда и денежные переводы. Конечно, лучше, если бы сын или дочь были рядом, покоили старость, да где там! Выросли птенцы, оперились, легли на крыло и улетели искать свое счастье. И сетовать на судьбу не приходится: сколько стариков и старух доживают свой век в одиночестве по российским селам.
Ночью, почти до рассвета, за окнами шумел-плескался дождь. Под его монотонный шумок Еремей Кузьмич все же немного вздремнул и проснулся, услышав на кухне звон чайкой посуды да тихое, умиротворенное шипение самовара. Встал с тяжелой головой, в плохом настроении и поворчал на жену:
— Ты бы поменьше гремела утром. Спать не даешь!
Жена глянула на него настороженно и виновато, молча поставила перед ним тарелку с манной кашей и стакан чая.
В стакане рыбкой плотвичкой тускловато блестела старинная ложечка с витым черенком, единственная серебряная вещица в доме. У жены — покорное выражение лица, но в глазах недовольство. Хотя и привыкла к воркотне супруга, а все же надоело слушать. Она пила чай из большой старинной чашки дулевского фарфора, старательно скрывая раздражение.
Избу построил отец в тридцатые годы. Он в гражданскую войну брал Перекоп, был тяжело ранен в сабельном бою. Белоказак располосовал ему шашкой плечо, пересек ключицу. Ключица в лазарете срослась, но рука повисла и почти не действовала. Отец вернулся домой в длинной кавалерийской шинели с высокой шлицей, со шпорами на разбитых в прах сапогах и с орденом. Дома во время коллективизации его избрали председателем колхоза на Горке. Деревня тогда была людная, веселая, жили в ней лодочные мастера, шили речные и морские карбаса для подгородних архангельских рыбаков. Но карбасное ремесло для горкских мужиков было лишь подспорьем. Главным являлось земледелие: выращивали озимую рожь, ячмень, горох, овес, держали много домашней живности.
Председатель был напорист и одержим идеей: задумал построить на речке Лайме небольшую гидроэлектростанцию, выписал из города инженера, сколотил бригаду мастеров. За лето соорудили плотину и здание станции, привезли и установили турбину с электромотором и протянули провода. К осени горкские крестьяне ужинали с лампочкой Ильича, и всем в округе это было в диковинку и на зависть.
Станция работала долго, пока не износилось оборудование. Заменить его не пришлось — началась война с фашистской Германией, и деревня опять засветила керосиновые лампы. Плотину снесло вешним половодьем, в месте запруды осталась каменная грядка. Отец на втором году войны умер. Еремей Кузьмич ушел на фронт, а после вернулся домой и женился.
Позавтракав, Чикин тепло оделся и вышел посидеть на своей скамье над обрывом. Скамья была влажной и холодной, и он подостлал под себя кусок старой клеенки.
По привычке окинул взглядом окрестность. Пейзаж грустноват. Опять в разрывы туч изредка прорывалось солнце, высвечивало заливной луг на берегу Северной Двины. Отава на нем поблекла, зажелтилась.
…Вот он, Борок, весь перед ним, как на блюдечке. Дома глядят в мир чуть-чуть задумчиво окнами с наличниками, с белыми тюлевыми или цветными занавесками. На подоконниках — кактусы с пышными алыми бутонами, герань и другие комнатные цветы неведомых Чикину названий. Перед избами, в палисадниках — обнаженные черемухи, рябинки, кусты акации, сирени. Зеленый наряд с них смахнула осень, вороха пожухлых листьев устилают пожелтевшую траву. На клумбах и грядках пятнышками — редкие, припозднившиеся садовые цветы. Они все еще сопротивляются натиску поздней осени.
Сколько в этих избах людей? Не много, семьи небольшие. У каждого свой характер и нрав, свои заботы, радости, печали. Трудовой деревенский люд, вечно спешащий куда-то по будням, веселый и шумный в праздники.
Издалека ветер донес шум тракторного дизеля. Сколько помнит Чикин, всегда в пору полевых работ ветер доносил такой шум, как неотъемлемый признак деревни. Рано утром или поздно вечером, в вёдро и ненастье, в майский полдень, душный июльский вечер, в пору осенних заморозков всегда где-нибудь гудел трактор: сначала «фордзон», потом ХТЗ, могучий «Сталинец», ЧТЗ, а теперь современный мощнейший дизель… Грохот его двигателя звучал в ушах Чикина музыкой, действовал на него благотворно, успокаивая: раз трактор пашет, значит, все в порядке, будет хлеб! И тот хлеб, что соберут по осени, творение ума и рук человека, надо принимать не иначе как великое благо, щедрый дар и необыкновенное чудо. А творит это чудо самый обыкновенный парень или зрелый муж в замасленной робе, с загрубелыми от мозолей и ветров руками, с зорким взглядом из-под козырька кепки, с папироской в уголке белозубого красивого рта… И сидит он на сиденье своего трактора как добрый, всегда бодрствующий волшебник. За его крепкой спиной потом под посверки июльских зарниц шумной золотой стеной поднимутся и спелая рожь, и усатый ячмень, и низкорослый шептун овес…
Так было всегда, так будет или, по крайней мере, должно быть всегда.
Чикин глядел отсюда, с высотки, на избы, и к сердцу подкрадывалась грусть, такая, что словами не описать. Она перехватывала дыхание, застилала влажным туманцем стариковские поблекшие глаза: «Скоро, видно, мне на погост… А хотелось бы еще пожить да поглядеть на избы, на людей, на это раздолье по Двине, на луга, поля, леса, на мелкие волны речушки Лаймы, баюкавшей мое детство…»
На тропке, что бежала по-над обрывом, кое-где остались от ночного ненастья плоские лужицы. Земля не успевала впитывать влагу, была напоена ею до отказа. Посреди одной лужицы плавал багряный осиновый листок. Чикин подумал, что и он, так же как этот листок на желтой воде, плавает одиноко посреди большой и непростой деревенской жизни. Он опять настроился на философский лад.
От совхозной конторы донесся рокот автомобильного мотора. Вскоре машина умчалась, наверное, директор совхоза покатил куда-нибудь по своим делам.
Еремей Кузьмич с одобрением подумал, что Лисицын все же решил осваивать пустошь в Залесье и строить ферму в Прохоровке. «Правильно решил. Земля не должна пустовать. Ее, отвоеванной прадедами у лесов дремучих, и так мало. Что ни говори, а этот Лисицын — дельный мужик, и у него выработалась добрая хозяйская хватка, хоть и молод. Молодой месяц на всю ночь светит…»
Частенько Еремей Кузьмич сравнивал прошлое с настоящим и убеждался в том, что в Борке медленно, но верно все меняется к лучшему, пока еще не очень ярко и определенно, где-то в глубинах жизни, подобно тому, как развивается ранней весной озимь, вытаявшая из-под снега. Еремей Кузьмич твердо знал истину, которая стала для него своего рода заповедью: землей нельзя произвольно командовать. Ее надо понимать. Поймешь, чего она требует, дашь ей то, что нужно, — будет от нее и полная отдача. А необдуманные и поспешные действия всегда приводят к труднопоправимым ошибкам.
На смену старикам приходят новые работники, образованные, энергичные. Учитывают ли они опыт предшественников, их горькие ошибки и трудные победы?
Потому он и старался иногда подсказать что-нибудь полезное Лисицыну и был доволен, что директор к нему прислушивается.
На усадьбе Спицына было тихо, не доносилось ни стукотка, ни ширканья пилы. Трофим закончил ремонт избы, пристроил к ней веранду и вечерами пил тут чай с Марфой, объявив себе сухой закон по случаю приобретения автомобиля. Наконец-то мечта исполнилась, он купил «Жигули» ярко-красного цвета. Вот они, стоят перед крыльцом. Хозяин построил и гараж — основательный, из брускового материала, обшитый кровельным железом.
Машина ждала хозяина. А вот появился и он, в куртке из искусственной кожи с молниями, в новой кепке и джинсах местного пошива. «Принарядился! — подумал Чикин. — Вот ведь как меняется даже внешний вид человека с приобретением личного автотранспорта! Куда же он собрался ехать? Скорее всего — в поселок бумажного комбината картошкой нового урожая торговать».
Трофим отворил ворота, выехал со двора и снова закрыл их. Потом укатил в том направлении, как и предполагал Чикин — к поселку комбината.
Из-за обрыва поднялась на взгорок Софья Прихожаева. Она тащила на плече корзину с мокрым бельем — ходила полоскать его на берег Лаймы с плота. Там все боровские бабы полощут белье после стирки. Чикин окликнул Софью:
— Сядь, красотка, отдохни. Ноша у тебя, вижу, тяжелая!
— Своя ноша, говорят, не тянет, — отозвалась Софья и все же поставила корзину на траву и села рядом. — В гору стало тяжеленько подниматься. Неужто старею?
— Ну что ты! — бодрячески воскликнул Чикин. — В твои-то годы какая старость? Я так полагаю: спала ночью мало, с муженьком миловалась, вот и притомилась… — он улыбнулся покровительственно, и Софья нахмурилась.
— Шутить изволите, Еремей Кузьмич! — она махнула маленькой загорелой рукой, будто отгоняя комаров, и поправила на голове ситцевую косынку. — Только о нехорошем и думаете. Бог с вами…
— Чего тут худого? Обычное дело, житейское. Муженек-то ваш теперь, поди, привык к Борку, уезжать больше не собирается?
— Уехал! — неожиданно резко ответила Софья, и глаза ее стали холодными, только в глубине их таилась злая искорка, а возле уголков плотно сжатых губ застыли резкие морщинки.
Чикин удивился несказанно:
— Как уехал? Куда?
— А все туда, в Брянские леса. Совсем уехал, — Софья опустила голову, поглядела на передки мокрых сапог, к которым прилипли травинки, и с досадой поморщилась. — Этого от него надо было ожидать. Разные мы люди. Я поначалу думала — любовь. Какая тут любовь? Не может ее быть. Теперь уж совсем-совсем ясно. — Она чего-то недоговаривала, Чикин это чувствовал, но расспрашивать постеснялся.
— Я об этом не знал. Прости. Кабы знал, не стал бы бередить твою рану.
— Никакой раны нет. Одна пустота. Такая пустота в душе! Все перегорело, остались одни холодные угольки. — Софья подняла корзину с бельем на плечо и пошла, забыв попрощаться.
Чикин сидел озадаченный: «Вот ведь штука какая! Опять сбежал у нее мужик. А я и не знал. Как же так у них вышло? Не сладилась семья, и все тут. Верно говорится: «Чужая душа — потемки». Как-то у нынешних молодых людей все легко получается. Сошлись, порезвились — и в стороны… Несерьезно. А почему? Потому, что нет прежнего порядка. Прежде, бывало, уж раз оженились, так крепко, навечно спаяны обручальным колечком. И свадьбы играли шумные, людные. Родителей уважали, друг другу редко изменяли. Детей заводили, чтобы были наследники да работники в хозяйстве. Прежде, бывало, развод был событием на всю округу. А теперь?.. Да что там!» Чикин досадливо поежился, чувствуя, как холодок пробирается к нему под ватник. Он встал и пошел в библиотеку.
Федор Краснов прожил в Борке лишь месяц с небольшим. Сначала он вел себя подобно хорошему семьянину и любящему супругу, был внимателен к Софье. Сразу, как приехал, пошел устраиваться на работу шофером, и Лисицын велел дать ему старенький, капитально отремонтированный грузовик, простив Краснову самовольную отлучку к матери. Однако руководство совхоза относилось к Федору все же настороженно: а вдруг он выкинет еще какой-нибудь трюк? Пусть поездит на старой машине, и, если себя зарекомендует положительно, будет ему и новая.
Так напрямик и сказали ему. Краснов, правда, обиделся — у него были права водителя первого класса, полученные еще в армии, и совхоз мог бы дать машину и поновее. «Ну да ладно, поезжу пока, — смирился Федор. — Москва не сразу строилась».
Грузовик, видимо, чинили на скорую руку, и он стал барахлить: то сцепление, то карбюратор, то зажигание или клапана… В дальние поездки на нем пускаться было рискованно, и Федор перевозил внутри совхоза корма, картошку, овощи и прочее.
Но работа на старом, потрепанном грузовике еще не главное, что выбило его из равновесия. Злые языки как бы между прочим уведомили его, что пока он ездил к матери, Софья напропалую «крутила любовь» с Трофимом Спицыным. Поначалу Федор, хотя и возмутился, решил не придавать значения слухам. В конце концов, он виноват в том, что оставил жену на произвол судьбы. Но разговоры по селу шли все упорнее, все ядовитее, уже в открытую, и Краснов все чаще стал ощущать на себе насмешливые взгляды. Он не выдержал и решил круто объясниться с женой. Он вспомнил, как тогда, по его возвращении, Софья сказала: «А если я тебе изменила?» Он ответил: «Не верю».
А теперь он уже не мог не поверить в то, что жена ему и в самом деле изменяла. Может быть, со зла, в отместку ему за нехорошее письмо, но все-таки не удержалась… А раз так, то можно ли надеяться и в будущем на ее верность? Федора одолевали навязчивые подозрения.
Да еще и памятное происшествие с выбитыми окнами теперь воспринималось в другом свете: «Наверное, стекла вышибли в отместку Софье за то, что она порвала с Трофимом. И порвала ли?» Дошли до него слухи о поведении жены, и Федор уже вполне ясно нарисовал ее законченный портрет: гулёна, непостоянная женщина. Она приняла его, Федора, лишь потому, что ей некуда было деться…
Распалив таким образом свое воображение, Федор однажды пришел с работы донельзя взвинченный и решительный. Софья сидела у стола за книгами. Продолжая учиться в техникуме, она выполняла контрольную работу и так увлеклась науками, что вроде бы и не заметила, как пришел супруг. Федор метнул на нее сердитый взгляд. Ему не понравилось, что она одета в нарядную белую блузку, аккуратно причесана и всем, видимо, очень довольна. «Сидит, хоть бы что, никаких грехов за собой не чувствует», — подумал Федор. Она наконец подняла голову от своих бумаг и сказала:
— Федя, там на плите чайник, щи, на сковородке котлеты. Разогрей, пожалуйста, и ешь. Сам хозяйничай.
— Могла бы оставить свои книжки! Человек пришел с работы — целый день вкалывал! Собирай на стол, нечего тут! — уже зло закончил он, с яростью стаскивая с ног мокрые и грязные сапоги — идя домой, в потемках он угодил в глубокую лужу.
— Что с тобой, Федя? Как ты со мной говоришь! Разве трудно подогреть на плите готовый ужин?
— Хватит! — сорвался он на крик. — Каждый раз так. Для чего тогда жена?
— Успокойся, — мягко сказала Софья и, прервав занятия, все приготовила и молча подала на стол.
Федор тоже молча сел, но едва принялся за еду, как резко бросил:
— Трофиму Спицыну небось и бутылку ставила?
Софья тихонько охнула и опустилась на стул, сразу сменявшись в лице.
— Ну, что молчишь? Ведь бывал он здесь. По всему селу бабы тараторят о твоих шашнях с этим мужиком. Признайся — было?
Софья нахмурилась, повела бровями и, вздохнув, ответила.
— Было, Федя. А что?
— Она еще спрашивает! Думаешь, мне легко терпеть насмешки от людей? Издеваются над нами, вот что!
— Худая молва — злая трава, а траву и скосить можно, — тихо ответила Софья.
— Если бы так! — он резко отодвинул от себя тарелку на край стола, и она чуть не упала на пол. — Как теперь жить?
Софья долго молчала, собиралась с мыслями и наконец заговорила тихо, убеждающе:
— Пойми, Федя, в каком состоянии я была, когда ты уехал. Сейчас вот обижаешься, сердишься. А тогда? Ведь ты бросил меня! Бросил! Скажи, разве не так? Ты же прямо написал, что там, на родине, у тебя есть другая. Что мне было делать?
— Все равно должна хранить верность!
— Верность должна быть обоюдной. Нельзя требовать верности от жены, если сам ей неверен. Да и с Трофимом у нас ничего серьезного не было. Он мне совсем не нравится. Я уж давно рассталась с ним,
— А след тянется. И всю жизнь будет волочиться за тобой!
Софья покраснела, губы у нее задрожали, она вспылила.
— Ну, вот что, муженек. Принимай меня такой, какая есть. А не хочешь, так вали обратно к своей маменьке.
— Вон как ты заговорила! Ну ладно… Ладно, — Федор было растерялся, но овладел собой, — раз уж ты пошла но такой дорожке, жизни у нас хорошей не будет.
— Все зависит от нас самих, — Софья попробовала установить взаимопонимание. — Надо только забыть прошлое. Ведь можно забыть?
— Нет. Я не могу забыть. И не могу простить. И в твоей верности в будущем нет никакой гарантии. А у меня свое достоинство.
— Достоинство? Какое? Видеть во мне причину всех бед и не понимать своей собственной вины?
— Я тебе всерьез не изменял.
— Я тебе тоже.
— Но ты спала с ним?
Софья ничего не ответила, только досадливо повела плечом.
— Вот! И еще оправдываешься. — Федор вышел из-за стола, подошел к окну и долго стоял там, глядя во тьму осеннего вечера.
Софья все сидела на прежнем месте, не шелохнувшись. За окном шел нудный осенний дождик, плескалась вода под стоком крыши, лилась в переполненную пожарную бочку, и от этого было тоскливо и тревожно.
Больше они не сказали друг другу ни слова. Софья была готова помириться с мужем, но он через два дня взял в конторе расчет и уехал, не попрощавшись. Она была на ферме, когда он, надев свои кеды и джинсовый костюмчик, налегке, с тем же чемоданчиком, с каким приехал, ушел на пристань. На столе он оставил немного денег и записку: «Я больше не вернусь. Можешь подать на развод. Прощай».
Снова молодая женщина осталась одна. Попереживала, поплакала ночами в подушку, посетовала на суковатую судьбу-злодейку и смирилась со своим положением. А что ей оставалось делать?
Односельчане на этот раз пощадили ее: никто из соседей не уколол ни упреком, ни напоминанием о бегстве мужа. Бабы сочувствовали ей, осуждая Федора, и как бы оберегали Софью от излишних переживаний. Казалось, единственной целью деревенских сплетниц было поссорить и разлучить ее с мужем. Когда это произошло, злые языки, как по команде, умолкли, лишь изредка Софья ловила на себе сочувственные, а то и скорбные взгляды.
Она полностью отдалась работе. С необыкновенной энергией и тщанием ухаживала за коровами, поддерживала порядок на ферме, и в группе обслуживаемых ею животных даже поднялись удои. Софью стали похваливать за высокие показатели в работе. «А что показатели? — думала она с грустью. — Разве это главное в моей жизни? Может, и похваливают меня только из жалости, приободряют, чтобы совсем не пала духом».
Однажды, когда воскресным утром в избу заглянуло холодное, но довольно яркое осеннее солнышко, Софья подошла к трюмо, вспомнив, что все эти дни после бегства мужа перестала следить за собой. Посмотрелась внимательно, изучая себя как бы заново. У нее была стройная, по-девичьи гибкая аккуратная фигура. Кожа гладкая, белая, грудь высокая, не кормившая ребенка. «Купить бы золотую цепочку с кулоном, — подумала она, — как у жены директора Лизаветы. И платье бы новое сшить».
У нее появилось желание непременно стать красивой, независимой и понравиться кому-нибудь. Да и не кому-нибудь, а человеку хорошему, постоянному, не ветрогону и эгоисту, — таким она считала, конечно, своего мужа. Но кому? В Борке, как она знала, не найдется такого мужчины, который бы пришелся ей по вкусу и был свободен. За хороших, дельных мужиков держались обеими руками жены, бдительно следя за каждым их шагом. А те, кто был отвергнут женой или подружкой за какую-нибудь зловредную привычку — пьянство или пустозвонство, — конечно, никуда не годились и не стоили внимания Софьи.
Годы шли, а жизнь не устроена, и детей нет. Не получилось у них с Федором… Почему, она не знала. Наверное, оттого, что, смутно чувствуя ненадежность супружества, она поостереглась иметь ребенка. «А зря. Было бы дитя — обрела бы к старости лет утешение, надежду и, может быть, и опору в жизни».
Софья открыла платяной шкаф и стала примерять платья. Их имелось до десятка, но ни одно не показалось ей пригодным для выхода. «Все старье, — думала она. — Надо обновить свой, как говорится, гардероб. Я ведь и шить умею, маманя научила. Сама буду кроить и шить, только надо подобрать фасоны».
Она раздобыла журналы мод, выкройки — современные, по сезону, — купила в сельпо ткань и принялась за работу. Вечерами сидела за ручной швейной машиной и размышляла о своем будущем, которое было весьма туманным. На развод она подаст обязательно, но кто заменит ей мужа?
«Ладно, торопиться некуда, есть у меня еще в запасе годик-другой. Если уж любить, так любить хорошего человека. Верно говорила Гашева — не какую-нибудь шушеру. Если ловить с неба звезду, так непременно яркую и значительную…»
Такие зыбкие мечты рождались в бедовой головушке студентки-заочницы техникума и совхозной доярки Софьи Прихожаевой. Но прежде надо развестись с мужем, и она подала заявление в загс. Требовалось согласие Федора, и Софья, скрепя сердце, напомнила ему об этом. Он вскоре прислал заявление.
Когда было назначено рассмотрение дела, приехал Федор, и не один, а с молоденькой, почти совсем юной девушкой. У нее были большие серые глаза, рослая фигура Он привез ее, видимо, как будущую невесту, в пику Софье, и остановился у знакомого тракториста в нижнем конце Борка. Софья подумала про его девушку: «Хороша телочка, но обманет и ее, разведется. Это у него в крови. Поживет и убежит».
Суд состоялся в Чеканове, брак был расторгнут. Софья стала совершенно свободной и не чувствовала себя уязвленной или несчастной. Наоборот, она облегченно вздохнула, как притомившаяся верховая кобылка, сбросившая с седла неловкого седока…
Никого, решительно никого не было, на ком бы она могла сосредоточить свое внимание. Трофим Спицын не в счет, хотя и разъезжает теперь на своих пожарного цвета «Жигулях», пуская всем пыль в глаза.
И вот однажды, идя утром на ферму, она встретилась на узких мосточках с Лисицыным. Он поздоровался и, уступая ей дорогу, сошел с мосточков. На ногах у него были ботинки, а на земле блестела неглубокая лужица, и он стоял в этой лужице, пропуская ее. На какой-то миг взгляды их встретились. Софья вспыхнула, залилась румянцем и, опустив голову, поспешила уйти. Лисицын шагнул из лужицы на мостки, посмотрел ей вслед, — обычная мужская привычка, — и пошел в неопределенном раздумье, в предчувствии чего-то волнующего…
Придя к себе в контору, он сел за стол и задумался, дымя сигаретой. Перед глазами почему-то все стояла Софья.
Он припомнил, как тогда, на скамейке, она, будучи под хмельком развязной и грубоватой, заложила ногу на ногу, обнажив голую коленку. И потом еще вспомнил, как на пастбище она стояла перед ним смущенная и виноватая и извинялась. И еще пришло ему на память, как он подписывал ей бумаги для поступления в техникум, чувствуя на себе ее пристальный взгляд.
Лисицын очнулся от этих мыслей и, погасив окурок, сказал себе: «А, ерунда! Лезет в башку черт знает что!» Он стал звонить управляющим отделениями, выяснять, весь ли семенной картофель хорошо заложили на зимнее хранение.
Лиза уже ходила вразвалочку, скоро она родит ему сына. Он так хотел, чтобы родился сын, мужик! Степан Артемьевич теперь особенно сильно любил жену и оберегал ее от всяких невзгод и волнений. Но почему эта доярочка вдруг втемяшилась ему в голову? «Нет, ничего такого тут не может быть. Чепуха все! — отгонял он от себя посторонние мысли. — Но какая она аккуратная, стройненькая… Фигурка у нее, можно сказать, идеальная. Не то что нынешние долговязые современные девицы, Ростик средний… И ходит так быстро и легко… Муж у нее опять удрал. Кажется, развелись они. Пропадает хорошая женщина. А может, вовсе не пропадает. Ну да, такая не пропадет! Еще молода, познакомится с кем-нибудь, найдет свое счастье…»
Софья сшила себе отличное платье из модной ткани неброского стального цвета. Оно плотно облегало фигуру, подчеркивая все ее достоинства. Это платье она надела, собравшись в клуб на вечер по случаю праздника урожая, который состоялся в совхозе в конце октября.
Из всех отделений приехали на машинах рабочие — веселые, оживленные, принаряженные, они заполнили зал, украшенный по-праздничному. В президиуме сидели, как водится, руководители совхоза и передовики: Гашева, два пожилых тракториста-орденоносца, парторг Новинцев в черной паре, при галстуке в белый горошек. Степан Артемьевич тоже надел выходной модный костюм. Он сделал доклад, подвел итоги летне-осенних работ, называя имена тех, кто проявил себя. Потом вручали премии и грамоты двум дояркам, уходящим на заслуженный отдых — медали «Ветеран труда». На смену им тут же назначили девчат, прибывших из профтехучилища на работу в совхоз. Софье Прихожаевой тоже вручили Почетную грамоту — первый знак внимания за всю ее многотрудную работу на ферме. Она быстро поднялась на сцену, приняла грамоту, поблагодарила. Лисицын, поздравляя ее, пожал ей руку. Ее маленькая рука, утонувшая в широкой ладони директора, была горячей и чуть-чуть дрожала от волнения. Софья быстро спустилась по ступенькам в зал, стуча каблуками модных туфель по крашеному полу, села на место. Украдкой рассмотрела грамоту и свернула ее в трубочку. Было приятно, что о ней вспомнили.
А после молодежь убрала из зала в боковые помещения скамьи, и начались танцы под проигрыватель с большими динамиками. Полилась плавная музыка вальса. Софья стояла в сторонке, глядела, как пары одна за другой выходили в круг, и приметила Лисицына. Он стоял у сцены, а рядом на стуле сидела Лизавета. Директор бы оживлен, улыбался, наклоняясь к жене, что-то говорил ей, она тоже улыбалась. Софью вдруг словно подхватило порывом ветра, она легко выпорхнула из толпы и прошла в другой конец зала, туда, где находились Лисицын и его жена. Подошла, вежливо поздоровалась с Лизой и сказала:
— Степан Артемьевич, позвольте с вами потанцевать? Вы, Елизавета Михайловна, уж не обижайтесь.
Лиза рассмеялась и махнула рукой: «Пусть танцует».
Степан Артемьевич, удивляясь резвости Прихожаевой и чуть поколебавшись, все же вышел в круг. Танцевал он, несмотря на высокий рост и грузноватую фигуру, легко, кружил Софью, словно пушинку, и у нее голова пошла кругом. Оба увлеклись танцем и, когда кончился вальс, стали танцевать другой танец. От Софьи пахло духами. Она знала, что запах фермы — сенца, молока, навозца — въедлив и долго не отстает, потому и не поскупилась на дорогие духи, чтобы отбить такой запах.
Лисицын отметил стойкий аромат, улыбнулся и сказал:
— У вас крепкие духи.
Софья расхохоталась, не обидевшись на этот неуклюжий комплимент Лисицына. Лиза, сидя на стуле, начала беспокоиться, кидая на них внимательные взгляды. Оснований для ревности не было, однако что-то заставило ее насторожиться: не слишком ли супруг увлекся танцами с этой бойкой особой.
Молодые парни, механизаторы из Прохоровки, стоявшие скромно в уголке, многозначительно улыбались и говорили промеж себя: «Гляди, гляди! Сонька «кадрит» директора!» Во баба! Во дает!»
Этот разговор, конечно, кроме парней, никто не слышал.
Танец кончился, Степан Артемьевич, выдерживая этикет, поблагодарил партнершу и, оставив ее в сторонке, вернулся к жене. Софья заметила, что он все-таки обернулся и украдкой глянул на нее…
Она не стала больше их беспокоить и принялась танцевать с борковским парнем, недавно прибывшим из армии. Танцевала с ним не долго, пока не пришла к нему девушка и он, извинившись перед Софьей, не поспешил ей навстречу.
Софья не заметила, что издали за ней внимательно следил Трофим Спицын, глядел на нее не по-доброму, с затаенным желанием…
Вечер прошел весело, и Степан Артемьевич остался им вполне доволен, как и все жители Борка и других деревень. Лиза сказала:
— Почаще надо устраивать такие вечера. Людям нужен отдых.
— Почаще не выйдет, — возразил Степан Артемьевич. — Нельзя превращать жизнь в сплошные увеселения. Работать надо!
— Нельзя, чтобы люди все время проводили на фермах и полях и совсем не развлекались. Кстати, клубная работа у нас не на высоте. Кино и танцы — весь репертуар, ни драмкружка, ни хора. Заведующий клубом — вялый, безынициативный человек.
Степан Артемьевич, возразив ей походя, на самом деле согласился с нею.
Лиза примолкла, села на диван и посмотрела на мужа несколько озабоченно.
— Ну, что загрустила? — приметил муж.
— Знаешь, Степа, эта доярочка… Как ее — Прихожаева? Да, Прихожаева. Она что, развелась с мужем?
— Говорят — развелась. Не везет ей в семейной жизни.
— Будь осмотрительнее. Тебе не к лицу кружиться с такой особой в вихре вальса. Мог бы вежливо и отказаться. Представь себе, что подумают люди: директор напропалую танцует с разведенкой, и она посматривает на него так умильно… Тебе надо оберегать свой авторитет.
Степан Артемьевич, будучи после вечера в клубе все еще в приподнятом настроении, не принял замечание жены всерьез.
— Ты же сама разрешила, — сказал он. — Разве мне запрещено танцевать? Я должен ходить все время по струнке?
— Подумай серьезно. Я видела, как она поглядывала на тебя. Еще влюбится — беды не оберешься.
— Я ничего такого не заметил. Послушай, Лизок, ты что, ревнуешь? Разве ее можно сравнить с тобой?
— Как не стыдно говорить о ревности. Не унижай меня, пожалуйста. Я выше этого.
— Давай успокойся. Тебе вредно волноваться.
— Откуда ты взял, что я волнуюсь? Учти, что здесь в деревне всякое лыко в строку. Достаточно малейшего повода для ползучих сплетен. Тебе их надо бояться как огня.
— Ладно учту, мой ангел-хранитель… Давай ужинать, и забудь об этой женщине. У нас с ней ничего такого быть не может.
— Однако она посматривала на тебя весьма заинтересованно. И ты ее так здорово крутил, что у нее шлейф развевался, как у прима-балерины.
— Ты все преувеличиваешь, Лизок.
Жена умолкла, но в глазах у нее вспыхивали искорки раздражения. Лиза опускала взгляд, прятала его под пушистыми ресницами, но Степан Артемьевич это отметил и постарался перевести разговор на другое.
2
Плотники закончили строить коттедж, и Степан Артемьевич пошел поглядеть, каков он.
Дом снаружи и внутри был великолепен, как нарядная праздничная обновка. Глаз радовала резьба по наличникам окон и причелинам крыши. Плотницкий бригадир Сафонов, заложивший эту постройку, решил непременно украсить ее прорезной резьбой, и ради этого внесли изменения в смету. Сказалась традиция: в Борке все крепкие избы были украшены таким образом, и каждый плотник умел это делать.
Но резьба резбой, а как же все остальное? И тут было не к чему придраться: стены срублены из хорошо высушенных и выдержанных сосновых брусьев, полы, потолки, входные тамбуры с крылечками и лесенками, широкие «итальянские» окна — все было аккуратно прилажено, подогнано. В квартиры провели водяное отопление от котельной, обслуживающей Борковскую ферму и общественную баню.
Он поднялся на крыльцо, прошел через коридор и небольшую прихожую на кухню. Плотники — их было пятеро, — собрав свои инструменты в переносные ящики, сидели на кухне, отдыхая, и курили. Им, видимо, не хотелось уходить из дома, в котором все сделано их умелыми руками. Лисицын поздоровался и тоже сел на чурку, поставленную стоймя. Бригадир Сафонов — чернявый, коренастый мужичок — заулыбался, видя, как Лисицын провел ладонью по гладкой желтой стене с пазами, забитыми мхом.
— Гладко, гладко Степан Артемьевич! — сказал Сафонов. — По лицевой стороне брусьев мы прошлись фуганком. А оклеите потом, после осадки. Домик получился хороший, но почему на две семьи?
— Таков проект. Строился дом с расчетом разместить два семейства, — пояснил Лисицын. — У Яшиной квартира очень тесная.
— Понятно. Когда принимать дом будете?
— Завтра, — ответил Лисицын.
— А по мне, так домик на одну семью — лучший вариант, — опять обратился Сафонов к Лисицыну. — Я бы, Степан Артемьевич, в вашем доме жить не согласился.
— Что так?
— А вот так. Хочу, чтобы за стенкой не было слышно ни музыки, ни шума и брани, когда «милые дерутся — только тешатся», чтоб ни ребячьего писка и беготни, да скрипа соседской кровати по ночам… Я желаю стать полным хозяином на своей усадебке.
— Ишь, чего захотел, — заметил один из плотников, попыхивая папироской и щуря серые глаза. — Ничего себе запросики!
Лисицын полол плечами:
— Не всегда есть возможность занимать особняк, тем более совхозный, не собственной постройки. Жить барином в доме только своей семьей я не желаю, тем более что и семья-то у меня невелика.
— Семья у вас будет, конечно, расти, — продолжал Сафонов, — оба вы с женкой еще молодые. Директор совхоза имеет право жить с удобствами — по чину положено. Работа у вас ответственная, и должны быть нормальные условия быта. А вот я собираюсь строить себе отдельный домик. Сейчас я живу в восьмиквартирном. Для села — это не то, что надо. Этот вариант — городской. К чему ютиться в таком доме, как в инкубаторе с клетушками? Человеку хочется быть ближе к земле, ему нужен простор. Вот прежде мужик, живя на отдельной усадьбе только своим семейством, имел крепкое хозяйство, и все у него было к месту, — продолжал Сафонов. — Этот опыт проверен годами. Семейная жизнь, скажу вам, своего рода таинство. Чужих глаз она боится. Конечно, работа в совхозе, общение друг с другом — дело коллективное. А дома лучше одному. Потому что в присутствии чужих людей быт весь виден наизнанку. Вот, скажем, тоже: приехал в город, устроился в гостинице, а в комнате несколько человек, тесно, неудобно, люди всякие-разные. Тебе навязали их в сожители… Так и здесь.
— Ну — это несравнимые вещи, — возразил Лисицын. — А впрочем, в чем-то вы и правы. Ладно, спасибо вам за труды. Очень хорошо вы тут все обустроили.
— Куда нас теперь пошлете? — спросил Сафонов.
— Пока отдыхайте денек-другой. Скоро начнем большое строительство в Прохоровке. Туда и пойдете. Домики индивидуальные надо для животноводов ставить… А Яшина была здесь? — поинтересовался Лисицын.
— Была, — ответил Сафонов. — Чуть не каждый день приходила и все указывала да топталась.
— Топталась?
— Ну да. Она по всем комнатам половицы проверяла, чтобы не скрипели, не гнулись. В ней веса-то пудов пять. Вот и проверяла. Сегодня наведывалась с супругом. Остались довольны. Когда вселяться думаете?
— К Октябрьскому празднику въедем, — ответил Степан Артемьевич, еще раз тепло поблагодарил плотников и вышел.
В конторе у себя на столе он увидел одно необычное заявление. Тракторист Рудаков из Прохоровки просил управляющего Сибирцева прислать плотников для ремонта своей избы. Он подробно перечислял, что надо сделать: перекрыть крышу, перестроить крыльцо, заменить оконные и дверные косяки и так далее. Управляющий Сибирцев отфутболил его заявление директору со своей резолюцией: «Прошу рассмотреть, т. к. отделение совхоза плотников для ремонта частных домов не имеет». Хитрецу Сибирцеву было любопытно узнать, что ответит трактористу Лисицын.
Степан Артемьевич, прочтя заявление, сначала удивился, а потом призадумался. В этой просьбе чувствовалось веяние времени. Однако удовлетворить ее было невозможно, и он пригласил тракториста для объяснений.
— Ты, мил человек, сочинил такую бумагу, что я пришел в совершенную растерянность, — сказал он Рудакову. — Ты мужик или не мужик? Ты что, никогда не держал в руках ни топора, ни рубанка?
— Как же… Держал, — ответил тот.
— Так почему сам не хочешь заняться ремонтом? У нас ведь службы быта нет, плотников нехватка.
— Нынче везде есть такая служба, и у нас должна быть, — возразил Рудаков и многозначительно усмехнулся. Эта усмешка не понравилась Лисицыну, в ней он различил откровенный подвох. — Чем мы хуже горожан? — продолжал тракторист. — Да у меня и времени нет, сами знаете — день-деньской гоняю на тракторе по полям.
— А вечерами? А по выходным? Вот что, Рудаков, хотя я тебя и понимаю вполне и уважаю, — забери-ка ты свою бумаженцию обратно и свою избу чини сам. Материалами поможем, а обслуживание такого рода у нас не предусмотрено.
— Так надо предусмотреть! Такую пустяшную просьбу не можете выполнить! — стоял на своем Рудаков.
— Совхозные стройки лихорадит из-за нехватки мастеров! Как этого не понять? — Лисицын уже начинал сердиться, а Рудаков неохотно взял заявление.
— Ладно уж, — сказал он таким тоном, будто делал одолжение. — На нет и суда нет. Придется, видно, самому…
— Вот, вот! — облегченно воскликнул директор. — Когда в деревне мужик нанимал рабочих для текущего ремонта избы? Он все делал сам. Сам, понимаешь?
Рудаков неожиданно рассмеялся:
— Так я хотел как лучше да быстрее. Деньги есть, работу могу оплатить.
— Тоже мне, богач нашелся! Мудришь, друг мой.
Рудаков вышел. «Ну и народ! Ну и запросики! — Степан Артемьевич взволнованно походил по кабинету, потом опять сел за стол. — А впрочем, он, наверное, прав… Потребности растут, теперь и сельские жители хотят пользоваться такими же услугами, как в городе. А у нас ни пошивочных мастерских, ни телеателье. Народу в деревне мало, они будут здесь нерентабельны. До городских условий совхоз еще не созрел, и сравнивать в данном случае сельского рабочего с промышленным пока рановато. У нас особые условия. Ну, телевизионная, часовая, пошивочные мастерские есть в райцентре, их работники приезжают, берут заказы. А ремонтно-строительные работы пока не по плечу».
Однако Степан Артемьевич понимал, что и такое обслуживание рано или поздно организовать придется. Время того потребует.
Время, время! Оно шло как-то неравномерно, рывками, этакими неровными импульсами. Когда все более или менее ладилось, время шло спокойно, нормально. А если не ладилось и то в одном, то в другом месте возникали препятствия и помехи, маятник часов сбивался с такта, и время бежало, как лошадь с телегой под уклон по косогору. Бежит лошадка с разлохмаченной от ветра гривой, телега подталкивает ее сзади, и она никак не может остановиться, пока не окажется на ровном месте.
Вечерами у Лисицыных было уютно и спокойно. Лиза шила распашонки и простынки будущему ребенку. Степан Артемьевич в последнее время занялся изучением специальной сельскохозяйственной литературы. Он обложился книгами и делал заметки в толстой тетради. Он все больше углублялся в дебри агрономии и зоотехники, поставив себе целью вести хозяйство как можно грамотнее и культурнее. Несмотря на вузовский диплом инженера по сельскохозяйственным машинам, ему недоставало обстоятельной осведомленности, и он восполнял этот пробел в знаниях.
Длинные осенние вечера располагали к сосредоточенной, вдумчивой работе.
Можно, конечно, во всем положиться на специалистов, но он сам обязан знать не меньше их. Чтобы требовать с подчиненных, надо знать, что и как требовать.
Добросовестно штудируя науки, как бывало в студенческие годы, он убедился, что многое упускает из виду в своей практике, Взять, к примеру, кормодобывание. Оказывается, здесь, на Севере, летом, когда над лесами и полями зыбится задумчивый, обворожительный полусвет белых ночей, растения, развиваются быстро, травы буйно идут в рост, и, если еще выпадают дожди, зеленой массы для сена и силоса предостаточно. А качество? В таких травах содержится мало питательных веществ, и в первую очередь белка. Недостаток его не позволяет получать «большое» молоко и мясо. А чем восполнить белковый голод? — бобовыми растениями: горохом, викой, репсом, В совхозе мало площадей занято клевером, и они нуждаются в искусственном опылении, которое выполняют пчелы. Без пчельников хорошие урожаи клеверов немыслимы.
Степан Артемьевич взял себе на заметку и клевер, и пчельники, чтобы заняться ими в недалеком будущем. А пока он зачастил в Прохоровку, где строители из районного Сельхозстроя начинали расширять коровник и закладывать помещение для молодняка. Требовался кирпич, и Степан Артемьевич поехал в Чеканово выбивать фонды на строительные материалы и дополнительное оборудование. Но у районных снабженцев все фонды были давно распределены и израсходованы. Ему сказали: «План у нас железобетонный, сверх фондов не дадут ни кирпичика, ни водопроводной трубы». Лисицын пошел за помощью в райком. Секретарь райкома Григорий Петрович Поздняков принял его доброжелательно, связался с областным начальством, и оттуда последовал ответ: «Где вы были раньше? На внеплановое строительство фондов нет, ждите до будущего года». Поздняков довольно категорично ответил: «А молоко нужно?» — «Нужно». — «Значит, надо найти стройматериалы. Совхоз «Борок» расширяет ферму, ставит дополнительную пристройку на двести голов».
Так или иначе, Позднякову с Лисицыным удалось прорвать круговую «железобетонную» фондовую оборону, и вскоре совхоз отправил машины за кирпичом на керамический комбинат.
3
Из областного центра, из домоуправления, пришло официальное письмо, где Лисицыну предлагалось освободить и сдать коммунальникам городскую однокомнатную квартиру, поскольку Степан Артемьевич с женой в ней теперь не живут. Лисицын показал письмо жене, убедил ее в необходимости выполнить распоряжение, поехал в город, сдал в комиссионку мебель, а вещи и книги перевез в Борок.
Путь Лизе к отступлению был отрезан, да она теперь, кажется, и смирилась с тем, что ей придется жить в Борке постоянно.
Пора было переезжать в коттедж. Степан Артемьевич думал, что Лиза обрадуется этому, но она восприняла известие о переезде, как ему показалось, равнодушно.
— Ты что, не рада новому жилью? — спросил он.
— Понимаешь, — ответила она, — новое всегда приятно. Но и со старым расставаться жаль, — она обвела взглядом комнату, где они чаевничали у круглого стола под трехрожковой люстрой. — Здесь так уютно, я привыкла. Ну ладно, давай переезжать. А кто займет эту квартиру?
— Семья механизатора Волгина, приехавшего из Владимирской области.
— А удобно ли нам переезжать в трехкомнатную квартиру, оставив им эту. У них ведь семья больше. Люди нас за это не осудят?
— Думаю нет. Коттедж строился целевым назначением для семей главного зоотехника и директора. Это все знают.
— Ну тогда ладно, — согласилась Лиза.
После ужина Степан Артемьевич заглянул в контору. Там никого не было, только из кабинета Новинцева в неплотно прикрытую дверь пробивался свет. Степан Артемьевич зашел к нему. Иван Васильевич работал за столом.
— Чего сидишь вечерами? — спросил Лисиный. — Дня тебе мало?
— Тут спокойно, лучше работается. Сижу над планом работы на ноябрь, — ответил Новинцев. — И вот что получается… — он рассказал о своих наметках. Лисицын, выслушав его, заметил:
— Главное есть. Однако все чересчур стандартно: «Об авангардной роли коммунистов»… «О выполнении требований Устава». Мы такие вопросы и раньше обсуждали. Скучновато.
— А что ты предложишь?
— Я вот частенько думаю о нашем житье-бытье. Заработки у рабочих неплохие, свои дома, усадебки, моторные катера, лодки. Спицын — тот даже машину купил. В домах все покрашено, обустроено, смотреть любо-дорого. Мебель, ковры и прочее… Полное благополучие. Верно я говорю?
Верно, — согласился Новинцев. — Но не все одинаково живут, одни побогаче, другие — скромнее.
— Я беру в общем. Материальное благосостояние повысилось. А всегда ли согласуются личные интересы с общественными?
— А точнее?
— Ну вот, к примеру. Свой дом, свою усадьбу рабочий привел в идеальный вид. А на ферме никто не замечает поломанную стайку, выбитое ветром стекло. Возле коровника всякий хлам — ржавая проволока, обрезки труб, старые детали от изношенных машин. Кто должен прибирать? А в поле! Ты видел, как Рудаков эти самые «углы» срезал. Возьмем теперь улицу в любой деревне: грязь, выбоины, ухабы. Разве не могли бы взять самосвал, навозить песку, гравия да засыпать их? Могли! Но никому до этого дела нет. А почему? Потому, что «улица не моя, по ней все ходят и ездят, и пусть благоустраивает совхоз!». Выходит, я должен приказать управляющему, чтобы занялись ремонтом дороги, да выделить для этого деньги. А без денег — никак. Субботы и воскресенья жаль… Без рубля никто шагу не шагнет!
Вот и выходит, что о своём, личном, человек печется, а до общего ему и дела нет. Включи-ка в план такой вопрос: «Индивидуальная грядка и совхозное поле».
— Ну что ж, — подумав, ответил Новинцев. — Можно включить. Но формулировка немного странная. Несерьезно. Может быть, лучше так: «О нравственном облике современного сельского жителя», или «О сочетании личных и общественных интересов»?
— Опять стандарт. Мой вариант интригует. Почему грядка? Что значит индивидуальная? Какая связь между нею и полем? Ведь любопытно!
— В принципе верно, но несерьезно.
— Почему несерьезно? Грядка и поле — просто и понятно. Первая олицетворяет личную собственность, второе — общественную. Две философских категории.
— Что и говорить, мыслишь ты глобально, — в голосе парторга появилась легкая ирония. — Ладно, запишем: «Индивидуальная грядка и совхозное поле», а в скобках пометим: «О гармоничном сочетании личных и общественных интересов».
— Ну вот опять, — с некоторой досадой вымолвил Лисицын. — На собрание, где вынесен вопрос о «грядке и поле», все придут, потому что любопытно. А на «Гармоничное сочетание» не соберутся. Скучно, по-казенному. Набило оскомину.
— Ну ты даешь! — рассмеялся парторг и покачал головой. — Впрочем, ты прав. Только вот что я скажу тебе, золотая твоя голова. То самое якобы нерадение, о котором ты говоришь, зависит больше от руководителей — управляющих, бригадиров, специалистов, от нас с тобой. Все надо организовать! Кто отказался бы денек-другой поработать на благоустройстве улицы? Я уверен — не нашлось бы такого человека. Руководитель должен позвать людей, дать машины, инструмент, да и сам, взяв в руки лопату, показать личный пример. Нельзя огульно винить рабочих в том, в чем они не виноваты, и критика «в общем», благородное негодование по поводу того, что «никто не хочет, никому не нужно» — безосновательны. Обо всем надо конкретно: кто, когда, почему? Скажи, прав я или нет?
— Прав. Только я удивляюсь, почему ты в споре со мной всегда берешь верх?
— По штату положено, — Новинцев посмотрел на Лисицына весело, прищурясь, и Степан Артемьевич отметил, что в его глазах светился острый ум. — Однако не всегда беру верх. К сожалению… — добавил Новинцев.
Глава десятая
1
Перебраться в коттедж рано утром Лисицыну помогли Николай Гашев и шофер Сергей. Степан Артемьевич сразу же отправил машину к Яшиной, которая также собиралась переселяться. Гашев помог расставить мебель. Он спросил, кому директор передаст освободившуюся квартиру. Лисицын ответил, что Волгину.
— Так он же собирается жить в моей избе на Горке, — сказал Гашев.
— Неужели?
— Точно. Я там закончил ремонт, и мы договорились, что Волгин арендует избу на два года. Вы этого не знали?
— Нет. Вы что же, на Горке жить не будете?
— Решили переехать в город к дочери.
— Но вы так увлеченно говорили о преимуществах сельской жизни на своей усадебке!
— Судьба распорядилась по-другому, — ответил Гашев. — Глафира выходит на пенсию и хочет помочь дочери растить детей. Дочь развелась с мужем, трудно ей. Но мы, возможно, еще вернемся сюда.
— Вы меня удивили, — сказал Степан Артемьевич суховато.
— Я и сам удивляюсь. Жена настаивает, чтоб, значит, в город переехать.
Когда мебель расставили, Гашев попрощался и ушел.
Лисицын посмотрел ему вслед с укором, развязал узлы с одеждой и выложил все на диван: придет Лиза — разместит вещи по шкафам. «Чего же еще не хватает? — он остановился посреди комнаты. — Ах да, часов!» Вбил в стену гвоздь, повесил электрические часы, подвел стрелки. Постоял, прислушался к мягкому ритмичному тиканью и поглядел в окно. Увидел отлогий лужок с мелкой пожухлой травой, спускавшийся к берегу речки. Вода в Лайме была по-осеннему неприветливой и, наверное, очень холодной. Резкий северо-восточный ветер-полуночник накинул на нее мелкую, стального цвета рябь. Одинокая ива на берегу покачивала голыми ветками. Кустарник за речкой уже давно обнажился, и сквозь голые спутанные сучья Степан Артемьевич приметил небольшое стадо телят, бродивших на поскотине.
Вскоре пошел снег — уже второй после того, который выпал в середине октября. Тогда он сразу растаял. А теперь снег — крупный, хлопьями устилал и луг, и тропинку от реки к дому.
Лисицын надел пальто и пошел за женой. Она прибиралась в старой квартире.
Яшины-Челпановы переехали в свою половину дома в то же утро. В отличие от Лисицыных, их переезд был шумным, сопровождался беготней и восторженными воплями необыкновенно живых и деятельных сыновей.
В контору зашел Волгин — прямо с работы, из механических мастерских. Рослый, широкоплечий, в рабочих брюках из прочной ткани, ватнике и сапогах, он, казалось, заполнил собой весь небольшой кабинет, и потолок в нем стал ниже.
— Товарищ директор, — сказал он. — Я пришел поблагодарить вас за то, что передаете моей семье квартиру. Но занимать ее мы не будем. Решили жить на Горке в избе Гашева.
— Я слышал об этом, — сказал Лисицын.
— И еще собираемся строить свой дом. Просил бы отвести участок земли в Борке. И вот заявление на ссуду. Поможете?
— Постараемся помочь, — ответил Лисицын, взяв у него заявление. — Это хорошо, что вы устраиваетесь в «Борке» основательно. Нравится вам здесь?
— Нравится или не нравится — не тот разговор, Степан Артемьевич. Вы лучше спросите: в охотку ли работается? Я отвечу: в охотку. В мастерских порядок, дисциплина. Челпанов — деловой мужик. Сам берет в руки гаечный ключ или там зубило. Черновой работы не боится. Глядя на него, и все стараются.
— Да, он у нас дельный товарищ, — согласился Лисицын. — Ну, желаю вам успехов! В строительстве дома поможем.
Волгин ушел. Степан Артемьевич подумал: «Одни приезжают, другие уезжают. У Софьи Прихожаевой муж опять драпанул. А Гашева, выйдя на пенсию, могла бы еще потрудиться на более легкой работе. Да где там!»
Как всегда собранный, аккуратно одетый, спокойный, пришел Новинцев и заговорил тоже о Гашевой:
— Она, я слышал, собирается на пенсию?
— Да, — сдержанно ответил Лисицын.
— Надо бы проводить ее с почетом, по всей форме. Как-никак бригадирствовала почти двадцать лет.
— А заслуживает ли она, чтобы с почетом? Оба с мужем собираются уезжать в город к дочери.
— Разве? Ну что ж, это их дело. А проводить ее честь честью мы обязаны.
— Мы-то обязаны, а они? — уже раздраженно бросил Степан Артемьевич. — Куда хочу — туда и ворочу. А с нами Гашева посоветовалась? Активистка, член профкома, депутат сельсовета! — Лисицын, нахмурясь, стал рассеянно перебирать бумажки в папке, лежащей перед ним. — Понимаешь, Иван Васильевич, — продолжал он. — У меня мнение о Гашевых резко изменилось. Прежде я их уважал, а теперь не могу. Мечутся туда-сюда. Хотели жить на Горке, обзавестись коровой, но раздумали, остались в Борке. Теперь и вовсе «до свиданья, дом родной!». А что им делать в городе? Там и без них народу тьма.
— Но у них, наверное, есть причины для переезда. Не так просто все. Давай успокойся, золотая голова, не кипятись. И все же подумай о материальном поощрении, о приказе. Тряхни слегка свой директорский фонд, — настоятельно советовал Новинцев.
— Это сделать нетрудно, да в принципе и возражать не приходится. Однако досадно, черт побери: мастерица своего дела покидает совхоз. Ведь скольких молодых доярок она могла бы обучить! Постой, а если пойти потолковать с ней?
Новинцев, подумав, возразил:
— Сейчас, перед проводами, не стоит. Как она будет чувствовать себя на собрании, если мы не уломаем ее остаться? Сначала проводим чин чином, а уж после и поговорим.
— Хорошо. Пошлем к ней Яшину. Она женщина толковая, постарается убедить Глафиру.
— Добро, — облегченно вздохнул парторг. — Скажи, почему ты в последнее время так взвинчен? В чем причина? Ничего подобного я за тобой прежде не замечал. Давай откровенно, а?
Лисицын вздохнул, по привычке провел ладонями по лицу и, задержав пальцы у подбородка, ответил:
— Устал. Отдохнуть бы… В отпуск.
— Так иди в отпуск. Кто тебе мешает?
Степан Артемьевич опустил руки на стол и глянул на Ивана Васильевича. Взгляд его был спокоен, привычное добродушие и уравновешенность, казалось, вернулись к нему. Но ненадолго, он опять заговорил горячо и с досадой:
— Взял бы отпуск, да со строительством нелады. Вчера был в Прохоровке. И что ты думаешь? Стройотряд только-только закончил фундамент, хотя по времени пора вести кладку стен. Стройка затянется в зиму, а цемент нужной марки не завезен. Сельхозтехника прислала для монтажа трубы не того сечения, какое нужно, а Сибирцев, лопух этакий, принял, не проверив. Техники-проектировщики размечают участок под жилые дома на сыром, болотистом месте. Им же был указан участок рядом в двух шагах, там, где повыше да посуше! Вот такие дела. Ругался до хрипоты, домой вернулся с тяжелым настроением.
— Завтра туда съезжу, — пообещал Новинцев. — Создадим группу партийного контроля за стройкой.
— Надо, очень надо! — воскликнул Лисицын. — Только зачем группа? Достаточно одного умного, принципиального человека. Пусть следит за всем и информирует нас.
— Хорошо, — согласился Иван Васильевич. — Ты прав.
Степан Артемьевич стал размышлять о своих методах руководства. Пора покончить с прекраснодушием. Меня всерьез никто не принимает, не уважает, не боится. Уважают и побаиваются того директора, который умеет «стружку снимать»! Значит, надо перестраиваться. Но как?
Он решил, что деликатность и мягкотелость — злейшие враги любого руководителя, и избрал для себя навсегда, — по крайней мере, пока тут работает, — административный, не терпящий возражений, категорический тон. Нет, он может принять и возражения, если они верны и сказаны по существу, однако строгость — прежде всего.
На другой день он позвонил в мастерские, попросил Челпанова зайти к нему в конце рабочего дня, и, когда главный инженер пришел, сказал ему:
— Садись, Сергей Герасимович. Разговор у нас будет долгий.
— Ну, если долгий, то не лучше ли после ужина? — простодушно предложил Челпанов. — Я есть хочу, ты, наверное, тоже. Натощак начальство злое бывает.
— Ничего, потерпим, — сухо отозвался директор. — Злиться на тебя нет особых причин. Человек ты незаменимый, вся техника у тебя работает как часы. Почти всегда, — добавил он с намеком.
Челпанов рассмеялся, всплеснув небольшими крепкими руками, потемневшими от машинного масла.
— Вот именно: почти всегда. Почти — это такое коварное словечко, Степан Артемьевич. Ой-ой-ой! Вроде бы все ладно, ан не все. Почти все… Почитай, все… — он по своей привычке начал было шутить, каламбурить, но вид у Лисицына был деловой и строгий, и он оборвал свои шуточки.
— Вы очень любите слесарное дело? — спросил Лисицын.
— Конечно. Моя профессия того требует.
— Но ведь вы — не слесарь, а главный инженер совхоза!
— Вы это к чему? — насторожился главинж.
— От главного инженера требуется по должности нечто большее, чем от рядового слесаря-ремонтника.
— Вы что, недовольны моей работой?
— Не в том дело, — Лисицын поморщился. — Это хорошо, что ты иногда, засучив рукава, помогаешь ремонтникам. Понимаю: руки дела просят. А голова?
— Что голова? — недоуменно спросил Челпанов.
— А то, что надо вникать в организацию труда. Вот сейчас создают комплексные бригады механизаторов, закрепляют за ними землю, и они отвечают за урожай с момента вспашки и сева до уборки в закрома. Оплату труда получают в зависимости от конечных результатов. А у нас? У нас никакой системы в использовании техники нет. Кто должен об этом заботиться? Вы, именно вы с главным агрономом и управляющими отделениями. Есть у тебя с ними постоянный контакт? Не видно.
— Но бригады созданы во всех отделениях, — возразил Челпанов.
— Созданы, Но пока только формально. Комплексного метода практически нет. Как же судить о конечных результатах, если на закрепленных участках работы в сроки не выполнялись, а тракторы и комбайны все время кочевали из бригады в бригаду?
— Это вызывалось производственной необходимостью.
— Не всегда, — отрезал Лисицын. — Что показал хронометраж, о котором мы говорили на планерках? Сколько часов, минут во время полевых работ простаивал тот или иной агрегат?
— Итогов пока нет. На днях сделаем.
— Ну вот… на днях… У тебя всегда должна быть при себе записная книжка и в ней точные сведения. Как же так, дорогой Сергей Герасимович? Ведь это же элементарно!
Челпанов пожал плечами, к такому крутому разговору он не был готов.
— Я все понял. Учту, — отозвался он.
Лисицын чувствовал, что не выдержит спокойного тона, он уже был готов повысить голос. Но делать этого не надо. В запальчивости можно наговорить бог знает что. «Ладно, на первый раз хватит, — решил он. — Пусть Челпанов хорошенько подумает». Степан Артемьевич вышел из-за стола, подошел к окну и несколько минут смотрел в него, стоя к главному инженеру спиной. Челпанов ощущал холодок, исходящий от молчаливой фигуры директора, вперившего взгляд в темное окно, и понял: Лисицын очень недоволен и сдерживает себя.
Наконец Степан Артемьевич перестал глядеть в окошко и, подойдя к вешалке, взял пальто.
— Ты все понял? — переспросил он уже спокойнее.
— Да.
— Ну вот и ладно. Пойдем, поужинаем у меня, жен пригласим. Надо же отметить новоселье!
— Хорошо, — послушно, хоть и сдержанно ответил Челпанов.
По его глазам было видно, что особой радости от приглашения он не испытывал, но отказаться не мог,
Они пошли домой. Под ногами вкрадчиво и мягко похрупывал свежий, чуть подтаявший снег. За околицей стыла вечерняя заря. Откуда-то доносилась приглушенная расстоянием магнитофонная музыка. Лисицын шагал широко, Челпанов семенил рядом.
— Послушай, Степан Артемьевич, — сказал он. — Можно подумать, что я должности не соответствую…
— С чего ты взял? Я просто напомнил тебе о том, что ты — главный инженер. Главный инженер! — повторил он. — Это звучит! Но одного звука маловато. Нужны дела, дорогой Сергей Герасимович. Дела! — Он положил руку на присыпанное снежком плечо Челпанова: — Вот плечо, я на него опираюсь. На кого же мне еще опираться, как не на тебя?
— Кажется, мое плечо жидковато.
— Ну-ну, не прибедняйся.
2
Гашеву тепло проводили на пенсию. На собрании в клубе ей сказали много прочувствованных слов, вручили адрес, подарки, медаль «Ветеран труда». Глафира растрогалась. Вся жизнь ее прошла здесь, на этих придвинских холмах, на виду у всего честного народа, немало поработано. За три десятка лет целая молочная река прошла через ее руки.
Общее настроение передалось и Степану Артемьевичу, и, забыв о недавней неприязни к Гашевой, вызванной их стремлением перебраться в город, он напутствовал новую пенсионерку:
— Я слышал, вы, Глафира Андреевна, собираетесь жить в городе у дочери. Это ваше личное дело. Но мы надеемся, что вы все же вернетесь в Борок. Пока оставляем за вами квартиру, приезжайте запросто, хотя бы летом на отдых…
Яшину не стали посылать к Гашевым для переговоров, после таких торжественных проводов это посчитали неуместным.
Глафира посоветовала управляющему отделением Каретникову назначить бригадиром Софью Прихожаеву. Та хотела было отказаться, ссылаясь на то, что учеба в техникуме требует много времени, но Каретников с этим не посчитался и издал приказ. Яшина представила дояркам нового бригадира, наказав хорошенько ее слушаться.
Вскоре Софья стала воспринимать свое назначение как должное: «Дело знакомое, люди неплохие. Постараюсь не подкачать».
Перед Октябрьским праздником ударил морозец, сковал талый снег, образовалась гололедица. Идя на работу, Софья поскользнулась на обледенелых мостках и слегка повредила ногу. «Дурная примета! — подумала она. — Ну-ка, в самом начале бригадирства случилось такое!»
К счастью, обошлось благополучно, только немножко похромала…
На ферме в те дни не заладилось. Новая электродоильная установка оказалась неисправной, слесарь целыми сутками возился возле нее. Поутру Софья услышала, как доярки возмущались:
— Силос плохой сегодня!
— Уж не возили бы такое дрянцо. Сена бы побольше!
— Сено берегут. Яшина говорит: кормить теперь будем по научно обоснованным нормам…
— Оно и видно: научно обоснованные!
— Директору бы пожаловаться. Сходи к нему, Соня.
Софья стала урезонивать женщин:
— Потише, бабоньки. Не кричите на весь двор, не беспокойте скотину. От шума толку мало…
— Новая метла!
— А метет по-старому…
Софья не сдержалась и резко одернула подруг:
— Оставьте ваши колкости до другого раза. Я не сама себя назначала.
«Новая метла» пошла к заведующему фермой.
— Зачем самый верхний, бросовый слой силоса привезли? — возмутилась она. — Будем коров кормить всякой завалью — сколько молока потеряем!
Заведующий фермой Покровский, пожилой, тучный, краснолицый, вечно озабоченный тем, чтобы в его хозяйстве было поменьше неурядиц, ответил:
— Дальше пойдет хороший силос. Сам пробовал… Не психуй и меня до инфаркта не доводи.
— Так-таки и пробовал? — усмехнулась Софья.
— И тебе советую, — отрезал Покровский и, повернувшись к ней спиной, ушел в другой конец коровника. Софья подумала: «Какие странные у него шуточки: сам пробовал силос… Ерунда какая. У каждого свои заскоки».
Доярки первое время часто вспоминали Глафиру. Много лет она работала с ними, всегда находилась рядом, помогала советами, выручала в затруднительных случаях. Но была и требовательной, когда случались промашки, спуску никому не давала.
К новому бригадиру присматривались, испытывали ее: как она начнет руководить? Однажды Софья заметила, что молочные фляги вымыты плохо.
— От этих фляг молоко сразу скиснет, — сказала она. — Перемойте.
Доярки без особого рвения принялись мыть бидоны снова. Она опять проверила и осталась на этот раз довольна:
— Ну вот, теперь ладно.
Утром, увидев в проходе коровника мусор и остатки навоза, она рассердилась и хотела сделать резкое замечание. Но передумала, взяла в руки лопату и принялась чистить бетонный пол. Подружки ее по работе, переглядывались и улыбались украдкой: дескать, вот какая старательная у нас бригадирша. Но вскоре им стало неловко, и они тоже взялись за лопаты и метлы, сказав Софье:
— Иди, занимайся учетом. Уборка — наше дело.
— Оно и видно, что ваше, — сдержанно уколола их Софья и пошла в молокоприемную.
Испытание подвохами она выдержала. Она прекрасно знала характеры и привычки подруг и приноравливалась к ним. Пока она сдержанна и мягковата, но потом покажет и свой характер.
Перед отъездом в город Гашева зашла к Прихожаевой попрощаться. Опять они пили чай и говорили по душам. Глафира советовала Софье быть справедливой, но требовательной к дояркам, просила не забывать ее, писать письма, и дала адрес. Держа на растопыренных пальцах блюдечко с чаем и аппетитно отхлебывая из него, Гашева многозначительно посмотрела на Софью и решила сказать то, ради чего и пришла:
— Соня, ты теперь поглядываешь на директора… Не серчай. Знаю, видела. На танцах глаз с него не сводила… Неужто влюбилась?
— Ах, оставьте! — вспыхнула Софья. — С чего вы взяли? Надо же такое выдумать!
— У меня глаз наметан. Я редко ошибаюсь. Послушай, бедовая твоя головушка, не сбивай с толку мужика. Он молод, ему надо укреплять свой авторитет. Разве он тебе пара? Жена у него красавица и умница. Пустое дело затеяла, Соня. Оставь розовую мечту, послушайся доброго совета.
Софья отмалчивалась, избегая глядеть Гашевой в глаза.
Когда она ушла, Софья долго сидела перед чашкой с остывшим чаем. Было грустно и тягостно: Гашева опять задела ее больное место. «Что за женщина! — подумала Софья. — Всегда суется куда не надо. Уехала бы поскорее».
И, как в тот памятный вечер, когда они впервые говорили тут за столом, Софья подумала: «Она, пожалуй, права. Нечего мечтать о несбыточном. От этого добра не будет»
Но как быть, если сердцем к нему тянешься? Если оно, ретивое, бьется часто и тревожно: «Он… он… он…»
Взгляд Софьи упал на рабочую одежду бывшего мужа, висевшую в углу. Она встала и вынесла фуфайку и брюки на поветь. Потом собрала его бельишко, кое-что по мелочи и все сложила там же на повети в старый сундук с оторванной крышкой. Ничто не должно напоминать о прошлом. Хотела вынести и электропроигрыватель, стоявший на тумбочке в горнице, но передумала. Нашла пластинку с записями Северного хора, поставила на проигрыватель, включила его, и всю избу заполнила любимая ею песня:
Я тебя ищу, тебя ищу, когда мне нелегко,
Я тебе пишу, тебе пишу, когда ты далеко.
Я тебе верна, тебе верна, как милые верны,
Коль не дует ветер северный
С родимой стороны…
…Некого искать и некому писать. А северный ветер — вот он, бьется на улице в обледенелые ветки черемушки, скользит по стеклам, бросается в окно сухим, колким снежком.
Начиналась метель, в избе потемнело. Софья, слушая песню, глядела в окно. Увидела, как возле калитки остановились красного цвета «Жигули». Из них вылупился, как яичко из скорлупы, Трофим Спицын и направился к крыльцу Софьиной избенки.
Она на этот раз не стала прятаться, открыла ему дверь.
…Трофим вошел, снял кепку, повесил ее на знакомый гвоздик у двери и вежливо поклонился:
— Здравствуй, Соня.
Софья посмотрела на него внимательно, и легкая усмешка скользнула по ее губам. Видимо, вспомнила что-то из прошлого.
— Здравствуй, проходи. Садись.
Он сел на стул, аккуратно положил ладони на колени.
— Как поживаешь? Поздравляю тебя.
— С чем?
— С назначением. Теперь ты бригадир. Растешь, значит.
— За поздравление спасибо, — она тоже села поодаль, у стола, покрытого рисунчатой клеенкой.
— Хлопотная должность! Я удивился, когда узнал: неужто, думаю, согласилась? Забот ведь не оберешься.
— Их всегда хватает. А как ты живешь?
— Живу хорошо.
— Машиной, вижу, обзавелся.
— Купил. Теперь нацелился на цветной телевизор.
— Где только деньги берешь…
— Я экономен. Копейку берегу, коплю. А у тебя все по-старому?
— По-старому. Чего пришел? Дело есть?
Трофим погладил крепкими ладонями свои колени, обтянутые джинсами, посмотрел на Софью, помялся и сказал:
— Есть дело. Ты нынче одна живешь? Развелась с муженьком? Скучно ведь одной-то. Вот и пришел.
— Почему думаешь, что мне скучно? Я не скучаю. Причин нет.
— Послушай, я бы хотел, чтобы у нас все наладилось. Мы ведь сначала жили дружно. Вспомни-ко.
Софья молчала, водя пальцем по рисунку на клеенке. Он продолжал:
— Хочу сказать тебе вот что. Я человек простой, потому — без всяких предисловий. Давай поженимся. Ведь знаешь — люблю я тебя.
— Ты это серьезно?
— Очень даже серьезно. Приди в мой дом хозяйкой. Я нынче его привел в порядок: веранду пристроил, ковер в горнице раскинул на полу. Все — для тебя. Дорога, правда, от Борка к шоссейке худая, ухабистая, но когда сухо — можно и в город на «Жигулях» мотануть. В театр там, в цирк али на рынок… Ну а работу на ферме можешь оставить. Зачем она тебе? Неужто я молодую жену не прокормлю?
— Работу, говоришь, оставить? А зачем?
— Чего тебе на дядю горбить? На скотном дворе с бабами переругиваться! Нервы растреплешь, состаришься прежде времени… Возьми вон Гашеву. Сколько лет робила, а чего добилась? Отреза на платье да медали? У меня ты можешь дома посиживать, как царевна, да в окошко поглядывать, меня поджидая.
— Значит, красивую жизнь обещаешь. Не для меня она.
— Почему? Я говорю правду. Истинный крест! Сам буду все делать по хозяйству. Ты только щец наваришь да на стол подашь. Боле ничего делать не заставлю. Расцветешь, поправишься. Люблю я тебя очень.
Софья потупилась, перестала водить по клеенке. Она пыталась спокойно разобраться во всем, привести мысли в порядок. Может ли она полюбить Трофима? А жить в его доме? Вспоминала прежние отношения — как он вел себя при встречах, что говорил, как с ней обращался.
Не все в нем было плохо. Раньше ей нравились его грубоватая мужественность, большие, темные, как омуты, глаза. Они притягивали, завораживали ее, казались загадочными. Но все же нет у нее большого, настоящего чувства к нему. Нет и быть не может. А сойтись и жить без любви, повинуясь холодному расчету, она не могла.
Бывает, у людей нет сильной любви, живут лишь по обязанности, по привычке. Впряглись в семейный хомут и волокут по жизни расхлябанную телегу… Нет, это не для нее.
— Предложение заманчивое, — сдержанно отозвалась Софья. — Спасибо. Но замуж я не собираюсь.
— Напрасно, — обиделся Трофим. — Неужто мне не веришь?
— Верю, но жить с тобой не смогу. Счастья у нас не будет.
— Ты думаешь?
— Сердце подсказывает. Разные мы люди.
— Что-то мудришь, Соня. Счастье человек сам себе создает. Сам!
— Прости, но нет у меня ответного чувства. Нет, и все тут. И не было…
— Чувство придет. Стерпится — слюбится, — улыбнулся он.
— Старая поговорка! В прежние времена муж жену укрощал побоями. Возьмет вожжи и давай лупить… Так любить заставляли, насилу. Нынче это не в моде.
— Да ты что! — изумился Трофим. — Неужто я возьмусь за вожжи? Ладно ли говоришь-то!
— Это к слову. Поговорка «стерпится — слюбится» на таких вожжах держалась. Не те времена. Вот ты сказал, что если выйду за тебя, так лучше уволиться с фермы. Как же тогда жить? Труд строит человека! Праздная жизнь портит его. На ферме — любимая работа, коллектив, поддержка. А ты хочешь посадить меня, как птицу, в клетку!
— Ну дак работай. Вовсе не обязательно дома сидеть. Как хошь, так и делай.
Трофим заметил, что Софья изменилась, стала сдержанной, раздумчивой, и слова у нее в разговоре другие. Вроде бы стала грамотней, строже. Держать себя умеет. Одета чисто, со вкусом. Прежней Соньки уже нет. Он вздохнул, опустил взгляд на домотканую дорожку на полу.
— Значит — отказ. А может, подумаешь? — настаивал он. — Подумай хорошенько! Ежели за меня замуж не выйдешь, много потеряешь.
— Не потеряю. Я теперь чувствую в себе силы — жить, учиться, работать. На все смотрю по-другому. Нет, принять твое предложение я не могу. Извини.
— Это твой окончательный ответ?
— Да. Прощай, — Софья встала со стула и глянула на дверь. Он понял: пора уходить.
— До свиданья, — сказал с надеждой. — Все же подумай. Прошу тебя.
Она молчала. Трофим надел кепку и, неохотно открыв дверь, скрылся за нею. Софья даже не поглядела в окно, только услышала удаляющийся шум автомобильного мотора.
3
— Надо нам, Степан Артемьевич, — говорил Лисицыну Новинцев, — почаще возвращаться к тому, что было решено прежде. Если нет проверки исполнения, хорошие начинания идут насмарку. Это одинаково касается и тебя, и меня. Если уж что решили, надо непременно выполнить, иначе нам грош цена, люди нам не станут верить, скажут: болтуны, трепачи. Помнишь, что ты говорил в райкоме на пленуме? И я тебя тогда поддержал.
— Помню. Коровник мы строим, жилье в Прохоровке — тоже. Яшина договорилась в племсовхозе, чтобы пополнить стадо породистым молодняком.
— Это ладно. Но ты обещал в ближайшие год-два добиться прибавки в удоях на пятьсот литров от коровы в год. Выйдем ли на такой рубеж? Прибавки в надоях с начала стойлового периода нет. Как быть?
— Отелы начнутся — будет и прибавка.
— Вряд ли, — с сомнением покачал головой Новинцев. — Перейти к научно обоснованным нормам кормления не удалось. Откуда ждать прибавки?
— Плохие корма. Лето было скверное. Увеличивать нормы не можем, до весны далеко, надо экономить.
— Ну вот! Значит, не все было как следует продумано.
— Я, пожалуй, был слишком самоуверен, хотя Яшина и предостерегала. Как она говорила, все так и вышло.
— Сели мы с тобой в галошу.
— Ничего, как-нибудь выкрутимся.
— Если бы! Давай соберем животноводов и все обсудим. Может, нам люди и подскажут, как быть.
Собрание животноводов провели после октябрьских торжеств. Были высказаны разные предложения: лучше ухаживать за скотом, как следует запаривать и сдабривать корма, отладить автопоение, беречь сено при раздаче, не сорить им, а везя из леса возы, не оставлять клочья его на сучьях и так далее. Лисицын записал в блокноте кучу таких советов.
Составили памятки животноводам, вывесили их на видных местах. Лисицын напряженно думал, что можно предпринять еще, но ничего не мог придумать.
Он приходил домой озабоченный, рассеянный, на вопросы Лизы отвечал иногда невпопад. Жена поинтересовалась:
— Что с тобой происходит? Ты так странно ведешь себя…
— Ни черта не клеится. Удойность застыла на месте.
— Как это — застыла?
— Молока с ферм получаем мало. А я давал слово получать побольше.
— Так пусть заботятся об этом твои подчиненные. Ты-то чего нос повесил? Требуй с них.
— Легко сказать — требуй!
— Кому ты давал слово?
— Всем.
— А зачем давал, если чувствовал, что его трудно сдержать? Надо же быть предусмотрительным.
— Тебе, Лизок, просто говорить. Побыла бы на моем месте!
— Уж я бы слов на ветер не бросала. Вот я тебе подскажу: в газетах пишут о внутренних резервах совхозов, У нас они есть?
— Есть, и мы их используем. Но этого мало.
— Что же тогда нужно еще?
Степан Артемьевич вздохнул длинно и тяжело, как конь перед подъемом в гору:
— Кабы знать…
Лиза посмотрела на него сострадательно, как на тяжело больного, и молча стала прибирать на столе.
Степану Артемьевичу было все же приятно, что его жена начинает интересоваться и «резервами», хоть они для нее пока еще и лес темный. «Входит все-таки во вкус сельской жизни, вникает, хотя бы для начала и по газетам. Молодец, женушка!»
А Лиза тосковала по научной работе. Еще студенткой-старшекурсницей она начала накапливать материал для будущей диссертации «Древняя письменность и новгородская культура на Беломорье». Эту работу продолжала, когда жила в городе, а теперь все оборвалось… Она постепенно превращалась в домашнюю хозяйку, а вскоре станет и матерью. «Как быть дальше? Что предпринять?» — думала она с грустью.
Она обживала новую квартиру. Здесь ей все казалось не таким привычным, как в старой: платяной шкаф поставили не там, где бы надо, книжные полки не мешало бы передвинуть влево, подальше от окна. На кухне нет полки для банок и коробок с крупой, сахаром и специями. Люстру надо бы купить новую, эта старомодна. Лиза по нескольку раз переставляла и передвигала, все, что могла, и все равно не была удовлетворена.
Она говорила мужу о необходимости перестановок, но он отмахивался: «Некогда, Лизок. Когда-нибудь потом».
Наконец она успокоилась, вроде бы привыкла ко всему, и занялась чтением. Когда она сидела за книгой, пришла Любовцева с небольшой черной хозяйственной сумкой в руке. Низенькая, раздавшаяся в ширину, в стареньких ботиках с меховой опушкой, в длинном пальто с потертым цигейковым воротником, она поздоровалась, и лицо ее расплылось в добродушной улыбке. Глаза сузились в щелки, короткий толстый нос наморщился, будто она собиралась чихнуть.
Лиза, скучавшая в одиночестве, обрадовалась ее появлению.
— Проходите, пожалуйста. Поговорим, чайком побалуемся. У нас индийский, правда, второго сорта…
— Ничего, сойдет, — отозвалась Любовцева, сняла пальто и, пройдя в комнату, чинно села на стул, поставив возле него свою сумку.
Чаевничали, беседовали о том, о сем. Заговорили о беременности Лизы. Любовцева давала советы, как лучше следить за здоровьем, потом, многозначительно поглядев на живот Лизы, авторитетно предсказала:
— Родится у тебя, Елизавета Михайловна, девочка. А может, даже и две. По животу видно.
— Что вы! — вспыхнула Лиза. — Куда нам двойню?
— Природа вас не спросит, она свое возьмет, — назидательно добавила Любовцева и, вспотев от горячего чая, расстегнула верхнюю пуговку кофточки. — Я тебе, милая, принесла целительного, — старушка достала из сумки бутылку с мутноватой жидкостью. — Когда родишь, это принимай по столовой ложке три раза в день. Тут анис, укроп да душица — для того, чтобы молока в грудях было больше. А вот это, — она достала другую бутылку, поменьше, — настой коры калиновой. После родов помогает естеству войти в норму.
Лиза поблагодарила ее и унесла бутылки на кухню. Степан Артемьевич, придя на обед, увидел их.
— Что это у тебя там в бутылках?
Лиза рассказала ему о визите Любовцевой. Он возмутился:
— Знахарство! Еще отравит тебя эта старуха! Не смей ничего от нее принимать, а тем более — употреблять!
И вылил содержимое бутылок в помойное ведро.
Лиза и не собиралась пить снадобья Любовцевой, ей показалось забавным, как муж возмутился и вылил настойка. Когда он сел за стол, Лиза мягко улыбнулась и решила его «порадовать»:
— А знаешь, у меня родится двойня. Две девочки! Тебя это устроит?
Степан Артемьевич вытаращил глаза, ложка со щами замерла в его руке над тарелкой.
— Две девочки?
— Разумеется.
— Откуда это известно?
— Любовцева предсказала.
— Ну-у, мало ли что она скажет! — успокоился муж и снова стал есть.
Лиза уверенно добавила:
— Старухи все знают. У них опыт.
— Ты это серьезно?
— Конечно.
— Знаешь, Лизок, тогда уж лучше одну девочку и одного мальчика. Нужен продолжатель рода Лисицыных.
— Это уж как придется, — Лиза рассмеялась, и он, поглядев на нее подозрительно, тоже расхохотался.
— Две девочки — это здорово! Ты побьешь все борковские рекорды.
Софья зашла в контору к Яшиной, принесла рапортичку по удоям за сутки. Ангелина Михайловна, обложившись папками, готовила Лисицыну материал по животноводству для годового отчета. Она взяла рапортичку и наметанным взглядом пробежала цифры.
— Худо, — вздохнула она. — Кривая идет вниз…
— Многие коровы на сухостое, — объяснила Софья. — Отелы еще не начинались. Откуда быть большому молоку?
— Ладно. Как тебе бригадирится? — Яшина посмотрела на Софью внимательно, отметила про себя: «Совсем она изменилась. Одета чисто, опрятно, стала серьезной, вид у нее очень деловой».
— Все хорошо, — ответила Софья. — Сначала, правда, не очень ладилось. Не привыкли бабы к тому, что я хожу в начальницах. Ведь работала с ними вместе дояркой. Но ничего, признали. Я их уважаю, прислушиваюсь к ним, и они это ценят.
Яшина кивнула и опять стала что-то писать. Софья вышла.
В узком полутемном коридоре она встретилась с директором. Он шел к себе в кабинет. Софья посторонилась, пропуская его. Лисицын поздоровался и тоже поинтересовался:
— Как дела у вас на ферме? Заходите-ка, побеседуем.
Софья вошла в его кабинет, заметно волнуясь, и села на стул. Сняла с головы полушалок, опустила его на плечи, едва уловимым движением поправила волосы, приготовилась слушать.
Директор позвонил по телефону, распорядился отправить две грузовых автомашины на завод силикатного кирпича, и, положив трубку, обратился к ней:
— Ну, рассказывайте.
— А… что вас интересует? — спросила она.
— Учитесь в техникуме? Как успехи?
— Учусь. Оценки положительные.
— Так… А скажите, почему у вас на ферме не используется новая электродоильная установка?
— Там что-то неисправно, потому и работаем со старой установкой. Механик обещал привести в действие на будущей неделе.
— Доярки как относятся к вам?
— Хорошо. Как им еще относиться? Бригадир — невелика шишка, та же доярка, только ответственность побольше.
— Будьте требовательной, принципиальной. — Директор, конечно, чувствовал, что Софью в эти минуты волновало совсем другое, отнюдь не доильная установка… Он поймал брошенный на него мельком влюбленный взгляд молодой женщины. Ему это было приятно, но он боялся такого взгляда, боялся и избегал на него отвечать. Это было совсем лишним. Потому он подчеркнуто нажимал на деловой разговор. — Если что, — он смутился, — если будут какие-либо трудности, обращайтесь к Яшиной или прямо ко мне. Поможем…
— Спасибо, — сказала Софья. — Мне можно идти?
Он не стал ее задерживать. Софья посмотрела на него в упор, потупилась и молча ушла.
Лисицын встал, прошелся по кабинету и задержался у окна: Софья прошла быстрой походкой, не оглянувшись. Степан Артемьевич возвратился за стол. «Нет, друг мой, — сказал он себе. — Тут ничего такого быть не может. Не должно. А все-таки… что-то есть…»
Софья, возвращаясь на ферму, все думала о нем. Ну не выходил он у нее из головы, и все тут. Такой вежливый, деликатный, и собой пригож — высокий, уверенный, красивый. На самом деле он не был очень уж красивым, как ей казалось, но она упорно считала его таким. «Что же это, — шептала она. — Неужто я влюбилась? Как можно! Человек семейный, по положению много выше меня, он не думает обо мне. А я вбила себе в башку бог знает что! Нет, надо подальше от него, сближение никак невозможно. — Она вспомнила совет Гашевой. — Это будет ему во вред. Мне-то что, я свободна, как птица, а он — совсем другое дело. И если я стану чего-нибудь добиваться, как это будет выглядеть? Что подумают обо мне люди? Я должна своим дояркам подавать пример. А какой пример! Нет, нет…» А сердце так же стучало: «Он… он… он…»
Софья решила больше не думать о нем. Трезвый рассудок стал одерживать верх над чувством. Надолго ли?
В совхоз пришло письмо от Васильевой. Роза писала, что они с мужем решили весной переходить на работу в Борок, тем более что мужу обещали здесь должность участкового уполномоченного. Жить они собираются в родительской избе. Лисицын отнесся к решению Васильевых одобрительно и тут же ответил им согласием.
4
В конце декабря на Борок обрушились снегопады. Ими здесь никого не удивишь, на то и зима, но были они чересчур обильными. Снег шел почти непрерывно, в тучах, которые тянулись с северо-востока, с полуночной стороны, не было никаких просветов. Ветер забивал снегом проулки, крылечки, заваливал все кругом плотно и надежно — на целую зиму. По улице Борка уже и на санях проехать стало трудно, лошади увязали в сугробах.
Без трактора со снегоочистителем, работавшего днем и ночью, нельзя было подвезти к фермам дрова и корм для скота. Борок лишился связи с внешним миром, превратился в некую автономную географическую точку. Он жил завезенными с осени запасами продовольствия, но они таяли. Не стало муки на пекарне — хоть доставляй ее на вертолете и спускай ко крылечку… Но и авиация в этом деле не помощница — видимости никакой.
Степан Артемьевич опасался, как бы снегоочиститель не поломался. Тогда и вовсе станет трудно.
Високосный год! Он еще не кончился, он решил задать перцу боровчанам, прежде чем кануть в Лету…
Сыпанув на прощанье уже ослабевшей метелью, тучи наконец выдохлись и растаяли. Небо стало чистым, к ночи ударил мороз. Беломорские морозы тоже особенные. Воздух насыщен влагой, принесенной с моря Баренца, она превращалась в микроскопические льдинки, затрудняла дыхание. Березы сразу разоделись, как на рождество — от инея ветки стали мохнатыми, серебрились на фоне голубого неба. Солнце ненадолго выкатывалось из-за дальних ельников и, полоснув белым холодным огнем, опять уваливалось в чащобы.
В эту студеную пору в Борке случилось несчастье: умер Еремей Кузьмич Чикин.
Рассказывали, что еще вечером он разгребал снег перед крыльцом, потом пил чай, читал книгу и в обычное время лег спать. Ночью ему стало плохо, жена побежала за фельдшерицей на медпункт, а вернувшись, уже не застала его в живых…
Хоронили его всем селом. До кладбища пришлось пролагать дорогу тем же снегоочистителем, но он, как назло, на полпути сломался, и дальше разгребали снег лопатами. Земля была мерзлой, мужики копали могилу почти целый день.
Похороны были многолюдны, все хорошо знали Еремея Кузьмича, поминали его добром и жалели. На сельском кладбище остался холмик, устланный свежей хвоей, с венками и пирамидкой из дерева, увенчанной красной звездой.
Еремей Кузьмич при жизни как бы олицетворял прошлое села, теперь это прошлое ушло вместе с ним. Он вежливо уступил место в жизни молодым. Они поведут Борок дальше, к благополучию и процветанию. В том, что боровчан в не столь отдаленной перспективе ждут и то и другое, кажется, ни у кого сомнений не было.
Спустя некоторое время после похорон Степан Артемьевич посетил вдову, поговорил с нею, распорядился привезти к ее избе побольше дров, выделил материальную помощь.
На стене в избе Чикиных он увидел старую фотографию в рамке под стеклом. На ней запечатлена группа людей, в центре ее — Всесоюзный староста М.И. Калинин. Рядом с ним сидела и жена Чикина Авдотья Петровна, тогда еще молодая и востроглазая. Степан Артемьевич попросил ее теперь рассказать об истории этого снимка.
— Было это в тридцать шестом году, — начала Авдолья Петровна. — Я работала в колхозе телятницей. Во время отелов народилось на ферме много телят, их передали мне, и я всех до единого выходила и вырастила. И представили меня к ордену. Ну, пришел вызов — ехать в Москву. Ордена тогда вручали там, и Михаил Иванович Калинин самолично поздравлял от имени правительства. Приехала, устроили нас в гостинице в центре Москвы. Так уж было там удобно, чисто, красиво, обслуга вежливая. Утром нас повезли на машинах в Кремль. Награжденных было много — со всех республик. Тогда и вручил мне Калинин орден «Знак Почета». На всю жизнь память, — Авдотья Петровна достала из комода красную картонную коробочку и показала награду Лисицыну. — А потом и сфотографировали всех и карточки дали.
— Вот вы какая заслуженная! — сказал Лисицын. — А я, простите, не знал об этом. Сколько лет работали телятницей?
— Много. С восемнадцати и до выхода на отдых. Всю жизнь с молодняком. Любила эту работу.
Степан Артемьевич посидел у вдовы, спросил, не нужно ли еще чем-нибудь помочь. Она ответила, что пока помощи не требуется. Потом Авдотья Петровна вышла в горницу и вернулась с одноствольным ружьем в руках.
— Вот, Степан Артемьевич, возьмите тулку. В память о моем муженьке. Он очень хорошо отзывался о вас. Говорил, что любит молодого директора. Очень уж он деловой и строгий.
Степан Артемьевич чуть смутился:
— Спасибо. По правде сказать, я не такой уж и деловой да строгий. Но за подарок благодарю от всей души.
— Мне ружье ни к чему, — сказала Авдотья Петровна, — а вам будет хорошая память. Погодите-ко, там, на полке, были у него и патроны, и дробь-порох. Сейчас поищу.
Она нашла берестяную коробку с крышкой, в ней были десятка два гильз, в мешочке дробь, в картонной коробке порох, пыжи из войлока, машинка для набивки патронов и маленькая коробочка с блестящими пистонами.
Возвращаясь домой, Степан Артемьевич думал: «Шел к вдове с намерением помочь, а она порадовала подарком. Кто кого обогрел? Выходит, она меня больше приветила, чем я ее. Щедрая, милая душа!»
Дома он повесил ружье в гостиной над диваном. Лиза посмотрела на него с опаской:
— Ружье не заряжено?
— Нет, не бойся, — ответил он.
В совхозе подводили итоги года, или, по словам Ступникова, «подбивали баланс». Напряженно трудилась бухгалтерия, Степан Артемьевич нетерпеливо ждал, каким окажется дебет-кредит. И вот к нему пришел Ступников с годовым, пока еще не вполне законченным отчетом. Он сказал:
— Против прошлого года у нас доходы возросли на шестьдесят семь тысяч рублей.
— А вы хорошо подсчитали? — усомнился Лисицын. — Основная статья дохода молоко, а удойность еще невысока.
— Удойность невысока, но фермы все же дали прибыль. Свиноводство тоже. Уменьшились производственные расходы. Технику механизаторы чинят сами, на ремонтные предприятия обращаются в исключительных случаях. Запасные части берегли. Мастерские дали солидную экономию.
«Это что же, — подумал Лисицын, — Челпанов сэкономил деньги, а я, такой-сякой, его недавно выругал? Ну и ну». Однако он тут же укрепился во мнении: «Замечания я ему высказал правильно. Одно хорошо, а другое плохо — не годится. Надо, чтобы и то, и другое было, в равной степени хорошо».
— У нас не столько доход, сколько экономия средств! — сказал он Ступникову.
— Экономия — тот же доход.
— Нельзя путать ее с прибылью. Это разные вещи, и вы о том знаете лучше меня.
— Разве дело в названии? Важно, что деньги у нас в кармане
— Ну ладно. Значит, работать мы все-таки можем?
— Можем.
— Без дотации?
— Без дотации не можем.
Лисицын рассмеялся и тут же стал опять серьезен.
— Доходишко, конечно, невелик. Но обнадеживает.
— Могли бы лучше сработать, — сказал Ступников. — Да год тяжелый. Сами знаете.
— Каков-то будет будущий год?
— Человек живет надеждой, — неопределенно отозвался главбух. — Себестоимость продукции у нас еще высока…
Он ушел к себе. Вскоре дверь в кабинет тихонько приоткрылась, Лисицын поднял голову от бумаг и увидел Порова. Степан Артемьевич не сразу узнал бывшего сельповского возчика. Одет Крючок был более чем скромно: серый ватный костюм, старая солдатская ушанка, латаные валенки.
— Можно к вам? — Лицо у Порова вялое, под стать костюму тоже какое-то серое.
— Ну заходите.
— Я к вам насчет работы. Домой вот вернулся.
— Долго же вы были в бегах! — неодобрительно сказал Степан Артемьевич. — Жена вас приняла?
— Еще как! Рада. Я ведь нонче не пью, совсем завязал.
— Где же вы пропадали?
— Да в разных городских закоулках. После лесопункта уехал на лесозавод, был ночным сторожем. Потом работал во вневедомственной охране при торге. И оттуда меня сопроводили в профилакторий… Лечился три месяца.
Лисицын покачал головой.
— Значит, бросили пить?
— Железно! Считайте, что я теперь совсем новый человек, исправленный до конца. Ничего от вина хорошего. Одни беды.
— Какую же хотите работу?
— Любую. Лишь бы дома.
— Работу вам, пожалуй, дадим. Но сначала пришлите ко мне жену.
— Ладно, пришлю.
Лисицын переговорил с женой Порова, спросил, можно ли надеяться, что муж ее окончательно образумился.
— Да кто его знает. Шалопутный у меня мужик. Теперь уж не должен бы запить. Случится такое — выгоню.
Порова назначили возчиком кормов на ферму.
С учебы на курсах вернулся заместитель Лисицына Скорняков. Он был старше Степана Артемьевича и, пожалуй, опытнее, работал замом добрый десяток лет. Про него говорили: «Директора приходят и уходят, а заместитель остается». Но специального образования у него не имелось, и теперь он пополнил свои знания на курсах.
Степан Артемьевич долго беседовал со Скорняковым.
— Учеба для тебя была праздником, — сказал он. — Теперь начинаются, как говорится, суровые трудовые будни. Принимайся за дела, Я иду в отпуск.
— Чего зимой-то? — спросил Скорняков. — Меня ждал?
— И тебя ждал, — ответил Лисицын и мечтательно поглядел поверх головы зама в пространство. Опять он вспомнил неосуществленную туристскую поездку. Ему теперь казалось, что все это приснилось. Не звонил Востряков из профсоюза, не было никаких путевок, да и самого Санта-Круса, наверное, тоже нет на белом свете. А если и есть, то какое дело до него Степану Артемьевичу?
Вспомнил он и о Чикине, который старательно наводил справки о Санта-Крусе. Стало грустно: уходят из жизни старики. Хоть и брюзгливы, и любят порезонерствовать, а все же частенько дадут и добрый совет. И вот как умрут — становится не по себе. Ну не хватает ему теперь Чикина, и все тут…
До Нового года осталось два дня. Лисицыны решили позвать в гости Новинцевых и Яшиных-Челпановых. Лиза уже начала хлопотать на кухне, чтобы праздничный стол был хорош и разнообразен.
Степан Артемьевич договаривался с Новинцевым идти вместе в лес на охоту, но Иван Васильевич простудился и сидел дома, поглядывая в окно. Степан Артемьевич навестил его.
— Не вовремя ты заболел, друг мой.
— Так получилось. — Шея у парторга обвязана теплой шерстяной косынкой, голос у него охрип. — Может, еще и ангина привязалась. А ты иди, проветрись. Только смотри не заблудись!
— Не заблужусь. Жаль, собаки нет.
— Был бы я здоров, пошел бы с тобой, полаял вместо нее там, в лесу, — невесело пошутил Новинцев.
Вернувшись домой, Степан Артемьевич вечером почистил ружье, набил патроны и рано утром на другой день отправился в лес на широких охотничьих лыжах без палок.
Свежий морозец бодрил. Небо было ясное, солнце еще только-только начало всходить. Избы, деревья, телеграфные столбы отбрасывали на снег длинные голубые тени. Из печных труб поднимались столбы дыма, постепенно превращались в облачка и рассеивались в воздухе. Тишина, безветрие. Только лыжи тихо шуршат по сухому сыпучему снегу. Степан Артемьевич прокладывал лыжню уверенно, размашистым шагом. Шел он налегке — в коротком ватном полупальто, валенках, за спиной — чикинская одностволка, в карманах — патроны, кусок хлеба.
Он не надеялся на удачу, однако все же мечтал подстрелить зайчишку или какую-нибудь дичинку вроде куропатки или тетерки. «А не удастся подстрелить, так хоть пробегусь на лыжах, и то ладно».
На окраине Борка за ним увязалась чья-то молоденькая лайка — нос острый, уши торчком, хвост крендельком. Степан Артемьевич думал, что она будет сопровождать его и в лес, но лайка вскоре повернула обратно.
Степан Артемьевич поднялся на взгорок, где располагалась ферма Борковского отделения. Из коровника доносился шумок: взмыкивали коровы, перекликались доярки. Он увидел, как на улицу вышла женщина с ведром в руке. Она остановилась и издали посмотрела на него. Он тоже присмотрелся к ней и, узнав Софью Прихожаеву, помахал ей рукой. Она ответила на приветствие и направилась к нему по санной дороге. Подойдя ближе, спросила:
— На охоту собрались?
— Да.
— Ни пуха вам ни пера! — она поставила ведро на снег и похлопала руками в тонких перчатках.
— Холодно? — спросил он. — Руки озябли?
— Да нет. Это я так. По привычке, — Софья тихо рассмеялась, взяла ведро. — К нам не заглянете сейчас?
— Заглянул бы, да охотничья тропа ждет. В отпуск вышел. Передайте всем привет от меня.
— Хорошо, передам.
— Может, загляну на обратном пути.
Он заскользил по снегу дальше. Софья посмотрела ему вслед и направилась к колодцу.
Вдали темнели леса, снег на них под скупым зимним солнцем искрился, переливался блестками. Туда, в ельники, уходила чья-то лыжня, слегка припорошенная снегом. Лисицын вышел на нее и прибавил ходу.
1983–1984
Песни ветровые
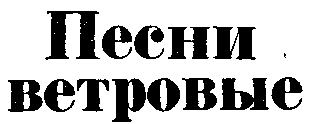
1
Поезд на маленькой станции Сергунино стоял три минуты, и Галя заранее приготовилась к выходу. Лязгнули вагонные буфера, проводница подняла металлический щиток над ступеньками, девушка быстро сошла. В вагон суетливо поднялись новые пассажиры, и поезд умчался. Только ветер донес издали стук колес.
Галя через пути направилась к приземистому деревянному зданию вокзала и увидела, что с другой стороны приближается встречный состав. Она заторопилась и, перешагивая через рельс, неловко споткнулась о него. Поезд уже грохотал совсем близко, угрожающе гудел, дежурный по станции в красной фуражке махал ей рукой, что-то кричал. Галя, преодолев секундное оцепенение, сбежала с насыпи вниз по деревянным ступенькам. Облегченно вздохнув, осмотревшись, заметила в стороне на дороге автобус, готовый вот-вот сорваться с места. Прихрамывая, она кинулась к нему. Автобус шел в райцентр, в Васильково. Она едва успела вскочить на подножку, как дверца за ее спиной захлопнулась.
«Уф! Успела!» Галя увидела свободное место и села на сиденье с выпирающими под обшивкой пружинами.
Купив билет, она окончательно успокоилась. Однако ушибленная нога побаливала. Галя наклонилась и потерла ее: «Кажется, не шибко ударилась, пройдет». Но тут же она заметила, что туфля порвалась: в самом носке подошва отошла от союзки. «Ну что за невезение!» — огорчилась она и тихонько подобрала ногу под сиденье. Никто не обратил на нее внимания. Женщина, сидевшая рядом, копалась в сумочке, отыскивая мелочь. Галя опять глянула на туфлю, покачала головой и снова спрятала ногу. «Ладно, доберусь до места — починю», — решила она и стала смотреть в окно на пробегающие мимо придорожные запыленные кусты.
Через двадцать минут лихой водитель довел свою грохочущую колымагу до Василькова, и Галя отправилась в гостиницу, где для нее был заказан номер.
Это была довольно заурядная райцентровская гостиница, какие теперь встречаются уже редко: старый деревянный дом в два этажа, подновленный крашеной обшивкой, небольшие комнаты, электрические лампочки без плафонов, громко говорящая до полуночи радиоточка. В номере — койка под байковым одеялом, стол с больничного вида бязевой скатертью, некрасивый, но прочный, на диво сработанный стул, табурет и окно с видом на огород с перьями лука и морковной бахромой на грядках.
Галя почистила одежду щеткой, посмотрелась в зеркало и пошла просить у дежурной нитку с иголкой. Но, оказывается, этого для ремонта было мало, требовалось еще шило. Она опять вернулась к дежурной — толстой, рыхлой женщине, все время что-то жующей:
— Нет ли у вас шила?
— Здесь гостиница, не Дом быта, — назидательно ответила дежурная, округлив глаза, перестала жевать и отвернулась к электроплитке, на которой закипал чайник.
Галя взглянула на часы: «Пожалуй, придется идти в этот самый Дом быта», но вспомнила, что там, должно быть, выходной день. В коридоре уборщица, добродушная старушка, сказала Гале, когда та стала советоваться с ней:
— А вы завтра раненько к ним наведайтесь. Они вам все сделают быстро и без квитка. Я-то знаю, у меня там племянник работает.
«Ладно, придется до утра», — смирилась Галя.
О такой мелочи, как неисправная обувь, да еще летом, в сухую погоду, может быть, не стоило бы упоминать, если бы это не имело для Гали известного смысла. Ответственный секретарь областной организации общества «Знание» Тимофей Андреевич Петров, опекавший Галю в начале ее референтского пути, помнится, говорил ей:
— Лектор, а тем более референт, научный работник, обязан одеваться неброско, чисто, опрятно. Каждая мелочь в костюме должна быть продумана, ибо она не может не вызывать у аудитории тех или иных эмоций, отвлекая внимание слушателей.
Полтора месяца назад она еще не очень-то ясно представляла себе значение солидного ученого слова «референт». Когда она окончила пединститут, и студентов-выпускников распределяли по местам работы, ее пригласил ректор и неожиданно предложил:
— Хотите работать референтом в обществе «Знание»?
— Но я же педагог! — возразила Галя.
— Знаем, — ответил ректор. — Безусловно, мы должны направить вас работать по этой специальности. Но бывает исключение, Ведь лекционная пропаганда не менее серьезное дело, и может быть, вы согласитесь? Практически вы ничего не теряете. Общество «Знание» — весьма солидное учреждение.
Галя заколебалась:
— Надо подумать. Так сразу я не могу решить.
— Подумайте, — сказал ректор.
Вечером в общежитии она заглянула в словарь иностранных слов. У слова «референт» было два значения: 1 — лицо, делающее, читающее реферат; 2 — должностное лицо, являющееся докладчиком, консультантом по определенным вопросам.
А когда ей все хорошенько объяснили и она познакомилась с Петровым, то согласилась стать референтом. Петров напомнил ей, что она окончила филфак, и ей, стало быть, «сам бог велел».
— Нам нужен молодой работник с неконсервативными взглядами и чувством нового, — сказал он ей многозначительно.
И Галя стала работать в большом здании, в комнате на втором этаже, за солидным двухтумбовым письменным столом с чернильным прибором и прочими атрибутами своей научной должности.
Она вспоминала заседание президиума правления, на котором была впервые. Большая, просторная комната. В креслах, на стульях, на диване сидели спокойные, уверенные в себе люди с серьезными, умными лицами, почти все лысые. Шевелюрой обладали только профессор химии из лесного института и Петров.
Галя с любопытством рассматривала коллег, и у нее мелькнула озорная мысль: «Уж не на этих ли товарищей намекал Петров, говоря о неконсервативных взглядах?» Но тут же ей стало совестно от такого дерзкого предположения, и она опустила взгляд на широкую ковровую дорожку.
Профессор Остроумов, председатель правления, объявил по ходу заседания:
— Слушаем отчет о работе группы членов общества из Василькова. Докладывает товарищ Антрушев.
Со стула у окна поднялся высокий худощавый молодой мужчина с редким белым пухом на голове и несколько озабоченным видом. Он стал докладывать, сколько в группе состоит членов, какие они читали лекции и как выполняются договоры. Говорил он уверенно и быстро, словно боялся, что его прервут, адресуясь преимущественно к Остроумову. Он как бы не замечал других товарищей, находившихся тут, и Галя прониклась к Антрушеву невольным уважением. Уж очень умело и обстоятельно он отчитался и на все вопросы ответил без заминки.
Но когда стали выступать члены президиума, то оказалось, что васильковские лекторы работают не так уж блестяще, что лекции однообразны, прочтено их очень мало. Изрядно попало тогда Антрушеву за слабую работу. А конец заседания принял для Ишимовой неожиданный оборот: профессор Остроумов испытующе поглядел на нее из-под седых бровей и предложил:
— Пошлем, товарищи, в Васильково Галину Антоновну. Поручим ей помочь местным лекторам. Вы не возражаете, товарищ референт?
— Нет, я… не возражаю, — отозвалась Галя.
— Прекрасно, — довольным тоном произнес Остроумов. — Только вы там будьте повнимательней и хорошенько во всём разберитесь. Видите, как сегодня товарищ Антрушев выкручивался? Слабо работает лекторская группа, весьма слабо!
Когда заседание закрылось, Антрушев в коридоре подошел к Гале:
— Очень хорошо, что вас командируют к нам. Будем ждать. Я приглашаю вас в ресторан поужинать со мной.
— Спасибо. Я не хожу по ресторанам, — ответила Галя. Он смутился и исчез.
Галя прилегла на кровать и, почувствовав усталость, смежила веки. В гостинице было тихо, только в соседней комнате за тонкой переборкой кто-то напевал негромко:
Трое суток не спать,
Тр-р-рое суток шагать
Ради нескольких стр-р рочек…
«Вот завел! — подумала Галя. — Любопытно, кто там живет?»
А голос назойливо тянул:
Если б снова начать,
Я бы выбрал опять…
И снова «тр-р-рое» и «стр-р-рочек». Галя отвернулась от стены и закрыла голову плоской, как резиновая грелка, подушкой. Голос приглушило, и она вскоре уснула.
Утром она освежилась холодной колодезной водой из умывальника и наметила для себя план. Он выглядел так:
1. Проверить работу по отчетам.
2. Проверить качество лекций на слух.
3. Проверить качество лекций по текстам и тезисам.
4. Проникнуть глубоко в идейное содержание.
5. Проанализировать научную сторону.
Тут она еще подумала и решила, что надо не только проверять, но и помогать, и добавила:
6. Лично познакомиться с лекторами. Дать консультации.
7. Выступить самой с лекциями.
8. Что дальше — будет видно.
В комнате за переборкой хлопнула дверь, в коридоре послышались уверенные шаги и опять вчерашняя песня: «Трое суток шагать». Песня оборвалась, и по коридору покатилось:
— Марь Иванна! Кипяточек готов?
— То-о-ов!
Галя не утерпела и выглянула в коридор, но там уже никого не было. Она взяла чайник и тоже пошла за кипятком.
На кухне возле титана стоял высокий, широкоплечий парень в ковбойке и джинсах, заправленных в кирзовые сапоги. Нос у парня был чуть-чуть с горбинкой, глаза карие, карие, волосы подстрижены коротко, Он спросил у Гали:
— Сегодня будет дождик?
Она неопределенно пожала плечами.
— Гм… Вот, говорят, есть люди, которые чувствуют приближающееся ненастье. То поясница, то суставы…
— Вероятно, есть, — ответила Галя сдержанно, всыпала в чайник заварку и, видя, что парень смотрит на нее со снисходительной иронией, рассердилась:
— Плоские шутки — удел убогих интеллектов.
— Гм… Да, а я-то думал…
— Что вы думали?
Он сказал неожиданно мягко, примирительно:
— Я лично люблю тихий, лирический дождь. Косой, этаким накрапом. Но моя профессия…
— Ваша профессия — трое суток не спать и не давать другим?
— Разве я вам мешал? Тогда извините, — парень как будто смутился, что никак не шло ему, грубовато-мужественному с виду. У порога он чуть не расплескал кипяток из чайника, задев плечом за косяк.
Галя исподволь наблюдала за ним. Он задержался у раскрытой двери.
— Плохо, если будет дождик. Рожь намокнет, комбайны станут в поле. Сводка с катастрофической быстротой пойдет вниз…
— Вы — уполномоченный по уборке? — спросила Галя.
— Нет. Давайте знакомиться. Журналист, спецкор областной газеты «Заря» Александр Штихель.
Галя сдержанно пожала протянутую руку и назвала себя.
— Я вас немножко знаю, — сказал Штихель. — Вы — референт общества «Знание». Так?
— Допустим.
— Вы приехали инспектировать местную организацию?
— Это мое дело.
— Давайте будем вместе пить чай.
Галя, не ответив, прошла мимо. Ей не понравились его бесцеремонность и некоторая фамильярность. Но едва она поставила на стол чайник, как услышала стук в дверь. Вошел Штихель, тоже принес чайник и развернул газетный кулек.
— Вы не возражаете? — спросил он, садясь. — Вот что я имею: конфеты «Мишка» и ржаные сухари. Вы любите ржаные сухарики?
«Нашел чем угощать!» — Галя вздохнула и села. Штихель налил ей и себе чаю, отхлебнул из стакана и тотчас встал.
— Между прочим, я пригласил сапожника. Он должен сейчас прийти и починить вам туфлю. Здесь есть отличный мастер Степан Курков. В прошлом году он клеил мне резиновые сапоги. В лесу я напоролся на острый сучок и порвал их…
— Вы ходите по лесам? — спросила Галя.
— Иногда, чтобы спрямить путь.
— А откуда вам известно, что я нуждаюсь в услугах сапожника?
— Дежурная сказала, что вы просили шило и дратву.
— А что такое дратва?
— Толстые, просмоленные варом нитки…
— Дратву я не просила.
— Значит, она догадалась. Между прочим, в гостинице проживает ваш коллега лектор Полудников. а Антрушев, — Штихель многозначительно посмотрел на Галю, — два дня приводил в порядок дела. И еще — в магазин «Колос» вчера привезли болгарские яблоки. Позвольте вашу туфлю.
Галя покачала головой, но все же подала ему туфлю. Штихель взял ее, ушел и вернулся минут через пятнадцать.
— Вот. Он сразу же на кухне починил. У него весь инструмент с собой. Носите на здоровье. А теперь — за чай.
— Ваша фамилия Штихель, — переспросила Галя уже мягче. — Вы — немец?
— Нет. Видите ли… мой прадед был художник, гравер, Еще до революции он печатал свои рисунки в иллюстрированных журналах «Нива» и других. Но фамилия Суходолов показалась ему неблагозвучной, и он избрал себе псевдоним: Штихель. Так и стали мы Штихелями. Между прочим, штихель — это инструмент гравера, резец.
— Любопытно, — сказала Галя.
На прощанье он пообещал:
— Мы с вами еще увидимся. У меня командировка на десять дней. Сейчас еду в колхоз «Рассвет», а потом, вероятно, в Петровку.
Он унес чайник, веселую, открытую улыбку, оставив на столе несколько конфеток и кучку ржаных, высушенных с солью сухарей. Галя взяла сухарик. Он был солоноватый, вкусный.
«Исчез, — подумала она. — Шустрый парень. Все они, газетчики, наверное, такие — проныры, всезнайки!» Она подошла к окну. По дощатому тротуару четко и уверенно стучали кирзовые сапоги. Заметив ее, Штихель помахал рукой и крикнул:
— Не скучайте!
Скоро его ковбойка скрылась за углом. Мелькнул зеленоватый плащ, переброшенный через руку. Гале отчего-то стало грустно. Вздохнув, она отправилась в райком, где находилось местное отделение общества «Знание».
Лестница в гостинице была крутая, деревянная, вытертая ногами командированных так, что на ней выпукло торчали глянцевитые сучки. Галя спускалась по ней осторожно. Сверху ее окликнули:
— Товарищ Ишимова!
Она оглянулась и увидела Полудникова.
2
Лектор областного лекционного бюро Полудников — приземистый, полный человек с зеленоватыми, навыкате глазами, в сером костюме и видавшей виды велюровой шляпе, поравнявшись с Галей, затараторил:
— Вы вчера приехали? Отлично! А я уже три дня здесь. Прочел двенадцать лекций. Сейчас забегу к Антрушеву за путевками и пойду в профтехучилище. В два часа дня выступаю на совещании агрономов, в четыре — в доме престарелых, а вечерком, в двадцать ноль-ноль, в Доме культуры. Такая программа. Отлично, что приехали, — продолжал он, топая крепкими ботинками по тротуару и вытирая потную розовую лысину. — Сегодня, по всей видимости, будет жаркий день. И отлично! Хорошая погода вот как нужна! А вы?
— Что — я? — спросила Галя, ошеломленная таким словесным потоком.
— Какие у вас планы?
— Буду знакомиться с работой здешней организации.
Полудников тотчас ее перебил:
— Ну вот и отлично! Так сказать, контроль, помощь и оперативное руководство на месте. Ну, я потороплюсь. Вы уж извините — побегу.
Он обогнал Галю и, прижимая локтем папку, побежал дальше.
«Энергичный дядька, и все у него «отлично». Галя вспомнила, что на одном из заседаний Полудникова хвалили, как активнейшего лектора, и в день его шестидесятилетия Петров торжественно вручил ему премию — транзисторный приемник.
Она улыбнулась солнцу, которое выпуталось из березовых зарослей и начало свое обязательное, рассчитанное из минуты в минуту путешествие по небу. В густой листве небольшого сквера трепыхались, сбивая с веток росу, невидимые пичужки. По улицам спешили васильковские хозяйки и тащили свои заботы в продуктовых сумках, кошелках, бельевых корзинах. По дороге пылили грузовики, тарахтя плохо пригнанными бортами.
Хорошее утро!
Дойдя до перекрестка, где на телеграфном столбе гремело радио и висело объявление, начинавшееся традиционно: «Утерялась коза… просим сообщить…», Галя свернула в проулок, к зданию райкома.
Опять лестница, на этот раз опрятная, блестевшая свежей желтой охрой. В предвидении делового разговора Галя старалась внушить себе, что ей надо быть официально-вежливой, по долгу службы требовательной, но не придирчивой. С таким настроением она отыскала кабинет, где вместе с инструкторами сидел ответственный секретарь районной организации общества Антрушев.
Как только она вошла в кабинет, Полудников, уже успевший, видимо, уладить свои дела, встал со стула, глянул на часы и, помахав рукой, скрылся за дверью.
Антрушев проворно встал ей навстречу и, поздоровавшись, сказал:
— Очень активный товарищ! — кивнул он на дверь, за которой скрылся Полудников. — Молодец. Побольше бы таких лекторов — план бы сразу вытянули. Садитесь, пожалуйста. В гостинице вас устроили? Вот и ладно. — Он тоже сел. — Будете дела смотреть? Пожалуйста: вот квартальные отчеты по лекциям в разрезе тематики, здесь — договоры с организациями, а тут личные дела наиболее активных лекторов. И планы работы.
Галя, не торопясь раскрыла свою сумочку, достала платок и мимоходом глянула в зеркальце. Небрежно щелкнув замком, она поставила сумочку на подоконник.
— Садитесь за этот свободный стол, — пригласил Антрушев.
Она вспомнила о своем плане, о намерении ознакомиться с отчетами, но, видя, с какой готовностью Антрушев выкладывает папку за папкой, изменила решение. Ей не хотелось сразу показывать себя неким ревизором, да к тому же Антрушев, наверное, постарался и в его гроссбухах все в порядке.
— Неплохо бы, — сказала Галя, — съездить куда-нибудь на село к лекторам.
Это несколько озадачило Антрушева. Он насторожился и с сожалением поглядел на папки с делами. Галя взяла одну из них, полистала.
— Ну что же, — не стал возражать он. — Можете ознакомиться, например, с группой лекторов в Наволоке. В ней учителя, агроном, два зоотехника, ветеринар, председатель колхоза и другие. Дорога хорошая, машину организуем.
Галя записала в блокнот название села.
— А еще что можете предложить?
— Ну, еще… Петровка. Десять лекторов, хорошая группа, мобильная. Только… Туда ехать плохо. Волок шестьдесят километров, дорога тряская. Очень плохая дорога. Костей не соберете. Осенью без тягача машины не проходят.
«Ясно. Ему не очень хочется, чтобы я ехала в Петровку. Значит, туда и отправлюсь», — решила Галя.
Антрушев почувствовал, что эта совсем еще молодая девушка с внимательными синими глазами и рыжеватыми волосами, собранными в большой тяжелый узел, не так уж проста. «Дотошная, видать, — сделал он вывод. — С ней надо быть настороже. Но какие у нее удивительные золотые волосы! Такого теплого цвета. Любопытно, крашеные ли?»
— Я бы для начала съездила в Петровку, — Галя невинно посмотрела на Антрушева.
— Что ж, дело ваше.
«А группа там работает слабо. Чижов — лентяй. Верно, уж с весны не было никаких лекций», — подумал Антрушев. Но сказал:
— Ваше желание для нас закон. Я, правда, там давненько не был. Если работу несколько ослабили, то Чижову сделайте внушение. Парень он способный. Поедете завтра? А на сегодня у вас какие планы?
— Полудникова послушаю, — ответила Галя. — В леспромхоз наведаюсь.
— В леспромхозе актив — двадцать человек. Инженеры, техники, снабженцы…
— И снабженцы — лекторы?
— А почему бы нет? Грамотные люди! Что поручим — выполнят. А позвольте поинтересоваться, лично вы на какие темы выступаете? Хорошо бы здесь, в райцентре, прочесть лекцию.
— Моя тема — поэзия Блока, — Галя чуть-чуть смутилась, потому что перед широкой аудиторией выступала только дважды.
— Поэзия Блока? Что ж, тема нужная. Однако… как бы вам сказать… Не очень актуальная.
— А что вы считаете актуальным?
Антрушев пожал плечами, дескать, наивный вопрос! Он заговорил о Полудникове:
— Вот Полудников — молодец. На любую тему готов выступить. У него есть разработки: «Сон и сновидения», «События в Африке и крах колониальной системы», «Роль белка и каротина в повышении жирномолочности», «Влияние алкоголя на снижение производительности труда». У него большой опыт. Приезжает в колхоз или совхоз — толкует о белке и каротине, в лесопункте — о влиянии алкоголя. У него дифференцированный подход к аудитории. Он на любую тему может. Эрудит!
— Я не читаю на любую тему. Мой профиль — история литературы, теория литературы. Быть всеядным — значит быть дилетантом.
— Видите ли, мы живем на периферии, наши возможности ограничены. Лекторам приходится брать темы в зависимости от момента. Вот сейчас большой спрос на международников. Это не случайно: рушатся диктаторские режимы и монархии, народы освобождаются от гнета капитала. Продолжается мировая революция. Не так ли? А империалисты чувствуют свой близкий крах и хватаются за ядерную дубинку. Большой спрос на беседы о текущем моменте.
— Понимаю. Но момент — моментом, а у лектора должна быть привязанность в какой-то избранной теме.
— Согласен. В принципе. Так вам организовать аудиторию? Ничего, и о Блоке послушают.
— Сначала съезжу в Петровку, потом выступлю здесь. Хорошо?
— Добро! — Антрушев откинулся на спинку стула, прищурился. — Блок! Александр Александрович! «Двенадцать», «Скифы», «Незнакомка»… «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» — хороший был поэт. Теперь таких нету…
На ветку сирени за окном сел воробей, она закачалась, по подоконнику забегали нежные лиловые тени.
— Ну, я пойду в леспромхоз, — Галя поднялась.
Антрушев рассказал ей, куда пройти, к кому обратиться, и, когда она ушла, по телефону предупредил Михеева.
3
Председатель профсоюзного комитета леспромхоза Михеев, он же руководитель лекторской группы, показался Гале человеком немногословным и флегматичным. По внешности он мало был похож на интеллигента. Невысокий, широкоплечий, с прической ежиком, крепкой шеей и большими руками, он словно бы пришел в этот крошечный уютный кабинет прямо из леса, от бензомоторной пилы.
В кабинете у него все просто, но основательно: приземистый канцелярский стол, бронзовая, потускневшая от времени чернильница, сохранившаяся с тех времен, когда еще не было шариковых ручек, латунная, по-видимому выточенная токарями-ремонтниками, круглая пепельница. Под настольным стеклом — табель-календарь, в шкафу, за протертыми до блеска стеклами, несколько папок с бумагами. Единственное окно выходило на главную бойкую улицу.
Михеев неторопливо поднялся из-за стола и подал Гале, как бы бережно неся, тяжелую и жесткую ладонь.
— Здравствуйте, садитесь.
Галя села и осмотрелась. Она не умела скрывать свое любопытство, которое так и светилось в ее больших внимательных глазах. Михеев почувствовал неловкость от слишком пристального взгляда референта, он крепко сцепил пальцы на столе.
— Я вас слушаю, — вежливо сказал он.
— Вы давно тут работаете? — поинтересовалась Галя.
Михеев поднял на нее серые прищуренные глаза:
— Не очень. Был пильщиком, бригадиром, профоргом лесопункта. А теперь вот здесь. Выдвинули на руководящую…
Он усмехнулся, и было непонятно, с одобрением он говорит о своем выдвижении или относится к этому с иронией.
— Нравится работа?
— Работа не женщина. Нравится или не нравится — надо трудиться. Впрочем, если начистоту, то не совсем по душе.
— Почему же?
— Канцелярщина заела. Работаю лишь потому, что почитаю своим долгом защищать интересы лесорубов. Воевать приходится.
— С кем?
— С администрацией.
— Любопытно. Как это так?
— А вот так… — Михеев наморщил лоб. — Вот, скажем, есть у нас колдоговор. Между администрацией и рабочими. Коллективный договор, — пояснил он. — Согласно ему рабочие обязаны производительно трудиться, экономить материалы, горючее, беречь механизмы и так далее… И в соответствии с договором лесорубы и профсоюз стараются выполнить эти условия.
А что же обязана администрация? Там много пунктов. Возьмем только некоторые для примера. Дирекция должна была в первом квартале построить два общежития, клуб в поселке Первомайский, обеспечить подвоз рабочих в делянки на специально оборудованных машинах. Полгода, как видите, кончились, а дома едва под крышу подведены. Лесорубам-одиночкам жить негде, ютятся в старых бараках. Для клуба заложен фундамент, и построят его не раньше зимы. Машины, те, что должны доставлять лесорубов в лес, бревна возят, с вывозкой провал. Видите, как получается? Условия договора администрация не выполняет. Профком требует, а директор выставляет объективные причины. Целый ворох причин, на лесовозе не увезти…
Михеев сердито заерзал в кресле и опять сплел на столе крепкие пальцы. Лицо его сделалось скучным, он словно бы сожалел о том, что слишком разоткровенничался перед гостьей.
— Трудно вам, — посочувствовала Галя.
— Ничего. Своего добьемся, — ответил он упрямо. — Ну ладно, ближе к делу. Чем могу быть полезен?
— Меня интересует, как работают ваши лекторы.
Михеев кивнул и достал из ящика стола папку, которая, видимо, была наготове.
— Тут весь учет, — он подал ей папку.
Галя стала смотреть подшитые бумаги, взяла карандаш, прикинула: на каждого лектора за полгода приходилось по два выступления. «Мало!» Но посмотрим, какие читали лекции. Секретарь комсомольского комитета Прохоров выступал на темы морали, какой-то Савельев увлекался атеизмом, Матвеев — технологией погрузки леса на нижнем складе. «А при чем тут технология? Это, вероятно, просто технический инструктаж, не лекция». И дальше: «Правила техники безопасности на валке леса», «Итоги работы Синеборского участка за первый квартал». «Боже мой, какая скучища! Что это за лекции?» — подумала Галя.
— Разве это лекция — правила техники безопасности? — спросила она. — А итоги работы за квартал?
— Это скорее, беседы. Но Антрушев сказал, чтобы каждое выступление инженерно-технических работников мы оформляли путевками, как лекцию… План-то надо вытягивать! В лесу — план, в лекционной работе план…
— Но ведь нельзя же так! Зачем обычные производственные инструктажи оформлять путевками! Это, если хотите, очковтирательство.
— Вы так думаете? — неуверенно спросил Михеев.
— А вы хотите, чтобы число лекций было кругленьким и вас по этому поводу не беспокоили?
— С меня требуют — я выполняю. И скажу вам честно: очень занят я основной работой. Освободили бы меня от лекций, не мое это дело…
— Это уже зависит не от меня, — сухо сказала Галя. — Но разве культурная, просветительская деятельность не входит в функции профкома?
Михеев пожал плечами.
Из леспромхоза она ушла очень раздосадованная. Ей казалось, что она объяснялась с Михеевым неумело, не так, как бы следовало, и разговор до конца не довела. Видимо, нет у нее опыта в таких делах.
4
Полудников считал, что, для затравки, в начале каждого выступления необходима живинка, и потому начал свою лекцию так:
— Человек спит и видит сны. Парню снится девушка — предмет его воздыханий. Девушке, наоборот, снится парень, в которого она влюблена… Директору предприятия, с треском провалившего план, снится разнос в вышестоящей инстанции…
Яркий свет делал лысину Полудникова блистающей, как бы окруженной ореолом. Он слегка кашлянул, улыбнулся и заложил короткие руки за спину.
— Сны снятся животным и птицам. На сей счет даже бытует поговорка: «Голодной курице просо снится». Наблюдая за спящей собакой, можно заметить, что она иногда бьет хвостом и тихонько скулит: наверняка она находится во власти дурного сна.
Голос лектора набирал силу и звучность, он увлекся и продолжал уверенней и стремительней.
— Человечеству сновидения знакомы на всем протяжении его существования и развития. Однако на разных ступенях эволюции, — он сделал логическое ударение на этом слове, — загадочное явление истолковывалось по-разному. Древние считали, — Полудников поднял указательный палец. — Древние считали, что во время сна душа покидает тело, — палец опустился, — и отправляется путешествовать куда ей вздумается. И если не успеет вернуться до пробуждения, человек умирает… Когда одного полинезийца внезапно разбудили, он панически воскликнул: «Зачем вы меня подняли? Ведь моя душа еще находится в соседней деревне. Горе мне! Сейчас я умру!»
Галя внимательно слушала. Она пришла сюда, чтобы поучиться у Полудникова, будучи уверенной, что поучиться у него есть чему. Поначалу он произвел благоприятное впечатление живостью, бойкостью языка, пословицами, каламбурами. Он сделал экскурс в прошлое науки, обратился к ее авторитетам — Гераклиту, Демокриту, Гиппократу, к Аристотелю, отвергавшему божественное происхождение снов, к Сократу и Платону, которые такое происхождение утверждали, к Лукрецию, связывавшему сны с повседневной деятельностью человека. Полудников привел выдержку из философской поэмы Лукреция, а потом перемахнул к Бэкону, французу Леметри, к Дидро и Гельвецию, Канту и Лейбницу, чеху Пуркинье и русскому писателю и философу Радищеву. Казалось, все эти гениальные головы только тем и занимались, что пытались разгадать и научно обосновать сны, которые грезились во все времена и эпохи людям в ночных колпаках и без оных, почивающим под шкурами или пикейными одеялами, в первобытных пещерах и уютных бюргерских спальнях.
По извилистой и тернистой тропе, какой ковыляла к истине от одной вехи до другой наука о снах, Полудников наконец добрался до академика Павлова и поставил перед аудиторией краеугольный вопрос:
— Итак, что же такое сон? Знаменитый Павлов раскрыл сущность этого явления следующим образом: «Сон есть торможение, распространяющееся на кору и нижележащие отделы головного мозга». Обратимся к таблице, — лектор вооружился указкой и подошел к плакату с изображением коры и нижележащих отделов…
Гале стало скучновато. Она заметила, что мужчина, сидевший слева от нее, клевал носом. Две женщины пенсионного возраста позади тихонько разговаривали о цветных телевизорах, назойливо бубня ей в ухо.
Наконец Полудников приблизился к концу своей лекции.
— Для того чтобы спокойно спать, надо вовремя ложиться, хорошо проветрив комнату, вычистив зубы и умывшись, приняв теплую ванну или душ и выключив свет. Кушать рекомендуется за два часа до сна. Покойной ночи! — напутствовал он аудиторию, которая уже наполовину подремывала, и полупоклоном ответил на жидкие аплодисменты.
— Ну как моя лекция? — спросил он подошедшую к нему Галю.
Она немножко смутилась, считая не очень удобным высказывать свое мнение такому пожилому, заслуженному человеку. Однако все же заметила:
— Вы не обижайтесь… Но мне показалось, что лекция несколько скучновата. И зря вы собрали всех ученых в кучу. А в остальном — ничего.
Полудников надел шляпу и, пожевав губами, сказал:
— Научная лекция — не юмористический рассказ. Все должно быть обосновано. Все выводы следует подкреплять авторитетами. Это никогда не помешает. До свиданья, милый референт!
5
На другой день на райкомовском газике Галя отправилась в один из отдаленных сельсоветов — Петровский, в ту самую Петровку, до которой, как говорил Антрушев, надо ехать «волоком» шестьдесят километров по дороге, где и «костей не соберешь».
Когда-то там было три небольших колхоза, затем сделали один — укрупненный. Но, по-видимому, укрупнение не дало желаемого эффекта, и лет пять тому назад здесь создали совхоз. В последнее время в Василькове о петровском совхозе говорили как о хозяйстве, находящемся на подъеме.
Прибытию Гали Ишимовой в Петровку предшествовал телефонный звонок. Он тоненько и чуть тревожно дзенькнул в середине рабочего дня в кабинете заведующего клубом Владислава Чижова.
— Чижов? Привет. Как живешь, что нового? — услышал Владислав знакомый голос Антрушева, приглушенный шестидесятиверстным расстоянием.
На эти традиционные вопросы Чижов ответил так же традиционно:
— Живем помаленьку. Работаем…
— Знаешь что, — говорил Антрушев, — к вам выехал представитель из области, из общества «Знание». Прошу тебя, как руководителя лекторской группы, принять ее как положено. Чтобы все было в ажуре. Понимаешь?
— Понимаю, — не совсем уверенно ответил Чижов.
— Организуй скоренько лекцию. И дела свои приведи в порядок.
— Дела?
— Ну, учет лекционной работы, списки лекторов-активистов и все другое. Организуй доклад на международную тему. Пусть директор школы выступит.
— Его нет. Уехал в санаторий.
— Тогда пригласи агронома. Пускай что-либо об агротехнике расскажет.
— Ладно, постараемся.
— Вот-вот, постарайся. Запиши фамилию: Ишимова Галина Антоновна. Молодая, весьма симпатичная… Работает референтом. Ну, бывай, информируй!
Чижов положил трубку, озабоченно почесал затылок. Не часто приезжали в Петровку областные работники. Поневоле встревожишься. Надо что-то предпринимать, чтобы гостью встретить достойно. Владислав закрыл кабинет и отправился в совхозную контору к агроному Кутобаеву, который, к счастью, оказался на месте.
— Григорий Иванович, выручай, — сказал Чижов, сев на табурет у стола агронома.
Тот поднял лысеющую голову от бумаг и посмотрел на завклубом вопросительно.
— Надо сегодня лекцию прочесть. Вот так надо!
— Почему так срочно?
— Время ответственное, уборка. Прочти что-нибудь на эту тему.
— Но почему именно сегодня?
Чижов подумал, как бы убедительнее обосновать свое пожарное предложение, и объяснил:
— Сегодня у нас окно. Перед кино время свободное. Занять его надо.
— А вчера не было окна?
— Не было. Танцы организовали.
— Пусть и сегодня танцуют на здоровье.
— Баянист в Василькове. Вернется только завтра.
— Есть магниторадиола.
— Испортилась…
— Но я не могу так скоропалительно. Надо же готовиться!
Чижов нарочито бодро, с этакой фамильярной укоризной сказал:
— Григорий Иванович, чего вам готовиться? У вас же золотая голова и все материалы в руках.
— Ну полно, полно, — упрекнул Кутобаев Чижова. — Все равно надо готовиться, иначе не выйдет. А впрочем…
Он вдруг оживился, взял со стола листок бумаги и заговорил горячо, уже другим тоном:
— Вот, понимаешь ли, сводка о потерях. Десять кило зерна на гектаре теряем в колосьях! В совхозе полторы тысячи гектаров зерновых. Сколько же получается потерь? Пятнадцать тонн! Колоссальные убытки. Подумать только. А как их избежать? — Он начал было перечислять, из чего складываются потери, что можно и нужно предпринять, но Чижов замахал руками:
— Не здесь, не здесь, Григорий Иванович, говорите! В клубе. Вот вам и лекция.
— Да, но с кем говорить? Механизаторы дотемна в поле. Придут домой — скорей бы поужинать да на боковую. В клуб их на аркане не затащишь. Лучше поговорить с ними в поле в обеденный перерыв.
— Нет, надо именно в клубе. Я им такой фильм подкину — бегом прибегут. Афиши сделаем — во! — Чижов широко расставил руки. — Новый фильм, заграничный детектив.
Григорий Иванович поморщился, он не любил детективов, да еще заграничных, но все же согласился:
— Ладно, я приду. Надо, пожалуй, поговорить о борьбе с потерями.
Чижову стало уже легче. Уходя, он предупредил:
— Возможно, представитель из области приедет, так вы, Григорий Иванович, не подкачайте.
— Вот почему у тебя окно! — понял Кутобаев хитрость Чижова. — Так бы сразу и сказал. Ну ладно, я человек дела, выступлю как умею…
Чижов поручил библиотекарше Вале Ниточкиной написать и расклеить по деревне афиши, потом сходил к знакомому рыбаку за свежей рыбой, чтобы приготовить гостье уху, и договорился о месте для ночлега.
6
Газик — машина неприхотливая, словно ослик, выносливая, с большой проходимостью. Это известно всем, кроме Гали, которая в ней ехала впервые.
Райкомовский шофер Коля Бережной вел ее на уровне первого класса. Дорога была хоть и ухабистая, но сухая. Дождливые дни еще прятались за горизонтом, и опасения Гали и прогнозы Антрушева насчет трудностей пути оказались напрасными. В одном только месте близ Черного лога Колин газик дернулся, сердито взвыл и заглох. Ржавая лесная вода размыла проселок, и колеса машины вбухались по дифер в жидкое месиво.
— Грязи! — сказал Бережной, выглянул из кабины, оценил обстановку и успокоил пассажирку: — Ничего, проскочим. Включу оба моста.
Галя поглядела по сторонам, соображая, о каких мостах идет речь. С обеих сторон дорогу обступал дремучий ельник. В кюветах темная вода подернута сверху маслянистой пленкой. На кочках росла длинная жесткая осока. В небе толпились белые, подсиненные снизу облака. Газик затрясся как в лихорадке, и Галя, не увидев никаких мостов, вцепилась обеими руками в скобу перед сиденьем. Мотнуло вправо, влево, она изо всех сил старалась усидеть на месте и все-таки достала макушкой тент. Выручила пышная прическа, смягчила удар. Коля отчаянно сражался с баранкой. Машина наконец выползла на сухое место, помчалась дальше.
— То место, которое мы проскочили, — сказал водитель, — так и называется — Грязи. Каждый год валят туда песок, бутят камень, а все как в прорву. Дна нету…
— Что вы говорите! — покачала головой Галя.
— Нынче сухо, так еще ничего, — продолжал Бережной. — А в прошлом году из-за тех Грязей машины не ходили целый меся… Корреспондент Штихель из области ездил в Петровку верхом на милицейской лошади.
— Вот как! — удивилась Галя и попыталась представить себе длинноногого Штихеля в кавалерийском седле.
— Да, ездил, — Коля выбросил окурок. — Самое главное — как ездил! Он же с лошадью первый раз дело имел. Добрался до топкого места — поперек бревна да жерди накиданы, а меж них вода. Ну вот, тянет Штихель повод, погоняет коня хворостиной, а он переминается с ноги на ногу и ни с места, только голову вскидывает да взлягивает. В чем дело? Оказывается, слишком туго натягивал повод, — ведь лошадь тоже должна глядеть себе под ноги, а он не давал. Слез он тогда с седла и повел коня за собой. А конь бо-о-ольшой, этакий строевой жеребец! Гладкий, здоровый. Пока Штихель с бревешка на бревешко перешагивал, жеребец вырвался и одним духом перемахнул Грязи. А Штихель остался посреди гиблого места, да еще, на ту беду, поскользнулся и влопался в болото по колени. Барахтается он в Грязях, а конь стоит на взгорке, на сухом месте, пощипывает травку, поглядывает на корреспондента и ждет… В сельсовет пригарцевал Александр Васильевич — не узнали. Весь в торфе… На речке обмываться пришлось. Вот, брат, товарищ Ишимова, как бывает у нас…
— Но почему дорогу не наладят? — спросила Галя, которой стало немного жаль Штихеля.
Коля молча пожал плечами. Газик вымахнул на вершину холма, и шофер весело сказал:
— А вот и Петровка!
Галя нетерпеливо посмотрела вниз. Шофер сбросил скорость, чтобы она лучше могла обозреть окрестность.
Был вечерний, предзакатный, богатый красками час. Солнце, перед тем как погрузиться в далекие заречные леса, задержалось над горизонтом, пронизав жаркими косыми лучами долину. Река двумя извивами неторопливо струилась среди лугов на северо-восток. На левом ее берегу почти на километр раскинулось село. Сверкал на солнце тускловатым осиновым лемехом купол старинной деревянной шатровой церквушки.
Деревня, казалось, состояла только из света и теней. Свет, яркий, радующий глаз, прорывался меж домов по проулкам, а тени — глубокие, синевато-бархатистые, сливались с избами. У околицы — облако золотистой пыли, — это от стада, возвращающегося с пастбища. Пастух шел сбоку, размахивая кнутом, и его тень неотступно шагала рядом с ним и тоже махала кнутом… Всюду простор, масса воздуха, света, безграничное серебристо-розовое предзакатное небо — без единого облачка.
— Видите, какая красота! — воскликнул Коля и прибавил газ. — Я всегда отсюда, с холма, любуюсь Петровкой.
Машина перевалила возвышенность и на тормозах осторожно спустилась. Шофер остановил газик у совхозной конторы. На крыльце появился высокий светловолосый парень лет двадцати трех. Он подошел и предупредительно открыл дверцу. Галя выбралась из машины, разминая ноги, затекшие от долгого сидения, взяла чемоданчик и попрощалась с Бережным.
Парень отрекомендовался:
— Чижов Владислав. Заведующий клубом.
Он привел ее в небольшой домик, обшитый вагонкой и разукрашенный резьбой, как терем. Он стоял на берегу реки Ундоги, у обрыва, среди берез и черемух, и жили в нем вдова бригадира Поликсенья Юшкова да черный кот.
— Я вам в горнице все приготовила, — сказала хозяйка. — Чистое белье постелила, живите на здоровье. Надолго ли к нам и по какому делу?
Галя ответила. Хозяйка понимающе кивнула:
— В обществе знающих работаете! Слыхала… Был тут у нас лектор, тоже у меня ночевал. Рыбу ловил свежую, я ему каждый день уху варила. Вежливый такой, интеллигентный. По избе все в носочках выхаживал. Я ему говорю: «Да ходи ты в гамашах-то». А он мне: «Люблю, чтобы ноге было свободнее».
Галя поняла намек и, улыбнувшись, подумала о домашних шлепанцах, которые не забыла взять с собой.
7
Чижов беспокоился о том, чтобы лекция прошла хорошо, при достаточном количестве слушателей. Григорий Иванович не подавал признаков волнения. Он с равнодушным видом расхаживал по боковушке и разглядывал фотографии кинозвезд. «Звезды» в жизни, видимо, были разные — молодые и не очень молодые, красивые и не так уж красивые, но на фотопортретах они выглядели одинаково молодыми и стандартно красивыми.
Владислав то и дело выглядывал из-за кулис в зрительный зал и, вернувшись в боковушку, сообщал:
— Маловато людей. Да и референта еще нет.
— Что мне референт? Я ведь не для него выступаю, — ответил Кутобаев.
И в эту минуту в боковушку вошла Галя. Кутобаев, пыхнув папиросным дымком, стал глядеть на нее во все глаза. Галя не слышала, что он сказал перед этим, назвала себя, и они познакомились. Чижов наконец объявил, что пришли механизаторы.
— Наверное, ради заграничного детектива пожаловали? — сострил Григорий Иванович.
— Лекция — само собой, кино — само по себе, — дипломатично ответил Чижов.
Ишимова отправилась в зал слушать лекцию.
Выйдя на сцену, Кутобаев надел очки, достал из кармана записную книжку и улыбнулся односельчанам:
— Вот ведь как получается: пришли в кино, а на вас выпустили агронома.
— Бывает, — весело отозвался кто-то из зала.
— Начинайте!
— Начинаю, — Григорий Иванович поднял руку и тотчас опустил ее. — Вчера на участке озимых мы провели контрольный сбор колосьев, оставшихся после комбайновой уборки. И что же? На каждом гектаре было потеряно в среднем десять килограммов зерна. При такой, с позволения сказать, уборке совхоз недополучит…
И он назвал уже известную нам цифру, которая привела зал в некоторое замешательство. Двое здоровяков механизаторов, сидевших в первом ряду, многозначительно переглянулись, какая-то старушка охнула, все чуточку зашевелились. А Кутобаев, воодушевляясь, ошеломлял публику все новыми выкладками, и выходило, что вроде бы большая часть урожая оставалась в поле на съедение птицам да мышам-полевкам.
Галя внимательно слушала. Для нее все это было в новинку. Она удивлялась тому, как заинтересованно и непосредственно зал воспринимал то, о чем говорил агроном. Куда интереснее, чем пространные рассуждения Полудникова о сновидениях.
А Кутобаев продолжал:
— У комбайнера Бурмагина на поле остаются целые нескошенные острова. Товарищ Бурмагин, если вам изменяет зрение, так закажите себе очки.
— Да какие там острова!.. — сказал с места, видимо, этот самый Бурмагин. — Самая малость, да и то в неудобных для комбайна местах…
— Вот-вот! Из таких фактов складывается типичная халатность, товарищ Бурмагин!
Из зала больше возражений не последовало.
В Гале проснулся референт, строгий судья и ревизор. «В лекции ведь должны быть элементы научно-теоретические. В любой области новые данные, обогащающие слушателей. Что-то необыкновенное, любопытное. А тут — потери зерна. Что это? Лекция, или производственный доклад, или беседа?
А может, форма не важна? Видимо, для совхоза это очень необходимо в данный момент? Да, вероятно…»
Агроном говорил, что трактористы вминают гусеницами колосья в землю, комбайнеры лишний раз ленятся очищать консольные шнеки, что бестарки щелясты, в автомобильных кузовах дыры чуть ли не в палец, а шоферы ленятся стлать на дно брезент или хотя бы рядно, и за грузовиками по всем большакам остаются стежки-дорожки из… зерна. Сразу видно, где возили хлеб петровские лихачи!
Агроном сделал паузу, ею не замедлили воспользоваться:
— Пускай школьники собирают колоски!
— Школьники? Конечно, они будут собирать колосья, если их позвать на помощь, народ послушный. Но если не терять — не придется и подбирать. Я бы лично, будь директором совхоза, за неряшливую уборку и потери зерна снизил бы расценки комбайнерам и шоферам.
По залу прошел шумок, и послышался сочный баритон:
— Надо подумать! Верно говорите.
Обладателем баритона был директор совхоза Борис Львович Лебедко. Он сидел, оказывается, впереди Гали. Она видела перед собой его облысевший затылок и большие розовые уши.
— Подумаем вместе, Борис Львович, — закончил Кутобаев, спрятал свою книжечку в карман и под жидкие, недружные аплодисменты, что, вероятно, объяснялось намерением снизить расценки, ушел за кулисы.
Свет на сцене погас, и спустился экран. Галя не осталась в зале — видела этот фильм. В фойе к ней подошел Чижов и осведомился:
— Понравилось вам выступление агронома?
— Хорошее выступление. Очень необходимое, — искренне ответила Галя, отбросив все сомнения. А про себя подумала: «Не буду придираться».
8
В клубе на экране свирепствовали мафиози — «настоящие» сицилийские, бегающие, стреляющие, колющие и режущие всех, кто ни попадется им на пути… А на улице всей вселенной, кажется, завладела луна. Полная, яркая, с отчетливо заметными «родимыми» пятнами, она обласкивала людей чужим, отраженным светом. Свет струился зеленоватыми волнами меж деревьев и домов осторожно, словно бы ощупью, словно бы опасаясь теней, которые прятались под каждым деревом, за каждым углом.
Галя медленно шла по пустынной улице, и ей казалось, что там, на луне, висящей в небе круглым скифским щитом, в этот час опять бродят, как небожители, космонавты, оставляя на ее пыльной поверхности рифленые следы своих башмаков, и собирают в мешок неземные камни. В песне поется: «Подари мне лунный камень, талисман души моей!» Давно ли «лунный камень» был чем-то недосягаемым, фантастически условным, а теперь вот такие «камни» привезли на Землю…
Она посмотрела на звезды, тускловато мерцавшие в стороне от луны, и представила себе теперь уже близкое будущее человечества: в космические полеты отправятся новые экипажи, от планеты к планете, от звезды к звезде… И где-то там они отыщут, непременно отыщут планету, подобную Земле, на которой есть жизнь. Она может быть яркой, солнечной, а может быть и сумеречной. Есть ли там подобия городов? Какие они? Что за существа в них обитают?
Почему писатели-фантасты изображают обитателей других планет безобразными, отвратительными существами? Каких чудовищ послал на Землю из космоса Герберт Уэллс в «Борьбе миров»! А один литератор заставил полуживотных-полулюдей, похожих на саламандр, поедать листья с деревьев…
Впрочем, не все. Как прекрасна Аэлита Алексея Толстого!
Галя шла по тесовым мосткам, отзывающимся на каждый шаг осторожным поскрипыванием, чуть задевая ногами метелки трав, и с них осыпались, словно крошечные светляки, голубые искры. Женский голос неподалеку всколыхнул тишину, и неземные жители оставили Галино воображение:
— Грунька-а-а! Иди спать! Ужо я тебе задам, непутевая!
Это уже на земле…
Хлопнула калитка, и все смолкло.
— Кто ты такая, Грунька? Как тебе живется, как любится? Может быть, ты стоишь где-нибудь под черемухой или рябинкой в обнимку с парнем и посмеиваешься над чересчур уж откровенной материнской тревогой? А вот, кажется, и она подала голос, да такой тонкий, нежный, — того и гляди, оборвется:
Меня тятенька и маменька
Как розан берегут.
Каждый вечер у калиточки
С поленом стерегут…
Умолкла девушка. Нечаянно скрипнула под ногами Гали доска, и все прислушалось к тишине, насторожилось.
Галя улыбнулась и пожалела, что не может вот так поздно вечером идти счастливая и взволнованная и ронять в траву, в ночь, с расточительностью семнадцати лет искорки своего счастья…
Дом был заперт на замок. Галя вспомнила, что хозяйка показывала, куда кладет ключ, протянула было руку к условленному месту, но решила еще прогуляться до берега.
Рядом за изгородью — крутой обрыв к реке. Под обрывом, у самой воды — старая покосившаяся банька. Галя, опершись о прясло изгороди, поглядела на реку. Живое серебро, словно стая маленьких рыбок, суетилось и мельтешило на перекате. Луна колдовала над ним. Листья березы над обрывом зябко вздрагивали и сухо шелестели.
Долго стояла Галя и смотрела на реку, очарованная ее тихой игрой в голубом свете, льющемся с неба.
…У крыльца ее встретила хозяйка. На голове у нее белел платок, в обманчивом полусвете глаза Поликсеньи казались темными, по-молодому острыми.
— А я уж беспокоюсь, — хозяйка отомкнула замок. — Вот, думаю, пропала моя квартирантка неведомо где…
— Понравилось вам кино? — спросила Галя.
— Плохо поняла. Какие-то нонче картины пошли — говорят по-русски, а делают не по-нашему. Григорий Иванович дельно говорил, чувствительно, а кино так себе. Страсти какие-то. Пойдем, милая, в дом.
Теперь уже Галя убедилась в бесполезности своих наметок, сделанных тогда утром в гостинице. Должно быть, так и происходит крушение планов: есть некая заранее обусловленная академически безукоризненная мерка, а соотносить с нею нечего. У Чижова не оказалось ни отчетов, ни папок, а имелась лишь тощая тетрадка с небрежными записями. Просмотрев их, Галя спросила:
— И это все?
— Да.
— Почему же так мало лекций?
— Видимо, потому, что мы работаем без плана, без системы… Лекторы выступают очень редко.
— У них нет желания?
— Никто никогда не отказывался от выступлений, — уклончиво сказал Владислав.
— Что же тогда мешает?
— Интерес у населения к лекциям невелик, — не очень уверенно ответил Чижов. — Их мы обычно приурочиваем к кино. Иначе не соберутся.
…Земля, двигаясь по своей орбите, подставила солнцу тот бок, на котором как раз прилепилась Петровка, и в окно кабинета брызнул слепящий луч. Пышноволосая голова референта сделалась огнисто-золотой, будто занялась пожаром, и в синих глазах блеснули, как показалось Чижову, зловещие искорки. Галя отодвинулась от окна и, выждав, когда глаза привыкнут к мягкому полумраку комнаты, сказала:
— Неужели у людей нет интереса к знаниям? Можно ли с этим согласиться? Неужели рабочие совхоза инертны и безразличны ко всему, что делается в мире науки, политики, искусства, литературы? Странно все это…
«Нет, напрасно Чижов все валит на людей, — думала она. — Я этому не верю. Просто он как следует не занимался организацией. Как и леспромхозовский Михеев, он, вероятно, считает лекции второстепенным делом».
Чижов с настороженно-выжидательным видом рисовал на листке бумаги геометрические фигурки, Галя предложила:
— Я думаю, надо собрать лекторов. Поговорить с ними, посоветоваться.
— Давайте соберем, — с готовностью согласился Чижов.
Ему было скучновато от такого разговора, и он, независимо от своего желания, мысленно переключился совсем на другое: «У старой мельницы всегда в это время хорошо клевали на овода хариусы. Надо бы сходить, попробовать… Да все некогда. Скоро ли она уедет?»
— И еще я бы хотела прочесть лекцию, — сказала решительно Галя. — Тема — «Поэзия Александра Блока». Попрошу вас объявить на послезавтра.
— Давайте объявим, — согласился завклубом и подумал, что референт еще поживет здесь дня три, не меньше…
Холодное равнодушие Чижова больно укололо Галю. Однако она сдержалась, не сделала ему замечания и попросила показать ей библиотеку.
Там стояла дремотная тишина, только жужжал шмель возле окна, искал выход. Нашел и улетел в открытую форточку. Работа здесь начиналась с двенадцати, но Чижов вчера предупредил Ниточкину, чтобы она пришла пораньше, и Валя, белокурая, высокая, круглолицая девушка, подвела референта к стеллажам с книгами.
— Вам нужны записные книжки Блока? — Она достала с полочки томик в синей обложке. — Вот, пожалуйста, нашелся один экземпляр.
Галя попросила книгу на вечер. Библиотекарша вежливо кивнула, и от кивка прядь русых волос рассыпалась и свесилась ей на щеку, как у Софи Лорен.
— А теперь посмотрим формуляры. Кто что читает.
Запросы у петровчан были самые разные: Толстой, Шекспир, Драйзер, Хемингуэй, Брюсов и Твардовский и даже Эразм Роттердамский…
— Кто такой Плахин? — спросила Галя.
— Счетовод сельпо, — ответила Ниточкина.
— Счетовод интересуется «Похвалой глупости»?
— А почему бы нет? — сказал Чижов. — Он у нас самый заядлый книжник.
«Да, читают много, и самые разные книги, — подумала Галя, уходя из библиотеки. — А лекции посещают неохотно. Почему?»
9
Галине хотелось, конечно, иметь представление о том, где и как работают люди, жизнь которых посвящена тому, чтобы давать стране мясо, молоко, картофель, хлеб, лен, кожи и шерсть, для того чтобы другие могли питаться, одеваться и обуваться и строить гигантские электростанции, заводы и космические корабли. Она пошла к директору совхоза.
Борис Львович Лебедко оказался довольно отзывчивым и внимательным человеком, хотя был загружен делами, что называется, по самую завязку. Он заметил, что желание осмотреть хозяйство весьма похвально для молодой интеллигентной девушки. Но поговорить с ним как следует Гале не удалось — в кабинете была непрерывная толчея, то и дело приходили люди, и всем надо было решать серьезные и срочные дела. Лебедко пригласил парторга совхоза Журавлева, познакомил его с Галей, и парторг сам вызвался провезти ее по объектам. Журавлев только что вернулся с совещания в райцентре и до этого с Галей не встречался.
Когда он, высокий здоровяк лет сорока пяти с громким голосом и седыми висками, сел на сиденье, директорская «Волга» покачнулась. Галя посмотрела на монументального вожака петровских коммунистов с уважением, а он прогудел в затылок шоферу:
— Поехали в третью бригаду, в поля.
Машина почти весь день колесила по проселкам, делая остановки у ферм и пилорам, в полях возле комбайнов и скирд соломы, на отгонных пастбищах и сенокосных угодьях. Галя из этой поездки извлекла для себя немало полезного: научилась отличать рожь от ячменя, узнала, что на фермах молоко доят не руками и не в ведра, а электроаппаратами и подают по трубам и шлангам прямо в автоцистерну. Она беседовала с загорелыми, белозубыми комбайнерами — людьми озабоченными и не очень словоохотливыми, с доярками на пастбище — словоохотливыми и не менее озабоченными, чем комбайнеры. Увидела, как плотники «рубят» новый телятник в «чистую лапу». Что такое «чистая лапа» и почему именно «чистая», ей объяснил Журавлев с помощью тех же плотников.
На окраине одной из деревень закладывали в траншею силос. Мелко изрезанную специальной косилкой траву грузовики подвозили в обширное углубление в земле — траншею. Эту траву утрамбовывал широкими гусеницами трактор. «И коровы будут есть такую массу?» — спросила Галя. «Еще как! — ответил Журавлев. — Силос — очень ценный корм, молокогонный, а трава нынче сочная». — «Но ведь гусеницы у трактора грязные…» — «Нет, они чистые. Тут возле траншеи, видите, сухо». Некоторые вопросы могли показаться и вовсе смешными, но Журавлев терпеливо все объяснял, видя, что его спутница впервые так близко видит сельскую жизнь и в каждом пустяке делает для себя открытия.
Когда возвращались в Петровку, он, сидевший на заднем сиденье, наклонился над золотоволосой головой гостьи и поинтересовался:
— А вы какой окончили институт?
— Педагогический, — Галя посмотрела на него через плечо.
— Почему вы на этой работе? Разве труд учителя вам не по душе?
— Мне предложили работу в обществе «Знание» при распределении. Я вовсе не просила об этом.
Журавлев кивнул, спрятав усмешку. Она поспешно добавила:
— Вы не думайте, что это легко — быть референтом. Это даже труднее, чем в школе.
— Я не думаю, что легче.
Лицо Журавлева стало холодно-непроницаемым, и она ничего больше не могла прочесть на нем. Только в уголках глаз парторга блеснула живая, озорноватая искорка и погасла.
В клубе на всю катушку громыхал электропроигрыватель с большими черными колонками-динамиками. За стеклянной дверью в танцевальном зале несколько парней и девчат танцевали танец «Селена». Остальные сидели на стульях, составленных вдоль стены, и смотрели. Танцы еще, видимо, только начались. Галя, миновав вестибюль, поднялась на второй этаж и по слабо освещенному коридору направилась в кабинет заведующего. Дверь кабинета была приоткрыта, в щель сочился свет и доносился негромкий разговор. Безотчетно повинуясь любопытству, Галя прислушалась, перед тем как войти.
— Придешь? Там хорошо вечером в садике. Тихо. Геранью пахнет, — упрашивал девичий голос.
— Герань — мещанский цветок, — небрежно заметил Чижов.
— Тебе он не нравится? А я люблю. Что же ты молчишь? Верно, эта рыжая у тебя на уме. Все вы такие, мужчины: появится приезжая девчонка из городских — так и смотрите во все глаза. А что в ней особенного? Петровские девчата даже интереснее.
— Еще чего! Надо же такое выдумать.
— Я вижу — ты все с ней.
— У нас дела, И потом, она не в моем вкусе. Можешь не ревновать.
— А я и не ревную, Фи! Какое мне дело.
— А вообще, между прочим, девица приятная. Зажигательная. И характер есть.
— Вот-вот. Я и говорю…
— Что ты говоришь?
Галя, сдерживая улыбку, постучала в дверь, вошла и увидела Валю Ниточкину, стоявшую у стола Чижова. В темном костюме, с галстуком-бабочкой, тот был похож на оркестранта. Ниточкина снисходительно кивнула Гале и ушла, независимо подняв голову. Чижов чуть-чуть смутился, но сразу же овладел собой.
— Пришли? Хорошо. Идемте в читальню. Лекторы там собираются, — сказал он.
В читальне — небольшой уютной комнате — была чинная, строгая тишина. На столе — газеты, журналы, разложенные очень симметрично. Галя подумала, что Ниточкина, вероятно, аккуратна до педантизма. Во всю стену — красочное панно: молодые инженеры в проектном бюро. Рулоны чертежей, макеты ракет. В окно светят крупные игольчатые звезды. Вполне современное панно.
Галя села за стол. Чижов рассеянно листал «Огонек». Вскоре пришел Журавлев. Он грузно опустился на стул, глянул на часы.
— Никого еще нет? — спросил он. — Галина Антоновна, как вам поглянулось у нас в совхозе?
— Очень интересно, — призналась она. — Теперь я имею представление о сельском хозяйстве. Спасибо вам за эту поездку.
Парторг помолчал и вдруг оживился:
— А вот в смысле природы надо было нам в Лебяжку заглянуть. Удивительные там места!
— Да, там — красота! — подхватил Чижов. — Тридцать озер в округе. Взберешься на Лебяжью гору — все как на ладони.
— Ты, Владислав, все эти озера облазил! Всех уток переполошил, — с легким укором заметил Журавлев и добавил, обращаясь к Ишимовой: — Он у нас заядлый рыболов и охотник. Как-нибудь в следующий раз заглянем в Лебяжку, — пообещал он. — Правда, в последнее время эта деревенька, прямо скажем, захирела…
— А это далеко? — спросила Галя.
— Прямиком, тропой через лес — километров пятнадцать, а большаком и все двадцать, — пояснил Чижов.
Галя прикинула: командировка у нее рассчитана на десять дней. Остается еще шесть. Может быть, удастся заглянуть в эту неведомую Лебяжку? И почему она захирела? — подумала она, но не уточнила: стали приходить лекторы. Первым появился учитель Девятов, пенсионер, — сухонький, поджарый, в золоченых очках, седоволосый; одет был не по возрасту броско: зеленый пиджак, вишневого цвета жилет, голубая рубашка, кирпичного оттенка галстук. Аккуратный, умеющий следить за собой и, кажется, молодящийся. За ним появилась зоотехник Ундогина — рослая, солидная, в строгом темном костюме. Пришел уже знакомый Гале Кутобаев в своем сереньком пиджачке, с чуть засаленным темным галстуком — немного рассеянный, небрежно причесанный. Впорхнули две молоденькие учительницы — Ася и Тася, похожие друг на друга как сестры-близнецы. Разница была только в цвете глаз да в прическе. У Аси глаза карие, у Таси — голубые. Ася носила волосы тугим валиком, Тася заплетала их в косу и опускала ее на грудь. Они были оживлены, одеты в нарядные платья. Им, видимо, не хотелось покидать танцевальный зал, и они украдкой поглядывали на часы и на дверь.
Журавлев представил собравшимся Ишимову, и она поняла, что разговор придется начинать ей.
— Я беседовала с товарищем Чижовым, — заговорила Галя, заметно волнуясь, — и у меня возникли некоторые вопросы. Может быть, даже сомнения. Будем откровенны: почему у вас так редко бывают лекции? Владислав Федорович объясняет это нежеланием населения посещать их. Дескать, интереса у людей нет, и поэтому выступления с докладами вынужденно приурочивают к началу киносеансов. Так ли это? И если так, то хотелось бы выяснить, почему так. Вам виднее, что у вас хорошо, а что плохо, и у каждого на этот счет есть свое мнение.
Ася и Тася переглянулись и украдкой заулыбались. «Чему они улыбаются?» — заволновалась Галя.
— Давайте обменяемся мнениями и подумаем, как нам эту работу улучшить, — старался развернуть беседу Журавлев. — Правда ли, что лекции не жалуют вниманием? Клуб у нас хороший, есть где собираться. В библиотеке литературы достаточно. А с лекциями выступаем редко. Почему так?
— При чем тут население? — резковато сказал агроном. — Все дело в нас. Нужна система в работе, ясная цель. Какую цель ставит лекторская группа? — знания народу. А какие знания? Как выходит на практике? Приспела уборочная — давайте о потерях зерна, запустили космический корабль — поскорее беседу о космонавтах. Приехал представитель из района, области, — читай на любую тему, лишь бы создать видимость работы. Цепь случайностей. Мы сами не сумели привить населению вкус к познанию.
— И что же вы предлагаете? — спросил Журавлев.
— Нужен постоянный лекторий, работающий по плану, с участием всей интеллигенции Петровки. А главное — лекции должны быть интересными. Кому нужна жвачка, зеленая скука?
— Гм… — подал голос учитель-пенсионер Девятов. — Так сказать, запланированное просветительство. Планирование, конечно, дело необходимое, но план — не самоцель. — Он помолчал, провел ладонью по седой шевелюре. — Надо в каждую лекцию вкладывать все знания, опыт, душу, сердце, волнение. Тогда и полюбят слушатели наши выступления.
— Плановость в работе необходима, — заметил Журавлев. — Нужна система. Я разделяю мнение Кутобаева. Но планы надо выполнять.
В конце концов все согласились с тем, чтобы создать лекторий, и руководить им поручили Чижову. Он попытался было освободиться от хлопотной нагрузки:
— У меня, товарищи, уйма забот с клубом. Лекторскую группу надо бы поручить, скажем, Домне Андреевне Ундогиной. Она имеет опыт, настойчива…
Но ему возразили:
— У Домны Андреевны восемь ферм в шести деревнях, да еще к тому же грудной ребенок.
— Твоей энергии и образования, Владислав, хватит на все, — сказал парторг. — Не надо прятаться в кусты.
Галя слушала и думала: «Чижов молодой грамотный парень. Почему он старается избавиться от поручения? И в самом деле, стоит ли ему доверять? Раз он не желает… Не лучше ли избрать другого, скажем, вот одну из этих молоденьких учительниц? Вероятно, старательны, возьмутся за дело с огоньком». Она было высказала такое пожелание, но Журавлев отклонил его:
— Пусть пока поработает Чижов. Девушки присмотрятся, наберутся опыта. Они же недавно приехали в Петровку. Побудут лекторами, а там — глядишь, и поручим им более ответственное дело.
Девчата смущенно переглянулись, но ничего не сказали. Чижов посмотрел на Журавлева обиженно, но возражать не стал.
Вскоре совещание окончилось. Ася и Тася тотчас упорхнули на голос радиолы, как бабочки на свет. Чижов пригласил Галю танцевать, но она отказалась, приметив у входа в зал Ниточкину. Она стояла за дверью и через стекло нетерпеливо поглядывала в вестибюль на Чижова. На ней нарядное платье с короткими рукавами. Полные, округлые руки были розовы, лицо горело от румянца, и вся она напоминала спелое яблоко, как бы светящееся изнутри. Всем видом библиотекарша выражала нетерпение, теребила в руках носовой платочек и, увидев наконец, что Чижов пошел в зал, засветилась в улыбке. Гале не хотелось огорчать девушку, и она вышла из клуба вместе с Журавлевым.
Парторг шел чуть сутулясь, с видом прогуливающегося усталого человека.
— Нам желательно, чтобы лекторами руководил член партии, — сказал он, когда Галя поравнялась с ним. — Девушки-учительницы, разумеется, работники хорошие, исполнительные, но они еще очень молоды. А лекционная пропаганда, как вам известно, дело весьма ответственное. Не обижайтесь.
— Мне кажется, молодость и неопытность отнюдь не являются недостатками. Гораздо хуже, когда важное дело попадет в руки опытного лентяя.
— Ничего, мы заставим Чижова работать как следует.
— Заставите? — Галя с сомнением покачала головой. — Заставить нельзя. Надо, чтобы человек понимал свой долг. Что проку, если заставят кого-либо делать что-либо силой? Когда человек действует из-под палки, без души, без желания — плохо.
— Чижов — коммунист, и это для него партийное поручение. — Журавлев прикурил сигарету и бросил спичку в траву. Она мелькнула оранжевым мотыльком и погасла.
— Как бы добиться, чтобы все шло без нажима, без понуждения? Само бы выливалось из души, как нечто светлое, хорошее, полезное! — Галя подняла голову и заглянула Журавлеву в лицо. — Как? Разве можно выполнять какие-либо обязанности без желания, без огонька, единственно из страха перед взбучкой?
— Ничто в нашей работе не должно идти самотеком. Без усилий, без принуждения… Принуждение — не то слово. Существует долг, и мы обязаны напоминать о нем.
— И все-таки надо не заставлять людей, а зажигать!
— И зажигать, и заставлять, — возразил Журавлев. — Вот мы не заставляли, не проверяли Чижова, и результат весьма плох. Тут моя недоработка…
Журавлев бросил окурок, сдержанно засопел, и Галя почувствовала: обиделся.
Он и в самом деле был недоволен: «Чего она поучает меня как мальчишку? Сама еще только вылупилась из институтского яйца — и нате вам».
— Мы непременно создадим хороший лекторий. Я лично займусь этим, — сказал он. — Спокойной ночи!
— Покойной ночи, — ответила Галя.
Она повернула к избе Поликсеньи. Попила чаю, улеглась в постель, все еще размышляя над этой беседой с парторгом. Журавлев показался ей суховатым человеком, административного склада. «Может, должность того требует? Может, иначе ему нельзя?»
Галя долго ворочалась с боку на бок, сон не приходил. «Как было бы хорошо в школе! — думала она. — Знай веди свой класс, работай с детьми, добивайся успеваемости. Никаких лекций, сомнений, трудностей. Все ясно, как дважды два. Впрочем, и в школе были бы трудности, но там они — иного характера. Здесь что ни день, то новое, неведомое. Какие бывают у людей противоположные мнения! Кутобаев говорил о необходимости плановой работы, Девятов, наоборот, иронизировал: «Запланированное просветительство!» Как все-таки найти путь к сердцам людей? Возможно ли?»
10
Старенький кряхтун диван застлан черной шалью, тоже старой, местами прохудившейся. Галя прилегла на нем, облокотись о валик, с томиком сочинений Блока.
Со школьных лет она зачитывалась его стихами. Она любила не только его поэзию, но и возвышенный, чистый образ самого поэта, настоящего человека, большого гуманиста и вдохновенного певца своего сложного, переломного времени. И хотя его давно уже нет, он оставил людям в своих творениях частицу себя, свое тонкое искусство, взгляды, симпатии и антипатии. Ей казалось, что он рядом с нею и с другими людьми идет и зовет их за собой в будущее. Это будущее должно быть непременно светлым и чистым, как большое сердце поэта и его неподкупная совесть. Нет, он вовсе не умирал, он будет жить всегда, так же, как и его Муза, неподвластная ни переменчивым веяниям времени, ни мелкому себялюбию и расчетливому практицизму.
Его стихи, образы, заключенные в них, всегда навевали на нее какое-то особое ощущение первородности, первозданности. Порой это ощущение становилось как бы предметным, ясно видимым.
Иногда она вдруг представляла себе ранний апрельский вечер в городе, когда над крышами домов, с которых свисают прозрачные сосульки, в голубом, цвета берлинской лазури, небе стоит, точно живой, косячок розоватого месяца… А она идет по деревянному, схваченному вечерним заморозком тротуару с тонкой наледью, и ей дышится легко. Воздух прозрачен, свеж и пронизан тоже розоватой блеклой зарей, и кажется, что ранняя весна, как ранняя любовь, дышит тебе прямо в лицо доверительной откровенностью и новизной.
Или летом, когда она сидела наедине с поэтом в плотной вечерней тишине у окна, открытого настежь. От цветов, растущих на клумбе в палисаднике, исходил тонкий аромат. Было так тихо, что можно различить, как порой в траве что-то шуршало — там пробегали мыши или ежик, а быть может, и соседские котята. И свет от зари тоже струился меж домов, отбрасывая в траву нерезкие тени. И не было границы между ними и тенями…
Каждая строчка волновала предчувствием неизведанного, что, кажется, вот-вот откроется ей, и она удивится своей способности следовать мысли поэта, идти за ней, как за ниточкой в запутанном лабиринте.
И она думала, что там, вдали за этими домами, за садами, за городом, раскинулась огромная страна с большими городами, селами, полями, реками, морями, и все, что входило в это объемлющее понятие «Родина», трудно вместить в одном сердце. А поэт сумел высказать такие чувства просто и проникновенно:
Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же, лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.
Его стихи о России. Она их знала, конечно, наизусть.
Волосы Гали свешивались над страницами книги, она рукой отбрасывала их и полушепотом повторяла: «А ты все та же…» Так, вероятно, повторял и поэт, когда писал.
И отчетливая мысль поэта оборачивалась для нее какой-то новой, светлой гранью, новым откровением, потому что она соизмеряла с ней свои наблюдения, свой опыт.
Институтские подруги, зная ее увлечение поэтом, говорили ей: «Ну что ты! Блок старомоден, может быть, и наивен». Они спорили о современной поэзии, читали стихи известных модных поэтов. Блок для них проходил где-то сторонкой, в обязательности учебных программ: «Надо знать. Классик!» — и все. Проходил со своими «ветровыми песнями», как в летнюю пору идет косой дождик, — слегка нашумел, расцветил небо в стороне за полем, за лесом неяркой, малоотчетливой радугой и исчез. И стало опять знойно, сухо, буднично…
Но в том и прелесть, что дождь этот где-то освежит пыльные травы, засверкают каплями влаги и отчетливей запахнут венчики цветов, и люди остановятся, приметив радугу, залюбуются тонкими переливами ее спектра. Маленький оазис чуткой нежности, возвышенной романтичности в знойном мареве будней.
Войти в него можно в любую минуту, стоит взять томик стихотворений.
А этот скрип колес в «расхлябанных колеях»! Не перекликается ли он со «Словом о полку Игореве»: «Крычатъ телегы полунощы рци, лебеди роспущени». Столетия разделяют двух поэтов, а мысли их об одном и том же — о судьбах Руси.
Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!
…Когда Галя пришла в клуб к началу объявленной лекции о поэзии Блока, зал был идеально пуст. У нее словно бы что-то оборвалось в груди, когда она увидела эту удручающую пустоту. Длинные, строгие ряды кресел как бы сочувствовали ей в немом молчании… Сочувствовали стол на сцене с графином воды на нем, алая герань, любимый цветок Ниточкиной, предназначенный для лектора.
Чижов сидел в канцелярии, и вид у него был озабоченный и виноватый.
— Почему-то никого нет, — упавшим голосом промолвила Галя, войдя к нему.
Чижов что-то писал в тетрадке шариковой ручкой. Он неловко и поспешно обернулся, уронил ручку и долго шарил под столом рукой, пока не нашел.
— Было объявлено… По всей Петровке афиши расклеены. Давайте подождем чуток. Бывает, что назначишь на семь часов, а придут к половине восьмого…
Галя села. Карандаш Чижова опять забегал по бумаге. На стене стучали маятником часы: «Вот так, вот так…» Гале стало и вовсе тоскливо. Ей захотелось на свежий воздух, и она вышла из душной канцелярии на улицу. Постояла на крыльце. Блеклая заря, на фоне которой силуэтами были резко очерчены избы и деревья, дотлевала вдали. И оттуда наплывами — то тише, то громче — слышалась какая-то музыка…
В воздухе было влажно от дождика, прошедшего недавно. На дороге блестели маленькие лужицы. Дождик час тому назад прокрался над Петровкой, словно на цыпочках, оставив после себя тишину, безветрие и свежесть.
Но вот, кажется, начинают подходить люди. Галя нетерпеливо посмотрела в глубину улицы. В направлении клуба, чуть покачиваясь, шли двое парней в обнимку, так, что было трудно понять, кто кого поддерживает. В руке у одного — кассетный магнитофон, слышалась песня громко, на всю улицу:
Как тебя мне разлюбить
И не слышать голос твой,
Как тебя мне разлюбить
Той счастливою весной…
Подошли, остановились перед афишей. Магнитофон захлебнулся любовной песней и замолк. Один из парней, увидев Галю, спросил преувеличенно бодро:
— Что скучаешь, милка? Айда с нами!
Другой потянул его в сторону. До слуха Гали донеслось: «Не приставай. Это приезжая, лекторша… Понял?» — «А-а, лекторша… Айда к Шурке, у нее именины». — «К Шурке? Это идея. Пошли». Парень нажал кнопку магнитофона, перемотал ленту на кассете, и опять загремела на всю улицу мелодия, но уже другая…
Галя с укором посмотрела им вслед. Ей будто дали пощечину. Но вот появилось несколько девчат, по виду старшеклассниц. Они шумной гурьбой вошли в клуб.
Галя вернулась следом за ними и прошла опять в канцелярию. Чижов уже не писал, а, видимо по привычке, рисовал на листке бумаги вензеля.
Скрипнула дверь. Галя подняла голову и увидела Штихеля. Он с широкой улыбкой обрадованно шагнул к ней:
— Здравствуйте! Рад вас видеть, Галина Антоновна. Отчего вы грустны? У вас плохое настроение, да?
Он развел руки. В одной — фотоаппарат, на другой висит плащ, через плечо — сумка с надписью «Аэрофлот».
— Что же вы стоите? — сказала Галя. — Вон стул, садитесь.
Чижов поспешно подвинул стул и тоже предложил сесть, осведомившись:
— За очерками приехали?
— Что-нибудь услышим, снимем и напишем, — ответил Штихель, садясь. — А я вот узнал о лекции — и сюда, пораньше, занять место в зале…
— Хватит издеваться, — недовольно сказала Галя. — Вы же видели, зал пуст.
— Вполне объяснимо. Такой день…
— Какой? — насторожилась Галя.
— Аванс дают, — ответил Штихель, заложив ногу за ногу. — До Блока ли тут?
Галя вспомнила парней с магнитофоном и помрачнела: «Вот в чем, оказывается, причина! День получки! Хорошенькая новость…»
— Какие дикие нравы! — укоризненно покачав головой, сказала Галя.
Штихель закурил сигарету, затянулся с удовольствием, будто не курил неделю. Чижов, пропустив мимо ушей замечание о диких нравах, вышел посмотреть, много ли собралось народу. Вернувшись, уныло сообщил:
— В зале восемь человек.
Галя посмотрела на часы и решительно встала:
— Пойду,
— Куда вы? — спросил Чижов.
— Читать лекцию.
— Но ведь только восемь!..
— Восемь заинтересованных лучше восьмидесяти равнодушных, — резковато сказала Галя.
— Хорошо сказано! — одобрил Штихель, положил окурок в пепельницу. — Я буду девятым, Чижов — десятым. Круглое число.
Чижов, удивляясь тому, что Ишимова решила читать лекцию перед таким мизерным количеством людей, пригласил собравшихся пересесть поближе, на первый ряд. Среди слушателей Галя увидела Девятова. Он сидел с выражением настороженной неловкости, поглядывая на входную дверь: то ли ждал, не придет ли кто-нибудь еще, то ли хотел уйти сам… Рядом с ним сел Штихель, по привычке заложив ногу за ногу. Галя вспомнила рассказ шофера Бережного про милицейскую лошадь и невольно улыбнулась. Все десять, приняв это на свой счет, ответили ей улыбкой. Девчата-школьницы нетерпеливо посматривали на золотоволосую лекторшу в ожидании необыкновенного. Галя подняла голову, и уверенный, звонкий голос ее покатился по залу:
О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!
— Александр Александрович Блок. Великий русский поэт, — говорила она, — на долю которого выпало счастье жить и творить в России, которую он любил и боготворил, как прекрасную женщину, мечтал, чтобы его искренний, пророческий голос был услышан последующими поколениями. Он жил в сложное время, на рубеже двух миров, в эпоху подготовки и свершения Великой Октябрьской социалистической революции. О своем времени он писал: «Наше время — время, когда то, о чем мечтают, как об идеале, надо воплощать сейчас. Школа стремительности!»
Так начала свою лекцию Галя.
— Грустно, — сказал Штихель после лекции. — Вы же выступили перед пустым залом. Вам не было неловко или больно?
— Сколько уж собралось, — вздохнула она. — Отменить лекцию я не решилась, чтобы не обидеть тех, кто пришел.
— А самолюбие? А чувство собственного достоинства? А труда вам не жаль?
— Я не считаю это напрасным трудом.
«Бравируете, Галина Антоновна! — подумал Штихель, — На душе, наверное, кошки скребут».
«Хоть и немного было людей, — думала Галя, — а все же добилась ли я цели? Получили ли они удовлетворение? Потянутся ли после этого их руки к томикам стихов на книжных полках?»
На крыльце их поджидал учитель Девятов.
— Вы прочли очень хорошую лекцию, — сказал он. — Мне лично она доставила истинное наслаждение. А наши петровчане невежественны, не пришли даже послушать. Галина Антоновна, позвольте пригласить вас на чашку чая и вас, Александр Васильевич. Не откажите.
Он приглашал так настойчиво, что Галя не решилась ему отказать, хотя чувствовала усталость.
— Буду вас ждать, — сказал Девятов, и его зеленый пиджачок растворился в сумерках.
— Он один живет в своем доме, — пояснил Штихель. — Холостяком. Точнее — вдовец. У него превосходная библиотека, есть даже редкие, дореволюционные издания Чехова. Очень любит его Девятов.
— Завидная любовь, — согласилась Галя. — Да-а-а… Все-таки мне грустно, Штихель!
— Не огорчайтесь. Ведь у каждого вечерами свои дела. Это все-таки деревня. Хозяйственные заботы — скотина, огороды, дети, дрова на зиму. — Штихель поправил сумку на плече. — Да и, собственно, зачем им Блок? Им надо что-то другое.
— Вы так думаете?
— Человек сегодня живет не историей русской литературы. Наивно думать, что каждая изба заселена восторженными лириками. Вам эта тема близка, вы — филолог. А им — нет.
— Не знаю… Не думаю.
Штихель остановился возле невысокого домика. Окна были ярко освещены, за занавеской метнулась тень и исчезла.
— Надо бы зайти сюда на минутку, по делу. Зайдемте, — предложил Александр.
Галя пошла за ним. Штихель поднялся на крытое крыльцо, нажал щеколду, дверь открылась, и они очутились в кромешной тьме сеней. Штихель постучал. Ответили: «Войдите!» Галя вошла и увидела… Ундогину. Опрятная, гладко причесанная, в просторном халате, она сидела на лавке и кормила грудью ребенка. Ундогина улыбнулась, стараясь оторвать ребенка от большой белой груди, но он присосался крепко, и она смущенно прикрылась отворотом халата.
— Мы на минутку, — сказал Штихель. — Я хотел выяснить кое-что по ферме.
— Пожалуйста, выясняйте, — ответила хозяйка.
— Какой у вас чудесный ребенок! — заметила Галя.
— Сегодня я осталась без няньки, — призналась Ундогина. — Бабушка ушла в соседнюю деревню, и я не могла посетить лекцию. Право, неудобно даже…
Гале показалось, что она сожалела не совсем искренне, а просто из вежливости. И ребенок не причина. Могла бы попросить кого-нибудь из соседей присмотреть за ним. Галя погрустнела. Ундогина застегнула пуговки халата, завернула ребенка в одеяло.
— Костя! Поставь-ка самовар, — распорядилась она.
В соседней комнате зашуршали газетой, отодвинули стул, и оттуда вышел муж Ундогиной, совхозный механик, невысокий, с жесткими черными волосами ежиком. Привыкший, видимо, повиноваться жене с полуслова, он молча взялся за самовар.
— Не беспокойтесь, мы ненадолго. Чай обещали пить в другом месте, — сказал Штихель и стал выяснять, что ему было нужно. Записал цифры, поговорил с хозяйкой. — Ну вот и все. Между прочим, на лекции было только десять человек, Домна Андреевна.
— Только-то? Стыдно, право… Костя, ты бы хоть своих механизаторов привел! Все бы народу было больше.
Костя сунул в самовар зажженные лучинки, поставил трубу, помыл руки и только тогда ответил:
— Тебя тоже не шибко балуют вниманием, когда ты балабонишь, — он сел на лавку и посмотрел на гостей, чуть улыбаясь.
— Я — свой человек, местный. Меня всегда могут послушать. Обижаться не приходится, — сказала Ундогина.
— Конечно, надо было прийти, — серьезно признался муж. — Но опять-таки если посмотреть с другой стороны, то нашим парням тема не вполне соответствует. Они народ практический, с машинами дело имеют. Им бы рассказать о новинках в технике. Допустим, о луче лазера… Вот Василий, моторист, интересуется самопроизвольным делением урана. Век такой.
Штихель удовлетворенно хмыкнул, взгляд его встретился с Галиным: «Видите, что я говорил?» Галя подумала, что он привел ее в этот дом неспроста. Ундогина отнесла уснувшего малыша в комнату и, вернувшись, сказала:
— Помните, мы договаривались на совещании, чтобы выяснить запросы населения. Так вот, я закинула словцо дояркам, и они хотят послушать лекции, которые бы учили хорошо и красиво одеваться, детей правильно растить, квартиру уютно обставлять, ну и на медицинские темы желательно. Пришлите нам таких товарищей, которые в этих вопросах сильны…
Галя обещала помочь.
— Вы меня специально затащили в этот дом? — спросила Галя, когда они вышли на улицу.
— Нет, почему же. Попутно. — Штихель присмотрелся в сумерках к мосткам, пошел быстрее. — Вот, пожалуйста, представители совхозной интеллигенции. Он — механик, она — зоотехник. У него — техникум, у нее — институт. Оба прекрасные работники, люди дела. Зачем им Блок? Им подавай луч лазера, современные моды, беседы о гриппе и ангине… Спуститесь с небес поэзии на грешную землю, Галина Антоновна. От стихов о Прекрасной даме к ферме, к полю!
— Я с вами не согласна. Литература — часть эстетики, чувство прекрасного надо воспитывать решительно у всех! А вы не находите, что в наш век техники и рационализма происходит девальвация изящного, огрубление нравов? Оставьте, пожалуйста, ваш наигранный практицизм. В душе вы согласны со мной, не спорьте. Все должны знать, как мы шли от «Слова о полку Игореве» к «Войне и миру», от фресок Рублева и Феофана Грека к полотнам Поленова и Пластова! Как можно без этого?
Штихель покачал головой, но возражать ей не стал, потому что знал: и она права.
Белые северные ночи прошли, но было еще не настолько темно, чтобы не различать дороги. Расплывчато проступали во тьме под ногами тесовые мосточки. Через штакетник свешивались ветки деревьев. Тянуло острым запахом черемухи, уже давно отцветшей, но хранящей этот запах. Одна ветка прохладной ладошкой, будто живая, тронула горячую Галину щеку. Девушке стало приятно и спокойно. Как много значит ласковое прикосновение! Она отвела ветку и негромко стала читать:
О, дай мне, Блок, туманность вещую
И два кренящихся крыла,
Чтобы, тая загадку вечную,
Сквозь тело музыка текла…
— Вот и дом Девятова, — сказал Штихель и, наклонясь, нырнул в низенькую калитку. — Берегите лоб! — предупредил он.
11
В доме старого учителя было много цветов. Все подоконники занимали кактусы, маргаритки, ноготки, розы и еще какие-то, названия которых Галя не знала. С сочными листьями, с распустившимися диковинными соцветиями — чашечками, бутонами, шапками, подчас мелкие и белые, как тысячелистник. Они были расставлены всюду на самодельных подставках, висели по стенам в пластиковых кашпо.
— А в саду у него маленькая оранжерея с печкой и трубами, — сказал Штихель, когда Девятов вышел хлопотать на кухню. — Воду он подает из колодца ручным насосом. Около ста видов растений. Девятов переписывается со многими цветоводами, достает у них семена. И когда в Петровке какое-нибудь торжество в клубе, свадьба или даже похороны, за цветами идут к нему.
Василий Дмитриевич Девятов вернулся из кухоньки, бережно неся небольшой никелированный самовар, кокетливо украшенный узорным литьем. Самовар утвердился в центре стола на блестящем подносе и стал деликатно попискивать, пуская тоненькие струйки пара.
Хозяин накрывал стол. Движения его были скупы и точны. Он священнодействовал, переставляя с места на место розетки, вазы, тарелки, словно подбирал букет цветов. Он старался найти для каждого предмета единственное, наиболее подходящее место на столе. Как только он налил всем чаю, самовар удовлетворенно пискнул в последний раз и умолк, словно живое, понятливое существо… Василий Дмитриевич подвинул Гале вазу с вареньем.
— Отведайте, сам варил, — ставя варенье и перед Штихелем, сказал он. Тот скользнул взглядом по графину с вином и положил варенья.
— А вот наливка смородиновая, — Василий Дмитриевич взял графин, и Штихель под столом удовлетворенно потер руки.
Наливка была сладка и тоже смахивала на варенье.
За чаем повели разговор о Чехове, о том, что он был истинным другом сельских педагогов.
— Вы помните, он сказал: «Если бы вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель!» Общеизвестно, — продолжал Девятов. — До революции педагоги влачили неописуемо жалкое существование. Теперь другое дело — нас десятки, нет, сотни тысяч! Мы окончили институты, университеты. Нам не надо бояться, что мы потеряем место, что явится с обыском исправник: нет ли запрещенных книг Маркса, Чернышевского, Герцена, что дети не придут в школу из-за отсутствия обуви, одежды. Все — в прошлом. У нас великолепные школы, замечательные дети. Если бы в наши школы мог заглянуть Антон Павлович, как бы он был поражен! И все же, если говорить начистоту, бытие сельского учителя не лишено теневых сторон.
— Каких? — спросила Галя.
— Это не какие-то неразрешимые проблемы, нет. Но они мешают… Возьмем, к примеру, неустроенность быта. Она мешает подняться над будничностью, повседневной обыденностью, препятствует гармоничному развитию личности сельского педагога.
Девятов отпил чаю из чашки. Штихель, разомлев от чая с малиной, наливки и домашнего тепла, откинулся на спинку стула, приготовившись слушать нечто более пространное. Галя выжидала,
— Ну вот, допустим, — продолжал Девятов. — Приехала на село молоденькая учительша. Только из института. По моде одетая, изящная, она вся еще во власти большого города, в ее хорошенькой головке бродят романтические планы, мечты насчет перестройки преподавания, участия в культурной жизни деревни. Она не довольствуется принципами и методами Песталоцци и Ушинского, ей хочется привнести в педагогику нечто свое. И действительно она сначала привносит в школу нечто новаторское. Учит детей радостно и одухотворенно. Дети чувствуют это и любят ее.
Но так продолжается недолго. Вышла учительница замуж, за местного жениха, пошли у них дети, построили или купили дом, обзавелись домашним скотом, птицей. Без этого ведь на селе не обойтись. И чтобы вести хозяйство, нужны время и силы. Надо детей обстирать, накормить, обуть, одеть, скот обиходить, огород посадить, ухаживать за ним. Вес это поглощает без остатка свободное время, которого и так в обрез. Днем в школе, вечером — дома. Едва успевает проверить тетради да подготовиться к завтрашним урокам. Все меньше у нее времени для чтения книг, самообразования. Даже в кино не всегда выберется… Стала наша учительница такой же обыкновенной деревенской хозяйкой, как и другие, с той только разницей, что профессия у нее интеллектуальная. Но у нее уже нет времени для раздумий, для поисков того, о чем мечтала раньше. Она ведет уроки по привычной педагогической схеме, заботясь лишь о дисциплине учеников да о пресловутом проценте успеваемости. А где былое изящество, манеры? Тут уж не до моды, не до изящества…
Девятов умолк и посмотрел на собеседников, пытаясь понять, какое на них произвел впечатление. Галя подумала: «Неужели и меня бы ожидала такая перспектива — выйти замуж, нарожать детей, доить корову, копать огород?»
— Вы нарисовали грустную картину, — сказал Штихель. — Но я знаю примеры, когда учителя, живя на селе и занимаясь хозяйством, не утратили своей обаятельности, их живо интересует все новое в педагогике, они ведут в местных клубах кружки, беседуют с родителями школьников. Детей они учат, поверьте, не хуже, чем любой педагог в самой образцовой городской школе. По-моему, быть такими прекрасными учителями и передовыми людьми могут все. А дом и личное хозяйство нисколько не помешают, наоборот, свидетельствуют лишь о трудолюбии.
— Вы так думаете? — Девятов опрокинул чашку на блюдечко. — Но этого все же мало. Хотелось бы в сельских учителях видеть людей высокой культуры. Вот вы часто бываете в деревнях. Видели когда-нибудь в доме педагога пианино, скрипку? Слышали вечером в раскрытые окна мелодии Брамса, Шопена, Шуберта, Чайковского? Нет, вероятно, не слышали. Теперь музыкальная культура унифицирована магнитофонами, телевизорами, радиолами. Слушать музыку — одно, а исполнять — совсем другое. Да у нас вон в клубе стоит пылится пианино. Никто — ни учитель, ни агроном, ни другой сельский интеллигент — играть не умеет.
— Вы хотели бы видеть всех своих коллег музыкантами? — спросил Штихель.
— Не обязательно. Это лишь пример из одной сферы. Я вовсе не хочу унизить учителя, боже сохрани! Я хотел бы видеть своего собрата свободным от всего, что мешает в работе, самосовершенствовании и отбирает у него силы, которые бы он мог обратить на общую пользу. Надо, чтобы заботу об учителе взял на себя целиком колхоз, совхоз. Пусть они обеспечат его жильем, питанием, дровами на зиму и так далее. Пусть учитель отдается воспитанию детей и всего населения целиком. Пусть он несет людям любовь к образованию и разносторонней культуре. И для этого надо, чтобы сам он был на очень большой высоте.
— Допустим, так, — сказал Штихель. — Но вот вы, Василий Дмитриевич, имеете вы корову, детишек, которые бы отнимали у вас время? Нет? А как вы заботитесь о культуре населения?
Девятов несколько смешался, но ответил:
— Я… как вам сказать… Я веду в школе кружок цветоводства.
— Хорошо. А результаты? Что-то не видно в Петровке ни клумб, ни газонов. У клуба — пустырь, лужок. Травка растет: тимофеевка, дикий лук, пырей, пастушья сумка. И вполне самостоятельно, без участия человека — полевая ромашка, одуванчики, колокольчики и лютики.
Девятов посмотрел на улыбающуюся Галю, на Штихеля, иронически пошмыгивающего носом, и рассмеялся:
— Да… Вы правы. Действительно, колокольчики… и лютики…
— А за цветами все идут к вам.
— К кому же больше?
— Вы меня извините, дорогой Василий Дмитриевич. Может быть, это с моей стороны и несколько бестактно, но уж на правах вашего старого знакомого хочу заметить: вам не удалось избежать одного грешка пенсионеров, людей заслуженных, ветеранов, очень уважаемых…
— Какого грешка? — насторожился Девятов.
— Страсти к морализированию. Некоей воркотне, что на вашем диалекте именуется критикой недостатков. Критика — критикой, но ведь надо и самим что-то делать, не только поучать. Не так ли?
— Может, вы и правы, — несколько обиделся Девятов. — Пожалуй, правы. Да! Я прочту в клубе несколько лекций о цветоводстве, раздам семена и прослежу, чтобы их посадили и непременно вырастили цветы.
— Очень похвально, Василий Дмитриевич. И у вас, наверное, есть сбережения — купили бы себе пианино. Играли бы по вечерам Брамса и Чайковского. Впрочем, оно есть — в клубе. Играйте там. Дайте хотя бы один концерт. Сольный.
— Я не знаю нот. И к тому же напрочь лишен музыкального слуха.
— Ага! — встрепенулся Штихель. — Почему вы тогда требуете от других, чтобы они услаждали слух петровчан музыкой?
— Штихель, хватит издеваться, — сказала Галя. — В принципе Василий Дмитриевич прав.
— Пусть будет так, — легко согласился Щтихель. — Но в деталях — каждому свое. Одному — музыка, другому — цветы, третьему — живопись. А все вместе — прекрасно.
— Прекрасно, когда все это передается другим. Вот о чем разговор! — нравоучительно заметил Девятов и посмотрел на Галю: — Скажите, я прав?
— Совершенно правы, — согласилась та.
Галя посмотрела на Александра. Он задумчиво пускал тоненькие колечки сигаретного дыма и смотрел куда-то вверх, в угол комнаты…
* * *
На улице было прохладно и тихо. В избах еще кое-где светились окна. Не очень далеко, на задворках, заливался пес, которого, видимо, не пускали в дом. Он то лаял, то выл протяжно и обиженно скулил.
— Художественно воет. Артист! — заметил Штихель. Пес как будто ждал этой похвалы и, дождавшись, замолк.
Над горизонтом стояли диковинные ночные облака. Величественные, нагроможденные друг на друга, с кучевыми шапками, они были окрашены поздней зарей в блеклые тона и светились словно бы нездешним, космическим светом.
— А знаете что, — оживился Штихель. — Есть не очень далеко от Петровки деревня Лебяжка. Места там живописнейшие! Не махнуть ли нам туда? Завтра воскресенье, в понедельник бы вернулись обратно.
— Мне о Лебяжке рассказывали, — отозвалась Галя. — И я подумывала о том, чтобы побывать там. А дорогу вы знаете?
— Все прямо и все лесом. Вы не боитесь?
— Чего же бояться?
— Лесом идти, да еще со мной?
— Вас я не боюсь. Боюсь леса.
— Со мной не пропадете. Ждите меня утром.
12
Штихель рано постучал в Галино оконце. Она выглянула на улицу, блеснули за стеклами ее белые плечи, по которым струились распущенные волосы. «Сейчас», — сказала она и задернула занавеску. По скрипучим половицам прошла на кухню, тихонько умылась, стараясь не потревожить хозяйку. Но Поликсенья была уже на ногах. Она принесла с улицы березовых дров.
— Куда ж вы такую рань?
— В Лебяжку собралась, — Галя перед зеркалом старательно прибирала волосы в узел, всовывая в него шпильки.
— Одна?
— С товарищем.
— Выпейте на дорогу молока.
…По холодку шагалось легко. Деревья, кусты, трава — все было мокрым от росы. Она осыпалась горохом. Скоро чулки у Гали намокли, и Штихель посоветовал их снять, Галя села на пенек, разулась. Голым икрам сначала было зябко, но потом ноги разогрелись в ходьбе, и стало даже приятно.
— Расскажите что-нибудь, — попросила она. — Хотя бы о своей профессии. Я о ней не имею ясного представления.
Штихель свернул и перекинул через плечо плащ.
— Езжу по районам, смотрю, как люди живут, потом возвращаюсь и отписываюсь…
— Отписываетесь? Что за термин? Даже звучит как-то неблагозвучно.
— Сотрудник, вернувшийся из командировки, обязан быстро сдать материал, то есть отписаться.
— И все? Но ведь ваша работа творческая? У вас бывают неудачи или трудности?
— Как и во всякой другой работе.
— Например?
— Ну, например… Вот позавчера я встретился с комбайнером Трофимовым. Это — лучший комбайнер совхоза и, как мне сказали, личность интересная. Прихожу в поле. Он остановил комбайн, пригласил меня на площадку. Я взобрался, стою. Он знай крутит штурвал да вперед посматривает. Ну, я тоже смотрю: агрегат стрижет хедером хлеб, грохочет молотилка, помощник комбайнера на копнителе солому сбрасывает. Через каждые полчаса остановка: приходит машина, забирает из бункера зерно. Я пытаюсь заговорить с Трофимовым, что да как. А он все молчит. Только вежливо кивает. Потом наконец сказал: «Вот, товарищ корреспондент, сделаем перерыв на обед, тогда все и обговорим».
Сделали перерыв, поели, закурили. Ну, думаю, теперь самое время потолковать. Стараюсь исподволь завязать беседу. Он встает и говорит: «Поели, передохнули малость — пора и за дело!» И опять на площадку. Заводит мотор, кричит: «Вы, товарищ корреспондент, смотрите, тут все видно, вся работа. Наблюдайте, значит!»
Так мы и проездили весь день. Вечером он поставил комбайн на меже: «Пойдемте теперь в деревню, отужинаем, отдохнем до утра».
Ну, думаю, уж вечером, дома-то я его расколю! Не тут-то было. Угостил отменным ужином, горницу для ночлега отвел, а о себе — ни слова. Все «да» да «нет».
— Бывают же такие неразговорчивые люди! — посочувствовала Галина.
— Вот именно. Не любят популярности. И еще думают: напишут, мол, расхвалят, а потом какая-нибудь неудача, люди скажут: «Гляди-ка, хваленый-то Трофимов как подкачал!»
Но есть и другие. Словоохотливы, выложат все, как на исповеди. Говорит, так прямо-таки чувствуешь: товарищ привык к интервью, так и чешет, опережая твои вопросы. Блокнот весь испишешь. А сядешь за очерк — не получается. Наблюдения оказались поверхностными. Самые главные черточки характера остались «за кадром». Опять неудача…
Бывают счастливые, редкие случаи, когда удается без наводящих вопросов вызвать человека на откровенность. Совершенно случайно, в необычных, неофициальных обстоятельствах: в гостинице, в пути, на перевозе, на речном теплоходе. Беседуя без наперед заданной цели. Человек раскрывается, как лилия на озерной глади — во всей красе… Тогда и рождаются хорошие очерки — мечта журналиста.
Они сделали на поляне привал, поели. Галина, сняв туфли, обнаружила мозоли на пятках. Пятки горели. Однако она ничего об этом не сказала и подобрала ноги под себя. «Ничего себе путешествие! Идти еще далеко…»
Штихель во весь рост растянулся на траве, заложив руки за голову, стал глядеть в небо. Верхушки сосен, окружавших поляну, качались от ветра. Казалось, они подметали облака. Александр опять начал разговор, и она почувствовала в его словах новую интонацию:
— Я вот путешествую по деревням, и, представьте, иногда приходит на память Блок, мой тезка, ваш кумир:
…Мне избы серые твои,
твои мне песни ветровые,
как слезы первые любви.
Да, твои мне песни ветровые… Как верно сказано, и с каким высоким чувством! Вам приходилось слышать такие песни? Нет? Так вот, представьте позднее лето. Где-нибудь в конце августа. Пустые поля, серые, холодные облака над ними, которые не льют, а только изредка неохотно сеют мелкий дождь. И перед тобой, возле битого копытами проселка, — наша северная деревенька в десяток-другой изб. Какая-нибудь удаленная колхозная бригада. Подходишь к ней, останавливаешься у крайней избы. Никого не видно. Только добродушная собачонка суетится, вертится вокруг себя, вылавливая блох… И лаять ей лень. Свистит ветер, и у стены пожелтевшие сухие травы шелестят. И какой-нибудь кусочек отставшей коры на прясле сухо трепещет и щелкает. И кругом простор, свобода…
И смешанные чувства овладевают тобой: грусть, одиночество и что-то знакомое, родное, волнующее.
А потом идешь полем в другую деревеньку, и опять в ушах поет ветер и сухие былинки треплет, и облака все бегут, бегут вдаль, надув свои латаные паруса…
Вот так и я слушаю иногда ветровые песни. В облике наших деревень — больших, людных, и маленьких, почти пустых, всегда живет что-то исконно русское, грустное и радостное. Грустное, вероятно, от одиночества, от того, что затеряны деревеньки в лесах, в полях, в глубине России, и радостное — от вечного ощущения красоты природы, ее чудодейственной, целительной силы. — Штихель перевернулся на живот, подпер подбородок кулаком. — Города нынче разрослись, понахватались цивилизации и культуры. Но и в деревне есть своя притягательная сила. Богатые ли, бедные ли деревеньки всегда имеют околицу, росстань… Окраину. А ветровые песни надо слушать только у околиц. Стоять, опершись о прясло, и слушать.
Галя долго молчала. Наконец она вздохнула и посмотрела на спутника благодарно и просветленно:
— Это вы очень хорошо сказали: ветровые песни надо слушать у околицы…
Штихелю захотелось протянуть руку, погладить ее волосы, щеки, приласкать. Но он удержался, сел, скрестив ноги, как дервиш. Он заметил, что у Гали из золотого клубка волос выскользнула шпилька. Он пошарил в траве, подобрал ее и осторожно воткнул обратно. Волосы девушки казались теплыми, живыми. Взгляды их встретились. Галя смежила веки, раскрыла их, и синева под ними стала холодноватой. Она быстро встала:
— Идемте, идемте скорее в эту Лебяжку! Там — ветровые песни, да?
— Да.
13
И они их услышали. На самой окраине, у маленькой старой избы с косящатыми оконцами. Была серая от непогод косая изгородь, и отставший кусочек коры, и метелки трав… Травы клонились под ветром, осыпая сухие семена, а язычок коры сухо трепетал, как стрекозиное крыло.
Лебяжка представляла собой небольшую деревеньку в десятка полтора домов, сбегавших по склону холма к озеру. С другой стороны озеро обступал полукругом дремучий ельник. Посреди озера был остров, чистый, гладкий и весь зелёный. На острове стояли стога сена, похожие на шеломы древних витязей.
— Красивые места, — сказала Галя.
Штихель посмотрел на нее как-то странно и улыбнулся сдержанно уголками губ.
У избенки маленькая старушка в полинявшем ситцевом платке проворно и чуть суетливо развешивала белье на жерди, укрепленной на высоте роста вдоль стены, как это водилось на Севере, где взять жердь легче, чем достать моток веревки.
— Здравствуйте, бабушка! — громко приветствовал ее Штихель.
— Здравствуйте-ко, — обернулась старушка.
— Нам бы потолковать с вами.
— Сейчас, — она расправила белье, вытерла влажные руки о фартук и подошла к ним: — А вы откуда?
— Из Петровки пришли.
Бабка махнула рукой:
— В Петровке таких нету. Знаю там всех. Вижу — нездешние.
— Приезжие, из области, — уточнила Галя.
Старушка вежливо кивнула:
— Из области? Так, так. За иконами аль за прялками?
— Да нет, просто так. Хотим познакомиться с Лебяжкой.
— Места тут у вас красивые, — Штихель говорил погромче, думая, что бабка плохо слышит.
— Местность-то красивая, верно. Только говори потише, не шибко кричи, я ведь не глухая. А икон у нас нету и прялок нету. У соседки Федосьи валялась одна на повети, дак приходил такой, вроде вас, только с бородой, да и унес. Федосье три рубля дал. Та чаю и сахару накупила и меня позвала чаевничать.
Старушка настороженно умолкла. Галя поинтересовалась:
— А что тут есть, бабуся? Магазин есть?
— Есть магазин, как не быть. И школа есть, и клуб.
— Чем торгуют в магазине?
— Дак он закрыт, магазин-то. Совсем заколочен.
— Почему?
— Мало покупателей, невыгодно продавца держать.
— А как же вас снабжают?
— Продукты раз в неделю привозят из Петровки. Хлеб, чай, сахар и еще кое-что. Иной раз автолавка придет, как дорога позволяет, а дорога не позволяет, дак и на лошадке привезут.
— Только раз в неделю?
— Только. На всю неделю и запасаемся. Да ты не удивляйся, золота голова, жителей-то всего ничего. Пересчитать по пальцам, дак одной руки хватит. И все старые, вроде меня.
— А школа?
— Школа закрыта. Детей-то нету. Мы уж давно отрожали, — старушка усмехнулась, поправила платок. — У нас внуки-то в городах живут. А здесь кого учить?
— Странно, — Галя посмотрела на Штихеля. Он опять улыбнулся сдержанно, и вид у него был скучный. — А клуб? — обратилась она к бабке.
— Клуб-то не совсем заколочен. Каждый месяц кино показывают. Уважили нас, старух. Мы ведь письмо в район писали, дак там распорядились нас обслуживать. В Петровку-то далеко идти, а ноги у нас худые. Передвижку привозит сам Чижов, катит фильму. Спасибо ему, хороший парень.
Галя теперь поняла, что Лебяжка оказалась вовсе не такой, какой она ее себе представляла. Услышав похвалу старушки по адресу Чижова, она подумала, что он тут вовсе не бездельничает.
Прошли в избу, выпили холодной водицы, посидели.
Старушка — звали ее Людмилой Осиповной, спросила, будут ли они ночевать. Сказали, что переночуют.
— Сейчас самовар поставлю, — сказала Людмила Осиповна. — Молоком бы угостить, да нету. Корову мне держать не по силам.
— Не беспокойтесь, — сказала Галя. — Самовар после. Мы пройдемся по улице. Тут, говорят, есть гора, с которой видно много озер?
— Гора-то есть, тут за деревней, недалеко. Вас бы проводить туда, да я не могу по горам-то… Вот Татьяна Авдеева бы проводила. Она тут у нас самая молодая, на ногу резвая. Ее изба сразу за магазином. Курортники-то сами лазят на гору. Знают, как идти. Многие тут выросли…
— Какие курортники? — спросила Галя.
— Ну те, кто летом по выходным дням из лесопункта да из Василькова приезжают отдохнуть, в озере рыбки половить. Они все с собой привозят — и вино, и закуску. Кто побогаче — те на «Жигулях», а победней — на «Запорожцах». Они и седня там у озера. Целый табор. Как цыгане бывалошние. Поглядите-ко с угора — все видно. Растелешатся, позагорают на солнышке — и в воду, как бобрята. А потом закусывают. Бывает, песни поют, а мы слушаем. Они почти все местные, только живут теперь в городском образе…
Галя уже перестала удивляться и только потихоньку вздыхала, скрывая от бабки свое разочарование.
— Скучновато вам тут жить? — поинтересовалась она.
— А что поделать? Я дак тут родилась, тут и умру. Меня дочь в город зовет, а я не желаю. В городской квартире душно. Как приеду туда — так и захвораю. Здесь у нас воздух лечит! Только жаль, что люди из Лебяжки разъехались. Земля-то скучает! Скучает землица. Кругом такие были поля, такие поля! Не только рожь, а и пшеничка озимая росла. А потом опустела деревня. И сеять тут перестали. Разве только овес с викой или горохом на корм скоту высевают. И причину выставили: поля-то маленькие, тракторами неловко пахать. Прежде лошадьми обрабатывали, а теперь — где они? И потому скучает земля. Лесом зарастает. Сенокосы, правда, еще есть на чищеницах. Сюда бригада косарей из Петровки приезжает каждое лето, ставит стога на острове. Вывозят зимой сено тракторной волокушей.
Штихель подал голос:
— Ну вот, Галина Антоновна, вам теперь понятно кое-что о судьбе Лебяжки?
Галя сказала:
— Кое-что понятно…
— Именно кое-что. Скоро, Галина Петровна, оживут Лебяжки. Не будет и не должно быть неперспективных деревень.
Они вышли на улицу, миновав магазин, закрытый на висячий замок, остановились в проулке. Он спускался вниз, к покрытому рябью озеру. Неподалеку от берега стояли два легковых автомобиля. На траве расположилась пестрая группа людей. Кое-кто из них купался.
— Отдыхают. Выходной день, — сказала Галя. — Это и есть те самые курортники?
— Видимо, — ответил Штихель.
Сухонькая, скорая на ногу Татьяна Авдеева шла быстро и легко. Ее цветистая косынка так и мелькала среди кустов. Галя едва поспевала за ней. «Сколько же ей лет? — думала она. — Пятьдесят? Шестьдесят?» Она спросила Авдееву о возрасте. Та ответила:
— Семьдесят два.
«Ничего себе! — удивилась Галя. — В таком возрасте и так бегать!»
Штихель солдатским шагом шел позади. Тропинка нырнула вниз, под ногами зачавкала болотная влага. Выбрались на сухое место и стали преодолевать крутой подъем, цепляясь за ветки, за сучья. Тропы тут не было, только местами попадались голые, глинистые, закаменевшие на солнце проплешины.
— Теперь уж близко! — кричала сверху Авдеева.
Галя боялась оглянуться, у нее, наверное, закружилась бы голова от высоты. Выбрались на отлогий лужок. Тут оказались полуистлевшие деревянные ступеньки. По ним поднялись еще выше, на макушку Лебяжьей горы.
И вот перед ними небольшая деревянная церквушка с колокольней. Тускловато блестел лемехом купол. На колокольне, на перекладине, был подвешен почерневший от времени небольшой колокол.
Галя с замиранием сердца осмотрелась: вокруг, сколько хватало взгляда, дымчато синели леса, а среди них голубые, сверкающие на солнце пятнышки озер разной формы — круглые, как блюдечки, овальные, прямоугольные. Много озер… Леса уходили к горизонту, и небо там, возле него, светилось золотистым светом. За горизонт уплывали облака, постепенно мельчая и превращаясь в серые пятна.
Штихель щелкал затвором фотоаппарата. Галя по пальцам пыталась сосчитать озера.
— Двадцать шесть озер! — сказала она.
— Больше, — поправила Авдеева, вытирая косынкой потное лицо. Она устала, дышала часто и глубоко. — Тридцать два озера… Видите, там, наверху, колокол? Он долго служил людям. Прежде, если кто-нибудь заблудится в лесу, то посылали сюда звонить. На звон и выходили из леса…
По шатким, скрипучим ступенькам они осторожно взобрались на колокольню. На площадке ее, выметенной ветрами, было сухо и чисто. Половицы — плахи окрепли, как кость. Штихель взялся за веревку, чуть качнул язык колокола, и бронза загудела протяжно и басисто.
Внизу, словно игрушечная, лепилась близ берега озера Лебяжка. «Курортники» отсюда казались маленькими жучками.
— Почему гора называется Лебяжьей? — спросила Галя у Авдеевой.
— Рассказывали мне в детстве такое, — ответила Татьяна. — Что вроде бы залетели сюда два лебедя. Одного убил охотник из озорства, а другой каждую весну прилетал и все кричал, звал товарища… Лебедей в наших местах много водится на озерах.
— Сколько же лет этой церквушке? — спросил Штихель.
— Наверное, лет двести или больше. У нас на Севере деревянные церкви стоят и триста лет, и ничего им не делается. Бревна сюда доставляли на лошадях по северному отлогому склону. А строили наши лебяжские мужики.
Помолчали. Налетел ветер, засвистел в стропилах, и колокол отозвался еле слышным гулом. Будто этот гул — приглушенный, тревожный, донесся из глубины веков, из поры младенчества Русской земли.
Ветер утих, колокол замолк. Галя подошла к нему и осторожно потянула за веревку. Раздался певучий бронзовый гул. Она еще раз ударила в колокол, сильнее, и он отозвался протяжным звоном, который поплыл волнами над лесом, над озерами, нарушив дремотную тишину ясного летнего дня…
На повети от крыши, нагретой солнцем за день, струилось мягкое тепло, пахло сеном и вениками. Сено лежало небольшим ворохом на полу, веники, связанные попарно, висели на жерди от стены до стены.
— Порознь спать будете или вместе? Стелить-то как? — спросила хозяйка.
— Порознь, бабушка, — ответила Галя и смутилась.
Людмила Осиповна ушла в избу за одежками. Сделав постели — по одну сторону сенного вороха Гале, по другую — Штихелю, она пожелала:
— Ну, спите с богом. Приятных вам снов.
Штихель лег на спину, не раздеваясь, накинув на грудь ватник, принесенный хозяйкой. Он только снял сапоги, чтобы дать отдых ногам. Галя долго ворочалась по ту сторону сенного вороха, хлопала ладонью по подушке, шебаршила сеном и наконец угомонилась, вздохнув глубоко и облегченно.
— Покойной ночи, — сказала она. — Вы еще не спите?
— Пока нет. Спокойной ночи, — ответил Александр.
Ему не спалось. Близкое соседство Гали волновало его. Он осторожно вздохнул и полез было в карман за сигаретами, но воздержался от курения — рядом было сухое сено… Ему ничего не оставалось, как закрыть глаза и попытаться уснуть.
Галя лежала, широко открыв глаза в темноту. Что-то волновало ее. А что? Может быть, непривычный запах свежего сена, от которого кружится голова? Крик поздней птицы? Шепот березовых листьев за оконцем в срубе? Ночная ветровая песня?
14
В понедельник утром к Чижову пришла сторожиха и сказала, что его просил срочно позвонить Антрушев. Чижов выпил кринку молока, принес в кухню дров и только тогда отправился на работу. Он не любил торопиться, был осмотрителен и несуетлив: «Работа никуда не уйдет. Все, что надо, сделаем своевременно». Спокойствию и уравновешенности завклубом иной раз даже завидовал несколько нервозный Кутобаев, а директор совхоза подтрунивал: «Не успеешь и сапог износить, Чижов сделает все, как надо».
Нельзя сказать, чтобы от этой медлительности Владислава страдали дела: в клубе всегда был порядок, показывали вовремя кино, шли танцы, работали разные кружки. Владислав сам был режиссером драматического кружка, не забывал уроков, полученных в областной культпросветшколе.
Однако он делал ровно столько, чтобы петровчане могли сносно проводить досуг, а начальство не было в претензии. Порой его неудержимо тянуло на озеро с ружьем, и он, оставив клуб на попечение Вали Ниточкиной, пропадал там с ружьем и спиннингом целые дни. За это его слегка журили, но Чижов отделывался шутками и умел ладить с совхозным начальством.
Он связался по телефону с Антрушевым и на его традиционные вопросы сообщил, что в Петровке проведено собрание лекторской группы с участием Ишимовой и при клубе теперь будет работать постоянно действующий лекторий.
— Хорошо, — похвалил Антрушев. — Только смотри, чтобы этот лекторий не был постоянно бездействующим! Готовься к отчету. Через месяц пригласим для обмена опытом. А Ишимова где? В Васильково не собирается?
— Вчера потопала в Лебяжку со Штихелем. Старину смотреть. Сегодня обещала вернуться.
— Старину? Со Штихелем? Гм… Ты позвони, когда она соберется в райцентр. Ну, действуй, информируй! Пока…
«Вот деятель, все ему надо действовать», — усмехнулся Чижов и пошел в читальню.
Там никого не было. В широкие окна заглядывало солнце, его лучи сочными мазками ложились на свежевымытый пол. На столе раскинут исписанный плакатными перьями лист полуватмана. «Валентина-таки поработала вчера. Молодчина!» — одобрил он старания библиотекаря.
Это был план лектория на квартал. Владислав вспомнил, как вчера Журавлев с неприступно строгим видом велел его вывесить в понедельник на самом видном месте.
Галя вернулась в Петровку, заглянула в клуб и, увидев план, вывешенный в фойе, одобрительно сказала:
— Дела идут на лад. Лед тронулся!
— Десятого и двадцатого числа каждого месяца — лекционные дни, — уверенным тоном обнадежил ее Чижов. — А где Штихель?
— Он уехал в колхоз «Красный партизан». Мы расстались на большаке… У околицы, — вспомнила Галя нужное слово и улыбнулась. — Он проголосовал встречному грузовику и уехал.
— Понравилось вам в Лебяжке?
— Да, хорошо там. Природа чудесная. Только в ней пусто. Люди не живут, одни старушки.
Чижов снисходительно улыбнулся и сказал:
— Старушки тоже люди. Мы теперь ориентируемся на единый хозяйственный и культурно-бытовой центр здесь, в Петровке. Прежней разбросанности карликовых деревень надо положить конец. Лебяжка — это уже прошлое.
— Вы сказали нечто новое для меня, — отозвалась Галя.
— Приезжайте к нам почаще, увидите, как все переменится.
— Хорошо. Постараюсь.
Видя, что Ишимова собралась уезжать в Васильково, Чижов стал к ней подчеркнуто внимателен. Сводил в столовку, накормил на дорогу обедом, организовал машину и тепло попрощался с референтом.
…Опять дорога полями, перелесками, дремучим бором. В Грязях грузовик, в кабине которого ехала Галя, конечно, забуксовал, и шофер, чертыхаясь вполголоса, чтобы не расслышала пассажирка, рубил топором еловый лапник, собирал чурки, доски, выбитые из колеи предыдущими машинами, совал все это под скаты. Потом садился за руль, отчаянно газовал и все же выбрался из топкого места. Водитель на этот раз попался молчаливый, он только крутил баранку, изредка курил и что-то бормотал себе под нос.
Отдохнув с дороги в гостинице, Галя оставшееся время посвятила встречам с районными работниками, прочла лекцию в Доме культуры и собралась ехать домой.
Поезд должен прибыть через полчаса. На маленькой станции Сергунино, на перроне, в его ожидании скучали редкие пассажиры. На лужайке перед вокзалом бродили куры, опекаемые большим белым петухом с роскошным малиновым гребнем. Петух ходил возле них бочком, косил на кур настороженным круглым глазом, время от времени мощно взмахивал крыльями и кричал свое «ку-ка-ре-ку». В окно служебного помещения было видно, как возле своих аппаратов сидел дежурный по станции. Два рабочих-железнодорожника в брезентовых робах и желтых жилетах курили на скамейке и сетовали меж собой на плохой урожай грибов нынешним летом.
Галя пошла вдоль путей к полосатому шлагбауму у переезда, чтобы скоротать время.
Солнце спряталось, его прихватило краем надвинувшееся облако. Галя посмотрела в небо и ощутила на лице капли дождя. Побежал ветер, дождик усилился, его косые нитки секли листья ольхи под насыпью, и они вздрагивали от ударов. Галя хотела повернуть к станции и там спрятаться от дождя. Но он тотчас убежал дальше. Теперь на болотистом лугу за железнодорожным полотном ветер тормошил кусты, и мутная сетка дождя явственно различалась там. Галя утерла лицо платком и ощутила тепло на плечах. Луч солнца внезапно ослепил ее, оно как бы выскочило из тучи, будто живое. В небе вспыхнула радуга, охватившая большой аркой заболоченный луг с кустами и дальний ельник. Радуга сияла всеми цветами, словно прочерченная тонкой кистью ловкого художника, она вслед за косым дождем плыла над путями, над лугом, над перелесками.
Галя полюбовалась радугой и пошла к станции навстречу приближающемуся поезду.
1970–1980