
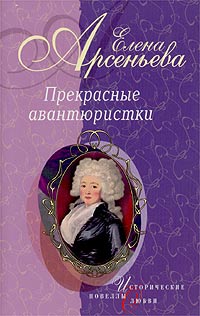
Елена Арсеньева
Мимолетное сияние
(Марина Мнишек)
За дверью громко затопали.
Кучка тряпья, валявшаяся в дальнем углу на перепревшей соломе, пошевелилась. Оказалось, это женщина – такая маленькая и худенькая, что ее можно было принять за девочку-подростка. Волосы ее были спутаны и небрежно заплетены в косу, серые глаза окружены темными тенями. Губы потрескались и воспалились.
Она с усилием отвернулась к стене.
Вошли стражники. Один из них поглядел на засохший, нетронутый ломоть хлеба, валявшийся в углу, и покачал головой. Другой ухмыльнулся.
– Изволь откушать, матушка-царица! Неужто яствой нашею брезгаешь? Ой, не гнушайся! Не то с личика спадешь, румянец поблекнет! – сказал он со сладкой издевкой. – Скоро так иссохнешь, что тебя среди соломы не различишь!
И ну хохотать…
Женщина не шевельнулась.
– Эй, да она не померла ли? – озаботился первый стражник. Он подошел к лежащей и пошевелил носком, словно ворох соломы. – Живая еще! – воскликнул удивленно. – А я уж думал – все! Эй, царица, слышь, скоро ли камору освободишь?
Она молчала. Стражники еще погомонили, но наконец-то ушли.
Женщина медленно повернулась, нашарила рядом с собой глиняную корчагу и глотнула застоявшейся воды. Покосилась на ломоть черствого хлеба, валявшийся в соломе. Это есть она не смогла бы, даже если бы умирала с голоду. Но хоть узница маковой росинки в рот не брала уже который день, голода она не чувствовала. Она не чувствовала вообще ничего: ни горя, ни страха, ни отчаяния.
«Скоро ли освобожу камору? Скоро, недолго ждать. Может, даже завтра!»
Кое-как нашла силы встать, шатаясь, добраться до окошка, взяться за решетку истончившимися, грязными пальцами, похожими на сухие веточки.
Там, за решеткой, было голубое небо – без конца и края, там был вольный ветер и сумятица белых облаков, там пахло сладким березовым духом, парила разогретая солнцем земля… Ах, как жарок, как светел и ясен выдался июнь 1614 года – последнего года жизни русской царицы Марины Мнишек!
* * *
…Когда она смотрелась в зеркало, то совершенно не нравилась себе. И чуть не плакала, когда любимая фрейлина, гофмейстерина, наперсница Барбара Казановская, не раз бормотала жалостливо, щуря яркие карие глаза:
– Ах, моя девочка, нельзя так клевать, как птичка! Дунь ветер – вас и унесет. Надобно кушать побольше, чтобы понабрать тела. Ну ведь ничего, ни-че-го-шеньки нет у вас, моя ясная пани, ни здесь, ни здесь! – Барбара показывала на ее грудь и бедра и сокрушенно качала головой.
Сама она была обладательницей весьма пышных форм и не сомневалась, что лучшая женщина – это женщина в теле! Еще хвала Иисусу, что нынче дамы носят корсеты и пышные юбки, которые способны создать отменную фигуру даже у такой сухореброй хворостины, как Марианна. Кроме того, у нее нос длинноват, губы тонкие. Брови, правда, хороши…
Отец Марианны[1], пан Юрий Мнишек, воевода сандомирский, тоже не понимал, хоть убейте, за что его дочку считают признанной чаровницей. За что влюбляются в нее глупые паны шляхтичи и даже стреляют друг в дружку на дуэлях?.. А ведь сам король Сигизмунд недавно предлагал панне Марианне сделаться его любовницей. И эта заносчивая краля отказала!
Конечно, она отказала. Королевская постель ее не влекла. Вот если бы Сигизмунд предложил ей трон! Но король был уже женат…
Отчего-то Марианна с детства верила, что рождена для трона. Ну что ж, ведь родилась, можно сказать, у его подножия. Отец был любимцем прежнего короля, Станислава-Августа, потому что ретиво поставлял ему красоток на ложе. Да и новому сумел угодить, а заодно весьма туго набил мошну. Породниться с Мнишеком считали за честь многие самые знатные шляхтичи, а потому его младшая дочь Урсула сделала поистине блестящую партию: вышла за магната Константина Вишневецкого. А вот старшая, Марианна, все еще перебирала женихов! То одному откажет, то другому, словно и впрямь ждет принца-королевича, красавца зачарованного, о которых красно да сладко поют песнопевцы. Но ведь песни и сказки – это одна ложь! Неужто можно верить в чудеса? Пан Мнишек уже стал бояться, как бы привередливая дочка не засиделась в девках.
Постареет, поблекнет – ну куда ее потом девать? Придется отдавать за первого встречного, да еще спасибо скажешь, если кто посватается!
А посватался за Марианну… конюх.
Этот конюх прекрасную панну впервые увидал на псарне. Она приехала выбрать себе щенка из нового помета борзых, и Григорий (так звали этого русского бродягу, беглого монаха, поступившего в услужение к брагинскому кастеляну Адаму Вишневецкому, в гости к которому приехали его брат Константин с тестем, женой и ее сестрицей) потерял голову с одного взгляда.
Чтобы прелестная панна не испачкала в грязи свои крошечные ножки, Григорий бросил в грязь кунтуш, устилая ей путь, а потом забыл одеться – до того ошалел от любви. Очи Марианны словно бы отравили его. С этой минуты он хотел только ее, ее одну.
Погруженный в мечты о недостижимой красоте, он застудился под ноябрьским ветром и студеным дождем, слег в постель и написал в полубреду горячечное послание, которое украдкой бросил в окошко панны Марианны.
Уже само по себе удивительно, чтобы какой-то конюх да псарь (этот Гжегош, как кликали его поляки, не гнушался никакой работой) знал грамоту и писал весьма витиеватым слогом. Но то, что он писал, было и вовсе диковинно!
«Поверьте, прекрасная дама: тот несчастный, который до безумия любит вас, дал бы выпустить себе по капле всю кровь, чтобы подтвердить правдивость каждого своего слова. Вы взошли на тусклом небосклоне моей жизни, словно ослепительная звезда, любовь к вам окрылила меня. Благодаря вам я понял: настало время сознаться, открыть свое истинное имя. Довольно влачить жалкий жребий, навязанный мне убийцей моего отца и гонителем моей матери, пора смело взглянуть в глаза своей Судьбе, принять ее поцелуй – или тот губительный удар, который вновь низвергнет меня, ожившего мертвеца, в царство призраков, откуда я вышел ненадолго, поскольку тень отца моего меня воодушевила.
Знайте, панна Марианна: будь я тем, кем меня привыкли считать окружающие, то есть наемным хлопцем Гжегошем или беглым монахом Григорием Отрепьевым, я предпочел бы умереть от безответной любви к вам, но не осквернить ваш слух своим убожеством. Но обстоятельства моего происхождения позволяют обратиться к вам почти на равных, ибо я есть не кто иной, как младший сын царя Ивана Васильевича, прозванного Грозным, и его жены Марии Нагой. Имя мое Дмитрий Иванович, и если бы сложились обстоятельства в мою пользу, я воссел бы на российский трон и звался бы Дмитрием Первым…»[2]
Пронырливому Мнишеку и просвещенным Вишневецким было ведомо, что царевич Дмитрий, сосланный вместе с матерью своей, седьмой женой Грозного Марьей Нагой, в Углич, там и погиб еще в 1591 году, сам себя зарезав по нечаянности ножичком. Однако ходили упорные слухи, что зарезался он вовсе не сам, а Борис Годунов, бывший в ту пору истинным правителем России (даром что на троне сидел венчанный царь Федор Иванович, старший брат Дмитрия!), столь жутким образом обеспечил власть за собой.
Но вот поди ж ты! Царевич живой объявился!
Конечно, измыслить можно всякое. Однако в доказательство Гжегош предъявил крест из чистого золота, весь осыпанный алмазами, с изображением русского двуглавого орла в середине. Но даже не только и не столько этот крест заставил братьев Вишневецких, а потом и пана Мнишека поверить словам Григория, вернее, Дмитрия.
В каждом его слове, в повадке, во всей его натуре сквозило истинно царственное достоинство, даром что был собою хлопец неказист: росту среднего, даже невысокого, лицо круглое, волосы имели рыжеватый оттенок. Правда, очи редкостного темно-голубого цвета напоминали глубокое вечернее небо, и эти очи были самым приятным в его лице. Но сложения молодой человек был крепкого, и руки его отличались необычайной силой. Кроме того, он оказался хорошо образован, знал не только польский, но и латынь, а в удали превосходил многих родовитых шляхтичей. Не было равных ему в верховой езде и в умении стрелять в цель! И язык у него был подвешен чрезвычайно удачно. Во всяком случае, историю своего чудесного спасения из Углича, от подосланных Годуновым убийц, он излагал весьма складно. Право, сам Цицерон не мог быть более красноречивым!
– Царь Борис, посягая завладеть Московским царством, когда умрет его зять, царь Федор, тайно приказал убить меня, – рассказывал Дмитрий, вселяя трепет в сердца слушателей. – Но меня спасли верные люди. Предчувствуя, что у Бориса созреет злодейский замысел, они подменили меня другим ребенком. Меня увезли в боярскую семью, где я и воспитывался до поры до времени; потом, чтобы лучше охранить от Годунова, отправили в один монастырь, в другой; а когда пришел я в возраст, тяжко стало мне в Московской земле, и я ушел в Польшу и теперь принял твердое намерение возвратить с вашей помощью отеческое достояние. Хочу я сего не из честолюбия, а чтобы не торжествовало злодеяние. Многие бояре московские также желают этого, многие знают, что я жив, ожидают меня, ненавидят Бориса и готовы признать меня московским государем!
В самом деле, звучало сие красно и правдоподобно, вот поляки и поверили каждому слову. А те, кто не шибко верил, высказывались так: «Пусть это и неправда, но хорошо придумано!» – и выражали согласие попытать счастья и возвести-таки претендента на московский престол.
Пан Юрий теперь не помнил себя от восхищения. С ума сойти: его дочь, простая шляхтянка, будет замужем за русским царем! Перед этим великолепием меркла даже блестящая партия, сделанная Урсулой. Выходит, правильно делала Марианна, что отказывала женихам. Дождалась-таки своего часа!
Конечно, упустить такого зятя пан Мнишек никак не хотел. И он, и братья Вишневецкие наизнанку вывернулись, чтобы привлечь на сторону претендента и короля, и сейм, и церковь. Им удалось собрать в Самборе великое множество шляхтичей, привыкших проводить большую часть жизни на коне и в поле; им не привыкать было воевать, а если речь шла о войне с ненавистными москалями – за это многие и сами готовы были приплатить, несмотря на врожденную скупость и наследственную нищету. Однако тут выгорала и большая прибыль, обещанная царевичем Дмитрием. Служба каждого шляхтича, каждого наемника должна быть щедро вознаграждена, а уж какие выгоды получали его ближайшие сподвижники – Мнишеки, Вишневецкие и сам польский король, – от таких посулов Иван Грозный небось в гробу переворачивался, когда слышал, сколь просто сыночек готов расточить отцово достояние. И все это ради дочери сандомирского воеводы!
Но Мнишек понимал: Дмитрий будет тем больше жаждать Марианны, чем дольше она останется для него недоступной. В умении своей дочери удержать поклонника одними взглядами и улыбками Мнишек не сомневался. Ведь это была его дочь! Для нее главное – власть и богатство, а страдание от разбитого сердца – не для Марианны.
Именно поэтому отец красавицы водил царевича за нос как мог долго. Уже Дмитрий во главе польской армии покинул пределы Речи Посполитой. Уже к войску его примкнули русские полки и донские казаки. Уже народ, измученный тяготами Борисова правления, с надеждой обратил свои взоры на царевича, в котором многие с охотой признавали сына Грозного. Уже Дмитрий взял Москву, уже воссел на трон, с которого успел скатиться Бориска… то ли своей смертью он помер, то ли покончил с собой – бог весть, собаке собачья и смерть! Уже вся Россия присягала государю Дмитрию, а между тем Мнишек все еще не выпускал дочь из Польши.
И пан Юрий, и католические священники, которые благословили будущий брак, а также всю эскападу поляков на восток, понимали: Марианна, или, как называют ее русские, Марина, – практически единственное средство держать в руках Дмитрия. Воссев на престол и найдя единомышленников и преданных слуг во многих русских, он вполне может нарушить некоторые свои обещания. Например, насчет передачи Юрию Мнишеку Смоленского и Северского княжеств в потомственное владение, а также – доходов с близлежащих земель (лично панне Марианне полагался миллион польских злотых и Великий Новгород и Псков со всеми ближними землями и уделами); что касается заключения вечного союза между обоими государствами, свободного въезда иезуитов в Россию, строительства католических церквей, латинских школ и постепенного окатоличивания русских, а также помощи шведскому королю вернуть его престол, что касается… Да мало ли надавал обещаний этот синеглазый царевич в ослеплении любви и жажде власти!
Мнишек рад был бы вовсе не выпускать царскую невесту из Польши до тех пор, пока Дмитрий не выполнит всех своих посулов – и еще в придачу десятка других. Хороший был сделан ход – обручить Марианну с послом, дьяком Афанасием Власьевым, представлявшим московского государя. Теперь Дмитрий не смог бы отказаться от Марианны, даже если сонмы красавиц-москвитянок начнут досаждать ему своей любовью! А слухи такие ходили…
Марианна никогда не выдавала своих чувств. Однако только лучшая ее подруга Барбара Казановская знала, каким ударом было для нее узнать, что жених там, в Москве, взял к себе в постель Ксению Годунову – дочь свергнутого Бориса.
Если в Марианну влюблялись более из-за ее веселого нрава и непонятного очарования, то с Ксенией как раз все было очень понятно. Она была признанной русской красавицей: черные тяжелые косы, великолепные очи, союзные брови, тело, словно вылитое из сливок… Все видевшие ее единодушно утверждали, что не всякому человеку повезет лицезреть подобную совершенную красоту. Но правду говорят: не родись красивой, а родись счастливой! Один жених Ксении, швед Густав, оказался сущим вертопрахом и пьяницей; другой, датский королевич Иоганн, всем удался, да вот беда – помер, едва пожив в России две недельки… И теперь Ксения угодила на ложе губителя своего отца.
Однако очень странные вести доходили до Кракова, где в это время находились Мнишеки. Ксения якобы стала не просто наложницей, а постоянной любовницей Дмитрия! И меж русскими уже ходят слухи, что Ксения Годунова, пусть и дочь ненавистного Бориса, – все же меньшее зло в качестве жены царя, чем полька-еретичка, которая приведет на Русь иноземные свычаи и обычаи, а главное – латинскую веру…
«Пся крев! – испуганно подумал Юрий Мнишек, когда до него дошли сии опасные слухи. – Как бы не промахнуться! Придется-таки дочке ехать в эту варварскую Московию!»
Однако он все же сделал хорошую мину при плохой игре и отправил неверному зятю разгневанное послание. Нет, Мнишек, как истинный иезуит, достойный ученик учителей своих, не угрожал, не стращал Дмитрия. Однако новому русскому царю сразу стало понятно: отец Марины не просто рассержен. Он в ярости! И если Дмитрий не внемлет предупреждению, Мнишек посчитает, что он нарушает принятые меж ними соглашения, а значит, сам сочтет себя вправе нарушить главное свое слово: отпустить из Польши дочь.
Мнишек сделал верный ход! Одна мысль о том, что он, быть может, больше никогда не увидит Марину, заставляла дыхание Дмитрия пресечься.
Он и сам знал, что в его любви к Марине было нечто роковое, нечто пугающее его самого. Наваждение, может быть, бесовское наваждение, но… Она была его путеводной звездой, смыслом и венцом всех страданий, которые претерпел он в стремлении к престолу. Подобную роковую любовь чувствовал, наверное, Антоний к Клеопатре. Может быть, предвидел, что эта любовь погубит его, но не мог избавиться от нее.
Ксения была в тот же день отправлена в Кирилло-Белозерскую обитель, а там пострижена в монахини под именем Ольга. Такой жертвой Дмитрий дал знать Мнишеку, что по-прежнему ставит свое обручение с Мариной превыше всего на свете!
С другой стороны, теперь и вельможному пану-обманщику некуда было деться. И вот наконец-то в апреле 1606 года, через год после того, как претендент отвоевал наследственный престол и сделался русским царем, из Кракова выехал многочисленный поезд государевой невесты. Свита самого пана воеводы, конная и пешая, состояла из 445 человек и 411 лошадей. В свите Марианны был 251 человек и столько же лошадей. Почти все шляхтичи также имели своих слуг и панков чином поплоше, иной раз их число доходило до полусотни.
При Марианне были ее статс-дамы, Ядвига и Люция Тарло, фрейлина Ванда Хмелевская, несколько знатных девиц, а также гофмейстерина и наперсница Барбара Казановская. Вскорости должны были прибыть жены более мелкой шляхты, которым тоже предстояло поступить в услужение к будущей русской царице.
Были здесь также в большом количестве и священники, и торговцы, и суконщики, и ювелиры, и аптекарь, он же кондитер, пирожник и водочник. Ни много ни мало, а около двух тысяч путников, полных надежд на удачу и наслаждения, хотя и не без опасений за будущее, двигались к цели – к Москве.
А о чем же в это время думала, на что надеялась та, ради которой было предпринято и все это путешествие, и – в немалой степени! – само свержение Бориса, и завоевание Дмитрием российского престола?
Трепетала ли она от нетерпения, предвкушая встречу с человеком, который ради нее свершал подвиги, достойные сказочных героев? Мучилась ли от разлуки – вечной разлуки – с родной землей? Боялась ли того нового и неизведанного, что ожидало ее теперь? Ведь путешествие было опасным: например, при переправе через Днепр на паромах один из них, слишком тяжело нагруженный, перевернулся и утонул, а на нем погибло и пятнадцать человек…
Она находилась в истинном смятении чувств, и впервые непоколебимая уверенность ее в себе пошатнулась.
Главным свойством натуры Марианны Мнишек было глубокое, неискоренимое честолюбие. Она верила, что рождена для великой доли, именно потому свысока относилась к обычному предназначению женщины: стать хорошей женой и доброй матерью. Оказывается, предчувствия ее не обманули! Ей была уготована миссия не только сделаться русской царицей, но и привести к подножию святого Петра[3] огромную массу народа, глубоко укоренившегося в православии. И она не сомневалась, что своими чарами сумеет заставить Дмитрия исполнить обещанное!
Ну, скажем так: почти не сомневалась… Ведь пока что Марианна не очень хорошо знала мужчин. Стрелять глазками и поводить плечиками в танце, скакать верхом на охоте, опережая других, веселить остроумной беседой – это одно. А вот сделаться жизненно необходимой мужчине, завладеть всеми его мыслями и чувствами так, чтобы он и помыслить не мог более ни о ком, – это совсем иное! Она умела только мучить мужчин своей красотой и холодностью, но давать им радость она не была научена. И она боялась, что супруг разочаруется в ней и станет искать утешения в других объятиях.
Марианна впервые задумалась о том, что уже совсем скоро, недели через две, будет отпразднована их с Дмитрием свадьба и привычные отношения – пылкие с его стороны и прохладные с ее – должны будут совершенно измениться. Они станут супругами, возлягут на ложе, и Марианна узнает, что такое мужская любовь…
А что, если бог не дал ей того, что непременно должно быть в каждой женщине: умения не только поймать, но и удержать при себе мужчину? Многие скажут, что кокетство и любовная игра хороши только для жениха и невесты, однако Марианна, просвещенная многоопытной фрейлиной Барбарой Казановской, усвоила, что это заблуждение. Те дамы, которые впадают в него, обречены на страдания видеть, как их супруг становится к ним все более равнодушным, а потом начинает искать для развлечения и радости других особ. Они частенько не годятся в подметки его законной жене, однако с ними он чувствует себя гораздо лучше и приятнее.
– Видите ли, моя дорогая, – говорила Барбара, – мужчины – странные создания. Они женятся на невинных скромницах, однако втихомолку желают, чтобы на супружеском ложе те вели себя как истинные блудницы.
Марианна задумчиво качала головой. О, Россия – безумная страна! Здесь принято заточать неугодных жен в монастыри или вовсе уничтожать их. Марианна слышала о бабке Дмитрия, Елене Глинской. Чтобы жениться на ней, великий князь Василий Иванович заточил в монастырь свою прежнюю супругу – Соломонию Сабурову. Марианна совершенно не желала, чтобы ей хотя бы отдаленно грозила такая участь. Она мечтала остаться для мужа единственной! И решила для себя, что, если понадобится, она станет блудницей! Только бы сделаться наконец женой русского царя.
Царя?..
Верила ли она, что в самом деле выходит замуж за истинного сына Грозного?
Размышления на эту тему Марианна таила даже от себя самой, но они вернулись к ней с новой силой, когда, уже прибыв в Москву, она оказалась в Вознесенском монастыре в Кремле. Здесь жила инокиня Марфа, седьмая жена Ивана Грозного, мать Дмитрия.
Именно свидетельство этой женщины оказалось решающим для того, чтобы Россия признала в претенденте истинного царевича. Но подлинно ли мать узнала своего сына через пятнадцать лет? Или просто притворилась – из страха, из желания выбраться наконец из глухого, страшного лесного монастыря, где провела многие годы, из желания обрести почет и уважение, сквитаться со своими обидчиками? Никто этого не знал, кроме инокини Марфы, и Марианна очень хотела повидаться с ней, посмотреть в глаза, отыскать таившуюся в них истину…
Хоть монахини и пытались казаться приветливыми, встречая царскую невесту, это им удавалось плохо.
Инокиня Марфа, бывшая царица Марья Нагая, с трудом скрывала ужас при виде Марины (теперь полячку все называли только так – на русский лад) в ее кринолине – новейшая парижская модель! – и с новомодной прической.
А Марина в монастыре тоже едва сдерживала страх и даже говорила чуть слышно, словно у нее сел голос под гнетом тяжелых бревенчатых стен, так и нависавших со всех сторон. И потолки здесь оказались такие низкие, что человеку ростом повыше выпрямиться было бы невозможно. О, теперь-то Марина вполне понимала матушку Дмитрия. Окажись она на ее месте, она бы, наверное, тоже кого угодно, даже какого-нибудь неведомого проходимца, признала бы сыном, только чтобы вновь вернуться к благополучной жизни в почете! Тем более если бы это признание принесло счастье не только ей, но и целому народу! Ведь в России после смерти Годунова могла воцариться настоящая смута. Дмитрий установил в государстве порядок…
К сожалению, ни мать, ни невеста царя не смогли решиться поговорить откровенно, да и невозможно было сие, а между тем у инокини Марфы было что рассказать и чем разрешить сомнения Марины. Человек, которого она называла сыном своим и Ивана Грозного, истинно был им!
…На другой же день после смерти Грозного все Нагие вместе с Дмитрием были сосланы в Углич – подальше от Москвы. И вот тогда Богдан Яковлевич Бельский, опекун маленького царевича, понял, что Годунов способен на все. Он овладел и душой, и разумом доверчивого, слабого Федора… Но всевластие Годунова простирается лишь до тех пор, пока Федор жив, размышлял Бельский. Не быть ему спокойну, пока в Угличе подрастает следующий наследник русского трона. Ведь Дмитрий (а вернее, его опекуны) сметет Годунова с пути, когда доберется до власти, и не просто сметет, а оставит от него лишь пятно кровавое. Ну не может, никак не может Годунов допустить, чтобы Дмитрий остался жив!
И предчувствия не обманули Бельского: спустя пять лет Осип Волохов, сын няньки царевича Василисы, а также дьяк Михаил Битяговский с сыном Данилой покусились на жизнь Дмитрия, попытались ему горло перерезать. Это увидел с колокольни церковный сторож и ударил в набат. Народ кинулся во дворец царевича. Все были убеждены, что Дмитрий пал от рук убийц, и забили Битяговских и Волоховых до смерти. В поднявшейся суматохе Афанасий Нагой, брат царицы Марьи Федоровны, унес раненого мальчика и бежал с ним из Углича. Народу отвели глаза, похоронили пустой гроб. Ведь если признаться, что Дмитрий жив, Годунов рано или поздно подошлет новых убийц! Приехали из Москвы расследователи во главе с князем Василием Шуйским. Нагие думали, что тут-то конец их замыслам, однако расследователи даже не пожелали взглянуть на мертвое тело. Немедленно постановили, что царевич страдал падучей болезнью и сам себя зарезал, играя в тычку. За то, что недосмотрели за ним, Нагие после пыток были разосланы по дальним далям, Марья – насильно пострижена под именем Марфа в богом забытом Выксунском монастыре… В ссылку отправились почти все угличане и даже колокол – тот самый, что оповестил народ о свершившемся злодеянии. За то он и пострадал: лишился ушек (точно государев преступник, коему рвут ноздри и режут уши, навечно клеймя позором!) и был отвезен в Сибирь – в Тобольск.
Не более пяти-шести человек знали, что Афанасий Нагой спрятал раненого Дмитрия у бояр Романовых, ненавистников Годунова и родичей первой жены Ивана Грозного, Анастасии Романовны Захарьиной. Но еще меньше народу знало, что в Угличе покушались вовсе не на подлинного Дмитрия! На его месте в Угличе жил Юрий Отрепьев – сын бедных дворян Нелидовых-Отрепьевых.
Подмена была совершена давно – еще по пути в Углич. Именно тогда хитромудрый Бельский решил обезопасить царевича от любых козней Годунова и привез в Углич сына полунищего дворянина. Конечно, Бельский и братья Романовы, Федор да Александр, следили за жизнью юноши, который воспитывался сначала в глуши, у доверенных людей, не знающих, что за птенец подброшен в их гнездо, а потом был помещен в Чудов монастырь, под присмотр настоятеля отца Пафнутия. С его молчаливого одобрения инок Григорий (таково было имя Дмитрия в святом крещении) воспитывался скорее как боярский или дворянский сын, а не как монах. С его же попущения сей инок однажды исчез из Чудова монастыря вместе с братом Варлаамом, желавшим непременно добраться до святой земли, и вскоре оказался в Южной Руси, а затем и в Польше…
Что касается подменыша, то его после спасения приютили у боярина Александра Никитича Романова, однако Юшка Отрепьев оказался истинным сукиным сыном: поссорившись с хозяином, донес на своего благодетеля: он-де прячет у себя колдовские травы. Этого было достаточно, чтобы Борис Годунов, ненавидевший всех Романовых, которые противились его восхождению на престол, расправился с ними. Юшку постригли в монахи – по странному совпадению, тоже под именем Григория! Он бежал из монастыря и выдавал себя за чудом спасшегося царевича. Отсюда и взялась та путаница вокруг имени Дмитрия, из-за которой многие несведущие люди называли его самозванцем Гришкой Отрепьевым…
Увы, мать и невеста Дмитрия были слишком разными людьми, слишком не доверяли друг другу, чтобы найти общий язык да и хотя бы просто приветливым словом перемолвиться. Довольно было и того, что Марина вообще нашла в себе силы побывать в Вознесенском монастыре! В этом зловещем помещении ее фрейлины впали в глубокое уныние, госпожа Хмелевская плакала, не осушая глаз. В довершение их бедствий нежные желудки паненок очень страдали от грубой монастырской пищи. Правда, через пару дней Дмитрий прислал к своей невесте польских поваров, а также ларчик с драгоценностями, которые она разделила между своими дамами и этим несколько утешила их.
Но вот мучительная неделя истекла, и 7 мая 1606 года состоялась коронация государевой невесты.
Да, все происходило именно в таком порядке: сначала венчание на царство, а потом венчание с царем, и Марина знала, что прежде никому еще, ни одной царице московской не было оказано такой чести, как ей. Ни Софье Палеолог, византийской жене Ивана III, ни Елене Глинской, ради которой великий князь Василий Иванович натворил множество безумств, ни Анастасии, любимейшей жене Ивана Грозного, ни Ирине Годуновой, которой муж ее, Федор Иванович, был необычайно предан, ни Марье Григорьевне Годуновой, жене царя Бориса… Они все были мужние жены – царицы лишь постольку, что стали женами царей. А Марина была венчана на царство независимо от брачного союза. В случае развода она осталась бы царицей, а если бы Дмитрий умер, она могла бы царствовать без него. Она была миропомазана, она возложила на плечи бармы Мономаха, она прошла чрез врата, доступные только государям!
А на другой день она венчалась с царем по православному обряду.
Невеста в тот день была одета по-русски, и все оказались потрясены роскошью ее парадного платья. Бархатное, вишневого цвета, с длинными рукавами, оно было столь густо усажено драгоценными каменьями, что местами трудно было различить цвет материи. На ногах Марины были сафьяновые сапоги с высокими каблуками, унизанными жемчугом; голова была убрана золотой с каменьями повязкой, переплетенной с волосами по польскому образцу. Говорили, что повязка эта стоила семьдесят тысяч рублей – громадная сумма, немыслимая, но Марина уже устала удивляться окружающей ее роскоши.
Ничего подобного никогда, даже в самых смелых своих мечтаниях, даже при получении необыкновенно щедрых и богатых подарков Дмитрия, она прежде не могла даже вообразить.
Но с того мгновения, как невзрачный хлопец бросил ей под ноги свой кунтуш – и сердце! – жизнь ее стала одним непрерывным взлетом. Как же больно будет сорваться! Нет, оборони боже! Однако не шло из головы тягостное предзнаменование: когда отец, воевода сандомирский, въезжал во дворец в великолепной карете, белый конь, который вез его, вдруг пал…
Наконец новобрачных привели в столовую избу, посадили рядом и стали подавать им кушанья. Когда подали третье кушанье, жареную курицу, дружка, обернувши ее скатертью, провозгласил, что время вести молодых почивать.
Сандомирский воевода и тысяцкий (им был князь Шуйский) проводили их до последней комнаты. При этом у царя из перстня выпал драгоценный алмаз, и его никак не могли отыскать.
Многими это было воспринято как очередное предзнаменование – самое что ни есть зловещее…
Оно сбылось ровно через десять дней.
* * *
Уже несколько месяцев против Дмитрия зрел боярский заговор, возглавляемый князем Василием Шуйским. Истинный царский сын или самозванец, Дмитрий сделал свое дело – свалил с престола Годунова. Теперь Шубник – таково было в народе прозвище Шуйского – хотел сам стать государем.
Лишь только настал рассвет 17 мая, глава заговорщиков приказал отворить ворота тюрьмы и выпустить заключенных. Им раздали топоры и мечи. С солнечным восходом ударили в набат. Звон катился от одной церкви до другой.
Народ со всех сторон бежал в Китай-город. На Красной площади толпились уже до двухсот конных и пеших заговорщиков.
– Что за тревога? – спрашивали набегающие люди, которые ни о чем не ведали, а мятежники выкликали в разные стороны: «Литва[4] стакнулась убить царя и перерезать бояр наших; идите в Кремль бить литву!»
Эта весть мгновенно разнеслась по площади, а затем и по Москве. Толпа врывалась во все дома, где жили поляки, не боясь ошибиться. Ведь дома эти были заранее помечены по приказу Шуйского. Тех, что пытались защититься, убивали на месте, а те, кто позволял ограбить себя донага, имели надежду остаться в живых, но лишились всего, даже чем грех прикрыть.
Смятение царило во всем городе.
В это время князь Шуйский, держа в левой руке крест, а в правой обнаженную саблю, ворвался в Кремль через Фроловские[5] ворота. Перед Успенским собором он соскочил с коня, торопливо помолился перед иконой Владимирской Божьей Матери и крикнул окружающим:
– Кончайте скорей с вором и разбойником Гришкой Отрепьевым. Если вы не убьете его, он нам всем головы снимет. Во имя господне – идите против злого еретика!
Тем же Шуйским и его сообщниками еще со вчерашнего дня были тайно распущены почти все охранники Дмитрия, и когда мятежники ворвались во дворец, защитить царя было некому, кроме нескольких наемных алебардщиков-немцев да ближайшего друга и соратника Петра Федоровича Басманова.
Дмитрий успел выкрикнуть последнее предупреждение жене:
– Сердце мое, зрада![6] – и начал было защищаться, но и он, и те, кто стоял за него, были обречены.
Алебардщиков кого побили, кого повязали. Петра Басманова прикончили и дорвались-таки до безоружного Дмитрия! Тщетно звал он своего мечника, князя Михаила Скопина-Шуйского, которому доверил свою жизнь и оружие. Всякий человек из рода Шуйских непременно был предателем – не оказался исключением и молодой князь Михаил Васильевич. Он скрылся и унес государев меч. И скоро сын Грозного, избитый, измученный, беспомощный, был застрелен дьяком Григорием Валуевым.
…Марина проснулась от голоса мужа:
– Сердце мое, зрада!
Постель была пуста, Дмитрия нет рядом. Вдали беспрерывно гудели колокола. Но, заглушая набатный звон, неслись со всех сторон крики, вопли ужаса, призывы о помощи. Прибежала полуодетая Барбара Казановская.
– Где мой супруг? Где Дмитрий?! – выкрикнула Марина.
– Не знаю, – ответила Барбара. – Басманов убит – вот все, что мне известно…
Слова о гибели Петра Федоровича Басманова, которого Марина знала как ближайшего друга и наперсника мужа, сразили царицу. Это было все равно что услышать о гибели Дмитрия!
У нее словно бы разум отшибло. Оттолкнув Барбару, Марина в одной нижней юбке выскочила из опочивальни, пролетела сквозь толпу своих женщин – простоволосых, полуодетых, перепуганных – и вылетела в сени.
Она пыталась найти убежище в погребе и какое-то время отсиживалась там, но темнота и неизвестность вскоре измучили ее и выгнали снова в дворцовые коридоры.
А здесь творилось страшное. По лестнице вверх и вниз сновали люди. Закрывая голову руками, бежал какой-то обезоруженный алебардщик, за ним гнались московиты, свистя и улюлюкая, как на псовой охоте. Мужики вошли в такой раж, что сшибли Марину со ступенек. Она упала, тотчас вскочила, чтобы не быть раздавленной их здоровенными ножищами.
– Где их поганая царица? – вдруг завопили за поворотом. – Подать сюда проклятую еретичку!
Марину точно бы ожгло кнутом. Не только страх заставил ее похолодеть, но и воспоминание о том, что она почти раздета. В одной рубашке, с голыми руками, босая…
Чувство собственного достоинства ожило в ней с такой внезапностью, что у Марины словно крылья выросли. Она побежала по лестнице, не обращая внимания на снующих туда-сюда людей, на кровь, обагрившую стены и ступени. Никем не замеченная, никем не остановленная, она воротилась в свои покои и приказала подать себе одеться. Она уже поняла, что случилась непоправимая беда, но все еще надеялась, что вот-вот Дмитрий придет за ней и одним своим царственным окриком заставит угомониться разбушевавшихся москалей. И она должна вести себя так, чтобы быть достойной супруга!
Мелькнуло кошмарное воспоминание – именно сегодня Москва должна была присягать царице Марине… Она еще не могла поверить, что все мечты ее, все надежды рухнули…
И тут в комнату влетели насмерть перепуганные фрейлины, а за ними Ян Осмольский, юный дворянин из свиты Марины, паж, давно и тайно влюбленный в свою госпожу.
Одним махом он задвинул засов на двери и только тогда повернулся к государыне.
– Беда, моя ясная панна, – выдохнул Осмольский. – Беда! Они идут, тебя ищут, прячься! Сюда они войдут только через мой труп!
Он обнажил саблю и стал напротив двери. В ту же минуту грянул залп со стороны коридора, и от двери полетели щепы. Дым от выстрелов рассеялся, и нападающие увидели, что дверь разломана, а из комнаты им никто не отвечает пальбой. Чьи-то руки просунулись в щели и отодвинули засов, вернее, просто сорвали его.
Дверь распахнулась. Пронзенный выстрелами, Ян Осмольский все еще стоял посреди комнаты, опираясь на саблю. Вот он медленно вскинул ее, покачнулся – и упал под градом обрушившихся на него ударов клинков, топоров, дубинок.
Он лежал на пути мятежников, и, чтобы вломиться в комнату, им и впрямь пришлось переступить через его труп. Его топтали, о него спотыкались…
Не помня себя от ужаса, Марина упала на колени рядом с Яном, и вдруг ее оглушил грубый оклик:
– Эй вы, польские шлюхи! Где ваш царь, где ваша царица?
В то же мгновение какой-то тяжелый ворох обрушился на нее, и все стемнело вокруг.
– Откуда мне знать, где царь! – услышала она прямо над собой голос Барбары и завозилась было в душной темноте, однако получила чувствительный тычок в бок и сообразила, что темный ворох – это юбки Барбары, которая прикрыла ими царицу, чтобы спрятать ее от толпы, так что надо сидеть и молчать!
Вслед за этим началось что-то еще более страшное. Озверевшие мужики валили с ног беззащитных женщин и набрасывались на них по нескольку человек сразу. Они были настолько одурманены кровью, похотью, безнаказанностью, что намеревались изнасиловать даже Ванду Хмелевскую – даму преклонных лет, которая была ранена теми же выстрелами, которые сразили Яна Осмольского, и без сознания лежала на полу!
Марина, маленькая и худенькая, успела в этой суматохе скользнуть к своей кровати, спрятаться за ней и остаться не замеченной московитами.
Она сидела в своем укрытии все время, пока длилась гнусная оргия, не чая, останется ли сама жива и нетронута или придет и ее черед. Наконец кто-то догадался сказать боярам, которые руководили мятежом, что в покоях царицы творится страшное, и Шуйский явился прекратить насилие.
– Где ваша госпожа? – встревоженно крикнул он, врываясь в комнату, где от него в ужасе бросились измученные женщины. – Где пани Марина?
Перед этим человеком Марина не могла обнаружить своего страха. Выступила вперед, не подавая виду, что подгибаются коленки:
– Я здесь, сударь. Что ты желаешь мне сказать или передать? Или просто явился полюбоваться на то, что натворили твои псы?
Шуйский с оскорбленным видом поджал губы.
– Это произошло против нашей воли, – угрюмо принялся оправдываться он. – Клянусь господом богом, что подобное не повторится. И вы, пани Марина, и ваши женщины могут быть спокойны за свою участь. Сейчас мы приставим к дверям надежную стражу, чтобы охранить вас от насилия и ваши вещи от грабежа, а когда смута уляжется, вас проводят к вашему отцу.
Марина едва не осенила себя крестом. Первая добрая весть – отец жив! Она боялась думать об участи его и других своих земляков. Но тут заметила, что Шуйский ни разу не назвал ее царицей или государыней и ни разу не упомянул о Дмитрии.
– Где государь? – спросила она, с трудом прорвавшись сквозь комок в горле. – Где мой супруг? Я приказываю проводить меня к нему!
Злоба исказила лицо князя, и он, по-видимому, изо всей силы сдерживаясь, проговорил относительно спокойно:
– Твой муж, самозванец и расстрига, убит народом. – И тут выдержка ему изменила, он выкрикнул злобно, с ненавистью: – И довольно вам, ляхам, приказывать нам, русским! Кончилось ваше время!
Кончилось время счастья Марины Мнишек…
* * *
Много народу полегло в ночь мятежа. Побито было более полутора тысяч поляков и около восьмисот московитов.
Шуйский уже и сам испугался той силы, которую выпустил на волю. И князь Василий Иванович, и его соумышленники целый день метались по городу верхи, разгоняли ошалелый от безнаказанного кровопролития народ и спасали поляков. Их даже не всегда слушались – настолько вошла в раж толпа.
А женщины, запертые в царицыных покоях, все это время пребывали в неизвестности относительно своей участи. Наконец страх их превзошел всякую меру. Они подняли страшный крик, ударились в горькие слезы, и стражники растерянно метались по коридору около дверей, не зная, что делать. Ох, как выли польские бабы!..
Среди всего этого громогласного вопления и плача, среди этой суматохи неподвижной и молчаливой оставалась только Марина. Одетая в самое простое свое черное платье, она неподвижно сидела в уголке комнаты в парчовом кресле. Серые глаза напряженно прищурены, губы стиснуты.
Молодой стрелец заглянул в комнату, намереваясь пригрозить раскричавшимся полячкам, но неловко затоптался на месте. Бывшая государыня-царица Марина Юрьевна, узнал он… Что и говорить, держится с достоинством, подобающим столь высокой особе, хотя росточком и сложением больше напоминает девочку. А ведь ей небось солоней солоного приходится. Прочие бабы да девицы польские хотя бы могут оплакивать своих дорогих погибших, а ей и слезу не пророни по убитому мужу, государю Дмитрию Ивановичу…
Труп бывшего царя три дня валялся на площади, потом был отвезен на «убогий дом»[7]; затем же, когда начались с ним всякие кудесы (ходили слухи, что неведомой силой тело вновь и вновь возвращалось на площадь), а кругом в это время воцарился лютый мороз, невесть откуда доносились крики да вопли бесовские – из земли вырыт, сожжен (и ведь не тотчас сгорел, а лишь когда порубили его на куски), а прахом выстрелили из пушки на запад, в сторону Польши, откуда некогда пришел Самозванец. Ничего этого польская царица не видела, довольствовалась лишь слухами…
Будущее Марины было темно и мрачно, как могила. С высоты сияющего трона она рухнула – ниже низшего. Мятежники, захватившие власть, не просто обобрали ее с отцом – они требовали еще и возмещения убытков, требовали заплатить все, что было потрачено Дмитрием на государственное переустройство. А между тем у царицы Марины Юрьевны теперь осталось одно лишь черное платье, что на ней. Сундуки пусты, в них ни тряпицы, ни рубашонки, ни пуговки не осталось.
Да что говорить о тряпках? Жизнь и судьбы всех поляков, от самой Марины до последнего поваренка из свиты ее отца, воеводы сандомирского, всецело зависели теперь от милости победителей. Захотят те – и могут убить их, как убили уже многих. Захотят – отдадут в рабство к русским мужикам, как отдали нескольких несчастных женщин из свиты Марины. Захотят – сошлют в Сибирь, на медленную смерть. Захотят – вернут в Польшу. Наверное, сейчас все соотечественники Марины больше всего хотели бы именно этого – воротиться домой.
Все… но только не она!
Она ведь не просто какая-то шляхтянка из Самбора, избранная русским царевичем в жены. Марина была венчана на царство – и оставалась царицей теперь.
Кто таков был в ее глазах князь Василий Шуйский? Не более чем узурпатор, захвативший престол, свергнув законного государя. Шуйский еще хуже, чем хитрый, как лиса, жестокий Борис Годунов. Тот хотя бы дождался естественной смерти своего предшественника, царя Федора Ивановича. Шуйский же рвался к трону, как опьяненный кровью зверь. Именно он выводил Марину из храма после венчания с Дмитрием и вместе с ее отцом провожал молодую до брачной постели. А сам в это время плел паутину заговора и знал, что человек, которому клянется в вечной преданности, уже предан им – предан и обречен на смерть. Шуйский сам вор и самозванец, воссевший на престол при живой царице! И он должен, он должен быть свергнут, сброшен, низвержен. Русский трон принадлежит Марине Мнишек, царице-государыне Марине, принадлежит по праву.
– Они думают, я потонула в перевороте? Канула в безвестность? – с трудом разомкнув губы, вдруг произнесла Марина. – Нет! Этого они не дождутся. Я – русская царица! Я царица – и останусь ею до смерти!
Барбара Казановская, слышавшая эти тихие, но яростные слова, молчала. Она знала: панна Марианна не прощает ничего, никому и никогда. Она будет мстить за свое унижение, за свою исковерканную судьбу. Мстить – даже если окажется, что это будет стоить ей жизни.
Да что такое жизнь? Это малость. Богобоязненная, истовая католичка Марианна Мнишек будет мстить, даже если ей придется заложить душу дьяволу!
* * *
Наверное, ей лучше было бы погибнуть вместе с Дмитрием. Тогда она навсегда осталась бы безвинной жертвой. Но она не погибла, более того – попыталась побороться с судьбой.
Нет, не сразу. Сначала пришлось терпеть ссылку.
Больше года дворцом Марине Мнишек, русской царице, служил полуразвалившийся дом с просевшим потолком и щелястым полом в захолустном Ярославле, некогда славном в истории, а теперь лишившемся прежнего величия. Поляков, вывезенных из Москвы, всего числом 375 человек, растолкали по приказу царя-скареда (Шуйский и впрямь был по натуре не только предатель, но и редкостный скупердяй!) в четырех домах с подворьями и по дворам посадских людей. Все сосланные были обобраны до последнего, оттого их жизнь и содержание целиком зависели от московской казны. Частенько приходилось есть один хлеб, а пить – только дурное пиво или вовсе квас. От такой унылой пищи и полной беспросветности будущего маленькое сообщество порою впадало в полную тоску, особенно в весенние сырые дни, когда на землю ложились туманы и вся она чудилась прикрытой белым саваном.
И вот однажды воевода Мнишек явился к дочери с ошеломляющим известием. Оказывается, ее муж Дмитрий не погиб в ночь мятежа. Вместо него был убит кто-то другой. А царь остался жив, собрал под свои знамена новую рать и теперь жаждет одного – соединиться с женой. С Мариной!
Что и говорить, этот слух взбудоражил душу Марины, однако она ему не очень-то поверила. О нет, под именем сына Грозного на сей раз выступает какой-нибудь самозванец, который надеется легко обмануть судьбу. Конечно, находились среди поляков легковерные, которые не уставали повторять: если Дмитрий единожды спасся в Угличе, почему бы ему не спастись сызнова в Москве?! Но Марина только разочарованно качала головой: таких совпадений не бывает. Испытав страшное потрясение в ночь гибели мужа и крушения всех надежд, Марина берегла свою душу от новых мучений и избегала пустой болтовни о воскресшем Дмитрии. Зачем отец жестоко тревожит ее?
Но Мнишек не унимался, а ссылался на то, что весть о воскресении Дмитрия он получил не от кого-нибудь, а от инока Филарета – в прошлом боярина Федора Романова, насильно постриженного в монахи еще Годуновым. Последний из братьев Романовых был в числе сторонников Шуйского во время мятежа, а теперь, видать, хотел от прежнего дружка избавиться, вот и поддерживал всякое дуновение, способное сдунуть князя Василия Ивановича с нагло захваченного трона.
Филарету Марина не больно-то верила. Однако когда отец сказал, что получил письмо и от Никола де Мелло, она невольно призадумалась.
Марина слышала о монахе ордена августинцев, родом испанце, с помощью которого Дмитрий хотел завести сношения с Испанией, с королем Филиппом.
– Какие же доказательства предъявил вам падре де Мелло? – сдержанно спросила Марина отца.
Пан Мнишек пустился в перечисления. Он назвал города, ополчившиеся против Шуйского и вставшие под знамена нового претендента; он упомянул поляка Романа Рожинского, которого некогда знал лично и который был крепким полководцем: князь Роман не станет гоняться за призраками и поддерживать абы кого! И вот он стал полководцем у этого царя. Мнишек заявил также, что почти все в России ненавидят Шуйского и желают возвращения Дмитрия. Войска воскресшего царевича встали лагерем близ Москвы – в Тушине, и московские бояре постепенно оставляют столицу, чтобы присоединиться к воскресшему государю. Это же следует сделать и Мнишеку с Мариной.
– Неужели? – с издевкой воскликнула дочь. – И каким же это образом, позвольте вас спросить? Может быть, вы посоветуете мне обратиться сорокой и полететь в Тушино?
– Скоро нас отпустят в Польшу, – сообщил воевода. – Нам, однако, предстоит пойти на некоторые формальные уступки. Так, я не должен впредь именовать Дмитрия зятем, а вы, ваше величество, откажетесь от титула московской царицы.
– Никогда! – с силой выдохнула Марина, стискивая тонкие пальцы. – Никогда! И ежели вы, сударь, позволите себе еще хоть раз…
– Успокойтесь, государыня, – выставил вперед руку Мнишек. – Я говорю о том, какие требования нам выставляются, о том, что мы должны сделать, дабы выбраться из этого богом забытого городка, избавиться от постылого заточения! Пока мы здесь, мы связаны по рукам и ногам. Но стоит нам выбраться отсюда, хотя бы и ценой слова, данного Шуйскому… Разве вы забыли, как говорят у нас в Самборе? Обмануть холопа – все равно что ягод поесть. А Шуйский – именно холоп, причем холоп подлый, ибо он предал своего господина. Почту за честь не сдержать данное ему слово! Главное – получить свободу, вы понимаете это, ваше величество? А потом…
– А потом? – чуть слышно спросила Марина.
– А потом мы найдем способ соединить вас с вашим супругом, – веско и уверенно произнес Мнишек.
Мгновение Марина напряженно всматривалась в глаза отца, потом с тихим вздохом понурилась.
– Вы живете мечтами, сударь, – пробормотала она чуть слышно. – Вы гонитесь за призраком и желаете, чтобы я сделала то же. Кто бы ни был этот новый Дмитрий, он не мой супруг. Мой Дмитрий мертв. Сердце говорит мне это…
– Вы так доверяете вашему сердцу, сударыня? – с уничтожающей усмешкой уставился на нее Мнишек. – О, это все чисто женские причуды.
Да, вопреки «женским причудам» и здравому смыслу, пан Юрий твердо решил во что бы то ни стало соединить дочь с ее мужем.
С мужем?.. Да неужто прожженный интриган Мнишек верил, что Дмитрий мог пережить ту бойню, которая была учинена 17 мая в Москве?
Скажем так: он верил в это не более, чем верил три года назад, что отдает дочь истинно за сына Грозного. «Пусть это и неправда, но хорошо придумано!» – вот девиз, коему он следовал тогда, следовал и теперь.
Судьба дочери что тогда, что и нынче волновала его не слишком сильно. И Марина, и Дмитрий – первый или второй, истинный или подставной – были по-прежнему лишь средством для достижения цели. Целью Юрия Мнишека являлось если и не помочь дочери вновь воцариться в Москве – в возможность вторичной удачи он верил слабовато! – но вернуть хотя бы часть утраченных баснословных богатств. Возвратиться в Польшу с туго набитой мошной, если уж не сделаться снова тестем русского царя, который уже успел заслужить звание Самозванца и Тушинского вора.
В одном Мнишек, безусловно, не лгал своей дочери: в Тушино и впрямь стекались огромные массы народу. Очень многие были привлечены тем, что под знамена Дмитрия Второго встал казачий атаман Иван Заруцкий, отлично знавший царя Дмитрия Ивановича в лицо, ибо когда-то служил в его войске и пришел с ним вместе в Москву, даже стоял со своими донцами в почетной страже при венчании сына Грозного на царство.
Разумеется, Иван Мартынович, который великолепно помнил первого Дмитрия, сразу распознал подмену. Но ни он, ни какой-либо другой человек, кроме Федора Никитича Романова, не подозревал, кто явился на смену сыну Грозного. По страшной насмешке судьбы, этим человеком стал именно Григорий Отрепьев – тот самый, чье имя приписывали подлинному Дмитрию. Это был его вечный двойник – Юшка Отрепьев, который уже заменял царевича Дмитрия в Угличе и едва не погиб от ножа Волохова да Битяговских. Отрепьев не верил в то, что был сыном безвестных родителей. Он был искренне убежден, что именно он – сын Грозного, что именно ему принадлежат наследственные права и русский трон! Ну и Марина, конечно…
Заруцкий этого, повторимся, не знал, а впрочем, ему было наплевать, кто заступит то свято место, которое, по пословице, никогда не бывает пусто. У Заруцкого были свои нужды в этой жизни, и он, донской атаман родом из какого-то жалкого Тернополя, вряд ли мог их исполнить самостоятельно и с легкостью. Это ему почти удалось, когда попал в доверие к первому Дмитрию. Но потом случилось нечто – некое событие, из-за которого честолюбивые черты Заруцкого на время не просто померкли, но даже и вовсе перестали существовать.
Событие это состояло в том, что он увидел Марину Мнишек.
Недаром Заруцкий испытывал почти братскую привязанность к первому Дмитрию. Они были поистине родственные души, ибо эта странная женщина произвела на них одинаково роковое впечатление. Право, как истинная Клеопатра, которая свела с ума сначала Юлия Цезаря, а потом его ближайшего сподвижника Марка Антония!
Что Дмитрий, что Заруцкий испытали при виде Марины одно, совершенно одинаковое чувство: жажду обладать ею. Но что мог ей предложить Заруцкий, когда увидел впервые? Только любовь свою… Он прекрасно понимал преимущества соперника, сделавшего возлюбленную русской царицей! И не мог находиться рядом с обожаемой женщиной, не испытывая ежеминутного желания прикончить того, кто был ее мужем и властелином.
И Заруцкий решил исчезнуть, удалиться, сбежать от этого неодолимого желания.
Но вот на Руси повеяло, как ветром, именем нового Дмитрия… Этот ветер грозил нанести дымы и пожары, кровь и слезы, трупный дух и разор всей земли, однако Заруцкого это не заботило. Он вмиг смекнул, сколь полезен может оказаться ему новый «сын Грозного», и твердо решил примкнуть к нему. И не просто примкнуть, но сделаться одним из самых близких ему людей.
Заруцкий с ухмылкой смотрел в блеклые, настороженные, хитрые глаза «воскресшего царя» и расточал окружающим уверения, как счастлив-де видеть государя живым. А сам с удовольствием убеждался, что двойник не тянет, нет, не тянет на того, кого тщился изобразить. Даже глаза у него не удалые, умные, темно-голубые, а выцветшие какие-то. И трусливые.
Ну что ж, тем лучше! Тем легче будет избавиться от него и завладеть Мариной.
Кто-то мечтал разжиться при новом Дмитрии богатством, кто-то – почестями или властью. Но Заруцкому по-прежнему нужна была только эта женщина!
Но Марина нужна была и самозваному Дмитрию…
Конечно, в этом случае речи не могло идти о любви. Ценность Марины состояла в том, что она была истинная, коронованная царица. Она еще пуще, чем Заруцкий, придала бы правдоподобие любому шагу и слову Самозванца, она одним именем своим могла бы привлечь на его сторону массы польской шляхты, которая еще сильнее, чем прежде, жаждала реванша. И Лжедмитрий решил во что бы то ни стало заполучить Марину!
Из тайной переписки с ее отцом он узнал, что такой случай может представиться, когда поляки наконец-то будут отпущены Шуйским и отправятся из Ярославля в Польшу. Правда, поедут они под суровой охраной, но это ничуть не останавливало Лжедмитрия, для которого захват Марины должен был знаменовать наступление полосы сплошных удач.
За это время Марина не раз взлетала к вершинам надежд и падала в бездны тоски и неверия. Она знала, что Дмитрий (вернее, человек, называвший себя этим именем) по-прежнему состоит в переписке с воеводою сандомирским, а также с ее матерью, оставшейся в Самборе: со своей тещей. Писал он и Марине – нежные, исполненные любви и возвышенных чувств письма. Эти послания не способны были ни развеять сомнений Марины, ни усилить их, ибо почерка своего супруга она не знала: все письма Дмитрия и раньше, и теперь были писаны секретарями.
Благодаря отцу Марина была осведомлена о каждом шаге своего названого супруга к возвращению отнятого у него престола. Его признавало все больше народу. В числе этих признавших был, между прочим, князь Адам Вишневецкий, уже сыгравший свою роль в возвышении прежнего Дмитрия. На сторону Дмитрия охотно переходило простонародье: ведь он велел объявить, что в боярских имениях, чьи владельцы не признают его, подданные крестьяне могут овладеть имуществом господ; земли и дома боярские делались крестьянскими животами[8], даже их жен и дочерей крестьяне могут взять себе в жены или в услужение! Дмитрию присягнули все города и веси от Северской земли и почти до Москвы!
Лагерь в Тушине разрастался. Армия Дмитрия каждый день усиливалась новыми конными силами, подходившими из польских владений. Пан Мнишек едва не обезумел от счастья, когда узнал, что в Тушине появился еще и Ян-Петр Сапега, староста усвятский, знаменитый польский богатырь, удалец и воитель. Он был еще почище Романа Рожинского в неуемной жажде боя! В Польше его осудили за буйство, однако он, не подчиняясь приговору суда, набрал толпу вольницы и повел ее в Московское государство. Его дядя, канцлер Лев Сапега, такого поступка не одобрял, однако поделать с шалым племянником ничего не мог.
Тем временем Самозванец всеми силами пытался захватить Марину. Для начала он издал указ и разослал его в города, находившиеся на пути следования высланных поляков и признававшие его царское достоинство: в Торопец, Луки, Заволочье, Невель и прочие. Указ гласил:
«…Стало мне ведомо, что самозваным государем Васькой Шуйским, который подыскался под наше царское имя, отпущены из Москвы польские да литовские пани и паны, в числе коих послы круля Литовского Зигмунда. Повелеваю литовских людей и литовских послов перенять и в Литву не пропускать; а где их поймают, тут для них тюрьмы поставить да сажать их в тюрьмы. Мы, Дмитрий Иванович, император Всероссийский, повелитель и самодержец Московской державы, царь всего Великого княжества Русского, Богодарованный, Богоизбранный, Богохранимый, Богом намазанный и вознесенный над всеми другими государями, подобно другому Израилю руководимый и осеняемый силою Божией, христианский император от солнечного восхода и запада и многих областей государь и повелитель»[10]
Однако он не собирался рассчитывать только на эти грамоты, опасаясь, что охрана придумает какой-то иной путь и минует преданные Дмитрию города. Чтобы избежать неприятных случайностей, Дмитрий приказал Роману Рожинскому послать в погоню за Мнишеками большой отряд.
После долгого преследования погоне удалось настигнуть желанную добычу! Произошло это прежде всего потому, что Марина решилась-таки попытать судьбу и посмотреть на того, кто упорно именовал себя ее мужем. Проще сказать, она позволила захватить себя.
Когда конвоируемые русскими поляки стали на ночлег в Любеницах, пленников, прежде покорных, словно подменили. Сначала занемогла пани Марина Юрьевна; потом дурно сделалось самому воеводе. Спустя три дня начальник охраны наконец сообразил, что поляки нагло морочат ему голову и просто не хотят ехать дальше. Однако произошло это не прежде, чем в Любеницы ворвался конный отряд шляхтичей, среди которых, кстати сказать, был Мартин Стадницкий, двоюродный брат Марины. Московские стражники разбежались; паны достались своим.
На другой же день, как по заказу, дурная погода, стоявшая последнее время, развеялась, ясный день зазвенел птичьими криками.
И под их гомон Марина вновь принялась ломать голову: убит ли Дмитрий? Да, происходило страшное побоище, да, много народу полегло, как русских, так и поляков, да, ей сказали: муж погиб… Но все-таки – его ли тело лежало на площади? Зачем оно было обезображено? Зачем было сжигать сей несчастный труп, как не для того, чтобы скрыть от внимательных взглядов: это не Дмитрий?!
А что, если он все-таки остался жив?
Чудо? Волшебство? Но ведь все в жизни Марины после встречи с ним на той конюшне, когда он бросил ей под ноги кунтуш и свое сердце, было чудо, волшебство: и любовь Дмитрия, и его неописуемые дары, и корона Московского царства, которой он увенчал любимую женщину даже прежде, чем стал ее мужем…
Снова закричали в вышине птицы, словно приветствовали беглянку-царицу, и Марина высунулась из окошка кареты, засмеявшись, запела…
– Поешь, Марина Юрьевна? – послышался рядом угрюмый голос.
Марина обернулась и удивилась, узнав своего двоюродного брата Стадницкого.
– Оно бы и следовало тебе радоваться, кабы ты нашла в Тушине настоящего своего мужа. Но встретишь там совсем другого, и лучше бы тебе прямо сейчас повернуть отсюда прочь!
Марина тупо уставилась на Стадницкого.
– Молчи, пся крев! – прошипела Барбара. – Кто тебя за язык тянул, пане Мартин? Зачем ты, ну зачем?..
– Зачем, зачем… – проворчал Стадницкий, люто глядя на разгневанную Барбару. – Ты что, не понимаешь? Ты хочешь, чтобы ее привезли в Тушино как неразумную ярку[11] на заклание? Она сама должна решить, что ей делать: ехать туда или нет. Она царица, а этот вор… он не царь, а всего лишь царик, не более того. Может статься, когда она увидит его, то умрет на месте от ужаса. Дайте ей время подумать, вот что.
Разумеется, в словах Мартина Стадницкого не было злости на Марину – он мог негодовать лишь на злую судьбу, проклинать собственную несчастливую звезду, которая привела его в войско Тушинского вора. До сей минуты им руководила только жажда нажиться за счет нового царя и отомстить кацапам за то поругание, которое в ночь на 17 мая нанесли его чести, напугав до смерти и чуть не отправив к праотцам. И только сейчас его словно по лицу хлестнуло осознание: да ведь свою двоюродную сестру, в которую был когда-то юношески влюблен, он должен принести в жертву своей мстительности, своей озлобленности, предать ее, ничего не ведавшую, на заклание человеку, которого презирал и ненавидел?
Если Марина захочет играть в эту нечистую игру, она должна вступить в нее с открытыми глазами, рассудил Стадницкий. Но у него все же болезненно сжалось сердце, когда он увидел ее помертвевшее лицо и остановившийся взгляд. Исчезла веселая певчая птичка – теперь она больше напоминала раненого зайчонка…
Терзаемый жалостью, раскаиваясь в каждом своем слове, Стадницкий хлестнул коня и отъехал прочь от кареты.
Между тем Юрий Мнишек всю дорогу не переставая думал: как-то перенесет Марина встречу с «мужем»? Любовь к ней мешалась в сердце воеводы с ожесточением: подумаешь, какая разница, с кем спать дочери, если отцу обещано после победы над Шуйским выдать триста тысяч рублей серебряных и отдать во владение княжество Северское с тамошними четырнадцатью городами?!
Он молился, чтобы все сошло благополучно, однако Марина ехать в Тушино наотрез отказалась и потребовала, чтобы карета повернула в Царево Займище, к Сапеге.
Пан Юрий кликнул к себе шляхтичей на совет. Посовещавшись какое-то время, порешили послать в Тушино к царику с известиями о неприятностях. Пусть приезжает и сам улаживает дела с Мариной. Бог их весть, этих женщин, может статься, новый Дмитрий понравится Марине Юрьевне пуще прежнего. Глядишь, все и обойдется.
Не обошлось…
Не доезжая двух верст до Тушина, стали табором.
От лагеря отделились несколько всадников. Пан Юрий смотрел на них с волнением. Среди них был Рожинский, потом какие-то москали, потом…
– Марианна! – рявкнул он что было мочи. – Вот муж твой Дмитрий! Да взгляни ж ты на него!
Обессиленная от слез молодая женщина выглянула из кареты, и Самозванец увидал ту, кого так страстно желал заполучить.
«Тоща, ох тоща! – подумал уныло. – Только и есть, что глаза. Ладно, с лица воды не пить, с тела щец не варить. Как-нибудь притерплюсь».
Таковы были мысли Дмитрия.
Что подумала Марина, неизвестно, зато известно, что произнесла она при взгляде на своего «воскресшего супруга».
– Нет, лучше умереть! – простонала молодая женщина, отшатываясь в глубь кареты, сползая на пол и делая попытку вновь укрыться под юбками Барбары Казановской – точь-в-точь как тогда, в Кремле, когда мятежники крушили все кругом, чая добраться до Маринки-безбожницы.
Несколько мгновений Дмитрий с преглупой улыбкой оставался у кареты, затем отъехал прочь. Пан Мнишек продолжал что-то бубнить, но Марина его не слушала.
Казалось, все дело провалено. И тут вдруг перед Мариной появился какой-то изможденный человек в коричневой ветхой рясе, очень напоминающей те, какие носили августинские монахи. На голове его была выбрита тонзурка, изможденное лицо имело вид постно-смиренный, однако взгляд светился потаенным лукавством.
– Дочь моя, – вкрадчиво прошептал он по-латыни, – дочь моя, выслушай меня!
Марина подняла измученные глаза. После встречи с этим так называемым Дмитрием ей все окружающее казалось каким-то наваждением.
– Отец мой, – недоверчиво пробормотала Марина, – кто вы?! Откуда?
Это был Никола де Мелло собственной персоной, и лишь только Марина узнала это, как ее приветливая улыбка превратилась в судорогу: она вспомнила, что отец именно со слов этого де Мелло уверял ее в подлинности Дмитрия. Монах участвовал в обмане!
Годы воспитания в безусловном уважении и покорности римско-католической вере не могли пройти для Марины бесследно: она не бросила в лицо монаху упрек, а просто отвела от него глаза.
– Дочь моя, – сказал де Мелло серьезно, – вы можете прогнать меня вон, но я все равно не уйду, так что не тратьте зря слов и не оскорбляйте своим негодованием божьего слугу. Да, милое мое дитя, вы высоко вознеслись в своей гордыне и успели позабыть о том, что все мы – всего лишь слуги нашего господа и должны неукоснительно исполнять свой долг по отношению к нему и к святой римско-католической вере. Господь извлек вас из безвестности и гнусного заточения в Московии вовсе не для того, чтобы вы провели свой век в праздности и духовной лени. Отец наш небесный предоставляет вам возможность исправить прошлые ошибки ваши и вашего покойного супруга, который не исполнил ни единого своего обещания по окатоличиванию России. В этом новом Дмитрии наша церковь обрела воистину покорного сына и слугу. Но разум его темен, поступки беспорядочны. С вашей помощью это стихийное существо может послужить святому престолу так, как ему никогда не удалось бы сделать сего, останься он один перед лицом ожидающих его свершений!
Марина закрыла глаза, ощущая, что под веками копятся слезы и вот-вот поползут на щеки. Как давно не слышала она усыпляющих, но при этом неодолимо убедительных речений католических священников! И как мучительно-сладостно сделалось вдруг у нее на сердце!
Последние два дня она страдала не столько от наглого обмана, жертвой коего стала, но и от безысходности своего теперешнего положения. Неужто возвращаться в Польшу ни с чем?! И вот теперь велеречивый августинец открыл ей новый путь… Да, конечно, ее ждет путь мученицы, однако вполне возможно, что она обретет на сем пути не только венец терновый, но и великую славу.
Чем черт не шутит, а вдруг новому Дмитрию удастся его безумная эскапада, как удалась она его предшественнику? Вдруг московские колокола вновь зазвонят в честь государыни Марины Юрьевны?!
– Я согласна ехать в Тушино, – выдохнула она, повернувшись к де Мелло и намеренно обходя взглядом отца. – Что мне предстоит там делать?
– Ну, вы… вы должны будете встретиться с Дмитрием на глазах большой толпы народа, – начал перечислять монах, несколько ошарашенный таким стремительным успехом. Чтобы не сбиться, он для верности загибал пальцы. – Конечно, все ждут, что это будет встреча любящих супругов, вы понимаете?
Марина только кивнула, однако де Мелло понял, что все будет сыграно так, как надо. Он продолжил:
– Далее. Поскольку, дочь моя, вам предстоит жить бок о бок с этим мужчиной, я полагаю, что накануне вашей торжественной встречи мне следует тайно обвенчать вас. Надеюсь, вы находите это разумным?
– О да, – свысока кивнула Марина. – Вполне.
– Ну а затем, дочь моя, вы прибудете в Тушино и станете разделять многотрудную и величавую жизнь вашего супруга.
– Я согласна исполнить все, что вы предпишете, отец мой, только у меня есть одно условие.
– Да? – насторожился, почуяв недоброе, де Мелло.
– Это касается моей супружеской жизни, – холодно уточнила Марина. – Обвенчаны мы или нет, считает ли себя этот человек истинным Дмитрием или нет, мне безразлично. Главное, что я не стану вести с ним супружескую жизнь до тех пор, пока он не возьмет Москву.
– Да ты окончательно сошла с ума! – взвился Мнишек, и даже многотерпеливый де Мелло озадаченно покрутил головой:
– Да, это серьезное условие. Боюсь, будет нелегко убедить Дмитрия в необходимости его исполнения.
– А это уж ваши трудности, падре де Мелло, – передернула плечами Марина. – Моему так называемому супругу придется потерпеть – либо поспешить с завоеванием столицы. А вашего возмущения, батюшка, я совершенно не понимаю, – тоном благонравной девочки обратилась она к Мнишеку. – Ведь именно такое условие – прежде завоевать Москву, а потом получить меня – вы выдвигали моему первому супругу. Чем же нынешний Дмитрий лучше своего предшественника?
Мнишек отвернулся, беззвучно, но выразительно шевеля губами, но де Мелло проворно выскочил из кареты и схватил воеводу сандомирского под руку:
– Не станем терять времени, пан Юрий. Дмитрий ждет. Будем надеяться, он правильно поймет, какие побуждения движут Мариной Юрьевной.
Ожидания августинца, а вернее, тайного иезуита, сбылись не сразу. Сначала Дмитрий шевелил губами на манер Мнишека – только гораздо дольше и отнюдь не беззвучно. Наконец поуспокоился, но вдруг ударил кулаком в ладонь:
– Хотел бы я знать, кто брякнул ей, что не тот, не прежний? Кто настроил Марину Юрьевну против меня? Кабы не этот непрошеный советчик, мне было бы куда легче поладить с моей госпожой.
Де Мелло и Мнишек, имевшие на сей счет совершенно иное мнение, сочли за благо промолчать. Однако тотчас сыскались наушники, которые вспомнили, как помертвела пани Марина после разговора с Мартином Стадницким, связали концы с концами и быстренько донесли об сем тушинскому государю.
Царик в два шага одолел расстояние, отделявшее его от группы поляков, в числе которых находился пан Мартин, и резко рванул его за плечо, повернув к себе:
– Верно ли, что ты предуведомил Марину Юрьевну о том, кого она увидит в Тушине? Ты говорил ей, что здесь ждет ее не прежний Дмитрий?
Пан Мартин начал неловко оправдываться:
– Я не говорил ей, что вы не прежний, я только сказал, будто в лагере ходят слухи, будто вы не прежний!
Договорить он не успел: Дмитрий выхватил из-за пояса заряженный пистолет и выпалил Стадницкому прямо в разверстый в последнем оправдании рот.
На другой же день после разговора с Мариной Никола де Мелло тайно обвенчал ее с Дмитрием. А еще через день Сапега торжественно, с распущенными знаменами повез Марину в Тушино. Там, среди многочисленного войска, эта парочка бросилась в объятия друг друга. Супруги рыдали, восхваляли бога за то, что снова воссоединились… Многие умилялись, взирая на это трогательное зрелище, и восклицали:
– Ну как же после этого не верить, что он настоящий Дмитрий?!
Увы, у Марины не было на сей счет никаких сомнений. Беспрестанно, и в постели (пришлось уступить его домогательствам, ибо муж пригрозил иначе застрелить упрямую гордячку!), и вне ее – везде сравнивала этого Дмитрия с тем, прежним. И каждый раз убеждалась: неприятный внешне, с непривлекательным характером, неотесанный в обращении, грубого нрава, ее второй муж ни по телесным, ни по каким другим качествам не походил на первого. Марина умела быть справедливой – она не винила нового супруга, а больше винила себя. Коли продалась за дорогую цену, словно одна из тех шлюх, коих во множестве навезли в Тушино казаки и шляхтичи, то терпи. За твое терпение плачено…
Но в том-то и дело, что ей не было уплачено! Москва оставалась по-прежнему недосягаемой, и все, чем Марина могла тешить свое безумное честолюбие, это громким титулом царицы.
Так, в напрасных ожиданиях, настал 1610 год.
* * *
Однажды среди ночи в спальню Марины ворвались Барбара и атаман Заруцкий.
Марину пробрало легким ознобом, как всегда, когда она перехватывала взгляды этого человека: жадные, алчные, ненасытные и такие жаркие, что у нее начинали гореть щеки.
Она смущенно оглянулась и обнаружила, что мужа в постели рядом с ней нет.
– Ну, говорила я тебе, казак, а ты не слушал, – с нескрываемой насмешкой проворчала Барбара. – Наверняка он уже далеко!
Заруцкий тяжело вздохнул, отер лоб рукавом.
– Ладно, иди, – смилостивилась Барбара.
– Да что случилось? Кого вы искали? – удивилась Марина, но Заруцкий не обернулся – ушел.
– Нашему храброму атаману почудилось, что Дмитрий у вас, панна Марианна, – пояснила Барбара. – Уж я ему говорила, что быть этого не может, что я верю тем людям, которые рассказывают, будто он бежал, переодевшись крестьянином и зарывшись в навоз на дровнях, на которых он и пустился наутек! И не я одна убеждала Заруцкого, но он вбил себе в голову, что должен проверить вашу спальню. Конечно, надоело мужику томиться, разглядывая ваши пышные юбки, захотел поглядеть, что там под ними.
– Какие юбки? Какой навоз?! – растерянно спросила Марина, с опаской поглядывая на верную подругу: вдруг почудилось, что Барбара сошла с ума. – Ради Христа-спасителя! При чем тут Заруцкий? Какие дровни? Переодевшись крестьянином?! Ты говоришь, Дмитрий уехал из Тушина, переодевшись крестьянином? Да ты в своем уме, Барбара?
Та уперла руки в боки и возмущенно выпалила:
– Почему это я сошла с ума? Это, видимо, ваш супруг сошел с ума, коли ударился в бегство, не то что не взяв с собой жену, но даже не предупредив ее!
Да, воинская удача, особа капризная, отвернулась от Дмитрия. Он поссорился с польским войском и решил бежать в Калугу, чтобы начать там все сначала.
Марина пришла в ужас. Понимала: ей одной не справиться со взбунтовавшимися соотечественниками, которые откровенно презирали ее за то, что она поддерживала обман Дмитрия. В этом же можно было упрекнуть и их, но от нее поляки не желали принимать упреков.
Несколько дней от беглого государя не было в Тушине ни слуху ни духу. А в таборе царил страшнейший беспорядок. В это время один из посланников польского короля, который давно уже прибыл в Россию и вел переговоры то с Шуйским, то с Дмитрием, нашел время встретиться с Мариной. Он, как мог, уговаривал расстаться с честолюбивыми намерениями, если она хочет заслужить благосклонность польского короля.
Марина даже не стала тратить время на разговоры с этим человеком, а просто протянула ему загодя написанное письмо для передачи королю Сигизмунду. Это была не мольба о прощении, не признание ошибок своих – это была холодная отповедь государыни, данная человеку, который пытается покуситься на ее законные права:
«Ни с кем счастье не играло так, как со мною: из шляхетского рода возвысило оно меня на престол московский и с престола ввергнуло в жестокое заключение. После этого, как бы желая потешить меня некоторой свободою, привело меня в такое состояние, которое хуже самого рабства, и я теперь нахожусь в таком положении, в каком, по моему достоинству, не могу жить спокойно.
Если счастье лишило меня всего, то осталось при мне одно право мое на престол московский, утвержденное моею коронацией, признанием меня истинной и законной наследницей – признанием, скрепленным двойной присягой всех сословий и провинций Московского государства. Марина, царица московская».
Да, в этом звании черпала она силы: она царица не по мужу, кто бы он ни был, а по коронации!
Тушино между тем продолжало волноваться. Отнюдь не все хотели примкнуть к польскому королю, ибо в войске Сигизмунда нужно было подчиняться дисциплине, а в войске тушинском царила полная свобода: тут даже царика можно было порою послать по матушке – и ничего тебе за это не будет. Жаль им было своевольного, веселого житья в Тушине!
Барбара, всегда бывшая в курсе всех дел, передавала это Марине и рассказывала, что очень шумят донцы, которые никому не верят и даже выступают против своего атамана Заруцкого. Часть их хочет уйти под Смоленск, к Сигизмунду, часть думает, что не надо покидать Дмитрия.
Тут Самозванец сделал очень умный ход, обратившись к тушинцам с посланием.
Дмитрий жаловался на коварство польского короля, называл его виновником своих неудач, обвинял в измене своих московских людей и в предательстве служивших ему польских панов, особенно Рожинского, убеждал шляхту ехать к нему на службу в Калугу и привезти его супругу-царицу. Он предлагал тотчас по 30 злотых на каждого конного, подтверждал прежние свои обещания, которые должны исполниться после завоевания Москвы, припоминал, что он прежде ничего не делал без совета со старшими в рыцарстве, так будет и впредь. Дмитрий требовал казни Рожинского или хотя бы изгнания его, избрания нового гетмана. Виновных в измене московских бояр и дворян он требовал привезти к нему в Калугу на казнь.
После этого письма в таборе все совершенно стало с ног на голову. Марина поняла, что другого случая переломить ход событий в свою пользу у нее не будет. Она выскочила из дому полуодетая, не сдерживая слез, забыв всякую стыдливость, металась по ставкам, умоляла, заклинала рыцарство вернуться к Дмитрию, хватала за руки знакомых и незнакомых людей, обещала все, что в голову взбредет, лишь бы расположить к себе сердца. Марина поняла, что ее сила сейчас – не в привычной надменности и сдержанности. Ее сила сейчас – в слабости. И слабее этой маленькой, худенькой, растрепанной, заплаканной женщины трудно было отыскать на свете!
Заламывая руки, она молила соотечественников и казаков не покидать ее:
– Неужто все унижения и муки наши были напрасны? Неужто молились мы пустоте все эти годы? Неужто признаемся сами перед собой, что чаяния наши и надежды – не более чем пыль на ветру?! Дмитрий – наша последняя надежда!
Голос Марины срывался, глаза казались огромными от непролитых слез. Она стояла на февральском ветру в одной сорочке, на которую была спешно надета юбка. Худенькие плечи прикрывал платок, а ноги были кое-как всунуты в сапожки. Тяжелая коса ее, всегда обвивавшая голову, расплелась и металась по спине.
Казаки и шляхта нынче впервые увидели свою царицу без привычной надменной брони, и многие даже не верили своим глазам: да точно ли это Марина Юрьевна?!
– Слушайте ее больше! – закричал Рожинский, вдруг испугавшись этой маленькой женщины так, как не пугался никого и никогда. – Это какая-то девка, а не государыня! Она такая же самозванка, как ее муж!
Кое-кто насторожился. Кое-кто захохотал.
– Эй, царица! Где твоя корона? – глумливо выкрикнул какой-то московит.
– Небось под юбкой прячет! – взвизгнул другой. – А ну, задерем ей юбку, робята!
И тут же охальник подавился чьим-то кулаком, влетевшим ему прямо в разинутый рот и раздробившим зубы. В следующее мгновение последовал новый удар – в лоб. Мужик упал навзничь и испустил дух.
– Ну, кто еще хочет выйти со мной на кулачки? – спросил высокий человек, оборачиваясь к толпе. – Давай-ка по одному!
Он сбросил полушубок, распустил пояс рубахи и засучил рукава. Двое-трое каких-то разъяренных, а может, просто глупых шляхтичей ринулись было вперед, но замерли, словно налетели на невидимую стену. Попятились.
– Заруцкий! Это Заруцкий! – полетел шепот над толпой.
Стало тихо. Никто и никогда не видел казацкого атамана таким. Всегда слегка угрюмый, замкнутый и молчаливый, он не любил попусту махать кулаками и бросать кому-то вызов. В отличие от ярких, велеречивых, подвижных Рожинского и Сапеги, которые привлекали к себе внимание, словно пестрые птицы, во всей богатырской фигуре и шальных зеленых глазах Заруцкого и без того было нечто подавляющее, заставляющее смотреть на него со вниманием и прислушиваться к каждому оброненному им слову.
Его улыбка была дорогим подарком. А внезапная вспышка гнева пригибала людей к земле, подобно тому, как буря гнет деревья.
– Вам-то что здесь за дело, пан Заруцкий? – закричал Рожинский, который всегда ненавидел атамана, как только может поляк ненавидеть казака, человек с проблесками цивилизованности – ненавидеть дикую, неразумную силу, родовитый шляхтич – ненавидеть плебея, а один сильный мужчина – ненавидеть другого, ничуть не менее сильного.
Но атаман не обратил на него никакого внимания. Подхватил с земли полубесчувственную Марину, смело повернулся спиной к оставшимся и, метнув через плечо последний предостерегающий взгляд, пошел к дому, в котором она жила.
Увидев Марину на руках Заруцкого, Барбара на миг вовсе ополоумела и кинулась на казака с кулаками, пытаясь отбить свою госпожу. Но Иван Мартынович не выпустил бы из рук драгоценную добычу, даже если бы Барбара кликнула себе на помощь ватагу разъяренных медведей-шатунов. Он лишь повел локтем – и дородная гофмейстерина неуклюже отлетела в угол. Затем послышался грохот задвигаемого засова, и Барбара припала к двери, пытаясь различить, что происходит за ней. Но услышать ничего не могла.
А между тем в спальне долгое время ничего особенного не происходило, кроме того, что Заруцкий сидел на кровати, держа на коленях Марину, а та отчаянно рыдала, уткнувшись ему в плечо. Марина была так мала и худа, что атаману казалось, будто на коленях у него сидит маленькая девочка, почти ребенок. Да что в ней было такое, в этой маленькой птахе, что Заруцкий не мог избыть страсти к ней? Он безумно хотел Марину – и враз боялся ее, чуя некую страшную, разрушительную силу ее натуры. Она сгубила Дмитрия, великого, великолепного человека, – она и Заруцкого сгубит.
Он знал это – знал, но ничего не мог поделать с зовом своей судьбы!
…Они провели ночь, перемежая поцелуи разговорами, открывая друг другу то, что казалось тайным, навеки скрытым в глубинах их темных, яростных душ. Но если мужчина, обессиленный своей откровенностью, наконец уснул на полуслове, на полувздохе, то у женщины сна не было ни в одном глазу. Она боялась Заруцкого – этот человек мог сломать ее, сломить, подчинить себе безвозвратно. Но она не игрушка для мужчин, даже самых лучших во вселенной, – она сама по себе. Она царица, а не рабыня. Это мужчинам предназначено быть ее рабами!
Заруцкий умолял Марину остаться в Тушине, потому что ее отъезд якобы вызовет раскол в лагере. Но Марине только этого и нужно – вызвать раскол, не дать Рожинскому одурачить шляхтичей и поляков!
Она соскользнула с постели, бросилась к столу, схватила одно из очиненных перьев и торопливо, не подбирая слов – чудилось, все, что она сейчас пишет, продиктовано ей свыше! – написала на листе:
«Без родителей и кровных, без друзей и покровителей, в одиночестве с моим горем мне остается спасать себя от последнего искушения, что готовят мне те, которые должны бы оказывать мне защиту и попечение. Горько моему сердцу! Меня держат как пленницу; негодные ругаются над моей честью, в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутницам и строят против меня измены и заговоры. За меня торгуются, замышляют отдать меня в руки того, кто не имеет никакого права ни на меня, ни на мое государство. Гонимая отовсюду, свидетельствую богом, что вечно буду стоять за свою честь и достоинство. Раз бывши государыней стольких народов, царицею московской, я не могу возвратиться в звание польской шляхтянки и никогда не захочу. Поручаю честь свою и охранение храброму рыцарству польскому. Надеюсь, что это благородное рыцарство будет помнить свою присягу и те дары, которые от меня не ожидает!»
Здесь досталось всем сестрам по серьгам, но больше всего камней было запущено в огород Рожинского, которого отныне Марина считала своим кровным врагом – почти столь же ненавидимым, как предатель-мечник Скопин-Шуйский, который покинул безоружного царя Дмитрия на растерзание толпы.
Она оставила письмо на столе, пошла к двери… и оглянулась на спящего Заруцкого. На миг зажмурилась, чтобы навсегда запомнить, как он лежал, – поверженный богатырь, Самсон, остриженный Далилой.
Сердце ее преисполнилось гордости. Бесшумно отодвинула щеколду и выскользнула из комнаты. Увидела ждущие глаза Барбары, мельком улыбнулась – и велела ей немедля переодеться в мужское платье и готовиться к отъезду, взяв с собой только преданного казака-конюшего. Сама Марина тоже облачилась в форму гусара.
– И – тихо, как можно тише! – твердила она, загадочно улыбаясь. – Тише, тише!
Целую ночь они мчались верхом в Калугу. Однако заблудились в вьюжной круговерти и вместо Калуги очутились в Димитрове, где теперь стояло войско Яна Сапеги. Марина, вне себя от ярости, готова была вновь пуститься в путь, однако Сапега с трудом удержал ее: ведь к Димитрову приближалось войско Скопина-Шуйского и шведского полководца Делагарди. Только страх попасть в плен к предателю-мечнику остановил Марину и вынудил остаться в Димитрове. Одному она радовалась: теперь у нее будет возможность высказать знаменитому полководцу все, что она о нем думает!
* * *
Князь Михаил Скопин-Шуйский, ободренный своими победами, особенно тем, что разбил поляков под Троицким монастырем и освободил его от осады, не сомневался в быстрой победе над защитниками Димитрова. Как ни ярились польские храбрецы, однако видно было, что осажденные теряют дух. Но вдруг на городской стене появилась женская фигурка. Сначала, впрочем, ее приняли за юношу, потому что на ней была одежда польского гусара. Однако, скинув шапку и тряхнув головой, так что закрученная на затылке коса развилась и упала на спину, женщина стала, подбоченясь, и закричала, мешая польские и русские слова:
– Смотрите и стыдитесь, рыцари! Я женщина, но не теряю мужества и не собираюсь спасаться бегством! Да и кого вы испугались? Предателя и изменника! Разве может бог встать на сторону предателя?!
– Она безумная, юродивая, – переговаривались русские, слышавшие ее крики, однако Яков-Понтус Делагарди, бывший при осаде рядом со Скопиным-Шуйским, поразился его изменившимся обликом. Право, у храброго полководца был такой вид, словно он невзначай встретил привидение!
Тут же толмач подсказал Делагарди, что он видит перед собой не кого-нибудь, а Марину Мнишек.
Шведский полководец, француз родом, вытаращил глаза. Он много слышал об этой удивительной даме, о которой люди говорили со странной смесью ненависти и восхищения, но ни в коем случае не равнодушно, и в первую минуту испытал откровенное разочарование: было бы на что смотреть, было бы к чьим ногам метать Московское царство! Не иначе и первый Дмитрий, и второй были одурманены этой невидной, маленькой бабенкой. Уж не колдунья ли она, которая наводит чары на мужчин?!
– А про какого предателя она говорит? – спросил Делагарди.
Толмач перевел вопрос, но Скопин-Шуйский только дико поглядел на своего сотоварища и ничего не ответил.
Впрочем, ответ был тут же дан со стены.
– Князь Михаил! – прокричала Марина громким голосом. – Мечник царя Дмитрия, слышишь меня? Помнишь ли ты погубленного тобою государя? Именем его я призываю тебя к ответу! Не думай, что тебе удастся уйти от мести! Ты предатель – и смерть твоя будет достойна предателя, потому что тебя обрекут на смерть те, кому ты доверишь свою жизнь! Сгинешь вместе со своим Шуйским, таким же предателем и клятвопреступником, как ты!
Делагарди почувствовал себя оскорбленным за своего храброго друга.
– Стреляйте в окаянную бабу! – крикнул он, и вокруг загремели выстрелы: люди словно очнулись от зачарованного сна.
Однако пули миновали Марину, как если бы она была заговоренная. Неторопливо подобрав косу, она закрутила узел на затылке и спокойно сошла со стены, сопровождаемая невысоким, но чрезвычайно удалым с виду шляхтичем, в котором узнали Сапегу.
Как истинный француз, Делагарди умел уважать достойного противника и с интересом уставился на польского воеводу, тотчас забыв о Марине и ее выкриках. Он счел эту даму полубезумной и не придавал ее словам никакого значения. Никаким обвинениям Делагарди не поверил. Ясно же, что для Марины каждый, кто приложил руку к свержению ее мужа, – враг и предатель. Эта дама просто не соображает, что молотит языком!
Однако на Скопина-Шуйского вопли Марины произвели, кажется, огромное впечатление, потому что весь этот день он был рассеян, а наутро приказал основным силам отойти от Димитрова и вернулся в Москву.
Однако этим он не спасся от проклятия Марины!
…23 апреля 1610 года Михаила Васильевича Скопина-Шуйского позвали крестить к князю Ивану Воротынскому. Кумой была Екатерина Григорьевна – жена Дмитрия Шуйского, сестра покойной Марьи Григорьевны Годуновой, супруги царя Бориса, меньшая дочь знаменитого Малюты Скуратова.
Посреди пира Скопину-Шуйскому сделалось дурно, открылось кровотечение из носа, которое никак не могли унять.
Князя Михаила отвезли домой; немедля извещенный о болезни друга Делагарди прислал к нему своего медика, не доверяя царскому лекарю. Но ничто не помогло. Прибавилось и внутреннее кровотечение. Через несколько дней изнемогший от потери крови князь Михаил скончался.
Говорили, перед смертью, уже в полузабытьи, он настойчиво просил у кого-то прощения, клялся, что не мог поступить иначе, что не со зла содеял такое, а во имя родимой страны…
Перед кем клялся? В чем каялся?
Сие осталось неведомо: исповедовавший его священник не открыл последней тайны умирающего, только видели, каким угрюмым, почерневшим вышел он с исповеди.
А впрочем, немудрено почернеть, видя смерть народного героя и великого полководца!
Всеобщая молва тотчас разнесла, что Скопина-Шуйского отравила кума – Екатерина Григорьевна. Народ взволновался до того, что чуть не разнес дом Дмитрия Шуйского по бревнышку и не убил всех обитателей. Пришлось царю прибегнуть к военной силе, чтобы охранить своего брата!
Делагарди верил в виновность Екатерины Шуйской, но, по его мнению, истинной погубительницей князя Михаила была другая женщина… Яков-Понтус готов был сейчас душу дьяволу прозакладывать, только бы сойтись когда-нибудь с ней на узенькой дорожке. Небось не поглядел бы, что пред ним дама!
Но враг рода человеческого, очевидно, на сей раз не испытывал недостатка в душах добрых людей, а потому на призыв Делагарди не откликнулся. С Мариной Яков-Понтус так и не встретился, что не мешало ему призывать на ее голову проклятия до конца жизни.
* * *
Когда по городам и селениям разнеслась весть, что не стало лучшего воеводы, спасителя русской земли, Тушинский вор, как прозвали нового Дмитрия, опять начал провозглашать себя избранником божиим и уверял: смерть князя Михаила – не что иное, как знак свыше.
Он снова сделался щедр на посулы и обещания, особенно усердствовал в отношении поляков, которых у него благодаря неутомимому Сапеге еще оставалось немалое количество.
– Я надеюсь с вашей помощью скоро воссесть на столице предков! – заявлял он своему потрепанному рыцарству. – Заплачу вам тогда за все ваши труды и отпущу в ваше отечество. Но я бы желал всегда видеть вас при себе. Даже когда я стану государем в Московии, и тогда не смогу я без поляков сидеть на престоле. Хочу, чтобы всегда были при нем польские рыцари! Один город будет держать у меня московский человек, а другой – поляк. Золото и серебро – все, что есть в казне, – все ваше будет, а мне останется слава, которую вы мне доставите.
Теперь, когда Рожинский не восстанавливал своих против Дмитрия и не выставлял его на каждом шагу дураком, его вновь начали слушать со вниманием. Особенно после того, как к нему прибыла царица, особенно после того, как выяснилось, что царица беременна!
Теперь у них были не только царь Дмитрий и царица Марина. У них должен был появиться царевич, наследник. Настоящая царская семья… В этом было что-то весьма убедительное для поляков, которые, как и все католики, относились к семейным узам с огромным уважением, даром что сами давно побросали свои семьи на произвол судьбы, потащившись в Московию за призраком удачи.
Да, Марина поняла свое новое положение, еще пребывая в ставке Сапеги, где невольно задержалась на два месяца. Она ничуть не сомневалась, что беременна от Заруцкого. Ведь с мужем жила сколько времени, а ничего. Тут же одна ночь – и вот…
Сапега нипочем не хотел выпускать ее из крепости, правдами и неправдами уговаривал остаться, осыпал комплиментами и посулами, устраивал в ее честь маленькие балы, на которых Марина, отвыкшая от милого ее сердцу веселья, танцевала до упаду, до головокружения. А потом как-то раз вечером она ощутила, что сегодня состоится серьезный разговор. В самом деле – время недомолвок чрезмерно затянулось, хватит ходить вокруг да около, пора переходить прямо к делу. Именно поэтому, прежде чем идти на ужин к Сапеге, Марина кое о чем пошепталась с Барбарой…
Предчувствия не обманули Марину. Сапега впрямую заявил:
– Дело Дмитрия проиграно. Против него стоят не только король Сигизмунд и царь Василий. Против него вся Московия скоро подымется. Вот увидите, ясновельможная пани, что падет ваш супруг не в бою, не при государственном перевороте, как пал первый Дмитрий, а от рук какого-нибудь невидного мещанина либо стрельца. А еще хуже, ежели наколет его на копьецо обыкновенный немытый татарин, коему почудилось, что наш «государь» непочтительно взглянул на его мурзу!
«Типун тебе на язык!» – подумала Марина с искренней тревогой.
– Я предлагаю вам свою руку, – продолжил Сапега. – Руку, на которую вы сможете опереться, и сердце, которое будет биться только вами. Если вы станете моей путеводной звездой и моим знаменем, я… я смогу очень многое. Я соберу новую армию – меня знают поляки, они любят меня, пойдут за мной охотно. Я встану против Сигизмунда в защиту ваших прав. Я возведу вас на московский престол.
– То есть вы желаете стать царем в России? – уточнила Марина, подумав, что этот трон манит авантюристов всех мастей, в точности как медом намазанный ломоть хлеба манит мух. Но отчего этим легкомысленным людишкам кажется, что овладеть престолом так уж просто? А ведь овладеть – это еще полдела, главное – удержать его!
– Царица здесь только вы, моя ненаглядная панна, – склонился перед ней Сапега. – Вы законная царица Московии и полновластная властительница моего сердца.
Он выпрямился и вдруг стремительно оказался рядом с Мариной, схватил ее за талию, потянул к себе:
– А вот теперь вы точно моя пленница! Я вас никуда не отпущу от себя!
Марина уперлась в его грудь вытянутыми руками и смотрела в лукавые желтые глаза, задумчиво прикусив губу.
Слова Сапеги можно было понять двояко. В них крылась угроза… Однако Марина не спешила вырваться из его объятий именно потому, что оставаться рядом с ним было так же опасно, как оттолкнуть его. Она давно знала, что Сапега к ней неравнодушен: еще в Польше на каком-то балу пытался объясниться в любви. Его всегда влекло все неприступное: невеста русского государя, жена русского царя, царица московская…
Она уже совершенно точно знала, как обойтись с Сапегой, чтобы не заиметь в его лице серьезного врага. Способ был только один… причем весьма приятный.
Марина с тайной усмешкой вспомнила, как боялась когда-то близости с мужчиной. Теперь она понимала, что это – ее главное оружие… против мужчин, и готова была испытывать его сколь угодно часто. Боже мой, боже, какой долгий, невероятно долгий путь прошла она от той самборской недотроги, которая гнушалась и руку влюбленному пажу лишний раз протянуть для поцелуя! Репутация неприступной красавицы была идолом панны Марианны. И вот этот идол рухнул, разбился вдребезги…
Удивительно, насколько свободно она себя теперь ощущала. Словно бы цепи какие-то свалились с рук и ног.
Она изо всех сил пыталась отвечать на затейливые ласки Сапеги, но перед глазами мелькало не это круглое лицо с пышными усами и желтыми глазами (в Сапеге было нечто кошачье), а то, другое, страстное, зеленоглазое…
Потом Марина какое-то время лежала рядом со спящим, мрачно вглядываясь в темноту и мысленно сокрушаясь. Да… плохи дела, гораздо хуже, чем ей казалось. Мало того, что забеременела от казацкого атамана, так еще, кажется, влюбилась в него, если только его и видит, даже когда лежит в объятиях другого мужчины!
Нет, даже мыслей этих нельзя допускать в голову. Любовь – это для тех, у кого есть на нее время. У Марины же этого времени нет, значит… А вот беременность – от этого так просто не отмахнешься. Да и не стоит. Только надо поступить разумно, разумно… Надо убедить Дмитрия, что ребенок – его.
Той же ночью, покинув спящего Сапегу с куда большей легкостью, чем она недавно покидала спящего Заруцкого, Марина ушла в Калугу – верхом, уведя за собой три сотни донских казаков, готовых вновь послужить царю Дмитрию.
Слитный топот копыт разбудил Сапегу. Воевода выскочил из дому полуодетый, в наброшенной на плечи медвежьей дохе, завопил часовым:
– Не пропускайте их!
Громада всадников заклубилась перед стеной. Засверкали выхваченные из ножен сабли, однако Марина вырвалась из толпы и осадила коня перед Сапегой.
– Вели отворить! – выкрикнула она пронзительным голосом. – Не то я дам тебе бой! Твое войско сейчас спит – мое порубит вас всех в щепы, а тебя первого! Думал, царица теперь твоя будет? Никогда! Вели отворить!
Сапега умел признавать поражение и знал, что в военном деле ценится не только умение побеждать, но и умение красиво проигрывать.
– Открыть ворота! – злобно рявкнул он, но тотчас вздел на лицо улыбку и отсалютовал пролетевшей мимо него всаднице обнаженной саблей.
С каким удовольствием он обрушил бы эту саблю ей на шею!
* * *
Странная теперь у Марины была жизнь!
Помнится, было время, когда ей снилась крутая лестница. С величайшей осторожностью поднявшись высоко-высоко, она вдруг ощущала, что ступеньки колеблются под ногами. В следующее мгновение лестница складывалась, словно гармошка, и Марина повисала в воздухе, понимая, что сейчас грянется оземь. Само падение не снилось никогда – Марина успевала проснуться, задыхаясь от страха, в ледяном поту.
Вот в этом состоянии – еще не свершившегося падения – она находилась сейчас постоянно.
Дмитрий метался от Калуги в Коломенское, от Боровского в Угрешский монастырь, оттуда в Серпухов… Бой следовал за боем – удачи сменялись поражениями. Его всюду сопровождали донцы во главе с Заруцким, который однажды как ни в чем не бывало появился в Калуге с несколькими тысячами войска, – и Марина с Барбарой.
Беременность утомляла Марину необычайно, и чем дальше, тем становилось тяжелее. Даже появление Заруцкого не вывело ее из состояния того оцепенения, в каком она теперь пребывала. Иной раз до такой степени все становилось безразлично, что хотелось уснуть вечным сном, только бы не суетиться больше.
Так чуть не произошло в Угрешском монастыре. Тогда Дмитрий все еще хотел держаться поближе к Москве. Однако польский гетман Жолкевский, пленивший царя Василия Шуйского, пошел через Москву с намерением захватить «вора». Действовали поляки в такой тайне, что почти в обхват стали вокруг монастыря. Но это каким-то чудом стало известно касимовским татарам[12], которые никак не могли выбрать себе господина и служили то полякам, то Дмитрию. Вот и на сей раз так вышло, что сам Ураз-Махмет, касимовский царь, уже был у Жолкевского, а сын его продолжал держаться за Дмитрия. Более того, с ним у «вора» оставались его мать и жена. Жалея своих, Ураз-Махмет тайно послал к Дмитрию человека с предупреждением. Посланный прибыл в последнюю минуту, поэтому уходили из монастыря чрезвычайно поспешно.
Никакого награбленного добра – а его свезли в монастырь немало! – забрать с собой не успели. Вдобавок никак не могли разбудить Марину. Она отмахивалась от всех попыток поднять ее с постели, словно не понимая, что подвергает всех смертельной опасности. Дмитрий был вне себя от ярости, кричал, что решил бросить ее – зачем она ему теперь, если Сигизмунд отнял у нее титул московской царицы! Барбара пыталась унести свою госпожу на руках, но не хватило сил.
Вмешался Заруцкий. Он оставил своих донцов дожидаться, вбежал в монастырь, завернул спящую Марину в одеяло и так, на руках с нею, пустился во главе своего отряда. Дмитрий и Барбара шли на рысях следом.
Словом, ускользнули из-под самого носа поляков. Те ни с чем воротились на Девичье поле, где стояли тогда.
А касимовский царь, словно раскаявшись, что его волею ненароком спасся Дмитрий, учудил вот какую штуку. Взял да и приехал в Калугу под тем предлогом, что хочет с сыном повидаться. Дмитрий за свое спасение оказал Ураз-Махмету всяческое уважение и даже устроил ради него псовую охоту. Вырвались вперед четверо охотников: сам Дмитрий, Ураз-Махмет и два «ближних боярина» царика: Михаил Бурулин и Игнатий Михнев. Скрылись за лесом… как вдруг через некоторое время видят люди: летят обратно во весь опор Дмитрий да его «бояре» и криком кричат:
– Спасайтесь все, Ураз-Махмет посадил в засаду своих людей, чтобы убили нас!
Охотников было мало, все поспешили удариться в бегство в Калугу. Гнались за ними татары или нет, сего никто не видел, да и оглядываться некогда было.
Сын Ураз-Махмета по-прежнему оставался в войске Дмитрия, и великодушный царик никогда ему укора за отцово предательство не делал, к прочим татарам относился как к дорогим соратникам. Ураз-Махмет же больше не появлялся ни в Калуге, ни в своем Касимове. Думали, он воротился к полякам либо в Москву.
В октябре Марина родила сына. Крестили его Иваном.
На пиру в честь этого события Иван Мартынович Заруцкий напился так, что его без чувств унесли. Никто и никогда не видел атамана таким! Марина избегала его, не хотела и слова сказать. А впрочем, она мало выходила из дому – все хворала после родов. И Барбара была при ней неотлучно, никак не поговоришь…
И вот именно в это время в Калугу пришел на рысях татарский отряд с предложением Дмитрию: принять его под свои знамена. Во главе были касимовец Петр Урусов и его брат.
Ох, как обрадовался Дмитрий! Пошли пиры, а потом татары попросили устроить для них псовую охоту.
Как-то так получилось, что отправились немногие: Петр Урусов с братом и еще самые близкие им люди да Дмитрий с несколькими «боярами».
Марина только вздохнула завистливо, глядя, как выезжает кавалькада из ворот. До чего же она сама любила охотиться дома, в Самборе! Но все это осталось в прошлом, а о прошлом Марина старалась не вспоминать.
День для охоты был как на заказ – ясный, солнечный, морозный, но тихий. Однако удача не шла. В конце концов всем надоело попусту мотаться по лесу – подъехали к заранее разбитому шатру, отобедали, выпили крепко… настолько крепко, что после этого Дмитрий верхом ехать уже не мог. Раскинулся в нарочно для всякого случая взятых санях, смеялся, болтал с Петром Урусовым и его братом, ехавшими по обе стороны саней.
И вот Петр оглянулся на далеко растянувшихся по дороге «бояр» и негромко спросил Дмитрия:
– Сделай милость, государь, покажи то место, где ты моего царя Ураз-Махмета в Оку сунул?
С Дмитрия мгновенно слетело благодушие:
– Что ты сказал, морда татарская?! Да как ты смеешь?! Ураз-Махмет сам меня чуть на тот свет не отправил, он засаду…
– Врешь! – вздохнул Урусов. – Врешь ты все. Ты царя за то убил, что боялся, как бы он сына своего от тебя не увел и конников его к полякам не переманил. Я знаю, как дело было. Только в тот день вы за лесом от других охотников скрылись, как ты и дружки твои, Михаил Бутурлин и Игнатий Михнев, на царя напали и закололи его кинжалами. Бросили убитого в Оку, а потом назад поскакали, крича, что на вас напали… Так вот прошу тебя: покажи, где мой царь встретил свой смертный час. Тогда, быть может, я тебя и прощу…
– Врешь, – продолжал упорствовать бледный до синевы Дмитрий, не в силах постигнуть, как мог Урусов догадаться о случившемся с Ураз-Махметом. Он прекрасно понимал, что признаваться никак нельзя, что, признавшись, он как раз и подпишет себе смертный приговор. – Не было этого!
Он затравленно озирался, но помощи ждать было не от кого. Отряд изрядно отстал. Дмитрий понял, что татары нарочно задерживают верных ему людей.
– Не хочешь говорить? – сурово сказал Урусов. – Ну, коли так…
И тотчас же сабли братьев Урусовых с двух сторон обрушились на лежащего в санях Дмитрия:
– Вот тебе за нашего царя месть!
Так, словно невзначай, покончено было с человеком, который некогда забыл себя, чтобы унаследовать судьбу другого. Как сказал некий его современник из числа иноземцев, «русские не забудут его, пока свет стоит».
Беда только, что эта память пахла кровью, дымом и смертью.
Когда тело Дмитрия привезли в город, Марина выскочила на крыльцо в чем была. Вопила, рвала на себе волосы, требовала мести.
Калужане, впрочем, смотрели на ее горе довольно-таки равнодушно: им порядком осточертела власть Дмитрия, да опасно стало жить в городе, который поляки в любую минуту могли огню предать из-за того, что он приютил мятежников! Многие втихомолку крестились, что избавились от такого «постояльца».
Тогда Марина бросилась к донцам, однако Заруцкий встретил ее неприветливо и никакого желания мстить за Дмитрия не выразил.
– Да полно притворяться! – сказал с угрюмой насмешкой. – Спасибо скажи, что он погиб, а не ты мертвая лежишь!
– Плохо ты меня знаешь! – яростно выкрикнула Марина. – Кто я теперь? Разжалованная царица? Вдова с ребенком? Никто! Дмитрий, может быть, довел бы меня до Москвы, а кто теперь доведет? Ты, что ли?
– А почему не я? – тихо спросил Заруцкий. – Только скажи: этот ребенок… он мой сын?
Какая женщина на месте Марины сейчас сказала бы «нет»? Но Заруцкий отчего-то знал: любой ее ответ будет правдивым. Знал!
– Твой, – сказала она, ни мгновения не промедлив.
Заруцкий задохнулся.
Какое-то время они молча стояли друг против друга, не в силах развести взгляды, потом оба враз закрыли глаза, шагнули вперед и крепко обнялись.
Но долго обниматься было некогда.
Заруцкий поднял своих казаков, те напали на татар, каких только можно было найти в Калуге, перебили их. На другой день атаман от имени Марины стал требовать от калужан присяги ее сыну как наследнику престола.
Да, все были уверены, что ребенок – сын Дмитрия: это придавало его имени весомость. Ну кто стал бы присягать сыну казачьего атамана?! Поэтому как ни ныло ретивое у Заруцкого, он был принужден признать правоту Марины, которая называла сына Иваном Дмитриевичем. Единственное, что утешало казака, это уверенность, что сын назван в его честь.
Именно желание хоть как-то закрепить свои права на сына, казалось Марине, и побудило Заруцкого называться иногда Дмитрием. Когда он захватил Астрахань и утвердился в этом городе, убив воеводу Ивана Хворостинина, астраханцы так и надписывали свои челобитные:
«Царю-государю Дмитрию, государыне-царице и великой княгине Марине Юрьевне и государю-царевичу и великому князю Ивану Дмитриевичу».
Астрахань стала последним прибежищем «царской семьи», прошедшей за минувшие четыре года, кажется, все круги ада, испытавшей и огонь, и воду, и медные трубы. Их гнали поляки, русские, шведы, казаки…
Да разве только они одни переживали муки? Разве не горела в адском огне и вся страна?
* * *
Марина думала, что самым большим несчастьем в ее жизни был брак со вторым Дмитрием. Вспоминала, как испугалась, увидав его: «Нет, лучше смерть, чем это!» Но, как ни странно, она смогла это пережить. А вот после его смерти на нее обрушились настоящие несчастья, которые никак невозможно было избыть. И наваливались они так поспешно, так неудержимо, что их не только остановить было невозможно, но даже и исчислить. Пытаясь вспомнить их и как-то упорядочить, она терялась: немыслимо, беды путались в памяти, накатывали косматым водяным валом, какие порою ходили по Волге и Каспийскому морю, около которого стояла Астрахань.
Воспоминания далекого, дальнего прошлого – вот что было соломинкой, за которую неустанно хваталась Марина. Сама себе она казалась человеком, разбуженным посреди чудного, блаженного сна, и расставаться с видениями было невозможно, невыносимо, поэтому она и наяву пыталась поймать рассеивающийся призрак. Она отворачивалась от пропастей, которые разверзались под ногами, и закрывала глаза перед препятствиями, выраставшими тут и там на ее пути. Ноги ее были изранены, руки ослабели, душа изуверилась…
Самое страшное было именно в том, что верить она могла считаному числу людей. Иван любит ее – но держится больше за своего сына, которого упрямо хочет видеть на царстве Московском. Вот Барбара, конечно, предана госпоже непоколебимо, не покинула ее ни в Калуге, ни в Михайлове, ни в Коломне, ни в Астрахани; да еще, на Маринино счастье, прибился к их скудному двору неутомимый странник – тот самый Никола де Мелло, который когда-то убеждал ее сойтись с Дмитрием. Она была настолько счастлива снова увидеть рядом католического монаха, что простила изрядно постаревшему, но по-прежнему не унывающему августинцу его происки. Вот и все люди, которым она могла верить…
Всякий союзник был таковым лишь до поры до времени, пока преследовал свою выгоду. От некоторых приходилось остерегать Заруцкого, который был обуреваем желанием собрать под знамена царевича Ивана целую армию. Самым опасным среди таких временных союзников, готовых в любое мгновение обратиться врагами, был, конечно, Прокопий Ляпунов. Марина никогда не доверяла предводителю земли Рязанской: он крепко держался против обольщений Дмитрия Второго, ни шагу уступки ему не сделал. Не изменился и теперь. Союз его с Заруцким был временным: как только Ляпунов понял, что донца волнует только своя выгода, так начал отлагаться от него, упрекая Заруцкого в том, что тот предает православную веру.
Это было смешно: насколько ненавидел Заруцкий поляков, столько же ненавидел и московитов, насколько пренебрегал католической верой, столько же презирал и православие. Поэтому сколько бы ни приобретал Заруцкий своей легендарной храбростью в битвах с поляками, он терял гораздо больше, когда вновь ополчался против своих и разорял монастыри, грабил церкви, насиловал монахинь…
Его налет на Девичий монастырь близ Москвы заставил Марину чуть ли не визжать от ярости: ну зачем дразнить этих московитов, которые за своего бога готовы горло перегрызть?! И в то же время доставил ей огромную радость. Среди ограбленных до нитки, обесчещенных, разогнанных из монастыря инокинь оказалась старица Ольга… Уж Марина-то отлично знала, кто таится под этим именем! Ведь именно ей была обязана Ксения Годунова тем, что рассталась со своими роскошными «трубчатыми косами», воспетыми даже в песнях, что ее тело, «словно вылитое из сливок», иссохло под монашеской одеждой. Но хоть и бросил Дмитрий – тот, первый, подлинный! – под ноги своей польской невесте страсть к русской красавице, все же ревность никогда не утихала в сердце себялюбивой шляхтянки. И, может быть, она впервые почувствовала себя отмщенной, когда услышала о бесчинствах донцов в Девичьем монастыре.
Однако тут же вещее сердце сжалось, предчувствуя, как это аукнется для имени и славы Заруцкого.
Конечно, имя дочери Бориса Годунова, полузабытое имя, уже мало что означало для русских людей. Но такими вроде бы незначительными каплями постепенно переполнялась чаша терпения… и скоро ярость народа должна была хлынуть через край, обратившись равным образом и против чужеземцев, и против «своих» разбойников.
Марина поняла: это случилось, когда в Нижнем Новгороде начало собираться ополчение. Опасный Ляпунов к тому времени был уже мертв, однако новые имена – Минина и Пожарского, предводителей нижегородского ополчения, – вскоре сделались новыми кошмарами снов Марины.
По шляхетскому пренебрежению к «быдлу», «холопам» она относила торгового человека Кузьму Минина на второе место. Гораздо сильнее беспокоила ее обаятельная личность князя Дмитрия Пожарского! Его надо было сжить со свету – на меньшее ни Заруцкий, ни сама Марина никак не соглашались.
Атаман нашел среди своих донцов двух верных лихих людей – казаков Обрезку и Стеньку. Затесавшись в ополчение, они отыскали сообщников среди близких к князю людей. Всего в заговоре было человек семь; причем один из них – из числа самых близких Пожарскому, казак Роман. Он жил на подворье князя и служил ему. Долго выбирали случай убить князя, и вот наконец сговорились, когда и как сделать это.
Пожарский был в съезжей избе; вышел во двор и начал рассматривать пушки, какие из них пригодятся для похода на Москву. Роман схватил князя за руку, чтобы придержать его, а в это время из толпы, окружавшей Пожарского, вырвался Стенька. Он замахнулся ножом на князя, стоявшего к нему спиной, однако тот именно в это мгновение отодвинулся (не видя убийцу – вот уж воистину бог спас!), и удар Стеньки пришелся по руке Романа. Тот упал и завопил от боли; Пожарский сперва подумал, что казака ранили в толпе нечаянно, но тут люди закричали: «Тебя хотят убить, господин!»
Ратные и посадские сбежались, повязали Стеньку, начали мучить. Он во всем сразу сознался, указал и на сообщников. Народ хотел всех немедля предать смерти, однако Пожарский велел держать их для обличения Заруцкого. Хитрый донец пытался выдавать себя за сообщника ополченцев, но тут стало ясно, что с таким сообщником вязаться – все равно что выпустить волка пастись вместе с ярками.
Теперь Заруцкому никакой веры ни у кого не было. Умудрился Иван Мартынович окончательно разладить и с поляками, страшно расправившись с теми из них, которые были в его войске и склоняли казаков отложиться от мятежного атамана.
И тут случилось событие, которое было истинным горем для таких воронов, как Заруцкий, но добрых людей преисполнило надежды: в Москве созвали избирательный собор, долго судивший да рядивший, но наконец решивший звать на царство молодого Михаила Романова, сына Филарета, – Федора Никитича Романова. Ведь к этой поре умер в польском плену бывший царь Шуйский!
Теперь из обыкновенных разбойников люди, подобные Заруцкому, стали врагами державы, государевыми преступниками. Надо было уносить ноги как можно дальше от Москвы – зализывать раны, набираться новых сил.
Метнувшись из Калуги в Михайлов, а потом предав город, непокорный ему, огню, Заруцкий вместе с Мариной, сыном Иваном, ее маленьким двором и двумя сотнями казаков прорвался до Воронежа, на Дон, но не удержался и там. Ринулся с остатками своих сил к Астрахани, взял ее нахрапом, убил воеводу и стал там править.
Немного отдышавшись и убедившись в подобии некоторой безопасности, Иван Мартынович с Мариной опять стали размышлять, как бы добраться до власти. Задумали они накликать на Русь персидского шаха Аббаса, втянуть в игру и Турцию, поднять юртовских татар, ногаев, волжских казаков, стянуть к себе все бродячие шайки черкесов и русских воров Московского государства и со всеми идти вверх по Волге, покорять своей власти города. На это нужны были немалые деньги, но Заруцкий покорил своей власти рыбные учуги и ловли и обратил их в свои доходы, лишив Московское государство этого богатого источника.
Любое сопротивление, даже попытка его, в Астрахани подавлялось безжалостно и страшно. Людей хватали, мучили огнем, топили заживо. Дня не проходило без казни…
Тем временем едва возникшая государственная власть в России взялась за искоренение всяческого воровства и разбоя. Сначала меры были предприняты кроткие: направлены грамоты к Заруцкому и подобным ему людям – либо разбои прекратить и сдаться, либо ослушников ждет царский гнев и божие взыскание в день Страшного суда. Одновременно пошли грамоты в ближние к Астрахани города, донским, волжским, яицким казакам с наказом не верить ни в чем «злодейской прелести Ивашки Заруцкого и сандомирской дочери», быть в единении с Московским государством и идти в государеву службу.
…Марине порою чудилось, что она стоит на крохотном пятачке зеленой травы, а вокруг все объято огнем. И шагнуть за спасением некуда, и огонь все ближе и ближе. Она чуяла, что часы ее отважного и безумного любовника сочтены, и каждый день жила под страхом мятежа – такого же, какой пережила однажды в Москве. Больше всего боялась она теперь набатного звона, оттого и запретила в Астрахани бить в колокола: якобы оттого, что ее сын-царевич пугается звона.
За это царевича втихомолку звали в Астрахани воренком, и ненависть к «польской безбожнице» еще пуще выросла.
Душа у Марины от испытаний и бед стала вещая – и опасения ее сбылись в точности. Когда явилась на Вербной неделе к Заруцкому ватага воровских волжских казаков, среди астраханцев разошлись слухи, будто намерены они горожан побить во время заутрени Светлого Христова Воскресенья и завладеть их имуществом.
И вот колокола в Астрахани зазвонили… возвещая то же самое, что они уже возвестили Марине в Москве ровно семь лет назад. Весь город поднялся на Заруцкого. А в это время к Астрахани уже подходили полки царского воеводы Одоевского. Насилу успели Иван Мартынович с Мариной, сыном и несколькими близкими людьми, среди которых были и Барбара с де Мелло, уйти из города. Одоевский вступил в Астрахань победителем, с иконой Казанской Божьей Матери.
…А беглецы тем временем искали спасения уже на Яике. Конечно, не у добрых людей, а у таких же лиходеев, государевых преступников, какими были и сами. Меж ними славился Треня Ус. К нему-то и кинулись было за спасением… да только Треня поднял их на смех, когда Заруцкий отрекомендовался царем Дмитрием:
– Ну какой же ты Дмитрий? Ты не Дмитрий. Ты – Ивашка Заруцкий, такой ж вор и разбойник, как я! Вот она – да, она – Марина Юрьевна, ца-ри-ца…
Треня смачно сплюнул.
– А тебе не все ли равно? – ухмыльнулся Заруцкий, который понимал: ссориться с Треней им никак нельзя. Это ведь их последнее прибежище! У него пусть и в непочете, зато можно как-то отсидеться, прикинуть, что дальше делать. Вот кабы в Персию податься… – Хоть горшком называй, только в печку не сажай!
– Так оно, – кивнул Треня. – Только вот какое дело, пан атаман: про Дмитрия ничего не скажу, царевым людям без разницы, есть он где на свете или нет, а касаемо тебя разосланы по стране грамоты: хватать тебя и держать в оковах, об чем немедля известить власти. За это награду сулят, а коли кто известен станет как твой потаковник, того вместе с тобой на кол.
– Не пугай, сделай милость, – попросил Заруцкий с волчьей улыбкой. – Уж пуганые. Коли не хочешь приюта нам дать, уйдем от тебя, только дай нам лошадей – переволочься до Самары.
– Лошадей тебе? – задумчиво спросил Треня. – А это за что? За какие такие благодеяния я тебе должен способствовать?
Вдруг затопали чьи-то торопливые шаги по крыльцу – в избу Трени ворвались два оборванных казака. Все обернулись к ним.
– Прибыли они, государь атаман! – возвестил невысокий, юркий казак. – И воевода, и стрельцы. Велено вести супостатов.
– Коли так, вяжите их! – махнул рукой Треня, и четверо могучих мужиков навалились на Заруцкого, настолько ошеломленного происходящим, что он не сразу начал вырываться. И все, упустил миг – на плечи ему насели еще двое, повалили, повязали, забили рот кляпом, чтобы не ревел страшно, не проклинал черно.
Пронзительно закричал Ивашка, которого еще двое вырвали из рук Барбары, ну а сопротивляющуюся Казановскую свалили ударом кулака в лицо. Никола де Мелло с угрюмым достоинством сам завел руки за спину, позволив себя связать, уступив неодолимой силе.
Марина расширенными глазами смотрела на весь этот кошмар, все еще не веря происходящему. Но когда подошел к ней казак с петлей и с деловитым видом начал накидывать ей на шею, очнулась, оттолкнула его, рухнула на колени перед Треней Усом:
– Во имя господа! Пощади!
– Пошла вон, – равнодушно ответил атаман, с высоты своего огромного роста глядя на маленькую женщину, простертую пред ним во прахе.
Она только вздохнула – и повалилась без чувств. Так, беспамятную, ее и связали и отнесли на прибывший струг воеводы Одоевского.
13 июля 1614 года он отправил драгоценных пленников с Медвежьего острова сначала в Казань, а оттуда в Москву. В наказе, данном начальникам тысячной стражи, было сказано так:
«Вести Марину с сыном, и Ивашку Заруцкого, и людей их с великим бережением, скованных, и станом становиться осторожно, чтобы на них воровские люди безвестно не пришли. А буде на них придут откуда воровские люди, а им будут они не в силу, и то Марину с выблядком и Ивашку Заруцкого побити до смерти, чтоб их воры живых не отбили».
Напрасно старался Одоевский – эти несчастные уже не были нужны никому.
* * *
Их доставили в Москву, провезли по улицам, и вскоре за Серпуховскими воротами Ивана Мартыновича Заруцкого посадили на кол, а Ивашку повесили.
А Марину…
Ее долго держали заточенной в башне, где ее единственной радостью было окошко под самой крышей да краешек голубого неба, сияющий в этом окошке. Но смерти Марины не видел никто. Да, погасло мимолетное сияние ее жизни, но так и не известно наверняка, удавили ее в тюрьме либо она сама умерла – от тоски по воле и несбывшейся мечте.