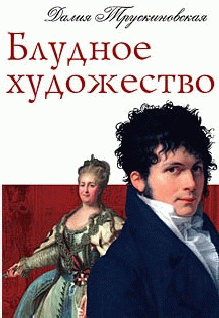
Далия Трускиновская
Блудное художество
Письмо от начальника парижской полиции Габриэля де Сартина было получено Архаровым очень некстати - Саша Коробов отсутствовал четыре дня, Клаварош, как и прочие архаровцы, был беспредельно занят. Почты скопилось столько, что дай Бог управиться с петербуржскими письмами - французские подождут. Апрель - а не на все мартовские послания отвечено.
То, что для всей Москвы было ожиданием великолепного праздника в честь победы над Турцией, для полицейских обернулось тяжким трудом. Еще зимой, в конце января, государыня Екатерина Алексеевна прибыла в Москву и поселилась в нарочно для того построенном деревянном дворце - сразу за Колымажный двором, кстати, по соседству с Архаровым. Дворец предполагался недолговечным - сразу же после отъезда царицы его собирались снести, оставив лишь то главное здание в голицынских владениях, кое, собственно, и облепили деревянными хоромами.
Здание это было для Архарова истинной карой Божьей. Поскольку он как обер-полицмейстер обязан был давать разрешение на все крупные строительные действия, то грядущий визит государыни, о коем стало известно еще осенью, сразу его озадачил: где селить все понаехавшее с ней общество? Ожидался «весь двор» - не в Кремле же его размещать, в трухлявых старинных покоях? Архитектор Баженов, еще до чумы получивший высочайшее приказание чуть ли не весь Кремль перестроить, год назад прекратил всякую деятельность. Екатерининский дворец на месте сгоревшего Головинского за Яузой, понятное дело, достроить не успели. Он был заложен почти два года назад на старых фундаментах летнего Анненгофского дворца по чертежам князя Макулова. Князь размахнулся - выдумал длиннейший фасад в пятьдесят окон, необъятный парадный зал, множество маленьких покоев, но стройка не ладилась. С опозданием выяснилось, что старые фундаменты нехороши, кирпич поставлен такой, что, не дожив до употребления, портится прямо в стоящих на сырой земле «клетках».
Кремль государыня всегда считала плохо приспособленным для обычной жизни, и потому еще с осени приняла предложение князя Голицына остановиться в его доме.
Тут-то и началась суета. Архитектор Казаков взялся преображать голицынский дом в новоявленный Пречистенский дворец. За основу взял голицынский дом на углу Волхонки и Малого Знаменского переулка, там надлежало быть покоям государыни, к нему надумал присоединить старый дом Лопухиных и, прихватив под свое сооружение еще земли из владений князей Долгоруких, их дом на Волхонке. Мысль была разумная - все меньше придется строить, однако объединить три дома в один - немалая морока, и Архаров, глянув на привезенный ему план, только охнул. Саша, стоявший за спиной, нагнулся, хмыкнул и произнес два малопонятных слова: «Тезеев лабиринт». Но если спрашивать секретаря о всех известных ему диковинных словах - то и служить будет некогда.
Хитроумное здание было готово как раз к суду над Пугачевым, и Архаров мрачно сказал князю Волконскому:
– Помяните мое слово, ваше сиятельство, высушить не успеют. Ему бы все лето стоять, сохнуть, а государыне вот-вот въезжать.
Из чего следовало: столько лет позволяя или же запрещая москвичам строиться, обер-полицмейстер кое-каких знаний нахватался. Очевидно, следовало сразу наложить запрет на сие недоразумение, но архитектор божился, что действует по указу государыни. Ну, коли ее величеству угодно быть гостьей господина Голицына - что тут возразишь?
И Архаров оказался прав. Дворец оказался тесен, печки плохо его отапливали, люди мерзли, государыня изъявила свое неудовольствие. К тому же, от Колымажного двора и конюшен шла известная вонь - государыня, при всей своей любви к лошадям, нюхать сие амбре круглосуточно не желала. Наконец, прилаживая деревянные хоромы к каменным, Казаков перестарался по части переходов и коридоров - были они длинными, пересекались неожиданным образом, и в первый же день государыня едва ль не два часа не могла допроситься дороги в свой кабинет. За февраль кое-как обжились, светская жизнь била ключом - какое неудовольствие, когда каждую неделю маскарад, на каждом маскараде по три тысячи человек гостей - а там, глядишь, и Великий пост - время являть смирение, а там уж и долгожданный апрель!
Занятый куда более важными материями, чем французские грамоты, Архаров, когда Саша вернулся и прибыл после обеда прямо на Лубянку, велел не столько перевести длиннейшее послание парижанина, сколько изложить внятно своими словами - и покороче!
– Коли сделать экстракт - вот что выходит, - и Саша, заглядывая в большой лист плотной бумаги, довольно мелко исписанный, заговорил казенным голосом: - С изъявлением почтения и восхищения… и прочая, и прочая… вот тут он уже дело говорит. Некая высокопоставленная особа приобрела очень дорогой столовый сервиз - золотой, с ручками из красной яшмы… на две дюжины персон… Однако сервиз при перевозке был похищен. Следы ведут в Россию. Он, Сартин, имеет основание беспокоиться, что такая дорогая и неповторимая… тонкой работы посуда… посуда будет приобретена для подарка нашей государыне кем-то из московских аристократов…
– Так и выразился? - уточнил Архаров.
– Примерно так. А сервиз знаменитый во Франции… погодите… нет, с чего он вдруг стал знаменитым, не сказано… Коли будет преподнесен государыне, возникнет реприманд… получится, что она приняла ворованное… Воля ваша, Николай Петрович, либо я чего-то тут не понял, либо Сартин, экивоками изъясняясь, что-то важное упустил.
– Золотой сервиз с красными яшмовыми ручками, - повторил Архаров. - Я такого нигде не встречал. Любопытная затея. Хорош, должно быть, коли золото как следует отполировано.
– Что прикажете отвечать?
– А то и отвечай - премного благодарны, желательно поболее узнать про тот сервиз, количество предметов, общий вес, кому ранее принадлежал… Да, и какие следы ведут в Россию! Не забудь приписать про почтение и восхищение. Диковинно…
Архаров задумался.
Прежде всего, его смутило, что Сартин сразу адресовался к нему в Москву. Следы сервиза ведут в Россию - пускай, французу виднее. Но почему в Москву, а не в Санкт-Петербург? И насчет аристократов неувязка - есть человек, который смог бы приобрести этот сервиз и подарить государыне, так он - один такой. Что занятно - на ее же деньги… Вряд ли другие соберутся делать столь дорогие подарки. Скорее уж сервиз будет предложен кем-то из известных посредников для продажи государыне… и, опять же, посредники главным образом в Петербурге обретаются, вряд ли потащились следом за двором в Москву…
Тут Архарову пришло на ум, что Сартин, возможно, точно такое же письмо отправил и в Санкт-Петербург.
– Переведи письменно, отнеси в канцелярию, пусть снимут две… нет, три копии, - сказал он Саше. - Увидишь Костемарова - гони ко мне. И Скеса, и Хохлова.
Этими архаровцами обер-полицмейстер дорожил еще и потому, что они не порывали связи с тем потаенным миром, который снабжал работой полицейскую канцелярию. Всякое случалось - порой проще и разумнее было выкупить краденое, чтобы не упустить его вовсе. А несколько раз осведомители предупреждали о готовящейся краже.
Демку где-то носила нелегкая, пришли Михей Хохлов и Яшка-Скес, поклонились, встали смиренно, принялись ждать приказаний. Та еще была парочка - плотный краснощекий Михей, голубые глазищи навыкате, нос репкой, и бледный рыжий Яшка-Скес, сейчас, как ни странно, чисто выбритый и оттого совсем бы похожий на болезненного подростка, кабы не широкие плечи.
Оба по происхождению своему были из шуров. Михей умел вскрывать замки, грабил дома, как-то и на церковь сдуру посягнул - да попался. Яшку воспитали для более тонкой работы - он на спор в толпе чистенько срезал у щеголей дорогие кружевные манжеты и золотые пуговицы.
Если Тимофей Арсеньев отрекся от прошлого раз и навсегда, если Федька Савин, угодивший в застенок за пьяную драку, вообще не имел прошлого, то Демка, Михей и Яшка, наоборот, за него держались. Архаров видел - они служат в полицейской конторе не от горячей любви к законности и порядку, а просто иного выхода им судьба не дала, опять же - круговая порука, связавшая всех бывших мортусов.
Глядя на них, Архаров медлил. Он решал, кто из них ему нужнее в Москве. Выходило, что Скес.
– Михей, поедешь в столицу. Пойдешь к вашей братии, к шурам. Разведаешь - не слышно ли чего насчет золотого сервиза с красными ручками. Украден в Париже. Может, где объявился, может, кому предлагали - вещицы там приметные. Сейчас ступай домой, собирайся в дорогу, через час придешь за подорожной и за деньгами. А ты, Яша, расспроси про то же здешних шуров. Сейчас же и беги в «Негасимку»… стой!… Загляни к Марфе, может, его по частям продавать решили, так не предлагал ли ей кто. Да только верши! Она кубасья пельмистая, не остремайся.
Рыжий Скес кивнул.
Поскольку больше Архаров им ничего не сказал, то оба, поклонясь, вышли.
– Везет тебе, Михей Васильевич, в столицу поедешь, - с некоторой завистью поздравил Скес.
– Да чего там столица, она теперь вся к нам перебралась. Ломай теперь голову - как к тамошним шурам подойти…
– Так веселее ехать будет, пока доедешь - как раз придумаешь, - утешил Скес.
– Да уж…
Ехать было - коли не скакать во весь опор, как фельдъегеря, - дней шесть или семь.
Конечно же, Архаров мог просто написать в столичную полицейскую контору, Михей прекрасно это знал, так не раз раньше делалось. Видать, он почуял в деле о краже сервиза что-то столь значительное, что не захотел отдавать его столичной полиции, а решил все ниточки собрать в своих руках. Как бы оно ни было - спорить с обер-полицмейстером не стали.
Михей тут же смылся с Лубянки, а Яшка, прежде чем идти через Зарядье в «Негасимку», поискал Устина.
После того, как бывший дьячок изъявил желание служить, да не в канцелярии, а быть архаровцем, с ним произошло немало недоразумений. Кончились они тем, что за Устином стал присматривать Скес. Они были почти ровесники, Скес годом моложе, но уж такие разные - нарочно не подберешь. Устин, открытая душа, был вечно озабочен всякими высокими материями, долго и мучительно разбирался со своими внутренними сложностями, и рассказывал про то всякому, кто пожелал бы слушать. Яшка-Скес вырос в обстановке, отрицающей высокие материи, а что у него делалось внутри - никому не докладывал, занимал себе свою ступеньку на полицейской лестнице, да и ладно. Возможно, Устин показался ему неразумным младенцем, который без опеки пропадет. А, может, в обществе бывшего дьячка вечно настороженный молодой шур мог несколько расслабиться, не ожидая подвоха, кто его разберет - иной раз такие пустые глаза у него на роже, что не по себе делается, невольно охватывает беспокойство - в своем ли он уме…
Устин в общем был доволен переменой в своей жизни. Хотя и канцелярские труды имели свою прелесть. Сиди себе да возись с бумажками - в тепле, в приятном, коли не считать старика Дементьева, обществе, никакой беготни, даже коли лень брести в трактир, можно попросить казенной каши в подвале у Фили-Чкаря. Но, с другой стороны, копиисты, подканцеляристы и канцеляристы являлись в присутствие в пять часов утра и сидели до двух часов дня. Затем, пообедав и вздремнув, они возвращались к своим столам и трудились до десяти часов вечера. Такой распорядок делал посещение храма Божия весьма затруднительным - кто же станет служить литургию нарочно для Устина в обеденное время?
Став настоящим архаровцем, он первым делом обнаружил неожиданную прореху в кошельке - подметки так и горели. Но, бегая по Москве, он всегда мог забежать в церковь, даже так рассчитать, чтобы надолго. Тем более, что Устин в Рязанском подворье имел свое постоянное занятие - как человек, хорошо знающий церковную жизнь, он заведовал осведомителями, приближенными к храмам, и вовремя извещал о всех крестных ходах. Это было, на архаровский взгляд, довольно обременительной обязанностью для полиции - присматривать, чтобы во время крестного ходя не было поблизости шума и безобразий, чтобы оказались на его пути закрыты все лавки, кроме торгующих провиантом. Кроме того, Устин охотно исполнял еще одну полицейскую обязанность - следить за порядком в самих храмах. Тут он объединял служебное с душеспасительным. Тимофей выучил его ухваткам, позволяющим быстро извлечь на паперть пьяного крикуна, а Ваня Носатый преподал хитрый тычок в грудь, лишающий человека чувств, - но это уж на самый крайний случай.
Яшка-Скес перехватил Устина при выходе из канцелярии, где тот писал донесение. Оказалось, им по пути - Устин собирался во Всехсвятский храм, что у Варварских ворот. Пошли вместе.
Весна была во всем - даже лица москвичей посветлели. Архаровцы наслаждались теплом и солнцем - за зиму им осточертели тяжелые кафтаны и епанчи, смазные сапоги такой ширины, чтобы способно было намотать потолще портянки, а также рукавицы, сильно осложняющие всякую погоню и драку.
– Вот и Пасха скоро, - сказал Устин, жмурясь на солнышко. - Я на следующей неделе исповедаюсь, причащусь, буду каждый день в храм отпрашиваться…
– Так тебя и пустили.
– На Страстную отпустят. Хорошо как Евангелие слушать… вроде и знаешь в нем каждое словечко, а слушаешь - и так страшно делается… а то бы вместе сходили?
Яшкина отстраненность от божественных дел Устина смущала и беспокоила. Будь его воля - он бы все население Рязанского подворья утром и вечером в храм водил, потому что полицейские - народ грешный и о душе заботятся непозволительно мало. А именно Скес был ему теперь дороже прочих, потому что несколько раз выслушал горестную повесть о неудачной проповеди в доме Дуньки-Фаншеты и удержался от обычных в полицейской конторе соленых шуток.
Правда, глаза у бывшего шура при этом ровно ничего не выражали, как если бы он дремал, но сие могло означать и известный навык придавать лицу сонный вид, в то время как шустрые пальцы делают свою работу.
– Как кончится это столпотворение - так и сходим, - лениво пообещал Яшка.
– А ты знаешь ли, что значит - столпотворение?
И Устин, премного довольный, принялся растолковывать то место из Священного Писания, где жители Вавилона придумали строить башню до небес.
Он говорил вдохновенно, руками показывая высоту башни и вавилонскую суету вокруг нее, не обращая внимания на прохожих, которые уступали им дорогу по трем причинам зараз: буйный вид оратора, малоприятная рожа Скеса, а главное - репутация, которая влеклась за всеми архаровцами, как чересчур длинная епанча. Москва знала, что при наведении порядка эти господа церемоний не соблюдают и к галатонности не склонны.
– Ну так то ж оно и есть, - сказал Скес. - И смешение языков тут же. И вон дворец Пречистенский - чистое столпотворение. А на Ходынском лугу - тут и к бабке не ходи: столпов по всем кочкам понатыкано.
Ходынский луг был огромным пространством у Камер-Коллежского вала, весьма неровным, с оврагами и косогорами. Его большей частью занимали пахотные поля ямщиков Тверской слободы, хотя князь Волконский сильно желал устроить там место для летних военных лагерей. Именно неровность почвы и была удобна для устройства там народных увеселений в честь победы над турками - на горках могли стоять всевозможные храмы Славы, увитые лавровыми гирляндами, триумфальные ворота и прочие принадлежности торжества.
Торжество намечалось на десятое июля, и господин Баженов, сообразно личным указаниям государыни, строил на лугу нечто, в Европе до сих пор невиданное и неслыханное.
Он изображал на местности театр военных действий между Россией и Турцией, причем российские постройки имели то кремлевские зубцы, то купола-луковицы, турецкие же были снабжены минаретами. Низина была Черным морем, дорога - река Танаис, сиречь Дон, другая дорога - река Борисфен, сиречь Днепр. Там, где Дон впадал в Черное море, Баженов с Казаковым строили огромное здание столовой, которое уже носило название «Азов», в устье же Днепра ставили театр, именуемый «Кинбурн», таким образом географические подробности соблюдались почти безупречно. Холм посередке меж ними был Крымском полуостров, с городами Керчью и Еникале. Посреди «моря» велено было ставить лодки и корабли, показывающие как бы морское сражение.
Все сие великолепие заранее уже внушало архаровцам великую неприязнь. Народные увеселения и гуляния - как раз такое место, где собираются шуры и мазурики всех мастей. Государыню, понятно, никто не обидит - а вот наутро после главного фейерверка и потянутся к Рязанскому подворью с «явочными» посланцы сильно огорченных господ: у которого золотую табакерку вытащили, у которого - кошелек, пока хозяин, разинув рот, любовался на огненные колеса и вензеля в небе.
У Всехсвятского храма Яшка-Скес простился с Устином и пошел к Марфе в Зарядье.
Он знал ее с детства - и был как-то нещадно дран за ухо при попытке, сблагостив ей краденые часы, у нее же стянуть со стола серебряную ложку. Теперь, когда сам он уже почти четыре года прослужил в полиции, а она не раз оказывала Архарову помощь в делах, оба про ту ложку вслух не вспоминали. Однако неприязнь осталась.
Пройдя через небольшой двор, Яшка заглянул в окно - догадаться, дома ли хозяйка, и увидел Марфин затылок, охваченный по-простому повязанным платком - узлом на лоб. Окно было приоткрыто, и он прекрасно слышал, что происходит в комнате.
Марфа была занята делом - перед ней за большим кухонным столом сидела зареванная молодая особа, судя по дородству - купчиха, а сводня колдовала над чашкой.
– Гляди, дура, вот я белок взбиваю… - и веничком из ободранных прутьев она шустро вздымала пену, - и туда, в белок, лимонный сок лью, и туда же, да ты гляди, французской водки две ложки. Все это между собой перемешается… руки отведи!…
Яшка из любопытства вытянул шею и увидел красную физиономию гостьи.
– Вот салфетка, утрись! - командовала Марфа. - А теперь запрокинься, вот так…
И она стала мазать лицо снадобьем из чашки, приговаривая:
– И кто ж тебя, дурочку, по солнцепеку-то гонял? Нет чтобы в тенечке посидеть! Непременно тебе было под солнце подставиться. Этот вешний загар - самый опасный! Терпи! Дня за два твой загар сойдет, как не бывало, опять будешь беленькая. И запомни - средство еще от лишая хорошо.
Яшка присел на завалинку и подставил лицо под солнечные лучи. Он бы и не против был немного оживить физиономию румянцем, но кожа как была белой - так белой и оставалась, на зависть иному щеголю, который изводит на деревенскую свою краснощекую образину фунт пудры, придавая ей томную бледность.
Наконец ему надоело слушать Марфину речь о тайнах женской красоты.
– Марфа Ивановна! - позвал он. - Тут тебе кавалер некоторый кланяется!
Марфа выглянула в окошко.
– Ах, это ты, Скес? Погоди, сейчас выйду.
Яшка не был столь подозрителен, как Архаров, и в нежелании Марфы пускать себя в дом углядел разве только то давнее воспоминание о серебряной ложке. Однако до сей поры она Скеса в дом впускала - и ничего… что же у нее там за сокровища, кроме обгорелой купчихи?…
Пока Марфа накидывала шаль и выходила на крыльцо, Яшка заглянул в окошко уже основательнее.
Купчиха, укутанная в пудромантель, сидела зажмурившись и запрокинувшись, чтобы снадобье не стекло с личика. А на столе, где могли бы лежать на виду сокровища, Яшка увидел ряд грязных кофейных чашек и блюдец, как будто Марфа угощала кофеем роту гвардейцев.
Сводня имела множество недостатков, но вот одно достоинство известно было всем соседям: она не терпела беспорядка и грязной посуды. Мало того, что чашки с блюдцами стояли немытые, - так еще Марфа не постыдилась явить свое неряшество гостье. А ведь купчиха непременно разнесет, что старая сводня принимала ее в неприбранной кухне.
Стало быть, этой дуре Марфа не стесняется показывать грязную посуду, а полицейскому - не желает?
Следующий Яшкин вопрос был: да на кого ж это она извела столько кофея?
Дверь скрипнула, и Яшка-Скес стоял у крыльца раньше, чем она отворилась окончательно.
– С чем пожаловал? - спросила Марфа.
– Господин Архаров спросить велел, не слыхала ли чего…
И Яшка изложил историю о похищенном французском сервизе.
– Сам золотой, ручки красные? - переспросила Марфа. - С этим - не ко мне, это графьям и князьям предлагать станут.
– Господин Архаров велел спросить - я и спрашиваю. Ты во многие дома вхожа, глядишь, чего разведаешь, - уважительно сказал Яшка. - Кваском не угостишь ли?
Квасу ему не хотелось, а хотелось понять, что за кофепитие устроила Марфа и куда подевались ее многочисленные гости. Вряд ли немытая посуда стояла тут со вчерашнего вечера.
– Наташка! - крикнула Марфа, обернувшись. - Квасу ковш неси!
Девчонка вышла из сеней - и тут-то невозмутимая Яшкина рожа наконец ожила, рот приоткрылся.
Он не видел Наташку почитай что всю зиму - а она за это время так расцвела и похорошела, что любо-дорого посмотреть. Светлые волосы, гладенько зачесанные, отливали золотом. Густые ресницы на солнышке тоже были золотистыми, а уж глазищи… апрельское небо, да и только…
Было ей, по Яшкиному разумению, лет пятнадцать, однако детство Наташкино в Марфиных хоромах и не могло затянуться надолго: несомненно, старая сводня уже присматривала, кому повыгоднее продать эту юную красоту.
Выпив ковшик кваса и поблагодарив хозяек, Скес пошел прочь, размышляя, что дело он вроде сделал, а про кофейное угощение надобно будет спросить Клавароша. Может, там что-то вовсе невинное. Если же Марфа ему ничего не сказала - тогда доложить господину Архарову.
В полицейскую контору Яшка прибыл очень вовремя…
Минут за десять до его появления дверь архаровского кабинета приоткрылась.
– Что там еще? - спросил обер-полицмейстер. Он как раз был занят тяжким трудом - подписывал бумаги, которые подкладывал ему одну за другой старший канцелярист Патрикеев. И ждал его еще документ, отчитываться за который предстояло самой государыне. Это был буквально на днях завершенный «План, прожектированный Москве-городу и предместьям». Еще осенью из Санкт-Петербурга пришло указание Екатерины Алексеевны - убрать валы и стены Белого города, пустое место разровнять и для красоты обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Сейчас на столе уже лежало изображение большого бульвара с аллеями в два ряда деревьев, прерываемыми площадями у ворот Белого города. Площадей было девять - столько же, сколько упраздняемых ворот. Архарову хотелось посидеть над планом с карандашом в руке, поискать ошибок и прямых глупостей.
Не сразу, но появился Клашка Иванов. Какой-то не в меру смущенный.
– К вашей милости, коли изволите…
Обер-полицмейстер понял - стряслось нечто непредвиденное.
– А ну, заходи, да дверь, дурень, прикрой.
Клашка быстро исполнил приказ, но видно было, что ему сильно не по себе.
– Кого там бес принес?
– Сказался подрядчиком, ваша милость, и с женой…
– Ну так в чем загвоздка? В канцелярию его, пусть ему составят «явочную»… да что ты в пол уставился? Копейку, что ли, ты тут потерял?
– Они вашу милость хотят видеть.
– А для чего им моя милость? - Архаров уж начинал сердиться. - Можешь ты внятно сказать?
– Они с жалобой пришли.
– На кого?
– На архаровцев.
Обер-полицмейстер задумался. Жалоб на подчиненных он слышал немало и старался в них особо не вникать. Однако хоть изредка следовало делать видимость, что к буянам принимаются строгие меры.
– Ну, проси.
Вошли не двое, как он полагал, а трое: мужчина в годах, его рыдающая супруга и девка дет двадцати, красная, как вареный рак, и с таким огромным брюхом, что обер-полицмейстер даже головой покачал. Всякое в этом кабинете случалось, но вот скоропостижных родов еще не было.
– Вашей милости архаровцы дочку мою обидели! - сразу приступил к делу мужчина. - Девка молодая, дура! Допустила, чтобы ей юбку задрали! Спрашивали - кто?! Молчит, дура!
– Прелестно, - сказал на это Архаров. - Может, кто-то другой потрудился во славу Божию?
– Архаровец, кто же еще! Соседи видали да нам сказали.
– Архаровец, стало быть…
– Простите, ваша милость… а только так оно и есть!… Мы Курепкины, нас вся Якиманка знает! Сраму-то - ведром не вычерпать…
– А что ж, твоя девка не припомнит, с кем была? - резонно спросил обер-полицмейстер. - Ну-ка, сударыня, отвечай! Кто таков, как звать? Не бойся, тут тебя никто не обидит.
– Да я… - отвечала зареванная девка. - Да я раз только… раз один с ним… была!…
– До что ж ты у нас за дура! - в отчаянии воскликнул отец. - Ваша милость, девка молодая, ваш молодчик ее уговорил!
– Так сразу и уговорил? - Архаров глядел на девку с некоторым сомнением. - И не назвался?
– Да соврал, поди! Чтоб потом не сыскали! А дура моя молчит! Ваша милость, век буду Бога молить! Пусть он, подлец, покроет грех!
Архаров собирался было спокойно ответить, что грешили-то оба, но тут девкина мать бросилась на колени перед столом и заголосила, как на похоронах.
Это обер-полицмейстеру сильно не понравилось. Он встал и, обойдя вопленицу, подошел к возмущенному отцу.
– Рот ей заткни как-нибудь, - приказал он. - Не то всех отсюда в тычки выставлю.
Подрядчик, или кем уж он был, нагнулся над женой, встряхнул ее за плечи, взял под мышки и с некоторым трудом поставил на ноги. Одновременно он нашептал бабе в ухо чего-то такого, от чего она и впрямь замолчала.
– Коли это мои виноваты, я сей же час докопаюсь, - пообещал Архаров. - Клашка!
Обер-полицмейстер знал, что за дверью кабинета уже собралось целое общество, и Клашка в том числе.
Архаровец вошел, был взят за плечо цепкой обер-полицмейстерской рукой и развернут рожей к пострадавшей от Амура девке.
– Говори - этот?
Девка помотала головой.
Архаров хмыкнул - коли Клашка ни в чем не виновен, чего ж у него унылый вид, словно живот схватило? Была в этом деле некая неправильность, некая загадка. А он, встречаясь с загадками, любил найти самое диковинное решение.
– Пошли все на двор, - распорядился обер-полицмейстер. - Клашка, собрать всех, и из подвала тоже. И Шварца. И канцелярию. Всех - на двор, и построить в одну шеренгу.
Очень быстро приказ был выполнен. Как нарочно, в конторе и на дворе Рязанского подворья было довольно много архаровцев, подоспел и Яшка-Скес, и шеренга вышла длинная. Архаров вышел, оглядел свое воинство и повернулся к жалобщикам. Он хотел приказать им, чтобы глядели внимательно и указали виновника пальцем. Но вдруг ему в голову пришло именно то, что превращало сию унылую процедуру в целое выдающееся событие.
– Ну что, орлы? Как девок еть - так вы тут, а как под венец - так в кусты? - спросил он. - Пусть тот, кто сие непотребство учинил, тут же из шеренги выйдет.
Архаровцы молчали, не двигались.
– Вдругорядь повторяю - кто девке брюхо набил, тот пусть выйдет из шеренги сам! Не дожидаясь, покуда розыск учиню! - грозно, пожалуй, даже избыточно грозно произнес обер-полицмейстер.
– Так, так, - прошептал стоящий слева от него подрядчик Курепкин.
И тут свершилось!
Не шепот - легчайшее подобие шепота полетело по шеренге. И вышел, сделав два огромных шага, Ваня Носатый.
– Прелестно, - сказал Архаров. - Немудрено, что ваша девка застеснялась… Ну что ж, других грехов за моим служителем нет, и коли вы не прочь…
– Да побойся Бога! - закричал подрядчик, а кому, Архарову или Ване, было непонятно. - Да чтоб с такой гадкой харей?!. Да быть того не может!
Того, что случилось далее, Архаров никак не ожидал. Из шеренги вышел Шварц.
Он встал прямо перед обер-полицмейстером, изобразив на своей физиономии, в обычное время довольно скучной, окончательную отрешенность от мирских хлопот.
Не успели подрядчик с супругой недоуменно переглянуться, два шага вперед сделал Вакула.
Этот монах-расстрига из прошлой жизни взял в нынешнюю лишь огромную бороду, столь пространную, что только в две растопыренные ладони и мог ее огладить.
– Я что ж, ваша милость? - спросил он Архарова мощным басом и сам же ответил: - Как начальство, так и я. Филя, а ты что же?
Четвертым вышел повар Филя-Чкарь, также из мортусов, седой и с хорошо видными знаками на лице.
Пятым выскочил Захар Иванов, еле удерживая хохот.
Шестым - степенный Тимофей Арсеньев.
Седьмым - Федька Савин, а далее уж было не понять, кто за кем.
От всей шеренги остались только Никишка и старик Дементьев.
Маленький Никишка толком не понял, что тут творится, понял лишь, что от старших что-то важное требуется. Обнаружив себя на краю несуществующей шеренги совсем одного, он забежал впереди всех и встал перед Архаровым очень довольный, что выполнил приказание.
Старик же Дементьев плюнул и без обер-полицмейстерского позволения пошел прочь.
– Ну, братец, выходит, все разом твою девку обидели, - сказал Архаров обалдевшему подрядчику. - Лучше бы ты за ней смотрел - и не было бы срама. Ступай-ка ты подобру-поздорову, да и с девкой своей вместе. Недосуг нам с ней разбираться…
Когда незадачливые посетители убрались со двора, обер-полицмейстер, проводив их взглядом, повернулся - и увидел шеренгу своих архаровцев.
– Ну, что встали? Делать нечего? Пошли вон, пока на дробь не напросились! - прикрикнул он на свое воинство.
И точно - каждый сам знал, где ему быть, у Пречистенского дворца ли нести службу, в Коломенское ли ехать, где для государыни приводили в порядок старинные апартаменты, с десятскими ли в обход города…
Минуты не прошло - на дворе стояли только Архаров и Шварц.
– Ну, Карл Иванович, потешил! - сказал Архаров. - Уж от кого, от кого, но от тебя не ожидал.
– Обвинение было высказано всем архаровцам, - ответил немец, - а поскольку я уж который год являюсь оным, то и полагал, что ко мне оно тоже относится. Поскольку мы, архаровцы, связаны круговой порукой, то я счел себя вправе ответить один за всех, зная, что мне ваше неудовольствие менее, чем прочим, угрожает.
– И выходил бы тогда первый.
– Я не мог предвидеть, что Ваня опередит меня.
– Вот дуралей, - сказал, имея в виду Ваню Носатого, Архаров. - А коли бы вы все меня не насмешили? Он бы за всех и отдувался.
– Ваша милость, Николай Петрович, а он бы с той девкой охотно под венец пошел. Девка с прибылью, так и он не купидон.
– Ну да, ну да… Честную ему не отдадут, а эту… - пробормотал Архаров. - Прелестно… Жених нашелся на мою голову…
Слово «жених» почему-то вызвало из памяти лицо и речь княгини Волконской.
– И его расчет по-своему верен, - продолжал немец. - Через неделю у нас Пасха, затем в течении Светлой седмицы не венчают. А девка уже на сносях. И широкой зимней одеждой она свое состоянии прикрывать не может. Когда бы родители были несколько умнее, они бы нешуточно подумали над Ваниным предложением.
– Больно им нужен безносый зять…
– Безносый, зато венчанный. А так они имеют повреждение репутации и внука от неизвестного отца.
– Отчего ж неизвестного? Внук у них наш, архаровский… Странно, а я на Клашку было погрешил… Скажи, Карл Иванович, молодцам - сейчас докапываться недосуг, а пусть бы тот, кто потрудился, сам бы и прикрыл грех как-нибудь втихомолку. Вдругорядь спасать не стану.
Архаров действительно был стеснен во времени. На вечер он наметил малоприятное занятие - а точнее, его ввергла в хлопоты княгиня Волконская:
– Государыня после Пасхи примется визиты наносить, ну как и к тебе нагрянет, Николай Петрович? Неужто тут ее принимать?
– Не нагрянет, - отвечал обер-полицмейстер. - Я ей не по нраву пришелся.
Он это знал доподлинно. И по лицу прочитал, и путем несложных расчетов вывел. Архаров своим полковничьим званием и должностью был обязан Григорию Орлову, а он утратил былой фавор, да и все братья Орловы оказались вдруг не у дел, кроме разве что Алехана. Зато резво шел в гору другой Григорий - одноглазый богатырь, имевший не менее причуд, чем его предшественник, но не в пример более бойкий умом и сообразительностью. Вряд ли хвалит государыне тех, кому покровительствовали Орловы, а наоборот - вернее всего!
– А ты, Николай Петрович, государыни не знаешь. Она ниже своего достоинства ставит пренебрежение теми, кто ей честно служит, да не по душе пришелся. Нарочно возьмет и приедет - ради справедливости. И что? В кабинет свой ее приведешь, что ли? Тебе не для того жалование большое платят, чтобы ты дом свой содержал бедно!
Архаров покивал - служил он честно.
Чуть ли не в первые дни после приезда государыни стряслась беда - в храме Варвары-великомученицы, что на улице Варварке, были в одну ночь похищены едва ли не все утвари, сосуды и оклады. Екатерина Алексеевна сильно огорчилась - тут, собственно, и произошла первая встреча царицы с московским обер-полицмейстером. Он получил приказание непременно сыскать воров и уверил государыню, что все будет исполнено. Демка тут же был отряжен к ведомым шурам - Архаров уже довольно знал свое ремесло, чтобы определить след не случайного пьяницы, вломившегося в храм и похватавшего, что под руку подвернулось, но человека бывалого и знавшего, что тут самое ценное. Но едва ль не на следующий день десятские доставили в полицейскую контору какого-то жалкого отставного солдата, признавшегося в сем преступлении.
Его привели в кабинет, он рухнул на колени, и обер-полицмейстер, едва глянув в лицо, сказал сердито:
– Врешь. Не походишь ты на вора.
– Грешен, бес попутал, - был ответ.
В кабинет привели десятских, которые его взяли, и они побожились, что следы на свежевыпавшем снегу, замеченные у храма наутро после кражи, доподлинно принадлежат солдату.
Архаров велел доставить хозяина, у которого жил солдат, снимая какой-то темный чуланчик. Хозяин прибыл перепуганный, но вредить жильцу не пожелал. Сказал, что солдат - нрава тихого, ежедневно ходит к заутрене и к ранней обедне. То бишь, удаляется из дому затемно, и никто тому не удивляется. И в ночь покражи - соответственно.
А тут еще и следы - его…
– Кого ты боишься? - прямо спросил солдата Архаров.
Ответа не получил.
– Ты видел, кто в церковь вломился?
И тут ответа не было.
– Хорошо, растолкуй мне, как ты в храм забрался, чем замок открыл.
Солдат словно бы не слышал.
Обер-полицмейстер бился с ним часа два, не меньше. Наконец приказал архаровцам взять этого дурака - и идти туда, где он спрятал похищенное, коли не покажет - в подвал его, к Шварцу! Солдат, простоявший все время дознания на коленях, молча встал, поплелся, подгоняемый тычками, к двери - и тут Архаров обратил внимание, что старик прихрамывает.
Природное любопытство погнало его на двор, где он устроил целое представление: солдата водили по снегу скорой и медленной походкой, Сергей Ушаков, схожий с ним комплекцией, ходил рядом, затем все вместе сравнивали отпечатки хромых и здоровых ног. Сошлись на том, что хромизну определить можно - коли вглядеться внимательно. Десятские, поймавшие вора по следу, были снова вызваны к Архарову, вместе с ним вышли во двор, где Никишка охранял отпечатки, и тут же увидели свою ошибку.
Князь Волконский, немного беспокоясь за подчиненного, приехал в палаты Рязанского подворья вовремя - извозившийся в снегу обер-полицмейстер выпроваживал солдата, ругая его в хвост и в гриву.
– Страдалец сыскался! Господь его за грехи испытывает! Еще чего мне тут нагородишь? Михайла Никитич, что прикажешь с этим народом делать? Кабы не сразу ко мне привели - у Шварца бы ему уже всю спину ободрали.
– А с чего он на себя наклепал?
– А сдуру. Думал - коли повинится, его более допрашивать не станут. Это все черная душа с его злодейской репутацией. Полдня на дурня потратили. Хорошо, Шварц случайно рядом оказался - тут все и объявилось.
– До того народ твоего немца боится, что на каторгу готов идти - лишь бы не к нему в подвал? До государыни бы не дошло…
Архаров не придал этим словам внимания. Важнее было отыскать покражу. И пущенные по следу Тимофей с Демкой довольно скоро добрались до подлинного вора, имевшего, как на грех, весьма похожие по размеру и скосу каблуков сапоги.
Когда Архаров лично доложил о поимке вора и отыскании церковного имущества, государыня изволила поблагодарить за скорость и рвение. Он, не умея разговаривать со столь высокими особами, молча поклонился. И не вовремя глянул, выпрямляясь, в лицо царицы. Прекрасные синие глаза смотрели холодно - чем-то он все же не угодил, чем-то был неприятен. И уже ничего не значила любезность - государыня быстро глянула себе под ноги, словно подбирая с пола нужные слова, и Архаров увидел притворство так же ясно, как если бы играл роль размалеванный гаер в балагане.
О том, что Екатерина Алексеевна еще не пришла в себя толком после дороги, что ей плохо спалось в сыром дворце, что с утра она хотела поесть, да крошки в рот взять не смогла, что второй уж день переговаривалась с милым другом исключительно записочками, Архаров не знал - и по вечной своей подозрительности отнес недовольство женщины исключительно к своей персоне.
Так что визита государыни ждать не приходилось. Да и при мысли о перестановках в доме Архаров весьма недовольно хмыкал.
В конце концов, отставив всякую деликатность, княгиня Елизавета Васильевна сделала ему выговор: его хоромы сделались похожи на кремлевские кладовые, набитые рухлядью времен царя Алексея Михайловича. Особенно ей при последнем гостевании не понравилось старое бюро, понизу расписанное большими голыми нимфами. Потому еще в феврале велела вызвать на Пречистенку мебельщика, да и сама обещалась приехать, чтобы объяснить мебельщику положение дел.
Архаров сильно не хотел этой встречи и всячески ее оттягивал. Княгиня прислала записочку, в коей была приписка князя: стыдно-де кавалеру упрямиться перед дамой! Шутки шутками, а приходилось отложить все дела и заниматься меблировкой.
Тонкого артистического чутья Архаров не имел вовсе. Он даже был уверен, что обер-полицмейстеру оно по должности не полагается. Положить на кафтан галуна пошире - вот и красота, какой еще надобно?
Зато подходящего мебельщика Архаров знал - это был купец с Ильинки, кое-чем ему обязанный. Сие предполагало, что купец не станет набивать цену. Однако Архаров понимал, что ему постараются навязать вещей, в коих он сроду не нуждался. И потому он, отвечая на записочку, нижайше просил ее сиятельство помочь советом при обустройстве дома. Она дама светская, у нее в гостиной от новомодных столиков не протиснуться, и картины также ею подобраны, вот бы и научила уму-разуму, чем нотации читать.
Осталось только свести их сместе - да присмотреть, чтобы не слишком много денег ушло на эту блажь.
Княгиня именно этот вечер назначила для визита, и Архаров, не став разбираться с Клашкой, поехал на Пречистенку. По дороге заехал на Никольскую взять у модного московского кондитера Апре, недавно поселившегося там в доме генерал-майора Ржевского, разного рода десертов, бисквитов, конфектов и драже. Еще с утра он отправил Никодимку за марципанами - немец-булочник, коему протежировал Шварц, не ленился растирать миндаль с сахарной пудрой столь тонко, что изготовленные им овечки были чудо как хороши и сохраняли вид на блюде вплоть до попадания в рот едока. Марципаны были лакомством постным - их, поди, и сама государыня, свято соблюдавшая посты, сейчас ела.
– А не угодно ли макарон? - спросил мусью Апре. И даже пообещал дать на пробу без платы, просто так, ради столь почтенного покупателя.
Архаров прежде слыхивал про новомодное лакомство и велел показать. Макароны его смутили - он не мог понять, каким образом получается эта трубочка. Но и француз объяснить не умел - сей товар он получал из Милана. Сказал только, как отваривать и употреблять, посыпав тертым сыром пармезаном. Архаров из любопытства действительно взял фунт на пробу.
Прибыв домой, обер-полицмейстер велел Меркурию Ивановичу одеться понаряднее и присмотреть, чтобы никто из дворни не мельтешил в драных чулках и не слонялся без дела. Сам отправился в кабинет и сел ждать. От скуки велел Саше почитать что-нибудь, и тот выбрал было Лафонтеновы басни, но Архаров был мало склонен к изучению французского языка. Тогда Саша принес «Сказки в стихах Александры Аблесимова» и стал читать оттуда занимательные истории.
Наконец в дверь постучал и заглянул камердинер.
– К вашим милостям мебельщик, - доложил Никодимка.
– Будь ты неладен… Проси.
Купец, одетый для такого случая во французское платье, вошел и поклонился. Архаров велел ему сесть, и тут уж они оба принялись ждать ее сиятельство.
Как выяснилось, княгиня не совсем верно поняла его просьбу. Архаров с мебельщиком уже успели потолковать и о петербуржских новостях, и о местных, и даже порядком наскучить друг другу - а ее сиятельство все не появлялись. Наконец прибежал Никодимка, доложил - по Пречистенке катит княжеский экипаж. Архаров встал и, оставив купца в кабинете, пошел вниз - встречать дорогую гостью.
– Николай Петрович, со всем двором опричь хором! - сказала княгиня, округлым жестом представляя ему свою свиту. Она привезла княжну Анну Михайловну, Вареньку Пухову, компаньонку-француженку мадам Тюрго, русскую компаньонку дворянку Кротову, девчонку для мелких услуг и двух мосек. Француженка имела при себе папку с гравюрами, которые княгиня непременно желала показать обер-полицмейстеру. Но по тому, как она показывала полнейшую свою беззаботность и безмятежную радость от встречи, Архаров видел - не только гравюры, принаряженную Вареньку ей тоже охота показать.
Особняк тут же показался Архарову тесным для этих широких юбок, ярких развевающихся накидок, чепцов и наколок с летящими лентами, мельтешащих вееров, звонких женских голосов. А вот купец, выйдя навстречу, тут же расцвел, как майская роза. Ему явно нравилось беседовать с дамами, слушать их веселые глупости, заставлять себя упрашивать, говорить им те дешевые и пошлые пустячки, от которых они смеются, даже бьют шутника сложенными веером по пальцам, однако беседы не прерывают.
Наконец расположились в гостиной, и туда же Никодимка принес столики для сладостей, а сам был послан варить кофей. Помещение и впрямь имело пока что жалкий вид.
– Что нам потребно для гостиной? - спросила княгиня и сама же ответила: - Гарнитур! Стульев с дюжину, кресел с полдюжины, два больших канапе, экран для камина, ширмы, столов, пожалуй, пять - большой карточный, ломберный, кофейных два, рабочий столик - коли приедут дамы со своим рукоделием…
– Записывай, сударь, - приказал мебельщику Архаров.
– Стулья в гостиную могу предложить а-ля рен, легкие, дамам нравятся, - тут же вступил в беседу купец. - А также есть стулья основательные, для столовой и для господ, что в карты играть изволят, им подолгу сидеть, так что те стулья и поширше… обивка хорошая, тканая купонами, с греческим узором в медальоне, есть с вазами, в вазах букеты - от живых не отличишь.
– Николай Петрович, не все ж тебе бобылем жить, женишься, к женке дамы станут с визитами приезжать - бери стулья а-ля рен, - немедленно подхватила княгиня. - И им подстать креслица а-ля кабриолет… ты что, Анюта?
– Зачем кабриолет, когда у всех бержер? - спросила княжна. - У бержер-кресла подлокотники тоже обтянуты, не только спинка, и это куда приятнее, чем руку на дерево класть…
– Ну и засалится твой бержер, ахнуть не успеешь - засалится! Руки-то у всех в пудре и в помаде, - возразила княгиня. - Это лишь мы с Варенькой ничем не мажемся, а нынче даже щеголи берут притирания, чтобы кожа мягче была.
Архаров прямо наслаждался тем, как ловко княгиня преподносит ему невесту. Однако и мебельную задачу следовало решать.
– Мадам Тюрго, достаньте гравюры, - попросила Анна Михайловна. - Николай Петрович, полюбуйтесь, вот оно, кресло-бержер, а вот табурет. Он может стоять у стены, для девиц, а может быть приставлен вот так - и образуется лонгшез, на коем можно полулежать…
Варенька рассеянно перебирала гравюры. Казалось, она не слышала беседы. Мебельщик, вытягивая шею, глядел на картинки и на княгиню с восторгом.
– Ну, душа моя, неужто в гостиной у Николая Петровича дамы будут спать укладываться? - возразила Елизавета Васильевна. - Это для дамской гостиной хорошо, опять же - чем менее обивки, тем менее страха, что ее засыплют табаком… нет, вот сюда взгляните, сударь… вот что будет у вас стоять вдоль стен! Кресла-маркизы! Спинка невысокая, не выше подлокотников, и никакой вертопрах, никакая вертопрашка эту спинку пудрой с волос не измажет. Теперь волосья день ото дня все выше всчесывают и посыпают жирной пудрой… а маркизы, кстати, довольно широки, чтобы там поместиться и в самой модной юбке, ведь и юбки шьют все шире, как только в дверь проходить? Не так ли?
Вопрос был обращен к купцу.
– Ваше сиятельство, могу предложить маркизы наилучшие, в лавке моей стоят, и к ним подушки пуховые, а также кресла для игрального стола, весьма удобные, новомодные, и черного дерева, и красного дерева, - тут же принялся он расхваливать товар. - На картинке не видно, а мы знаем, которое дерево на что идет. И рисунок поставим самый модный - из лавровых веток плетение, бараньи головы, розеты, пальметы, вьюнок.
– Бараньи головы? - переспросил Архаров.
– Накладочки бронзовые, изволите видеть, какая же новомодная мебель без бронз? - с неподдельным изумлением осведомился купец. - Из Франции рисунки везут, наши мастера льют, не хуже выходит, чем мебеля у французской королевы. А то еще делают с фарфоровыми расписными плакетками, с медальонами, так то более для дамских комнат. Для гостиной и для кабинета господина Архарова нужны бронзы самые изрядные, чтобы одно к одному, на единый лад, - и накладочки, и канделябры, и люстры, и вазы, и часы, и курильницы…
Архаров подумал, что эти бронзы на единый лад влетят ему в немалую копеечку.
– Люстры надобны венецианские, легкие, - тут же решила Елизавета Васильевна, - все пять… а что, Николай Петрович, не хочешь ли обставить и малую гостиную?
– Туда - фонари! - тут же отозвалась княжна. - Как у меня, большие, и оправа из золоченой бронзы, Николай Петрович, модно, и сквозняк свеч не гасит, и воск куда попало с них не летит!
– Да, Анюта права, а для большей тонкости следует купить французские бронзы с матовой позолотой, - решила княгиня. - Что, любезный, сыщется у тебя?
– Для вашего сиятельства есть бронзы от самого господина Гутьера, - блеснул знаниями несколько обиженный купец - дама заподозрила его в том, что он не разбирался в товаре. - Теперь многие продают золоченую бронзу от Гутьера, да только врут, а у меня - подлинный, и бронзы от Томира у меня также имеются.
Архаров отвлекся - он ничего в этих позолотах не понимал, он только знал, что парадные комнаты должны быть достойны его чина.
Его беспокоил иной вопрос.
Государыня в Москве с января. Она внимательно наблюдала за следствием по пугачевскому делу и, несомненно, знала про затеи князя Горелова. О том, что после всех приключений девицу Пухову забрал к себе князь Волконский, она тоже знала. С князем была хороша, звала его и княгиню с княжной к себе на малые приемы, а о девице Пуховой не было сказано ни слова. По крайней мере, так понял Архаров. И теперь, глядя, как Варенька перекладывает листы гравюр, подумал: а что, коли слово было сказано? Что, коли этот визит - по приказу государыни? Ведь и дураку понятно - девицу Пухову, кем бы она ни была, надобно либо запереть в такую обитель, откуда она уж вовеки не выйдет, либо отдать замуж за человека благонадежного и умеющего охранить ее от всевозможных авантюристов. Сам он полагал себя таким человеком, но обхождение государыни с ним этому домыслу противоречило. Впрочем, обхождение могло быть испытанием, государыня ловка…
Когда вспомнился князь Горелов, это имя потянуло за собой другое - Михайла Ховрин.
Неудачная попытка Ваньки Каина выручить из беды старых дружков оказалась для Мишеля спасительной - он не был схвачен с оружием в руке, как князь Горелов, не был пойман идущими по следу полицейскими, как Брокдорф. Однако долго ли он будет отсиживаться в какой-то одному Богу ведомой заволжской деревне? Да и жив ли? Ведь был совсем плох…
И третье имя выплыло в памяти, тем более, что Варенька так держала рука над листами, словно то были не гравюры, а клавиши.
Она чем-то смахивала на Терезу Виллье, самую малость, хотя черты лица Терезы были менее округлы, даже, правду сказать, жестковаты, особенно упрямый, выдающийся вперед узкий подбородок. И даже если им было бы впору одно и то же шнурование, то Вареньке - благодаря ее болезненной хрупкости, а Терезе - потому, что сухое от природы сложение, наследство предков, которые, скорее всего, были бретонскими крестьянами, было необходимым условием стойкости и силы. Опять же, обе темноволосы, но мягкие Варенькины локоны не шли в сравнение с жесткой курчавой гривой Терезы, черной, как вороново крыло.
Архаров глядел на девушку, вполуха слушая рассуждения княгини о мебелях, шпалерах, коврах и бронзах, а сам впервые думал о Терезе спокойно, не гоня воспоминаний. И сам себя оправдывал тем, что всего лишь сравнивает. И сам себе толковал, что в Вареньке он, коли будет угодно Богу, найдет все лучшее, что померещилось ему в Терезе. Коли будет угодно Богу и государыне…
– А есть ли у тебя, сударь, кровати? - спросила княгиня. - Мы Анюту отдаем, приданое собираем, хочу спальню ей обставить так, чтобы все кумушки наши ахнули. Чтобы одна такая спальня на всю Москву была.
– Да ваше сиятельство! Коли угодно! Есть кровати дюшес - рама для балдахина резная, к потолку привинчивается, да изголовье резное. Есть турецкая кровать, есть польская - у той рама для балдахина округлая… Да прикажите! Хоть сами нарисуйте - у меня и столяры, и резчики толковые, поймут. А ткани на балдахины у меня из самой Франции.
– Уж точно ли из Франции?
– С фабрик господина Оберкамфа, ваше сиятельство, - достойно отвечал купец. - Славный французский промышленник, у него ткут и муслины, и перкали на дамские платья, и ткани для занавесей, на балдахины, стены обивать. А коли угодно, могу поставить немецкие ткани из Гамбурга, мы их часто выписываем. Коли позволите, я вам, ваше сиятельство, на дом образцы с сидельцем пришлю.
– Изволь, пришли.
Тут явился Никодимка с кофеем - а варил он этот напиток так, что аромат шел по всем трем этажам особняка. Девицы тут же оказали честь лакомствам, и Архаров подумал было, что более ему никаких трат не присоветуют. Однако ошибся.
– Посуда! - воскликнула княжна. - Главное-то и забыли!
– Да, сударь, твое серебро в переплавку давно пора, - согласилась Елизавета Васильевна. - Новое будешь покупать - возьми мое за образец. Когда государыня для господина Орлова сервиз во Франции заказала, мы все смотреть ходили и Анюта даже зарисовала немало. Так там - сплошь лавровые гирлянды, никакой вычурности, многие даже полагали, будто сервиз чересчур прост. А я взяла да и заказала себе почти такой же. Славно твой человек кофей варит, я пришлю нашего кофешенка к нему поучиться. Не откажи, Николай Петрович!
– С радостью, ваше сиятельство, - сказал Архаров, глядя, как Варенька точными движениями выбирает с блюда полюбившиеся ей драже.
Они почти не говорили друг с другом, но он заметил - девушка приглядывается к дому.
Княгиня поднялась с канапе, всем видом показывая, что пора собираться домой.
– Маман, еще картины! - вспомнила княжна. - Что за гостиные без картин? Да и в кабинет…
– И точно. Николай Петрович, - сказала княгиня, увлекая его с собой к окну весьма решительно - взяв под локоть. - Насчет картин-то…
Тут она понизила голос, чтобы не услышали девицы.
– Поезжай к отставному сенатору Захарову, он продает… метрессу, вишь, содержать не на что… а картины изрядные, я видала.
Княгиня стала перечислять художников, чьи имена Архарову ровно ничего не говорили. Он слушал, не перебивая, и словно примерял в это время на себя обстоятельство: вот он возвращается домой после трудного дня, и молодая очаровательная женщина, имеющая полное право распоряжаться его кошельком, радостно рассказывает про картины, про серебро, про нарядные ткани, про театральные премьеры, про драгоценности, про цветы, он же, ведомый ею, стряхивает с себя свои заботы и входит в ее уютный мирок, где все красиво и изящно, где нет иного закона, кроме закона красоты…
Это ему самому показалось странным - но почему бы и нет? Не могут же помешать службе эти самые кресла-бержер и кресла-маркизы? Да и долго ли жить в холостяцком раю, устроенном Меркурием Ивановичем в меру его понимания, то бишь - без излишеств?
– Я, ваше сиятельство, ровно ничего не смыслю в живописи, - пробормотал Архаров.
– Николай Петрович, вы прямо заволжский помещик, изящных искусств не признаете. Когда к родне такой гостенек приезжает, мы уж в ту неделю слона смотреть не ходим! - воскликнула бойкая Анна Михайловна. Обе компаньонки и Варенька рассмеялись.
– Да, я таков, - невозмутимо отвечал обер-полицмейстер.
Он наконец встретил Варенькин взгляд.
Такими взглядами Архаров не был избалован. Он знал, как глядят матушки готовых под венец дочек, знал, как глядят сами дочки, знал пустые глаза дешевых петербуржских девок, предлагающих себя под крылышком у своден… Дунькиных глаз почему-то вспоминать сейчас не пожелал… Знал светски любезный взгляд дам высокого полета, вроде княгини Волконской, которая, видимо, переняла его у государыни вместе с деликатной полуулыбкой…
Но никогда еще красивая женщина не смотрела ему в глаза с такой искренней симпатией. Он уловил бы тончайший оттенок фальши, но оттенка не было - Варенька, простая и пылкая душа, действительно рада была показать обер-полицмейстеру свою благосклонность.
Архаров поступил единственно возможным для него образом - даже не улыбнулся в ответ. Только дважды едва заметно кивнул - не столько Вареньке, сколько самому себе он предназначал сие выражение глубокого удовлетворения.
Дамы уехали. Архаров, проводив их до экипажа вместе с домоправителем, пошел обратно в гостиную, где остался ждать его купец.
– Меркурий Иванович, возьми Потапа, поезжай по модным лавкам, наберите там серебряной посуды, чтобы не стыдно было на стол взгромоздить, - распорядился Архаров, поднимаясь по лестнице. - Сообразите вместе, сколько чего надобно. Да только не слишком усердствуйте, я не господин Потемкин, полтысячи человек за стол сажать не собираюсь. Сперва же отправляйтесь к его сиятельству, ее сиятельство обещали снабдить модными картинками и показать свою посуду.
Купец, увидев в дверях обер-полицмейстера, живо встал со стула и поклонился на русский лад - в пояс.
– Должник ваш, батюшка, - сказал он. - Теперь-то мне подфортунило, сами их сиятельства… да еще государыня, пошли ей Бог здоровья… видел бы покойник-батька, куда сынок залетел…
– А ты вот скинь четверть цены - и не будешь должником, - отвечал Архаров.
– А поторгуемся! - немедленно нашелся купец. - Без торговли никак нельзя. И еще, ваша милость, присоветовать хочу…
– Что?
– Коли к вам гости будут приезжать, да и дамы тоже…
– Ну?
– Так дама - она ведь как устроена? - загадочно спросил купец. - Так же точно, как простая баба. И ест, и пьет… и, стало быть… извергает…
Архаров задумался.
У него самого на сей предмет имелось в гардеробной за ширмами кресло с дыркой, а что делалось дальше с ночной вазой - это не хозяйская печаль. Для дворни были нужники на свежем воздухе, хорошие нужники, просторные и чистые.
Однако купец прав - дам водить в свою спальню к креслу как-то нелепо.
– И что же? - спросил обер-полицмейстер.
– У меня мастера на примете есть, артелью трудятся. Сам дома конурку сделал велел, семейство не нарадуется, печка у меня там, супруга курильницу поставила. Ваша милость, ей-Богу, приезжайте! Стол велю накрыть - таких разносолов вам у их сиятельства князя Волконского не подадут!
– Почем ты знаешь?
– А вижу. Их сиятельство - дама светская, кофей с сахаром пьет, пряниками заедает. А моя Фетинья Марковна с утра как заберется на поварню, сама во все входит, все наизусть помнит - как печь, как томить. Впору записывать за ней - начнет рассказывать, как красные блины заводить, право слово, заслушаешься и слюнки потекут. Приезжайте обедать, ваша милость, а она расстарается! Вот прямо на Пасху!
– Приеду, - подумав, сказал Архаров. Хорошую простую еду он уважал. А к французской кухне питал недоверие после того прискорбного случая, как еще в Санкт-Петербурге объелся вкусной, но неимоверно жирной гусиной печенки.
Опять же, на Пасху не только можно, но и полагается баловать свой желудок.
Стоило подумать о французской печенке - тут же снизу явился Никодимка, доложил о приходе Клавароша.
– Посади его в людской, вели, чтобы ужин там для нас накрыли, - распорядился Архаров. - Сейчас и я спущусь.
Сделано это было не только потому, что Архаров любил ужинать попросту, но в обществе, пусть даже с дворней, а и для купца - пусть видит, что обер-полицмейстер живет без затей, постной кашей из общего котла не брезгует. Опять же, в купеческих домах общий стол для хозяев и прислуги - обычное дело, тем более, что служит в доме зачастую небогатая родня, мужчины - в надежде, что возьмут в дело, девицы и вдовы - рассчитывая, что выдадут замуж. Устраивать брачные союзы между подопечными было любимым развлечением богатых купчих.
Купец, повторив свое приглашение, откланялся, а Архаров пошел ужинать, хотя после марципанов, которые он, не удержавшись, грыз вместе с девицами под кофей, не очень-то хотелось.
Француз сидел за столом и, глядя на полную миску горячих грибных ушек, тосковал - правила приличия не позволяли приступить к трапезе без хозяина дома.
– Ну, докладывай, - распорядился Архаров, садась напротив и подвигая к себе точно такую же миску.
– Я, ваша милость, видел подозрительных особ.
– Сотню? Или две?
– Сотнями их числить начнем ближе к лету… ближе к празднику.
Перед Клаварошем была поставлена занятная задача. Вслед за государыней в Москву из Санкт-Петербурга притащилось немало семейств вместе с детьми, от новорожденных до недорослей, по коим армейские полки плачут. Стало быть, каждая приличная семья имела среди домочадцев и гувернера, и гувернантку, да еще везла с собой учителей - танцевального, рисовального, музыкального, особенно если имела девиц на выданье. Клаварош лучше, чем кто-либо, знал, из кого вербуются сии наставники юношества: сам он стал гувернером, не сумев заработать в России на жизнь ремеслом кучера, а многие прежде, чем им были вверены дворянские отпрыски, служили в лакеях.Но это бы еще полбеды - может же честный лакей, набравшись ума, начать успешно обучать грамматике. Худо было другое - в России большинство этих педагогов оказалось, спасаясь от французского правосудия. Как, кстати, и сам Клаварош.
Уже с января он начал тратить казенные деньки на выпивку с земляками. Представляясь им кучером, ищущим работу, он довольно скоро выпытывал у каждого, откуда и по какой причине его занесло в Россию. А поскольку он умел говорить с мошенниками на их языке, то и узнавал немало любопытного. Все свои сведения он приносил в канцелярию, где их под его диктовку записывали по-русски. Потом листки складывали в особую папку, и Архаров уже как-то, пораженный ее толщиной, пообещал отправить сии сокровища прямиком в Париж к де Сартену - пусть приезжает и забирает своих мазуриков согласно описи.
– Ну так что же за особы? - собрав в ложку побольше ушек, спросил Архаров и уже раскрыл рот пошире, но ушки шлепнулись мимо миски на стол, когда он услышал имя:
– Де Берни.
Архаров отпихнул Никодимку, кинувшегося прибирать барское свинячество.
– Ты видел его?
– Да, ваша милость, видел. Господин де Берни - пожилой человек почтенной внешности, обучает французскому языку, математике и рисованию детей отставного гвардейского полковника Шитова. Взят с хорошими рекомендациями.
– Ни хрена себе совпадение…
– Ваша милость, я узнавал - взят осенью семьдесят третьего года. Где был до того - известно лишь с его слов.
– Прелестно… вот подарок…
Такие подарки падают с небес крайне редко - во всяком случае, Архаров не мог надеяться, что шулер-француз, исхитрившийся сбежать, когда архаровцы взяли притон в Кожевниках, вдруг заявится в Москву в виде домашнего учителя, да еще открыто, не скрываясь!
Обер-полицмейстер задумался. Клаварош неторопливо отправлял в рот грибные ушки. Он вместе со всей Москвой соблюдал православный пост, хотя и без особой радости.
– Вот что, Клаварош… ты его пока не трогай…
Собственно, Архаров имел в виду, что надобно первым делом изучить все бумаги домашнего учителя, но проделать сие как можно более деликатно. Следовало кого-то подослать к отставному полковнику Шитову, придумав предлог для изъятия бумаг - но такой, чтобы не спугнуть господина де Берни. И даже убедившись в том, что именно его упустили той бурной ночью, не хватать и тащить в нижний подвал к Шварцу, а еще несколько времени понаблюдать. Ибо де Берни мог заявиться в Москву с сообщниками, и днем, к примеру, учить дитя четырем действиям арифметическим, ночью же проделывать карточные кундштюки и обчищать простаков.
– Велите поставить наружное наблюдение, ваша милость.
– Завтра же. Ешь, мусью, заработал…
Клаварош понес ко рту ложку с грибными ушками, умственно считая дни до завершения Великого поста. Ему уже не на шутку хотелось ну хоть жареной курицы. Архарову, кстати, тоже, но в его доме пост соблюдали из двух соображений: во-первых, чиновник столь высокого ранга был обязан показывать свою приверженность вере, во-вторых, ради дворни, которой строгий порядок необходим, иначе начнутся разброд и шатание.
А оставалось и впрямь совсем немного…
Но еще до Пасхи, когда мебельщик уже привез и стулья а-ля рен, и кресла для игрального стола, выяснилось, что государыня действительно недолюбливает московского обер-полицмейстера. Явилось сие в день ее рождения. Архаров был по долгу службы в Кремлевском дворце, где решено было справлять торжество и устроить большой прием, и глядел издали, как Екатерина Алексеевна в нарядном платье, спереди весьма похожем на простонародный сарафан, хотя и из богатой ткани, принимала поздравителей и сама в честь праздника делала близким людям подарки.
Неподалеку от нее стоят Григорий Второй - соблюдая приличное расстояние.
Этот человек, явившись в качестве фаворита, вызвал некоторое смятение при дворе - недоумевали, неужто не нашлось никого приятнее сей ужасной образины? В тридцать пять лет господин Потемкин утратил стройность, обрел грузность, лицо его огрубело, красоты себе придать он и не пытался - волосы пудрил редко, на выбитый глаз повязку надевал не каждый день. Да и от дурной привычки не отстал - вон государыня принимает поздравления от знатных особ, а он знай грызет ногти, да как еще - исступленно, яростно, до крови.
Рядом с Потемкиным Архаров увидел человека, которого с легкой руки господина Фонвизина, секретаря графа Панина, втихомолку звали шпынем. Не шутом либо гаером, как полагается звать такого рода господ, увеселяющиъ публику, а на старый русский лад - шпынем. Обер-шталмейстер Лев Нарышкин уже более двадцати лет был любимцем государыни и умел ее развлечь при любой хандре. Способов к тому он имел несколько.
Прежде всего, государыня любила, когда Нарышкин принимался толковать о политике. На третьей либо четвертой минуте, слыша, как перекроена Европа на новый лад, она обыкновенно начинала смеяться. Затем - любимец изрядно передразнивал приближенных. И, наконец, он просто нес ахинею, мало заботясь, в какие дебри занесет его красноречие.
Господин Потемкин и сам любил пошутить, и сам был горазд передразнить, к тому же, Нарышкин не стремился играть при дворе иной роли, кроме арлекинской, и потому новый фаворит был к нему благосклонен.
Фонвизин, кстати сказать, тоже присутствовал и внимательно наблюдал за происходящим. Этого полного, как если бы он дородством подражал своему покровителю Панину, даже рыхлого, круглолицего человека шутом звать не осмеливались - склонность же его к подражанию признавали за талант. Особливо после того, как он шесть лет назад в Петергофе мастерски прочитал перед государыней и ее приближенными свою новорожденную комедию «Бригадир». Тем, кстати, в очередной раз обидев драматурга и анненского кавалера Александра Петровича Сумарокова - Панин назвал «Бригадира», первой комедией о русских нравах, как если бы не было сумароковских. После сего бенефиса, кстати, Фонвизин и попал в секретари к графу Панину.
Архарову этот человек не больно понравился - склонность к язвительности вызвала в обер-полицмейстере весьма настороженное отношение. Кроме того, он недавно наблюдал, как Фонвизин щегольски передразнивает Сумарокова. Если бы что-то похожее учудил Демка в стенах Рязанского подворья - Архаров расхохотался бы и дал гривенник на пропой. Но фонвизинский Сумароков, обидчивее и сварливее подлинного, был чересчур смешон - а Архаров ощущал обычно границу, за которую шутник переходить не должен.
Нельзя сказать, что праздник ему нравился - прежде всего, он тут присутствовал по долгу службы, а затем - он не имел привычки к большому свету. Красивые молодые женщины со взбитыми волосами, с красноречивыми веерами, почти не обращали на него внимания, а сам он тоже не умел войти в кружок петиметров, собравшийся вокруг языкастой щеголихи, чтобы сказать нечто глупо-беззаботное, однако приправленное любовной страстью. Общество же людей почтенных манило его - да только он слишком любил расставлять людей по ступенькам. Тщательно соотнеся свой возраст и чин с возрастом и чином петербуржских придворных, он решил, что будет в их компании самым младшим и незначительным. Потому и остался в одиночестве, поглядывая направо и налево, примечая мелочи и пытаясь делать из них выводы.
Ему очень бы хотелось высмотреть генерал-поручика Суворова. Княгиня Волконская рассказала, что Варюта брюхата, а Александр Васильевич страстно желает поспеть в Москву к родинам. Но хрупкой подвижной фигурки Суворова Архаров не приметил.
Обер-полицмейстер был сильно озадачен - в зале не оказалось и половины гостей, которым следовало бы явиться. Зато и французский посланник Дюран де Дистроф, и английский посланник Гуннинг присутствовали, каждый с небольшой свитой, и наверняка готовились отписать своим повелителям про сей конфуз.
Как им помешать - Архаров не знал. Он понимал - опять бунташная Москва являет свое дурацкое неудовольствие. А ведь государыня очень хотела Москве нравиться.
Это ее желание и вышло Архарову боком.
Он был позван пред светлые очи и услышал приказание - выйдя сейчас на крыльцо, объявить народу, коего сколько-то там, на улице собралось, чтобы таращиться в окна и угадывать силуэты, новый указ про соль.
Архаров получил бумагу с указом и, готовясь ужаснуться, заглянул в нее. Но на сей раз государыня изволила выразиться весьма кратко.
Просматривая строчки, чтобы при громогласном чтении не вышло какой запинки, он ощутил щекой даже не дыхание, а некую мимолетность справа и сверху. Скосив глаза, он обнаружил, что вместе с ним читает указ вдруг оказавшийся рядом его сиятельство Григорий Второй - новый фаворит. И на лице у фаворита - явное неудовольствие.
Тут Архаров вспомнил, о чем говорили третьего дня у Волконских.
Князь Михайла Никитич вспомнил к месту Эзопову басню о лягушках, просивших царя. Смысл ее был таков. Лягушки, позавидовав прочим тварям, попросили у Юпитера себе царя: у все-де есть владыка, и нам также надобен. Юпитер, недолго думая, скинул с небес в болото чурбан. Довольно скоро лягушки догадались, что вреда от чурбана нет, да и пользы тоже нет, взмолились сызнова. Недовольный Юпитер послал им на болото аиста…
Сказано сие было, без упоминания имен, к тому, что был раньше при государыне Григорий Орлов, ни в какие дела не мешался и тем даже Екатерину Алексеевну огорчал - ей очень хотелось доказать свету, что красавец избран не только за мужские стати. Затем промелькнул ничем не примечательный Васильчиков. Ныне имеем иного Григория - и тот норовит научить князя Вяземского, как писать указы о соляной торговле. Князь-то имеет в таких делах навык, а господин Потемкин только вызывает у государыни сильное беспокойство, и она, в его отсутствие, даже обмолвилась, что от затей любезного друга более будет ненависти и хлопот, нежели истинного добра. Хотя, может статься, именно он додумался, что удешевление соли послужит успокоению народа после недавнего бунта маркиза Пугачева.
Волконский рассказал, что проект указа велено составить обоим, Вяземскому и Потемкину, и государыня обещалась либо подписать тот, который выйдет лучше, либо, сведя оба вместе, сочинить третий своим, как она изволила выразиться, лаконическим и нервозным штилем, в котором обыкновенно более дела, чем слов.
Судя по всему, это было творчество именно государыни.
Архаров, поклонясь, торопливо пошел на крыльцо. Возможно, чего-то этакого народ ждал - увидев его, толпа притихла, и он, прочистив горло, произнес весьма внятно:
– Объявляется всенародно!
Затем он обвел взглядом народ, давая время последним болтунам и пьянюшкам замолчать и уставиться на оратора.
– В именном ее императорского величества указе, данном Сенату сего апреля 21 дня, за собственноручным ее величества подписанием, написано, - неторопливо и зычно сообщил публике Архаров. - По долговременной и трудной войне, воспользуясь восстановлением мира и тишины, за благо рассудили ее императорское величество, для народной выгоды и облегчения, сбавить с продажи соли с каждого пуда по пять копеек! И сей всемилостивейший указ сенат имеет обнародовать повсюду; о чем чрез сие и публикуется!
Криков восторга, которые должна вызвать такая новость, почему-то не последовало.
То есть, народ зашумел, но весьма умеренно.
Архаров даже несколько растерялся - не должно так быть, чтобы указ о понижении цены на соль приняли без проявления радости. Он просмотрел строчки - да, именно то,что было, он прочитал, вот и пять копеек…
Вдруг до него дошло - не иначе, как толпа вспомнила иной указ, тринадцатилетней давности! Тогда, сразу после шелковой революции, государыня опустила цену соли, как самой нужной и необходимой к пропитанию человеческому вещи, не на пять, а на десять копеек с пуда.
А дальше случилось самое скверное. Московские мещане, перекрестившись вразнобой, стали молча расходиться.
Бывшие в толпе архаровцы, поняв наконец, что дело неладно, закричали «ура!», но спасти положение они уже не могли.
Архаров скосил глаза на ряд окон - за одним непременно стояла императрица и ожидала народных восторгов. Нетрудно было представить ее положение - при посланниках, при знатных гостях до такой степени опростоволоситься…
Обер-полицмейстер вернулся в залу. Тут бы ему и остаться в толпе - кто бы стал вспоминать о том окаянном указе? Но Архаров, не имея опыта придворной жизни, вообразил, что бумагу следует вернуть.
Он подошел к государыне, наклоняясь несколько вперед - ему казалось, что так наиболее удачно изображается почтительность. Но Екатерина Алексеевна, сделав синие глаза пустыми, отвернулась, как если бы не заметила бумагу в архаровской руке. Рядом с ней, кроме Потемкина и Нарышкина при нем, Вяземского и Волконского, оказался как-то незаметно француз Дюран де Дистроф с сопровождавшим его кавалером. Они встали достаточно близко, чтобы услышать, как государыня, указывая на окно, произнесла негромко:
– Ну, что за тупоумие…
Француз посмотрел на обер-полицмейстера с бумагой и усмехнулся, но усмехнулся нехорошо, смерил злыми глазами…
Волконский локтем отодвинул подчиненного, и тут лишь Архаров понял свою ошибку. Он отступил, пятясь, оказался за чьей-то бархатной спиной и уже не слышал, что такое сказал Потемкин императрице, что она ему ответила. Видно лишь было, что оба сильно друг дружкой недовольны.
Архаров устал пятиться, не с его телосложением было совершать такие маневры, развернулся и пошел прочь, считая, что обязанности по оказанию почтения выполнены. И в спину ему, как снежком меж лопаток, ударил смех государыни. Он остановился.
Не иначе, как шпынь Нарышкин, норовя переменить общее тягостное состояние на праздничное, кого-то передразнил. А кого?
А передразнить он мог только московского обер-полицмейстера с его совсем не придворной манерой подходить, говорить кратко и отступать неуклюже…
Оборачиваться Архаров не стал. Он окаменел на мгновение, боясь одного - если увидит шпыня в лицо, разум уступит место кулакам. А что кулаки у него обладают мыслительными способностями, он знал уже давно.
Смех государыни подхватили мужские голоса. И смолкли, и опять грянули - возможно, шпынь Нарышкин избрал иной объект для подражания.
Да много ли нужно Нарышкину, чтобы иметь повод для ахинеи? Сердиться на такого шпыня - нелепица, все равно что на комнатную моську… да он и состоит при государыни на правах моськи…
Архаров всячески пыталася задушить в себе обиду. Но дело было даже не в смехе государыни. Он с самого начала чувствовал себя в этой зале чужим. Тут была другая лестница, ему пока незнакомая, и он знал только, что стоит на одной из нижних ступенек. На собственной-то, на московской, он мнил себя едва ли не на следующей ступеньке после князя Волконского. А петербуржские гости сего не знали, знать не желали, и не станешь же этим придворным вертопрахам растиолковывать все, начиная с чумы… Дня них сейчас важнее, как глядят друг на дружку государыня и Григорий Второй, надолго ли ссора.
Ближе к вечеру, впрочем, императрица с фаворитом помирились. Архаров узнал об этом случайно - не имея возможности покинуть прием, где ему надлежало быть по долгу службы, он держался подальше от именинницы и близких к ней кавалеров и дам, потому и оказался вдруг рядом с цесаревичем Павлом. Павел, его красавица-жена и лучший друг Андрей Разумовский стояли втроем и беседовали довольно громко. Наследник обижен был беспредельно - жаловался другу, что не получил обещанных к празднику пятидесяти тысяч рублей, а получил дрянные часы, деньги же матушка вдруг вздумала отдать господину Потемкину. То-то он рядом с матушкой остроумием блещет…
Великая княгиня Наталья Алексеевна произнесла что-то по-немецки, явно утешая супруга, однако Разумовского это утешение насторожило.
– Любезный друг, - уже гораздо тише сказал он цесаревичу, - ради Бога, уйми ее высочество, чтобы не всякому пройдохе верила. Возьмет этак для тебя денег взаймы - чем расплачиваться станет?
Архаров понял, что великая княгиня все еще не говорит, да и не разумеет по-русски.
– Мало ли у нас побрякушек? - спросил Павел. - При нужде продадим. А деньги надобны, я на них рассчитывал.
– Надобны - да не французские… - тут Разумовский быстро огляделся. - Коли ее величеству французский посланник заем устроит - так вы оба у него в коготках…
– Может, оно и к лучшему, - отрубил недовольный Павел. И оба они, цесаревич и его лучший, хоть и неверный, друг, переглянулись - всем было известно, что государыня Екатерина в бытность великой княгиней тоже делала займы, имевшие, как оказалось, политический смысл…
Сведения были прелюбопытные, и Архаров забеспокоился - не слышит ли беседы кто посторонний.
Оглядевшись по сторонам, он заметил, что за цесаревичем внимательно наблюдает английский посол. Причем стоит, повернувшись спиной к той части залы, где придворные развлекают государыню.
Сам не зная иноземных языков, Архаров с трудом понимал, как им можно обучиться настолько, чтобы пользоваться наравне с родным. Тем более - за недолгий срок. Однако ж по лицу видел - англичанин уразумел, по какой причине возмущен наследник и высокомерно показывает обиду его супруга.
На всякий случай обер-полицмейстер отошел подальше.
Указ он все еще держал в руке. Насилу додумался сложить бумагу вдвое и сунуть в карман.
Тут к нему подошел наконец князь Волконский со своей княгиней.
– Сердилась матушка, - шепнул он, - да и мы хороши… что ж ты народу не пригнал, ну хоть десятских бы выставил?…
Архаров ничего не ответил.
– Да еще с указом этим?
– Не придворный ты человек, Николай Петрович, прямой ты Вольтеров Кандид, - добавила Елизавета Васильевна, улыбаясь.
– Да, я таков, - буркнул Архаров. Кандида при нем поминали давеча, когда выбирали ему по картинкам мебель, и обер-полицмейстер понял, что так звали некого французского простофилю.
– Ничего, обойдется, - сказала княгиня. - Господин Нарышкин сумел всех насмешить, теперь про указ и не вспомнят…
Но Архаров знал, что так просто не обойдется. Как бы ни толковали про доброту государыни, а его не обманешь - на лице было явное недовольство, и когда-либо оно даст себя знать… люди с такой полуулыбкой частенько оказываются на диво злопамятны…
* * *
Яшка-Скес, как и следовало ожидать, не узнал у Клавароша, какой гренадерский полк поила кофеем его лихая подруга. Француз спросил, сколько было чашек, узнал, что не менее десяти, и хмыкнул. Яшка попытался было вселить в его душу сомнение, но Клаварош растолковал ему, что у Марфы что-то с сердцем, жалуется, что порой охватывает неимоверная слабость, хоть с постели не слезай, и единственное средство - крепкий кофей. Яшка подумал, что в таком случае хитрая сводня не иначе как с того света выбиралась…
Давняя его нелюбовь к Марфе погнала архаровца в Зарядье с прекрасной целью - выманить инвалида Тетеркина и расспросить его о странных гостях. Хотя Архаров бы таких действий не одобрил. Мало ли у кого из придворных растяп пропадет дорогая побрякушка - так уж лучше искать ее у ведомой скупщицы краденого Марфы и выкупать за разумные деньги, чем ссориться с Марфой - и оставлять «явочную» о воровстве тяжким грузом, висящим на полицейской конторе до скончания века.
Удалось ему выбраться в Зарядье не сразу, а уже на страстной седмице, рано утром. Был Чистый четверг - тот самый день, когда хозяйки должны замесить тесто для куличей, покрасить яйца и убраться в доме. По крутым улице уже спешили кухарки, неся перед собой двумя руками укутанные горшки с опарой для куличей. Это были кухарки из небогатых домов, и шли они в парфюмерную лавку. Там им за грошик капали в опару одну-единственную каплю розового масла, ее вполне хватало, чтобы пасхальный кулич выпекался духовит.
До Марфиного местожительства Яшка не дошел.
Двигался он в Зарядье кружным путем и оказался на Ильинке, неподалеку от дома, где, как он знал, жила мартонка господина Захарова, принявшая странное участие в штурме Оперного дома. И надо ж было тому случиться, что навстречу ему из Дунькиных дверей вышла Марфа, разряженная в пух и прах, а главное - при шнуровании. Трудно было даже представить себе, сколько нужно силищи, чтобы хоть как-то затянуть на ней шнуровку и создать подобие талии.
Кроме того, Марфа, не вращаясь в высоких сферах и не зная, что такое утонченный вкус, привыкла наряжаться так, чтобы за версту было видно: вот где богачество! Дорогие ткани, да поярче, да чтобы золота и серебра поболее, да непременно жемчужное перло на шее, а жемчуг чтоб с вишню величиной, - таков был ее идеал, позаимствованный у богатых московских купчих. Поскольку их никто не неволил носить французское платье, они любили наряжаться на старый лад, особливо же - чтоб головной убор побогаче, с жемчужным шитьем, с ряснами на лбу - как у давно позабытых боярынь.
Марфа понимала, что надобно соответствовать моде, и волосы всчесала довольно высоко, увенчав их пышной наколкой из лент и кружева. На руки она надела парные браслеты и множество колец, на шею - дорогой изумрудный фермуар, скреплявший перло, да нарумянилась, да посадила на лицо две мушки: над левой бровью и на правой щеке, ближе к уголку рта. Первая означала, что носительница - особа честных правил, вторая же - ее склонность к сердечной жалости.
Скес этих тонкостей не разумел, а только поразился светскому виду Марфы.
Сводня, повернувшись, сказала что-то человеку, оставшемуся за дверью, а потом поспешила к богатой карете. Лакей слез с запяток и помог ей забраться вовнутрь, что было, учитывая ширину топорщащихся юбок, делом нелегким.
Яшка неторопливо подошел поближе и разглядел герб. Герб был, на его взгляд, даже красивый - черный с красным, увенчанный рыцарским шлемом, откуда торчали три больших страусиных пера. Эти же перья имелись и на самом щите, разделенном на четыре части. В двух красных, левой верхней и правий нижней, стояло по латнику с обнаженным мечом, острием вверх, а в двух черных, правой верхней и левой нижней, как раз имелись пучки этих курчавых перьев, схваченные лавровыми гирляндами и вставленные в остроконечные портбукеты. Запомнил Яшка и щитодержателей - латников с обнаженными шпагами, опущенным острием вниз.
Карета укатила, Яшка проводил ее взглядом и, хмыкнув, отправился в Зарядье.
Инвалид Тетеркин наотрез отказался рассказывать, кого Марфа угощала кофеем. Зная, что шутить с архаровцами не след, он даже принялся божиться, что рано ложится спать, дрыхнет без задних ног, просыпается едва ль не к обеду, ничего не знает, не ведает, коли Марфа кого угощала - то ему сие неизвестно.
Порой правда в устах человека перепуганного выглядит сущим враньем. Архаров не раз повторял эту несложную истину своим подчиненным. Некоторые улавливали. Яшка-Скес дураком не был, но и внутреннего ощущения четкой грани между правдой и ложью не имел. Вернее, во всяком слове прежде всего подозревал ложь и недоумевал, когда слово оказывалось правдивым.
Инвалидова божба внушила ему сильное подозрение.
Скес не первый год служил в полиции и кое-чему научился. Поэтому сильно обижать инвалида Тетеркина он не стал, постарался свести разговор к какой-то сущей ерунде. Покидая Марфин двор, он уже прикидывал, кого расспросит о странном кофепитии. Была тут в Зарядье некая соседка, муж которой служил в трех шагах от дома, на проволочной фабрике Ворошатина, где работал шпажные эфесы; жена же, бабенка шалая и никчемная, охотно принимала даже таких сомнительных гостей, каковы были архаровцы.
Бабенка, которую звали Феклушка, была вызвана Яшкой из дому и уединилась с ним в сарае. Марфу она недолюбливала, и Скес даже знал, почему - Марфа водила знакомство с денежными людьми и могла бы подвести Феклу к хорошему и щедрому любовнику, да не пожелала, объяснив кратко, что с Феклиной рожей разве бурлацкую ватагу сопровождать или в богадельне среди обездвиженных старцев подвизаться. Тут Марфа была неправа - соседка имела лицо, изрытое оспой, но тело красивое и статное, а рожу можно так белилами натереть, что выйдет гладенька, словно яичко. Яшка побаловался с бабенкой, но в меру, и попросил разведать у баб, кто это повадился пить кофей ведрами у старой сводни, а сам отправился в полицейскую контору.
Там он нашел время и поспрошал у канцелярских насчет красивого герба с перьями и латниками.
– Это не наши, не московские, - сказали ему, - это кого-то из столици черти принесли.
Скес тихо выругался - столичные гости, что уже начали съезжаться на празднование знаменитого Кючук-Кайнарджийского мира, уже успели крепко надоесть архаровцам. Мало мороки присматривать за новым Пречистенским дворцом, чтобы всякий шалый народ государыню не тревожил, так еще поди упомни всех этих путешественников.
Но выслеживать старую проказницу ему никто не велел, а вот поузнавать насчет золотого сервиза - велели. И коли не выполнить приказания - можно и на дробь напроситься. Так на байковском наречии назывались батоги и розги.
Первым делом он еще до Пасхи побывал в «Негасимке» и о многом перетолковал с Герасимом. Кабатчик выслушал все, что Яшка знал о сервизе, и побожился, что к нему такую кучу золота не понесут. Обещал, понятно, коли что услышит - донести.
Скес и сам знал, что шуры не сбывают богатый слам в кабаках наподобие «Негасимки». Но шуры могли приметить, в каком доме появилось французское сокровище, и задумывать кражу.
Беседа с Герасимом некоторое время спустя навела Яшку на мудрую мысль, и он направился к Варварским воротам, где сидела нищая братия.
Когда в чумную осень Архаров заметил, что мортусы подкармливают нищих, он не придал этому особого значения. И напрасно - среди убогой братии, что сидела едва ль не у всех московских храмов и монастырей, было десятка два ветхих старцев, что кормились отнюдь не подаянием. Они служили чем-то вроде секретарей, у кого всегда можно оставить сведения для нужного человека или же получить сведения от него. Они знали, кто из мазов по своим делам тайно посетил Москву, кто кого и зачем ищет, какие составляются компании для разнообразных темных затей.
Сразу подходить к нищим Скес не стал - сперва понаблюдал издали, как себя ведет известный ему одноногий дед по прозвищу Ходорок.
Дед просил подаяния, нарядившись в ветхий артиллерийский мундир времен государыни Анны - красный с черным подбоем, с медными пуговицами, и поминал всуе какие-то турецкие города, которые брал штурмом. Скес сомневался, что те города в Турции имеются, потому что слышал доподлинно - ни в какой артиллерии Ходорок не служил, а ноги лишился при пожаре - на нее свалилась горящая балка. Как к нему попала гусарская лядунка - Яшка не знал, знал только, что этим предметом Ходорок предупреждает об опасности - чтобы те, кто собрался к нему подойти, топали бы себе мимо.
На сей раз лядунки не было, так что Скес, достав полушку, неторопливо направился к нищим.
– Мас Скитайлу искомает, - сказал он тихо, опуская полушку в протянутую ладонь.
– У Шишмака в шатуне.
Этого было довольно. Скес прекрасно знал, кто такой Шишмак, где он держит свой винный погреб - «шатун», и в котором часу следует туда являться, чтобы встретить клевого маза Скитайлу, прозванного так не за кочевой образ жизни, а за необъятное чрево (скитайлой шуры и мазы называли большую кадь для зерна).
Теперь следовало спешить в полицейскую контору. Пока государыня в Москве - обер-полицмейстер никому покоя не даст, про отдых можно позабыть. Десятские - и те с ног сбились.
Особую тревогу у Архарова вызывали окрестности Пречистенского дворца. Народ там живет, чуть шагни от Моховой или Пречистенки в переулок, пестрый, неотесанный, нуждается в присмотре. Тут тебе и лабазы, и грошовые лавчонки, где промышляют старым железом и лоскутьями, и амбары, а на Моховой и вовсе бурная торговля огородными овощами, одно счастье - сейчас, кроме кислой капусты, местному жителю и продать нечего. Обход окрестностей дворца проводился круглосуточно.
Скес, чтобы не тратить денег, спустился в подвал, где повар Чкарь готовил еду для арестантов, получил миску каши со свиными шкварками и тут же, под шум из нижнего подвала, съел.
Наверху его позвал Жеребцов и отправил на дежурство в паре с Федькой Савиным.
Им нужно было убедиться, что все десятские, кому полагается, не по домам сидят, а на улицах - смотрят за порядком. Нужно было несколько раз обойти дворец - хотя там и стоит охрана, но именно что стоит - мазы и шуры же имеют скверное свойство передвигаться, причем прытко и шустро.
Но, с другой стороны, погода была превосходная - и отчего бы не порадоваться теплому майскому вечеру? Сами бы ввек не пошли прогуляться, а коли полагается по службе, так оно и неплохо.
Скес был невеликий любитель общепризнанной красоты, вообще трудно было догадаться, что ему по душе. А вот Федька остро ощущал все радости и прелести мира, и отдавался чувствам всей душой, способный и завопить от восторга, и разрыдаться от обиды.
Они вышли на Лубянскую площадь, где обычно стояли извозчики, но тратить деньги не стали, а отправились к месту несения службы пешком.
– А пойдем по Воздвиженке, а, Скес? - попросил Федька, несколько смутившись.
Яшка сперва удивился - охота же ему слоняться по улице, где чуть насмерть не закололи. Потом вспомнил - девица Пухова! О ней все Рязанское подворье знало - и в основном Федькину любовь не одобряло. Он бы еще в княгиню Волконскую влюбился…
Федька сам все замечательно понимал. Он пробовал лечиться - ходил к сводне, сводня познакомила с молодой вдовой. Ничего не вышло - а только насмешил архаровцев до колик, сказав наутро: «Да с ней и разговаривать-то не о чем…»
Варенька была ему необходима, как живой отклик на зов его взбаламученной души, как живое воплощение бессловесной мольбы о прекрасном. Даже болезнь девушки - и та казалась ему теперь неким обязательным свойством красоты, которой так и положено - одной ногой чуть опираясь о землю, всем телом уже парить в небесах.
И для нее, как для него, любовь была единственным в мире, о чем следовало беспокоиться, верность любви - главным, что надобно спасать при любых бедствиях. А что не суждено вместе стать под венец - так от этого Федькина любовь, может, только крепче делалась…
Так что шли архаровцы Савин и Скес, никому не уступая дорогу - напротив, это от них все шарахались, зная, что полиция на руку скора и щедра. И прошли они по Воздвиженке мимо двора старой княжны Шестуновой и мимо особняка князя Волконского, где теперь жила Варенька. И Федька замедлил шаг - вечера в мае долгие, свет в домах зажигают поздно, а ему так хотелось бы увидеть в каком-либо освещенном окошке хоть силуэт…
Они прогулялись по переулкам, которых вокруг Пречистенского дворца хватало, спугнули каких-то юных любовников, съежившихся под забором; поймали за шиворот и осчастливили оплеухой парнишку, что стоял перед закрытой калиткой и громко материл кого-то незримого; унюхав подозрительный дым, забрались во двор, увидели тлеющую кучу сухих подгнивших листьев, выволокли из дому хозяина и заставили его прекратить опасное безобразие…
Огонь был бы сейчас вовсе некстати.
В Пречистенском дворце, стоило окончиться Великому посту, начались гулянья, концерты, любимые государыней маскарады. Народу собиралось много, построен дворец бестолково - если загорится, мало кого удастся спасти. На подступах к Колымажному переулку архаровцы видели несколько новомодных карет, спешивших ко дворцу, а у подъезда и в курдоннере было уже не протиснуться.
Незадолго до полуночи они убедились, что все десятские патрулируют отведенные им переулки, что обыватели улеглись спать, и Скес сказал, что есть тут в Обыденском переулке домишко, хозяйка пускает в сарай ночевать кого попало, так заодно можно и сарай проверить на предмет подозрительного люда, и самим там отдохнуть хоть часок, а потом совершить еще обход - и по домам.
Собачонка, бегавшая по двору, облаяла их, выглянула хозяйка, признала Скеса и прикрикнула на пса.
В сарае оказалось пусто, стояла старая лавка, длинная и широкая, на ней лежал холщовый сенник, вот только сено в нем было прошлогоднее, умятое до жесткости. Скес прилег, Федьке же спать не хотелось.
Он вышел во двор, присел на завалинке и уставился вверх, на темное небо, размышляя, что скрасил бы ему ожидание подсчет звезд, однако как прикажете помечать уже сосчитанные?
Федька замечтался, и лишь далекие голоса вывели его из этого состояния.
Где-то дома через два, через три завели песни. Молодежи в такой теплый вечер не спалось - и нужды нет, что завтра спозаранку мать поднимет и погонит выпроваживать корову в стадо…
Он слушал девичьи голоса, довольно слаженные, и вдруг вскочил.
Песня была опасная.
Раньше он и не слыхивал, как ее поют, а на службе узнал от старых полицейских, что еще при господине Салтыкове, том самом, кому бегство из чумной Москвы стоило отставки, государыня писать в Москву изволила, велела, чтобы эту неожиданно вошедшую в употребление песню как-то исхитриться предать забвению. А как ее предашь? Песня-то бабья… что хотят, то и поют потихоньку…
Узнал же ее Федька по одной, но весьма значительной примете.
- Мимо рощи шла одинехонька,
Одинехонька, молодехонька,
Никого я в роще не боялася,
Ох, ни вора, ни разбойничка,
Ни сера волка лютого… - выводили то ли три, то ли четыре девичьих голоса, да уж так тоскливо! Пока что не было ничего крамольного, но крамола уже ждала своего мига.
- Я боялася друга милого,
Свово мужа законного,
Что гуляет мой сердечный друг
Во зеленом саду, в палисадничке,
Ни с князьями, ни с боярами,
Ни с дворцовыми генералами,
Что гуляет мой сердечный друг
Со любимою своей фрейлиной,
С Лизаветою Воронцовою…
Вот именно так и свернула песня с бабьей печальной ревности на стезю политическую. Поскольку «сердечный друг» был покойный император Петр Федорович. А песня пелась, как если бы на него супруга, нынешняя государыня, жаловалась.
Федька тихо, едва земли касаясь, пошел на голоса.
В такое время, когда только и жди неприятностей, девки не просто так поют. Кто-то им, может, велел, кто-то их слушает. Кто-то вспоминает, как собирался государь жениться на Лизавете Воронцовой, природной русачке, прогнав сперва свою законную немку Екатерину Алексеевну, да она его опередила, позвала на помощь гвардию, сбросила государя с трона, и что уж там вышло в Ропше, где его стерег Алехан Орлов, одному Богу ведомо. Может, нашлись добрые люди, вывезли перепуганного государя, спрятали, увезли. А для народа объявлено - помер-де от колик.
Надобно разобраться…
Девок он спугнул, но заметил, в какой дом забежали две - видимо, сестры. Положив себе наутро послать туда десятского, чтобы доложил, кто родители и чем занимаются, Федька неторопливо вернулся в сарай к Скесу. После пробежки по ночным закоулкам спать не хотелось, хотелось петь.
Голоса он не имел - голосист был Демка Костемаров, умели ему подтянуть Тимофей, Захар Иванов и Вакула - тот хвалился, что голосом за пять шагов свечку гасит, да все как-то не удосуживался показать. Федька, когда пели, обычно молчал. Но модных песен знал немало - бывая по делам в архаровском особняке, перенимал, когда удавалось, у Меркурия Ивановича.
Одна ему нравилась особенно - и он запел тихонько, вкладывая в слова и мотив всю душу:
– Как сердце ни скрывает мою жестоку страсть, взор смутный объявляет твою над сердцем власть: глаза мои плененны всегда к тебе хотят, и мысли обольщенны всегда к тебе летят…
Где-то на середине второго куплета Федька обнаружил, что ему подпевают, подпевают навзрыд и с нескрываемым отчаянием в голосе. Редко случалось, чтобы собачий вой выражал столь трагическую скорбь.
Он замолчал. Замолчала и собака. Обидно было чуть ли не до слез - даже ночью, даже чужими словами не удается высказать то, что на душе!
С горя Федька растолкал Скеса.
Яшка послал его на байковском наречии куда подальше.
Но встать пришлось. В новом дворце гуляли заполночь, а разъезд веселой публики, да еще во мраке, - наилучшая возможность для шуров. Довольно надеть старую ливрею да паричишко из бараньей шерсти - и вот ты уже замешался в толпу, вот уже деловито шныряешь между каретами.
Федька и Скес поспешили к Пречистенскому дворцу, где встретили Захара Иванова с Сергеем Ушаковым. Ушаков уже успел в свете качающегося каретного фонаря заметить знакомую рожу шура Грызика. Грызик мелькнул и исчез. Следовало изловить его, покамест не натворил бед.
Но хитрый Яшка сообразил, что Грызик ему еще пригодится. Поэтому он, лучше прочих зная повадки шуров, в одиночку высмотрел былого товарища и кратко, в двух словах, велел ему убираться. Дважды повторять не пришлось. Грызик отнюдь не хотел ночевать в подвале Рязанского подворья, а на завтрак получить приятную беседу с Вакулой или Кондратием Барыгиным.
Но эта ночь приготовила Скесу и еще одну встречу. Проскочив между экипажами и увернувшись от кучерского кнута, он уткнулся носом в знакомый красно-черный герб - вот тебе перья, вот тебе латники с мечами…
– Стрема, лащи! - крикнул он особым пронзительным голосом. Это был знак для тех, кто понимает, - бежать на помощь.
Экипаж уже тронулся, когда подбежали Захар и Федька.
– Чего курещал?
– Надо разведать, чья шавозка, да тишменько…
Яшка и сам не знал, зачем разводить столько таинственности вокруг кареты с гербом. Вернее - не мог бы объяснить. Но он нюхом чуял - что-то кроется за Марфиным путешествием в богатом экипаже, что-то весьма нехорошее. Такое, что потом всему Рязанскому подворью, включая новоявленных соседей - Тайную экспедцию, не расхлебать…
Не будь у Скеса этого необъяснимого чутья - давно бы он был отправлен в Сибирь с каторжным этапом.
Спрашивать у лакеев - все равно что прокричать на Ивановской площади: архаровцам-де охота знать, кто разъезжает в карете с красно-черным гербом. Ведь все четверо - в мундирах…
Они разбежались - Яшка, сколько мог, преследовал карету, потом вернулся, Федька и Захар искали надежного знакомца среди дворцовой прислуги, а умный Ушаков (не сразу, правда, додумался) стянул с сиденья чьей-то кареты розовый атласный капуцин с пришпиленным к нему зеленым бантом и прямо пошел к дворцовому крыльцу с вопросом: чей таков экипаж с перьями и латниками на гербе, кому возвращать найденное под колесами в грязи имущество?
Ему сразу сказали: экипаж его сиятельства графа Матюшкина, а поселились их сиятельства у родни на Покровке, там, поди, всякий дом укажет.
Когда разъезд завершился, измотанные архаровцы разбрелись по домам. Яшка-Скес, которому было с Федькой по пути, забрал у Ушакова розовый капуцин, намереваясь ближе к обеду, сделав невинную рожу, заявиться к графу Матюшкину - вот, извольте, нашлась ваша пропажа. Разумеется, ему скажут, что никаких капуцинов из кареты не пропадало - но он высмотрит, что за граф такой, и, может, догадается, при чем тут Марфа.
Федька, выслушав про десять немытых кофейных чашек, тоже был сильно озадачен. Даже коли Марфа врачевала кофеем сердечную хворь - беспорядка бы она не потерпела. Но и предполагать, что в горнице у нее пряталось в тот час десять человек, тоже было странно - на что ей такая дивизия? Опять же, если это мужчины - то из круга, где питье кофея стало обычным, ибо человек простой, попробовав, скривится и скажет одно слово: пойло! И зачем они сводне в таком количстве? А если кумушки, которые пьют и не морщатся, потому что все графини кофей уважают, то для чего бы Марфе их прятать?
Нельзя сказать, что Федька так уж не любил Марфу. Просто ему было неприятно ее ремесло. Понимая, что без сводни многим пришлось бы тяжко, он тем не менее избегал Марфина общества и не понимал, почему Архаров спускает ей с рук все мелкие и даже более крупные проказы. И сильно бы удивился, коли бы ему объяснили, что Марфа забавляет Архарова своими повадками и нравится лихой прямотой своих речей, притом он отлично понимает, когда хитрая сводня подпускает грубоватой лести.
Что касается Сергея Ушакова - он понимал, что особа, промышляющая не только дачей денег под ручной заклад, но еще и тайной скупкой краденого, может навести на какую-то готовящуюся каверзу. И гораздо милее присматривать за этой каверзой с самого начала, чем впоследствии, когда она совершится, бегать по Москве высуня язык на плечо.
Скес на следующий день отправился отдавать якобы утерянный розовый капуцин. Вернувшись же, отыскал Ушакова с Федькой и рассказал им про свои похождения.
– Ну и одна слава, что графья, - так начал Яшка. - Прихожу я к ним и велю доложить, что-де по приказу господина Архарова. А хам, что меня впустил… Чтоб я сдох - на Знаменье глядел! Его подначить - он и захороводится. И ховряк с ховрейкой - ему подстать! Ведь они капуцин-то признали! Наш, говорят, давай сюды! И хоть бы грошом медным отблагодарили!
Федька расхохотался, Сергей Ушаков усмехнулся.
– И что, - спросил он, - так ты и ухрял с пустым ширманом?
– А таки не с пустым, - и Скес действительно добыл из кармана две дорогие пуговицы. Судя по пучкам ниток, они не оборвались сами, а были ловко срезаны с кафтана.
– Несколтыжные, стало быть, людишки? - никоим образом не порицая архаровца, заметил Ушаков. - Так и поделом.
– Ховряк - щеголек, смолоду ламонился, теперь от того отстать не хочет, ховрейка - гируха, и смолоду, сразу видно, страшна была, как смертный грех. Какого беса он на ней женился?
– Приданое было знатное, - предположил Ушаков. - Ну, додумался, чего там Марфа искомала?
Скес почесал в затылке и нечаянно распустил бант, отчего рыжие волосы, не желавшие быть опрятной косицей, полезли во все стороны.
– А что доброго там искомать? Там и по рожам знать - скверный народишко. Даром что графы. Что хозяева, что дворня - клейма ставить негде. Теперь я точно знаю - она новую пакость затеяла. Вот чего, шиварищи, пертовому мазу - ни слова…
– Скараем, - согласился Ушаков. - Слышь, Федя? Зато уж потом…
– Не смуряк, - отвечал Федька. - Я детинка пельмистый!
За что и был разом хлопнут: Скесом - по левому плечу, Ушаковым - по правому.
И в самом деле, коли сейчас рассказать обер-полицмейстеру про странные Марфины затеи, так пошлет в известном амурно-пехотном направлении - как будто у него других забот мало! А вот когда станет понятно, как увязаны грязные чашки с семейством графов Матюшкиных - тогда можно будет и с докладом являться.
Архаровцы и не подозревали, что их командир размышляет о том же самом семействе…
* * *
– Ну что ты за гость, - говорила Елизавета Васильевна с досадой. - Даже в мушку, поди, не играешь. Вот и беседуй с тобой весь вечер о всяких безделицах! А так бы сел с почтенными людьми в карты, глядишь, до чего бы и договорился. Неужто и в полку не игрывал?
– Ввек не поверю, что ты, Архаров, карт в руки не берешь, - согласился с супругой князь Волконский. Они очень хотели, чтобы обер-полицмейстер участвовал в карточных партиях, составляемых обычно в углу большой гостиной. Сколько-то он, понятно, проиграет, но тем самым светские знакомства укрепит и будет приятен людям чиновным - тому же Вяземскому. Опять же, иногда бывает непросто составить карточную игру - когда одного игрока недостает, и тут обер-полицмейстер всегда бы мог выручить хозяев дома.
– Беру я карты в руки, - отвечал Архаров. - Я пасьянсы раскладывать люблю. Этак кладешь королей с дамами, дам с валетами, а меж тем думается хорошо… По мне, чем в карты - так лучше в бильярд. А в гостиных от меня толку мало. Еще, чего доброго, шум подыму, когда увижу, как кто в карты мошенничает. Ведь, Михайла Никитич, не со всеми петербуржскими приличный человек за стол сядет…
– Не пойман - не вор, - тут же отрубил князь. Он понял, в кого метит Архаров.
– Однако ж государыня сама изволила…
– Государыня по старой памяти присматривает, чтобы граф Матюшкин в карты не заигрывался. Он смолоду за границей бешеные деньги проиграл. Нарочно князю Голицыну писать изволили, чтобы выпроводил вертопраха из Парижа без замедления. А память у государыни отменная.
Архаров не ответил. У него наконец-то начали складываться отношения с Екатериной Алексеевной, и он отчаянно пытался угадать, как бы поступить, чтобы она была довольна.
Конечно же, до визита было далеко, но на Святой неделе, когда Архаров прибыл в Пречистенский дворец с поздравлением, дело не обошлось обязательным «Христос воскресе! - Воистину воскресе!» Вручив обер-полицмейстеру расписное пасхальное яичко, государыня оставила его при себе и, усмехаясь, рассказала, как к ней приезжали сановные московские старухи, те самые, которым она когда-то смертельно боялась не угодить. Это еще не было подлинной благосклонностью. Но государыня очень старалась.
– Знаешь ли, Николай Петрович, отчего я в пост от них всячески скрывалась? Сии московские старухи не любят и злословят меня, а голодное состояние еще более располагает к гневу и досаде. Так я верно знаю, что уже на прошедшей неделе меня не пощадили; но теперь, удовольствовавшись пищей и вместе с ней освободясь от индижестии, должны успокоиться.
Что такое индижестия - Архаров не знал и решил выяснить у Клавароша. Сам же двумя кивками изобразил полное согласие. И внимательно глядел, к кому и как обращалось ее величество. Он не имел права совершить еще одну ошибку и, соблюдая внешнее непоколебимое спокойствие, внутренне малость суетился. Вот так он и подметил, что граф и графиня Матюшкины не пользуются, увы, благосклонностью государыни. Хотя весьма бы того желали…
– Николай Петрович, государыня может сколь угодно косо глядеть на графиню Матюшкину, однако ее к себе услуг не позабудет, - сказала Елизавета Васильевна. - Не путайся ты, сударь, в эти тонкости, Христа ради. Ну, обыграет тебя граф Матюшкин - я тебя знаю, ты с того не обеднеешь.
– Коли играть так, как теперь при дворе заведено, и бриллиантами расплачиваться, так моего жалованья ненадолго станет, - буркнул Архаров.
– Экий ты, сударь, несговорчивый.
– Да, я таков.
Как ни желал обер-полицмейстер понравиться Екатерине Алексеевне, однако терпеть ради этого семейство Матюшкиных было выше его сил. У обоих лица прямо-таки вопили о склонности к вранью - что у супруга, бывшего красавчика писаного, что у супруги, которая и смолоду была нехороша собой, зато ловка.
А благосклонность государыни была нужна - он, уже почти четыре года занимая обер-полицмейстерский пост, знал, что способствует поддержанию порядка, а что препятствует, и хотел во благовременье подсказать, какие указы были бы ему полезны…
– Государыне, сударь, перечить теперь не вздумай, - негромко и со значением сказала княгиня. - Коли позовет играть - ступай без рассуждений. Ее теперь сердить не след.
Архаров покивал - о том, что императрица нездорова, он знал доподлинно. В сыром Пречистенском дворце и не выздороветь - вот и ходит, кутаясь в шади да накидки.
– А ты бы, матушка, о чем другом поговорила. Для царицыных хвороб у нас лейб-медики есть, Николай Петрович не лекарь, - вдруг вмешался князь Волконский, казалось бы, даже не слушавший их беседы.
– Да что ты, батька мой, взъелся? - удивилась княгиня. - Николай Петрович и по должности своей много знать обязан. Не для того, чтобы шум поднимать, а для того, чтобы шуму воспрепятствовать.
Тут Архаров насторожился. И точно - было при дворе нечто, чего он не мог понять, какая-то особенность в отношении к государыне иных близких к ней людей, того же господина фаворита.
Он бы долго ломал над этим голову, но князь и княгиня очень значительно переглянулись. И тут же Елизавета Васильевна заговорила об ином - очень важном для Архарова.
Княгине очень хотелось, чтобы Архаров блистал в свете. И она прямо ему об этом сказала: в его-то годы можно еще замечательный карьер сделать, если не торчмя торчать у себя на Рязанском подворье, а бывать в гостиных у влиятельных особ, тем более, что для этого и далеко ездить незачем - многие особы вслед за государыней в Москву перебрались.
Архарову же хотелось отыскать в ее словах тайный смысл: насколько его светская жизнь увязана с будущим Вареьки Пуховой. Может, по тайному распоряжению государыни из него хотят сделать светского кавалера, чтобы он достойно ввел в общество свою молодую супругу. Желали же отдать ее за князя Горелова - так, может, и обер-полицмейстеру по такому случаю титулишко перепадет?
– Ты картины-то приобрел? - спросила княгиня. - Или мне самой за ними ехать придется? Николай Петрович, тебе же на них глядеть, не мне!
Архаров насупился. Визит к Захарову все откладывался и откладывался. Уже и мебель купец привез, уже и красивые шпалеры в обеих гостиных повесили, бронзы приладили, ковры постелили, и Архаров не мог бы сказать, что там так уж недостает проклятых картин. Но княгине виднее - она дама светская…
– Завтра же и привезу картины, ваше сиятельство, - пообещал он и, помолчав, добавил: - Теперь же позвольте откланяться.
Молчание было необходимо, чтобы князь с княгиней, коли еще чего желают сказать, или же позвать в гостиную девиц, Анюту и Вареньку, имели такую возможность. Но они всем видом показали, что на сегодня беседа завершена.
Так что оставалось и впрямь откланяться.
Оставаться у Волконских надолго Архаров, впрочем, и не мог. Купец взял с него слово, что обер-полицмейстер сегодня приедет обедать. Чая вкусить не французских деликатесов, а получить на тарелку четверть жареного поросенка, Архаров заранее радовался этому обеду. Уж там-то никто не стал бы обучать его правилам светского общежития.
Но сперва он заехал в полицейскую контору и убедился, что все благополучно. Ему доложили о пойманных злоумышленниках, а Яшка-Скес отчитался в своей разведке - уж коли сам Скитайла не знает, что в Москву привезли на продажу драгоценный сервиз, стало быть, он тут и не появлялся.
– Скитайле сказал, чтобы убирался из Москвы?
– Сказал, ваша милость.
На самом же деле Яшкина беседа с матерым мазом имела несколько иной оттенок. Скес очень осторожно намекнул, что архаровцы будут искать сервиз весьма деятельно, так что человек, которому известны их перемещения и вылазки, может в нужную минуту их опередить. Скитайла понял с полуслова. Разумеется, никуда он из Москвы уезжать не собирался. И золотой сервиз был бы для него добычей весьма обременительной, раз уж о нем знают на Лубянке. Однако слово «золото» и более мудрым мазам глаза-то затмевало. Яшка был уверен, что Скитайла приставит кого-либо следить за полицейской конторой и начнет самостоятельные поиски - а уж как присмотреть за давним товарищем, он знал. Тот же Грызик мог при нужде донести о затеях Скитайлы.
Но Архарову про эту интригу Яшка не доложил. Тем более, что обер-полицмейстер наскоро расспросил его о лубянских новостях. Особых новостей не было - всяк занимался своим делом.
– Баба какая-то еще у крыльца с утра толчется, - вспомнив, доложил Яшка. - С малыми детишками.
– Чего ей надобно? - спросил Архаров.
– Ждет, видать, кого-то.
– Гони в три шеи.
Выходя на крыльцо, обер-полицмейстер никакой бабы не обнаружил.
Сидя в карете, он припоминал разговор в доме Волконских. То, что государыня, будучи не совсем здорова, старалась глядеть бойко и держаться бодро, он понимал. Но крошечная стычка между князем и княгиней наводила на нехорошие мысли - что же это за болезнь такая?
Не имея семьи, не бывая в домах, где живут молодые жены, Архаров действительно не мог взять в толк природу заболевания, от коего женщина полнеет, надевает просторную одежду и кутается, стараясь скрыть отяжелевшее тело. Опять же - он знал, сколько лет государыне. Фаворит - это само по себе, а вынашивание и рождение ребенка - само по себе, и в таком возрасте рожать детей как будто не полагается. Однако взгляд, которым обменялись князь и княгиня, кажется, именно это и означал…
В купеческом доме Архарова ждали - все семейство, включая дальнюю родню, бывшую в услужении, встретило в сенях. Не каждый день жалует на обед сам обер-полицмейстер!
Это был час великого торжества купчихи Фетиньи Марковны. Увидев накрытый стол, Архаров даже рот разинул от изумления - чего только не было выставлено в первую перемену для возбуждения аппетита! Икра всех возможных видов, редиска, щеки селедочные (чтобы набрать одну тарелку сего лакомства, селедок уходило под тысячу), язык провесной, семга и лососина под лимоном, грибы двух десятков названий - одного этого хватило бы, чтобы набить чрево. А далее следовали еще четыре перемены, это не считая заедок, которые купчиха уже называла французским словом «десерт». И, что мило, блюда подавались стародавние московские, выпестованные поварами еще государя Михаила Федоровича: и калья с курицей и лимонами, и потроха под шафранным взваром, и стерлядь паровая, и курица бескостная - во рту таяла, и молочный изумительно зажаренный поросенок, и пироги, и кулебяки, и листни, и хворост, и шишки печеные, и пастила, и куличи, и сахарные коврижки…
Вина же подавались такие, что Архаров впал в глубочайшее недоумение - он и не ведал, что столь затейливые оттенки вкуса существуют…
Наконец уж не только гость, но и сам хозяин взмолился: хватит, довольно, не то и помереть недолго!
Фетинья Марковна блаженствовала - накормить гостя так, чтобы молча сидел и пыхтел, выкатив глаза, почти лишенный соображения, было делом чести для хорошей хозяйки.
Наконец Архаров с трудом поднялся из-за стола и изъявил шепотом некоторое желание.
Благоустроенная каморка, которую так хвалил купец, была у него в доме не одна - он их три штуки завел, по каморке на каждом этаже. Каждая была устроена в углу дома и отгорожена от мира толстой стенкой, на крышу же выходила труба под медным навесиком, чтобы вытягивать дурной воздух.
Архаров был препровожден туда купцом самолично и ознакомлен с удобствами - с изразцовой печкой, со столиком, на котором стоял медный турецкий таз, а над ним был подвешен по старинке кувшин-рукомой, со стулом, на который можно поместить все, что способно помешать. Стояла на табурете яркая ароматница - ваза в виде большого яйца, с дырявой крышкой, откуда поднимался легкий дымок. Опору вазы составляли три дородные фаянсовые бабы с львиными лапами и хвостами, а также с крыльями, само же яйцо представляло собой как бы поляну, усыпанную разнообразными цветами. Тут же было льняное полотенце, вышитое красным узором, и все эти предметы, вместе взятые, - старый ореховый стул на причудливых ногах, как будто четыре когтистые лапы зажали каждая по небольшому шару, и турецкий таз с носатым рукомоем, и разноцветная фаянсовая ароматница, и русское полотенце, - составили причудливое единство, на просвещенный взгляд смешное, однако чем-то милое.
Сиденье Архарову, правда, не понравилось - высотой оно было менее аршина, и никак не походило на кресло - он полагал, тут не помешали бы подлокотники, но их не было, а прорезанную в толстой доске овальную дыру покрывала деревянная крышка, вроде тех, что используют на поварне для кадок и бочат с соленьями и моченьями. Перед тем, как усесться, Архаров оглядел дыру и обнаружил под ней воронку, сделанную из меди, которая соединялась с большой стоячей трубой, уходящей в весьма глубоко устроенную выгребную яму. Купец особо сам себя хвалил за то, что велел оную яму выложить камнем, но жаловался, что при очистке, производимой раз в месяц, ночью, поднимается вонь на все окрестности.
– И ладно бы с вечера они приезжали, закрыл окна - да и спи, - сказал он. - Так все ближе к рассвету норовят, просыпаешься - извольте радоваться!
Архаров взял сие на заметку - полиция столько всяких неожиданных обязанностей исполняла, что присмотр за московскими золотарями с их черными бочками, очевидно, тоже входил в компетенцию обер-полицмейстера. Однако же как-то до сих пор обходилось без его личного вмешательства, и даже нужники Рязанского подворья вычищались по чьему-то распоряжению, должно быть, Шварцеву…
Он задумался: золотари уже с полвека жили в двух слободах, одна - по дороге к Тушину, другая - где-то за Лефортовым, у Владимирского тракта, он сам не знал, где именно. Однако если вонючие обозы начнут таскаться мимо Лефортова и нового Екатерининского дворца, который когда-нибудь же достроят, - сие не есть хорошо… сие даже изрядно дурно…
Выходя из каморки, Архаров уже думал, в каких словах изложить государыне необходимость избавить полицию от несуразных хлопот. Мало было возни с фонарями, так теперь еще изволь гонять золотарей. Хотя в столице же как-то с ними управляются? Один Зимний дворец, поди, обеспечивает работой целую дивизию сих тружеников…
Государыня - дама утонченная, веселить ее такими пакостями не с руки. Надо будет обязать Шварца составить докладную записку - он всегда изъясняется витиевато, но в письменной речи ничего неприличного не допустит.
Отдохнув у купца в гостиной, выпив чашечку кофея и сказав несколько любезных слов Фетинье Марковне, Архаров поехал обратно к Рязанскому подворью. Был такой хороший майский вечер, что домой не хотелось вовсе. А на Лубянке непременно что-то занимательное случится.
И случилось, хотя ничто уже развлечений не предвещало.
Архаров отпустил Шварца, выслушал донесение Демки Костемарова, выслушал Жеребцова, выслушал еще несколько бумаг, прочитанных Сашей, и понял, что на сегодня с него довольно. Тем более, что ему от обжорства дышалось весьма тяжко. Следовало скорее добраться до Пречистенки и лечь спать.
Но он не сразу поднялся с удобного кресла. Уже и руками в столешницу уперся - а душевных сил для такого подвига недоставало.
Если бы княгиня Елизавета Васильевна видела его такого, то непременно изругала бы - в тридцать три года он отяжелел, раскис, едва ли не растекся по обитому красным сукном столу, стыд и срам!
Куда такому увальню о женитьбе помышлять!…
А ведь помышлял - глядя на краснощекую купеческую дочку. Красивую синеглазую девку усадили довольно далеко от него, но она тянула шейку, чтобы разглядеть получше обер-полицмейстера, и попалась ему на глаза. Дети в таких семействах растут в строгости, послушны и богобоязненны, и Фетинья Марковна не отпустит от себя дитя, не научив вести хозяйство, да сама будет на первых порах дневать и ночевать в доме у зятя, пока там все не наладится. Для таких жареных молочных поросят, пожалуй, и на купеческой дочке жениться можно!
Архаров резко выдохнул и встал.
Саша ждал в карете, Демка ждал в коридоре.
Архаров довольно скоро вышел на крыльцо, Демка выскочил следом с фонарем. Но посветил не на ступеньки, а правее. И недовольно ругнулся.
Архаров увидел нечто, принятое сперва было за ком тряпья. Но ком здоровенный, бугристый, несколько напоминающий те большие кучи на огородах, в середине которых прелый навоз, а поверху опытный садовник сажает тыквы. Он подошел, оглянулся - тут же рядом оказался Демка.
– Убрать, Костемаров, - сказал Архаров. - Ну что за город, мать бы его! Вот уж и к полицейской конторе всякой дряни понанесли. Кто там дневальный? Крикни, пусть придет с лопатой.
Демка сбежал вниз, присел на корточки.
– Ваша милость, там человек, - доложил он.
– Как человек? Ну-ка, развороши!
Демка разгреб сбоку тряпье и пошерудил в темной глубине рукой. Тут же, вскрикнув, выдернул руку.
– Да оно кусается! - растерянно сказал Архарову.
– Человек, говоришь?
– Так не пес же! Пес бы залаял!
– Сашка! Сенька! Ванюшка! - крикнул тогда Архаров. - Сенька, кнут прихвати! Сейчас мы это диво расковыряем! Сашка, пистолеты!
Из кареты вышел вооруженный Саша, с козел спустился Сенька с кнутом, тут же подошел и здоровенный лакей Иван с фонарем. Впятером они окружили кучу, Саша наставил на нее пистолет (держал двумя руками, но Архаров мог бы поспорить на ведро водки, что при необходимости стрелять пальнет зажмурившись и промахнется), а Сенька потыкал кнутом в середину.
Из кучи заспанным бабьим голосом было послано на мужской причиндал.
– Свои! - обрадовался Архаров. - Ну-ка, баба, вылезай! Вылезай, говорю, не то отведаешь кнута!
Он присел перед кучей, упираясь в колени.
Оказалось, баба сидела, вытянув ноги и привалившись к стене. Она выпростала голову из-под накинутой душегрейки и ошалело уставилась на мужчин. Тут же на ее груди тряпки зашевелились, явилось заспанное личико левочки лет трех или четырех. А сбоку высунулось другое лицо - мальчишеское. Возраст Архаров определить затруднялся, понял только, что парнишка недокормленный - бледненький и рожица с кулачок.
– Какого хрена ты уселась спать прямо под полицейскими воротами? - без церемоний спросил Архаров. - Другого места не нашла? Ну-ка, вставай и проваливай.
– Барин мой желанный, - сказала баба, - ты-то ведь мне и надобен, родименький! Ты ведь над колодниками старший?
– Аттестовала! - воскликнул Демка. - Ты, дура, думай, что говоришь!
Баба завозилась под своим тряпьем и оказалась стоящей перед Архаровым на коленях, глаза в глаза.
– Барин миленький! Не вели гнать! Издалека бреду, детишки со мной! Избу бросила, пришла на Москву мужа искать! Добрые люди сюда идти велели! Сказывали, коли муж в колодниках, так тут все ведомо! Христа ради, барин, не гони! Дай мы тут до утреца досидим!
– Колодники в тюрьме, а тут полиция, - объяснил Демка. - Крепко твой парнишка кусается! Зубастый чертенок растет!
– Да только и богатства, что зубы! - пожаловалась баба. - Как мой-то из дому ушел, так все захирело, беды одолели! Прибился мой дурак к налетчикам, вместе с ними гужевался, шайку перебили, мой вернулся, потом еще куда-то подался. А потом, сказывали, нашлась и на него управа - видели его добрые люди, как колодников по Москве за милостыней выводили! Я - сюда! Нельзя нам без мужика! Он хоть и дурак, а все - мужик! Своего-то ума ему в дурную башку не вложишь!
Забывшись, баба повысила голос - и голос этот был весьма сварлив. Архаров выпрямился.
– Тут тебе делать нечего, - решил он. - Собирайся, бреди… вот черт, как же ей объяснить?…
– На бастион, что ли? - догадался Демка.
– Ну да, там же еще бараки не пожгли. Или нет, у китайгородской стены есть пустые хибары.
– Вряд ли, что пустые, - возразил Демка.
Архаров задумался.
– Надо будет там облаву произвести, - решил он. - Много любопытного обнаружим…
– Барин милостивый! Так коли не ты над колодниками старший, куда же мне податься? - встряла баба.
– Куды ни подайся, толку выйдет мало, - вместо Архарова отвечал Демка. - Коли он у тебя колодником был, так, поди, давно в сибирскую каторгу сослали. Даже ежели в Москве, в остроге обретается, какая тебе с детками из того польза? Да ни на грош!
– Так я ж ему жена! - возразила баба. - Мне при нем надобно быть! На то и венчались! Да что он без меня может? Кроме как дуростей натворить?! Он у меня дурачок, сам ложки ко рту не поднесет, за него все решать надобно!
– К налетчикам, говоришь, прибился? - уточнил Архаров.
– На другой год после свадьбы, - подтвердила баба. - Ваша милость, знатный барин! Может, видали вы его? У него, у дурака моего, и примета есть! На брюхе, повыше пупа, красное пятно, как мышь бежит! Матушка его, брюхатая, мыши испугалась! И еще…
– Вот ведь дура! - воскликнул Демка. - Нешто его милость с колодниками в баню ходит?! Дурища ты стоеросовая! Пошла отсюда! Во-он туда беги, потом правой руки держись - там тебе будут всякие хибары, ты в двери толкайся. Где открыто - там и ночуй! А сюда больше носу не кажи! И с детишками вместе!
– Что это ты так взъерепенился? - спросил Архаров, когда Демка, поставив бабу на ноги и чуть ли не тычками сопроводив ее в нужном направлении, вернулся обратно. - Не у тебя ли на брюхе то мышиное пятно?
– Кабы у меня - я бы не на другой год после свадьбы, а еще до свадьбы лыжи навострил, - отвечал Демка. - Умная! Муж у нее дурачок! Детей жалко - не дай Бог, в матушку уродились!
Архарову случалось видеть Демку буянящим, но при иных обстоятельствах. У мазов и шуров, а шурзом он себя, очевидно, считал по сей день, коли совсем точно, так шуром на государственной службе, - было заведено иные вопросы решать глоткой, но ор стоял до определенного мига, после коего крикуны как-то сразу увядали и приходили к какому-то одному мнению уже без воплей и угроз. Архаров знал, что это за миг: после него было два пути - либо мириться, либо хвататься за ножи. Опытные мазы довольно быстро понимали, что друг друга им не перекричать, а молодые часто после таких стычек бывали подбираемы в глухих переулках мертвыми и, понятное дело, без документов. И Демка порой одним лишь внезапным заполошным криком умел добиться поболее, чем тот же Тимофей - рассудительностью, или Федька - кулаком.
Сейчас же Демкино возмущение было не наигранным, а вполне искренним, вот только слышалась в нем некая легчайшая фальшь. Да и странно, что подчиненный так вопит при начальстве.
Но время было позднее, объевшемуся Архарову смертельно хотелось спать. Ему недосуг было занимать голову приблудными бабами. На Пречистенке он прямо в сенях скинул надоевшие башмаки и прямо в чулках, благо в дворне целых две прачки, отправился к себе в спальню. Там не удержался - разложил пасьянс «Простушка», наскоро помолился Богу и лег.
Уже в постели, глядя, как Никодимка на цыпочках бродит, собирая его раскиданную одежду, Архаров вспомнил - куда-то подевался Демка. Обычно Архаров брал с собой в карету кого-то из архаровцев, и Демка вроде бы ехал на переднем сидении, Архаров даже был уверен, что подчиненный будет ночевать на Пречистенке… но куда он пропал потом? На кухню, где в любое время суток повар Потап держал в печи что-то горячее? Или наверх, где в двух комнатах, еще только ожидавших порядочных мебелей, имелись пока что для таких ночевщиков топчаны и тюфяки?
Утром, еще лежа в постели, Архаров велел Никодимке кликнуть Демку. И тут выяснилось, что Демка на Пречистенке не ночевал. Приехать - приехал, поприставал к заспанной Иринке, Потаповой дочке, и скрылся, куда - неведомо.
– Ага, - мрачно сказал Архаров. Приставание к пятнадцатилетней Иринке, баловство с которой пресекалось на корню и поваром Потапом, и самолично Архаровым, означало одно - Демка хотел убедиться, что начальство заснуло и более его не позовет.
Архаров сел и в ожидании фрыштика начал вспоминать.
Баба Демку не признала. Кабы узнала - тут же об этом и доложила бы. При таком дурном нраве молчать - хуже каторги. Демка бабу не признал - по крайней мере, спервоначалу. Но был миг, когда он заволновался и стал ее гнать уже всерьез. Архарову запомнилось ощущение фальши - словно бы на воспоминаниях была поставлена метка. И по метке он тут же нашел нужные слова. Демка заголосил про баню… С чего бы вдруг? А баба припомнила примету на брюхе у мужа.
Пятно - как мышь бежит… Красное. Продолговатое и с отростками, наподобие почти незримых мышиных лапок, что ли? Примета. И знакомая Демке примета!
– Кто из наших в доме? - спросил Архаров Никодимку.
– Никого, ваши милости, - тут же отвечал Никодимка, да с каким еще поклоном! Пальцы растопырены, башка - набекрень, улыбочка, следственно, тоже набекрень! Тьфу!
Архаров аж засопел. Никодимкина страсть к галантерейному обращению уже преступала все разумные границы.
– Бриться и фрыштикать, - распорядился он.
Завтрак был прост - кофе с ванильными сухариками, Шварц присоветовал немца-кондитера, мастера по сухарям. Основательно Архаров ел уже потом - в полицейской конторе, ему приносили два-три блюда из трактира или привозили с Пречистенки. А обедал или в гостях, или уже дома, когда доводилось приехать пораньше.
Сухари он любил - и сладкие немецкие, и русские ржаные. Частенько даже в постели их грыз, чем привадил в спальню мышей. Крошки заваливались за кровать, откуда их не так уж часто выгребали, и порой Архаров слышал там деятельное шебуршание.
Никодимка тут же приволок поднос, установил на маленьком столике, и Архаров молча стал макать сухари в крепкий кофе. Потом пришел черед бритья, причем от соленого огурца за щеку Архаров отказался наотрез - не желал портить приятное послевкусие во рту. Никодимка, причитая, что не добьется на личиках Николаев Петровичей идеальной гладкости, взялся за работу и через четверть часа уже оправлял на Архарове темно-зеленый мундир с таким количеством галунов, что простой человек, угодив за грехи в палаты Рязанского подворья, отступал, сраженный всепоглощающим почтением - не иначе, как генерал-аншеф и обер-гофмаршал в одном лице! Деньги, потраченные на три с половиной фунта золотого галуна, вполне окупались.
На Лубянке Архаров потребовал к себе Демку. Оказалось - полицейский, приучая новичка Евдокима Ершова к работе, ушел с ним вместе - показывать ему какие-то московские закоулки возле Охотного ряда, где, отцепившись от погони, бесследно исчезают шуры и мазурики, чтобы вынырнуть в иных местах. С одной стороны, это было отрадно - Демка щедро делился своим боевым прошлым, как бы показывая, что возврата нет. С другой - явно скрывался.
Архаров спросил про бабу с детишками. Нет, баба не появлялась. Должно быть, послушалась совета и отправилась в острог.
Наконец Демка вернулся.
– У кого из наших на брюхе красная мышь? - сходу спросил Архаров.
Демка был шустрый парень - тут же смекнул, что попался.
– Да не у наших, ваша милость, я совсем в ином месте то пятно видел.
– И где?
– У лоха одного. Бежал с каторги, прибился к мазам, с шурами дружился, а толку от него - чуть. Баба права - дурак дураком, сущий фаля.
– Ну, ладно. Ступай.
Но это не значило, что архаровская подозрительность, встрепенувшись было, снова задремала. На остроносой Демкиной физиономии вранье было еще не крупными буквами прописано - так, карандашиком намечено. И неудивительно - ремесло у Демки такое, чтобы врать, не краснея.
– Постой! - вдруг приказал Архаров.
Подчиненный резко обернулся.
Тревога на Демкиной остроносой рожице была более красноречива, чем трагедия господина Сумарокова.
– Что Ершов?
– Прозванию соответствует, ваша милость. Ты ему слово, а он тебе десять.
– Выйдет из него толк?
Архаров, принимая новичка на службу, как всегда, исходил из имени. Евдоким - значит «славный». Так что была надежда воспитать хорошего полицейского. Опять же, не со стороны взяли, а из молодых десятских, кое-чему уже обучен.
Демка, польщенный тем, что обер-полицмейстер вроде как с ним советуется, тщательно обдумал ответ. Архаров же наблюдал за его лицом - уловил и беззвучный вздох облегчения, и движение плеч, вздернувшихся было, когда Демка услышал оклик, и исчезновение тревожной складочки между бровями.
– Выйдет, ваша милость.
– Ну, ступай, Клавароша ко мне позови. Он там, поди, в канцелярии дожидается.
Француз явился, поклонился с той самой грацией, которой Архарову так недоставало в его великосветских маневрах, и приступил к докладу, сверяясь с записями на мятой бумажке.
Все это время он суетился вокруг скромного домашнего учителя в семействе отставного гвардейского полковника Шитова, носившего подозрительное прозвание - де Берни. Клаварош отыскал двух человек из той дворни, что набрали шулера для особняка в Кожевниках. Обоим он втихомолку показал учителя, но они его не признали. Но один был истопник, другой - из кухонных мужиков, с господами встречались редко, опять же, прошло время. За это время худощавый господин мог наесть брюшко, а полный господин - отощать, кудрявый господин - облысеть, а молодящийся сорокалетний на вид господин - под воздействием хворобы вмиг обернуться шестидесятилетним.
– Это все? - спросил Архаров.
– Нет, ваша милость, я говорил с его товарищами, с танцевальным учителем Ла Раме, с музыкальным учителем Равальяком, он учит играть на скрипке и на виолончелях. Ла Раме после двух бутылок венгерского обещал дать мне рекомендацию, чтобы меня взяли фехтовальным учителем к мальчику. Ла Раме - парижанин, он хочет найти место у богатой дамы, вдовы, не очень старой, я обещал.
– К Марфе его пристроишь, что ли? - пошутил Архаров. Но шутки ему не давались - Клаварош усмехнулся и пожал плечами с видом человека светского, сглаживающего чужую неловкость.
Удивительно было, откуда во французском кучере с весьма подозрительным прошлым эти манеры не просто знатного человека, а даже человека, воспитанного для красивой жизни, для мира, где положено царить изяществу. Недаром Марфа, не имевшая вкуса, но имевшая острейший нюх, так сражалась за его благосклонность.
– Нет, ваша милость, я не стану искать для него богатую вдову. Я наймусь давать уроки шпажного боя мальчику и попытаюсь увидеть бумаги этого кавалера де Берни.
– Мусью Клаварош, я твой шпажный бой знаю, - уже не шутя сказал Архаров. - Ты дерешься не по-дворянски, я видел. Ты шпагу в руке для приличия держишь, а сам брыкаешься, как стоялый жеребец. Тут же тебя и раскусят.
– Нет, ваша милость, я сумею преподать правильные уроки.
– Верши мне…
– Некен, ваша милость, не облопаюсь.
Глаза у Архарова полезли на лоб.
Конечно, не было ничего удивительного в том, что Клаварош, пятый год служа в московской полиции, нахватался слов из байковского наречия. Однако до сих пор он при обер-полицмейстере так не выражался. Да еще интонация - не то чтобы вызов, а нечто весьма задиристое… Возможно, это был мелкий, пробный укол - за неуместное упоминание Марфы, примерно то же, что у кулачных бойцов - пытливый удар. И, главное, винить было некого - сам же Архаров первый начал.
Но обер-полицмейстер не стал подбивать француза на новые шалости.
– Как полагаешь, мусью, нужно ли приставить к этому твоему де Берни наружное наблюдение?
– Он из дому почитай что не выходит, - подумав, отвечал француз. - Но дом большой и… и…
Он произвел руками странное, но весьма выразительное движение, быстро проиграв беззвучный клавикордный пассаж длинными пальцами, - для Архарова оно олицетворяло разбегающихся в разные стороны тараканов.
– Бестолковый, что ли?
– Да, ваша милость, бестолковый. Много детей, много женщин… Вавилон!
– Думаешь, если туда кто-то к нему и приходит, этого могут попросту не заметить?
– У меня есть таковое подозрение.
– У меня тоже. Ну, приставим к этому дому дня на два, на три Макарку. Глядишь, чего и заприметит.
Тут явился человек с запиской от Елизаветы Васильевны. Княгиня Волконская, зная норов мужнина подчиненного, сама встретилась с отставным сенатором Захаровым и обо всем с ним договорилась. Человек сказал, что ответа ждать не велено. Это означало уже не заботу княгини об Архарове, а прямой приказ ехать за картинами. Но обер-полицмейстер сидел в кабинете, занимаясь делами, пока не пожаловал человек от Захарова с иной запиской. Милостивого государя Николая Петровича приглашали навестить болящего и потолковать касательно картин. Отступать было некуда - обер-полицмейстер собрался с духом и поехал наносить визит. Хотя ехать ему сильно не хотелось. Обер-полицмейстер был весьма признателен Захарову за помощь при поимке шулеров, но ощущал некоторую неловкость за то, что из ошибочных соображений заставил его целую ночь проблуждать где-то в Замоскворечье.
Господин Захаров проживал в Никитской улице, неподалеку от Никитских ворот. Привратник был предупрежден о приезде Архарова. Гостя со всем почтением отвели в хозяйский кабинет.
– Добро пожаловать, Николай Петрович, - сказал отставной сенатор. - Анисовой или травничка?
Анисового запаха Архаров не любил, а травничек - это еще какой попадется. Гаврила Павлович умел читать по лицу, даже неподвижному, не хуже, чем обер-полицмейстер, и тут же предложил померанцевой. От нее Архаров не отказался.
Сам хозяин водку пить не стал - сослался на болезнь. Выглядел он совершенно так, как положено сухопарому старцу с морщинистым лицом, беседовал бодро, и признаков хворобы Архаров вроде бы не обнаружил - впрочем, если хвороба давняя, привычная, то следует помнить: они знакомы недавно, и обер-полицмейстер никогда не видел отставного сенатора здоровым. Одет он также был, как положено человеку светскому, а не завернут в какой-нибудь стеганый полосатый архалук.
– Ее сиятельство просила поспособствовать в украшении вашего жилища, - сказал Гаврила Павлович. - А я тому и рад. Когда в доме картина пять лет висит - и то уж на нее глядеть тошно. Мои же тут лет десять пребывают - пора избавляться.
Прозвучало сие по-светски легкомысленно, как ежели б молодой петиметр в кругу таких же лоботрясов расуждал о надоевшей любовнице. И далее отставной сенатор заговорил о живописцах былых времен, заговорил с легчайшей грустью, как рассказывал бы изгнанник из рая много лет спустя о неземной красоте и прелести. Он называл имена, совершенно Архарову неизвестные, - и с особым французским прононсом упомянул неких гениев, которых звали Мишель-Анж Буонаротий и Леонард Винт.
Архарова мало интересовали художества, привозимые русскими вельможами из Франции и Италии, не понимал он также, как можно держать дома по шести и более десятков картин. Положив приобрести не более трех, подешевле, он с особливым интересом присматривался к Гаврилову. Бывший сенатор в душе уже расстался с любимыми полотнами, чтобы сохранить привязанность простой московской девки из Зарядья. Архарову вдруг сделалось безумно жаль старика, душа которого жила в этих вот древнегреческих храмах, выписанных искусной кистью, под оливами, среди босоногих бородатых пастухов в грубых плащах и полуобнаженных нимф, заманивающих в гроты.
– А вот, извольте видеть, мой Теньер, картина именуется «Прислужник, раскуривающий трубку». Вот сельский вид Ван-дер-Гюзена, вот мой Сальватор Роза… - Захаров указывал, сложив кисть с таким изяществом, что впору бы записной кокетке и щеголихе.
Странной они были парой, эти двое, бродящие вдоль стен захаровской гостиной: плотный и не желающий совершать лишних движений обер-полицмейстер - а рядом с ним грациозный, словно бы танцующий менуэт, быстрый в движениях Захаров. И коли бы кто близорукий смотрел на них издали, то уж точно ошибся бы, определяя, которому тут семьдесят, которому - тридцать три года.
– Вам именно живописные художества угодны? - вдруг забеспокоился Захаров. - А то имею камни с резьбой, из Италии - Тивериева голова, Орфей, животными окруженный, Минервина голова…
– Да мне бы, Гаврила Павлович, таких художеств, чтобы ее сиятельство поглядела и одобрила, - честно объяснил тогда обер-полицмейстер. - Выберите сами на ваш вкус три или четыре. А что за камни?
Тут-то наконец и проснулось его любопытство. Особливо когда была вынута из коробочки Минервина голова, резанная по слоистой яшме. Архаров принялся задавать вопросы, и отставной сенатор много чего припомнил про античные камеи. Наконец обер-полицмейстер вспомнил кое-что важное.
– А нет ли у вас, Гаврила Павлович, простой красной яшмы?
– Яшмы мясной? - уточнил Захаров. - На что вам? Вид у нее скучный, для камей не подходит.
– Поглядеть, какова из себя…
И тут Архаров, желая хоть как-то отблагодарить хозяина за увлекательную беседу, рассказал про письмо де Сартена и похищенный золотой сервиз.
Захаров выслушал и сделал рукой элегантное движение, призывающее к вниманию.
– Господин де Сартин, стало быть, писать изволил? Дивно мне это - он сам знатный сыщик, а такой сервиз - не иголка в стоге сена. Неужто его осведомители маху дали?
Архаров вспомнил, что отставной сенатор не раз побывал в Париже.
– А вы, сударь, с ним знакомы?
– Да, встречались в свете… - несколько туманно отвечал Захаров. - Но он в том доме был под чужим именем, мне приятель мой, маркиз де Бриссак на него указал. В Париже, изволите видеть, свет куда как разнообразней нашего. Я повстречал господина де Сартина в салоне у некой дамы, которая нашим боярыням показалась бы герцогиней, хотя благородство ее манер было театрального происхождения. Знаете ли, что она под старость лет сделала своим ремеслом?
– Нет, откуда?
– Наше счастье, что у нас пока не завелись такие дамы и такие салоны, сударь. Сия особа не то чтобы прямо состояла на жаловании у полиции, но господин де Сартин тайно ей покровительствовал и оплачивал ее расходы по чаепитиям в приемные дни, а также она получала и иные суммы… Принимала же наша держательница салона несколько раз в неделю господ придворных, литераторов, светских остроумцев, вообще всех бездельников, кои разъезжают из дома в дом, перенося сплетни. И знаете, что любопытно? У нее совершенно не играли в карты. Все, что она предлагала, помимо чая, разумеется, была приятная беседа.
– А дамское общество? - спросил Архаров, решив было, что отставной сенатор рассказывает ему об устроенном на почтенный лад доме свиданий - таких в Париже, по словам путешественников, было немало.
– Нет, дам она почти не приглашала. Хотя маркиз сказал мне тогда, что многие содержательницы борделей и их девицы служат господину де Сартину. Эта же была особа почти из приличного общества. Мы с маркизом были ей представлены, и тогда же я познакомился с господином Ленуаром. Это, сударь, был молодой человек с большим будущим, и господин де Сартин, кажется, воспитывал его, чтобы передать ему свою должность.
Архаров дважды кивнул - так оно и должно быть.
– И при том количестве осведомителей, который явно или тайно содержит французская полиция, мне кажется странным, что она проворонила сей сервиз, - сказал Захаров. Тем более, что он, сдается мне, имеет занятную историю. В последнее время во Франции была лишь одна дама, способная заказать такую милую безделицу с яшмовыми ручками на две дюжины персон. И то лишь потому, что ее счета поступали в государственную казну под видом королевских, теперь-то об этом все узнали и был немалый скандал. Вы, должно быть, слыхали такое имя - графиня Дюбарри.
Архаров пожал плечами - сколько он знал, во Франции, а особливо в Париже, куды ни плюнь - в графа или в графиню попадешь.
Собеседник усмехнулся.
– Это, изволите ли видеть, та самая графиня Дюбарри…
Но и тонкий намек ничего Архарову не сказал.
Тогда господин Захаров от души развеселился и повел гостя в свой кабинет. Там он достал из бюро галантные французские гравюры, на которых оная графиня изображалась в самом непотребном виде. Архаров уставился на них - и расхохотался.
В последний раз он видел гравированные безобразия еще в Санкт-Петербурге. Переехав в Москву, он, разумеется, таким добром не запасся, а те непотребства, что продавались на Трубной площади и притаскивались порой архаровцами в полицейскую контору, были уж больно грубы. Самую страшную лубочную картину обер-полицмейстер собственноручно изодрал в клочья не далее как на Прощеное воскресенье, очищая канцелярию от всякой дряни перед Великим постом. Она изображала даму в платье с фижмами, едущую верхом на сгорбленном дядьке. Дядька мало что был со спущенными штанами, так еще извергал из задницы соответствующую материю.
– Извольте, сударь, расскажу, - произнес господин Захаров. - Я как раз успел побывать в Париже, когда ее слава сделалась совсем скандальной. Покойный французский король… впрочем, того вы, верно, и знать не могли… Он был одолеваем скукой. Покойная маркиза де Помпадур… о Господи, кого ни вспомнить, все уж покойные…
Вот тут Архаров поверил, что отставной сенатор не на шутку болен. Глаза у него сделались совсем тоскливые, и обер-полицмейстер положил себе немедленно направить к Захарову Матвея Воробьева, а лучше бы - деда Кукшу, коли удалось бы того изловить.
– Поведаю вам, Николай Петрович, так и быть, пикантную историю о графине Дюбарри. Царствовала сия блудная особа при его величестве лет примерно шесть, и за то время нажила себе множество недоброжелателей. Наиглавнейшую же недоброжелательницу - супругу дофина, нынешнюю королеву французскую Марию-Антуанетту.
– Иначе и быть не могло, - согласился Архаров.
– Было в ней одно похвальное качество - она не пыталась управлять государством, как ее предшественница, покойная мадам де Помпадур. И замков она не строила - кроме Люсьенна, но тут уж ничего не поделаешь, должна же была она свить хоть какое-никакое гнездышко. Однако ж денег на нее уходило порядочно. Все больше на платья, на бриллианты, на фарфор из Севра… тут она, сама того не ведая, завещание мадам де Помпадур исполнила. Та все говорила: коли кто, имея деньги, покупает не севрский фарфор, а саксонский, тот-де плохой француз. Ведь сама она те фарфоровые фабрики в Севре и завела… Так вот, отвечу я на ваш вопрос, почему упоминать о мадам Дюбарри в приличном обществе не рекомендуется…
Вот тут Архаров уже сосредоточился.
– Изволите ли видеть, сударь, когда покойный французский король подобрал свою прелестницу, она была не более не менее как модисткой, причем прошла через множество рук и получила лишь то воспитание, которое требуется для амурных дел. А он был немолод и подвержен приступам болезни, именуемой хандра. Развеселить его было трудновато. Покойная мадам де Помпадур еще как-то исхитрялась развлекать его невинными средствами - то прогулки, то театры, то фарфор. Эта, повторяю, иного полета пташка. А потерять любовника лишь потому, что его тоска берет, обидно. И она пустила в ход то, что умела и замечательно знала. Господа, бывавшие в Люсьенне, рассказывали: коли там комедию ставят - так непристойную, коли песни поют - от тех песен хоть святых выноси да и сам выходи. Пляски затевают - один срам. И тем она его развлекала. А ему все сие непотребство было в диковинку и в его-то годы лишь такие пряные штучки и могли сподвигнуть на великие дела…
Архаров невольно усмехнулся, глядя на собеседника. Собеседник уже весьма смахивал на сушеный гриб. Очевидно, был никак не моложе французского короля, однако держал для своей утехи такую бойкую девку, как Дунька, и Дунька даже присматривала, чтобы ей никто дорогу не перебежал.
– Его величество французский король изволили скончаться в начале мая семьдесят четвертого - тому уж, выходит, год. И звезда графини закатилась с поразительной быстротой. Тут же все завопили о ее безобразиях, а главным образом - злейшая ее врагиня, новая королева. И все ей припомнили, до последнего ливра. Она стала имущество распродавать - и тут-то, видно, избавилась от золотого сервиза. А ведь сие художество следовало бы вернуть в казну. Так что вы, сударь, легко можете себе представить восторг государыни, когда ее имя, не приведи Господь, будет впутано в скандал с ворованным имуществом мадам Дюбарри. Из-за какой-то, прости Господи, бляди начнется дипломатическая околесица… тем более, что наши с французами дипломатические дела едва-едва налаживаться стали, и есть немало доброжелателей, кои бы охотно нас с Парижем заново рассорили. Покойный господин Шуазель сильно нам успел напортить, да что это я все про покойников?… Не к добру.
– Да уж, - согласился Архаров. - Благодарствую. Да только…
– Что, сударь?
– Не верится мне что-то, чтобы такая подлая девка столько денег имела, чтобы золотые сервизы заказывать и дворцы себе строить.
Гаврила Павлович расхохотался.
– Вам бы, Николай Петрович, за границу съездить, по тем же немецким княжествам прокатиться, тогда лишь поймете, какие деньги тратятся на фавориток. Слава Богу, Россия сей беды не знала…
Тут произошло некоторое молчание. Оба вдруг подумали об одном и том же человеке - о графе Орлове. Его открыто звали фаворитом, и денег на него государыня извела прорву. Теперь вот новое сокровище объявилось - тоже неведомо, чем будет за амуры вознаграждено…
– А коли и заводилась фаворитка, то и смех, и грех… Вы госпожу Каменскую знаете?
– Знаю.
– А какое у нее было прозвание при покойном государе Петре Федоровиче - помните? Распустеха Романовна! Ибо была редкостной неряхой, к тому же злобной и крикливой, однако несколько лет держала при своих юбках великого князя, впоследствии государя. Но не слишком из государственной казны поживилась. Побрякушек понавыпрашивала - и только. Разумнее всех вел себя покойный государь Петр Алексеевич. Тот, сказывали, каждой метреске, будь хоть прачка, хоть графиня, за амуры рубль платил, говорил: более сие не стоит. Так что от фавориток нас Господь избавил…
И опять было молчание, потому что обсуждать особу графа Орлова и его преемника, господина Потемника, ни Архаров, ни Гаврила Павлович не желали.
– Простите, сударь, покину вас на минутку, - сказал Захаров и быстро вышел из кабинета. Но обер-полицмейстер заметил - лицо старика отразило внезапную боль. Видно, не такую уж внезапную - отставной сенатор не испугался, а поспешил за лекарством в спальню.
Архаров стал рассматривать графиню Дюбарри во всех подробностях, и за этим занятием застал его лакей. За лакеем шел, стуча вечной своей тростью с круглым стальным набалдашником, доктор Воробьев. Ничего странного в этом не было - Матвей считался одним из лучших врачей в Москве, и Захаров отыскал его без архаровского посредничества.
– Ты тут для чего? - удивился доктор и вытаращился на Архарова.
Матвей знал про Дунькину ночную беготню с Ильинки на Пречистенку.
– Слушай, Николашка, забери ты ее у него, Христом-Богом прошу, - прошептал Матвей. - Она ж его в гроб загонит.
– Дунька-то? Эта может.
– Дурак ты - что бы она могла, кабы он настойку шпанской мушки не пил?
Архаров знал, что не только на старости лет для мужской мощи пьют эту дивную настойку, но о вреде, ею производимом, не подозревал. Так и сказал Матвею.
– Ну, иногда, может, и не вредно, - растолковал тот. - Ну, раз в неделю, не чаще! И то - понемножку, по капельке, за час перед амурными шалостями. Он же, старый дурень, эту настойку ложками хлебать принялся, как мужик - пустые щи. Вот и не может больше часа усидеть, бегает в нужник, как беременная баба. А всякий позыв - сильная боль…
– Вон оно что…
– Дуньке хоть скажи - он же себе во вред для нее старается… чш-ш-ш… о чем-нибудь говори…
Архаров вдруг вспомнил - есть же у него дело к доктору. Может, он опознает в слове, употребленном государыней, какую-нибудь мудреную хворобу.
– Матвей! Что есть инже… чтоб ей сдохнуть… иже…
– С этим к Устину Петрову, - тут же отозвался доктор.
– Устин в хворях не смыслит. Инжедействие.
Матвей сделал круглые глаза.
– Нет такой хвори, Николаша.
– Тогда… - Архаров тяжко задумался. Попытка не удалась.
– Да ты здоров ли, Николаша?
– Пошел к монаху на хрен. Государыня слово сказала, никто объяснить не умеет.
– А слово, выходит, инжедействие?
Архаров задумался. Теперь, когда он услышал это свое изобретение из Матвеевых уст, оно оказалось вовсе не похоже на умное слово государыни.
Вошел Захаров - походкой петиметра и щеголя, с особой игрой руками и глазами, причем сие получалось у него отнюдь не вычурно, не по-дурацки, как если бы безнадежно пытался подражать молодым, а словно отставной сенатор родился со светской сноровкой. И на лице его была полуулыбка - словно этот человек никогда не ведал телесных страданий.
– Ты, сударь мой, безнадежен, - произнес свой вердикт доктор Воробьев. - Хоть и обер-полицмейстер. Как есть люди, чья голова виршей не вмещает… твоя, впрочем, тоже не вмещает… Стой, придумал! Знаешь, Николашка, кого бы надо к тебе в полицию завербовать? Елпидифора.
– Какого еще, на хрен, Елпидифора?! - Архаров был не в том состоянии, чтобы шутки понимать.
– Ну как же? Сие имя значит - «надежду приносящий»!
– А-а… точно…
– Ну, Николай Петрович, надумали что брать? - осведомился Захаров.
Архаров кивнул.
Если княгиня не ошибается в намерениях государыни, то картины лучше повесить благопристойные. Вот чем плох сельский вид с мельницей? Будет себе висеть и висеть, не привлекая лишнего внимания.
Архаров показал два парных пейзажа, вид с мельницей и впридачу - некое мифологическое изображение с белыми храмами, пастухами, нимфами, овцами и синим южным небом. И тут оба, продавец и покупатель, несколько растерялись. Обер-полицмейстер понятия не имел, сколько стоят картины, а отставному сенатору тоже было неловко называть цену - он, слава Богу, не купчишка из Охотного ряда. Матвей сообразил, в чем дело.
– У меня приятель есть, немец, миниатюрные портреты пишет и иными художествами приторговывает, я его к вам пришлю, пусть оценит, - сказал доктор. - А теперь, господин обер-полицмейстер, уступи место Эскулапу.
Захаров усмехнулся - он-то всех греческих богов знал наперечет, Архаров же должен был вспоминать, что за Эскулап такой.
Вспомнил уже в карете. И одновременно - ту хворь, которую поминала государыня. Иноземное слово в верном его виде повторял про себя, пока не прибыл в полицейскую контору.
– Клавароша ко мне! - сказал он, проходя в кабинет.
Клаварош тут же явился.
– Скажи, мусью, что такое индижестия?
Француз задумался.
Он хорошо намастачился говорить по-русски, но происходило его искусство от умения использовать каждое известное ему русское слово и составлять фразы только из них. Иной собеседник ввек бы не догадался, что Клаварош знает этих слов хорошо коли полтысячи. Смысл вопроса он понял, только не имел в своем словаре ничего соответствующего.
– Брюшная хворь, ваша милость, - сказал он наконец, - когда брюхо своего долга не исполняет.
– Прелестно…
Он кликнул кого-нибудь из канцелярии - продиктовать записочку к Матвею с диковинным словом, и чтобы посыльный стребовал с него ответ. Сразу никто не прибежал, и Архаров отправился разбираться. Он не был сердит, просто по своему гвардейскому прошлому помнил: приказ должен исполняться незамедлительно и без рассуждений, а с секундным промедлением уже следует бороться.
Возле канцелярии он увидел Шварца, Шварц пожаловался, что на дворе стоит огромная лужа, если пройдет еще дождь - вода начнет стекать в подвальное окошко. Пошли смотреть лужу.
Она была необъятна - вроде в прошлые годы так не разрасталась, но убрать ее было несложно - воду разметать метлами, а углубление в земле засыпать и утоптать. Архаров поглядел по сторонам в поисках рабочих рук и увидел в дальнем углу Тимофея, Федьку, Демку и Ваню Носатого. Они о чем-то совещались втихомолку, и вдруг Тимофей довольно громко выругался.
Архаров привык к тому, что этот его подчиненный всегда спокоен, рассудителен, терпелив. Сейчас же Тимофей выглядел совершенно расстроенным, потерпевшим некую вселенскую конфузию.
Обер-полицмейстер обошел лужу и пошел к архаровцам. Его заметили, замолчали, и по лицам было видно - он притащился очень некстати. Особенно Тимофей и Демка не обрадовались начальству - Тимофей глядел в землю весьма удрученно, Демка же - с некоторой злостью.
– Ну, что еще стряслось? - спросил, подходя, Архаров. - Что за беда? Костемаров, это ведь с той бабой увязано, которую ты от нашего крыльца турнул. Ну-ка, докладывай, у кого из наших на брюхе пятно - как мышь бежит? Не то всех вниз отправлю - и ты, Ваня, все брюха оглядишь и доложишь.
Федька открыл было рот - да и замер, опомнившись. Пресловутая круговая порука, которой повязали бывших мортусов, сейчас работала против Архарова - они не имели права выдавать друг дружку…
– У тебя, Тимоша? - никак не показывая своего недовольства, задал вопрос обер-полицмейстер. Догадаться было нетрудно, опять же, архаровцы не первый день знали своего командира - даже не удивились.
– Приплелась на мою голову!… - с тоской прошептал Тимофей.
– А чего на дуре женился?
– Так кто ж знал? Я овдовел, детишки без ухода, кого-то ж надо было брать…
– И что детишки?
– Не уследила, дура, оба померли. Да у нас к тому времени уже свой народился. Я потерпел немного - да и пошел прочь.
– Не врала, стало быть, баба?
Этот архаровский вопрос был адресован Демке.
Демка потупился.
– Далее.
– Ушел. Прибился…
– К налетчикам. Далее.
– Господь уберег… ну, вернулся…
Тимофею было сильно неприятно вспоминать подробности той давней, дополицейской жизни.
– Опять удрал, - спокойно продолжал Архаров, который, оказывается, кое-что запомнил из бестолкового рассказа бабы.
Тимофей покивал.
– И с перепугу до Мурома добежал. Да ладно тебе, я бы тоже от такой сбежал. Что делать будешь, коли она тебя сыщет?
– Ваша милость, а нельзя ли его куда-нибудь отправить? Ну хоть в Санкт-Петербург? - встрял Федька. И в глазах у него был восторг - он сам наслаждался тем, как старается выручить товарища.
Архаров тут же перевел взгляд на Демку. Федька был прост - что на уме, то и на лице. Демка же - хитер, да только и он не всегда умел за своим личиком уследить.
– Ваша милость! - воззвал Федька, глдя на обер-полицмейстера с надеждой. - Она ж не уйдет, она так и будет по Москве околачиваться, пока до правды не доберется!
– А ты ее знаешь? - спросил Архаров, вспомнив, что оба они, Тимофей и Федька, вроде бы тверские.
– Да вроде видал… - тут догадливый Федька по глазам Архарова понял, что его вранье может выйти боком. - Она тетки моей куме как-то сродни приходится. Я тогда еще знал, что у нее муж в бега подался. Бабы так и толковали - сама-де из дому выжила, вот и осталась без мужа с сыном да с прибылью…
– Я не знал, - хмуро сказал Тимофей. - Кто ж мог знать, что с прибылью?… А только жить с ней не стану, хоть убейте.
– Значит, прибежал, когда налетчиков твоих повязали, отоспался, отъелся, брюхо бабе своей вдругорядь набил, а потом до тебя дошло, что жить с ней невмоготу, и ты добежал до Мурома? - безжалостно допытывался Архаров. Когда он после чумы принимал и осваивал полицейское хозяйство, то и узнал много любопытного про мортусов. О том, что Федька в пьяной драке на свадьбе у родни убил приятеля, Архаров знал и раньше. Воровское прошлое Демки было у него на роже написано. Насчет Вани - и сомнений быть не могло. А вот, слушая, как Саша читает связанные с Тимофеем бумаги, удивлялся - этот крепкий неторопливый мужик затесался в ватагу, которая целую зиму грабила купцов на муромской дороге, и взят был чудом - до того ловко уходил, путая след, от погони.
– Два месяца только и побыл с ней…
– Прелестно. И она только теперь додумалась искать тебя на Москве?
– Черт ли ее разберет.
Архаров хмыкнул. Что-то следовало предпринять. Если баба добредет до острога да, чего доброго, найдет сердобольных слушателей, то имя Тимофея Арсеньева может оказаться им знакомо - тут-то и заорет слушатель: беги к Рязанскому подворью, баба, твой муж в архаровцах служит!
Кабы он эту Тимофееву жену своими глазами не видел и своими ушами не слышал - то и махнул бы рукой: разбирайся сам со своей бабой. Но он, хотя и говорил с подчиненным сурово, душой был на его стороне и выдавать его на растерзание дуре не желал.
Мысль явилась вовсе неожиданная…
– А вот что! - воскликнул Архаров. - Знаю, как ее отвадить! Федя, крикни Сеньке - пусть экипаж к крыльцу подает! Тимоша, поедешь со мной.
Федька смотрел на Архарова с таким восторгом, что получил в последнюю минуту приказание вставать на запятки вместе с Иваном.
– Сенька, гони в Зарядье! - велел обер-полицмейстер.
Карета понеслась вдоль китайгородской стены, свернула на Варварку, затем во Псковский переулок, и далее - в Ершовский.
Марфа была на дворе, вешала белье, когда раздался стук в ворота. Она подошла к калитке и увидела архаровский экипаж. Федька, соскочив, отворил дверцу, обер-полицмейстер выбрался и сразу вошел во двор, архаровцы, еще ничего не понимая, - следом.
– Марфа Ивановна, у нас - товар, у вас - купец! - не поздоровавшись объявил он. - Наоборот то есть! В общем, принимай жениха!
Марфа попятилась. Архаров выпихнул вперед сильно смущенного Тимофея.
– Этот, что ли? - вмиг заинтересовалась Марфа. - А что ж! Детина здоровенный! В годах, правда, так ведь и я не первой свежести невеста! Согласна! Благословляй, батюшка Николай Петрович!
– Да ну тебя! - возмутился Тимофей, отступая. - Ваша милость Николай Петрович! Она ж этак не на шутку меня к алтарю потянет!
– Надобно, чтоб он у тебя пожил, - объяснил Марфе Архаров. - За ним баба притащится, станет домогаться. Мы-то ей укорот дать не можем, поскольку они с моим дураком повенчаны, по закону она права, а ты ее за милую душу и из Зарядья, и из самой Москвы в тычки выставишь. Тебе - можно, потому как это ваши бабьи дела.
– А я-то обрадовалась… - Марфа еще раз оглядела статного и плечистого Тимофея. - А и ладно, пусть поживет! Может, что и получится. Так что перебирайся - я тебе внизу постелить велю.
– Прямо сейчас, - добавил Архаров. - Час тебе на новоселье даю. Хрен ее знает, когда она до тебя доберется…
Тимофей остался, Архаров указал Федьке на запятки и вернулся обратно в полицейскую контору.
Всю дорогу он посмеивался, воображая поединок между Марфой и той безымянной бабой, от которой следовало спасать Тимофея.
Но, войдя в кабинет, он об этой дурости уже не помнил - его ждал Михей, только что вернувшийся из Санкт-Петербурга.
– Заходи. Ну, что столичные шуры? - любезно спросил Архаров. - Мне не кланялись?
– Они бы и рады поклониться, так ваша милость сламу на клюя не берет, - тонко польстил Михей. - Коли позволите, я в канцелярии донесение продиктую.
– А на словах?
– Никто ни о каком сервизе не слыхивал. В полицейскую канцелярию писем не приходило, купчишки-посредники знать не знают. Один гирячок мне вот что сказал: большой парадный золотой сервиз ведь и весит поболее двух пудов, статочно, что три, и места, коли его бережно везти, занимает немало, его так просто в Россию не протащишь. Стало быть, на таможне кому-то барашка в бумажке поднесли, да и немалого барашка…
– А коли мимо таможни? Я знаю, матросы в трюмах слона спрятать могут.
Михей усмехнулся.
– Ваша милость, зимой корабли в Петербург не приходят, да и до Пасхи, поди, тоже не могли пробиться - там же весенние шторма. А вы про сервиз еще задолго до Пасхи узнали.
– То бишь, коли его к нам водой повезли, то он, когда мне Сартин писал, еще в Париже обретался? - Архаров задумался. - Коли он знал, что покража под носом, и ее повезут морем, чего ж сам не взял?
Михей развел ручищами - ответа на такой вопрос у него не было да и быть не могло.
– Поди, продиктуй - с кем встречался, что разведал, все подробно.
Следовало бы сесть, да со Шварцем, с Абросимовым, с Тимофеем дружно подумать - каким путем прибыл блудный сервиз из Франции в Россию. Но в коридоре уже набился народ - и с донесениями и «явочными», приходилось браться за работу. Даже странное поведение Демки Костемарова, в иное время не оставшееся бы без внимания, - и то вылетело из головы…
* * *
Изба была обыкновенная - даже не нищего житья, а принадлежащая благополучному крестьянскому семейству. Посередке, как водится имелась печь с широким устьем, в подпечке сохли дрова. Рядом стояли лопата для углей и ухват на длинном катовище. Напротив печи висела на шесте люлька с дерюжным пологом, приспособленным так, чтобы задерживать тепло, шедшее от печи, и обогревать дитя. Слева от печи стоял высокий светец с погасшей лучиной, справа - стол, в углу, одно на другом, ушаты и кадушки, тут же висело на стене большое решето.
Что за крашенинной занавеской - Тереза не знала и знать не желала.
В люльке захныкал ребенок. Он распеленался, холстинка, на которой он лежал, сбилась, и солома, устилавшая люльку, колола дитя. Тереза даже не повернулась. Этот мир был ей чужд, и она хотела совершать как можно менее движений в нем, вообще окаменеть - в надежде, что тогда она перестанет воспринимать его шумы и запахи. Единственно - когда мухи, гудевшие непрерывно, пытались сесть ей на лицо или на руки, она их отгоняла.
Одновременно появились старуха из-за грязной занавески и мужик в дверях. Мужик был еще молод. Хотя на дворе пригревало солнце, он был в высоком меховом колпаке, из-под которого виднелся один нос, а дальше - торчала светлая борода. Этот мужик в коротком буром армяке, от которого несло псиной, в холщовых портах, с ножищами, толсто обмотанными онучами и криво перехваченными оборами лаптей, подошел к люльке первый, подобрал тряпочный рожок, потерянный ребенком, и сунул обратно в ротик. Дитя замолкло, старуха вернулась на свое место, где сидела беззвучно, мужик поправил холстинку и без единого слова ушел. Как Тереза не желала замечать их - так и они не желали замечать Терезу. Кто-то велел им терпеть, пока эта закутанная в черный атлас женщина молча сидит за столом и ждет. Они и терпели.
Тереза не могла бы сказать, сколько времени сидит за этим столом, опираясь локтем, и глядит на неровную щель между выскобленными досками. Время уже ничего не значило для нее - она знала цену долям секунд, когда играла, и не понимала, даже не желала понимать, куда подевался год жизни. Словно бы проспала его, сидя на постели с открытыми глазами и не осознавая смены дней и ночей.
Она и раньше не была разговорчива, теперь - могла бы при желании перечесть те слова, которые произнесла за время своего то ли изгнания, то ли заключеиия. Больше сотни бы, поди, не набралось.
Лишь раз встрепенулась было Тереза - зимой, когда толстая девка, собравшись топить печь в ее комнатушке, принесла на растопку листы плотной бумаги, расчерченные нотными линейками. Тереза выхватила у нее из рук ноты и некоторое время смотрела на них, даже не пытаясь воспроизвести в голове записанную музыку. Это было - словно весточка из иного мира, покинутого ею и покинувшего ее, казалось, навеки.
Кто переписал - а ноты были начертаны от руки, старательно, и это выдавало молодость музыканта, без летучей небрежности, означающей, что рука не поспевала за душой, в глубине которой уже зазвучала мелодия, - эти скрипичные и басовые ключи, эти гроздья созвучий, кто - и чью музыку хотел сделать своей этот человек? Чернила выцвели, а стопку нот, найденную на антресолях, погрызли мыши. И Тереза поняла сей тайный знак судьбы - она теперь сама была, как эти немые ноты без начала и конца.
Ей даже было по-своему хорошо, что в доме, куда ее привезли, не оказалось музыкальных инструментов.
Оказались же там старик-хозяин, глухой на левое ухо, ключница - ровесница его, несколько человек прислуги, и вся усадьба производила тягостное впечатление разоренного гнезда: сыновья выросли, ушли служить да где-то на чужбине, в Пруссии, головы сложили, единственная дочь вышла замуж и укатила с мужем Бог весть когда и куда, присылая письма к Пасхе, к Рождеству и к отцовским именинам. Хозяйка же умерла, ненадолго пережив сыновей и оставив мужа в вечной растерянности: как же жить дальше одному-то?
Но Тереза, смутно осознав, что в опустевшем доме поселилась тоска о детях, не стала доискиваться подробностей - ей вполне хватало ее собственного смятения.
Ее привезли ночью, и человек, который ее привез, отдал хозяину письмо и имел с ним короткий разговор наедине. После чего Терезу отвели в комнату, куда сразу пришла девка и застелила свежим бельем постель с двумя перинами. Спать в них оказалось душно, и Тереза попросила девку убрать хоть одну. Та сильно удивилась - как же без перин? И хорошо, что она не послушалась странной гостьи. Наступила осень, и Тереза оценила свои перины по достоинству.
Кормили ее убого - живя в Москве, она даже не прикоснулась бы к такой пище. Но точно так же питался хозяин - и Тереза, не обращая внимания на вкус, съедала редьку с луком под конопляным маслом, тощих вяленых подлещиков, черный тертый горох, вареную репу. Подавали ей еще похлебку из каких-то мелких рыбешек с просом или с пшеном, подавали похлебку с грибами, еще бывали иногда щи с сомовиной. Тут она впервые попробовала и окрошку, и зеленые щи, и даже гречневую кашу. Впрочем, ей было все равно, что продлевает ее существование. Похожее состояние она знала в чумной Москве - но тогда было желание все прекратить наипрекраснейшим образом, под музыку, теперь же Тереза не хотела ни смерти, ни жизни, вообще ничего - лишь бы это безрадостное существование не сменилось каким-то иным, требующим усилий ума и тела.
Ей было все равно.
Она ощущала себя отражением хозяина, которому тоже было все равно, до такой степени, что он смотрел сквозь Терезу, когда они встречались в столовой. Ключница же поглядывала на нее косо, но молчала.
Всю осень, всю зиму, всю весну Тереза провела в этой усадьбе, не выходя даже в сад - у нее не было теплой одежды. Несколько раз ей приходила мысль уйти отсюда - но она понятия не имела, куда, а главное - зачем. Мир за пределами старой усадьбы казался ей враждебным. Даже если бы ей принесли шубу, шаль, валенки, подали бы к крыльцу хороший возок, в котором установлена маленькая печка, - она бы лишь помотала головой. Необходимость впустить в жизнь нечто новое вызывала у нее страх - она была, как больной, которому наконец удалось устроить тело так, чтобы боль почти не ощущалась, и мысль о движении вызывала страх перед возвращением боли.
Единственное, что Тереза знала о своем местожительстве, - оно было в шести верстах от села, куда отправили в ссылку больного Мишеля, возможно, отправили умирать.
Некого было спросить, как он исхитрился взять с собой Терезу, как устроил ее на жительство в старую усадьбу. Да и какое это имело значение? Кто-то выполнил его приказание, кто-то оставил хозяину усадьбы денег. И Тереза жила… как если бы он взял ее с собой - в смерть…
Ее жизнь здесь тоже была своего рода смертью. Если бы у Терезы спросили, как она представляет себе тот свет, где каждому воздается по делам его, она бы сказала: именно так, старым и запущенным домом, где изо дня в день - все то же, жалкая пища, жалкие лица, немота и глухота.
Она не думала о будущем - ей уже казалось, что ее поселили тут навсегда. Она не вспоминала о прошлом - ей было стыдно о нем вспоминать. Начиная с того дня, когда она, обезумев от волнения, взглядом сказала Мишелю, что ему все позволено, начиная с той первой ночи, когда он прокрался к ней в комнату, все словно покатилось лавиной крупных камней с крутого откоса. Она желала быть вместе с этим неимоверно красивым юношей - но осознавала невозможность брака. Она была готова родить ребенка, чтобы привязать Мишеля, и в то же время - готова наложить на себя руки, если обнаружится беременность. Затем семейство Ховриных забыло ее при бегстве из чумного города - и тогда смерть стала желанной, оставалось лишь обставить ее понаряднее, чтобы она была не грубым и тяжким умиранием плоти, но вознесением души. Клаварош спас ее - но она совершенно не ощущала благодарности, своим вмешательством он нарушил некую внутреннюю гармонию ее жизни - где страсть к Мишелю могла разродиться только смертью.
Затем Тереза познала растерянность - следовало как-то жить дальше, но для этого - отсечь прошлое. Ей казалось, что ни у кого более нет в прошлом такого ослепительного огненного шара, в котором сплавились вместе страсть к мужчине и музыка, настолько сплавились, что одно без другого было уже невообразимо. Такое прошлое отсечь было невозможно, однако она слишком долго ждала вознесения души в опустевшем особняке, сидя за клавикордами, и в шаре словно что-то перегорело, его пламя уже не сжигало дотла, а лишь причиняло ожоги, наподобие свечного воска, и Тереза невольно спусказась все ниже и ниже с той вершины, на которую сама себя загнала. Странный подарок Архарова помог ей окончательно отказаться от прошлого, от всего целиком, но Тереза не подумала об одной мелочи - мало было умертвить в душе музыку, следовало как-то умертвить и Мишеля, а пока он жив - освобождение невозможно.
Модная лавка несколько развлекла ее, оказалось, что Тереза умеет вести денежные дела, и это радовало - живут же тысячи женщин без всякой музыки и без любви, что же, она станет одной из них, и ее место в жизни будет не самым худшим. Возвращение Мишеля, возвращение музыки сбили ее с толку. Ей почудилось, что прошлое можно восстановить точно таким, каким сохранила его душа - то есть, искаженным, облагороженным, более гармоничным и ярким. Но пылкая страсть Мишеля была подобна его игре на клавикордах - в бурных аккордах была та неточность ритма, те неверные удары по клавишам, тут же перекрывавшиеся верными, которых не заметит разве что совсем неопытный дилетант, или же влюбленная женщина, принимающая музыку как начало опьяняющей ласки.
Его загадочные исчезновения и внезапные возвращения стали подобны отступлению и возвращению изматывающей болезни; болезнь, впрочем, была из тех, с которыми больной умудряется сродниться, так что ее отсутствие вызывает ощущение душевной пустоты - нечем занять себя, нечем выделиться среди людей здоровых, нечем подпереть, как ворота палкой, свою исключительность в этом пошлом мире.
Когда Мишель явился к ней, едва держась на ногах, она должна была сказать ему твердо: возвращайся, откуда пришел. Но не смогла. Этот смуглый и светлоглазый красавец обладал странной властью над ней - тогда лишь это и стало понятно до конца. Слыша его голос, то повелительный, то вкрадчивый, она теряла способность к сопротивлению. Это состояние удивительного безволия словно предвещало осень, зиму и весну в неизвестно чьей усадьбе.
За это время Тереза получила семь писем от Мишеля - на французском, с ошибками. Он называл ее своей любовью и клялся, что встреча близка. Она читала в какой-то полудреме - встреча так встреча, близка так близка…
Возможно, она в своей покорности обстоятельствам находила некое странное наслаждение - как если бы несла кару за грех неразумной любви к музыке и к Мишелю и верила в искупление этого греха столь необычным способом. Или же, устав от страха, играла сама с собой в опасную игру - доводила свое состояние до крайности, чтобы произошел взрыв и душа вырвалась на свободу. Или же ею владело поочередно и то, и другое отношение к своему добровольному заточению в старой усадьбе.
Восьмое письмо от Мишеля было кратким и повелительным. Терезе предписывалось собрать вещи и следовать за посланцем туда, куда он приведет ее. О дальнейшей судьбе Терезы Мишель не сказал ни слова.
Вещей у нее было немного, да и те она охотно бы оставила толстой девке, до такого состояния довела их жизнь в усадьбе, где не было возможности следить за собой так, как привыкла француженка.
В нужный час Тереза вышла в сени. Имущество свое она держала в узле, спрятанном под черной атласной накидкой. Слава Богу, уже можно было выходить в этой накидке, не боясь замерзнуть. Никто из обитателей усадьбы не вышел ее проводить - как если бы у них оставили до выздоровления больное животное, захромавшую лошадь или собаку, а теперь, не тратя времени, забирали.
Она встала на крыльце, подняла голову к небу - и ощутила желание вернуться в маленькую свою комнатушку с низким потолком, с душными запахами от стен, перин, одеяла. Ей стало страшно - возвращение в огромный и враждебный мир ничего хорошего не сулило. И только тягостное ощущение долга перед Мишелем заставило ее сойти с крыльца.
Экипаж, поданный к калитке, несколько ее удивил - это была простая телега, правил подросток в розовой рубахе. Посланец Мишеля, немногословный мужчина лет сорока с небольшим, дурно говорящий по-французски, помог Терезе забраться в телегу и сесть на мешок, набитый сеном. Сам он сел в седло и рысцой сопровождал француженку примерно четыре версты. На краю длинной деревни подросток, не дожидаясь приказания, остановился у ворот. Мужчина помог Терезе сойти, отвел ее в избу и велел здесь ждать. Он даже не спросил - нуждается ли она в чем-либо, в питье или в пище. А Тереза ничего не сказала - в конце концов, у нее были при себе деньги, и она могла купить все необходимое.
Двор был грязный, вымощенный гнилой соломой, в которой башмачки Терезы утонули едва не по щиколотку, но она спокойно дошла вслед за провожатым до приоткрытых дверей. Ей указали на лавку, она села - боком к столу, всем видом показывая случайность своего появления здесь.
Ждать пришлось долго.
Но она все еще не ощущала течения времени.
Поскольку сидеть совершенно без движение она все же не могла, она еще не до такой степени окаменела душевно, пальцы ее правой руки постукивали по столешнице, сперва касаясь ее беззвучно, затем - ударяя чуть сильнее.
И пальцы ожили. Их машинальные движения обрели смысл. Растопырившись, они уже били в доску поочередно, запястье приподнялось, явился сухой отчетливый ритм. Беззвучная музыка проснулась и заиграла пальцами, единственным своим прибежищем в теле Терезы.
Это была лучшая в мире - для тех, кто понимает, - музыка, которая безупречно накладывается на перестук конских копыт в галопе. И неудивительно было ее возникновение - где-то очень далеко уже били в подсохшую глину проселочной дороги стертые подковы, били вразнобой, но разве это имеет значение?
Тереза глядела на свои пальцы, а память ее вывалила тут же все сохраненные осколки сонат, все аллегро и аллегро престо, среди которых так легко было сейчас найти нужную мелодию.
Она выпрямилась, она повернулась к приоткрытой двери. Ей было страшно того, что стук копыт окажется настоящим и в ее спасительную для души неподвижность вторгнется нечто опасное, увлекающее в пропасть.
Быстрые шаги пронеслись по вязкой и чавкающей соломе.
Дверь скрипнула, вошел Мишель.
Тереза даже не поняла сразу, что это он. Свет в избу проникал через маленькие окошки под потолком, Мишель был в широченной черной епанче и в треуголке без плюмажа, надвинутой на лоб. Лицо… лицо изменилось, не то чтобы осунулось, а утратило юную мягкость черт и округлость. Казалось, кости стали крупнее и кожа на них натянулась, сделавшись от того тоньше и приобретя пергаментную сухость. Мишель, бывший моложе Терезы на два года, сейчас глядел тридцатилетним мужчиной, давно не ведавшим спокойствия, мирного сна, приятной беседы.
Она даже не встала, а просто смотрела на него, все отчетливее понимая, что жизнь в усадьбе не была отдыхом для души, что душа все это время как-то непостижимо трудилась, и вот сейчас сделалась ясна вся ее усталость.
– Идем, любовь моя, - сказал Мишель. - Все переменилось! Идем, мы долго ждали, но дождались своего часа! Ты и вообразить не можешь, сколь я благодарен тебе за то, что ты меня не бросила… я не мог позвать тебя, но я знал, что ты тут, что ты рядом… идем, идем, время наше настало!…
Он взял Терезу за руки, словно помогая ей подняться, и она покорно встала, и увидела его глаза - светлые, безумные, любимые.
Красота вернулась, лицо было вновь узнано и принято.
Губы соприкоснулись - это не было еще поцелуем, так - знак близости минувшей и близости будущей, обещание нежности, не более. И Тереза поняла, что у нее еще хватит душевной силы, хватит ненадолго, чтобы сопровождать Мишеля в его странствиях и авантюрах, а когда сила иссякнет - она просто умрет.
Мишель вывел ее из вонючей избы, у ворот стоял экипаж - старая берлина, сзади были привязаны сундуки и коробья.
– Мы возвращаемся в Москву, любовь моя, - говорил Мишель, обнимая Терезу за талию. - Есть люди, которые знают мне цену. Для нас уже готово жилище! Мне помогут отомстить…
– Но твое здоровье?… - наконец спросила она, хотя и так было понятно - проведенная в запертом холодном доме ночь крепко подкосила Мишеля, и не надобно врачей, чтобы разглядеть болезнь в его глазах, ощутить ее при объятии. И еще дыхание - он слишком часто делал вдохи, воздух с трудом проходил сквозь его горло и в легкие, и из легких.
Той ночью он, ругаясь и даже однажды заплакав, рассказал ей, что в младенчестве много болел, и уж не чаяли, что выживет. Она не знала этого, не знала также, что восьмилетним ребенком он, едучи весной с родителями из гостей, попал в неприятность, словно бы предвещавшую все последующие: их сани на переправе провалились в полынью. Людей вытащили быстро, отогрели в ближайшем доме, но это стоило Мишелю двух месяцев, проведенных в постели.
– Здоровье мое вернется, а для этого необходимо главное - отомстить. Едем, любовь моя, едем! - твердил он, подсаживая Терезу. - Все вернется, мы еще будем счастливы, мы поедем в Париж! Клянусь тебе, и года не пройдет, как мы будем жить в Париже!
Карета заколыхалась на колдобинах, Терезу и Мишеля качнуло, они прижались друг к другу.
– Знаешь ли ты древнюю историю? - спросил вдруг Мишель. - Я готов крикнуть кучеру Фомке: вперед, ты везешь Цезаря и его счастье!
В восторгах Мишеля было нечто тревожное.
– Я не хочу в Париж, - сказала Тереза.
Для Парижа она уже не годилась - стала стара, некрасива, и то единственное, чем могла бы она выделиться в свете, музыка, отдалилось от нее. В Париже она прежде всего потеряла бы Мишеля - хватило бы юных светских прелестниц, желающих осчастливить светлоглазого русского графа.
– Поедем, куда пожелаешь, любовь моя. Но сперва - московские дела… Я знал, что меня найдут. Рано или поздно нашли бы, я знал, все получилось даже лучше, чем я полагал… этот болван Горелов!… Какого черта он вздумал жениться неизвестно на ком? Все наши неудачи начались с этой невозможной глупости его! То-то теперь его сиятельство счастлив и блажен! Взят с оружием в руках - так он же сам сделал все возможное, дабы его взяли с оружием в руках! Непременно ему надобно было затеять спектакль с присягой!… Господь уберег нас, любовь моя, Господь ведет нас… но я не покину Москвы, не рассчитавшись с этим ублюдком!…
Тереза слушала голос и пропускала мимо разума слова. Однако желание Мишеля мстить ее обеспокоило. Она довольно знала пылкий нрав возлюбленного и полагала, что, обзаведясь врагом, Мишель не угомонится, пока не заколет этого врага шпагой или сам не рухнет с кровавой пеной на губах.
Но спрашивать она не стала. Она не хотела ни о чем спрашивать. Жизнь снова менялась, и Тереза еще недоверчиво, но уже с любопытством наблюдала эти изменения.
Скрипели каретные колеса, дребезжало что-то под днищем, постукивало, попискивало, словно эта древняя берлина была живым существом, левиафаном на службе Мишеля, и с прилежанием доброго слуги несла их с Терезой в иной мир - в мир гармоничных звуков, в мир одушевленных голосов. А за оконцем, в щели между занавесками, была живая молодая зелень - не та тусклая, которая даже не радовала Терезу сквозь годами не мытое окно ее комнаты, а зелень, победившая черно-белую зимнюю палитру. И воздух! Пока Терезу везли из усадьбы в избу, она не находила в нем радости - ее после затхлых запахов усадьбы раздражал запах свежего конского навоза, не более. Теперь же, в карете, она вдруг поняла, что можно дышать полной грудью и получать от этого наслаждение. Мелочь лепилась к мелочи - и жизнь возрождалась во всей пестроте флорентийской мозаики, составленной из полудрагоценных камней - оттенков, может, не чрезмерно ярких, но изысканных.
Страх отступил - надолго ли?
– Он мне за все заплатит, клянусь! - пылко сказал Мишель. - Ты видела, какое у него было лицо? Ему приятно издеваться над людьми! Когда он велел запереть нас в том доме, он знал, что это погубит меня! Он знал, что я едва держусь на ногах - и оставил меня в том доме! На всю ночь! Доктор объяснил - если бы не это, болезнь, сидящая в легких, не стала бы подниматься наверх, к горлу, но меня вылечат… У меня к нему обширный счет - и есть люди, которым он досадил не менее. Ты можешь заказывать по нему панихиду, любовь моя, ведь он был тебе так дорог!…
Этот внезапный упрек был как удар когтистой хищной лапой по обнаженному телу спящего человека. Тереза повернулась к Мишелю так решительно, как только могла - они сидели в обнимку, и это недовольное движение могло бы даже привести к поцелую - так близко оказались лица, глаза, губы.
– Я не понимаю тебя. Мишель, кого ты обвиняешь, кому хочешь отомстить?
– Виновнику всех бед наших - и, поверь, жить ему осталось менее недели!
Она уже догадывалась, кого осудил на смерть граф Ховрин, но не хотела пускаться в беседу о виновности или же невиновности этого человека.
Мишель же, напротив, требовал, чтобы она ввязалась в спор, дающий ему возможность доказать свою правоту.
– Может быть, тебе жаль господина Архарова, которому ты столь обязана? Не думай об этом, любовь моя, ведь ты давно уже вернула ему деньги! Участь его решена, он никого более не погубит и никому не встанет поперек дороги, о, ты даже вообразить бессильна, какая против него плетется интрига! Это будет знатный удар! Двор содрогнется!
Тут карета попала в выбоину, Терезу и Мишеля подбросило, они невольно оттолкнули друг друга.
Когда Мишель снова заговорил, это был уже другой человек, спокойный и деловитый.
– Прежде всего надобно сменить твой гардероб, любовь моя. Подумай, что тебе необходимо, чтобы не тратить на приобретение лишнего времени. Жить мы будем не в самой Москве, а в Тушине, квартира для нас уже готова. Я даже велел поставить в гостиной клавикорды…
И тут Тереза поняла, что никогда в жизни более не прикоснется к клавишам.
Это решение было разом и предчувствием беды, и какой-то неотвратимой карой. До сих пор она сама определяла свои отношения с музыкой, но теперь появилась посторонняя сила, имевшая право либо даровать ей музыку, либо лишить ее музыки окончательно. И эта сила была как-то связана с московским обер-полицмейстером. Тереза еще не понимала, как именно, однако внутренний голос принялся повторять то, что сказал ей Мишель об Архарове. Об этом некрасивом офицере с обнаженной шпагой, который все не желал и не желал уходить из темной гостиной ховринского особняка.
Архарова ждала смерть. Архарова ждала смерть. Архарова ждала смерть…
* * *
– Ваша милость, я продиктовал донесение, - сказал Макарка. - Сейчас господин Щербачов кончит перебелять и принесет!
– Чего ж ты ему так много надиктовал? - спросил обер-полицмейстер. Парнишка ему нравился - был скор, находчив, весел, исполнителен.
– Я, ваша милость, точно описал всю дорогу, а как я улиц не знал, то говорил приметы!
– Хорошо, хвалю.
Такие слова от Архарова слышали крайне редко. На сей раз он хотел показать Макарке, что доволен, не только по случаю удачного наружного наблюдения за господином де Берни, но и с расчетом на будущее - чтобы впредь служил усердно. Награда была точно отмерена и выдана в сопровождении кивка и полуулыбки.
Хорошо еще, что Архаров не додумался до орденов, имеющих хождение внутри Рязанского подворья. То-то бы суеты вокруг них развел - иному давал, у иного отнимал. А ведь был уж близок к тому, когда с помощью Абросимова разбирал загадочные бумаги, найденные на месте ограбления. Сперва показалось было, что воскрес маркиз Пугачев и принялся в новых манифестах развешивать титулы и чины своему неграмотному воинству.
«Дом его сиятельства князя Федота Панкратьевича Ахлебаева, канцелярия, стол 2-й исполнительный» - так начинался первый документ, ввергший Архарова сперва в недоумение, потом в хохот: в России не было князей Ахлебаевых! Далее шла деловая переписка относительно зайца, принесенного кучером Степаном и гривенника в вознаграждение за оного зайца, занимавшая шестнадцать листов. Листы зачитал вслух Саша, присутствовавшие при сем Архаров, Шварц, Абросимов, Тимофей и Щербачев к концу уже едва не рыдали от смеха. На всякие шалости были горазды мелкие помещики, но устроить дом свой сообразно чуть ли не Сенату, на возвышенно-канцелярский лад, с присутствиями, столами, отделениями, слушаниями и резолюциями, включая ордер ключнице Фекле на изготовление жареного зайца, - до этого, пожалуй, один этот Ахлебаев и догадался.
Однако самозванец был симпатичен Архарову своим желанием расставить дворню по ступенькам, устроить для каждого систему наград и перемещений со ступеньки на ступеньку, словом - возбудить в людях своих желание хорошо служить, пусть и за ничего не стоящие почести.
Вот и сейчас Макарка прямо расцвел от столь редких в архаровском обиходе слов.
– Давай-ка, молодец, начни доклад, а бумагу я потом погляжу, - усугубил обер-полицмейстер свое благоволение.
Шестнадцатилетний Макарка приосанился и, стоя перед архаровским столом пряменько, как на параде, заговорил весьма бойко.
– Я, ваша милость, как велено, пошел на наружное наблюдение. Как господин Шварц учить изволил, сперва все оглядел, где парадные двери, где двор, где ворота, нарисовал карандашом, извольте…
Макарка добыл из кармана мятый листок и, несколько смутившись из-за его неприглядности, положил на стол.
– Вот так Столовый переулок, вот так - Скатертный, вот дом вдовы Огарковой, извольте видеть - переулки узкие и долгие. Вот тут двор, тут выход в Скатертный, а вот так и вот так можно дворами пробраться в Столовый.
– И ты там открыто лазил? - недовольно спросил Архаров.
– А я у господина Шварца в чулане ливрею взял, башмаки с белыми чулками, корзинку. Ходил, спрашивал - не забегала ли господская моська, знаете, ваша милость, есть такие гладкие, с плоскими рыльцами, и на ходу хрюкают.
– Шварц научил?
– Он, ваша милость, нас с Максимкой многому учит. Мы умеем вдвоем сопровождать! - похвастался Макарка. - А Демьян Наумович научил из кармана бумаги вытаскивать совсем неприметно…
Архаров решил про себя, что наука, конечно, для архаровца полезная, однако Демьяну Наумовичу следует дать хорошую оплеуху, чтобы не портил мальчишек. Тут же явилась другая мысль - отчего не Яшка-Скес, известный шур, обучает их воровским ухваткам, а именно Демка? Сразу последовал ответ: Яшка, повязанный круговой порукой, более или менее честно выполняет обязанности, и коли завтра велено будет архаровцев распустить, на его бледной роже не отразится решительно никакого страдания, он преспокойно вернется к прежней жизни; Демка же рвется вверх, желает добиться чинов и денег, вот и совершает благодеяния, о коих его никто не просил.
Для обер-полицмейстера эти хитросплетения человеческих интересов, эти запутанные связи между его подчиненными были куда занимательней французских романов, даже в артистическом чтении Клавароша.
– Продолжай, Макар Иванович…
Макарка улыбнулся - понял, что это обер-полицмейстерская неуклюжая шутка.
– Так, ваша милость, я там пошарил и три выхода сыскал. Этот господин Шитов, у которого наш человечек служит…
Архаров усмехнулся - паршивец прелестно скопировал интонацию бывалого полицейского.
– Так он во втором жилье комнаты снимает, и я со двора на окна глядел - там из крайнего окна можно запросто на крышу каретного сарая перебраться, только это не огарковский сарай, а соседский.
– И ты решил, что почтенный господин будет по крышам скакать?
– Так он и скакал же!
Вот тут Архаров и поднял наконец глаза от Макаркиного плана.
Глаза подчиненного не лгали - он точно видел, как немолодой француз благородной внешности, свидетельствующей о склонности к кабинетным занятиям, ночью выбрался в окошко, как ежели бы его в двери не выпустили, и дворами, огородами, закоулками отправился в сторону Козьего болота.
Это было еще одно недоразумение московской жизни - в трех шагах от Тверской доподлинное болото с прескверной репутацией.
Болото как таковое для холмистого города было не в диковинку - вот ведь и Балчуг по-татарски значит «болото», и на Неглинке, у самого Охотного ряда есть топкое место под названием Поганый брод, да и вспомнить, где казнили маркиза Пугачева… Но ни одно не обросло столь страшными преданиями.
Окрестные жители, тараща глаза, жутким шепотом сообщали о живущем на дне запущенных и заросших Патриарших прудов чудище, которое хватает и утаскивает под воду гусей, уток, даже свиней, что пришли на берег поваляться в грязи, даже тех пьяных дураков, что лезут туда искупаться. И вроде неглубоко, а шарить баграми бесполезно…
Архаров же полагал, что нечистая сила - сама по себе, а лихие люди, спускающие в болото труп загулявшего купца, сначала освободив его от одежды и от кошелька, - сами по себе.
Дурная слава болота каким-то загадочным образом увязывалась с его названием, о чем Архаров не знал. Были Козьи болота и в Киеве, и в Муроме, и в самом Санкт-Петербурге, каждое славилось своими пакостями. Московское, кроме всего прочего, еще и благоухало примерно так же, как Неглинка.
Было время, когда с этим злом пытались бороться - еще патриарх Иоасаф велел выкопать три рыбных пруда, питавшиеся подземными ключами, и таким образом осушил эту местность. Кроме всего прочего, выращивали там коз, на продажу шли и молоко, и шерсть, откуда и взялось название болота. Но император Петр Алексеевич избавил Россию от патриархов, ухоженная Патриаршая слобода захирела, за прудами не следили более, и болото вернулось на прежнее свое место. Отдельные его края были вовсе непроходимыми.
– Стало быть, ты провожал его до болота? - спросил Архаров.
– Нет, ваша милость, он раньше в дом вошел.
– Что за дом?
– Вот тут, - Макарка осторожно показал на план местности.
– А улица?
– Я приметы запомнил. Там церковь приметная.
– Прелестно. И что - ты ждал его у дома?
– Я, ваша милость, вздумал подождать на лавочке, - жалобно сказал Макарка, - там лавочка у ворот стояла, а я с раннего утра в наблюдении… Задремал, поди, а он либо там остался, либо как-то иначе вышел, либо я его не заметил… я до рассвета сидел, глядел…
Следовало выругать парня, но Архаров сдержался. Кабы он знал, что француз ночью в окно полезет, то велел бы наладить попеременное наблюдение, чтобы трое человек поочередно присматривали за домом вдовы Огарковой. И то еще диво, что Макарка торчал там до полуночи и увидел сию странную вылазку.
– Позови Арсеньева, Клавароша, Савина.
Архаров отдал Федьке донесение Макарки и отправил их обоих разбираться, в каком таком доме исчез господин де Берни. Жеребцов получил приказание наладить более основательное наблюдение за французом. От Клавароша потребовалось пространное описание всего, что он подметил при своем знакомстве с учителем.
Архарова более всего интересовано положение этого учителя арифметики в семействе отставного гвардейского полковника Шитова. Должен же быть какой-то договор с хозяином о труде и вознаграждении, а также об условиях проживания.
Сам он, не имея детей, никогда учителей не нанимал, но если бы нанял - первым делом запретил бы приставать к дворовым девкам, совершенно не заботясь, где француз будет удовлетворять амурные побуждения.
– Когда сам я служил в учителях, то кондиции были таковы: от хозяина кровать со всей постелью, две пары платья… Меня научили соотечественники, что надобно писать «купленное сукно», потому что эти господа могут приказать сшить кафтан из сукна… м-м-м…
Клаварош изобразил руками нечто вроде маятника.
– Сашка! - крикнул Архаров.
Саша, сидевший в соседней комнате, тут же явился.
– Клаварош, как это будет по-французски?
– Tisse sur metier a bras.
– По-русски?
Саша на мгновение задумался.
– Домотканый, поди, ваша милость.
– Не уходи. Клаварош, продолжай.
– Еще в кондициях пишут шубу, рубашки, башмаки, чулки. Будет или нет человек для услуг… Еда с господин… господского стола. Деньги - мне обещали сорок рублей в год, а когда окажу иные услуги, будет иная плата.
– Пишут ли что о домашнем распорядке - когда можно уходить со двора?
– Я не писал. А когда бы хотел покупать одежду сам - то платили бы восемьдесят рублей. Но проверяли бы, дабы одет был непостыдно моей должности, сукно на кафтан не меньше рубля аршин, шерстяные чулки и платье холстинное - не велено.
Архаров хмыкнул - зимой он сам предпочитал простые шерстяные чулки, потому что - поди знай, куда понесет тебя в ближайшие полчаса нелегкая из теплого кабинета…
– Ты, мусью, встреться-ка с тем кавалером еще раз. Пожалуйся - сыскал-де место, да только со двора уходить не велено, так не надобен ли его хозяевам кучер, который по уговору дважды в неделю будет по вечерам уходить на два, на три часа. Придумай что-нибудь - метреску-де завел…
– Я придумаю, ваша милость.
Отпустив всех, кого приспособил к слежке за учителем-французом, Архаров стал собираться в Пречистенский дворец. Нужно было доложить государыне, что она вольна переезжать в Коломенский дворец - он безопасен от всяких неприятностей, а заодно и уточнить время ее паломничества к Троице-Сергию. Кроме того, он был приглашен на обед.
Архаров уже освоился в обществе государыни, но прекрасно видел - чем-то не угодил, лицом ли, фигурой ли, и менее всего грешил на многословие, а князь Волконский тоже не догадался подсказать, чтобы подчиненный растолковывал императрице свои мысли менее дотошно - не с дурочкой же говорит, а с умнейшей дамой во всей империи.
Но тут бы он зря потратил время: отнюдь не сомневаясь в уме государыни, Архаров постоянно помнил, что она - женщина, а значит, существо, нуждающееся в руководстве, иначе наломает дров. Если сему очаровательному существу не объяснить все досконально - совесть замучает…
Государыня была занята делами, Архаров приготовился ждать. Во дворце толклось немало народу - иные званы на обед и прибыли заранее, иные - в каких-то непонятных надеждах, иные - и просто по службе, поскольку жили тут же, во дворце, и даже не имея на тот час никаких обязанностей, все равно околачивались среди знатной публики. Тем более, что при выходе государыни следовало присутствовать возможно большему числу дам и кавалеров, хотя к столу после этого отправлялось с ней человек сорок.
Архаров рассчитывал после обеда блеснуть своим умением играть в бильярд - если государыне угодно будет забавляться бильярдом, а не картами, шахматами или шашками. Чаще всего она, как ему уже было известно, играла в карты, но и к бильярду несколько раз подходила.
Ожидая, он внимательно оглядывал придворных, определяя по их поведению степень близости к государыне. И зазевался - не заметил, как рядом с ним встал отставной генерал-майор Шестаков. Жил он на Большой Дмитровке, Архаров знал его дом напротив Успенского храма, построенного добрых двести лет назад. С храмом постоянно возникала путаница - многие москвичи почему-то привыкли его звать храмом преподобного Сергия, хотя этому святому был устроен лишь один из приделов.
Шестаков явно был зван к обеду, и Архаров знал, за что старику такая милость - в Москве было недостаточно гостей классных чинов, так что и отставному генералу выпадала порой такая удача. Для такого случая их с самого начала собрали и представили государыне. Тут-то Шестаков и повеселил общество.
Екатерина Алексеевна считала долгом с каждым перемолвиться словом. Вот и Шестакову, когда он раскланялся, сказала любезно и с приятным сожалением в голосе:
– Я вас до сих пор почти не знала.
– Да и я, матушка государыня, вас не знал, - со всем московским простодушием объявил радостный Шестаков.
– Да где и знать меня, бедную вдову! - таков был немедленный ответ.
После чего всякое появление Шестакова в Пречистенском дворце уже вызывало у придворных любопытство: чем-то еще повеселит?
Один лишь Архаров вовсе не желал находиться в момент веселья рядом с невольным проказником. Ему все казалось, что общий смех относится и к тем, кто случайно оказался поблизости от Шестакова.
Не успел он отойти, как явилась государыня и пошла вдоль ряда красавиц, приседающих в реверансах, и склоненных в поклоне кавалеров. Многим говорила нечто благодушкое, делала вопросы, выслушивала ответы, завязалась некая общая беседа и, оказавшись рядом с Архаровым, императрица, продолжая ее, обратилась к Шестакову:
– А ваш дом где, Федор Матвеевич?
– У Сергия, государыня, - отвечал генерал-майор.
– Да где же этот Сергий?
Архаров забеспокоился - сейчас явится, что один и тот же храм имеет два прозвания, и не окажется ли, что полиция и за такими недоразумениями обязана следить?
– Против моего дома, ваше величество, - объяснил Шестаков.
Государыня несколько нахмурилась и, кивнув Архарову, прошла дальше, а оставшиеся у нее за спиной придворные тут же принялись шепотом перешучивать старика.
Пока он думал, что означает сей кивок, к нему подошли немолодые супруги, граф и графиня Матюшкины. Как-то мгновенно оказались рядом, всем видом показывая, что сопутствовали государыне и лишь на шаг от нее отстали в этом шествии.
Графиня Анна Андреевна и смолоду была собой нехороша, зато сообразительна, услужлива, и умела понравиться высокопоставленным дамам. Когда государыня тридцать лет назад вышла замуж за племянника императрицы Елизаветы Петровны Петра Федоровича и сделалась великой княгиней, к ней, кроме прочих знатных особ, была приставлена в качестве фрейлины молодая (в двадцать четыре года-то незамужняя!) княжна Анюта Гагарина. Она умудрилась явить свою преданность великой княгине и одновременно сподобиться благосклонности императрицы. Просидев в девках до тридцати двух лет, княжна вдруг нацелилась на жениха, который мог почесться первым при дворе красавцем, хорошего рода, хотя шалопай. Анна Андреевна сумела привлечь к делу своего сватовства саму императрицу и благополучно сделалась госпожой Матюшкиной. Эту историю Архарову рассказал Шварц - он немало помнил приключений из прежнего царствования. Супруга ее восемь лет спустя возвел в графское достоинство австрийский император Франц, так что Дмитрий Михайлович стал графом Римской империи - кстати, не единственным в России. Государыня же Екатерина в день своей коронации пожаловала бывшую фрейлину в статс-дамы.
Архаров недолюбливал большой свет. Ему все казалось, что он забавляет этих богатых и высокомерных господ. Скрывая волнение, он старался быть безмолвным, как каменный истукан, но вдруг срывался в какую-то потешную суетливость, которая самого его изрядно бесила. Однако с этими супругами следовало взять весьма сдержанный тон - что бы ни толковал Михайла Никитич, а государыня их за что-то недолюбливала.
– Что, батюшка Николай Петрович, все сервиз мадам Дюбарри ищем? - вдруг спросил граф. - Наслышаны, наслышаны! Сказывали, изумительной работы сервиз, полировка - истинное художество… Мы с Анной Андреевной уж об заклад бились, я ваш давний почитатель, говорю ей - сыщет господин Архаров сервиз! Так она мне сказывает - нет, да и только.
Графиня молчала, не оправдываясь.
Архаров безмолвно послал чересчур разговорчивого отставного сенатора Захарова к монаху на хрен.
– До сей поры вы все покражи на Москве находили, - продолжал граф, - так Анна Андреевна и полагает, что именно этого орешка вам не раскусить! Не все ж кумплиманы выслушивать… а я, батюшка, в ваш талан верю и хоть сейчас готов государыней дарованную табакерочку против оловянной пуговки поставить, что коли тот сервиз доподлинно в Москве - вы его из-под земли откопаете!
Архаров знал про себя, что чрезмерно подозрителен. Но обвисшее лицо отставного красавчика ничего хорошего не выражало, голос был фальшив и ехиден. Супруга, опытная по части продворных контр, молчала и улыбалась. При ней никак нельзя было высказаться по-мужски.
Эта парочка совершенно испортила Архарову удовольствие от обеда, и без того невеликое.
В довершение неприятностей, государыня неважно себя чувствовала, куталась в большую накидку поверх широкого платья на русский лад, и о бильярде не могло быть и речи. Доложить - доложил, а блеснуть не удалось. Может, и к лучшему - потом, уже едучи к Рязанскому подпорью, Архаров сообразил, что у него хватило бы дурости обыграть императрицу, а сие придворному успеху мало способствует.
Да еще чета Матюшкиных… Теперь весь двор будет знать, что Архаров ищет блудный золотой сервиз. Есть он в Москве, нет его в Москве - уже безразлично, может, он и вовсе в каком-нибудь Лиссабоне, но если обер-полицмейстер к Троице его не найдет - позор обер-полицмейстеру!
Чтобы уж было одно к одному, он принялся вспоминать все свои служебные упущения за последнее время, готовясь устроить нагоняй виновникам, и вспомнил-таки кое-что весьма подозрительное.
Явившись в кабинет, Архаров потребовал к себе Тимофея, Демку и заодно уж Федьку с Ваней Носатым - всех четверых, кого он застал недавно на дворе обсуждающими несуразное появление Тимофеевой жены.
Ваня поспешно явился из нижнего подвала в кожаном фартуке на голое тело. Уж что они там со Шварцем затевали - и подумать было жутко.
После комической Ваниной попытки жениться на брюхатой девке Архаров все думал, как бы ему помочь. Он знал цену честной службы, он видел, что Ваня делает то, что ему малоприятно, однако трудится на совесть и в дуростях не замечен. И Архаров остро ощущал несправедливость судьбы по отношению к Ване - мужик отрекся от своего дурного прошлого, стиснув зубы, выдерживает непростое обязательство круговой поруки, но дороги наверх из нижнего подвала ему нет…
Прочие пришли не сразу (Архаров в иное время удивился бы, что они околачиваются в полицейской конторе, а не занимаются делом), получили нагоняй за промедление, возразить не осмелились. Архаровцы уже подметили - налеты на высший свет обычно так и завершаются, командир недоволен, орет на правого и виноватого.
Архаров оглядел их всех, стоящих перед ним в ряд.
– Тимоша, ты уж которую неделю у Марфы живешь, что - приходила твоя дура?
– Нет, ваша милость, не приходила, - отвечал тот, даже не поправив начальство: счет его проживанию у Марфы еще не приходилось вести на недели.
– И нигде более не появлялась? И у острога ее не видывали?
Ответа он не дождался.
Тимофей насупился - уж он-то должен был хоть до острога добежать, предупредить солдат, чтобы гнали бабу взашей. Ваня Носатый стоял прямо, а глазами косил то на Тимофея, то на Демку. Демка же уставился в пол, и на остроносой рожице было сильнейшее недовольство. Как ежели б обер-полицмейстер встрял не в свое дело.
– А странно, братцы, что Тимофеева баба так и не появилась, - глядя не на всех, а на одного лишь Демку, сказал Архаров. - Ни в остроге, откуда бы ее к нам послали, ни сюда прибрела, ни Марфе глазыньки выцарапывать… Диковинно все это.
– Ваша милость, баба простая, дура, потерялась на Москве, кого спрашивать - не знает, - тут же бойко ответил Федька, и Архаров подивился остроте его чувства: Федька, который в этом деле был вовсе ни при чем, уловил опасность, нависшую над товарищами, по одному лишь прищуру начальства, и тут же ринулся на защиту. Круговая порука!
– А может, прижилась где-то, - предположил Демка. - Пустили на чей-то двор, поладила с хозяевами. Или умные люди искать отговорили, домой побрела.
– Оно бы неплохо, - вздохнул Тимофей. - Чтобы от меня отвязалась…
В кабинете отчетливо повеяло враньем. Следовало кончать церемонии да говорить с этими господами так, как они разумеют.
– Ты, Демка, клевый шур, да только верши! - Архаров повысил голос. - Ты Тимофееву елтону к Китайгородской стене ночевать послал, в пустые ряхи, сам со мной поехал, ночевать не остался, я знаю. Куда ты с Пречистенки среди ночи ухлял? Кубасью укосать вздумал?
Это было прямым обвинением в убийстве.
– Да режь ухо - кровь не канет! - вдруг диким голосом заорал Демка.
Федька только рот разинул, что лишний раз подтвердило его слабое знакомство с миром шуров и мазов.
Тимофей же хищно оскалился.
– Не там шаришь, талыгай! Он масовской елтоны не косал! Он - шур, шуры не жулят!
При такого рода светских беседах главное было - чтобы не вломился кто посторонний.
– Так где басвинска елтона скоробается? - спросил Архаров Тимофея, мало внимания обращая на готового снова вопить и рвать рубаху на груди Демку.
– А хрен ее знает! - отвечал Тимофей. - Где б ни скороблялась - лишь бы от меня подале!
– Ага, - согласился Архаров. - А лучше всего - в царствии небесном. Вы мне вершите! Чтоб отыскали кубасью и мне живую показали. И без обмана! Я ее харю помню. Пошли вон.
Все четверо молча выперлись из кабинета.
Архаров крепко задумался, чувствуя, что вроде приходит в себя и после придворных реверансов, и после крика.
Ему нравились они оба, и рассудительный хозяйственный Тимофей, и не в меру шустрый Демка, за которым порой, как на поводу, тащился Федька. Однако полицейского, который из лучших побуждений прирезал ночью бабу, Архаров у себя держать не желал. Он знал - коли среди архаровцев начнутся такие опасные дурачества, то все бывшие мортусы тут же вспомнят прошлое, и удержать их от безобразий станет уже невозможно.
Заглянул Шварц с исписанными листками - результатом длительного допроса убийцы, чья вина подтверждалась множеством свидетелей, и лишь некоторые важные подробности были пока неясны.
– Жив? - имея в виду убийцу, спросил Архаров.
– Водой отливают. Ваша милость, там Костемаров и Арсеньев выражаются неудобь сказуемо, Савин слушает и соглашается. Вашу милость поминают пертовым мазом.
– Знаю, Карл Иванович.
Шварц помолчал, ожидая объяснений. Но не дождался. Архаров не хотел раньше времени настраивать немца на следствие в недрах самого Рязанского подворья.
– Я вижу, вас одолевает некое сомнение, - сказал Шварц.
Архаров промолчал.
– Сомнение должно быть не более, чем бдительностью, иначе оно может стать опасным, - с таковым афоризмом Шварц поклонился и ушел.
Архаров посидел еще немного и понял, что ни черта путного сегодня не сделает. Хотя дел и забот было превеликое множество. Настроение испортилось совершенно. Следовало отдохнуть…
В столе у него лежала карточная колода. Это были модные итальянские карты, «зеркальные», в которых одна половина как бы отражалась в другой, тонкой гравировки. У обер-полицмейстера прямо руки чесались разложить хоть простенький пасьянс. И был такой - назывался «Простушка».
Прежде, чем стасовать колоду, Архаров раскидал ее по столу.
Разлетелись по красному сукну, занимая отведенные им места, короли - Александр, Давид, Цезарь, Шарлемань с боевым топориком. Явили свои высокомерные красивые личики дамы, особо хитро скосил на обер-полицмейстера глаз червовый валет Ла Гир.
Архаров собрал их воедино, выложил из карт большой крест рубашками вверх, стал открывать их, перемещая и добывая недостающие из колоды. Всякий король оказался при даме: Давид вступил в краткосрочный союз с Рашелью, Шарлемань - с Лукрецией. Для тех, кто умеет раскидывать карты на судьбу, эти союзы были полны тайного значения. Архаров не умел - но каким-то предчувствие, предвестием потянуло вдруг от разноцветных фигурок. Александр Македонский накрыл собой красавицу Юдифь… вспомнилось то немногое из древней истории, что неизвестно зачем застряло в голове: Юдифь кому-то отрубила голову. Вряд ли, что отважному воителю Александру, но все же…
Пасьянс не ладился, и Архаров снова сгреб карты, сбил их в ровную колоду.
– Кто там толчется? Заходи! - крикнул он.
Невзирая на хандру, приходилось, встряхнувшись, заняться делами.
* * *
Федька также был в хандре.
Когда Архаров решил произвести облаву во всех китайгородских хибарах, захватив при этом бараки чумного бастиона, Федька сразу догадался - дело не в том, что поблизости от Кремля угнездилась всякая подозрительная шелупонь. Там можно встретить нищих, которые пособляют мазам и шурам, там можно встретить юродивых, девок можно встретить, на которых и плюнуть-то погано. Эта публика, зная, что в Москве гостит государыня, затаилась - кому охота спознаться лишний раз с батогами или розгами?
Очевидно, Архаров полагал найти след Тимофеевой жены.
Федька безмерно хотел, чтобы эта дурная баба отыскалась наконец вместе с детишками, чтобы Тимофей получил причитающийся нагоняй и чтобы все это дурацкое дело забылось. Но он подозревал, что баба пропала основательно, и крепко чесал в затылке. Амузантная история о том, как Тимофея настырная жена отыскала, да как он от нее по закоулкам прятался, грозила превратиться в совсем неприятное дело. Тем более, что Архаров еще не взялся его раскапывать. А как возьмется…
Когда кто с кем в чумную пору живет в одном бараке, ездит на одной фуре, да еще плечом к плечу орудовал крюком, отгоняя взбесившихся фабричных от бараков с больными, то возникает связь хуже всякого родства - родственника и послать через два хрена вприсядку нетрудно, а тут куда пошлешь? Совесть ведь тоже быть должна…
Сильно огорченный этой историей и предвидящий для друзей новые неприятности Федька отправился с Макаркой разбираться - где пропал этот таинственный господин де Берни.
Следуя по Макаркиным указаниям и сверяясь с приметами, они оказались на Спиридоновке. Это была улица хоть и старая, однако с домами относительно молодыми. Еще при царе Петре Алексеевиче на соседнем Гранатном дворе взорвалась пороховая казна, от чего начался жестокий пожар. Прежняя Спиридоновка вся выгорела, и ее до сих пор толком не застроили. Селился тут разный народ - в основном люди не бедные, а ближе к Никитским воротам - и вовсе начали ставить свои обширные усадьбы знатные дворяне.
– Дальше куда? - спросил Федька.
– Вот церковь!
– И что - церковь?
– Колокольня приметная - как три стопки, одна на другой. Я так и продиктовал. И луковка сверху совсем крошечная.
– Церковь ты, стало быть, признал, - невольно в разговоре с младшим подражая спокойствию Архарова, сказал Федька. - А от нее куда?
– Так не от нее, а к ней… - Макарка задумался. - Я когда обратно шел, ее приметил, когда прошел мимо того вон двора… сбился с пути малость, темно же…
Они малость покрутились вокруг Спиридоньевской церкви, единственного на Москве храма, что носил имя этого святого, и нашли искомый двор. Он оказался владением графов Воронцовых и как раз занимал часть немалого пустыря, что возник после пожара между Спиридоновкой и Гранатным переулком.
Гранатный двор погорел не весь - остались от былого великолепия каменные руины в самом начале Спиридоновки. Москвичи неохотно наводили на улицах порядок - пока ни у кого не дошли руки до этого приземистого здания, выстроенного «глаголем», в два жилья, с остатками крыши.
К ним-то и вывел Федьку Макарка, предварительно заплутав меж какими-то курятниками.
Федька что-то такое слышал, вроде бы этот край участка принадлежал братьям Орловым, а может, и не этот вовсе. Был бы тут Демка, знавший Москву вдоль и поперек, - у него бы спросили, но Демку Архаров отправил по иному делу.
– Здесь и сгинул, - показал рукой Макарка.
– Здесь же не живут… - с сомнением глядя на заброшенный дом, отвечал Федька. - Сам погляди - сюда и входить-то страшно. Вон, трещина по стене пошла…
Они уставились на древнее здание, столь отличное от новых особнячков и усадеб на Спиридоновке. Хотя оно стояло грязное, закопченное и годное разве что на слом, но светилось на стенке сине-зеленое пятнышко - остатки нарядного изразца. И небольшие оконные проемы, и карнизы, и крыльцо, и каменные трубы-дымники - все было стародавнее, являло образ той Москвы, которой почитай что не осталось более.
– Так, может, он туда проскочил? - Макарка показал пальцем направление.
– Куда тебе туда? Там какое-то учреждение, поди, - глядя на довольно новое здание, сказал Федька. - Ну-ка, сбегай, разузнай.
Пока Макарка бегал, он прошелся взад-вперед, прикидывая, куда мог подеваться ночью на этом страшном пустыре не имеющий фонаря человек.
– Там канцелярия и полковой двор Преображенского полка! - доложил Макарка.
– Ну и на хрена ему туда ночью ломиться?
По всему выходило - странный француз зачем-то притащился в опасную и грозящую рухнуть ему на голову руину. Может статься, у него тут была назначена встреча - только вряд ли что амурная. Весьма неприятно было бы в самый сладостный миг быть погребенну под древними сводами, не выдержавшими любовных сотрясений…
Вообразив себе сие печальное зрелище, Федька засмеялся.
Стало быть, господин де Берни либо прятал тут нечто, либо с кем-то встречался, и вероятнее, что второе. Место такое, что никто туда без особой нужды не полезет. В первом жилье стены, поди, еще довольно крепкие… подвал?…
Федька знал, что при любом пожаре подвал скорее всего уцелеет. Сам лазил по опасным подземельям, когда выслеживали шулерский притон. Вспомнилась Варенька…
Он еще раз посмотрел на стены, сложенные из старого крупномерного кирпича, и представил, каковы могут быть своды в том подвале.
– А посмотрим? - спросил Макарка.
– Не сейчас. Глянь - люди ходят, тут же начнут нос совать. А тут дело такое… - Федька сдвинул брови, придал лицу серьезный вид и завершил: - Государственное.
Оно и впрямь было государственным - если де Берни, уцелев после разгрома притона, вновь пожаловал в Москву - то вряд ли с целью пожертвовать миллион серебром на воспитательное заведение господина Бецкого. Он, скорее всего, рассчитал, что на праздник съедется множество народу, в том числе и дикие помещики из Заволжья, привыкшие самовластно править в своих владениях размерами с какую-нибудь Данию либо Померанию, но совершенно беззащитные перед опытным карточным обманщиком. Но помещики - свои, а вот иностранные дипломаты, коли будут ограблены шулерами, крик поднимут великий.
Как бы то ни было, Федька уже набрался довольно осторожности, чтобы не лезть напролом, а сперва хотя бы узнать, встретился ли Клаварош с этим причудливым господином де Берни да узнал ли что любопытное.
Время было обеденное - может статься, Клаварош сидел у Марфы. А стряпала она замечательно - коли прийти, когда подает на стол свои знаменитые щи, так ведь голодным не отпустят…
Федька завертелся в поисках желтого пятна. И вскоре высмотрел его там, где сходились Гранатный переулок и Спиридоновка.
Извозчикам было велено красить свои экипажи в желтый цвет, чтобы тем отличаться от господских выездов. Те же, кто экипажа не имел, а выезжал зимой на санях, а летом на дрожках, обязывались зимой носить желтую шапку, летом повязывать желтую ленту на шляпу, и вдобавок поверх кафтана носить желтый широкий кушак.
Добежав до извозчика и остановив его, Федька велел Макарке тоже сесть на дрожки.
Извозчик был не слишком доволен тем, что придется везти архаровцев - они не больно-то любили платить за проезд, хотя стоил он довольно дешево - от архаровского особняка на Пречистенке до полицейской конторы всего пятак, в том случае, если бы кому из архаровцев припала охота с ним расставаться.
Но ссориться с полицейскими было опасно - они могли вдруг вспомнить про все указы государынь Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны касательно извозчиков. Этих указов никто не отменял, а разве что царствующая государыня прибавляла к ним все новые и новые. Иной дядя Порфирий, выросши под пузом у лошади и наплодивши детей, не слезая с облучка, только от архаровцев и узнавал вдруг, что уж тридцать лет как велено, ежели кто на резвых конях ездить будет, тех через полицейские команды ловить и лошадей их отсылать на конюшни государыни. Кроме того, был особый указ, подтверждающий это распоряжение и впридачу запрещающий браниться.
Федька довез Макарку до Рязанского подворья, авось там кому-либо понадобится, велел переодеться попроще, взять Никишку, если тот свободен, и побродить вокруг руины, если же народу рядом не случится - залезть туда осторожненько и выяснить, в каком состоянии дом и подвал. Особо наказал быть поосторожнее - ежели их завалит, откапывать некому. Сам он поехал в Зарядье - искать Клавароша.
Благоухание щей Федька учуял еще за калиткой.
Но француза дома не случилось - исполняя архаровское приказание, он всячески старался подружиться с загадочным учителем и, очевидно, угощал его обедом в каком-либо трактире - в той же «Татьянке», где архаровцев привечали, или в «Ветошной истерии», или еще где.
Марфа уже усадила за стол и девчонку Наташку, и инвалида Тетеркина - она не любила кушать в одиночестве.
– Хлеб да соль! - сказал Федька, входя и крестясь на образ Богородицы.
– Хлеба кушать, - вежливо пригласила Марфа. - Садись, молодец. Наташка, дай ему миску побольше да ложку.
Инвалид Тетеркин, поздоровавшись, отрезал настоящий, правильный ломоть хлеба - во всю ширину ковриги.
А вот дальше был уже доподлинный позор всему архаровскому воинству…
Хитрая Марфа поняла, что коли Федька хочет потолковать с Клаварошем с глазу на глаз - то стряслось нечто значительное. Тут она, с одной стороны, сама себя перехитрила - ей и в ум не взошло, что все дело в ее замечательных щах.А с другой - разжилась новостями полицейской жизни, до коих была большая охотница. Стоило же ей это немногого - дала знак домочадцам, и тут же к Федьке по столу поехали миски и плошки, встала и стопочка с водкой.
Ну что за щи, если им не предшествует эта самая стопочка, если в стопочке нет водки, настоянной дома на травах - ну хоть на том же тысячелистнике? Федька даже забыл от блаженства о своем весьма прохладном отношении к Марфе. Да и можно ли не любить хозяйку, которая наливает таких пахучих щей, с мясом, с грибочками, со сметанкой, с луком и чесноком, густых из-за разумно добавленной мучной подболточки?
– Жаль, что Клавароша где-то нелегкая носит, - сказал он, опрокинув стопочку, закусив соленым рыжиком и приступив с большой ложкой к этим роскошным щам.
– Да самой обидно, душу в них вложила, - отвечала Марфа. - А он и не пришел. Ну, хорошо хоть ты пожаловал, есть кому похвалить, потешить мою душеньку.
– А что, Тимофей не у тебя столуется?
– Ночует, а объедать не желает. Я ему уж говорю - да плати ты мне хоть рубль в месяц, и будет тебе знатный обед. Нет, уперся. Боится он меня, что ли? А вчера так вовсе приплелся злой, как черт, разговаривать не пожелал. По службе у него, что ли, неприятности?
– Баба эта, из-за которой Тимофея у тебя поселили, куда-то запропала, ни у тебя появилась, ни у нас, ни в остроге, куда ее посылали. Господин Архаров уже говорил - на тот свет, поди, отправилась.
– Ахти мне! - воскликнула Марфа. - Этого еще недоставало!
– Дура пропала, и с детишками своими вместе, а господин Архаров полагает, что либо Демка ее прикосал, либо Тимошка, либо оба разом. А какого хрена?!
– С детишками? - удивилась Марфа. - Про них-то Тимоша и не сказывал. Ну-ка, Феденька, что за детишки такие? А ты что смотришь? У Феди стопка пустая, подливай!
Это относилось к инвалиду Тетеркину.
– Как не сказывал?
– Да из него лишнего слова не вытянешь. Что за детишки-то с ней были?
Федька не ответил прежде, чем растаяло во рту наслаждение от очередной ложки изумительных щей.
– Парнишка с ней был и девочка. Девочка маленькая… - Федька задумался, припоминая, как беседовали об этом взволнованный Демка и сильно недовольный Тимофей. - Паренек вроде нашего Никишки, годков двенадцати…
– Тимоша ее пальцем не тронул, - сразу объявила Марфа. - Коли с ней дети были. Даже когда бы он супружницу удавил или прирезал, куда-то должен был бы детей пристраивать. А мужики по этой части все, как один, неуклюжие. Вся Москва бы знала, что архаровец с двумя детишками носится. Да и Демка… И Демка вряд ли бы бросил Тимофеевых деток, как щенят…
Но в голосе Марфы было некоторое сомнение.
– Демка хитрый, у него на каждой улице по мартоне, мог к кому-то тут же отвести. Марфа Ивановна, наш пертовый маз точно на Демку думает! Он же ночью для чего-то с Пречистенки сбежал?
Федька наконец-то смог излить все свое огорчение, всю тревогу за друзей.
– Да уж поняла… Теперь им обоим одно спасение - чтобы жена с детишками нашлись. Коли они вообще когда сыщутся… Иван Львович мой сказывал, хотите у китайгородской стены облаву делать?
Иваном Львовичем она звала Клавароша - потому что как иначе кликать Жана-Луи?
– Болтуна бы придержал! - разозлился на Клавароша Федька. - Этак через день все Зарядье будет знать про облаву!
– Нишкни! - прикрикнула Марфа. - Я вот по сей день такое помню - у всей Москвы волосы дыбом встанут, коли заговорю! А вот молчу же! Ты бы так молчать выучился, смуряк обвиченный!
Федька уже знал - когда баба с норовом, вроде Марфы, уткнется кулаками в бока да раскрывает рот, надобно съежиться и сидеть кротко - покуда не кончится ненастье. Чем больше скажешь поперек - тем дольше она будет буянить. Этак и до битья посуды недалеко.
Потому он смиренно молчал, пока Марфа поминала свои былые подвиги да хвалилась Каиновой выучкой.
– Так что я бишь толковала? Про облаву! - вспомнила она. - Коли Тимофееву бабу прирезали или удавили той ночью, так ведь не на глазах же у деток. Коли Демка приходил - так он ее из хибары выманил, куда-то отвел, да так хорошо отвел, что по сей день тела не подняли. Он шур ведомый, он еще не все свои хитрости господину Архарову раскрыл! Но, сдается мне, он за детками сразу же не пошел, детки-то увидят и заплачут: где наша матушка? Может статься, он за ними Тимофея прислал. Или еще кого. А вот теперь поразмысли. Демка в тот вечер поехал сперва к господину Архарову. Был он на Пречистенке, пока господин Архаров не угомонился. Потом обратно побежал, а путь неблизкий, а светает рано. Да пока еще отыскал ту хибару…
– Марфа Ивановна, ты что такое городишь?! Не убивал Демка Тимофеевой жены! - воскликнул Федька.
– Кыш отсюда! - крикнула Марфа Наташке и инвалиду Тетеркину, которые весьма внимательно слушали разговор. - Ишь, затаились!
Домочадцы убрались от греха подальше.
– Молчи, Федя, я то знаю, чего ты не знаешь. У Тимофея зазноба завелась. Он, когда у меня ночевал, за наливочкой проболтался. Он и жениться на ней думает. Коллежского регистратора вдова, по прозванию Волошина.
– Не та ли, у кого Шварц комнату снимает?
– Она самая. Он как раз голову ломал, как двоеженства избежать. И Демка про то знал. Потому оба и переполошились - ну как законная-то дура заявится к зазнобе? Только Архарову не сказывай.
– Что ж они мне не сказали? А я-то, дурак, не пойму - чего они перескудрошились!…
Марфа посмотрела на Федьку очень выразительно, но он не понял взгляда.
– Так о чем это я? - продолжала она. - Облава! Нищие, что в хибарах живут, встают рано - им к церквам расходиться, к всенощной, за подаянием. Может, кто приметил - не бабу, ну ее к бесу! Детишек, парнишку и девочку. Бабы там такие околачиваются - клейма ставить негде, кто на них глядеть станет? А детишек, что мамку искали, могли запомнить. А, может, кто их и прибрал, когда с дитенком - лучше подают.
– Облопался наш Тимоша… - горестно сказал Федька. - Пертовый маз с ним круто разберется, коли так… Да и с Демкой…
– Помяни мое слово, Демка все это без Тимофеева ведома проделал, - убежденно произнесла Марфа. - Я ж тебе толкую - некогда ему было за Тимошей бегать, майская ночь короткая, он сперва ту елтону укосал, а потом уже Тимошу отыскал.
Федька вздохнул - у Марфы все получилось весьма складно.
– Послушай, молодец, - сказала она, как бы сжалившись, - а спроси-ка ты у Тимоши их приметы. Я-то во многих домах бываю и со многими людьми дружбу вожу. Глядишь, хоть детишек отыщем.
– Я к тебе кого-либо из парнишек с запиской пришлю, - отвечал Федька. - Не может быть, чтоб Демка!
– Худо ты своего Демку знаешь, - вздохнула Марфа. - Мало ли, что шур? Шиварища выручить - святое дело…
– Шуры не жулят.
– При нужде - ох как жулят…
И Федька, знавший мазовские и шуровские правила главным образом по рассказам, смутился - Марфе-то виднее, может шур пустить в ход острый жулик, или даже ради спасения жизни не нарушит закона.
На вторую перемену Марфа подала жареную рыбу, на третью - толстые оладьи с медом, на четвертую - сладкую рисовую кашу на молоке и с корицей. Словом, накормила на славу.
Пожалев еще раз, что не встретился с Клаварошем, Федька засобирался прочь. Марфа тут же догадалась, как его использовать, - сложила в миску горячие оладьи, масленые, румяные, полила медом, увязала в холстинку и наказала, что коли Клаварош в полицейской конторе - пусть без промедления съест!
Федька и поспешил, почти побежал, невзирая на избыточно сытое брюхо: не хотел, чтобы его с этим узелком видели. Вот и не приметил, как на углу Псковского и Ершовского переулков проводил его взглядом Яшка-Скес. Правда, Яшка, увидев издали фигуру в знакомом мундире с медными пуговицами, заранее отступил в сторонку - ему вовсе незачем было слушать Федькины расспросы.
А меж тем он раздобыл кое-что любопытное.
Феклушка по его просьбе расспрашивала окрестных баб, а здешняя баба встает рано и видит много. Опять же - Марфа вызывала у соседок немалое любопытство, замешанное на изрядной недоброжелательности. Рассуждая о ее подвигах, каждая старая перечница ощущала себя чуть ли не ангелом небесным. И потому Феклушкины язвительные расспросы никого не удивили. Выяснилось - к сводне кто-то повадился шастать по ночам. И она того человека привечает в старой летней кухне на краю огорода. Прямо в сорочке к нему и выходит, из чего нетрудно вывести - знакомы они весьма близко. Видели, как он оттуда уходит, но лица не разобрали - шляпа ниже бровей надвинута.
Это Скес еще мог понять - Марфа для чего-то встречалась с одним из бывших своих избранников. Но беседы на огороде никак не объясняли десяти грязных чашек из-под кофея. Да и путешествий в карете графа Матюшкина - тоже.
Приласкав Феклушку и попросив ее присмотреть за Марфой, Скес уже собрался прочь из Зарядья, да едва не налетел на Федьку. Пропустив его вперед, Скес пошел за ним следом и прибыл к Рязанскому подворью ровно две минуты спустя.
Там Архаров сводил воедино все полученные о господине де Берни сведения.
Француз признался Клаварошу, что в доме большие строгости, но для чего ему по ночам уходить, какие такие дела завелись у него в Москве - старательно скрыл. Клаварош доложил также, что лишнего этот господин де Берни не говорит, и при расспросах, давно ли в России, преловко сворачивает на другие материи. Притом и руки у него удивительно шустрые. Жеребцов донес, что ночью у дома вдовы Огарковой поставит более основательное наблюдение. Федьку, едва увидев его на крыльце, Абросимов тут же погнал к начальству. Его донесение о руине на Спиридоновке дополнило общую картину.
– Стало быть, Жеребцов, действуем так. Когда наш мусью вдругорядь ночью в окошко полезет, следить за ним, и как поймешь, что он на Спиридоновку собрался, - тут же хватай, вяжи. И тут же шли человека сюда… Федя, надобно там все обшарить.
– Уже послал Макарку с Никишкой, ваша милость! Через час, поди, явятся! - доложил Федька, страшно довольный, что опередил мысль Архарова.
Обер-полицмейстер невольно улыбнулся.
– Мусью Клаварош, каков из себя этот учителишка?
– Фигура… - француз изобразил длинными руками нечто настолько знакомое, что архаровцы чуть ли не хором воскликнули:
– Устин?!
– Прелестно. Как только Жеребцов хватает этого затейника, тут же Устин идет к Гранатному переулку. Переодевать его в снятое с француза платье не станем - ночь, кто там разбираться будет, да и трата времени изрядная. Одеться всем для вылазки попроще, мундиры поберечь! Нужно позаботиться о знаках… Мусью, что ты торчишь, как Ивановская колокольня, сядь к столу. Сашка! Приготовь бумагу, будешь рисовать!
В архаровском хозяйстве имелось немало карт, более или менее подробных, отыскали нужную, Саша взял карандаш, и четверть часа спустя был составлен план действий.
* * *
Очевидно, господин де Берни не каждую ночь отправлялся на поиски приключений. Присмотр за ним наладили превосходный, и дом вдовы Огарковой в Скатертном переулке охраняли так, как, пожалуй, и саму государыню не охраняли. Узнали много занятного про вдову, про ее любовника, про семейство отставного гвардейского полковника Шитова, составили расписание - когда француз занимается с мальчиками математикой, когда - рисованием.
Архаров был в гостях у Волконского и застрял допоздна - его-таки усадили за карты. Около полуночи он собрал выигрыш и стал прощаться с хозяевами. Князь и княгиня пожелали ему приятной и спокойной ночи.
Внизу его ждал не тольку кучер Сенька с лакеем Иваном, но и Клашка Иванов.
– Ваша милость, он из окна полез!
– И куда потащился?
– Да к Козьему болоту и потащился! Только с сарая неудачно соскочил, хромает. Устин Петров у Спиридоньевского храма спрятан, знака ждет. Все как велено!
Архаров вдруг понял, что спокойной ночи у него не будет.
Он был злопамятен - и не забыл, что господин де Берни загадочно исчез из шулерского притона, как вода в песок, как снег на горячей сковородке! Карточная игра немного взбудоражила его, выигрыш обрадовал и привел в занятное состояние - Архарову казалось, что сейчас его во всем ждет удача. И прямо руки чесались - грохнуть кулаком по красному сукну кабинетного стола, чтобы стоящий напротив господин де Берни от страха начал заикаться.
– Ты верхом? - спросил он Клашку.
– Да, ваша милость, на Сивке.
– Прелестно… Ну-ка, братец, - это относилось к лакею, прислуживавшему в сенях, - беги наверх, пусть его сиятельство велит оседлать для меня какую ни есть клячу!
По Клашкиной улыбке Архаров понял - полицейские будут весьма рады, если он примчится сейчас на подмогу.
Эта радость имела давнее происхождение - родилась она в ту ночь, когда мортусы брали штурмом ховринский особняк. Архаров сильно удивил их тем, что напялил дегтярный балахон и первым пошел махать кулаками. И она просыпалась всякий раз, когда он, в кабинете своем - неподвижный, строгий и сердитый, вдруг срывался, оживал, забывал про осторожность, плевать хотел на субординацию, кидался вместе со своими архаровцами в какое-то неожиданное побоище. Этим он словно подтверждал свое право быть их командиром. Да и как иначе?
На своем посту он оставался гвардейским офицером. А офицер должен сам водить солдат, которых вышколил на плацу, в атаку, иначе грош ему цена. Сие немудреное правило Архаров помнил, как «Отче наш». Не всегда, конечно, возникало желание среди ночи вскакивать, куда-то нестись, но уж когда возникало - он давал себе волю…
Наверху возник спор из-за клячи. Елизавета Васильевна хотела дать Архарову лучшую лошадь с конюшни, князь же Михайла Никитич знал, что кавалерист из Архарова никудышний, давать ему дорогую верховую лошадь - значит, сразу служить по лошади панихиду. Поэтому князь велел оседлать спокойного старого мерина, да поскорее.
Карету свою Архаров отправил домой, а сам с Клашкой Ивановым поскакал в сторону Спиридоновки. По дороге дважды останавливались по требованию десятских. Увидев обер-полицмейстера, они уж не спрашивали, отчего эти ночные путники без фонаря.
Ехать было недалеко. Сразу за Никитскими воротами они спешились и повели коней в поводу. Главное было - не поднимать шуму, для того Архаров и отказался от кареты. Через сотню шагов Клашка подал знак пронзительным кошачьим мявом.
Архаров не имел такой привычки к ночной жизни, как его подчиненные, и видел в темноте куда хуже шустрого Клашки. Тот повел его к последней уцелевшей руине Гранатного двора, но не прямо, а в обход, со стороны Спиридоновки. Там шагов через тридцать их встретил Тимофей. Он тоже словно бы не замечал темноты.
– Ну, что? - шепотом спросил Архаров.
– Устин пошел через двор. Они, коли следят, должны его видеть.
– Точно ли они будут ждать в подвале?
– А боле негде. Парнишки все облазили, говорят - наверху только мышам ходить можно, коту уже опасно. Сами чуть из верхнего жилья в нижнее не провалились, Макарка Никишку вытаскивал.
– Веди…
– Держитесь за меня, ваша милость, тут колдобины…
Отдав поводья Клашке, Архаров сердито отодвинул протянутую Тимофееву руку.
– Ступай вперед, я за тобой, - велел он.
Эта часть бывшего Гранатного двора уже заросла могучим неукротимым бурьяном, стволы его были чуть не с большой палец толщиной, и Тимофей, чтобы не возникло избыточного шуршания и треска, продвигался медленно. Вдруг он остановился, и Архаров, не ожидавши этого, налетел грудью на его широкую спину.
– Так и есть, ваша милость, - прошептал Тимофей. - Там свет сейчас горел и погас. Не иначе, они увидели Устина и из сеней в подвал полезли.
– Не опасно в подвале? - спросил Архаров.
– Парнишки сказывали - ничего, своды крепкие. Сверху все, того гляди, рухнет, а внизу вроде безопасное место…
Тут раздался заливистый свист.
Это был сигнал, по коему Устин, пока его не признали, должен был падать на пол и откатываться к ближайшей стенке, чтобы архаровцы могли, ворвавшись в подвал, стрелять без опаски.
Тимофей и Архаров побежали, путаясь в бурьяне, через двор.
Узкие двери были под высоким старинным крыльцом, когда-то белокаменным. Там, в развалине, уже перекликались архаровцы, но никто не стрелял. Когда обер-полицмейстер оказался у крыльца, из дверного проема выглянул Федька с фонарем, узнал начальство и улыбнулся.
– Ну? - спросил его Тимофей.
– Ни хрена не понять!
– Сбежали?
– Да тут, сдается, никого и не было!
– Как не было? - Архаров даже растерялся от такого сюрприза. - А кто фонарь гасил?
– Ваша милость, фонарь сам погас! Мы его первым делом отыскали - там огарок кончился!
– Мать честная, Богородица лесная… - пробормотал обер-полицмейстер. - А ну, свети. Сейчас докопаемся…
Каменные ступеньки, поставленные вкривь и вкось, спускались примерно на ту же глубину, что верхний подвал на Лубянке.
Помещение оказалось немалое, почти пустое, вдоль одной стены составлены были рассохшиеся бочата. Под самым потолком было заросшее землей окошко, на остатках подоконника и стоял погасший фонарь. Пролом в стене вел в другое помещение, где возились архаровцы.
Обер-полицмейстер пошел туда, перешагнул через высокий порог и оказался в длинном коридоре с кирпичными стенами. Туда выходили дверцы крошечных клетушек. Из одной, пятясь, вылез Сергей Ушаков.
– Ты чего там искал? - спросил Архаров, имея в виду, что в столь тесной конурке ничего и быть не должно.
– Дырку, ваша милость. Куда-то же они ухряли…
– А с чего ты взял, что они вообще тут были?
– Кто-то ж зажег фонарь.
– Фонарь могли зажечь днем, - рассудительно сказал Тимофей. - Днем-то его света не видно. А когда стемнело - никто по двору не шастал…
– А разве я не велел за этой развалиной следить? - спросил Архаров Тимофея.
– Ваша милость, с семи пополудни следим, и хоть бы одна собака сюда сунулась, - ответил за Тимофея Ушаков. - Где-то должны быть еще лестницы. Домина старинный, долгий, покоем стоял, тут лестниц много было.
– То бишь, вы через одну вбежали, они через другую выскочили? - Архаров все никак не мог понять последовательности странных событий.
– Похоже, так, ваша милость, да ведь мы все это место окружили. Коли тут кто и был - так в доме и сидит, наверху. Или же через какую-то дырку вверх выбрался, вылез там, где его не ждали, - сказал Тимофей.
– Какого черта раньше сюда не слазили, не разобрались?
– Парнишки лазили, глядели! Ваша милость, парнишки бойкие, они во всякую щель заползут.
– И не нашли другой лестницы?
– Ваша милость, коли не нашли, стало быть, она спрятана. Стенки надобно простучать, - опять вмешался Ушаков.
– И лаз вниз поискать, - распорядился Архаров. - Может, тут, как у нас, нижний подвал.
– Нижнего подвала тут и быть не может, ваша милость, - сказал Тимофей. - Место сырое, коли рыть нижний подвал - в нем не то что лягушки, а рыба заведется.
Ушаков и Канзафаров стали простукивать стенки.
– Где Устин? Он первый шел, что-то же заметил! - догадался Архаров.
Привели Устина. Он честно проделал все, что велели: изображал, пересекая улицу и двор, хромоту, спустился в подвал (крестя мелкими крестами чрево и бормоча «Спаси, Господи, люди твоя»), при свисте тут же повалился в грязь. Его-то ругать было не за что, и он открыто глядел в лицо Архарову, даже с известным любопытством - очень хотелось знать, чем вся эта затея кончится.
– Могло быть такое, что они догадались о подмене и даже не стали к дому подходить? - спросил Архаров.
Собравшиеся в кирпичном коридоре Тимофей, Федька, Ушаков, Устин, Степан Канзафаров и даже Клашка, привязавший наверху лошадей к какому-то забору, загалдели. Они сами из разных мест видели, как Устин приближался к крыльцу, и утверждали: шел почти как тот француз, тем более, что Шварц выдал ему длиннополый кафтан, очень похожий на кафтан господина де Берни.
– Прелестно… - пробормотал Архаров, не зная, что об этой истории и подумать. Гневаться вроде было не на что - подчиненные исполнили все его приказания и ожидали новых.
– Пошли прочь отсюда, - сказал он и направился к пролому в стене. Федька полез вперед него с фонарем, чтобы не вышло какой неприятности.
В большом помещении Архаров встал, обвел его взглядом, и обычная его подозрительность наконец проснулась. Нацелилась она на рассохшиеся бочата, кое-как составленные у стенки. В конце концов, коли кто тут и сидел, не поднявшись по несуществующей лестнице, то именно за ними, а то и забрался в самую бочку. Долго ли затаиться?
– А ну-ка, молодцы, раскидайте-ка мне этот винный склад, - пошутил Архаров. - Тимоша, Ушаков, держите угол под прицелом…
Устин вместе со всеми пошел двигать бочата. Ему-то и повезло - отодвинув первый с краю, увидел лежащее тело в длинном буром армяке.
– Господи Иисусе! - воскликнул Устин и перекрестился. - Сюда все!… Покойник!…
– Ну вот, уже кое-что, - заметил Архаров. - Федя, где ты там с фонарем?
Архаровцы собрались вокруг тела. Устин шепотом читал молитву. Обер-полицмейстер озирался по сторонам, как если бы ему одного трупа было мало.
– Ну вот, сыскали клад, - задумчиво произнес Тимофей. - Устин, что скажешь?
Бывший дьячок не сразу вышел из молитвенного состояния.
– Иде же бо аще будет труп, тамо соберутся орлы, - неожиданно ответил он словами из Священного писания.
– Ага, орлы, - кинув взгляд на свое воинство, подтвердил Архаров. - Взгляни, Федя.
– Посвети, Иванов…
Федька, отдав Клашке фонарь, опустившись на корточки, перевернул тело вверх лицом.
– Гляньте-ка, вся рожа в саже…
– Как это его? - спросил Архаров. - Крови вроде не видать. И не удавили…
– Нет, не удавили, - сразу, хором, определили Степан и Ушаков.
– И не сегодня, - добавил Федька.
– О Господи, - сказал Устин и полез в карман. Добыв оттуда платок, месяца два не бывавший в стирке, он заботливо накрыл мертвое чумазое лицо.
Тимофей, за свою жизнь довольно насмотревшийся на покойников, стал деловито переставлять рядом стоящие бочата.
– Его тут прикопать хотели. Вон - лопаты, - объявил он, и точно, две лопаты стояли прислоненными к корявой стенке. - Ишь, кладбище себе сыскали…
– Дурачество, - задумчиво произнес Архаров. - Чего ж до прудов не донесли?… Экая новая мода у мазов завелась - отемлелых хоронить…
– Ваша милость, а ими тут работали, - сказал глазастый Федька. - И недавно! Вон, земля налипла и не отвалилась.
– Может, еще какого покойника прикопали? - предположил Тимофей.
Клашка поднял фонарь повыше, свет распространился по всему подвалу.
– Коли тут что закопали и притоптали, то хрена с два найдешь… - буркнул Архаров.
– Ваша милость, есть способ, - сказал Тимофей. - Стародавний. Осечки не дает.
– Муромский, что ль? - уточнил Федька.
– А коли и муромский?
– Цыц, - приказал Федьке Архаров.
Его сейчас мало беспокоило грабительское прошлое Тимофея. Его куда больше заинтересовал способ отыскания закопанного предмета, пусть даже трупа.
– Когда что закапывают, потом землю сверху утаптывают, - начал Тимофей. - И на глаз утоптанную от нетронутой не отличишь. А есть зацепка. Утоптанная лишь сверху гладкая, а воды налить - так она воду всасывает. А на нетронутой лужа долго сохнет.
– Так вы прикопанное добро и искали? - осведомился Архаров.
– И так тоже.
– И воду за собой на коромыслах носили? - полюбопытствовал Федька.
– Эта вода у каждого при себе, - растолковал Тимофей. - Распускай портки да и того… трудись во благо…
Архаров хмыкнул.
– Ну, кому не лень - валяйте! - приказал он. - Да только подвал велик - запасов ваших не хватит.
– Закапывают в углу или у стенки, ваша милость, глядишь, и хватит, - рассудительно возразил Тимофей.
Он медленно пошел вдоль кирпичной стены - и вдруг резко шлепнул по ней ладонью на высоте собственного носа. На пол рухнула оглушенная ударом крыса. Тимофей наподдал носком сапога - крыса улетела в дальний угол.
– Ну ни хрена себе! - восхитился Федька.
– А ты не знал, что они по стенке вверх взбегают? - спросил Тимофей. - Клашка, ну-ка, сюда посвети…
Клашка поднес фонарь к указанному месту.
– Здесь, что ли, пробовать? - полюбопытствовал неуемный Федька.
– Погоди…
Архаровцы разбрелись по подвалу, время от времени делая пресмешные замечания о способе Тимофея. Архаров остался с Устином.
Сильно ему не нравился весь этот розыск. Трудно, что ли, было злоумышленникам дотащить труп до прудов? Спускать по узкой лестнице было легче и скорее, что ли? И ладно бы труп в состоянии кровавой каши, как бывает, когда в живот попадет пушечное ядро. К такому не всякий прикоснется…
Или же горемыку порешили тут же, в подвале. Что-то, видать, исполнил этот чумазый мужик, и, чтобы не проболтался, на месте и порешили. Парнишки же его за бочатами не заметили. Закапывал он яму, что ли? Вот ведь лопаты со свежей землей… А второго землекопа куда подевали?
С самого начала эта охота на кавалера де Берни была какой-то подозрительной.
Устин стоял над мертвым телом, опустив голову, и тихонько читал что-то совсем заупокойное.
– Сюда! - позвал Тимофей. - Ну, у кого накопилось?
Архаров недовольно хмыкнул. Ему уже не терпелось оказаться в палатах Рязанского подворья, куда привезли арестованного француза. Вопросы к господину де Берни в голове кишмя кишели. А затем следовало докопаться, чье такое тело. На Москве прорва пришлого народа - но может и повезти. Если это тело как-то увязано с французскими шулерами, то может образоваться ниточка, дергая за которую, вытянешь из де Берни кое-что любопытное.
Для чего оставлять труп в подвале - да, если вдуматься, на видном месте? Стоило сдвинуть бочонок - а он и тут?…
Тут было два объяснения. Первое - убийство совершилось в подвале в светлое время суток, и убийца должен был спешно удирать, пока его не прихватили на горячем. Второе… второе - диковинное: убийцей был подросток или же баба… кому не под силу тяжести таскать…
Кабы удавили - так проще. Удавить человека, захлестнув ему горло веревкой сзади, несложно, с этим справится и Никишка. Тем более, коли спускаться с тем человеком по лестнице и идти сразу на ним. Вот ведь и лежит тело в двух шагах от лестницы.
А что делали эти люди в подвале? И для чего бы одному убивать другого?
Вдруг явилось третье объяснение - шулера и господин де Берни, устроившие тут место для свиданий, сами по себе, а убитый мужик - сам по себе, и на тот свет его отправил кто-то вовсе посторонний…
Из дальнего угла послышался хохот - там опробовали Тимофеев способ, и безрезультатно.
– Там я за пивом сбегаю! - завопил Федька. - Братцы-товарищи, я знаю, где хорошее наливают!
– И не уйдем из подвала, покуда весь его не зальем! - поддержал Клашка Иванов.
Архаров невольно рассмеялся.
Не будучи светским кавалером, он любил простые шутки - а эта как раз была проще некуда.
Вдруг странная мысль его посетила…
– Федя, иди сюда. Найдешь там наверху ведро, стяни где-нибудь у колодца…
Колодцев в Москве было множество - даром, что с плохой водой, а для умывания, для стирки, для скотины хорошая, развозная, и не надобна. Непременно где-то поблизости на чьем-то небогатом дворишке осталось ведро на видном месте.
– И за пивом? - изумленно спросил подбежавший Федька.
– Какое вам пиво среди ночи? Нет, за водой. Ухо режь, руда не канет, а что-то тут прикопано.
Эти принятые у шуров и мазуриков слова лучше всякой божбы подтверждали архаровское мнение, потому Федька быстро поклонился и поскакал через две ступеньки наверх. Поскользнулся, припал на колено, вскочил и исчез…
Явился он, ровно вдвое перевыполнив приказание Архарова - притащил два полных ведра. Пока он бегал по воду, Устин, Тимофей, Ушаков и Клашка перетаскали бочата на середину подвала, высвободив все его стенки. Нашли нишу, в нише - низенькую дверцу, в последний раз открывавшуюся еще, поди, при поляках. Дверь утонула в утоптанной земле, и отворить ее можно было разве что хорошим зарядом пороха.
– Ну, благословясь… - негромко приказал Архаров.
Он оказался прав - как раз там, где громоздились бочата, земля впитала воду. Осталось лишь взяться за лопаты.
На глубине менее аршина обнаружился большой рогожный куль, еще не успевший протухнуть и расползтись. Его вытянули с руганью - он был довольно тяжел, хотя по очертаниям никак не походил на человеческое тело. Сие обнадеживало - золото легким не бывает.
И верно - в этом куле, завернутые в тряпки, лежали разнообразные столовые предметы. Архарову развернули самый большой - и блики засветились на изумительно отполированных боках большой супницы, весом не менее десяти фунтов.
– И ручки красные, прелестно… - пробормотал он, присев в любимую свою позу и гладя пальцем безупречную яшму. - Тоже ведь художество…
Это точно был ворованный сервиз мадам Дюбарри. Или же - блистательная подделка.
Архаровцы ждали, что он еще скажет. А он молчал.
Сервиз мадам Дюбарри так легко дался в руки, словно сам за Архаровым гнался, забежал вперед и неловко спрятался в подвале.
– Ваша милость, куль не выдержит, дозвольте, я мешки раздобуду, - сказал Тимофей.
– А ты хочешь это отсюда забрать?
– А как же?
– А никак… Ну-ка, все разворачивайте!
Непременно должен был явиться некий подвох!
Архаров присел на корточки, разглядывая тарелки, чашки, столовые приборы. Устин стоял над ним с фонарем наподобие бронзового канделябра.
– Федя, Тимофей, ну-ка, разложите мне все это добро по ранжиру - большие тарелки отдельно, малые отдельно, блюда - отдельно!
Несколько минут спустя стало понятно - сервиз присутствовал в рогожном куле не полностью, по меньшей мере половины недоставало. Архаров исходил из того, что больших тарелок насчитали восемь, малых - две, ложек - одиннадцать, малых ложек - десять, супниц, скорее всего, полагалась сервизу две, был кофейник - не было сахарницы и сливочника, хотя бы одного. И солонки не сыскалось.
Можно было предположить, что в результате каких-то сложных расчетов между французскими и российскими шурами сервиз был поделен на несколько доль, но ведь шуры не болваны - понимают, что целиком он стоит гораздо больше, чем ежели продавать по частям. С другой стороны, Архаров сразу знал - на такую дорогую вещь покупателей мало, и все они - при дворе. А раскидать его по одной тарелке - оно вроде и надежнее.
Итак, он, как трещала чета Матюшкиных, в Москве и найден обер-полицмейстером.
И что же дальше?
Архаров уже не раз думал о судьбе этого сервиза. Есть в Москве люди, кому он по карману, но сейчас у всех деньги со свистом вылетают из кошельков на всевозможные увеселения. Одна придворная карточная игра в великие тысячи игрокам обходится…
Начать с того, что сервиз могут предложить господину Потемкину, который приобретет его для подарка государыне. Тем более, что повод имеется - празднование Кючук-Кайнарджийского мира. Но с тем же успехом его могли бы предложить и самой государыне - это был бы знатный подарок новому фавориту, который уже не просто фаворит. Третье лицо - наследник цесаревич. Матушка его не балует, но Москва к нему благосклонна - и государыня могла бы по просьбе сына дать ему денег на дорогую игрушку, хотя в день своего рождения, 21 апреля, она подарила на радостях господину Потемкину пятьдесят тысяч рублей, Павлу же - недорогие часы… Ну так и замолила бы грех…
Еще года полтора назад сервиз мог приобрести кто-то из братьев Орловых. Но сейчас они не в чести. Вот разве что Алехан… так Алехан далеко, и когда будет с эскадрой обратно - одному Господу ведомо…
В ближайшее время, впрочем, никто никому ничего дарить не станет. Все награды ждут своего часа - 10 июля, празднуя годовщину Кючук-Кайнарджийского мира, государыня всем своим сотрудникам торжестенно раздаст чины, деревни, сервизы, шпаги с драгоценными эфесами, перстни с алмазами и прочее, и прочее…
Есть еще время, дабы предложить ей сервиз мадам Дюбарри.
Но - весь, целиком…
Коли сейчас забрать часть сервиза, то замысел скандала будет опрокинут. Однако есть в этом деле какие-то диковинные мелкие неувязки, их накопилось уж довольно, и каждая сама по себе, поди, гроша ломаного не стоит, а вместе они создают некое общее ощущение…
Архаров вспомнил давний спор между молодыми гвардейцами о куче. Он очень заинтересовался предметом спора и даже велел тогдашнему денщику своему Фомке принести с конюшни миску овса. Высыпав горсти две на стол, он добрых полчаса двигал зерна пальцем, пытаясь уловить тот миг, когда пропадает понятие «количество зерен», но возникает понятие «куча».
Неизвестно, сколько накопилось тех неувязок, но сейчас они явственно сложились в кучу.
– Ну-ка, орлы, заверните все опять в рогожу и закопайте, - распорядился, выпрямляясь, Архаров.
Орлы переглянулись - приказание было неожиданным.
– Федя, Канзафаров, полезайте туда, - Архаров показал на пролом, - схоронитесь. Ждите до утра. Сдается мне, чего-то вы тут дождетесь. Иванов… Иванов, какого черта ты здесь, а не при лошадях?!
– Ваша милость…
– Пошел наверх! Веди лошадей прямо к крыльцу, да ругайся погромче. Тимоша, иди первым, пальни по кустам разок - как если бы там кого приметил.
Тимофей кивнул и направился к каменной лестнице.
Устин с Ушаковым сгребли тарелки и супницу в рогожу, осторожно погрузили ее обратно в яму, пока закидывали землей - раздался выстрел.
– Утоптать, все сделать, как было, бочата сверху нагромоздить, - велел Архаров. - Федя, слушай меня. Может статься, нам повезет наконец - те, кто эту кашу заварил, решал, что мы все отсюда убрались, и вновь здесь сойдутся. Ничего не затевать! Слушать, глядеть, запоминать, пойти следом. Я вас тут надолго не оставлю - пришлю подмогу. Да и Тимофей с ребятами тут поблизости будут. Знак - мяв кошачий. Петров, Ушаков, пошли отсюда…
И, поднимаясь по лестнице, обер-полицмейстер вдруг заорал благим матом:
– Да что за блядство такое! В нижний подвал к Шварцу всех отправлю! Кто додумался, будто тут шуры слам прячут? Днем, что ли, поглядеть не могли?! К монаху на хрен таких полицейских! Кого вы тут увидеть чаяли, хрен вам промеж глаз?!
И пока поднимался по лестнице, пока ему подводили коня, обер-полицмейстер крыл архаровцев весьма разнообразными сочетаниями общеизвестных слов. Речь его сводилась к тому, что его напрасно вызвали туда, где ничего нет, не было и никогда не будет, окромя рухнувших на голову кирпичных сводов.
Наконец Архаров с Клашкой поехали в сторону Никитских ворот, а Тимофей, Устин и Сергей Ушаков разбежались, перекликаясь и создавая видимость большого количества народа.
– Ну-ка, Иванов, скачи в контору, - порядочно отъехав от Гранатного переулка, вдруг сказал Архаров. - Вели Гришке запрячь телегу. Кто там дневальные - пусть вместе с ним на телегу сядут и едут сюда. Надобно поскорее мертвое тело забрать к нам в мертвецкую…
В чем причина спешки - Клашка не понял. Архаров и сам не сумел бы объяснить ее вразумительно. А только ему казалось, что с телом - неладно, и чем скорее оно окажется в мертвецкой и будет отмыто от сажи - тем лучше.
Клашка ускакал. Архаров так и остался, не давая коню никаких приказов, не посылая вперед, но и не удерживая на месте. Почтенный спокойный мерин встал, опустив голову, и замер без движения, а обер-полицмейстер на нем также не шевелился, и оба представляли собой образец для конной статуи.
Архарову виден был храм Феодора Студита, виден был и дом близ храма, где во втором жилье горели два угловых окошка. Возможно, это была спаленка Варюты Суворовой; возможно, сам Александр Васильевич только что вернулся и, никому не дав о том знать, поспешил домой, к жене; возможно, они были там вдвоем… Он заслужил это право - примчаться к женщине, которая готовится родить ему ребенка, и Архарову стало грустновато от мысли, что сам он разве что в Пречистенский дворец спешит или к Волконскому на Возвиженку.
Такое томное настроение неминуемо должно было навести на мысли о Вареньке Пуховой, но тут со стороны Гранатного переулка раздались выстрелы.
Архаров даже обрадовался - сейчас загадочные обстоятельства могли наконец проясниться! Шпор он на башмаках, понятное дело, не носил, потому ударил мерина каблуками в бока и с немалым трудом поднял его с ленивой рысцы в галоп.
Ловушка сработала, кто-то в нее, кажется, попался!
Когда он при выходе из подвала устроил шум, велел Тимофею стрелять по бурьяну, сам орал, как умалишенный, то цель он имел одну: отвлечь внимание тех, кто, несомненно, наблюдал за архаровцами, от арифметики. Эти супостаты, что прятались во мраке, скорее всего, наблюдали в какую-то дырку за поисками и выкапыванием сервиза. Странное шумное поведение обер-полицмейстера и опасность должны были отвлечь их от простейшего подсчета: в подвале было семь человек, наружу вышли пятеро…
Мерин был бестолков - как сперва с трудом понял, что от него хотят галопа, так потом - что нужно остановиться. Архаров соскочил с него уже у самого крыльца, сильно удивившись, что чертова скотина не прошибла башкой закопченную стенку. То-то было бы грохота!
В подвале галдели знакомые голоса.
– Эй, света мне! - заорал обер-полицмейстер, уже наощупь спускаясь по каменной лестнице. - Оглохли вы, любить вас всей ярмаркой под гудок да волынку?!
Внизу появился Устин с фонарем.
– Ваша милость, я не виноват! - сразу воскликнул он. - Я за длинным погнался, так он прочь побежал, а откуда этот взялся - Христом-Богом, не ведаю!
– Кто еще взялся?
– Пузатый, ваша милость!
– А ну, пусти…
Казалось бы, сколько времени отсутствовал Архаров? Четверть часа, не более. И в подвале ждали всяческих сюрпризов Федька со Степаном. И вокруг развалины караулили трое архаровцев. Однако и противник был ловок - рядом с покойником в буром армяке, с измазангным сажей лицом, уже лежал брюхом вверх другой, воистину необъятный. У этого лицо было чистое, вот только ниже - сплошная рана: кто-то весьма грамотно перерезал ему глотку…
– Урожайная, мать бы ее, ночка, - сказал, подходя, Тимофей. - Ваша милость, а ведь я этого детинку знаю. Это Скитайла.
– Мать честная, Богородица лесная…
Архаров лично не был знаком с удачливым мазом, про чьи подвиги докладывали то Демка, то Яшка-Скес. До сих пор Скитайле удавалось от него уходить. Он время от времени возвращался в Москву, но шалить тут остерегался, а занимался делами: сбывал слам, проводил переговоры с собратьями по ремеслу. Была тут у него и мартона, которая иногда заглядывала к Марфе. Впрочем, мартон у него имелось несколько - и в Твери, и в Калуге, и в Щелкове, и в Черкизове.
То, что Скитайла не от старости помрет, в общем-то было ясно. Но какого черта он среди ночи забрался в подвал и дал себя зарезать именно здесь, над сервизом мадам Дюбарри? А главное - кто его, болезного, на тот свет отправил?
Это не могли быть Федька со Степаном - они бы всячески постарались доставить этого голубчика к Шварцу в подвал живьем. Стало быть, либо - свои мазы, и это можно было хоть как-то увязать с закопанным сервизом, либо в дело вмешался кто-то вовсе непредвиденный.
Степан и Федька на зов явились не сразу - кого-то гоняли за бурьянами. Архаров, не имея ни малейшего желания таращиться на двух покойников, вышел из подвала и строго допросил их снаружи, во дворе.
– Ваша милость, сидели тихо, как мыши! - отвечал за двоих сильно возбужденный Федька. - А эти трое прямо так и полезли в подвал, даже не прятались, с фонарем, сразу как вы изволили уехать!
– Трое?
– Трое, ваша милость, - подтвердил Степан. - Но только они не знали, где сервиз прикопан, повсюду разбрелись, переговаривались. Ваша милость, они за нами не первый день следили. Потому и сюда попали - за нами шли и ждали, покуда мы уберемся.
– Да, а пришли они как раз за сервизом! - перебил Федька. - Стало быть, не они его закопали!
– Погоди, не трещи, - приказал Архаров. - Вошли, значит, трое, и один из них был этот грешник Скитайла?
– Именно так, ваша светлость, - отвечал Федька. - Его уж ни с кем не спутаешь. И они стали обходить подвал, и еще смеялись, что его какие-то малашельные загадили, в охно бы ногой не ступить.
– А фонарь поставили на бочонок, а сами шли вдоль стенок, - подхватил Степан. - И тут фонарь погас. Я думаю, в него куском кирпича запустили. Они заорали…
– А это вслед за ними кто-то спустился вниз и из-за угла глядел! - стал объяснять Федька. - И он на них кинулся…
– Один на троих?
– Ну так, выходит, не один, ваша милость! И мы вылезать сразу не стали, а только к пролому подкрались, и тут кто-то прямо мне в руки, я с ним схватился, упали оба, о порог запнувшись!…
– А я вижу - надо наших звать, я и заорал котом, - доложил более спокойный на вид, но внутренне взволнованный Степан. - Заорал и полез в большой подвал, они ведь вдвоем через порог перевалились…
– Все бока ободрал, ваша милость! - пожаловался Федька. - А он, скотина, все равно как-то вырвался, ловкий оказался, руку мне так завернул - из глаз искры полетели, я громче Канзафарова взвыл…
– То бишь, пришли трое, одного кто-то зарезал, двоих вы упустили, - перебил Архаров. - Хороши полицейские! Какого ж хрена я вас тут оставлял?
– Ваша милость, я за одним погнался и подстрелил его. В бурьянах, поди, валяется, - доложил Степан. - Я слышал, как он кричал, а кричал, уже лежа.
– Пошли, поглядим.
Федька сбегал за фонарем, все трое забрались в заросли бурьяна и там нашли обещанного Степаном покойника.
Тем временем прочие архаровцы, обшарив, насколько это было возможно в потемках, окрестности руины Гранатного двора, собрались у крыльца и спорили - кто полезет наверх.
– Вы полагаете, кто-то сидел наверху и оттуда за нами следил? - спросил сразу всех Архаров. - Да там все сгнило, разве что кот удержится. Чего тебе, Устин?
Хотя фонари не давали довольно света, он уловил на лице бывшего дьячка некое смятение. Словно бы и желал Устин доложить о своих подвигах, а словно бы что-то запрещало ему…
– Из подвала длинный такой выскочил, я за ним погнался, ваша милость, да он к Спиридоновке побежал. Он быстрее меня бегает… - сумбурно отвечал Устин, избегая обер-полицмейстерского взгляда. - Так, ваша милость, их двое было.
– Кого - двое?
– Тех, что возле подвала околачивались. Они на Спиридоновке сошлись.
– То бишь, внутри - трое, снаружи - двое, - задумчиво произнес Архаров. - Молчать всем. И без вас голова пухнет. Ну-ка, взять фонари, пройти вокруг - мало ли о какого еще покойника споткнетесь…
Он остался с Устином у крыльца - ждать, пока вернутся архаровцы.
– Длинный, говоришь?
– Бегать он горазд, ваша милость, мне не поспеть.
Это было правдой. Но не всей правдой.
– А что ж не стрелял?
– Так у меня и пистолета не было…
– А что было?… Петров, еще раз пойдешь ночью на дело без оружия - выпороть велю.
Устин съежился и потупился. Числился за ним этот странный грех - он не любил ни пистолетов, ни клинков. Когда прочие архаровцы со знанием дела толковали о свойствах кавалерийских, охотничьих и целевых пистолетов, одноствольных и двуствольных, с с простыми гранеными и дорогими дамасковыми, что было еще в диковинку, стволами, даже такими короткими, что иной английский пистолет помещался в кармане, но служил главным образом для выстрела в упор, - так вот, во время этих бесед Устин, случившись рядом, смотрел в землю и беззвучно произносил какой-либо из ему известных псалмов.
Архаров, не имея времени и желания докапываться до причин Устиновой хандры, дал бывшему дьячку подзатыльник и закричал, созывая подчиненных. Но первым отозвался посланный за телегой Клашка. Он подскакал и доложил, что телеге никак к крыльцу не подобраться, так что придется выносить тело на руках и тащить его чуть ли не на угол Гранатного и Спиридоновки.
– Три тела, - поправил его Архаров. - Слезай с коня, поможешь.
Он остался возле руины один - архаровцы попарно унесли покойников. Ему было о чем поразмыслить.
Какого беса полез в подвал Скитайла? Коли он следил для чего-то за полицейскими - так ведь была причина?
Кому не угодил Скитайла, за что его по глотке полоснули? За то, что суется в полицейские дела?
Кто, в таком случае, защищает от Скитайлы московскую полицию?
Два коня топтались рядом - полицейский Сивка и мерин Волконских. Архаров машинально поймал поводья. Смутные дела творились вокруг - вот каким-то образом кавалер де Берни и сервиз меж собой увязались, да и не весь сервиз, а дай Бог, чтобы треть. Ну, что один французский мошенник, спрятавшись в благородном семействе, сотрудничает с другими французскими мошенниками, притащившими сервиз в Москву, неудивительно. Однако как-то все странно…
Архаровская подозрительность еще не взяла следа, однако уже проснулась и обрабатывала все скопившиеся сведения.
Он стоял неподвижно, заполняя собой едва ли не все пространство под крыльцом, заслоненный лошадьми, незримый для всех. Он сосредоточился на своих рассуждениях - и потому не сразу услышал, что над головой что-то происходит.
По наружной лестнице можно было взойти на крыльцо и попасть в покои второго жилья через давным-давно пропавшую дверь. Так раньше строились на Москве и деревянные, и каменные здания.
Дом, потерпевший от пожара, был опасен для чудака, решившего заглянуть в горницы. Каждый шаг мог стать смертельным. Архаров знал это и, ругая подчиненных за то, что не осмотрели все строение, сам не слишком верил, что наверху угнездился какой-то злодей. Но сейчас, стоя под крыльцом, он сообразил, что могло произойти. Некто подозрительный поднялся наверх по каменной лестнице и затаился в вершке от дверного проема. Снаружи его не видать - темно, а внутрь он не полез - остановился там, где ему еще не грозила опасность.
Архаров не видел этого человека, что почти беззвучно крался по лестнице, - но и человек не видел Архарова. В поле его зрения были разве что лошади - и он полагал, что они просто привязаны к какому-то случайному торчку в стене.
Этот незнакомец перекинул ногу через каменные перила, помедлил, перекинул другую с явным намерением перебраться в седло Сивки. Архаров подловил миг, когда сапог незнакомца уже навис над седлом,, ухватился на него и с силой дернул в нужную сторону.
Его противник свалился с перил лицом в грязь.
Архаров тут же кинулся на него, впечатал в землю поосновательнее, прижал коленом и закричал, созывая полицейских.
Тут-то ему на спину и рухнул сверху еще один приятель…
Спина Архаров имел крепкую, широкую, основательную. С такой спиной впору на пристани по сходням мешки с пшеницей таскать. Плохо было лишь, что злодей пытался придушить обер-полицмейстера.
Архаров отцепил руки от своего горла, но вывернуться из-под врага не сумел и повалился набок, увлекая его за собой. Таким образом он выпустил на свободу свою жертву - и, что хуже всего, он, затевая эту драку, отпустил конские поводья.
Но на его крик уже бежали архаровцы.
Тот, кого обер-полицмейстер не допустил сесть в седло, поднялся на четвереньки, вскочил и, выхватив нож, устремился к Архарову, едва успевшему стать на одно колено. Причем на архаровских плечах еще повис незримый злодей. К счастью, он оказался полегче мешка с пшеницей.
Ноги у обер-полицмейстера были хоть и короткие, но сильные, он знал это о себе, втайне гордился стальными икрами и бедрами, однако не ожидал, что способен на такие прыжки. Умные кулаки, как всегда, обрели свой разум. Архаров одновременно стукнулся обеими подошвами рядом о землю и нанес удар. Удар был со свилью - с резким разворотом всего туловища, и обратным движением Архаров достал локтем незримого противника за своей спиной.
– Имай его! - заорал, подбегая, Федька.
Вооруженный ножом противник, видя, что дело плохо, кинулся наутек.
Дальше началось сущее безобразие. Мерзавца понесло бурьянами, вдоль забора, и вынесло прямиком на воронцовский двор. Архаровцы бежали следом.
Тайный советник Воронцов держал голосистых кобелей. Мало того - беглец переполошил кур, и на всю Спиридоновку заорали петухи. Сторожа выскочили из привратной будки и дважды выпалили из ружья наугад. Раздался дикий вопль. Из усадьбы выскочили какие-то неодетые люди с фонарями и факелом.
– Кого тут черти несут?! - закричал мужчина в шлафроке, вооруженный саблей.
– Это мы, архаровцы! - заглушая лай и топотню, зычным голосом отозвался Тимофей.
– Чтоб вы сдохли! Ни днем, ни ночью покоя от вас нет!
Меж тем Архаров помогал вязать второго злодея, так нерасчетливо покусившегося на его жизнь.
Все вышло не так, все пошло прахом, и все же обер-полицмейстер был в этот миг счастлив: хоть какая - а добыча.
– Тащите его к телеге, и поехали, - распорядился он.
– Ваша милость, ваша милость! - к нему, размахивая фонарем, бежал Федька. - Погодите, ваша милость! Надо телегу поближе к дому подогнать!
– Что там еще?
– Злодея нашего чуть кобели не загрызли! Его сторож ранил, он упал, два кобеля к глотке полезли. Чуть жив…
– Мать честная, Богородица лесная, - пробормотал Архаров. Ночка выдалась совершенно безумная.
Наконец на телегу нагрузили всю добычу - трех покойников, одного связанного пленника и окровавленного беглеца.
– Ваша милость, чего прикажете? - спросил Тимофей.
– Едем все в контору. Садись сбоку, как на чумной фуре сиживал… Канзафаров! Побудь тут до рассвета. Вряд ли, что после всего шума сюда кто-то сунется, но ты погуляй вокруг, авось чего приметишь…
– Учителишка, поди, уже у нас в подвале, - заметил Тимофей, взбираясь на телегу. - Вот бы сразу и допросить…
Но Архаров мог держать пари, что кавалера де Берни изловить не удалось!
И точно - оказалось, что зловредный француз, ранее повредивший ногу, угодил в какую-то колдобину, не отойдя и полусотни сажен от дома вдовы Огарковой. Постоял, потосковал - и заковылял обратно, да так шустро! Архаровцы, следившие с немалого расстояния, не успели добежать - а он уже колотился в дверь и вопил по-французски весьма пронзительно.
– Клаварош, чего он вопил? - спросил Архаров.
– Требовал впустить. Кричал, как будто за ним разбойники гонятся.
– Ничего больше?
– Именно это, ваша милость.
– Черти б его драли… Кой час?
– Третьи петухи уж прокричали, ваша милость, - вместо Клавароша ответил Тимофей.
До восхода оставалось часа два, не более. Архаров подумал - и велел ехать за Матвеем, может, еще удастся спасти раненого. Сам же потребовал к себе в кабинет пленника.
Пленник, как он и думал, оказался из мазов, из тех, что промышляют не в самой Москве, а окрест нее. До сих пор этот детина с московским обер-полицмейстером не встречался и понятия не имел, что столь значительная персона умеет орать на байковском наречии, применяя все его заковыристые словечки весьма точно.
Архаров велел позвать Сергея Ушакова и оставил его в кабинете с пленником, чтобы тот растолковал пользу немедленного и чистосердечного признания. Сам же отправился в мертвецкую, откуда за ним прислали.
– Ваша милость, не думали, не чаяли… - так встретил его смотритель мертвецкой Агафон. Этот крепкий старик жил тут же, при Рязанском подворье, выполняя еще и обязанности сторожа, и его сразу призвали для приемки троих свежих покойников.
– Что там у тебя?
– Ваша милость, я-то знаю - одежду повреждать не велено… я тряпицей лишь…
Старик был взволнован.
– И что ты сделал тряпицей?
– Харю ему протер, гляжу - а он баба…
– Кто - баба?
Агафон подвел обер-полицмейстера к лавке, где лежало тело в распахнутом армяке. Сажа с лица была кое-как стерта.
– Баба, и все при ней, я пощупал, ваша милость… И стриженая, без кос…
– Дожил ты, дед Агафон, покойниц щупать, - пошутил Архаров. На самом деле он был сильно озадачен - мало ему было недоразумений вокруг подвала, так еще и переодетая мужиком баба.
– Так одежду повреждать не велено…
– Посвети-ка.
Баба оказалась немолодая. То есть, в ее годы придворная особа была еще девицей на выданье, но крестьянка уже приближалась к роковому порогу, за которым получала звание старухи. Изношенное тело и худое жалкое лицо не вызывали более у мужчин приятного волнения, а когда этого у бабы нет - тогда уж точно старость.
Архаров проявлял к женщинам довольно необычное любопытство. Ему нравилось исподтишка на них поглядывать, отмечая уловки кокетства - смех, ужимки, игру веером. Как всякий здоровый мужчина, он был рад случаю заглянуть в декольте, рад увидеть ножку выше колена. В гостях у отставного сенатора Захарова он от души порадовался французским картинам: пейзаж красивого парка в модном аглицком стиле, к толстой ветке привязаны качели, на качелях девица раскачивается, высоко задирая ноги, так что видны подвязки. Но все женщины и девицы были для него, в сущности, на одно лицо. В свое время он не признал на улице Дуньку, выскочившую к нему из кареты. Теперь - наверняка не признал бы тех девиц, с которыми бывал близок в Санкт-Петербурге. Вот разве что запомнилось одно необычное личико, тоже, кстати, суховатой лепки, с выдвинутым вперед острым подбородком… Так, может, потому и запомнилось, что среди бело-розовых и кругленьких - диковинка?…
Однако эта покойница в армяке чем-то была знакома…
Архаров некоторое время вглядывался в ее лицо, чтобы убедиться - она именно та, кого он уже не первый день числит в покойницах, да только все руки не доходят разобраться с Демкой и Тимофеем.
Память ничего внятного не подсказывала, но похоже, что перед ним лежала Тимофеева жена. Не по приметам, а по чутью…
Он особо не всматривался в нее, когда гнал прочь от крыльца полицейской конторы, он просто полагал, что именно так она должна была объявиться - в заброшенном подвале, задушенная.
Ничего не сказав Агафону, он пошел прочь из мертвецкой.
– Клашку ко мне Иванова, живо!
Прибежал Клашка.
– Скачи ко мне на Пречистенку, разбуди и доставь сюда моего Ивана… стой! Пусть Сенька закладывает экипаж… Сенька, Иван, Сашка… - Архаров задумался, припоминая, кто еще из его дворни был с ним в тот вечер, получилось, что лишь эти трое. Опять же, домой после ночных проделок лучше возвращаться в карете, а не в седле.
Клашка убежал, а Архаров пошел обратно в кабинет.
Там Ушаков уже успел потолковать с пленником и внушить ему, в чем его выгода.
– Ваша милость, прикажите позвать писаря, он все доложит, как было, - сказал Ушаков. - Звать его Данилой Журавлевым, по прозванию Циглай, из коломенских мещан. Он, понятно, все без разбору валит на покойного Скитайлу, да только, ваша милость… он такое городит, что проверять придется…
– Ну и что он городит? - спросил Архаров, садясь за стол. - Станови его предо мной, Ушаков, да все свечи зажги.
– Божится, будто Скитайла прознал про клад с золотой посудой от кого-то из наших.
– Прелестно, - сказал, помолчав, Архаров. - Теперь ты сам говори, Циглай.
– Я, барин милостивый, от Скитайлы слыхал! У него дружок какой-то у вас тут, и он Скитайле наговорил, будто полицейские клад ищут, и чтобы Скитайла поглядывал, его на место наведут, а слам - пополам…
– Выходит, кто-то нас выслеживал для Скитайлы, чтобы знать, где мы розыски ведем? - спросил Архаров. - Ну, ловко… додумались, сукины дети… Что скажешь, Ушаков?
– Мудрено уж больно, ваша милость. Ведь что вышло? Мы из подвала, и ваша милость изволила говорить, что понапрасну туда лазили, а они - шасть в подвал, где заведомо ни хрена нет?
– Так кто искал-то? - перебил его Циглай. - Одно дело вы, поглядели да и бросили, а иное дело Скитайла, он умеет клады отыскивать, у него и ладанка на кресте висит заговоренная на клады.
– Вот что, Циглай. Сейчас тебя отведут вниз, сиди, вспоминай, что ты про Скитайлина дружка помнишь, - велел Архаров. - Будешь умен - легко отделаешься. Начнешь запираться - для таких случаев у нас господин Шварц имеется, слыхал?
– Слыхал… - прошептал Скитайлин подручный. И по роже было понятно - что именно слыхал.
Циглая увели.
– Ваша милость, позвольте внизу до утра пересидеть, - сказал Ушаков. - Скоро Чкарь придет, будет кашу варить, самовар вздует, хлеба даст.
– Ступайте…
Проводив взглядом Ушакова, Архаров вздохнул - ему вдруг захотелось есть, и в ожидании экипажа стоило, пожалуй, присоединиться к полицейским. Непременно они знают, где Чкарь прячет свои припасы.
Он вышел из кабинета, больше всего на свете желая съесть ломоть ржаного хлеба, присыпанный солью, - давнее полузабытое удовольствие. Но в коридоре ему попался Устин Петров, и Архаров тут же вспомнил - с Устином связано некое недоразумение… он не догнал длинноногого мошенника, но к досаде примешалось еще что-то…
– Поди-ка сюда, Петров. Доложи внятно, как ты мошенника упустил.
Устин, повесив голову, встал перед начальством.
– Упустил по своей дурости… и бегаю плохо, ваша милость, виноват…
– А вот взял бы пистолет - и не упустил бы.
– Да, ваша милость.
– Вперед без оружия на дело не выходи. Не то с Вакулой спознаешься.
– Да, ваша милость.
– Ну так как же ты за ним гнался?
Архаров ощущал состояние Устина точно так же, как если бы Устин ему громко докладывал: при первых вашей милости словах я перепугался безмерно, а когда понял, что более вопросов о моем промахе не будет, расслабился; однако вопрос прозвучал, и мне вновь стало жутко при мысли, что придется сказать правду.
Устин не врал, признаваясь в своем неумении резво бегать. Однако тут была еще какая-то правда, которую он безнадежно пытался скрыть. Архаров вспомнил, как Устин чумной осенью пытался пострадать за убийство митрополита Амвросия, выгораживая тем самым истинного убийцу. Сейчас творилось нечто весьма похожее.
– Увидел, побежал, кричал ему, он не послушал, выскочил на Спиридоновку, а там и другой… они далеко от меня были, я лиц не разглядел…
– А что, должен был разглядеть?
– Да… там в окне свет горел…
– Так и ушли?
– Так и ушли, ваша милость.
– В какую сторону, к болоту или к Никитским воротам?
– К болоту…
– Дважды ты соврал, Петров, - спокойно сказал Архаров. - И лица ты видел, и не к болоту они убежали. Приди в себя и отвечай без вранья. Кто они были таковы?
– Лиц я точно не видел, ваша милость! - воскликнул Устин.
– А какого хрена тогда выгораживаешь, коли не твои знакомцы? Говори как есть, видишь, я тебя не пугаю. Кого ты признал? Из своей церковной братии, что ли?
Архаров даже пошутил - лишь бы Устин успокоился и заговорил прямо.
Ответа обер-полицмейстер добился не сразу. Как не сразу и догадался, в чем загвоздка: Устин признал в преступнике кого-то с Рязанского подворья.
– Петров, будет тебе вилять. Там ведь кто-то из наших был. Хочешь, чтобы я всех перебрал? Ну? Кто он?
– Ваша милость, я глазами слаб… - очень вовремя вспомнил про это горе Устин. - Я ошибиться мог, темнота, далеко…
– Ну?
– Клаварош, ваша милость…
– Мать честная, Богородица лесная! Вот утешил!… Ладно, ступай. Впредь не ври.
Но Устин вздохнул и никуда не пошел.
– Ступай, говорю, - велел Архаров, уже подбирая в голове доводы против француза. Доводов этих было довольно - и в первую очередь его подозрительное прошлое, ведь не от хорошей жизни он удрал из своей родной Франции на север, к варварам, которые три четверти года ходят в шубах, а по улицам их диких городов слоняются бешеные медведи.
– Ваша милость, я, верно, обознался…
– Ступай, дурак.
Сейчас допросить Клавароша Архаров не мог - француз доложил, что де Берни по причине хромоты никуда не пошел, и отправился восвояси, возможно, к Марфе. Эта самая связь с Марфой была вторым доводом против француза - мало ли какую интригу затеяли эти двое.
И, коли так, следовало тщательно проверить все то, что рассказывал Клаварош о господине де Берни. Намешал там правды и недомолвок - поди знай, что на самом деле рассказал ему учитель, а главное - что наговорил учителю сам Клаварош. И не было ли устранение де Берни от событий этой ночи заранее продуманным действием?
Как будто Архарову мало было загадочной покойницы в мужском наряде, что лежала сейчас в мертвецкой…
Стоило вспомнить о ней - послышался голос Никодимки. Архаров сперва ушам своим не поверил - что делает его камердинер в полицейской конторе перед рассветом? Оказалось, Клашка Иванов, посланный за экипажем на Пречистенку, рассказал, что господин обер-полицмейстер, сражаясь с мошенниками, извозился в грязи. Пока закладывали экипаж, Никодимка притащил чистый кафтан со штанами и даже чулки. Причитая, что их милости Николаи Петровичи, шлепнувшись в грязном на сиденье, изгваздают внутренность кареты так, что потом не отчистишь, а карета нужна ежедневно для важных визитов, он в конце концов сам забрался вовнутрь и поехал переодевать барина.
Ругаться было бесполезно. Тем более, что правота камердинера была очевидной.
Пока Иван с Сенькой ходили в мертвецкую, Архаров позволил снять с себя кафтан, действительно весьма грязный, и облачить себя в другой, чистый и теплый. А потом все ему вдруг стало безразлично, даже то, что они признали в бабе ту дуру, что перепутала полицейскую контору с острогом, и он поехал домой, желая лишь одного - добраться до постели. Даже размышления о Клавароше - и те отложил на завтра. Сказал себе, что утро вечера мудренее, - так и вышло.
Он собирался хоть немного поспать, он даже разделся и лег, но сон не шел, опять же с каждой минутой в спальне делалось все светлее. А когда обер-полицмейстера все же разморило, со двора донесся какой-то шум. Архаров крикнул Никодимку, тот прибежал босой, в одних портках и рубахе, сдвинул ставни, задернул шторы и добился вполне приемлемого мрака.
Поспав всего часа два, Архаров потребовал кофею и, сгрызя всего один сладкий сухарь, велел закладывать экипаж.
Утро было превосходное, солнечное, истинно майское утро, но он сидел в карете с задернутыми занавесками, видеть не желая красоты мира - да и какая красота, коли в Москве творятся необъяснимые безобразия? Того гляди, государыне донесут, что обер-полицмейстер не выполняет обязанностей.
Саша, сидевший напротив, видя эту хмурую рожу, громко дышать боялся.
Прибыв в полицейскую контору, Архаров прежде всего осведомился, что с раненым. Ему доложили - приехал доктор Воробьев, в меру пьяный и недовольный, разругал в прах тех, кто делал перевязку, и хотел было увезти горемыку с собой, но ему не дали. Так что пленник, правильно перевязанный, лежит и хрипит разодранной глоткой в верхнем подвале, удастся ли от него добиться толку - одному Богу ведомо.
Буркнув нечто непотребное, Архаров потребовал к себе ту команду, которой было приказано поймать господина де Берни. Но начал не с Клавароша, а с новенького, бывшего десятского Евдокима Ершова. Этот парень не был повязан круговой порукой и не имел резонов выгораживать сослуживцев. Но он еще не наловчился читать карту, и с Архарова семь потом сошло, прежде чем Ершов разобрался в геометрических фигурах, ее составляющих, и точно указал пальцем, где был он сам, где - прочие, и в котором месте хромающий господин де Берни раздумал идти к Гранатному двору.
К тому моменту, когда в кабинет вошел Клаварош, Архаров уже знал, что француз какое-то время был незрим для прочих архаровцев, и вычислял - успел бы он добежать до руины Гранатного двора, да еще вернуться оттуда, куда его загнал преследующий Устин, - со Спиридоновки, или же сей подвиг был под силу лишь крылатому ангелу. На беду, ни у кого из архаровцев не было при себе часов, д и сам обер-полицмейстер тоже не догадался на них лишний раз посмотреть, и потому он никак не мог совместить действия обеих команд. Вроде бы получалось, что в то время, когда откапывали сервиз, господин де Берни уже отказался от ночной прогулки, так что Ершов, Клаварош и Захар Иванов вполне могли счесть долг исполненным и разбрестись в разные стороны. Коли так - Клаварош имел прорву времени для всевозможных ночных похождений… особливо коли знал заранее, что де Берни вернется домой…
Француз вошел в кабинет и встал перед архаровским столом точно в такой позе, которая не помешала бы самому обер-полицмейстеру при аудиенции у ее величества: спина прямая, плечи развернуты, руки готовы к элегантным маневрам с табакеркой, одна нога выставлена вперед, и общее ощущение - будто Клаварош не столько стоит на полу, сколько подвешен над ним, чем и объясняется удивительное равновесие его фигуры.
Была в его движениях некая тщательно выпестованная беззаботность, предмет зависти всех архаровцев, полагавших ее непременной принадлежностью светского человека. На сей раз обер-полицмейстеру почудилась в повадке француза фальшь…
Архаров задал несколько вопросов, услышал совершенно правдивые ответы, и уже собирался приступить к строгому допросу, как вдруг заметил, что Клаварошевы штаны прорваны на колене.
– Вели Марфе зашить, - приказал он, тыча пальцем в прореху. Еще только недоставало, чтобы архаровцев вся Москва честила оборванцами, а вслед за тем и оборванцев - архаровцами. И так уж скоро всех задир и забияк начали архаровцами звать…
– Она мундир чинит, - отвечал несколько удивленный Клаварош. - Фортуна ко мне неблагосклонна. Я напо… напал на гвоздь. В темноте, у стенки.
И показал пальцами длину этого выдающегося гвоздя.
– Мундир? - переспросил Архаров. Только сейчас он заметил, что Клаварош стоит перед ним в простом черном кафтане.
– Да, ваша милость.
– Ты ночью был в мундире? - уточнил Архаров, точно помнивший, что приказывал всем одеться попроще.
– Да, ваша милость.
Архаров не мог бы объяснить полет своей мысли - а, точнее, совместный полет нескольких мыслей словно бы в обнимку. Но вывод, ими преподнесенный, был вполне земной и очень неприятный.
– Ступай, кликни там нашего дьячка.
И, когда Устин явился, Архаров уставился на него весьма свирепо. Взгляд же у него был таков, что молоденьким девицам впору без чувств на пол валиться.
– Петров, как ты догадался, что тот человек был Клаварош?
– Признал… - прошептал Устин.
– В лицо признал?
– Так он же в мундире был…
– А лица ты не разглядел? - уже сильно негодуя, продолжал Архаров. Негодовать тут, впрочем, следовало на самого себя. Он же с самого начала знал, что попорченное чтением книг зрение Устина ночью бесполезно. И признать Клавароша бывший дьячок мог только по ярким и несомненным признакам - росту, фигуре, ловкости движений и мундиру.
– Нет, ваша милость.
– То бишь, ты видел высокого человека в полицейском мундире? Прелестно! Пошел прочь с глаз моих…
Много всяких пакостей преподносили шуры и мазы московскому обер-полицмейстеру. Но вот архаровцами еще не рядились.
Коли они возьмут себе такую моду, в Москве вообще все кубарем пойдет, всякая сволочь начнет колобродить, а валить все станут на архаровцев…
Позвольте… Было же не так давно нечто весьма похожее! Но что, но что?…
Раздумья были подобны тому, как если бы кто шарил шестом в заросшем пруду, надеясь добыть со дна нечто ценное, а вытаскивал то старый башмак, то собачий труп.
Архаров мучительно вспоминал - и вспомнил-таки вспомнил брюхатую девку и как с хохотом выходили из шеренги полицейские. Что-то тут было не так, он еще тогда подумал - странно, что девка рыдает, но имени соблазнителя не называет. И тут же явилась в памяти смущенная рожа Клашки.
– Иванова ко мне! - приказал Архаров.
– Которого, ваша милость? - спросили в приоткрывшуюся дверь.
– Клашку.
Несколько минут спустя обер-полицмейстер уже имел перед собой сильно растерявшегося подчиненного.
– Девку помнишь? Подрядчикову дочь, что приходила на вас, дармоедов, просить?
– Помню, ваша милость…
– Кто ее обрюхатил?
– Не знаю, ваша милость.
– Врешь. Ну, чьих трудов дело?
– Не знаю, ваша милость.
– Врешь.
Клашка стоял перед обер-полицмейстером, повесив голову.
– В глаза гляди, скотина, - беззлобно приказал Архаров. - Ты потрудился?
– Христом-Богом - не я! - Клашка, выпалив это, перекрестился на Николая-угодника.
– Прелестно… А кто же?
Полицейский молчал.
– Слушай, Иванов, ты не девка, чтоб тебя уговаривать. Кто этой дуре брюхо набил - ты знаешь, да выдавать не желаешь. Говори добром - не то скажешь у Шварца в подвале.
– Не я, ваша милость!
– Знаю, что не ты. А кто?
Клашка уставился в пол.
– Ты ведь не из мортусов, - подумав, сказал Архаров. - Это их круговой порукой повязали. Чтобы все за одного были в ответе. Ты уже потом пришел. И коли ты полагаешь, будто сейчас совершаешь подвиг, так это вранье… Говори живо, что про это дело знаешь, не то… И Шварца не понадобится - прямо тут с тобой и разделаюсь. А кулак у меня тяжелый.
Клашка вздохнул и засопел так, что Архаров встревожился - не зарыдал бы этот вертопрах и не пришлось бы его холодной водицей отпаивать!
– Сгинь с глаз моих, - приказал он. - Подумай в коридоре четверть часа. Более я ждать не намерен.
– Ваша милость, это кто-то из наших, да только я сам не доберусь никак, кто именно! - воскликнул Клашка.
– Прелестно. Теперь докладывай вразумительно. Ты девку давно знаешь?
– Давно… соседями были, потом в чуму наш дом сожгли, я к крестному ушел…
– Далее, - приказал Архаров.
– Я к ней открыто приходил! Все видели, вся улица, - мы у калитки стояли! И дядька Трофим меня не гонял! А потом мне Ванюшка Портнов и говорит - ты, Клашка, говорит, с ней не водись, Фимка твоя с другим сговорилась и все там сладилось, а бегают на сеновал к дяде Фаддею. А было это уже осенью…
– А у тебя с ней?…
– Не было ничего, я жениться на ней, на дуре, хотел.
Клашка не врал, хотя менее опытный дознаватель, чем Архаров, вряд ли поверил бы ему. Летнее стояние у калитки, пряники и ленточки в подарок, вызывание свистом к забору известно чем кончаются. Опять же, и сеновал дяди Фаддея близко.
– Так. Значит, осенью ты понял, что девка твоя уже под ракитовым кустом повенчалась, дальше что было?
– Перестал туда ходить.
– Потом?
– Потом случайно узнал - что забрюхатела Фимка. И сказывали, от кого-то из наших.
– Ванюшка Портнов донес?
– Ваша милость, он того человека сам не видел, а соседки приметили - в полицейском мундире.
– Так, - Архаров кивнул, ощущая даже некоторое удовлетворение от того, что наконец все стало складываться. - С девкой не говорил?
– А что толку? Коли она уже порченая?…
– Дурак. Сейчас беги… где этот подрядчик квартирует?
– На Якиманке.
– Беги на Якиманку, выспроси всех соседей. Стой. Максимку-поповича с собой возьми. Он бабам нравится, ему они поболее расскажут… Стой! Никуда бежать не надо…
Архаров крепко задумался. Клашка смотрел на него исподлобья.
А тут было над чем поразмыслить. Репутация у архаровцев сложилась лихая - и если двое из них пойдут выспрашивать о неком третьем, то наслушаются самого непотребного вранья: кому охота мешаться во внутренние затеи полицейской конторы?
– Иванов, лови сейчас же извозчика, поезжай в Зарядье, привези Марфу. В кои-то веки и от нее польза будет.
Клашка, видя, что ему более неприятности не угрожают, резво поклонился и выскочил из кабинета.
Архаров расположился было хорошенько обдумать свои дальнейшие действия - в частности, призвать канцеляристов, чтобы раскопали ему все жалобы на полицейских за последние полгода. Но тут доложили о визите почтенного гостя - коли судить по кафтану, не ниже графа. Его прозвание было Архарову памятно еще по Санкт-Петербургу - сей господин, несколько послужив для приличия в Конногвардейском полку, вышел в отставку и выгодно женился. Кроме того, они встречались и даже раскланивались в Пречистенском дворце.
Встав из-за стола, обер-полицмейстер пошел навстречу недовольному гостю. И вдруг встал столбом - над плечом этого господина светилась восторгом круглая рожица Левушки Тучкова.
Не сказав ни одного приветственного словечка, Левушка проскользнул в кабинет. Был он, как всегда, щегольски одет, изящно причесан, чистенько выбрит - да там и брить-то было нечего, борода и усы у него росли слабо и негусто. Вот разве что не соответствовала модному наряду длинная шпага - так ведь стыдно гвардейцу носить легкий игрушечный клинок, славный только тонкой работы эфесом.
– Что это у вас, господин Архаров, купцы совсем распоясались? - не перекрестя лба на образ Николая-угодника и не поздоровавшись толком, начал гость. - Сговариваются и обижают дам совместно!
Архаров, удивившись такому приступу к беседе, даже не произнес обычного «добро пожаловать».
Левушка же, видя, что Господь послал невежу, отошел к окошку. Он был готов и поклониться, и поздороваться с этим господином, коего встречал в петербуржских гостиных, однако не хотел потворствовать недостойному обхождению.
– Обижают дам совместно? - повторил Архаров. На ум пришло нечто вовсе непотребное.
– Да, составляют заговоры! Тетушка моя вчера пала жертвой, не чаяли, что жива останется, а она дама светская, она хочет жаловаться государыне!
Архаров понял, что для полного счастья ему недоставало только жалоб от пожилых и вздорных светских дам. Левушка же навострил ухо.
– Садитесь, сударь, и изложите внятно, - сказал он.
Гость, так и не представившись, уселся в кресло.
– Тетушка моя желала купить ткани и поехала в суконную лавку. В прошлый свой приезд в Москву она приметила хорошие лавки, где можно недорого взять сукно на ливреи дворне. Она поехала туда же и попросила снять с полки штуку зеленого сукна. Приказчик же выкладывает ей красное да просит полюбоваться глубиной и красотой зеленого тона, клянется, сукин сын, что вовеки не вылиняет. Тетушка, видя, что детина со вчерашнего пьян, тут же отправляется в соседнюю лавку и просит показать зеленые сукна. Ей и там выкладывают красные, разных оттенков. Когда же она, возмутившись, принялась объяснять приказчику его ошибку, все бывшие в лавке тут же подтвердили, что сукно доподлинно зеленое. С тетушкой случился припадок, она дама немолодая… еле до дому довезли… подумайте - даму упрекают в том, что она выжила из ума!
Левушка отвернулся к окну. Он от природы был смешлив, но сейчас не дал себе воли - тут не светская гостиная…
– В третьей и четвертой лавке ваша тетушка услышала бы то же самое, - сухо сказал Архаров. - Таким способом московские купцы сражаются с покупателями, которые чересчур усердно торгуются в лавках. Вашу тетушку, очевидно, запомнили, и тайно отправили посыльного в соседние лавки. Обыкновенно они сговариваются, краснить или зеленить товар. Вот и вся интрига.
– Их надобно примерно наказать!
Архаров сам недолюбливал шалости московских купцов, сам, случалось, мог изругать такого затейника в прах или заехать в ухо наглому приказчику, выскакивающему на улицу, чтобы завлечь богатого покупателя. Но одн он знал твердо - купцы на него жаловаться не станут, тем паче - императрице. Это были устоявшиеся отношения, исполненные даже известного благородства. Отдавать шалунов на растерзание какой-то пока еще безымянной тетушке Архаров не желал.
– Не советую вам, сударь, добиваться наказания купцов, - сказал он сухо. - Вот наилучший способ сделать вашу тетушку посмешищем всей Москвы.
– Что же, коли так - про безобразия купцов ваших будет доложено государыне.
Тут Левушка не выдержал.
– И превосходно, сударь, - сказал он, - государыня будет весьма благодарна, она любит подобные истории про дам. А особливо коли история московская - тут же в дело пойдет.
– Ты про что, Тучков? - спросил ошарашенный этой речью Архаров.
– Про то, господин обер-полицмейстер, что государыня, как вам известно, пишет премилые комедии, вон, коли угодно, «О, время!» - как раз из московской жизни, - и Левушка повернулся к посетителю. - Видели, поди, в Зимнем на театре? Два года назад, помню, комедия имела огромный успех, да «Именины госпожи Ворчалкиной» - такой же. Особливо государыня любит наших барынь изображать. Приключение тетушки вашей с купцами наверняка будет выведено в новой комедии… а государыня на язык остра, коли помните… весь двор снова в восторг приведет!
После этого возгласа в кабинете воцарилось молчание.
Посетитель встал.
Положение его было незавидным - коли по чести, он должен был благодарить поручика Тучкова за своевременное предупреждение. Стать посмешищем двора и пребывать в сем звании, покамест на сцене Малого театра идет злоехидная пьеса, для пожилой дамы смерти подобно. А уж что будет с племянником за столь неловко исполненное поручение - и вообразить страшно.
Архаров видел, что посетитель угодил в дивное по степени неловкости положение. И, чтобы поскорее избавиться от этого вертопраха, пришел ему на помощь.
– Я велю полицейским командам наблюдать, дабы купцы следили за поведением сидельцев и приказчиков в лавках, - сказал он с таким видом, что и пень бы понял: аудиенция окончена. - Коли угодно, оставьте в канцелярии «явочную».
– Эй, кто там! Сопроводите его милость в канцелярию! - крикнул Левушка.
Менее всего посетитель ожидал, что молодой долговязый щеголь с высоко взбитыми волосами, с модными воздушными буклями, неизвестно зачем нацепивший к дорогому нежно-голубому кафтану длинную шпагу с простым эфесом, распоряжается в кабинете обер-полицмейстера, как у себя дома.
Вошел Саша с бумагами.
– Отведи его милость к Щербачову, - сказал ему Архаров, - да возвращайся поскорее.
Дверь за растерявшимся от такой наглости гостем захлопнулась.
Архаров и Левушка, оба почему-то до последнего глядевшие на движение дверной ручки, повернулись друг к другу.
– Ну, слава Богу! - сказал Архаров. - Я уж думал, ты не приедешь.
– Николаша! - заорал Левушка. - Да как ты мог такой вздор в голову посадить!
И кинулся к приятелю, и облапил его длинными руками, и даже звонко чмокнул в щеку.
– Мы в Клину ночевал, думали к тебе вечером быть, эта старая рухлядь едва не развалилась, мы колесо потеряли! - рассказывал возбужденный Левушка. - Остановились в какой-то избе, не чаяли живы остаться - тараканы там поротно и побатальонно выступали, да в ногу! Чуть рассвело - выехали, а на Пречистенке Меркурий Иванович докладывает: барин-де дома не живет, приезжает кофею попить. Тут они за нас взялись - Никодимка твой, Меркурий Иванович, бабы, вмиг все спроворили, утюги разогрели…
Архаров слушал, кивал и тихо радовался. Он соскучился без взбалмошного, жизнерадостного, говорливого Левушки. А коли честно - устал быть суровым, всезнающим, за все московские недоразумения отвечающим начальником. Отдохнуть душой же, как он недавно обнаружил, было не с кем. В гостиной Волконских он был желанным гостем, даже беседовал там с Варенькой Пуховой, но это была именно гостиная, налагавшая определенные обязанности и требовавшая светских манер. Михайла Никитич его уважал и ценил, но их беседы не были дружескими, вольными, веселыми - толковали все о делах и о житейских надобностях, а Елизавета Васильевна деликатно, однако настойчиво пыталась переделать Архарова из хмурого увальня в галантного кавалера.
С Левушкой Архаров мог быть самим собой - по крайней мере, ему казалось, что приятель возвращает его в давнее гвардейское время, по нынешним понятиям - вполне беззаботное. Да Архаров и был тогда моложе на четыре года… четыре года московской жизни, кажется, поставили здоровенный крест на его молодости…
– Ты не один, что ли, приехал?
Левушка хлопнул себя по лбу, от волос поднялось нежное облачко пудры.
– Ну да! Ты Лопухина помнишь? Из наших? Ну так я его с собой привез. Прямо к тебе, твой Меркурий Иванович ему и комнату отвел.
Архаров опустил глаза, припоминая все офицерство Преображенского полка. И выплыло-таки из памяти нужное лицо. Однако странно было, что офицер из столь известного рода не имеет на Москве довольно дядюшек и тетушек, чтобы остановиться, а просится на постой к обер-полицмейстеру.
– Петрушу, что ли? - на всякий случай уточнил Архаров. Все-таки он четыре года не был в столице - мало ли каких недорослей прислали в полк?
– Петруша наш уж капитан-поручик, - сказал Левушка, и как будто без зависти, как будто даже с уважением, да только Архаров прекрасно понял, в чем дело: капитан-поручик был очень молод, возможно, Левушкин ровесник, сам же Тучков - все еще в поручиках ходит. Понятное дело, столь знатной родни не имея, каждого нового чина по десять лет ждешь…
Архаров хмыкнул.
– Ну, своему брату преображенцу я всегда рад, - сказал он и вдруг вспомнил, что и родного-то братца Ивана целую вечность не видал. А что делать - у обоих служба…
– А знаешь ли, какая у нас главная новость? - спросил Левушка и сам же ответил: - Эскадру ждут!
Когда я уезжал, толковали, что их со дня на день следует ждать в Кронштадте.
– Какую эскадру?
Левушка уставился на друга, выпучив глаза: как можно не знать вещей общеизвестных?
А меж тем Архаров, невеликий любитель читать столичные газеты, и впрямь имел о военных делах, когда они его напрямую не касались, темное понятие. Когда к Москве приближалось войско маркиза Пузачева, он посылал к князю Волконскому за свежайшими реляциями и пытался извлечь из них нужные себе сведения. Но морские сражения за тридевять земель были ему любопытны разве что в общих чертах: кто одержал победу да какой с того прок.
Он коли и слыхал о событиях семилетней давности, но их не помнил. Он знал, что Алехан Орлов, генерал от кавалерии, отродясь не командовавший даже яликом, исхитрился одержать победу в бухте Чесма над вдвое превосходящими силами турок. Но он не задумывался, что тому предшествовало.
Ему было известно, что Алехан незадолго до войны уехал в Европу для поправки здоровья. Но не знал, что граф Орлов путешествует по Италии под чужим именем. Братец Иван, бывший при Алехане, о том не писал… Не задумался Архаров также, какая болезнь может потребовать для исцеления тайных встреч с греческими эмиссарами, а о том, что русские офицеры под видом купцов приезжали в Черногорию и Морею, где становились военными советниками при повстанцах, и знать не мог. Не знал Архаров, разумеется, и того, что Алехан в самом начале войны писал государыне, предлагая отправить в Средиземное море российский флот. Это должно было способствовать восстанию православных балканских народов и греков, которые помогли бы разбить турок.
Флот Алехан получил. И равным образом право давать офицерские чины грекам и славянам, отличившимся в борьбе с турками. Вся Европа потешалась: куда лезут эти обезумевшие русские? И куда они побегут, когда турецкий капудан-паша Гассан-бей потопит их корабли?
Бежать никуда не пришлось. Орлов и адмирал Спиридонов одолели Гассан-бея в Чесменской бухте. Вступая в бой, оба знали, что отступать некуда. Сражений, собственно, было два - в Хиосском проливе и в самой бухте. Викторию даже озадаченная Европа признала безоговорочной: более двадцати крупных военных турецких судов и множество мелких сгорели и пошли на дно, прочие были взяты в плен. Турки потеряли весь флот и десять тысяч человек, русские - одиннадцать матросов. После чего три фрегата орловской эскадры зашли в бухту Наварин, где в крепости Неокастро обосновались турки. Установив береговые артиллерийские батареи, моряки шесть дней обстреливали противника, потом подошло подкрепление - и крепость пала. Внутри обнаружилась православная церковь, лишенная креста. Отложив прочие заботы, крест смастерили и заново поставили на куполе. Немудрено, что греки едва ли не боготворили прогнавшего турок Алехана, считая его своим освободителем.
Это Архаров уже знал, он только не сообразил сразу, что эскадра, которую Алехан увел в Ливорно, должна в конце концов как-то воротиться домой.
– А что в столице говорят про Орловых? - спросил он.
– То и говорят, что не сумели своей фортуны удержать. Государыня ведь, ты знаешь, все графу Григорию прощала… ну и допрощалась… Из всех Орловых только граф Алексей при ней останется - вот что говорят.
Архаров покивал. Алехан уже давно был ему симпатичен. Прочие братцы Орловы могут преспокойно подавать в отставку - ни пользы от них особой государству не было, ни вреда их отсутствие не принесет. Алехан же был не только умен и догадлив - он был по внутренней своей сути способен на беспредельную верность. Архаров не мог бы объяснить, как он учуял в Алехане это качество. То же самое ощущение присутствия верности было у него и при встречах с Суворовым, и, довольно часто, при беседах с Волконским.
Он охотно бы послушал новости об Алехане Орлове, но Левушка перескочил на иное - стал рассказывать, что к сестрице Мавруше уже сватаются, и одновременно расспрашивать Архарова о Вареньке Пуховой.
– Медальон-то еще носишь? - спросил Архаров.
Левушка засмущался.
Он действительно не раз надевал на шею этот портрет на темно-вишневой ленточке. Почему, для чего - сам толком не знал. Ему нравилось нарисованное Варенькино лицо, нравилось внимание светских прелестниц к портрету. Медальон словно делал Левушку более загадочным и желанным для них кавалером.
Опять же - именно этот медальон спас ему жизнь, и Левушка не хотел с ним расставаться как с предметом, приносящим удачу.
Но амурный разговор был прерван Шварцем, который доложил: сегодня-де вздымают над крыльцом архива железный глобус, он сам проходил, видел - народ толпится, непременно где ротозеи - там и шуры, так не угодно ли его милости отрядить полицейскую команду для поддержания порядка?
– Мог бы старый черт Миллер и предупредить, - буркнул Архаров. - Мало мне с ним было хлопот…
И точно, хлопот за почти четыре года архаровского обер-полицмейстерства хватило.
Федор Иванович Миллер достался ему в наследство от бывшего обер-полицмейстера Юшкова, сбежавшего от чумы, вместе со всеми затеями неугомонного немца. К тому времени знаменитый путешественник, историограф, академик был уже не столь красив и силен, как в молодости, сильно болел, но по-прежнему бывал то язвителен, то чрезвычайно весел, склонен к остроумным и причудливым мыслям, но при этом - вспыльчив и суров. Кстати сказать, спервоначалу был он отнюдь не Федор и не Иванович, а Герард Фридрих, но Россия с европейскими именами не церемонилась.
Десять лет назад Миллер был назначен главным надзирателем московского воспитательного дома, с оставлением при Академии Наук в звании историографа, а через год определен начальником Московского архива иностранной коллегии (ныне Московский. главный архив министерства иностранных дел). Архив находился в самом бедственном положении. Ценнейшие документы, хранившиеся в подвалах старых кремлевских приказных палат, были в запустении. В год шелковой революции их извлекли оттуда, перевезли в бывшее Ростовское подворье на Варварке, на углу Рыбного переулка, и едва не погубили - место было низменное, неподалеку от Москвы-реки, да и сложили сундуки с друвними грамотами в подваах да в каких-то ветхих амбарах. Подвалы затоплялись в половодье, а в амбарах бумаги нещадно истреблялись мышами и крысами. Четыре года пришлось сжечь собранные в девять сундуков остатки архивных дел, причем сгребали их и укладывали в сундуки лопатами - до такой степени все сгнило и расползлось.
В Москву Миллер просился уже давно, сознавая важность для науки кремлевских архивов и страстно желая их раскопать. Переехав и определившись на службу в Московский архив иностранной коллегии, он ознакомился с состоянием дел, ужаснулся и стал настаивать на приобретении нового здания. Когда государыня в 1767 году приезжала в Москву для открытия Уложенной комиссии, Миллер выпросил у нее денег для покупки дома князя Голицына в Хохловском переулке. Дом, стоящий особо, в отдалении от иных построек, и потому безопасный от пожаров, был куплен на средства из постовых доходов, а далее началось самое страшное - починки, переделки и исправления. Княжеские хоромы немало обветшали, пришлось чинить и стены, и фундамент, для бережения от пожара в двух палатах деревянные полы заменили чугунными и каменными, навесили железные двери и решетки на окна, причем ради похвальной экономии взяли и листовое железо для кровли, и решетки, и оконные железные затворы, и чугунные плиты для полов, и даже лестничные ступени из разобранных кремлевских приказных палат.
Все эти работы проводились с той степенью безалаберности, которая прямо-таки восхищала Архарова в первые месяцы его обер-полицмейстерской службы: даже не удосужились обнести забором двор, и через него ходили все, кому не лень, прихватывая все, что плохо лежит. И более того - в пустых и не запертых палатах повадились прятаться голицынские крепостные девки. К новым владениям архива примыкала усадьба управляющего московскими имениями Голицына - оттуда они и прибегали, спасаясь от побоев. «Явочные» о нахождении этих девок в пустых палатах и ссорах чиновников Московской конторы иностранных дел с управляющим как при Юшкове поступали в полицейскую канцелярию, так и при Архарове продолжали поступать - с кратким лишь перерывом на время чумы.
Лишь недавно архив был достроен, привезены и расставлены особые застекленные шкафы - чтобы не было нужды, в сундуках и укладках. Миллер, семидесятилетний, уже три года как парализованный, но душевно бодрый, руководил работами с прежней горячностью. Вот ведь и до железного глобуса додумался - чтобы обозначить причастность архива к делам иностранным. А в Москве всякая вывеска тут же толпу собирает - нетрудно представить, сколько фурору произведет огромный глобус… праздник для шуров, а не глобус, черти б его побрали!…
– Гутен таг, герр Шварц! - воскликнул Левушка. И, балуясь, полез обниматься. Немец перенес это стоически, почитай что героически.
Бесстрашный Левушка четыре года кряду все не мог придумать, чем бы допечь Шварца. Черная душа имела для таких молодецких наскоков непоколебимое спокойствие - спокойствие крупного пса, чью тяжелую лапу избрал для своих упражнений месячный котенок.
Архаров обычно наблюдал за Левушкиными проказами с любопытством - ссоры он не желал, но ссоры бы и не вышло, а посидеть зрителем в партере при этаком поединке занятно.
– А я анекдот вычитал, - похвалился Левушка. - Словно для нас напечатали. Про прусского короля Фридриха, которого мы еще при Елизавете Петровне били.
Архаров посмотрел на Шварца - нет, немец вроде не был пруссаком и не должен был обидеться. Хотя еще его деды русскому трону служили, но черт ли эти национальные обиды разберет…
– Как-то Фридрих вздумал посетить берлинскую тюрьму. Там, надо полагать, такие же застенки, как у нас - по двадцать арестантов в каморке с конское стойло, мужики с бабами вместе, - начал Левушка. - Взял с собой тюремного коменданта, пошел, вошел в камеру. Преступники его узнали, попадали на колени и наперебой завопили, что невиновны, что попали сюда ошибкой или промышлением злых врагов, и все они - люди верноподданые и порядочные.
– Дело знакомое, - согласился Шварц.
– Наслушались, - подтвердил Архаров.
– А один разбойничек стоит себе в сторонке, ни о чем не просит. Фридрих подходит к нему и спрашивает: «Ты, поди, тоже белокрылый ангел, а попал сюда по ошибке?» «Никак нет, ваше величество! Я лесной налетчик, сижу за грабеж!»
Почему-то Левушка отрапортовал за грабителя примерно как солдат на плацу, браво и с веселой гордостью за свое звание.
– Тут Фридрих обернулся к тюремному коменданту и говорит… - Левушка сделал паузу, чтобы собрать внимание и преподнести неожиданный выверт прусского короля во всем его блеске: - «Немедленно вышвырните отсюда этого негодяя, чтобы он не оскорблял своим присутствием порядочных людей!»
Архаров расхохотался, да так, что Шварца несколько накренило от него - двигаться вместе со стулом от заржавшего, как стоялый жеребец, начальника он не мог, открыто шарахнуться - тоже.
Приступы хохота с Архаровым случались именно в таких случаях - когда являлось на свет нечто вовсе неожиданное.
Левушка был доволен беспредельно.
– Что, Карл Иванович, не проделать ли такое и у нас в полицейско й конторе? - спросил он.
Архарову понравилось это «у нас» - юный друг не корчил из себя столичную райскую птицу, залетевшую случайно в московский курятник. И вообще он несколько изменился - лицо суше стало, что ли, юношеский голос - гуще?
Шварц понял подначку.
Вся Москва толковала, что у него в застенках и невинные сидят. Что бывают наказуемы до тех пор, пока не возведут на себя поклепа - лишь бы спустили наконец с дыбы. Что и сам кнутобойничает в охотку.
Ответить нужно было и так, чтобы не поссориться с Архаровым.
Вся Москва и о другом толковала - что новоявленный обер-полицмейстер навербовал полицейских из всякого сброда, среди которого бывший мортус - отнюдь не редкость, а обычное явление. Шварц же знал, как все это происходило, - те же Федька и Тимофей не корчили из себя невинных, прямо выложили свое прошлое - чтобы с облегченной душой честно служить тому, кто их признал достойными службы. Брякнешь сдуру о налетчике, которого Фридрих неосмотрительно выпустил на свободу, - три года не расхлебаешь, потому что бывший преображенец Архаров не по-дворянски злопамятен, это за версту видно.
– Такое могло быть совершено только раз, - сказал Шварц, обдумав ответ. - И только для того, чтобы разнеслась весть. Выгоднее говорить о себе правду даже в застенке, нежели лгать, полагая своего государя глупее себя, - вот что хотел сообщить верноподданным его величество. И ради этого был выпущен на свободу один человек, который, возможно, раскаялся и стал полезным членом общества.
Левушка и Архаров переглянулись. Похоже, Шварц действительно считал такое чудо возможным.
– Скучно ты растолковал, Карл Иванович, - только и заметил Архаров, и тут же перешел к иным делам. Левушка же засобирался - он положил себе до вечера проехаться с визитами. Уговорились ужинать вместе у Архарова, и поручик Тучков отправился развлекаться.
Некоторое время спустя прибыл Клашка Иванов - но без Марфы. И выглядел весьма смущенным.
– Ваша милость, Марфы дома не случилось, да это еще полбеды.
– А в чем беда?
– А она теперь дома почитай что не живет, все в гостях пропадает. Порой с утра увеется - вечером на извозчике приезжает.
– От скуки, что ли? - вспомнив вечную Марфину беду, спросил Архаров.
– А кто ее разберет…
– Плохо. Вот черт, не додумал - записку надо было ей послать, чтобы сама сюда притащилась.
Архаров желал поручить Марфе разведать, с кем там на самом деле согрешила дочка подрядчика Курепкина Фимка. Она нередко выполняла такие задания, где нужна бабья хитрость и разговорчивость, а за это обер-полицмейстер сквозь пальцы смотрел на ее грешки - она все еще промышляла скупкой краденого, а будучи прихвачена на горячем, клялась и божилась, что вещицы-де - не шуровской слам, а ручной заклад, под который ею выданы деньги, да и предъявляла свою тетрадку с записями - кто, когда и на какой срок заложил ей свое имущество.
– Ладно, беги сам на Якиманку. Попытайся хоть что-то разведать.
– Так не вышло же, ваша милость.
– Не вышло, когда ты пытался в том купидоне кого-то из наших опознать. А ты знай, что то был не наш служащий. И тогда тебе совсем другие вопросы в башку придут. Теперь пошел вон, - так Архаров напутствовал Клашку. И занялся прочими делами.
О визитере с тетушкой он вспомнил, когда уже был подан экипаж, чтобы ехать к князю Волконскому. Он искренне хотел развлечь княгиню с княжной, заодно и девицу Пухову, но, разумеется, никакой «явочной» о купеческих шалостях в канцелярии не оказалось. Жалобщик попросту сбежал. Нетрудно ему было догадаться, что обер-полицмейстер уловил мысль своего приятеля с полуслова, и дивный документ окажется предъявлен хотя бы князю Волконскому и его супруге, даме настолько светской, что через сутки над тетушкой будет потешаться вся Москва.
Но и без «явочной» Архаров порядком повеселил общество. Москвичи сию купеческую затею знали и порадовались тому, как опозорилась столичная жительница. Петербуржские же гости Елизаветы Васильевны посмеялись в меру - хоть они и избежали такого пресмешного срама, однако поди знай, какие еще пакости готовит Москва.
А вот Варенька с чего-то огорчилась, слушая, как незнакомая ей тетушка едва с ума не сбрела, приняв близко к сердцу проказы московских купцов. И тем Архарова озадачила - ненадолго, впрочем, поскольку он не стал засиживаться у Волконских и отказался от домашнего концерта и от ужина. У него собственные гости дома сидели и хозяина ждали.
Архаров колыхался на мягком каретном сидении, думал о Тучкове, который наверняка уже вернулся на Пречистенку, и в лад мыслям одобрительно покачивал крупной головой.
Левушка несколько изменился - был не столь шумен, как обычно, почти перестал размахивать руками и, показывая высочайшую степень удивления, таращить большие темные глаза. Похоже, он наконец повзрослел и стал менять повадку. Это радовало - теперь Архаров и Левушка могли, наплевав на разницу в возрасте, быть совершенно на равных.
А ведь Архарову именно такого человека недоставало - с кем можно быть на равных.
Уже предвкушая приятную мужскую беседу с серьезным и деловитым Левушкой, Архаров выбрался из кареты и вошел в сени.
И тут же к нему, оттолкнув сооружившего приятную улыбку камердинера, устремился повар Потап.
– Батюшка барин, прикажите их милостям колоду возвернуть.
– Какую тебе еще колоду?
– Господин Тучков изволили колоду мою взять в свои покои, на которой мясо рублю… нарочно со двора притащить велели… прикажите обратно ее возвернуть!
– О Господи… - только и мог сказать Архаров. - Да на хрена ему?!.
Потап развел руками.
– И давно он ее у тебя забрал?
– А как приехали с господином, не знаю как по прозванию, с Федей Савиным и господином Клаварошем, так тут же за колодой послали.
– Меркурий Иванович! - Архаров повернулся к вышедшему навстречу домоправителю. - Что это за хренотень с колодой?
– Велели взнести наверх, ваша милость, - отвечал домоправитель, - в залу бальную, и там запершись второй час сидят.
– Сидят вчетвером, и колода - пятая?
– Втроем, ваша милость. И от поры до поры кричат, как ежели бы их резали.
Архаров повернулся спиной к Никодимке, скинул ему на рука кафтан и пошел к лестнице. Ему было страх как любопытно, что там затеял повзрослевший и поумневший поручик Тучков.
Но обер-полицмейстер чуть не оступился на лестнице и не клюнул носом ступеньку, услышав дикий вопль из залы - вопль исступленого и беспредельного восторга.
Он в два прыжка оказался у самой двери и треснул в нее кулаком:
– Отворяй! Отворяй, Тучков! Сдурел ты, что ли?
Дверь распахнулась, Федька со шпагой в руке отступил назад и обер-полицмейстер ворвался в бальную залу.
Это помещение особняка не было еще убрано должным образом - до него княгиня Волконская пока не дотянулась. Разве что стулья, бывшие ранее в большой и малой гостиных, были сюда сосланы и стояли вдоль стен, столик какой-то ободранный, комод, длинный и узкий диван - на таком тощему Левушке впору спать, и то, гляди, свалится во сне. Посреди залы действительно стояла широкая колода, а рядом с ней - коленопреклоненный Клаварош. Возле Клавароша обретался Левушка с обнаженной шпагой. Все три проказника были без кафтанов и в расстегнутых камзолах.
– Что вы тут затеяли? - спросил ошарашенный Архаров.
– Иван Львович парижскому шпажному бою учит, ваша милость, - первым ответил Федька. - Насилу уговорили.
– А колода для чего? Мусью, опять твои разбойничьи штучки? - уже догадавшись, в чем дело, полюбопытствовал Архаров. - Ну-ка, показывайте.
Клаварошева манера фехтовать с применением не только шпажного клинка, но и собственных длинных ног была ему в общих чертах известна, он только не мог взять в толк, для чего ограбили повара Потапа. И минуту спустя все понял.
Француз поднялся с колена, взял у Федьки шпагу. Клаварош и Левушка отсалютовали обер-полицмейстеру, встали в правильную позитуру - оба высокие, тонкие, изящные, и особо Архаров позавидовал тому, как красиво держат на отлете левую руку. Они начали бой с неторопливого обмена выпадами, не ставя целью хотя бы задеть противника, а лишь подготавливая Клаварошев коронный номер. Левушка перешел в наступление, отогнал француза к колоде, как бы случайно открылся, тут же Клаварош кинулся в глубокий выпад, бедром впритирку к колоде, но не так стремительно, как следовало бы, и выкрикнул какое-то французское слово.
Левушка довольно грубо отбил его клинок, устремился вперед - и, прыгнув левой ногой на колоду, поверхность которой была вровень с Клаварошевым коленом, правой с победительным воплем решительно лягнул воздух перед собой и тут же соскочил на пол.
– Это что? - спросил потрясенный Архаров.
– Это манера такая - коли в драке один противник со шпагой, а прочие с ножами, к примеру, вот так на его колено прыгнуть. Мусью наш утверждает, что до плеча взбежать можно, да только у нас другой колоды, чтобы учиться, нет, - объяснил Левушка. - Федя, давай, твой черед!
– Так комод тащите! - приказал Архаров. - С колоды - на комод, понял?
– Так развалим же!
– Туда ему и дорога!
Федька и Левушка вытолкали на середину залы старый и, возможно, трухлявый комод. После чего Клаварош перед тем, как продолжить урок, стал объяснять Федьке его ошибки, а Архаров с Левушкой отошли в сторонку.
– Федьке с детства бы шпажному бою учиться, - восторженно сказал Левушка. - Фехтмейстером мог бы стать! И быстрота, и взгляд точный, и азарт! А рука - гляди, какова!
Архаров посмотрел на его возбужденное лицо, опять - мальчишеское, как много лет назад, и ничего не ответил. Левушкина юность все не желала и не желала иссякать. А вот его собственная кончилась, поди, когда он только получил первый свой чин. Невместно было вести себя, как дитя неразумное,- вот сам себе и приказал присмиреть…
Клаварош поставил Федьку в позитуру и лепил из него фехтовальщика, как ваятель из глины, - разворачивал ему плечи, помещал в нужное место пространства локти. Наконец ихящным жестом пригласил всех к колоде и комоду.
Левушка проделал хитрый прием парижских налетчиков и завопил от восторга, но, уступив место Федьке, он уже был почти спокоен и с некоторой ревностью наблюдал - не окажется ли полицейский более ловок, чем он, гвардеец и лучший в полку фехтовальщик.
Федька же с клинком в руке совершенно обезумел - отрабатывал каждое движение с упорством необыкновенным и был счастлив оттого, что знатоки и мастера взяли его в компанию, учат, школят, и тем самым словно бы поднимают из простых полицейских служителей в какие-то высшие сферы. Он скакал с колоды на комод, воображая, что брыкает и лягает не ждущих такого сюрприза неприятелей, соскакивал на пол и несколько дивился тому, что не видит раскинувшихся по паркету покойников.
Наконец Левушка предложил Федьке и Клаварошу вдвоем на него нападать - с условием, понятно, что Клаварош не пустит в ход своих разбойничьих ухваток. Архаров сел прямо на колоду и следил за Левушкиными маневрами, подбадривая его противников, а потом сам потребовал шпагу. Свою он цеплял не каждый день - да и с кем драться обер-полицмейстеру в палатах Рязанского подворья? Клаварош, устав от поединков, охотно отдал ему свою - и Архаров, сопя, вволю потопал, попрыгал, даже весьма удачно отпарировал два Левушкиных штоса.
Кончилась вся эта прыготня тем, что затеяли побаловаться сженкой. Главным любителем сего ритуала был, понятное дело, Левушка. Позвали домоправителя.
– Меркурий Иванович, велите господина Лопухина кликнуть. Даже коли лег - пусть в шлафроке приходит! - распорядился Левушка. Он в архаровском особняке чувствовал себя как дома - да Архаров бы и обиделся, если бы поручик Тучков принялся манерничать.
– А он разве уже приехал? - спросил обер-полицмейстер.
– Да он в твоем кабинете засел, книжки читает. Говорит - превосходно подобранная библиотека!
Архаров мысленно поблагодарил книготорговца, который эту библиотеку составил. И предложил спуститься в столовую - поскольку в зале даже присесть было не на что.
Туда же пришел из кабинета капитан-поручик Лопухин, чернобровый и темноглазый молодой человек, с весьма длинным и тонким носом, внешности почти приятной - Архарову не нравился лишь его рот, красиво вырезанные и пухловатые губы, украсившие бы любую прелестницу, складывались как-то малоприятно, даже брезгливо. Глаза, впрочем, были внимательные, умные, взгляд - живой и бойкий. В отличие от буйного Левушки, этот был в движениях куда более сдержан.
Ритуал встречи гвардейцев был известен - едва увидев друг друг, раскинуть руки для объятия и, продвигаясь навстречу, громко говорить известные слова: «Ну, брат!…», и «Сколько лет, сколько зим!», и «Привел Господь увидеться!», и тому подобные, общепринятые, но с бьющей ключом радостью.
Когда Петруша Лопухин шестнадцатилетним недорослем прибыл в лейб-гвардии Преображенский полк, куда был записан семилетним, и сразу же получил чин прапорщика, а было это в 1769 году, Архаров смотрел на него косо - сам он начал службу солдатом, а первый офицерский чин получил лишь к двадцати годам. То бишь, проходя по служебной лестнице неторопливо и чинно, со ступеньки на ступеньку, он очень раздражался, когда кто-то через две ступеньки резво вверх скакал. Дружбы между ними не возникло, а потом Архаров как отбыл в чумную осень вместе с тогдашним графом, а ныне князем григорием Орловым гасить московский бунт, как неожиданно остался в Москве командовать полицией, так более в полку почитай что и не появлялся - как-то, будучи по делам в столице, навестил сослуживцев, а затем - и незачем было…
Но соблюдением ритуалов он не пренебрегал. Тем более - в своем доме. По внутренней своей сути он был хозяином, и хозяином гостеприимным. Мало ли, что этот молодой человек в двадцать два года уже капитан поручик - а Архаров к этому чину более десяти лет пробивался! Во-первых, гость, во-вторых, гвардеец, в-третьих, Бог даст, ненадолго…
Архаров и Лопухин обнялись. Тут же обер-полицмейстер спросил гостя, каково его устроили в особняке, стал предлагать ужин, но гость отказался - он, как и Левушка, ездил по родне, и там его по-московски настырно закормили тяжеловесными лакомствами. Но сженку он приветствовал. И, пока шли приготовления, Левушка с Лопухиным наперебой рассказывали Архарову полковые новости: кого повысили в чине, кто вышел в отставку и женился…
Клаварош и Федька стояли в сторонке, переговаривались шепотом и как-то незаметно подвигались к дверям.
– Вы куда это собрались?! - возмутился Левушка. - Сженка - для всех!
Архаров несколько растерялся - сам он мог с полицейскими хоть щи из одной миски хлебать, а гость - гость был иной, человек хотя и молодой, но весьма светский и знатного рода, род сей дал России сперва царицу Авдотью Федоровну, затем царевича Алексея (как вышло, что царевич не стал царствовать, Архаров слышал когда-то, да позабыл) и государя Петра Второго, скончавшегося почти отроком. Заставлять Лопухина пить вместе с бывшими мортусами было как-то вовсе неприлично.
Однако Петруша Лопухин был более светским господином, чем даже казался.
Он и виду не понял, что ему, аристократу, требуются собутыльники более высокого ранга. Определив по произношению, откуда взялся Клаварош, заговорил с ним по-французски - и тем показал себя хорошим гостем, не портящим любой компании.
Архаров наблюдал за ним с легкой тревогой - он же видел, что гвардии капитан-поручик не считает полицейского служащего Клавароша подходящим для себя собеседником, однако гость держался безупречно. И Архаров решил, что большой беды не стряслось - ну, оказались в одной столовой столь разные люди, так ведь не подрались же.
Наконец Меркурий Иванович принес нарочно для сженки заведенную большую булатную чашку, туда налили водки, размешали в водке большую ложку меда, и то, что получилось, подожгли. Тут Лопухин наконец-то возвеселился непритворно: сженка - это было для гвардейца свято!
Так завершился этот день - и, право, не часто случались в архаровском особняке такие вечера, ничем не омраченные, исполненные всеобщей радости: у Левушки это была радость встречи; у Лопухина - радость человека, отдыхающего после долгой дороги; у Федьки - радость, что поручик Тучков вернулся и бьется с ним на равных; у Клавароша, возможно, радость, что не нужно брести к Марфе - на Пречистенке еще никого из архаровцев без ужина не отпускали и при малейшем намеке на согласие оставляли ночевать; Меркурий Иванович тоже был счастлив забыть свои болячки и домашние обязанности, а вспомнить - офицерскую свою молодость, когда довелось пить сженку и на биваках, и на корабельной палубе.
Как и следовало, к сженке добавились графины с домашними настойками и собственноручно изготовленные кабатчиком Герасимом травнички - один бурый, другой зеленоватый, третий почти черный. Архаров рассказал, как началось его знакомство с хозяином «Негасимки», а Левушка чуть не в лицах изобразил затеянную Архаровым драку. При этом Лопухин слушал весьма внимательно. И Архаров, хотя был уже под хмельком, поймал его взгляд.
Холодное любопытство, любопытство путешественника, проезжающего через дикую местность, население которой в лесу родилось и пням молилось, было в этом взгляде.
Но и Лопухин был не прост, и он тоже следил за Архаровым, и вовремя улыбнулся, и вопросец задал: с чего кабак зовется «Негасимкой». Левушка, не замечавший этих тонкостей, растолковал: в земляной норе под Покровским собором уж лет сто, как постоянно горят свечи, и пяти минут не было, чтоб там без огня жили.
А потом количество жженки и вин совершенно изменило обстановку, и Лопухин стал куда более походить на гвардейца и преображенца, нежели в трезвом виде. И Архаров вздохнул с облегчением - понимая, впрочем, что к утру любезный гость протрезвеет…
* * *
Яшка-Скес потихоньку вел свой собственный розыск. Если бы его уволили от службы дня на два, на три, он бы докопался, что означали те немытые кофейные чашки у Марфы, что означают ее путешествия в карете с красно-черным гербом и кого она привечает, бегая на огород в одной рубахе. Но забот хватало - и он вовсе не желал наживать себе лишние неприятности, пренебрегая службой. Потому он даже не каждый день навещал веселую бабенку Феклушку.
Они встречались в сарае, где не было большого простора для амурных шалостей. Яшку это мало беспокоило - в отличие от Демки, он не был великим любителем бабьей сласти. А вот Феклушка была большой любительницей, и кроме Яшки у нее, очевидно, было еще несколько галантных кавалеров. Муж, трудясь на фабрике, уделял ей недостаточно внимания, а она, как всякая баба, когорую Бог красой обделил, считала, что должна обставить всех красивых баб по амурной части, и до сих пор это у нее неплохо получалось. Тяжко бы пришлось Феклушке, кабы батюшка на исповеди вздумал спросить, от кого родила они своих детишек. Но такого вопроса не было, и гулена собиралась замолить свои грехи на старости лет - когда уж новых заведомо не прибавится.
Сложилось так, что муженек отпросился у начальства, чтобы на три дня поехать в Тушино - хоронить деда. Он хотел было взять с собой супругу, но Феклушка отказалась наотрез - она не хотела оставлять хозяйство на соседок, а родственницы, которой можно было бы доверить двух малых деток, корову, кур и поросенка, у нее в Зарядье не было. Высказав это мужу, она получила целых три дня вольной жизни.
Ими следовало распорядиться наилучшим образом!
И надо же было тому случиться, что под вечер первого дня такой свободной Феклушкиной жизни Яшка оказался в Зарядье. Причина была служебная - на торгу подрались бабы, и одна другой чуть не всю косу выдрала, подбила глаз и вообще опозорила на всю Москву, сорвав у нее с головы платок. Опростоволосить замужнюю женщину - это было такое оскорбление, с каким муж мог и до Рязанского подворья добежать, имея за пазухой коряво написанную каким-нибудь промышляющим у кабацких дверей полупьяным грамотеем «явочную». Но Яшка случайно оказался поблизости, расспросил разнявших драку людей и, узнав, что преступница, похоже, из Зарядья, не десятских туда направил разбираться, а пошел по следу сам, взяв с собой свидетельниц - двух здоровенных и злобных теток, дальних родственниц потерпевшей бабы.
Тетки оказались бодры и деятельны, провели розыск почти без помощи полицейского, драчунью отыскали, и Яшке осталось лишь вступить в переговоры с ее супругом, который, судя по жалкой бороде, и сам немало от ее рук пострадал. Имя Шварца, как всегда, возымело действие - и, приказав горемыке наутро прийти в полицейскую контору, чтобы узнать о штрафе и прочих возможных карах, Яшка заглянул на двор к Феклушке, благо настало время принимать из стада корову и доить ее.
Феклушка была в превеликом огорчении, но, увидев приятеля, заулыбалась. Тут же доложила, что мужа унесла нелегкая на похороны, и намекнула, что на ужин у нее нынче знатная окрошка, пироги с кашей, чай с баранками. Яшка дураком отнюдь не был и догадался, что вся эта роскошь затевалась не про его честь. Но раз не смог явиться некий гарнизонный капрал, о котором он превосходно знал, то Феклушка зовет в гости того, кого привела к ее воротам амурная планида. Подумав, Яшка согласился - он никому не обязан был давать отчета в своих гостеваниях, а хозяйка, у которой он снимал угол и платил также за стол, уж точно не станет баловать знатной окрошкой.
Такую окрошечку может выставить на стол лишь та хозяйка, у которой в двух шагах от крыльца - свой огород, чтобы надергать прямо с грядки нежнейшую молодую зелень - укроп, петрушку, луковое перо, чесночное перо, листки хрена. Добавив огурцы, соленые или свежие, а также облупленные печеные яйца, хозяйка мелко покрошит всю эту прелесть сечкой в деревянном корытце, смочит крошево рассолом, капнув туда уксуса, разотрет большой деревянной ложкой, и лишь перед тем, как выставлять на стол, разведет квасом, хотя некоторые добавляют сброженный березовый сок нового урожая, и тоже выходит неплохо.
А если со вчерашнего припрятаны остатки жаркого, то можно обобрать с костей мясо до последнего волоконца, мелко нарезать - и туда же, в окрошку, тогда ей и вовсе цены нет.
После целого дня беготни по солнцепеку хорошо разуться в сенях, войти босиком, сесть за стол в прохладной горнице, да еще опершись спиной о стенку, и отмерять себе блаженство ложка за ложкой…
Как большинство архаровцев, Яшка-Скес не так часто пользовался благами домашнего очага, когда и окрошка на столе, и стопочка тут же, и бойкая хозяюшка стелет постель, встряхивая белые льняные простыни с подзорами из толстого домашней работы кружева.
Хозяйкой, впрочем, Феклушка была не больно хорошей, но хотела оказать себя таковой перед любовником, и потому ни свет ни заря забеспокоилась о корове, которую следовало подоить и отпустить в стадо. Яшка в одном исподнем также вышел из дому.
Среди населения Рязанского подворья он считался молодцом странноватым. Никто не мог понять, чего Скесу в сей жизни надо, сам же Яшка никому ничего не растолковывал. Однако и у него была душа, и эта душа хотела простых радостей. Яшка остро воспринимал такие мелкие блаженства, как вкус окрошки, в коем неуловимые остренькие и кисловатые оттенки так хорошо ощущаются языком поочередно; тепло от солнечного луча на щеке; сладостный жар от печки, если к ней зимой, прибежав с мороза, спиной прислониться; еще приятно было пальцам прикасаться к бархату и к шелку, даже к льняной ткани, коли лен тонко был спряден; а уж ласкать задумчиво шарики неизвестно откуда взявшихся четок было его обыденным удовольствием. Запахи тоже находили в его душе отклик. Стоя на крыльце, он принюхивался и отличал поочередно запах сеней, где висели сушеные травы, запах хлева - через открытую дверь, запахи с огорода (различать - различал, а имен не знал - Яшка был настоящий горожанин, не умеющий на грядке отличить морковную ботву от свекольной), а главное - запах, который нанесло с реки ветром.
Московские дневные ароматы ему мало нравились, а вот ночную речную свежесть он не то чтобы любил - он ей тихо радовался.
Однако запахи - запахами, а служба - службой. Постояв на крыльце, Яшка сам себе напомнил, для чего сюда явился.
Марфа жила в Ершовском переулке, Феклушка же - в Псковском переулке, и кабы они дружили, то бегали бы друг к дружке в гости огородами. Яшка еще раньше, навещая Феклушку, выспросил ее о Марфином огороде и старой летней кухне, где сводня имеет свидания с загадочным кавалером. Сейчас было самое время прогуляться до той кухни и попытаться нашарить хоть какой-то след.
Яшка спустился с крыльца и зашел за угол дома. Продвигаясь вдоль забора, он легко нашел лаз, который проделали две подружки, его избранница и ее соседка, чтобы бегать в гости без затей. Но у соседки был пес, который Яшку не знал и при попытке пробраться в свои владения весьма сурово облаял. Яшка пошел дальше и нашел место, где плетня не было вовсе. Не ломая голову, что бы сие означало, он пошел к Марфиному дому напрямик и забрался в заросли бурьяна. Тогда только до него дошло - место было выморочным, еще в чуму здесь стоял дом, да был сожжен как зараженный моровым поветрием, после же охотников тут селиться не сыскалось, да и немудрено - в Зарядье не вся земля была хороша, та, что в низинках, весной и осенью сходствовала с болотом, там от сырости плодились комары, а воздух считался гнилым.
Наконец Яшка, пригибаясь, выбрел к Марфину огороду.
Старая сводня дом содержала в безупречном порядке, а копаться в земле не больно любила - да и не покопаешься толком при ее-то телесах. И огородишко-то был с гулькин нос, но все равно часть его заросла, а возделывались лишь три большие, высоко приподнятые над землей грядки, к которым Марфа разумно приставила инвалида Тетеркина. Кухонька, где когда-то стряпали летом, стояла уже за грядками. Марфа не часто ею пользовалась, главным образом - когда наступала пора варить варенья. Это была дощатая сараюшка с печкой, а лавка и стол были снаружи, под яблонькой. Яшка подумал, что летом хорошо тут пить по вечерам чай - в прохладе, слушая тихие и умиротворяющие огородные шумы и звуки.
Он забрался в сараюшку. Было довольно светло, чтобы обшарить все углы и даже заглянуть в холодную печку. Ничего крамольного и противозаконного архаровец не сыскал.
Допрошенная еще вечером Феклушка сказала, что и вчера, и третьего дня Марфа вроде ни на какие свидания в огород не бегала. Возможно, ее роман с загадочным кавалером приказал долго жить. Возможно, она решила, что Клаварош все же лучше…
Но Яшка недаром с раннего детства был шуром. У него появился нюх на добычу.
Глядя на закрытые ставнями окна Марфина дома, он пытался представить себе, чем сейчас занимается сводня. Она не спит, она не должна спать, - так упорно думал Яшка. Старие шуры научили его, следуя за избранной жертвой, подражать походке и словно бы с ней сливаться, тогда возникает некая связь, которой жертва не осознает, шур же пользуется тем, что непостижимым образом может предсказать каждое ее дальнейшее движение. Он откуда-то знает, замедлится или ускорится шаг, повернется голова вправо или влево. Точно так же и сейчас Яшка пытался вместе с Марфой приподнять голову над подушкой, повернуться, спустить на коврик босые ноги. Он по свету, проникающему сквозь ставни, устанавливал вместе с ней время, он задумывался, прислушиваясь к телу - насколько остра необходимость облегчиться. Он смотрел из кухоньки на деревянный нужник и полагал, что Марфа внутренним взором тоже видит этот нужник и ведущую к нему через задний двор дорожку. Словом, Яшка проделал все, чтобы выманить Марфу на огород.
И в это время он услышал шорох бурьяна. Кто-то пробирался той же тропой, что и сам Яшка, собираясь навестить ту же старую кухню. Яшка так и присел.
Он имел полное право клясть себя за дурость - отправился вести розыск в одном исподнем, босиком и без оружия.
Загадочный Марфин кавалер, закутанный в длинную епанчу и в надвинутой на брови треуголке выбрался из бурьяна. Миновав кухню, он подошел к дому и засвистал под окнами «весну», да так, что признанному мастеру этого дела, Демке Костемарову, и не снилось.
Яшка, пригибаясь, выскочил и чуть не кувырком влетел в кусты.
Случилось то, что и должно было случиться, - он ввалился в крапиву. Яшка тихо зашипел и замер, стараясь лишний раз не соприкасаться со зловредным растением.
Марфа выскочила на свист, как молоденькая девка к любовнику, и в точности по описанию Феклушкиных соседок - накинув шаль поверх рубахи. Очевидно, пока Яшка представлял ее в постели, она уже была внизу и ждала знака.
Яшка страстно желал услышать, о чем они толкуют, но беседовали шепотом. Наконец кавалер достал из-под епанчи сверточек и вручил Марфе. Та приняла, спрятала под шаль - с тем они и расстались без единого объятия и поцелуя. Стало, дело было не амурное…
Марфа вернулась в дом, а кавалер поспешил через бурьян туда, откуда явился. Яшка, разумеется, крался следом, уже не обращая внимания на крапиву и колючки.
Кавалер вышел огородами в Мокренский переулок, оттуда двинулся к старым и уже никому не нужным Проломным воротам. Судя по всему, он желал окааться на набережной. Яшка в исподнем страх как не желал выходить на видное место, однако пришлось. Время было самое то, когда хозяйки уже выгоняют скотину в стадо. И если бабы увидят раздетого архаровца - слухи пойдут самые разнообразные. К тому же Яшка-Скес, выросши среди шуров и мазов, был отчего-то весьма стыдлив.
Конечно же, ничто не мешало Яшке надеть хотя бы штаны, обуть хотя бы башмаки на босу ногу, но для этого следовало вернуться на полчаса назад, в Феклушкин дом, а таких кундштюков проделывать он не умел.
Кавалер в епанче завернул за угол и скрылся из виду. Яшка почесал в затылке - и побежал следом. Хотя рассчитывать он мог разве что на чудо - скажем, там, на набережной кавалера ждет карета с каким-нибудь приметным гербом. Но кареты не оказалось, а кавалер свернул влево и пошел к Воспитательному дому, чтобы мимо его великолепного длинного фасада, перед которым был разбит сад, по уже благоустроенной набережной выйти к устью Яузы.
Это здание с куполом, множеством окон и внутренними дворами было выстроено так, как если бы в нем хотели устроить обитель и жить, не имея сношений с внешним миром. Иван Иванович Бецкой - тот, что в Санкт-Петербурге основал Воспитательное общество для благородных девиц, - задумал это здание как остров, на котором бы сироты и подкидыши росли вне впечатлений и влияний внешнего, изрядно испорченного мира. Дом строился очень быстро (его открыли одиннадцать лет назад, как раз ко дню рождения государыни), и от него был не только сомнительный прок в будущем, но и ощутимый в настоящем - чтобы получить камень для строительства, стали наконец разбирать старые стены Белого города.
Хотя кавалер шел не больно скоро, даже малость волочил ногу, но и идти было недалеко, всего каких-то полверсты. Кабы Яшка менее беспокоился о своем непотребном виде, то и пошел бы прямо за ним посреди набережной, да еще песню затянул - пропился-де шалый детинушка до исподнего, хорошо хоть крест не пропил. Демка, скорее всего, так бы и поступил. На Яшку же не вовремя напала стеснительность - он и забрался в заросли при чьем-то заборе, выжидая, чтобы кавалер отошел подальше - тогда уж можно преследовать его короткими перебежками.
Тут-то и рухнула ему на плечи неимоверная тяжесть, да еще с воплем: «Имай вора!»
Яшка повалился на бок, надеясь выскользнуть, да не тут-то было. Трое здоровенных мужиков, как и он, босых и в одном исподнем, навалились на архаровца, шипя сердито:
– Ну, попался! Будешь знать, как к нашей Лушке лазить!
Кавалер, услышав возню, невольно обернулся. Яшка увидел его лицо.
Удивляться было некогда - следовало отбиваться. Скес совершенно не желал отвечать за чужие грехи. Но те, что приняли его за Лушкиного любовника, настроены были сурово и поволокли архаровца в какую-то калитку, через двор, к открытой двери погреба.
– Охолони малость!
С тем его и спустили в темницу по короткой, но крутой лесенке, а дверь захлопнули и, надо думать, засовом заложили.
Яшка, охая и растирая ушибленные места, стал наощупь исследовать погреб. Положение было - нарочно не придумаешь. Он понятия не имел, кто эти мужики и что за Лушка такая. Доказать дуракам, что они изловили архаровца, он не мог: во-первых, не доказать, а во-вторых, коли докажешь, так еще хуже может получиться - архаровцев побаивались, когда они компаниями шли по московским улицам и переулочкам, а, захватив одного в плен, могли над ним вволю поиздеваться.
Все надежда была теперь на Феклушку - хотя Яшка и вообразить не мог, чем шалая бабенка могла бы ему помочь.
Он пошарил в темноте, не нашел никакого орудия, чем можно произвести подкоп, и уселся на перевернутый ушат. Оставалось только ждать.
* * *
Наутро обер-полицмейстер ел фрыштик не у себя в спальне, как привык, без затей, а в обществе былых сослуживцев (Федька и Клаварош убрались спозаранку). Тут и выяснилось, отчего Лопухин вздумал поселиться у Архарова.
Сперва это растолковал Левушка.
– Господин Лопухин жениться собрался. Невеста у него тут поблизости живет, полковника Левшина дочь… Никак не вспомнишь? Эти Левшины - уж такие коренные москвичи, что у них и свой переулок есть - Левшинский, от тебя неподалеку. Так удобно будет невесту на свидания вызывать… а что, чем плохо?… Под сиреневым кустиком?…
Архаров усмехнулся. Надо же, как все у молодого человека рассчитано.
– Удобно ли будет, в гвардии служа, семейным домом жить? - спросил обер-полицмейстер.
– А я, женясь, в отставку выйду, - сообщил Лопухин. - Сейчас-то я не больно чиновен, а как следующий чин дадут - так и пойду в гражданскую службу.
– Куда ж, коли не секрет?
– А я, сударь, потому к тебе и напросился, чтобы узнать досконально…
– Что?
– Про полицию.
Вот тут Архаров и онемел.
Сам он первоначально не видел в своем полицейском звании никакого повышения, а только одни хлопоты. И несколько завидовал товарищам, оставшимся в полку и на виду у государыни. А тут, ишь ты, светский щеголь, блестящий гвардеец сам в полицейскую службу рвется!
– Изволь, - сказал Архаров. - Сегодня же, коли угодно, и поедем смотреть мое хозяйство. На рожи полицейские налюбуешься - глядишь, и передумаешь. А то еще у Шварца моего в подвале такая… кунсткамера! Полно разнообразных уродов, только что не заспиртованных.
– Премного буду благодарен, - преспокойно отвечал Лопухин. И чуть поклонился, как полагается благовоспитанному кавалеру.
И тут Архаров тяжко задумался, грызя неизменный свой сладкий сухарь.
Очевидно, что-то поменялось в жизни, пока он в Москве гонялся за мазами и ловил шуров. И поменялось именно в гвардии.
Он вспомнил - будучи в том же чине, что и Лопухин, незадолго до чумной экспедиции, он выстраивал свое будущее точно так же, как многие преображенцы, семеновцы, измайловцы и конногвардейцы: служить в гвардии, пока длится молодость и есть светлые надежды, а как захочется чего-то более основательного - перевестись в армию с повышением в чине, и оттуда уж - в отставку, и жениться, и заводить детишек. И Левушка тоже был той старой закваски - служил себе и служил в Преображенском полку, не помышляя о грядущей старости, и был тем счастлив. Коли бы ему теперь предложили жениться - да хоть на богатейшей и прекраснейшей невесте! - руками бы замахал, восклицая возмущенно, что ему-де рано, да он-де не чувствует к той невесте горячности!
А этот, поручика Тучкова на год моложе, все рассчитал: в будущем году обвенчается на своей любезной Пашотте Левшиной (эти женские имена, русские на французский лад, немало Архарова раздражали), выйдет в отставку из гвардии - родня позаботится, чтобы полковником! - и станет делать карьеру там, куда ранее ни одного гвардейца дрыном бы не загнали. Надо же - в полицию собрался! Ну, будет тебе полиция…
Левушка был догадлив.
– Это я ему про твои подвиги рассказал. И как шулеров ловили, и… и про бунтовщиков…
– Лучше всякого французского романа, - подтвердил Лопухин и тоже явил догадливость: - Полицейская служба не менее чиновна бывает, чем гвардейская - вон при покойной государыне должность генерал-полицмейстера была приравнена к чину генерал-поручика.
Архаров хмыкнул - двадцатидвухлетний вертопрах желает сразу в генерал-поручики, прелестно…
– И генерал-полицмейстер тут же делался сенатором, - добавил Лопухин.
Архаров кивнул - ага, нам угодно и в сенаторы…
– А по Наказу государыни шестьдесят шестого года прямо сказано о необходимости определения на полицейскую службу лиц из знатных фамилий.
Архаров вдруг вспомнил - это тот Наказ Главной полиции, где столь деликатно сказано о необходимости брать в полицейское начальство людей богатых, дабы избежать повреждения их совести.
Левушка глядел на них обоих озадаченно - он понимал, что Архаров дуется неспроста.
В полицейскую контору поехали втроем - поручик Тучков желал видеть старых знакомцев, а капитан-поручик Лопухин - обещанные Архаровым любопытные дела. И надо отдать Лопухину должное - он, получив стопку толстых тетрадей и папок с опытным полицейским Абросимовым впридачу, уселся в дальней комнате, и более от него никому никакого внешнего беспокойства не было. Разве что внутреннее - Архаров вдруг решил, что чересчур открыто рассказывал о своей деятельности.
Он велел позвать Шварца, но немец, оказывается, уже был у Лопухина и прояснял ему подробности некого запутанного дельца.
Это было дело о покраже весьма редкого дерева из огромных оранжерей князя Юсупова и о тайной продаже через двух посредников оного труднопроизносимого дерева в оранжерею Разумовских; сложность заключалась в том, что пришлось опрашивать садовников - немцев, французов и англичан, нарочно выписываемых знатными господами из-за границы и до русской речи не имевших времени снизойти; другая сложность была в том, что архаровцы еще умели худо-бедно отличить яблоню от липы, но любой ботанический мошенник легко мог, предъявив им куст в кадке, обвести их вокруг пальца. Шварц как раз имел длительную беседу с садовником-немцем, притворявшимся, будто по-русски ни хрена не разумеет, и с немалым трудом поймал его на вранье.
Архарова в сем деле более всего, помнится, поразила цена дерева. Две тысячи девятьсот двадцать рублей - такая цена. Когда корову за полтора-два рубля можно купить. Измерив деревце в коровах, Архаров расхохотался - полторы тысячи коров! Такое стадо даже вообразить затруднительно - обер-полицмейстер же представил себе коровье войско, марширующее через всю Москву к Архангельскому, подмосковному имению Юсуповых.
Шварц явился и осведомился, чем может быть полезен.
– Что скажешь о госте нашем, черная душа? - напрямик спросил Архаров.
– С вашей милости позволения - фифист.
– Кто?
– Доподлинный и натуральный фифист, Николай Петрович.
Покопавшись в памяти, Архаров добыл оттуда сценку, когда они втроем, он, Левушка и Шварц, рассуждали о некой науке.
– Как, бишь, наука твоя звалась?
– Фифиология, сударь. Сиречь - наука об умении пользоваться людьми и своевременностью.
– Фифист, говоришь…
Менялось что-то в мире, менялось, и он вновь болезненно осознал это. Пока полковник Архаров и поручик Тучков, как полагается приятелям-гвардейцам, валяли дурака и радовались жизни, сражаясь на шпагах, капитан-поручик Лопухин деловито листал книги архаровской библиотеки, посмеиваясь тому, что почти все они - как только что из типографии, с листами неразрезанными.
– Но сей фифист высоко метит, - добавил Шварц. - Раза два обмолвился - у нас в столице-де сие невозможно, у нас было бы иначе. Желательно ему и далее в столице служить, удаляясь от нее не более чем версты на полторы.
Шварц довольно открыто дал понять начальству, что на пост московского обер-полицмейстера Лопухин не претендует. Хотя Архаров вроде бы никакого волнения не показал - успокаивать его было незачем…
– Ну, Бог с ним, - не докапываясь, какими бумагами сейчас увлечен гость, сказал Архаров. - Карл Иванович, как там твой злодей Батурин?
– Покаялся, да только не во всем. Твердит - купца точно зарезал и труп в Козье болото спустил, а приказчика не трогал, убежал приказчик.
– Куда ж он подевался? Вели Канзафарову или кому другому добежать до торговых рядов, допросить сидельцев - откуда взялся тот приказчик, где у него родня. Может, с перепугу удрал из Москвы и куда-нибудь в Самару подался.
Начался трудовой день, переполненный мерзостями и пакостями - по одной «явочной» дворовую девку со двора свели, по другой «явочной» из запертой комнаты серебряная посуда пропала, по третьей «явочной» соседка напустила на бабу порчу, от которой баба кудахтала курицей и с визгом шарахалась от святых образов.
Это все были новые дела, а у Архарова в голове сидели еще и старые.
– Никишку или Макарку ко мне! - крикнул он.
Несколько минут спустя перед ним стоял Никишка, и рожица у него была очень довольная - знал, что обер-полицмейстер непременно что-то занятное велит сделать.
– Бери лукошко и беги живо на Спиридоновку, в те хоромы, по которым вы лазали, - велел Архаров. - Там кто-то из наших за ними присматривает - так скажи, что я велел… Спустишься вниз, там бочата у стены.
Он задумался, припоминая, как лежало тело.
– Ближний к дверям бочонок отодвинь и там, где он стоял, собери грязь в лукошко, захвати два или поболее аршина вширь и до самой стены, да глубоко не вкапывайся, как раз сверху бери. Пошел!
Проводив взглядом Никишку, Архаров подумал, что надо бы еще парнишек взять для каждодневной беготни. Вот сейчас надобно доктору Воробьеву записку послать - и кто понесет?
К счастью, подвернулся Максимка-попович. Ему обер-полицмейстер и продиктовал призыв к Матвею явиться немедленно, его с тем призывом и отправил.
Потом приходили подрядчики, приносили планы городских улиц, на которых обозначали места будущего строительства. Планы Архарову были нужны для розыскной деятельности, и он всегда ругал тех, кто рисовал нечетко, названия улиц писал вверх ногами. Потом пришлось заниматься фонарями - время от времени их то пьяные били, то злоумышленники воровали. Наконец в дверь просунулась голова Клашки Иванова.
.- Ваша милость… позволите?… - Клашка, хоть и набрался мужества, чтобы без спросу заглянуть в кабинет, однако был сильно смущен и взъерошен, да еще тяжело дышал - не иначе, принесся бегом. В таком состоянии толкового доклада не жди - одни вопли и выкрики, это Архаров уже знал наверняка.
– Заходи, Иванов. Что так скоро?
– Я, ваша милость, на Якиманку бегал и с ней… с самой Фимкой Курепкиных говорил!… С самой!…
– И что, родила?
– Родила, ваша милость, парнишечку. К тетке родной из дома рожать ушла, тетка вдова, ее приютила.
– И что, решили меня в крестные позвать? - пошутил обер-полицмейстер. - Как полномочного представителя полиции?
– Ваша милость, девка в беду попала!
– Да уж, самая что ни на есть девичья беда. Ну, докладывай.
Клашка уже немного пришел в себя.
– Ваша милость, девку-то, оказывается, запугали. Я ей прямо сказал - тебя, говорю, обманули, сволочь какая-то в нашем мундире к тебе ходила, а соседи только шарахались - кому охота с архаровцем связываться?!.
– Прелестно, - только и вымолвил Архаров. Клашка опомнился и покраснел. Но, не дождавшись нагоняя, продолжал:
– Она мне сперва не поверила. Я побожился. Мы, говорю, сейчас как раз того поганца ищем, и ты не бойся - он тебе дурна уж не сотворит. Тут, гляжу, у нее вроде на душе чуть полегчало. Вот что она сказала. Ее уговорил ловкий кавалер, красавчик, буски подарил, сережки, колечко с бирюзой. Ей-то лестно было, да и дура к тому же оказалась, вздумала, будто под венец поведет. Сладилось у них скорехонько. А потом он пропал - когда уже она с брюхом показалась.
– Дело житейское.
– Житейское, да не совсем. Помните, ваша милость, как ее к нам приводили, Фимку-то? Как в три ручья ревела? Так за день до того она своего хахаля повстречала.
– Случайно, что ли, повстречала?
– Нет, ваша милость, а она его искала. Она знала, в который дом на Якиманке он порой приходит, и там бродила. И она к нему подошла, и плакалась, и просила, чтобы покрыл грех. А он ее затащил в конуру какую-то и сказал: коли ты, дура, обо мне кому-либо слово скажешь, тебе не жить, и всей родне твоей не жить, и нож показал, и тем ножом он ее по руке царапнул, чтобы кровь пошла. Она и обомлела.
– Прелестно…
– Потому и молчала! - уловив в голосе начальства едва заметное одобрение, продолжал Клашка. - И глаза поднять боялась - ну как признает? Я ей сказал - дура ты, дура, надо было господину Архарову все, как есть, донести, и имя назвать, и все, что помнишь! А она мне - так неужто господин Архаров мне бы больше поверил, чем своему служителю? А он бы, говорит, меня и точно порешил! А с него какой спрос? Разве арха… разве ж полицейских когда наказывают?…
Архаров подумал, что надо бы как-то исправлять дело, обелять репутацию подчиненных, и тут же осознал, что это - безнадежно, народ уже составил мнение, простое и сердитое, а менять таковое народное мнение - проще самый народ на каких-нибудь турок поменять…
– Стало быть, кавалер был в полицейском мундире? А что я тебе говорил?
– Именно так, ваша милость! А назвался, ваша милость… назвался Михайлой Дементьевым!
– Как?!
– Дементьевым, ваша милость!
Тут Клашка улыбнулся, а Архаров захохотал. Но смех был недолгий.
– Стало быть, этой скотине известно, что в полиции служит Михайла Дементьев, - сказал обер-полицмейстер.
– Так то многим известно.
– А что тому Михайле лет уж, поди, семьдесят? Ишь, шутник… Сколько лет тому шалуну, расспросил?
– Я, ваша милость, все запомнил… А лет тому человеку менее тридцати, так Фимка решила, а росту он чуть повыше среднего, с меня будет, так она сказала, сложения худощавого, волосом темен, в груди узок… примета еще есть - борода плохо растет, кустиками, как два дня не бреется - так сразу видать…
– Еще.
– Еще - то, что буски и перстеньки дарил. Не скупой, выходит. Деньги имеет. Я, ваша милость, прошу позволения их у Фимки взять - может статься, у нас они в розыске.
Архаров усмехнулся - подарки явно недорогие, даже коли краденые - нигде в бумагах их описания не будет, но ход Клашкиной мысли ему понравился.
– Позволяю. И уговори ее сюда прийти.
– Стыдно ей, ваша милость, после того, как ее отец к нам силком приволок…
– Хорошо, ступай в канцелярию.
Архарову надо было крепко подумать. Четыре года имея дело со свидетелями, он усвоил: врут, сволочи, и не краснеют! Даже коли свидетелем оказался полицейский - возможны недоразумения. Вон Устин видел мошенника, переодетого полицейским, ночью - и спутал его с Клаварошем. То есть, тот незнакомец высок и тонок. А Клашка Иванов, допросив девку, что спала с мошенником, утверждает, что подлец с него самого ростом. Клашка же ниже Клавароша на добрых три вершка. Можно бы предположить, что сукиных сынов двое, но Устин ростом мал, ему и Клашка впотьмах великаном покажется… вот и гадай, два или один?…
Осповательно поразмыслить сразу не получилось - прибыл на извозчике Матвей и сходу объявил, что не более как на четверть часа.
– Слушай, Матвей, - сказал Архаров. - У нас в мертвецкой баба лежит, переодетая мужиком. Погляди-ка ее, авось чего заметишь.
– Надо мной по твоей милости уже вся Москва хохочет, - огрызнулся Воробьев. - Знаешь, как меня прозвали? Мертвецким доктором! Ради твоих комиссий последних пациентов лишусь!
Вот уж это Матвею не угрожало - он в Москве прижился, его полюбили, звали в лучшие дома - еще и потому, что доктору-немцу про все свои болячки не расскажешь, он и половины не поймет, с доктором Воробьевым же можно по-свойски - и все части тела именовать русскими словами, без смущения.
– Сам же ты и разболтал, как покойников исследуешь, - тут же догадался Архаров. - Поди, глянь, дело важное.
Едва уговорил и выпроводил Воробьева - примчался Никишка с полным лукошком грязи.
– Возьми внизу большой турецкий таз, я знаю, у них есть, ступай во двор, высыпь хоть часть земли туда и размешай с водой жиденько, да только делай это на солнышке, - велел Архаров. - И следи, какая там дрянь будет всплывать.
– А что надобно?
– Ишь ты, хитрый! - похвалил Архаров. - Ты как-либо исхитрись, сквозь ряднину процеди, что ли. И коли заметишь волосья в вершок или менее длиной - отложи в сторонку на бумажку, понял?
– Понял, ваша милость!
Отпустив Никишку, Архаров не утерпел - сам встал из-за стола, потянулся до хруста и поспешил в мертвецкую.
Там он обнаружил Матвея, изучающего рану на бабьей обнаженной груди. Его походный докторский сундучок был раскрыт, и Матвей держал в руке тот зонд, который врачи используют при огнестрельных ранениях, чтобы понять, где пуля застряла.
– Ну, что? - спросил Архаров.
– Ты знаешь, Николаша, я всякие колотые и резаные раны видал. Рану шпажную от сабельной отличу, от ножевой также. Бабу твою закололи таким ножом, что я отродясь не видывал. Тонкий, узкий и лезвие, сдается, трехгранное.
– Уж не багинетом ли? - удивился Архаров.
– Нет, не багинетом, тот шире.
Архаров задумался.
– Погоди! Есть у Шварца в чуланчике такой нож! Сейчас принесут, и ты скажешь, похож ли.
– А что за нож?
– А тот, которым Харитошку-Ямана - помнишь такого? - в Сретенской обители заговорщики закололи. Дядя Агафон, сбегай-ка, вели Шварцу принести длинный нож, которым Харитона укосали, он знает.
Старик ушел.
Архарову мало охоты было торчать в мертвецкой, но Матвей, истинный доктор, увлекся изучением тела.
– А глянь, - сказал он, - бабу-то били. Оплеуху она от кого-то получила знатную, а ударили, я полагаю, рукой в перчатке - вишь, рожа ободрана.
– Силком, что ли, в подвал загнали? - спросил Архаров.
Все это было прескверно - Демка мог, видя, что вранье не срабатывает, перейти к грубым угрозам. Для него важнее всего было избавить товарища от некстати явившейся супруги. Загоняя ее в подвал, он имел в виду одно - туда мало кто лазит, можно преспокойно оставить тело и уйти.
– А когда бабу порешили - не скажешь?
– А не скажу. Лежала в сыром и холодном месте, вроде твоей мертвецкой. Она там и неделю, и две могла проваляться. Да и что ты ко мне пристал! Где это видано, чтобы доктор такие вещи определял! Совсем ты из ума выжил, Николашка.
– Что, совсем способа нет? - совершенно не обидевшись, спросил Архаров.
– Когда тело недолго пролежало, определяют по гибкости членов и по трупным пятнам. А к твоему телу сие неприменимо - оно же не менее трех дней в подвале обреталось. Однако вот что скажу, коли не врут мне очи… Тот, кто бабу заколол, был ей знаком. Уж больно близко к себе подпустила. Нож-то, сдается, по самую рукоять вошел. И вошел прямехонько…
– Будь он неладен… - буркнул Архаров.
Матвей распахнул на покойнице всю одежду. Но никаких важных примет не обнаружил, хоть и перевернул ее на живот, и даже промеж ног не поленился заглянуть.
– Жаль бабу, - вдруг сказал он. - Ведь чисто жила, поди, себя блюла. Вот так жила, жила… для чего жила?…
– И дети остались, - вспомнил Архаров. - Парнишка и девочка. Неужто и они?…
Смотреть на белое тело он мог - нагляделся на трупы за четыре года, однако не желал. Было что-то стыдное в том, чтобы таращиться именно на это тело. Как если бы в убийстве была доля его вины.
На пороге мертвецкой явился Шварц и легко сбежал вниз по довольно крутой лесенке.
– Ваша милость, я с подручными обшарил весь чулан. Нигде не нашел того длинного ножа, о коем вы спрашивать изволили, - доложил он. - Он же - стилетом именуемый…
– У тебя из чулана пропал нож? - Архаров ушам не поверил.
– Да, ваша милость, у меня из чулана пропал нож. Когда и как сие могло статься - не ведаю. Полицейские служащие имеют обычно свое оружие, ко мне за ножами обращаются редко. За одеждой для наружного наблюдения и для розыска приходят, за мелкими вещицами для опознания. Бывает, десятским оружие выдаю, но не часто.
– Мать честная, Богородица лесная, этого нам еще недоставало.
– Нет хуже вора, нежели домашний вор, - нравоучительно произнес Матвей. И еще перст вверх поднял, скотина медицинская…
– Матвей, проболтаешься кому - удавлю, - сказал ему Архаров. - Ну, черная душа, долго я с этим тянул, а придется розыск проводить.
– Придется, ваша милость, - преспокойно согласился Шварц. - Однако я осмелюсь дать совет - сразу к розыску не приступать, а лишь оказать свою к нему готовность.
– И для чего сие?
– А вот увидите.
Матвей меж тем вновь взялся разглядывать тело. Но ничего нового не увидел - это и по манере чувствовалось, по наклону головы, по плечам. Архаров со вздохом уставился на доктора, почему-то припоминая его давние грехи - несколько раз Матвей не откликнулся на его призыв, потому что лежал пьяный, а потом врал, будто бы у него живот схватило…
– Вспомнил! - воскликнул Архаров. - Индижестия!
– При чем тут индижестия? - возмутился Матвей.
– Хворь, когда брюхо служить не желает!
– Ну так то тебе будет по-русски несварение желудка. И отвяжись от меня, Христа ради…
Наконец-то слова государыни получили объяснение. Любопытство было удовлетворено. Легче от этого, понятное дело, Архарову не стало. Разве что Шварц недоуменно на него поглядел - в недрах полицейской конторы завелись безобразия, а обер-полицмейстер заморскими словечками балуется…
На пороге мертвецкой явился радостный Никишка.
– Ваша милость!…
– Пошел вон отсуда! - крикнул Архаров. Он не желал, чтобы парнишки на побегушках лазили в мертвецкую и таращились на голый трупы.
Никишка исчез.
Архаров, ничего не сказав Матвею, выбрался наверх.
– Ваша милость, волосья! - доложил Никишка. - Я их в бумажку собрал, вот они!
Бумажка была развернута.
– Ну, так я и думал. Остригли бабу, стало быть, в подвале, - сказал Архаров. - Молодец, хвалю.
– А я, ваша милость, еще пуговицу сыскал, там же, в грязи, была, ее в землю затоптали.
– Давай сюда.
Пуговица оказалась небольшая, перламутровая в золотом ободке. Может статься, от камзола.
Архаров задумался. Такие пуговицы были в моде, и потеряна она, возможно, была совсем недавно. Сдается, теми, кто закопал клад. Но ничего более о бывшем своем владельце пуговица не поведала.
Архаров пошел обратно в кабинет. Следовало строжайше допросить Демку Костемарова. Как ни крути, а смерть глупой бабы нужна была только архаровцами, которые, держась друг за дружку, все желали помочь Тимофею, вот ведь и сам обер-полицмейстер додумался, куда его спрятать от бестолковой жены…
Женщина никого на Москве не знала и родни не имела, коли устроилась ночевать прямо на улице, прижав к себе детишек. Единственный, кто ее узнал и оценил исходящую от нее опасность, - Демка.
Все складывалось разумно - Демка ночью побежал искать эту самую Федосью, как-то увел ее от детишек, завел в известное ему место, куда богобоязненный обыватель под пистолетным дулом не полезет, а шуры с мазы полезут, но в полицию доносить не побегут. И тут возникли два вопроса, один другого краше.
Первый - для чего Демка велел бабе переодеться в мужской армяк и штаны?
Второй - какого черта он отрезал мертвой бабе косы?
Из чего образовался и третий вопрос: зачем Демке понадобилось, чтобы покойницу приняли за мужчину?
– Костемарова ко мне, - сказал Архаров в коридоре, не слишком беспокоясь, кто его услышит. Командира должны слышать все и при любых обстоятельствах. И он направился было в кабинет, но вспомнил про Лопухина.
Преображенец околачивался в полицейской конторе, читал старые дела, беседовал с людьми, но сейчас он Архарову тут совершенно не был нужен. Следовало отыскать его и как-нибудь поделикатнее выпроводить.
Лопухин сыскался там, где его и оставили в обществе Абросимова, но к ним присоединились Тимофей Арсеньев и канцелярист Щербачов. Архаров отворил дверь и несколько удивился тому, что в его учреждении сослуживец так расхозяйничался, полицейских от дел отрывает ради своего любопытства.
Вернулась та самая тревога, которая смутила его, когда Лопухин изъявил желание из гвардии перебраться в полицию. Шварц умел разумно успокоить, но он ведь именно успокаивал, не более того, и не заглядывал при сем Лопухину в душу.
Архаров вошел в комнату, и Лопухин встал, всем видом изъявляя радость встречи.
Он был умен - сам понял, что засиделся в полицейской конторе.
– Верни эти папки в канцелярию. Что я пометил, скопируй, - велел он Щербачову и повернулся к Жеребцову. -О сем деле хотелось бы знать поболее. Завтра до обеда жди меня тут с остальными бумагами.
– Будет исполнено, ваша милость, - сказал Тимофей.
– И сыщите мне план того квартала, по описаниям разобрать, кто где был, невозможно.
– Будет исполнено, ваша милость, - отвечал Абросимов.
Архаров слушал и всем телом ощущал нарастание тревоги. Лопухин разговаривал с полицейскими кратко и тихо, так же тихо они отвечали ему. Да еще - сослуживец говорил чуть быстрее, чем привык распоряжаться подчиненными Архаров.
Стало быть, вот как он собирается командовать, когда окажется в столичной полиции.
Говорить быстро Архаров не умел. Он умел говорить внятно - чтобы всякий понял и двоякого толкования приказа избежал. В глубине души Архаров был уверен, что подчиненным, как и женщинам, все следует объяснять еще более дотошно, чем новобранцам на плацу.
Оказалось, понимают и быструю краткую речь - и это видно по наклону головы, по скорости, с которой переняли повадку преображенца.
Лишь раз в жизни Архаров не сумел справиться со своим беспокойством - когда выяснилось, что в Москву вернулся Каин. Беспокойство было законное - кому ж понравится, когда посягают на его место, на его влияние? Но до сих пор было стыдно перед самим собой за то, как бегал по комнате, не умея усмирить собственные ноги.
Сейчас созревало нечто похожее - явился человек, который, возможно, сумеет управиться с полицейскими делами лучше самого Архарова, и все равно, в столице ли, в Москве ли. Он не знаком с бывшими мортусами, не брал с ними вместе штурмом ховринский особняк, не умеет кстати вставить словечко байковского наречия - но он умеет распоряжаться ими без суеты, а они готовы исполнять распоряжения, напрочи забыв, что видят этого человека впервые в жизни.
И Архаров, как давеча в своем доме, понял, что приходят какие-то другие люди, и гвардия уж не та, и чиновники, возможно, вскоре станут иными. Стало быть, придется самому перенимать, приглушать голос, вырабатывать себе взгляд - несколько свысока, рассеянный, но повелительный…
Он проводил Лопухина до экипажа, а вернувшись, увидел у двери кабинета Демку Костемарова и Степана Канзафарова с узелком.
– Заходи, Демьян Наумович, - велел он, - и позетим наконец о той Тимофеевой елтоне…
Он не желал говорить по-байковски, слова вылетели сами, как вылетали обыкновенно, когда он был сердит на своих архаровцев и речью давал им понять, что среди них клевых шуров и мазов он - самый клевый.
Демка догадывался, о чем пойдет речь, это было видно по его остроносой, сейчас сильно недовольной роже. В кабинет он все же вошел твердым шагом.
Архаров, не обращая внимания на Степана, вошел следом и сразу приступил к делу.
– К тебе, Костемаров, все веревочки тянутся. Коли не вам с Тимофеем - кому иному понадобилось убивать дуру-бабу? Имущества у нее - вошь в кармане, таракан на аркане! Только Тимофею она поперек пути встала. И только ты знал, где ее искать среди ночи.
– Как я это мог знать?
– Знал однако ж. Иначе - какого рожна удрал после ужина с Пречистенки?
– Тимофея искать побежал, предупредить.
– И Тимофей тут же подтвердит и землю есть будет, что ты его сыскал и вы до рассвета о его несчастливом супружестве судачили! Кто, кроме Тимофея?
Демка молчал.
– Ну, где Тимофей живет? Есть там хозяева? Дом он, кажись, не покупал. Поезжай, привези хозяев, пусть подтвердят, что ты ночью прибегал и у Тимофея в комнате сидел.
Ответа на свое благородное предложение Архаров не дождался.
– Стало быть, ты к нему не прибегал?
– Да не дома он ночевал, ваша милость!
– Где же?
– У бабы.
– Кто такова?
Демка вздохнул.
– Замужняя, что ли? Все равно - тащи ее сюда.
– Не пойдет, ваша милость, скорее удавится.
– Врешь… Все на тебе сошлось… Ты куда-то увел ту бабу, чего-то ей наврал, она, видать, не поверила, осталась с детишками в Москве. Ты понял, что рано или поздно она до Тимофея доберется. А кто еще все московские подземелья так, как ты, знает? Смуряк ты, Костемаров. Наврать ей как следует, что ли, не мог, чтобы ее из Москвы спровадить?
– Не укосал я кубасью.
– Суди сам. Укосал кто-то из наших - кто мог у Шварца из подвала нож унести. Ты - мог. Ты у Шварца парик с башки унесешь - он и не заметит, ты шур клевый. Ну, что скажешь?
– Не брал ножа! Мало ли у кого такой завелся!
– Я, Костемаров, в гвардии служа, на всякие ножи нагляделся, и на немецкие, и на турецкие, что с войны привозят. Таких ножичков на всю Москву один всего, может, и сыщется, доктор Воробьев то же подтвердил. А теперь коли можешь оправдаться - оправдывайся.
– Да на кой он мне?
– На кой тебе нож - не знаю, но доберусь. И доберусь также, кто надоумил покойного Скитайлу за полицейскими следить, чтобы до золотого сервиза добраться. Кто у нас с шурами дружится?
– Может, и Скитайлу я порешил?! - дерзко выпалил Демка.
– Кабы я знал, что ты его тем ножом порешил - наградные бы тебе выписал! Ну, что у тебя имеется в свое оправдание, кроме крика?!
Тут в дверь дважды стукнули.
– Пошли к черту! - крикнул Архаров, но дверь отворилась.
На пороге стоял Левушка Тучков, который архаровского гнева не боялся.
– Николаша, впусти ты наконец Степана, - сказал он. - Он к тебе и сунуться боится, а дело важное. Марфа девку прислала, ей какую-то золотую миску в заклад принесли, так вот она, миска, и Марфино послание при ней. Девка божилась, дело важное и срочное…
– Давай сюда, - велел Архаров, и Степан поставил на его стол посудину, увязанную в старую холстинку. Левушка сам своими тонкими и цепкими пальцами музыканта и фехтовальщика распустил тугой узел.
На свет явилась сухарница из полированного золота.
– Ч-черт… - пробормотал Архаров. - Они самые!
У сухарницы были красные ручки из «мясной» яшмы. А на дне ее лежало Марфино письмецо.
– Тучков, читай! А ты, Костемаров… Костемаров!
Но Демки в кабинете уже не было.
* * *
Марфа сидела в роскошной карете и очень жалела, что не может выставиться в окошко. Хотя она не впервые уже каталась в приметном экипаже с красно-черным графским гербом, а все это для нее было праздником, и даже не самостоятельным праздником - а увязанным с воспоминанием о тех счастливых временах, когда она, шестнадцатилетняя, гордо раскатывала в карете любовника своего Ивана Ивановича Осипова, обитой изнутри соболями. И в ее жизни было все - бешеная зависть соседок, страстные взгляды и нескромные предложения соседей, бриллианты и оплеухи, щедро жалуемые любовником, а вот скуки, все чаще охватывающей ее теперь, не было вовсе.
Марфа и сейчас была одета нарядно, и чепец на ней был самый модный, и ленточные розетки - большие, нарядные, самых щегольских цветов, и шнурованье тугое, и юбки топорщились бойко, а все не то, все не то, не прежняя радость, не прежняя гордость…
На сей раз Марфа была не одна - с ней ехала девка, одетая, как простая мещанка или прислуга, - по летнему времени в простой синий сарафан, в кисейную рубашку с широкими складчатыми рукавами. Однако на пальчике у девки был довольно дорогой перстенек - уж в этом Марфа выучилась разбираться.
Эта полымянка Марфе совершенно не нравилась. Прежде всего - своей глубоко скрытой злостью. Девка усвоила себе препротивную льстивую улыбочку, но когда нужды в лести не было, на ее худом и скуластом лице явственно читалась: коли мне нужно будет, по трупам пойду, только юбки чуть повыше вздерну. Такие лица бывают у людей, чудом избежавших погибели и потому решивших, что им отныне многое дозволено. Не у всякого беглого каторжника столько выразительно сие написано на клейменой роже, как у девки с холеными руками, а уж беглых каторжников Марфа повидала более, чем сама желала бы.
– Вот тут встанем, - сказала Марфа. - И удобно добежишь.
Девка постучала в переднее окошечко. Кучер удержал лошадей.
– Я уж сюда не вернусь. Мало ли что. А побегу прямиком в Зарядье, - с этими словами девка, прихватив лежавший на переднем сидении холстинный узелок, соскочила с подножки и поспешила по Мясницкой, да не просто так - а играя бедрышками, привлекая взгляды вертопрахов любого звания, и дворянского, и купеческого, и лакейского, и обывательского. Марфа потеряла ее из виду.
Смотреть, собственно, было незачем - Марфа знала, что девка направляется к палатам Рязанского подворья. Там она, бойко разговаривая с полицейскими, должна была добиться, чтобы отвели прямиком к господину обер-полицмейстеру. А уж в кабинете - выложить на стол узелок и предъявить записочку, в которой Архаров сразу бы опознал довольно разборчивый, хотя и корявый Марфин почерк.
– «Сударь мой, вот что за диковину принесли мне в заклад. Я приняла и пятьдесят рублев дала, - гласила записочка. - Не о такой ли мне твои молодцы толковали?»
Теперь следовало возвращаться домой, но сперва заехать к Дуньке и переодеться. Марфа, еще садясь в карету, приказала везти себя на Ильинку, и кучер, не в первый раз ее катавший, без напоминаний доставил к Ильинским воротам, к дому, который отставной сенатор Захаров снимал для своей мартоны. Лакей помог Марфе выбраться из экипажа и даже взвел на крыльцо. Карета укатила, а горничная Агашка, очень довольная, повела гостью наверх. Ей от Марфы всегда чего-либо перепадало - или конфект в цветной бумажке, или лента нарядная, или моточек тесьмы. На сей раз было угощение - кусочки груши из киевского сухого варенья.
Дунька меж тем была занята важным делом - под ее присмотром в спальне устанавливали ванну.
Коли уж говорить честно, то ванна была довольно большой деревянной лоханью, в которой можно сидеть, вытянув ноги. Высота бортов, к некоторому Дунькиному удивлению, оказалась такова, что залезть в эту модную принадлежность дамской спальни без скамеечки никак не получалось.
Марфа в богатом платье и с высоко взбитыми волосами (она полагала тем увеличить свой рост, но результат был скорее комичным) вошла как раз, когда Дунька, прямо в юбках забравшись в пустую ванну, пыталась там усесться. У дверей стояли два мужика, доставившие сию лохань и уже час как возившие ее по всей комнате.
– Ты, матушка, с ума, что ли, сбрела? - озадаченно спросила Марфа.
– Все щеголихи такое имеют, - отвечала Дунька. - И по утрам приемы делают. Мне сказывали - сидят себе в новеньких чепчиках, в теплой воде, а на ванну простыня накинута. А визитеры тут же, на стульях.
– И долго сидят? - осведомилась Марфа.
– Не знаю… Пока вода не остынет, поди…
Дунька стала неловко выкарабкиваться из новомодной лохани. Марфа из жалости протянула к ней руки и помогла ступить так, чтобы не мимо скамеечки.
– Ничего, наловчишься, - сказала она. - А простыня докуда?
– По сих пор, - Дунька показала на свою низко открытую крудь. - А еще сказывали - коли соберутся все свои, то и простыня не нужна, ее девка убирает…
– Вон оно как! - Марфа сперва удивилась, потом явно затосковала. - Да, мне теперь такое не с руки… и ванны такой, поди, не раздобыть, чтобы меня вместила… а жаль…
– Я вот думаю - не поставить ли ее за ширмы, - сказала Дунька. - Не каждый же день в ней мокнуть. А таскать из комнаты в комнату - морока, она ж тяжеленная.
– А где ты ее взяла?
– А по картинке бондари сколотили.
Дунька подошла к своему туалетному столику и достала из ящичка стопку галантных парижских гравюр, где, кроме образца ванны, было много всяких соблазнительных сюжетов - то голая грудь, то открытая выше подвязки нога, а то и вовсе голый зад - при том, что дама, им блистающая, была и в модном платье, туго зашнурованном, и даже в шляпе.
– На что тебе? - удивилась Марфа. - Своего добра, что ли, мало?
– Да мне-то что, это все мой, ему подавай…
– А-а… Ну, года у него изрядные… пусть балуется.
– Вон, глянь, что еще выдумал!
Дунька повела Марфу к алькову. Там изнутри была подвешена целая грамота, разрисованная розочками и амурчиками. Грамота содержала в себе три золотых слова: «Fais le bien».
– Молитва, что ли? - удивилась Марфа.
– Дождешься от него молитвы! Он, я чай, и у исповеди-то двадцать лет не был, - сообщила Дунька. - Это по-французски, а означает: «Делай сие хорошо»! Повесил для моего вразумления. Ну и я ему тоже порой в эту грамоту пальцем тычу - сам-де сие делай хорошо! Теперь в Париже такая мода.
– Надо бы и мне такое дома завести, - деловито сказала Марфа. - Вели своему, чтобы списал на бумажку, а я уж найду, кто мне шелком по хорошему полотну вышьет.
Она полагала таким способом побудить к амурным подвигам Клавароша, отношения с которым что-то стали потихоньку угасать. И вроде было время, когда нежная дружба с французом ей самой несколько наскучила, а вот стоило ему показать охлаждение - тут же Марфа взбунтовалась и решила удерживать Клавароша всеми силами, сколько их за сорок пять лет жизни накопилось.
– Как явится, так и скажу, - обещала Дунька. - Да только он прихварывать начал. По три, по четыре дня носу не кажет.
– А хочешь, погадаю? - предложила Марфа. - Я теперь сделалась знатная кофейница. Надо же, сколько той кофейной гущи зря в помойное ведро вылила! А ведь каждая крупиночка - к делу.
– Погоди, Марфа Ивановна, пусть мне ванну вон туда перетащат, тогда и погадаешь.
– Там она еще не стояла, - буркнул один из мужиков, и они еще дважды меняли местоположение модной новинки, пока Марфа не прикрикнула на былую воспитанницу и не погнала мужиков прочь.
– Теперь же вели принести горячий кофей, да чтобы покрепче. Конечно, для точности гадания мне бы лучше самой кофей заварить, ну да ладно.
Дунька, как всякая московская жительница, была жадна до подобных новостей светской жизни: знатные дамы коли не в карты играют, так с кофейницами сидят и будущее свое исследуют, и таз пошла такая мода, то и Дуньке следует ее всецело поддержать. Она приказала - и вскоре с кухни принесли горячий кофейник, две чашки и еще всяких заедок - крендельков, пряников, сухого киевского варенья.
– Пей! - велела Марфа, и Дунька покорно выпила целую чашечку. Тогда Марфа, убедившись, что в чашке осталось довольно гущи, велела взять ее в ладони, крепко охватить и задуматься о том, что душу беспокоит. Потом она забрала чашку, непременно левой рукой, и взболтнула ее так, чтобы гуща раскрутилась по часовой стрелке. При этом Марфа молчала, насупившись, сдвинув брови и словно бы прожигая немецкий фарфор взглядом. Дунька следила за этими маневрами, приоткрыв рот.
Наконец чашка была установлена на блюдце вверх дном и идеальным манером - чтобы один ее край упирался в край блюдца, а другой - в донышко. Теперь следовало ждать, чтобы гуща стекла несколько наискосок, образовав вытянутые силуэты. Ждали столько, что дважды «Отче наш» впору прочитать.
Наконец Марфа взяла чашку, заглянула в нее и ахнула:
– Дунька, гляди, кавалер!
И верно - продолговатые разводы сложились в очертания человеческой фигуры, долговязой и плечистой.
– Ишь ты… - прошептала Дунька. Сей кавалер ничуть не был похож ни на ее покровителя, ни на московского обер-полицмейстера.
– Ты, матушка, ничего не теряла? - деловито спросила Марфа. - Коли теряла - так кавалер к тому, что пропажа твоя вовеки не сыщется. А коли нет - будет тебе некое свидание.
Дунька промолчала.
Уверенная в том, что господин Захаров этим вечером будет врачевать свои хворобы, а к мартоне не поедет, она затеяла тайно навестить Архарова. Уже все необходимое приготовила - и кафтанчик голубенький, и белье.
Дунька очень живо разобралась в преимуществах мужского костюма перед платьем для такого рода вылазок. Платье - оно со шнурованьем, горничную с собой на Пречистенку не поведешь. Амуриться, не снимая пышных юбок, конечно, забавно, да только от шнурования треклятого ни охнуть, ни вздохнуть, и хочется иного… А мужской костюм легок в обращении - скидываешь его быстро, надеваешь тоже быстро. Коли что - так в нем и бегать сподручно, и в окно можно залезть.
– Глядит кавалер вверх, - продолжала меж тем Марфа. - Стало быть, жди от него помощи. Кавалер из сильненьких, защитником твоим станет. Глянь-ка - око! Око - оно к переменам. Уж не замуж ли ты соберешься? Умно было бы, кабы твой Гаврила Павлович тебя замуж отдал.
– А к замужеству что? - спросила Дунька.
– Коли круг, а в нем два лица. Говорят, случается, а я так ни разу не видала…
Они изучили все кофейные разводы на чашке и не нашли там хоть плохонького круга. Зато явилось им ветвистое дерево, основательно смутившее Марфу: знак был прескверный, означал почему-то разрыв амурных связей, тоску и печаль, но мог сулить и дальнее путешествие.
Марфа, конечно же, принялась врать про путешествие, увязывая его с предыдущим кавалером-покровителем, но Дуньке уже сделалось скучно. К счастью, пробили стоячие часы. Марфа ахнула - ей давно уж следовало быть дома. Она крикнула Агашку, чтобы распустить свое шнурование и переодеться в обычное платье.
Дунька понятия не имела, что означают Марфины маневры с нарядами. По каким-то загадочным причинам сводня не хотела, чтобы ее видели в Зарядье по-царски одетой, и потому держала два платья у Дуньки. Тут она и переодевалась, тут и волосы взбивала, сюда приезжали за ней кареты, иная даже с гербами, сюда же привозили Марфу часа два-три спустя.
Марфа убралась, Дунька погрызла угощение и задумалась - вечер все не наступал да не наступал, дни стояли долгие, а бежать на Пречистенку открыто она не желала, лучше уж - как стемнеет. Впрочем, одно занятие нашлось. Дунька частенько, поездив по модным лавкам, садилась перед зеркалом и училась разговаривать.
Вообще-то она говорить умела, и весьма бойко. Но чтобы на модный лад выходило не менее бойко - тому еще следовало поучиться. И именно перед зеркалом.
– Ах! - сказала себе Дунька и чуть склонила головку набок, метнув при этом, опять же самой себе, огненный взгляд. - Ах! Ах!… Ах - ха, ха, ха!
Смеяться полагалось тоже на щегольской лад, отчетливо выговаривая каждое «ха».
Затем она стала заучивать модное выражение, которое подцепила на Ильинке: «мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя охотница». Девка, которая его употребила в модной лавке, обращалась к московскому петиметру, который сперва вытаращил было на нее глазищи, а потом понял, в чем суть, и нежно назвал ее болванчиком. Дунька вздохнула - сколько уж просилась у сожителя, чтобы свез ее в Петербург, тамошние петиметры и щеголи не в пример московским, там-то она бы себя показала! Но мудрый сожитель все как-то уворачивался.
– Ах, мужчина, как ты неважен, - томно сказала она своему отражению.
И усмехнулась, вспомнив, как в той же модной лавке обсуждали девицу-монастырку. Дунька сперва не поняла, с какой стати монастырка со своей матерью собрались закупать приданое, потом сожитель объяснил: так прозвали смольнянок, девиц, что обучаются в Воспитальном обществе, а чему обучаются - трудно сказать; в свете они более известны не своими познаниями, а забавной манерой вместо «ах» говорить «ай».
– Мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя охотница, - повторила она, не по-щегольски, а совсем иначе, усмехаясь тому, как хмуро посмотрит на нее при таких словах этот воображаемый мужчина. Пожалуй, и отправит в известном амурном направлении - с него станется. Гаврила Павлович такие словесные затеи любил и затейницу свою баловал, Архаров же прост, посмеяться любит, но и поводы для смеха у него незамысловатые. Хотя, коли с другой стороны взглянуть, так это Гаврила Павлович прост - с ним легко и весело, все всегда растолкует, и как с ним обращаться - понятно, а обер-полицмейстер куда как непрост… вот ведь навязался любовничек на бедовую Дунькину голову…
Наконец стало темнеть, и Дунька пошла переодеваться. Поверх рубашечки легкой батистовой надела камзольчик палевый, длиной вровень с кафтаном, сверху расстегнутый - шили-то его не на грудастую девку. На шею кружева навязала, выпустила попышнее. Спереди поглядеть - и ввек не догадаешься, по кружева прикрывают совсем не кавалерскую грудь. Убрала косу - поскольку темно, особо стараться незачем, а довольно ее подвязать и на затылке большим черным бантом закрепить. Букли гнуть ни к чему - надвинуть шляпу пониже, никто и не заметит, что кавалер без буклей. Чулочки белые свежие, башмачки на каблуке с модными пряжечками… а главное - самую малость напудриться и подрумяниться.
И тут Дуньку баловство одолело. Она решительно достала мушечницу и посадила на лицо три довольно большие мушки. Одну промеж бровей - «любовное соединение», две на левой щеке: та, что повыше, ровненько посреди щеки, означала «радость», а та, что вершком ниже, - «горячность». Коли Архаров не разумеет, так она растолкует! Вот такое ему будет по нраву, такое его насмешит…
На извозчике Дунька живо добралась до Пречистенских ворот, оттуда пошла пешком. Было уже довольно темно, никто не разглядел бы в торопливом кавалере девку с мушками на щеке. Разве что подошел бы совсем близко да принюхался - так теперь, слыхано, и придворные вертопрахи ведрами на себя духи льют, да еще пудры и помады также благоухают, пройдет такой щеголь - словно целая французская лавка мимо проехала…
Духами Дунька спрыснулась не зря. Хоть она и была самого подлого происхождения, в детстве и гусей пасла, и за коровой ходила, так что навозный запах был ей не в новинку, однако избаловалась, живя на Ильинке, и ароматы московских длинных переулков уже вызывали у нее брезгливую гримаску. Москвичи не только лошадей, кур и коз - коров и свиней держали, да еще во всех дворах стояли дощатые нужники над выгребными ямами, которые редкий чистюля приказывал выложить камнем. Раз в месяц ночью приезжали золотари с черными бочками - и уж в ту ночь молодое население переулка не бегало друг к дружке в гости, не свистело под окнами - вонь стояла даже для человека привычного невыносимая. Работали золотари семейными артелями и брали за свои труды с обывателей немалые деньги.
Переулок, куда выходили ворота заднего двора архаровского дома, благоухал не лучше и не хуже прочих. Но Дунька не хотела входить с парадного крыльца. Разумеется, ее бы впустили, и весьма любезно притом, но она желала проскользнуть как можно более незаметно.
Калитка, как всегда, была не заперта. На дворе у конюшенных дверей все еще хозяйничали при свете фонаря кучер Сенька с конюшонком Павлушкой. Судя по беседе, одна из лошадей заболела коликами, и надобно было ее водить хоть всю ночь - пока не полегчает. Места на дворе для таких маневров было маловато, и Павлушка предлагагал гонять бедную скотинку по переулку, взад-вперед, да рысью.
Дунька постояла, дожидась, пока они войдут в конюшню, и совсем было собралась перебежать через двор к заднему крыльцу, но калитка у нее за спиной скрипнула. Она обернулась и увидела очертания высокой и статной фигуры в епанче и треуголке.
– Ахти мне… - прошептала Дунька, но не от страха и не от растерянности, а потому, что забыла французское слово для сего явления. Слову выучил покровитель, оно было звучное, весьма Дуньке понравилось, и она прекрасно запомнила историю, с ним связанную.
Верзила в треуголке постоял несколько, озираясь по сторонам, и шагнул во двор. Это Дуньке не понравилось. Приличный гость явился бы к хозяину с парадного крыльца. Да и время было не для светских визитов.
Она знала, что Архарова прошлой зимой хотели застрелить, знала также, что были у него недоброжелатели и в дворянских кругах, и в простонародье. Мужчина, который поздним вечером крадется в архаровский особняк, озираясь и явно от кого-то прячась, мог быть опасен.
Дворня уже, надо думать, укладывалась спать. Сенька с Павлушкой врачевали лошадиную колику. Сам хозяин дома, скорее всего, сидел в шлафроке на постали и раскладывал пасьянс. Коли чейчас не заступить дорогу - верзила, поди, запросто проскочит в дом, и лови его там. От Марфы, а та - от Клавароша, Дунька знала, что и такое как-то случилось.
Она вышла из тени и окликнула пришельца.
– Стой, сударь! Ты кто таков?
– А твое какое дело?
– А такое, что назовись!
– Пошел вон.
Верзила явно вознамерился попасть в дом, но не следовало ему злить Дуньку. Она выдернула из ножен шпагу и, первой успев достичь крыльца, повернулась к странному гостю.
– Сам вон пошел, орясина! Не то насквозь пропорю!
– Ты-то?
– Я!
Биться на шпагах Дунька, разумеется, не умела. Но она, как всякая московская девка, умела замечательно визжать.
Правда, сие оружие сразу в ход пускать она не собиралась. Верзила был слишком близок к калитке, коли что - пустится бежить, и поминай как звали, а Дуньке - объясняться с Архаровым.
– А ну, ближе подходи! - выставив вперед клинок, потребовала Дунька. - Чего струсил? Думал, так просто в дом к обер-полицмейстеру попасть? Не глупее тебя, сударь, тут люди живут!
Она говорила громко в надежде, что кто-то из мужчин выглянет на голос и помощет задержать верзилу.
И точно - из конюшенных дверей Павлушка вывел мерина Агатку.
Верзила беспокойно обернулся, но Павлушка повел коня к калитке - не открывать же ради одной скотины ворота.
– Имай вора! - закричала Дунька. И бросилась вдогонку за ночным гостем.
Конский круп был едва ли не шире калитки - в архаровском хозяйстве лошадей впроголодь не держали. Да и пугать коня, который чувствует неловкость, протискиваясь непонятно зачем меж деревянных столбов, тоже не стоит, тем более, когда он стоит к тебе задом.
Верзила отскочил от конских копыт с удивительной ловкостью, тут же Павлушка закричал на Агата, из конюшни выскочил с вилами кучер Сенька, а на крыльце появился истопник Михей, собравшийся в нужник.
– Имай вора! - повторила свой пронзительный призыв Дунька и, наскакивая на него со шпагой, отогнала ошарашенного гостя от калитки.
Общими усилиями его прижали к стенке курятника.
Тут уж заговорил истопник Михей, детина здоровенный, который с топором для колки дров обращался с такой легкостью, словно секретарь Саша - с гусиным перышком.
– Ты кто таков? - басом спросил он. - Почто ночью по чужим дворам шастаешь?
При этом в грудь верзиле были нацелены и Дунькина шпага, и Сенькины вилы.
– Да что вы, сбесились, сукины дети? - спросил гость, особого страха не выказывая. - Барину своему доложите - из столицы-де к нему приехали…
– Будет врать-то! Кто мог из столицы приехать - те уж давно в дому и спать легли, - возразил Михей.
– А я тебе сказываю - ступай к барину! - прикрикнул на него гость.
– Дядя Михей, не выпускай его, а я наверх побегу, - сказала Дунька, безмерно гордая тем, что Архаров сейчас ее похвалит.
Не успел Михей задуматься, с чего это кавалер, принятый им во мраке за секретаря Сашу, говорит таким знакомым девичьим голосом, как Дунька уже взбежала на заднее крыльцо и, размахивая шпагой, понеслась к лестнице.
Архаров действительно сидел в шлафроке за пасьянсом, а Саша, сидя рядом, бубнил какие-то французские слова, тут же перекладывая их на русскую речь.
Оба разом повернулись к распахнувшейся двери.
– Дуня, ты, что ли? - спросил Архаров, глядя на забавную фигурку и на обнаженный шпажный клинок.
– Николай Петрович, мы там злоумышленника изловили, к тебе в дом крался, - бойко доложила Дунька. - Здоровенный детина! Сперва-то отбивался, а как к стенке прижали - заблажил. Барина, кричит, позовите! Пришел воровать - ан не вышло, так ему теперь барина подавай!
Архаров усмехнулся. Он оценил комизм положения - особняк, в коем довольно дворни мужеска полу, обороняет щегольской шпажонкой Дунька-Фаншета, и, понятное дело, премного тем счастлива.
С другой стороны, уж не чувствует ли она себя хозяйкой этого особняка?
– Пошли, Дуня, поглядим, что за детина такой. Саша, посвети.
Саша, взяв двусвечник пошел вперед, оберегая ладонью огоньки, а Архаров, поравнявшись с Дунькой, преспокойно лапнул ее за грудь и стиснул весьма ощутимо. Так он выразил свою благодарность. А заодно и поставил девку на место - коли ты для того сюда бегаешь, чтобы тискали, так не забывай сего…
По дороге присоединился Меркурий Иванович с фонарем и пистолетом.
– Вы, ваша милость, вперед ходить не извольте, - предупредил он. - Мало ли, что у вора за пазухой.
Откуда-то возник Никодимка: в доме переполох, как же без него? На крылечко вышли целой компанией.
– Возьми, дармоед, фонарь, освети-ка гостя, - приказал Архаров.
Никодимка сделал, как велено.
Все - и Мишей, и Сенька с вилами, и Меркурий Иванович, и Архаров, и Дунька, - увидели затененное треуголкой лицо - крупное, бывшее бы красивым - особливо темные глаза были хорошо, - кабы не грубый шрам на левой скуле.
– О Господи! - воскликнул Меркурий Иванович.
– Мать честная, Богородица лесная! - одновременно выпалил Архаров. - Сенька, дурак, пошел вон с вилами! Ваше сиятельство, извольте в дом скорее!
– Коли сей кавалер пропустит, - сказал Алехан Орлов, показывая на Дуньку. - Я думал, заколет, помру тут у тебя на задворках без покаяния. Лихие у тебя домочадцы, так и тычут шпагами!
Он шутил - Дуньку, во что бы ни обрядилась, можно было признать по голосу, а вдобавок Саша высоко поднял двусвечник, и всем были видны три мушки с амурным смыслом - «любовное соединение», «радость» и «горячность». Орлов, как придворный кавалер, превосходно знал и язык мушек, и язык веера.
– Поди, Дуня, - сказал сильно недовольный ее деятельностью Архаров, и Дунька озадаченно на него уставилась. И было отчего - она угадала в голосе любовника испуг.
Архаров со своей любовью к лестницам и ступенькам всегда, когда оказывался в обществе людей намного более чиновных и знатных, чем он сам, боялся что-то сделать не так, боялся настоящим страхом, особливо же в обществе дамы, занимавшей самую высокую из ему известных ступенек в России. Алехан Орлов, пусть и давний знакомец, был персоной значительной. Из пяти братьев Орловых лишь он сумел заслужить подлинное уважение государыни и, хотя она отказалась от амурных услуг Григория Орлова, Алехан сохранил и свои посты, и свое значение. Архаров знал, что этого великана со знаменитым шрамом опала вовеки не коснется, разве что он сам вдруг вздумает сойти со своей высокой ступеньки. Кабы Алехан предупредил бы о своем визите - Архаров загонял бы дворню и принял его наилучшим образом, в душе благодаря княгиню Волконскую, заставившую навести порядок хоть в гостиных и столовой. И тогда Архаров был бы уверен, что сумеет своим приемом угодить графу Орлову. Теперь же, когда высокопоставленный гость застал его врасплох, Архаров сильно беспокоился, что вызвал у графа неудовольствие.
– А как не тыкать шпагой, когда лица не разглядеть? А видно один силуэт! - возразила Алехану бесстрашная Дунька. Она была безумно рада, что вспомнила-таки французское слово. И что могла похвалиться перед Архаровым своей образованностью - в отместку за его попытку ее спровадить.
– Силуэт? - повторил граф. - Ишь ты! А что сие слово означает - знаешь толком?
– А как не знать! У покойного французского короля был главный министр господин де Силуэт, скупердяй такой, что у него снегу зимой не выпросишь. Очень ругался, что дамы и господа тратят деньги на портреты. Вот его и проучили - нарисовали одной черной красной - вроде как тень… И нос длинный, чтобы смешнее было. И такое художество в моду вошло! Дешево, да сердито! - доложила Дунька. - И эти черные картинки, когда лица не разобрать, зовутся силуэтами.
– Стало быть, ты, сударыня, увидела мой силуэт, - уже не притворяясь, будто принимает Дуньку за кавалера, сказал Алехан. - И у тебя, Архаров в доме все та же страсть к Франции и французам, что в высшем свете. Спасу от нее уж нет…
Тут Дуньку осенило.
Она вспомнила ту давнюю эпиграмму, коей обучил ее господин Захаров, и произнесла ее с теми же интонациями, сперва - комически-горестными, затем - победительными:
- Что дал Гораций, занял у француза -
О сколь собою бедна моя муза!
Да верна - ума хоть пределы узки,
Что взял по-галльски - заплатил по-русски!
Алехан так и замер с открытым ртом.
– Ого! Ну, сударыня, тут ты меня одолела! Архаров, мы так и будем у крыльца стоять? Веди в дом, вели самовар вздувать. Голоден, да и выпить не откажусь. Только тихо - никто не знает, что я в Москве объявился… Надо же - у тебя на заднем дворе кантемировские вирши услышал!
– Извольте, ваше сиятельство, - сказал, пятясь, Архаров. - Меркурий Иванович, буди Потапа, спроворьте все, как надобно. А ты…
Он посмотрел на Дуньку весьма неодобрительно и даже с тревогой - что еще вытворит при знатном госте шалая мартонка? Дунька же бодро задрала курносый нос - архаровское волнение было ей понятно, да только настала пора выказать свой норов. Тем более, что высокий и статный кавалер трижды был ею сражен наповал - так грешно ж не порадоваться своей победе.
– Сударыня, - галантно сказал Алехан, пропуская Дуньку в дверь вслед за Архаровым. - Не откажи, поужинай с нами.
– Охотно, сударь!
И Дунька поплыла по сенцам, по коридору, затем - по лестнице плавной походкой, искусство коей не всякая дама постичь умеет. Она знала, что статный кавалер идет следом и любуется игрой ее бедер, четкими движениями ножек в белых чулках.
Архаров привел Алехана в столовую.
– У меня гостят Преображенского полка капитан-поручик Лопухин и того же полка поручик Тучков, - доложил он. - Прикажете позвать?
– Да Бог с ними. Я к тебе в гости шел. Нарочно с заднего крыльца полез - не хотел шуму. Угомонись, Архаров, будем без чинов, - скаал Алехан. - Я тебя повидать желал.
– Это для меня честь, ваше сиятельство.
– Уймись. Вон с прелестницы бери пример - она уж со мной запросто. Как звать тебя, сударыня, чья такова?
– Звать Фаншетой, ваше сиятельство… - и тут Дунька наконец смутилась. Объяснять Орлову про своего покровителя, господина Захарова, она совершенно не желала. В ее понимании верность невенчанному сожителю как-то искупала блудный грех, а вот беготня от этого сожителя ночью к другому кавалеру уже была страх как нехороша, да что с собой поделаешь?…
Архаров с еле слышным сопением покачал головой. Дуньке, как всякой женщине, угодно блистать, и в этом желании она совершенно не считается с правилами отношений среди знатных людей, офицеров и чиновников. Очевидно, все женщины таковы - включая отлично воспитанную Елизавету Васильевну. Им не дано понять всех тонкостей расположения фигур на ступеньках служебной и придворной лестницы - так думал недовольный Архаров, страстно желавший научиться соизмерять глубину поклонов и интонации голоса с рангом собеседника.
– Извольте присесть, мадмуазель Фаншета, - и граф Орлов сам, собственноручно, отодвинул стул для Дуньки.
Архарову эта Алеханова галантность показалась чрезмерной. Дунька - она Дунька и есть, турнуть ее из столовой надобно, сказать втихомолку, чтоб иным разом жаловать изволила, ущипнуть там за мягкое место, чтобы не обижалась… А теперь придется с этой шалой девкой галантонничать.
Меркурий Иванович принес поднос с графинами, стопками, круто посоленными ломтиками черного хлеба - богатейшие вельможи, к чьим услугам были французские повара, водку предпочитали употреблять по-простому.
– Выпьем, Архаров, - сказал Алехан. - Твое здоровье, сударыня.
Архарову пришлось опрокинуть стопочку за Дунькино здоровье.
Он не задавал вопросов - как вышло, что граф Орлов ночью слоняется по московским улицам и забредает в гости с заднего крыльца. Алехан любил почудачить - хотя тут ему было далеко до старшего братца.
Тот был мало чему учен, но весьма любознателен - имел особую страсть к естественным наукам и всевозможным физическим опытам, полюбил беседы о физике, химии и анатомии, лазил в мастерские к Ивану Кулибину, коего привез из Нижнего Новгорода брат, директор Академии наук Владимир Орлов. Но Кулибин-то подлинные чудеса творил - изготовил часы размером и видом как гусиное яйцо; в нем ежечасно растворялись маленькие Царские врата, за коими виднелся гроб Господень, с вооруженными по сторонам воинами, крошечный ангел отваливал камень от гроба, стражи падали ниц, являлись две жены-мироносицы, затем куранты играли три раза молитву «Христос воскресе» и врата затворялись. А Гриша Орлов объяснял визитерам, как из шелковых обоев искры сыплются, приказывал строить ворота на ледяном фундаменте и показывал несколько удивленной государыне, как бомбы, наполненные водой, лопаются на морозе. Еще новоявленный естествоиспытатель приобрел телескоп и использовал его, чтобы любоваться дальними видами.
И он же после смерти Михайлы Ломоносова скупил все его бумаги, сохранив их для потомства…
Впрочем, явление Алехана с заднего крыльца было не совсем обычным чудачеством.
В столице многие жители получали с оказией газеты из Европы, затем те газеты либо пересылались московской родне, либо их содержимое пересказывлось в письмах. Так и узнали историю о загадочной девице, претендовавшей на российский трон. Она объявилась примерно в то же время, что и маркиз Пугачев, нашла себе сторонников, жила роскошно и подняла много шуму. Алехан, бывший в то время в Италии, получил от государыни приказ разобраться с самозванкой. И, когда ему удалось заманить ее на судно и увезти из Ливорно, газеты подняли дружный лай: он-де, чтобы одурачить девицу, нарочно с ней даже повенчался, иначе бы нога ее на борт корабельный не ступила!
Разумеется, и до Архарова сии новости долетали через Волконских. Но, во-первых, Архаров большой веры газетам не имел, особливо европейским - писали же они злобно о том, что маркиз Пугачев-де и с великим князем Павлом Петровичем связь имеет, и с придворными политиками, и даже с семейством Орловых; во-вторых, и Михайла Никитич всей правды не знал и честно о том говорил. Говорил же то, что знал доподлинно: что самозванка желала не более не менее как воссесть на российский престол под именем Елизаветы Второй; что самозванка взбаламутила всю Европу, включая Польшу, где Волконскому доводилось служить, так что нравы и повадки роскошных польских панов он знал неплохо; что Орлов, точно заманив ее на судно, тут же велел поднять якорь и везти ее вокруг взбаламученной Европы в Россию, в Санкт-Петербург, где ее ждут с превеликим нетерпением, сам же еще некоторое время оставался в Италии и отправился в столицу сушей.
Коли так - ничего удивительного, что Алехан не больно хочет появляться в светских гостиных, где о нем уже носятся диковинные слухи - якобы и младенца несчастной самозванке сделать успел…
– Не угодно вашему сиятельству гречневой каши? - спросил Архаров. - У меня всегда ее варят целый котел, и она чуть не до утра, укутанная, тепло держит.
– Ты что, привык по ночам гостей принимать?
– Нет, а бывает, подчиненные являются и тут же, в третьем жилье, ночуют. Надо ж накормить.
– Стало быть, архаровской кашей угощаешь? Мадмуазель Фаншета, угодно ли кашицы? - Алехан повернулся к Дуньке, которая незваной-непрошеной присела за стол, в некотором отдалении от мужчин.
– Нет, я апельсина хочу, - сказала Дунька. Она уже поняла, что этому здоровенному и лукавому кавалеру следует противоречить. А противоречить она умела - господин Захаров выучил, старому вольнодумцу нравилось, когда Дунька имела свое мнение и решительно его отстаивала. Обычно это его смешило чуть ли не до слез.
– Вели принести апельсинов, - приказал Алехан Меркурию Ивановичу. - Ну что, Архаров, спрашивай, каким ветром меня сюда занесло…
Архаров вместо вопроса почти что лег грудью на стол, уперся локтями в столешницу, а подбородок уложил на переплетенные пальцы. Сие означало - считайте, ваше сиятельство, что вопрос задан.
– Соскучился я по Москве. В отставку выйду - здесь жить буду. Вот, бродил, глядел, заново осваивался. Что, дашь мне разрешение домишко поставить?
Архаров опустил глаза. Что же - к тому и шло. Братцы Алехана уже попросились в отставку - и никто их не удерживал. Он последний из всего лихого семейства еще служил государыне. Хотя было бы с ее стороны огромной ошибкой отстранять от государственных дел этого человека. Какие бы слухи не носились о его итальянском похождении.
– Куда торопиться, ваше сиятельство? - спросил Архаров.
– Отслужил… - Алехан задумался, глядя в дно стопки и повторил со вздохом: - Отслужил… Распрощаюсь со службой достойно, уйду, задрав нос, вот увидишь. Так уйду, что вся столица ахнет. Сам знаешь, Архаров, служил я верно, многим был жалован, и на прощание покажу, что дары ее величества умел ценить. Не потому моя служба кончилась, что плохо служил, а потому, что и честь свою ниже службы поставил… О чем и судачат при дворе! Да мне что? Найду чем заняться. Вон театр в Москве построю, мадмуазель Фаншету на главные роли возьму…
– Нет! - вскрикнула Дунька. - Ни за что… ваше сиятельство!…
Архаров понял - она вспомнила Оперный дом и госпожу Тарантееву.
– Коли хочешь, я велю экипаж заложить, домой тебя отправлю, - сказал он, покосившись на графа: вот, мол, и мы знаем галантное обхождение, девок домой не на извозчиках отвозим.
– Пусть остается, - решил Алехан. - Ей апельсины обещаны. Слыхал, небось, в какую пакость я втравился?
– А был ли выбор? - спросил Архаров.
– Нет, брат, выбора не было. Мне сия пакость на роду была написана, - хмуро сказал Алехан. - Налей, Архаров.
Архаров налил зеленоватой водки из хрустального графина в серебряную стопку. И покивал, безмолвно соглашаясь. Он знал, что от таковых пакостей уворачиваться напрасно - вон, сам в одночасье сделался из гвардейца полицейским. И хотя оба, Алехан и Архаров, выполняли нечаянное поручение судьбы на совесть, однако, ежели смотреть правде в глаза, пакость - она пакость и есть…
Пить Алехан, однако, сразу не стал.
– Они за мной там, в Италии, следили. Потому и выбрали. Да и не из кого было выбирать - один я в том Ливорно, околачивался. И офицеры мои при мне. Только, видишь ли, Архаров, со мной начинать с вранья негоже - они ж в первом письме такого нагородили! Князь Разумовский якобы в башкирских степях подвизается под прозванием Пугачева! Так-то все складно - дочь покойной государыни по европейским дворам шастает, братец ее родной - по башкирским степям - все семейство мне на тарелочке преподнесли.
Архаров все молчал, хотя не понял и половины - что за «они», какое письмо? Не то что в Москве - и в столице весьма смутно представляли себе ту интригу, в которую волей-неволей замешался Орлов. То есть, близким к государыне людям было ясно, что никакая дочь Елизаветы Петровны не могла вдруг возникнуть из небытия и отправиться в вояж, кормясь непонятно из чьих рук и вступая в самые неожиданные амурные союзы. Но чья это хитрая игра, кто с кем объединился и незримо стоит за спиной авантурьеры, есть ли в ее враках крупицы правды - сидя в Санкт-Петербурге, понять было сложно.
– К моей славе и чести взывала! К прямому нраву и справедливому уму! Театральная девка, откупщика улещая, чтобы колечко подарил, не столь нагло кумплиманы рассыпает…
До Архарова дошло - граф пересказывает первое послание самозванки. А до Дуньки ничего не дошло, но она внимательно смотрела в лицо статного кавалера, не смущаясь страшноватым шрамом - Марфа научила ее, какие особенности мужской внешности имеют смысл, а какими можно пренебречь. К тому же, по всей повадке Алехана было видно, что он привык нравиться дамам. Архаров рядом с ним отнюдь не казался ядреным кавалером - в необъятном своем шлафроке, почти лежа на столе, он гляделся старше Алехана, хотя старше как раз был Орлов - и на целых пять лет.
– А я не откупщик, слава Богу… Превосходство моего сердца! Там, Архаров, только превосходства моего кляпа недоставало, в том манифесте! Но это еще что! Писалось, якобы сия дама владеет подлинным завещанием покойной государыни. Тут я так хохотал - до икоты дохохотался. Однако что-то следовало предпринимать, коли на меня сия морока свалилась. Ты-то хоть меня разумеешь? Более-то разгребать новоявленную кучу дерьма некому.
Архаров кивнул дважды. Так, по его мнению, офицеру низшего чина полагалось соглашаться с офицером высшего чина. И, хотя Алехан никогда ему прямым начальством не был, а был его старший братец Григорий Орлов, Архаров ставил Алехана на куда более высокую ступеньку в своей воображаемой лестнице. Даже теперь, когда звезда братьев Орловых, можно сказать, закатилась, Архаров оставлял Алехана на той ступеньке, потому что сам, без подсказок, знал ему цену.
– Стал я разбирать - уж не та ли авантурьера, что прибыла из Константинополя? Про ту сказывали, будто живет на острова Парос и поселилась на аглицком судне. Что делать - посылаю на Парос майора Войновича с наказом - переговорить, и коли просто дура - послать ее сам ведает куда, а коли нечто сомнительное - звать ее ко мне в Ливорно. Оказалось, там иная дура подвизалась… И тогда же я писал государыне - буде потребуется, заманя авантурьеру на корабль, отослать прямо в Кронштадт, пусть с ней в столице разбираются. А будь моя воля - навязал бы ей камень на шею да и в воду…
Архаров несколько нахмурился: выходит, выдумка с ловушкой на корабле все же принадлежала Орлову…
– А откуда она, бывши в Турции, могла знать про маркиза Пугачева? И с чего ей вздумалось объявлять его своим братцем? - спросил он. Для него Турция была невообразимо далеко - вести из России, по его разумению, туда три года брели, однако то, что турецкие вести долетали куда быстрее, его почему-то не смущало.
– Вот и я о том же задумался. Это, брат Архаров, и есть самое неприятное - что мы имеем дело не с сумасшедшей и не с мошенницей, обирающей богатых дуралеев, а с происками государства, уже много лет к нам недоброжелательного. Не уразумел?
– Французы, что ли, в дело замешались? - вдруг вспомнив почему-то, как Федька заколол ножом мнимого аббата, спросил Архаров.
– Грешил я и на турок, и на Польшу. Ты не забудь - по моим сведениям, авантурьера из Турции явилась. А тогда же мне парижские газеты показали. Знаешь «Французскую газету»? Ну так в ней и напечатано было, что при дворе маркиза Пугачева есть два турецких советника, и оба ходят в масках. Однако я нюхом чуял французов, сударь мой. Было сие сперва таким… как бы поделикатнее… никчемным подозрением было, что вилами по воде писано…
Архаров всегда был далек от политики. Смолоду она вроде ни к чему - знай себе служи, а теперь и без нее забот хватало. Коли начнешь ломать голову над загогулинами и выкрутасами межгосударственных отношений, то на службу уже ни умственных способностей, ни памяти не хватит. Князь Волконский - и то не слишком обременял себя политикой. Одна Москва со всеми ее затеями трех Европ стоит…
Но сейчас что-то было в словах Алехана, зацепочка некая, вроде рыболовного крючка, да и не в словах - в самом голосе, не тревога, а горестное предчувствие тревоги - то бишь, ощущение, весьма известное подозрительному Архарову. Слово «французы» вызвало у него отклик - пока лишь кивок да беззвучное «угу». И, как Шварц прибирал к себе в чулан все, что могло со временем пригодиться, так Архаров прибрал в кладовые памяти своей даже не слово - интонацию, коей оно было окрашено.
– Не у нас сия интрига вызрела - и на том спасибо. Коли бы у нас - поменее нагородили бы врак. И заметь, Архаров, когда она вызрела! Как с туркой благополучный мир заключили и победителями пред всей Европой явились. Ни цесарцы, ни французы нам в войне победы не желали, и прусский король - та же бражка… Прискорбно французам, что понапрасну яд против нас источали. Я государыне писал - нашего Пугачева не они ли нам подсунули? Писать я не мастак, да вроде внятно все изъяснил. Французы, правда, на словах от авантурьеры нашей отреклись, поддерживать ее-де отродясь не собирались, консул французский в Рагузе господин Дериво прямо ее обманщицей назвал. Так велика ли тому цена? А ты что об этом скажешь, брат Архаров?
– У нас и своих подлецов довольно, - отвечал Архаров. - Слыхали, небось, ваше сиятельство, что у Пугачева было найдено голштинское знамя Дельвигова драгунского полка? Коли угодно, расскажу, как оно к бунтовщикам попало. Самолично сей клубок распутывал. Вот и Фаншета подтвердит, как Оперный дом приступом брали.
Дунька улыбнулась - выходит, он помнил, как она выскочила на сцену, размахивая этой самой шпагой, которой только что гоняла его сиятельство графа Орлова.
Архаров редко хвастался своими удачными розысками - да и перед кем? В кои-то веки приехал человек, который мог понять его - и он не смог удержаться. Предложил, стараясь соблюсти достоинство, без суеты, с той тихой гордостью, какую, по его мнению, должен испытывать офицер, превосходно исполнивший свой долг.
Алехан посмотрел внимательно на Дуньку, на Архарова, отпил из стопки, усмехнулся.
– Сказывай, Николай Петрович.
Обер-полицмейстер изложил экстракт дела (Дунька вмешалась, когда он забыл название трагедии), причем в его изложении главным виновником заговора был Брокдорф. Как-то оно само собой получилось, хотя следовало бы и князю Горелову должное воздать, и Мишелю Ховрину.
– Хотел бы я знать, где прошатался Брокдорф все эти годы, - только и ответил Алехан. - Я тут, с авантурьерой этой, уже во всяком деле двойную, а то и тройную подоплеку ищу. За нашими ротозеями стоял Брокдорф, а коли и за Брокдорфом кто стоял?
– В столице есть кому его допросить с пристрастием, - сказал Архаров. - Но коли велят - могу кое-что разведать. Известно, с кем он сожительствовал, где жил, можно сыскать разбежавшуюся из того дома прислугу, а вот с дворовыми господина Горелова все не так просто - кому-то наверху страсть как не хочется, чтобы княжеские шашни всем ведомы учинились. Может статься, тех дворовых людей не то что в Москве - а и на свете более нет.
– Хочу убедиться, что между маркизом Пугачевым и авантурьерой доподлинно никакой связи нет… - тут Алехан засмеялся. - А лихо твой дьячок голштинца оглоблей поперек спины оплел!
Архаров улыбнулся. История, как Устин расправился с Брокдорфом, и в доме Волконского также всем весьма понравилась.
Они вернулись к авантурьере.
– С чего эти умники Разумовского к бунту приплели, я уж потом догадался. Фамилия в Европе известная - племянников гетмана Кирилы Григорьевича туда на ученье отвозили, да и сам он с детьми дет десять назад за границу ездил. Начали строить турусы на колесах - а не покойной ли государыни от Андрея Григорьевича детки? Она ж и не скрывала особо своих амуров с Андреем Григорьевичем…
– А верно ли, что они повенчались? - спросил Архаров.
– То тебе доподлинно только сам Андрей Григорьевич мог бы поведать, да четыре года как в могиле лежит. Прочим же веры нет - как кому надобно, так и врет… Вот отколе и выросли враки нашей авантурьеры - кто-то что-то о детях покойной государыни сбрехнул. Она ведь, затейница наша, не сразу себя Елизаветой Второй додумалась объявить, она перед тем была мадам де Тремуйль, а затем еще персиянкой себя вообразила - Али Эметте, и черкесской княжной уж заодно. Географию по ее прозваниям изучать способно…
– Что ж авантурьера? Хороша ли собой? - спросил Архаров. - И доподлинно нет ли сходства с покойной государыней?
– Да что уж там хорошего. Нам с тобой девку в теле подавай, статную, пышную, веселую, молодую… - Алехан, усмехнувшись, подмигнул Дуньке. - Она же не так чтобы молода - а двадцать пять ей давно, поди, стукнуло.
Дуньке до двадцати пяти было еще далеко, и Алеханов кумплиман она приняла так, как следовало: задрала нос, якобы показывая недовольство.
– Росту небольшого, телом очень суховата, лицом ни бела, ни черна, да еще с веснушками, косы и брови темно-русые… - тут Орлов задумался, вспоминая. - Нос горбатый, длинноватый. Сходства, сам видишь, никакого. А вот глаза пребольшие… темно-карие… прелестные глаза… ими и завлекает…
Видать, было что-то между той женщиной с темно-карими глазами и его сиятельством, подумала Дунька. Может, даже и не амурились, а что-то было.
И Архарову то же на ум пришло, только он ощутил сожаление, которого сам себе бы не мог, да и не хотел объяснить: вишь, и тут не сбылось…
Вовремя явились Меркурий Иванович и лакей Иван, стали устраивать трапезу. Дунька, глядя на тарелки с холодными мясами, соленьями и маринадами, тоже вдруг есть захотела. Она не была светской девицей и не знала, что прелестнице положено питаться так, как птичка клюет. Аппетитом Бог Дуньку не обидел.
Архаров был, как всегда, от души рад тому, что может как следует накормить гостей, пусть не разносолами, пусть по-простому, однако досыта. И когда он по-хозяйски уговаривал не стесняться, Алехан даже улыбнулся такой забавной искренности.
Разговор вернулся к самозванке.
– По-французски и по-немецки чисто говорит, немного по-итальянски. На арфе играет, рисует, об архитектуре весьма толково рассуждает, - перечислял граф добродетели авантюрьеры, и Дунька ощутила нечто вроде ревности: ишь, чем там, в Европах, кавалеров-то пленяют, против такой дамы москвичке и выставить нечего. - Уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит, проверить не удосужился. А вот что в ней есть - так это смелость, и сама она про то знает и тем похваляется…
Архаров неодобрительно хмыкнул. По его мнению, женская отвага была качеством неприятным и бесполезным - девице следует слушаться родителей или опекунов, замужней - супруга, а проявлять смелость разве что в деле выбора ленточек для чепца. Некоторая пугливость особе дамского звания даже к лицу - рядом с такой особой приятнее ощущать себя кавалером, мужчиной, военным человеком, наконец.
– Так и от ее смелости мне польза немалая была. Как бы иначе я ее на судно заманил? - спросил Алехан. - А я все время в ее отваге сомневался да сомневался - вот ей и стало невмочь, непременно доказать хотелось, что она может полки на приступ водить. Тут и попалась.
Архаров промолчал - ни кивка, ни вопросительного хмыканья. В том, что на авантурьере клейм ставить негде, он не сомневался. И в том, что следовало против нее употребить хитрость - равным образом. Только ведь для хитростей другие люди есть, вот как у него самого для разных тайных надобностей - Шварц. Что хорошего в том, как устроено было похищение девки? Непременно следовало самому Алехану позориться и вызывать шум в Европе?
Алехан был догадлив.
– А как иначе? - спросил он. - При ней свита была человек в шестьдесят, стерегли на совесть. Только она сама и могла себя оттуда похитить - и не на грошовое бы колечко она польстилась!
Дунька слушала, не вмешиваясь, и невольно начала их сравнивать - графа Орлова и обер-полицмейстера Архарова. Граф был хорош, и шрам его знаменитый тоже был по-своему хорош, граф, хоть и развалился на стуле вольготно, однако с определенным умением - чтобы невольно возникло сравнение с отдыхающим львом. Опять же, и одет он был знатно, и кружева на нем дорогие, и вон как выставил стройные сильные ноги - любо-дорого посмотреть. Архаров же в своем шлафроке, да еще облокотившись на стол, и вовсе был похож на толстую пожилую купчиху - лишь неизменного жемчуга в ушах да на шее и большого чепца недоставало.
Меж тем Алехан рассказывал, как его офицеры, Кристенек и Осип де Рибас, выследили самозванку, вошли к ней в доверие и подготовили путь для графа Орлова. Дунька не знала ни имен, ни названий городов, и очень скоро перестала понимать - Архарову, впрочем, тоже не все было ясно. Не мог он взять в толк - неужто не было иного пути заманить мошенницу на судно, кроме как предлагать ей руку и сердце. Очевидно, не было - по словам Орлова, чуть не вся Италия была от нее в восторге и преданные дворяне берегли ее, как зеницу ока. Уж до того берегли, что возникали всякие подозрения - кто-то незримый занимался этой охраной. И Орлова одобряли постольку, поскольку полагали - рука об руку с новоявленной российской государыней Елизаветой Второй воссядет он на престол огромной империи…
Он же, отправив пленницу в Россию, застрял в Италии.
– Мне и без авантурьеры забот хватало, - сердито сказал Алехан. - Шум, гам, все меня кроют последними словами, а на мне переселенцы висят, как чугунные вериги, - изволь отправить в Россию молдавского господаря супругу Роксандру с семейством, да константинопольского патриарха Софрония со свитой, да еще приблудились арабы какие-то, черногорцы, греки, албанцы, и каждым изволь заниматься…
И тут Дуньку озарило - она вспомнила еще одно захаровское французское словечко.
– А ля гер ком а ля гер, - вдруг сказала она.
Алехан, который беседовал, в сущности, с однии Архаровым, а на Дуньку почти не глядел, повернулся к ней, да и Архаров на нее уставился.
– Слыхал, брат? Фаншета-то в самый корень зрит. И точно - на войне как на войне, - перевел Алехан, сообразив, что обер-полицмейстер и настолько-то французского не знает, чтобы простую поговорку перевести.
Тут он ошибся - Архаров бы перевел, но - подумавши, потому что каждое слово поодиночке он уже знал.
Дунькино вмешательство как-то неожиданно ловко завершило беседу. Время было позднее, Архаров велел Меркурию Ивановичу готовить ночлег для знатного гостя. Отдавая распоряжения, он потихоньку поглядывал на Алехана и увидел-таки то, что ожидал увидеть: граф при слове «постель» невольно бросил взгляд на Дуньку.
Ну что же, подумал Архаров, Дунька своего добилась, не зря же так упорно сидела за столом с мужчинами и ковыряла один апельсин за другим. Стало быть, так надо. Не хватать же ее за косу.
Он даже не слишком огорчился - после бурного дня до того уже хотел спать, что ему Дунькины проказы сделались почти безразличны. Да и кто станет думать о девке, когда в полицейской конторе такие события, появление сухарницы из сервиза графини Дюбарри, бегство Демки Костемарова… Угодно ей разделить ложе с графом Орловым - ее забота, самой потом сию затею расхлебывать. Опять же - он ее сюда не звал, примчалась потому, что ей в голову втемяшилось… ну и Бог с ней, невелика потеря…
К тому же, Архаров превосходно сознавал, что не может быть ривалем графу Орлову, которого самые знатные придворные дамы в постели пускали. Ну, стало быть, и Дуньку не минует чаша сия… добегалась, егоза…
Но в том, как грузно поднялся Архаров со стула, как поплотнее запахнул шлафрок, в отяжелевшей походке, в сонном взгляде было некое преувеличение - по крайней мере, увидь Архаров господина, который столь натурально засыпает на ходу, весьма внимательно бы к нему пригляделся. И сказал бы, пожалуй, что господин несколько обижен, неплохо скрывает обиду свою, и, будучи в душе философом, гасит ее всеми доступными средствами.
Дунька растерянно глядела в спину уходящему из столовой Архарову. Она решительно ничего не понимала - вроде между ней и графом не произошло ничего такого, что заставило бы Архарова гордо удалиться, уступая женщину другому кавалеру.
К сожалению, Дунькин жизненный опыт был невелик, а уж находиться в положении добычи между двумя соперниками ей и вовсе ни разу не доводилось. Сперва за нее все решала Марфа. Потом было время, когда Дунька, уже став Фаншетой, мужским полом пренебрегала - постельные игры после житья у Марфы ей были неинтересны. Затем Гаврила Павлович сделал ее своей мартоной - и ее такое положение дел весьма устраивало. Тем более, что старый проказник завершил ее амурное образование, и ей с ним жилось неплохо. Так и вышло, что в ее жизни не было обычнейшего кокетства, известной всем барышням галантной игры с двумя и с тремя вздыхателями разом, когда одного ободряешь взглядом, другому надежду подаешь улыбкой, третьего с ума сводишь равнодушием. А будь Дунька поопытнее - то сразу бы уловила архаровское смурное настроение и не доводила бы дела до его молчаливого ухода.
Алехан - тот все понял и усмехнулся. Вроде бы цена девке, которая ночью, переодевшись в мужской наряд, прибегает тайком к любовнику, невелика, даже если любовник - московский обер-полицмейстер. И уступить такую девку приятелю, не испытывая никаких трагических чувств при этом, - дело несложное. Тем более, что она сама всячески показывала свое желание быть в мужском обществе. Кабы Архарова с Фаншетой связывало нечто более значительное, чем амурное баловство, девка бы отправилась ждать любовника в спальню, а не околачивалась в столовой, таращась на гостя. Так рассудил Алехан - и все же что-то мешало принять предложенный Архаровым подарок.
Возможно, движение Дуньки, устремившейся было вслед Архарову и уткнувшейся взглядом в его ссутуленную спину, плотно обтянутую розовым шлафроком.
– Ишь ты, Фаншета… - пробормотал он. Девка ему нравилась своей бойкостью, а более того - молчанием во время мужского разговора. Редкое для прекрасного пола явление, отметил он, архаровская Фаншетка и слушать умеет.
Алехан поднялся со стула и подошел к Дуньке. Тут разница в росте стала совсем смешной - Дунька ему и до плеча не доставала. Она обернулась и сразу поняла, какая мысль угнездилась в голове у кавалера. Чего-чего, а мужских лиц с этакой невнятной, блуждающей улыбкой, отражающей предвкушение амурных радостей, она видела довольно. И знала, как с ними обходиться.
– Ты, сударь, отойди-ка, - строго сказала Дунька. - Я шуток не понимаю.
– Чуть что - так шпагой? - спросил, развлекаясь. Алехан.
– Чем под руку подвернется, - пообещала Дунька. - Весь дом на ноги подниму.
– Экая ты несговорчивая и жестокая.
– Такова уродилась!
Решив, что более с кавалером толковать не о чем, Дунька решительно направилась вслед за Архаровым и догнала его уже в спальне.
– Я, Дуня, устал сильно, - сказал обер-полицмейстер. - А там его сиятельство…
– Врать-то зачем? - спросила Дунька. - Я тебе не твоя Настасья - к кому хочу, к тому в постель и укладываю! Ты Настасью своему сиятельству подводи, а я сама знаю, с кем мне любиться!
Следовало бы, видимо, сказать сейчас о том, что ей лишь Архаров и надобен, но Дунька вдруг осознала, что совершенно не желает более ложиться в постель с этим человеком. Было нечто в душе, влекло, казалось важным - и вдруг как топором отрубило. Да и не из-за обиды, пожалуй, - она знала, что от Архарова словесных нежностей не дождешься.
Просто раньше Дунька Архарова жалела. Знай об этом обер-полицмейстер, был бы сильно удивлен и крепко недоволен. Дунька смотрела на него, некрасивого, с причудливым и тяжелым норовом, думая горестно: кому ж он такой, бедненький, нужен? Но всякое острое чуввтво знает взлет, за коим следует угасание, у кого-то - долгое, растянутое на годы, у кого-то - скорое, будто свечку, дунув, загасили. Взлет, возможно, был минувшим летом, когда Дунька ворвалась в Оперный дом с обнаженной шпагой. Тогда она и умерла бы за Архарова легко и радостно, прикрыв его собой. Сейчас же она словно увидела его какими-то новыми глазами, и теплый розовый шлафрок, хорошо ей знакомый, вдруг сделался неприятен, и плотное тело обер-полицмейстера, завернутое в этот толстый шлафрок, вдруг разбудило в Дуньке некий внутренний голос, голос же произнес так явственно, что диво, как Архаров с Орловым не услышали: «старая баба».
Выскочив из архаровской спальни и хлопнув дверью, Дунька резко остановилась - не знала, как же быть дальше. Коли по уму - следовало бежать домой и более тут не появляться.
– Старая баба, - прошептала она сердито. Фигура в длинном розовом шлафроке и впрямь мужеством не блистала.
И тем не менее Дунька несколько подождала - коли есть в нем хоть малая привязанность к ней, должен догнать и воротить. Она медленно пошла к гостиной. Коли там Меркурий Иванович, можно попросить его, чтобы послал кого-нибудь из дворни за извозчиком.
Но в гостиной был граф Орлов. Увидев Дуньку, он улыбнулся. И от сознания, что он все понял, Дунька взяла да и разревелась. Ей было безмерно жаль себя, стыдно за свою дурость, да и какое ж прощание без слез?
Реветь стоя нехорошо, некрасиво, и она, присев к столу, дала волю слезам со всеми удобствами. Алехан, сильно удивленный тем, что Архаров вызывает у красивой девки такие бурные чувства, подошел и стоял рядом. Наконец, угадав, что рыдания вот-вот завершатся, он достал из кармана платок и вложил Дуньке в руку.
Дунька, всхлипывая, вытерла глаза и нос, искоса посмотрела на Алехана и вместе со стулом от него отодвинулась. Она знала, что понравилась графу, но даже коли бы от злобы и жажды отмщения оказать ему благосклонность - то не в архаровском же доме!
Алехан же глядел на Дуньку с интересом. Женщин в его жизни набралось довольно, впереди их ожидало превеликое множество, и он мог спокойно отнестись к тому, что девка не желает с ним амуриться.
– Да будет тебе, - сказал он. - Другого наживешь.
Дунька в негодовании отвернулась.
Граф Орлов глядел на ее длинную русую косу поверх голубого кафтанчика и усмехался. Не так уж часто доводилось ему встречать подлинную горячность и искренность, а тут они прямо криком кричали: заметь нас, ощути нас, мы большего стоим, чем ночная беготня к московскому обер-полицмейстеру!
– А вот глянь-ка, - сказал Алехан и достал из глубокого кармана вещицу.
Он догадался обратиться к Дуньке, как к малому дитяте, и это подействовало.
Дунька сразу и не сообразила, что за диво такое: Пасха давно миновала, а господин Орлов протягивает ей нарядное пасхальное яичко. Потом увидела - оно не овальное, а круглое, и на шарокой ладони графа выглядит разноцветной монеткой. Из монетки торчал шпенек с золотым колечком. Алехан провернул его несколько раз - и крошечные молоточки стали выстукивать хрустальную мелодию. Разошлись золотые створочки, и Дунька увидела в глубине, в черной эмалевой нише четыре фигурки дам и кавалеров, каждая ростом с ноготок, и дамы были в розовых платьицах, кавалеры - в зеленых кафтанчиках. Они, двигаясь в лад друг вокруг дружки, исполнили повороты менуэта, а две золотые дамы с арфами, которых Дунька даже не сразу заметила, сидевшие по обе стороны ниши, шевелили руками как если бы проводили пальцами по струнам.
Дунька так и замерла, приоткрыв рот.
– Держи, - велел Алехан, отдавая ей дорогие французские часы. - Я этого добра из Европ немало привез. И отвечай, откуда ты такая взялась?… Держи, говорю…
Дунька вздохнула, и тогда он произнес слово, уже звучавшее этой ночью, только раньше оно означало мошенницу высокого полета, теперь же сопровождалось усмешкой, почти приятельской, и было в устах этого человека странной и так необходимой сейчас похвалой:
– … авантурьера!…
* * *
Демкино бегство ошарашило архаровцев. Всякое у них случалось - но все прекрасно помнили о круговой поруке.
Особенно затосковали Федька и Тимофей. Тимофей - потому, что теперь уж точно летели в тартарары все его брачные планы. Розыск среди служащих Рязанского подворья будет проведен суровый - тут и придется держать ответ за незаконное сожительство, припоминать, как ночью Демка выманил его на крыльцо и рассказал про объявившуюся супругу. Тут и Шварц свое веское слово скажет. О чем в таком случае тайно договариваются ночью мужчины? Да о том, как беду избыть. Вот и избыли. И весьма похоже, что это Демкина работа. Непонятно лишь, где он Федосью с детьми все это время держал, ведь время-то прошло немалое, несколько дней. Да и куда детей подевал?…
Федька во всем винил себя. После той драки в снегу, когда чуть своей дурью не погубили драгунский рейд на Виноградный остров, он какое-то время сторонился Демки, одновременно восхищаясь тем, как отважно Демка сопровождал налетчиков и притворялся спящим, зная, что вот-вот ему попытаются всадить нож между ребер. Сам Федька так бы не сумел, он был мастером драки, а не мастером скрадывания, он кулаками махал охотно, а сидеть в засаде не мог вовсе. И вот сейчас его пылкая душа маялась - он думал, а не стоило ли рассказать про драку хотя бы Тимофею, чтобы тот, как старший, присмотрел за Демкой, вразумил его. Ведь можно было предвидеть, что бойкий и самолюбивый Демка однажды чего-то натворит. А отвечать-то - всем…
Примерно так же рассуждал сейчас и Клаварош. Только он корил себя, что не рассказал про драку у кладбищенской стены Карлу Ивановичу Шварцу. Шварц, зная повадки шуров и мазуриков, уж придумал бы, как обходиться с Демкой. Теперь же - все за его бегство в ответе. Положение Клавароша было хуже прочих еще и потому, что он не служил в мортусах, не имел, выходит, права, на все положенные им послабления, а был взят с оружием в руках и подлежал казни как мародер, участник шайки. Если начнется суета по поводу круговой поруки - может выявиться и это…
Клаварош понуро заседал во дворе на лавочке у коновязи, когда к нему подошел выбравшийся из нижнего подвала Ваня Носатый. Ваня был одет попросту - в рубаху, поверх нее в бурый армяк, туго захлестнутый и подпоясанный нарядным кушаком. Он старался держаться молодцом - и не опускался до старых подрясников на вате, как Вакула. Там, в подвале, было прохладно и сыро, а Ваня, видать, сейчас сидел внизу без дела и озяб. Выйдя на солнечное место, бывший клевый маз подставил лучам свое изуродованное лицо и постоял несколько, закрыв глаза.
– Мусью, - сказал он затем гнусаво. - Позови Тимошу, Федю, Сергейку, Скеса, да и ко мне все вниз пожалуйте. Потолкуем…
Не дожидаясь ответа, он убрался вниз, в маленькую дверцу, которая вела в Шварцево хозяйство.
Клаварош посидел еще несколько и пошел в канцелярию. Ему повезло - и Тимофей, и Федька были там, а Сергея Ушакова отыскал неподалеку Никишка - Ушаков беседовал с десятским, по его просьбе приглядывавшим за весьма подозрительным двором. Скес же неведомо куда подевался.
Все четверо пошли вниз, причем никто даже не спросил Клавароша, что затеял Ваня Носатый. Очевидно, вспомнили чумной бастион, где Ваня был у мортусов за главного, не придавая особого значения присутствию солдат.
По дороге встретили Шварца. Немец посмотрел на них пристально, однако не задал ни единого вопроса.
Он только что покинул архаровский кабинет, не сумев успокоить начальство.
– А иначе и быть не могло. Додумалось его сиятельство… - сказал ему Архаров. - Нашло кого в полицейские брать! Ясно же было - не удержатся…
– Четыре года держались, - поняв, что речь о бывших мортусах, так же тихо возразил Шварц.
– Проклятый город…
Шварц все понимал. Он присутствовал при прощании Архарова с Григорием Орловым, когда тот, бросив Москву на только что прикатившего Волконского, помчался в столицу возвращать себе благосклонность государыни. Орлов душой уже был в Санкт-Петербурге, а все мелочи и пакости московского бытия его лишь раздражали.
– Тут тебе трудно будет завести дисциплину полицейскую, - сказал он новоявленному обер-полицмейстеру, - трудно даже различить, что Москва, а что деревня, и на каких кто правах живет, особливо слободы… Намаешься…
– Город обыкновенный, - скучным голосом произнес Шварц. - Прочие города Российской империи не лучше. Всюду свои мазы, шуры, взяточники и казнокрады. И мало где полицейские конторы возглвляют достойные господа, умеющие совладать со всеми безобразиями.
– Хочешь сказать, что среди этой братии я еще орел? Вот только не надобно кумплиманов, черная душа, - проникновенно попросил Архаров.
– Я полагаю, что во всякой службе должен быть определенный порядок, и ваши порядки, сударь, считаю для полицейского дела наилучшими. Сие не кумплиман. Беда, что в полицию попадают вовсе случайные люди. Вас его сиятельство избрал весьма удачно. А вон в Казани полицмейстером Тимофей Евреинов, знаете ли, кто таков? - спросил Шварц.
– Нет, откуда?
– А я скажу - это бывший камердинер государыни, в бытность ее еще великой княгиней. Был уволен государыней Елизаветой Петровной по формальному поводу, а на деле - потому что сделался доверенным лицом великой княгини. А великая княгиня сама сделалась государыней, а государыня наша на добро памятлива. Вот только, награждая, меры не ведает. Уж лучше бы денег отвалила побольше, да только таких чинов не давала, где голова потребна, - по-простому высказался Шварц. - А молодцов, ваша милость, сейчас трогать не надобно. Коли не трогать - они быстрее докопаются, что к чему.
Архаров посмотрел на него неприязненно. И отпустил. Но немец видел - прежнего доверия к бывшим мортусам у обер-полицмейстера уже нет. И это ему не нравилось - коли в полицейской конторе не станет доверия, то лучше ее сразу закрывать, а служащих разгонять.
Только быстрый взгляд на собравшихся кучкой архаровцев несколько утешил Шварца. Только им самим и было под силу разобраться в сложных обстоятельствах и найти ту ниточку, за которую следует потянуть.
Шварцевы кнутобойцы обжились в подвалах неплохо, и каждый имел там свой уголок, свое хозяйство - ложки-плошки, топчанчики-табуретки, войлок для спанья, у Вакулы, монаха-расстриги, даже образа висели. Ваня привел товарищей в свою каморку, похожую скорее на земляную нору, но зажег там свечку - и стало повеселее. Уселись, теснясь, на топчанчике, а пришедший последним повар Филя-Чкарь просто встал в дверях.
– Облопались, лащатки? - спросил Ваня.
– Да уж облопались так облопались, - проворчал Тимофей.
Все, кроме Клавароша, были с чумного бастиона и разумели байковское наречие, да и Клаварош уже знал многие слова.
Положение было незавидное - архаровцы, повязанные круговой порукой, оказались в ответе за подлеца Демку. Что бы он ни натворил - а удирать не имел права.
– Тимоша, точно ли он укоцал басвинску елтону? - тихо спросил Ваня, и никого не смутило, что он самовольно назначил себя старшим, как в чумное лето на бастионе. - Как оно было-то?
– Стоду одному ведомо, - тихо сказал Тимофей. - Я грешным делом и сам так скумил… Да уж с того света не вернешь…
– Тебе не слемзал?
– Скарал.
– Ну?
Тимофей неохотно рассказал все по порядку - как он, пробравшись к любовнице, спал у нее, как сради ночи прибежал Демка, как они сидели на крыльце и ломали головы: нет ли способа избыть заботу? И Демка, наказав ему быть поосторожнее, объявил, что идет домой - хоть малость поспать. Куда ж пошел на самом деле - неизвестно.
Потом взял слово Филя-Чкарь, самый старший в обществе. Он порой, когда Шварцу было не до того, выдавал архаровцам и десятским из заветного чуланчика все, что требовалось для служебного маскарада. Филя утверждал, что в последние дни Демка ни разу туда не заглядывал. Конечно, если бы Демка попросил выдать ему тот длинный нож на время, Филя бы выдал и без дозволения Шварца, да только не было такой просьбы. И выходило, что диковинный нож пропал еще до того, как к воротам Рязанского подворья притащилась Тимофеева жена с детишками.
– Вот тут наш пертовый маз остремался, - сказал Ваня. - Ну, мазурики, что замастырим?
– Мы-то замастырим, а пертовый маз отправит нас поглядеть на Знаменье… - отвечал Ушаков.
– Некен, - уверенно сказал Ваня.
Не только Архаров видел насквозь, понимал и одобрял Ваню Носатого. Бывший маз, налетчик, колодник тоже прекрасно понимал и одобрял обер-полицмейстера, хотя друг дружке они, ясное дело, в нежных чувствах не изъяснялись. Ваня без намеков понял: Архаров хочет, чтобы его подчиненные сами каким-то способом отыскали Демку и доказали его невиновность - поскольку пока что видит одни лишь доказательства виновности, и это ему неприятно. Та круговая порука, которой их повязали, взяв на службу в полицию, должна была сейчас способствовать розыску по делу об убийстве переодетой бабы Федосьи.
Архаровцы еще потолковали малость - но о делах незначительных: Тимофей рассказал, как вышло, что он женился на Федосье, потом повспоминали какие-то былые Демкины проказы. Ваня почти не говорил, слушал и думал.
У него было ощущение, будто он что-то знает про длинный и тонкий нож, непривычное для мазов оружие.
– Погоди, Чкарь! - прервал он товарища. - Скажи-ка лучше, когда вы рухлядь сушили?
– Сразу после Николы Вешнего, - без промедления отвечал Филя. - Как пертового маза поздравляли, так чуть ли не назавтра.
– И долго ли все на хазу висело?
– Весь день.
В заветном чулане у Шварца было много всякого добра - и кафтаны, и армяки, и передники, как у разносчиков, и бабьи сарафаны, и монашеские подрясники с рясами. Все это от хранения в сыром месте приобретало особенный запах - такой, что Архаров однажды, когда к нему в кабинет заявился кто-то прямо с наружного наблюдения, еще не скинувший маскарадное тряпье, шарахнулся и крикнул:
– Пошел отсюда! Разит от тебя, как от выходца с того света!
Шварц знал эту особенность своего чулана и первые же теплые солнечные дни использовал, чтобы вытащить и как следует проветрить всю одежонку, прогреть ее до того, чтобы и следа от сырости не осталось. Для этого он брал всех, кто подворачивался под руку, мог и канцеляристов позвать. Отказать ему никто еще не решался.
– Погоди, Иван Данилыч, - сообразив, подхватил мысль Тимофей. - Стало быть, в тот день много народу шастало в верхний подвал и охапками рухлядь на хаз носило. И коли бы кто срусил нож - того бы и не приметили?
– Другого такого денька не было, чтобы кто попало в чулан заходил, - сказал Ваня. - Разве что нож уже давно пропал. Надобно у черной души спросить - может, он зимой кому давал?
Черной душой Шварца звали с легкой руки Архарова.
Федька закивал. Ему страшно хотелось немедленно приступить к розыску ножа, но он ничего не мог предложить разумного, и потому маялся.
– Да и тем ли ножом кубасью укосали? - разумно спросил Ушаков. - Мало ли на Батусе ножей?
– Нож приметный, - возразил Тимофей. - Таких-то мало.
– Да уж поболее одного…
– Надобно наш сыскать - все Демке легче будет…
– В толк не возьму - на что бы Демке тот нож? - спросил задумчиво Чкарь. - Им и резать-то несподручно, а лишь колоть. Не мог он его взять, потому как незачем.
– Братцы, я! - вдруг воскикнул Федька. - Я расспрошу! Я у парнишек разведаю! Черная душа, коли что, их потрудиться заставляет!
– И пряниками награждает, - усмехнулся Тимофей. - Дались же немцу русские пряники…
– Ступай, Федя, позеть с лащатами, - кивнув не менее достойно, чем Архаров, сказал Ваня.
Федька выскочил из закутка и понесся по узкой лестнице вверх.
Он не умел сидеть без дела, особенно когда обстоятельства складывались загадочным и опасным образом. Сейчас они были не намного лучше, чем в чумное лето, - если Демка не сыщется, да если впридачу все улики подберутся так, чтобы можно было обвинить его в убийстве Федосьи, то отвечать за него - всем бывшим мортусам.
К тому же, Федька знал про Демку, что бывший шур может сгоряча удрать и спрятаться, оставив былых товарищей на произвол судьбы. Он вовсе не забыл, как подрались зимней ночью по дороге к Виноградному острову. Вроде и помирились, и ни разу о той драке не вспоминали, а Федька, оказывается, все это время о ней помнил.
Максимку-поповича Федька отыскал в канцелярии - тот сдавал собственноручно записанные показания по странному делу о покраже старого корыта и двух кадушек. При розыске явилось, что предполагаемый кадушечный вор замешан в совсем другую историю - там уже речь шла о беглых крепостных. Сей розыск перерос в иной - о похищении младенца. И конца-краю этому делу о корыте и кадушках не предвиделось.
Максимка был из почтенного иерейского рода. А в таких родах часто бывает, что из поколения в поколение рождаются удивительной красоты дети. Будь Максимка не столь строптив, останься он в семье и пойди по родительским стопам - был бы в храме, куда его определили бы служить, непрестанный соблазн для прихожанок. Теперь же его юношеская красота была некоторой помехой на служебном поприще - превосходно обученный наружному наблюдению и старательный парень привлекал слишком много внимания, так что труды его шли насмарку.
Как всякое дитя, воспитанное в послушании, чистоте духа и преклонении перед благими примерами из житий святых угодников, Максимка-попович испытывал живейший интерес к совсем иным областям жизни и потому глядел с восхищением на бывших мортусов, по капризу князя Орлова, тогда - еще только графа, ставших полицейскими. Федька это понимал - сам он с таким же восторгом слушал старого полицейского Абросимова, умевшего порассказать о злодеях былых времен и помнившего, как орудовал на Москве пресловутый Ванька Каин. Знал также Федька, что сам он для Максимки - особа, принадлежащая к неким высшим сферам полицейской жизни. И потому снизошел - сам заговорил с парнишкой, сам предложил заглянуть в «Татьянку», выпить пива, закусить воблой.
Там Федька заехал издалека - посочувствовал парнишкам, которых употребляли для всякой беготни, хотя по годам они уже могли вступать в настоящую службу. И понемногу вывел беседу на Карла Ивановича, всегда умеющего найти работу для тех, кого видит болтающимся без дела.
– Так это что? - спросил Максимка. - Мы живо все охапками из чулана потаскали наверх и на дворе развесили, он нам и веревки дал.
– А у вас что, своих не нашлось? - притворно удивился Федька. Веревка была при себе у каждого архаровца, тонкая и прочная, чтобы вязать злоумышленников. Он желал как бы ненароком выпытать, кто вместе с парнишками помогал выносить маскарадную рухлядь из подвала. А уж тогда докапываться до длинного и тонкого ножа, который в просушке явно не нуждался.
– А он всегда свои дает, у него там в углу на гвоздиках связки висят.
– И что, вы сами с той рухлядью управляетесь?
– Сами, - несколько удивившись вопросу, отвечал Максимка. - Не так уж ее и много, а носим охапками. Другое дело - веревки натягивать, да они ж еще и провисают. И во двор никому не войти. И так чужих не пускаем, а когда рухлядь сушится - так нарочно Карл Иванович по двору гуляет.
– И оружие вытаскиваете?
– Нет, с оружием Иван Данилыч возиться любит.
Федька не сразу сообразил, что речь о Ване Носатом. А догадался - и усмехнулся невольно: вот почему старый колодник так всполошился. Именно он имел более всех возможности утащить нож. Но теперь уж вовсе непонятно было, о чем еще расспрашивать Максимку-поповича.
– Это хорошо, что чужих не пускаете, - заметил он. - На дворе им делать нечего.
– Да тоже всякое бывает. Я вон на Пасху чуть не опростоволосился. Гляжу - человек по двору слоняется. Я к нему - кто таков, для чего тут бродит? Он меня изругал, а тут Абросимов бежит, уймись, кричит, свой это! Оказалось - до чумы еще служил в канцелярии, потом болел сильно, возвращаться к нам уж не стал.
– И так прямо шатался по нашему двору?
– Вот так прямо и шатался. Это он своих приятелей с воскресением Христовым пришел поздравить. Потом я его еще раза два встречал.
– Канцелярист, говоришь? А как звать?
– Сказался Семеном, то ли Елизарьевичем, то ли Елизаровым. Да ты Абросимова спроси или старика Дементьева. Дементьев всех помнит, кто тут при царе Горохе служил.
– Семен Елизаров… - повторил Федька.
Конечно, могло статься, что бывший служащий забредал с лучшими намерениями. Но, чтобы убедиться, следовало бы хоть раз на него взглянуть. Коли человек зажиточный, имеет свой двор, семью, где-то служит, так чего ж и не навестить старых товарищей с полным карманом крашеных яичек? А коли мало чем от нищего отличается - то, возможно, пришел стянуть, коли что плохо лежит. Такие истории на Москве нередко приключались.
Семен Елизаров был первый, кто подвернулся под горячую Федькину руку. И архаровец уже горел, уже пылал, ему не терпелось помчаться, разобраться, узнать правду. Еще диво, что он вернулся в подвал к Ване Носатому, а не помчался по Москве наугад, спрашивая встречних и поперечних, где тут квартирует Семен Елизаров.
Ваня уже сидел в своем закутке один. Выслушав Федьку, он хмыкнул.
– Тут с другого конца зайти надобно, - гнусаво сказал он. - Но этим я сам займусь. Поспрошаю, не было ли у нас на хазу каких пропаж. А ты ступай к гиряку Дементьеву. Скажи - по нашим бумагам Елизаров проходит, так лучше бы сразу и без шума с ним потолковать.
Полчаса спустя Федька уже спешил по Никитской к Пресне. Но спешил не просто так - а уговорившись предварительно с Жеребцовым. У того было свое дело на Пресне, весьма странная кража - вор взял только толстые старые книги, а стоявшей на виду хорошей посуды не тронул. Коли по уму - то расследовать это дело должен был бы Устин Петров, что-то понимающий в старых книгах и умеющий определить, какая из них чего стоит и для чего нужна. Но у Устина сейчас других забот хватало, и Федька отважно помчался вести беседу с обворованным чиновником, во всем положившись на Господа - авось подскажет правильные вопросы.
Иного выхода у него не было - он не мог надолго уходить из полицейской конторы, не имея на то должного основания. Иначе за азарт расплатилась бы спина.
Федьке повезло - чиновник с диковинной фамилией Переверзев жил в Малом Конюшковском переулке, а Елизаров - в Большом Конюшковском. Это было тихое место, еще совсем недавно занятое главным образом садами. Потом там стали селиться мелкие чиновники и отставные военные. Федька в этих краях бывал редко - за всю свою полицейскую службу, может, раза два, не более. Поэтому он, решив сперва навестить чиновника, не сразу отыскал Малый Конюшковский. Для таких случаев Саша Коробов имел слово «логика» - скажем, переулки, прилегающие к Сретенке, были устроены в соответствии с логикой, все они были относительно прямыми и Федька знал, что, шагая по Сретенке, рано или поздно обнаружит искомый Луков или Просвирин. Тут же Малый прятался Бог весть где за Большим, так что выбрел к нему архаровец не сразу.
Переверзев оказался старым чудаком, увлеченным непонятными материями. Федька только и понял, что книги пропали среди бела дня - а взял их, скорее всего такой же любитель древностей отставной артиллерийский майор Бахметьев, но не признается, и при сообщении, что подана «явочная» в полицию, только расхохотался злобно.
Сам делать у Бахметьева выемку книг Федька не решился - подсунет еще какие-нибудь не те. Зато расспросил Переверзева о Елизаровых - точно ли живут по соседству да какого они нрава.
– Старик у них прескверного нрава, - сказал чиновник. - Сказывали, смолоду крепко пошалил, чудом в каторгу не попал. Родня уберегла.
– Сколько ж ему лет?
– Да лет шестьдесят, поди. Диво, что в чуму выжил, сильно хворал.
Все совпадало - не оправившись после чумы, Елизаров подал в отставку. А что смолоду шалил - так это он, поди, при Ваньке Каине попал в полицию. Тогда Каин таких полицейских завел, что от них всей Москве было тошно.
Не докапываясь до подробностей, Федька велел Переверзеву сидеть тихо, ни о чем злодея Бахметьева не просить, чтобы вор не перепрятал свою добычу. Сам же пообещал, что архаровцы помогут - дело было простое, чего ж не помочь? Приехать вчетвером, с криком и поминанием всуе статей закона, переполошить живущих в доме женщин - сами вынесут украденное, да еще сунут в широкий карман мундира барашка в бумажке, чтобы тем следствие и кончилось.
Идя к Малому Конюшковскому, Федька продумывал разговор со стариком Елизаровым. Можно передать поклон от давнего приятеля, старика Дементьева. А дальше? Коли возникнет подозрение, что он стянул нож, следует отступить с достоинством, чтобы вор ничего не заподозрил. Но коли Елизаров виновен - уж точно заподозрит! Стало быть, не с самим Елизаровым надобно беседовать, а с кем-то из домочадцев…
Федька неторопливо шел переулком, отсчитывая ворота и молясь Богу, чтобы в домочадцах оказалась молодая бабенка - осторожности в них мало, зато разговорчивости много. Его обогнала извозчичья бричка, остановилась у тех самых ворот, к которым шел Федька, и на утоптанную землю соскочил Абросимов. Не глядя по сторонам и не замечая Федьки, он сунул извозчику деньги и быстро вошел в калитку.
Абросимов был из тех старых полицейских, что служили еще при Каине, но как-то сохранили репутацию. В чуму он жил на заставе, а когда Архаров по милости Григория Орлова возглавил московскую полицию, явился к нему с рекомендательным письмом от самого Еропкина, где говорилось, что он от поветрия не прятался, а честно исполнял свои обязанности.
Узнав его, Федька резко остановился. Этот визит был весьма подозрителен. Все Рязанское подворье было в великом беспокойстве, все полицейские ломали голову над пропажей длинного ножа, и все понимали, что не мог Демка замышлять убийство загодя и запасать клинок с зимы. Во-первых, он был шур - шуры же полагаются на изворотливость, а оружие пускают в ход, только если жизнь в опасности. Во-вторых, коли бы он и стянул клинок, то держал бы его дома, а не таскал с собой, с риском, что у него эту забаву увидят. И, следственно, опознав в приблудившейся бабе жену Тимофея, он должен был брать извозчика и ехать домой за ножом, что по меньшей мере нелепо, ведь у него в кармане непременно имеется его собственный нож, вполне пригодный для убийства. И архаровцы знали, что их командир, накричав на Демку, успокоится, одумается и поймет, что нож стянул кто-то другой.
А когда поймет - под подозрением окажутся решительно все. В том числе и Абросимов.
Выходит, старый полицейский подозревал давнего приятеля? И Федькина догадка была верной?
Преисполнившись гордости, архаровец замедлил шаг и неторопливо подошел к калитке. Тут он задумался - вроде бы уже не было смысла являться к Елизарову. Но и уходить он не хотел - мало ли как обернется дело. Абросимов может сцепиться со стариком, или же старик приведет какие-то основательные оправдания, или, наоборот, признается в грехе, и они вдвоем начнут думать, как теперь изворачиваться.
Судя по крепкому и длинному забору, по высоким воротам, семейство Елизаровых было зажиточное. То бишь, воровство ради добычи, кажется, исключалось. Хотя было же недавно дельце с сумасшедшей бабкой…
Вспомнив его, Федька невольно улыбнулся.
В почтенном купеческом семействе жила на покое бабушка, сестра покойной хозяйки. В чуму она потеряла всю мужнюю родню и своих детей с внуками, оставшись единственной наследницей немалых денег. И одолела бабку дурь - стала она кричать, что ее-де изводят, напускают на нее порчу, чтобы поскорее похоронить и воспользоваться денежками. То одного, то другого домочадца обвиняла старуха, несколько раз переписывала завещание и окончательно всех перессорила. И был у порчи признак - кладбищенская земля, которую подсыпали под двери бабкиных покоев, чтобы бабка наступила и тяжко захворала. Тут явно действовал какой-то бес - у дверей беспокойной родственницы по ночам несколько раз ставили караулы, земля же появлялась в виде маленьких кучек - словно с потолка падала.
Не в силах справиться с бедой, домочадцы позвали на помощь знакомого архаровца Сергея Ушакова.
Ушаков не так давно подобрал бездомного паренька Никишку и приютил его. А чтобы найденыш не избаловался, привел в полицейскую контору. Там Никишку стали обучать ремеслу - сперва был на побегушках, потом начали доверять несложное наружное наблюдение. И вот настал день его триумфа - парнишку провели в дом и помогли спрятаться в покоях старухи. Он наутро и доложил - кладбищенская та земля или нет, а хранится она у бабки под кроватью, и сама же бабка, выходя спозаранку в нужник, ее исправно у дверей рассыпает, чтобы был повод для шума и склоки.
Так что Федька уже знал: старики воруют не только от нищеты, но и от особой придури.
Семен Елизаров мог по старой памяти забрести в верхний подвал, увидеть открытый чулан и стянуть первое, что подвернулось под руку. Мог…
На сем Федькины воспоминания и умопостроения были прерваны криком. Кто-то бегом пересек елизаровский двор, распахнул калитку и выскочил в переулок.
Это был мужчина лет тридцати, ростом малость пониже Федьки, худощавый, темноволосый, взъерошенный. Красавцем Федька бы его не назвал - он скорее уж походил на белобрысого Демку Костемарова, Демка же имел внешность какую-то угловатую - острый носик, торчащий вперед и не всегда гладко выбритый подбородок, впалые щеки. Но было в его живой мордочке некое хитрое очарование, особенно сильно действующее на молодых вдовушек.
Мужчина зажал в руке скомканный кафтан, и чем-то этот кафтан был Федьке знаком.
Растерянность длилась мгновение, не более - Федька узнал полицейский мундир.
Поняв, что Абросимов попал в беду, он кинулся не мундир выручать, а товарища. Но во дворе его встретил огромный черный барбос, из той породы, что лаять то ли не любят, то ли не умеют, а нападают молча.
Абросимов был пропущен потому, что во дворе - большом, кстати, и довольно опрятном, - кроме пса, были еще и старик в длинном то ли армяке, то ли грязном халате, опиравшийся на толстый костыль и ковылявший к лавочке под сиреневым кустом, и баба с ведрами, и какой-то молодец, голый по пояс и с мокрой головой. Очевидно, они прикрикнули на собаку.
Федька выскочил и захлопнул калитку. Потом приоткрыл ее настолько, чтобы видеть старика и обратиться к нему с речью.
– Придержи кобеля, дедушка! - крикнул он. - У меня до тебя дело.
– Пошел к черту, - отвечал недовольный дедушка.
Судя по всему, это был Семен Елизаров.
– Подойди к калитке, - крикнул тогда Федька. - Господин Шварц тебе кланяется!
Он искренне полагал, что это имя держит в трепете всю Москву.
– Плевал я на твоего Шварца.
Тут-то и закралось в Федькину душу некое подозрение.
Человек, служивший в полиции, так ответить не мог.
У Федьки был при себе нож, хороший нож, с широким клинком полуторной заточки, но ему никогда еще не доводилось драться с большим, сильным и злобным псом. Для пса требовалось иное оружие - и оно во дворе имелось…
Все зависело от быстроты бега.
Федька распахнул калитку, вдохнул, выдохнул - и, что было мочи, кинулся к старику. Он подбежал, выдернул у деда из-под мышки костыль и обернулся как раз вовремя, чтобы с силой ударить пса дважды, сперва по башке, потом поперек хребта. Потом, не слушая ругани и не оборачиваясь, архаровец кинулся в дом, проскочил в сени, оказался в горнице.
Абросимов лежал на полу, закрыв глаза, раскинув руки и ноги. Федька, благоразумно не бросая костыля, кинулся на колени и, еще не осознавая беды, встряхнул его за плечи.
– Дурак… - прошептал старый полицейский. - Нож… он меня ножом… не тронь…
– Погоди, не помирай! - приказал Федька. - Сейчас я их всех!
И тут в дверях горницы возник Клаварош - такой же, как всегда, высокий, тонкий, гибкий, в полицейском мундире.
– Мусью?! - изумленно спросил Федька. - Ты-то тут как?…
И тут лишь Федька заметил в руке у Клавароша обнаженную шпагу.
Он вскочил и поудобнее перехватил костыль.
Никто Федьку штыковому бою не обучал - ни на полковом плацу, ни в сражении. Но кое-какие приемы он знал от знакомых солдат. Костыль вполне мог бы сойти за ружье с примкнутым штыком - во всяком случае, оборониться им и от шпаги, и от палаша опытный боец сумел бы. Да и стойка солдата, орудующего штыком, была архаровцу привычнее фехтовальной - левобокая, как в кулачном бою.
Но Федька не имел опыта да и растерялся - не ждал такой каверзы от Клавароша. Потому он, выставив перед собой костыль, отступил.
– Побойся Бога, мусью! - закричал он.
Но противник кинулся на него со шпагой, и тут до Федьки дошло: это вовсе не Клаварош, просто рост, сложение, мундир да еще плохое освещение в горнице способствовали сходству, не более.
– Караул! Архаровцы, ко мне! - заорал Федька, отбивая первые выпады весьма успешно. - Ко мне, архаровцы!
Только чудо могло бы занести сюда молодцов с Рязанского подворья, но Федька и не рассчитывал на чудо. Он желал смутить противника и устроить переполох. Откуда, в самом деле, этому человеку знать, что Федька приплелся сюда один?
Уловка подействовала - внезапно отступив, фехтовальщик скрылся в соседней комнате и дверь захлопнулась.
– Архаровцы, сюда! - орал Федька, в пылу преследования колотя костылем в дверь. - Тимофей, в окно лезь! Ушаков, справа заходи!
Ему удалось проломить непрочную дверь, а делать этого не стоило.
Раздался выстрел. Пуля, выпущенная в щель между досками, которую так усердно расширял Федька, едва его не задела. Полицейский отскочил и прижался к стене, кляня себя за то, что пришел в этот милый домик без оружия. Но следующий выстрел прозвучал уже со двора. И сразу же раздался дикий бабий визг.
– Ты, Абросимов, погоди умирать, мы тебя выручим! - сказал Федька и, не бросая костыля, выскочил в сени, а оттуда - на свежий воздух.
Визжала баба, присев на корточки. Проследив ее взгляд, Федька увидел полуголого парня, лежащего на траве. Над ним стоял человек в полицейском мундире и с пистолетом в руке. Он целился как раз в бабу.
– Беги, дура! Дура, беги! - приказал Федька, и тут же пистолетное дуло переместилось - теперь под прицелом был он сам.
Федька рухнул наземь и откатился за крыльцо, а пуля вошла в стенку дома.
Ничего подходящего, чтобы хоть запустить в убийцу, за крыльцом не нашлось.
Вдруг до Федьки дошло - не может же быть, чтобы этот мерзавец таскал с собой дюжину заряженных пистолетов! Один выстрел он сделал в доме, два - на дворе. Возможно, у него есть еще один пистолет - и если заставить его разрядить это оружие, то уже можно надеяться на удачу!
Не зря обучал обер-полицмейстер своих архаровцев приемам ломанья. Этот выход на полусогнутых, словно бы подгибающихся ногах, это вихляние тела, припадание, игра плечами, эта издевательская проходка перед противником была необходимой особенностью поединка бойцов перед тем, как сойтись двум стенкам. И только мастер мог знать, когда безвольно болтающиеся, словно веревочные, руки наберут вдруг силу и скорость для хорошей размашки или мощного тычка.
Федька выскочил из-за крыльца и двинулся на противника, шутовски приплясывая. Но этого ему было мало - он вспомнил вдруг старинные Демкины проказы.
– А чума по улочкам, чума по переулочкам! Во пиру ль чума была, сладку бражку пила! А у нас на Дону полюбил черт чуму! Прислонив ее к тыну, запихал кляп в дыру! - выкрикивал он тонким глумливым голосом. - А и вот она я, раскрасавица чума!
Он представлял собой весьма неудобную мишень - он и сам не знал, каких прыжков и ужимок ожидать от себя в следующее мгновение. Пистолет же хорош в ближнем бою, а на расстоянии в двадцать шагов из него можно попасть в подвижную цель только при особом мастерстве и при большом везении.
Очевидно, противник понял, что в этой схватке проиграл.
Он отступил к плетню, довольно высокому плетню, отгородившему двор от соседского огорода. По ту и другую сторону росли кусты своенравной малины - не садовой, мелкой, но для детей - вполне пригодной. Перелезть через такой плетень несложно, но он не лез - а птицей вспорхнул в воздух и пропал в малиннике.
– Господи Иисусе… - прошептал Федька. - Вот бес!…
Но было не до преследования - в горнице лежал Абросимов с ножом в груди, и прежде всего следовало спасать его, а потом уж гонять бесов.
– Поди сюда, баба, - сказал Федька. - Беги к Никитским воротам, бери извозчика! Ну, что ты стала в пень?
Но баба от пережитых страстей совершенно одурела. Только повторяла «ага, ага», а сама с места не двигалась.
Тогда Федька обвел взглядом двор и увидел старика, у которого так нахально отнял костыль. Старик сидел в высокой траве. Его тоже никак нельзя было послать за извозчиком, да и обращаться к нему совершенно не хотелось. Федька обозвал себя дураком - пошел на такое дело и без оружия, и без товарища.
Его осенило - не может же быть, чтобы на выстрелы не сбежалось пол-Москвы. Непременно в переулке уже толкутся зеваки. Опять вспомнилась чумная пора. Казалось бы, всякому дураку было ясно, что нельзя собираться вместе, поветрие перекидывается от человека к человеку. А грянул бунт - и всю науку москвичи разом забыли, принялись слоняться по городу ватагами, как будто они бессмертны, утратив всякое соображение и перемешавшись неимоверно. То-то потом, когда вылавливали невольных соучастников убийства митрополита Амвросия, среди них было множество людей всякого звания - и мещане, и купцы, и дворяне, и духовные лица даже в ту толпу затесались.
Федька подбежал к калитке, распахнул ее - точно! Коли при загадочном шуме со двора на улице не остановятся зеваки и не начнут судить да рядить, позабыв про дела,- так это не Москва.
– Эй, братцы, нет среди вас десятских? - спросил Федька.
– Зять мой - десятский, - тут же ответила нарядная пожилая тетка, по виду - из зажиточных мещан. Одни серьги чего стоили - длинные, тяжелые, оттянувшие уши чуть ли не до плеч.
– Позови его скорее, тут злоумышленники в доме, а вы, люди добрые, не стойте, расходитесь, - приказал Федька, прекрасно зная действие подобных распоряжений - никто и не подумал уходить. Этого он и желал - при такой толпе любопытных свидетелей треклятый старик Елизаров никуда не скроется.
Послали за теткиным зятем, а Федька побежал обратно в дом - к Абросимову.
Тот был еще жив, не шевелился, услышал Федькин голос - открыл глаза.
– Ты молчи, Христа ради, - сказал Федька. - Сейчас я пошлю за нашим экипажем, домой тебя отвезем, доктора Воробьева к тебе доставим, из-под земли выкопаем. Он поможет! Он и в армии служил, всякие раны видал. Ничего, Бог милостив - ты молись потихоньку…
И тут Федька замолчал. Он увидел то, чего сразу не приметил.
Когда темноволосый и щуплый мужчина выскочил ему навстречу из калитки с полицейским мундиром в руках, Федька подумал, что мундир этот - Абросимова, но товарищ лежал на полу полностью одетый. Да еще детина, так похожий на Клавароша и легко скачущий через плетни, тоже был одет как архаровец. Что ж это такое - два мазурика, переодевшись полицейскими, на Москве шалят?
Федька слыхал, что вроде бы Устину померещился ночью, когда выслеживали де Берни, Клаварош, но о розыске Клашки Иванова он не подозревал - про то знали только сам Клашка да Архаров.
К счастью, зять оказался неподалеку. У него хватило ума привести откуда-то верховую лошадь. Отправив всадника в полицейскую контору за подмогой, Федька вернулся в дом, окончательно выбил дверь и нашел в комнатушке разряженный пистолет, брошенный на узкую кровать. На подоконнике было разложено мужское имущество - ершик для чистки ствола, кусочки свинца, устройство для литья пуль (Тимофей называл эту каменную форму калыпом, Ушаков - льялом), табакерка, фунтики с табаком, тут же - большой кожаный кисет, в нем оказался порох. Холодного оружия не нашлось. Федька зарядил пистолет, опять вернулся к Абросимову и сел рядом с ним на пол.
Ему приходилось видеть смерть вблизи и даже ждать, пока зачумленный помрет, чтобы вытащить тело крюком из дома и погрузить на фуру. И он преспокойно ждал, даже что-то насвистывал, переговаривался с Тимофеем или с Демкой - ремесло у них тогда было такое: подбирать покойничков за смертью, они с ней словно бы в одной артели трудились, так что ее присутствие уже не смущало.
Очевидно, то состояние души, безразлично-безалаберное, уже забылось. Федька смотрел на Абросимова со страхом и изнывал от своего бессилия. Он знал, что нож, попавший в плоть, шевелить нельзя, но ему все казалось, что стоит вынуть клинок - и Абросимову непременно полегчает.
– Федя, я помираю, - внятно сказал Абросимов. - Попа приведи…
– Да где ж я тебе тут возьму попа?! - в отчаянии воскликнул Федька. - И не помираешь ты вовсе, врешь только… вот доктора Воробьева сейчас привезут!… Потерпи, Христа ради!
– Нет, - отвечал Абросимов. - Все… Причаститься надо… исповедаться…
– Да какие у тебя грехи? Ты же всю жизнь служил! С пятнадцати, поди?
– С пятнадцати…
– Ну так и нет у тебя грехов! Некогда тебе было грешить!
Дверь скрипнула, Федька резко повернулся, наставив на нее пистолет. Но это оказалась давешняя онемевшая баба.
– Пошла вон! - рявкнул Федька.
Дверь захлопнулась.
– Попа приведи, - повторил просьбу Абросимов. Он был смертельно бледен и уже, кажется, не видел Федьку.
– Господи, хоть бы Устина с собой взял, дурак я, дурак неотесанный… - пробормотал Федька. Устин в прежней, дополицейской жизни не был рукоположен в сан, теперь и подавно его это не ожидало, но он бы нашел правильные слова, он бы нужную молитву прочитал!
Федька в храм Божий не ходил, а забредал. Было у него богомольное настроение - мог и службу отстоять. Не было - ставил свечки за упокой души нечаянно убитого им в драке приятеля. Были деньги - заказывал панихиду, не было - не заказывал… Что же касается молитв - знал с детства «Отче наш», «Богородице», «Трисвятое», те краткие молитвы, которым легко обучить ребенка. До сей поры ему их вполне хватало.
Смотреть в лицо Абросимову он больше не мог. Уставился в пол.
Во дворе зашумели, дверь опять распахнулась. Вошли Тимофей и Захар Иванов.
– Мы верхами, - сказал Тимофей. - За нами шавозка плетется. Пертовый маз велел его домой везти, сам за Воробьевым послал. Что тут у вас вышло? Мы только и поняли, что его ножом пырнули и стрельба была.
Иванов опустился на колени рядом с Федькой.
– Сдается, Воробьев уж ни к чему, - сказал он.
– Пошел к монаху на хрен, - отвечал Федька. - Живой он. И крови, глянь, почти не вытекло. Братцы, вы им займитесь, Христа ради, а мне лошадь дайте! Я к пертовому мазу поскачу, дело срочное! А вы, когда придет шавозка, прихватите с собой того гиряка обезножевшего, Елизарова. Он в этом деле, сдается, главный. И сразу его в нижний подвал!
– Возьми Острейку, она резвее, - посоветовал Тимофей.
Федька выскочил на крыльцо, выбежал на улицу.
Теткин зять, здешний десятский, молодой толстый парень, румяный, золотоволосый и кудрявый, держал в поводу трех лошадей. Двух Федька знал - гнедого мерина Похана и рыжую кобылку Острейку. Эти служили в полиции, годились и под седло, и в упряжь. Он забрал кобылку, сел в седло и до Никитских ворот добрался галопом, дальше уж было сложнее - по улице, заполненной каретами и телегами, не больно разгонишься. А Федькина душа жаждала бешеной скачки. Только скорость и ветер в лицо могли освободить его от тяжести на душе и вернуть обычную свободу, в повседневной жизни за суетой не замечаемую.
Он жил легко и радостно, и даже любовь к недосягаемой Вареньке была в его понимании счастливой - ведь дал же Господь и встречи, и разговоры, и пожатие ее руки, и взгляд пламенный - когда она ночью прибежала к нему, раненому, в особняк на Пречистенке. Сейчас же Федьке было плохо - он не сумел помочь товарищу, и совершенно вылетело из его буйной головы, что он своим самостоятельным расследованием, возможно, даже спас Абросимова: если бы Федька не ворвался во двор и не попал в дом Елизарова, старый полицейский помирал бы там сейчас неведомо для всех, а потом его тело, раздев, скинули бы в речку Пресню, как оно в тех краях обыкновенно делалось.
Без особого членовредительства (если не считать сбитого с ног деревенского мужика, ну так тот, растяпа, сам под копыта полез) Федька добрался до Рязанского подворья и ворвался в архаровский кабинет.
– Что там с Абросимовым? - сразу спросил обер-полицмейстер.
– Ранен, ваша милость, либо Семеном Елизаровым, либо по его приказанию!
– Что еще за Семен?
– Он, ваша милость, еще до чумы в полиции служил, потом уж не вернулся.
– Прелестно…
– Этот Елизаров к нам сюда на Пасху приходил, и еще раза два, к старым дружкам. Не иначе, это он нож срусил!
– Ну-ка, изложи все внятно.
Федька стал пряменько и отрапортовал о своей беседе с Максимкой, о визите к Елизарову и о стрельбе в Малом Конюшковском переулке.
Архаров, к его большому удивлению, был сильно недоволен - Федька спугнул ту дичь, которую он сам собирался неторопливо и хитроумно выследить. А теперь поди знай, куда подались фальшивые полицейские да что у них на уме…
– А за каким чертом туда Абросимов потащился?
– Так он тоже, поди, догадался, что ножик у Елизарова. Видать, хотел его прямо попросить: верни, мол, уначенное! И выходит, ваша милость, что Демка ножа не брал!
Архаров задумался.
Что-то во всем этом деле не совпадало…
Вдруг он увидел неувязку.
Воровство ножа из Шварцева чулана - не то преступление, за которое рубят голову или отправляют в каторгу. Коли бы Абросимов просто сказал Елизарову, что украденное следует вернуть, то не стал бы пырять бывшего сослуживца ножом. Старый полицейский поплатился за то, что видел фальшивых полицейских. Но за что похожий на Клавароша мазурик подстрелил во дворе парня и целился в бабу? И старик Елизаров, оставшицся во дворе…
– Рассказывай вдругорядь. И без предисловий.
– Подхожу я, стало быть, к калитке, ваша милость. От Абросимова отстал ровно настолько, чтоб ему в дом войти… У самой калитки меня детина чуть с ног не сшиб, а у детины кафтан в руке зажат. Вижу - наш мундир, полицейский. Я - во двор, там старик этот, злой, как бес…
– Что ж Абросимов не остался со стариком во дворе говорить, а в дом пошел?
Тут и Федька призадумался.
– Да кто ж его знает? Может, старик сказал Абросимову, что нож в доме лежит, а сам он ногами слаб, так чтоб Абросимов вошел и взял? А там его и пырнули…
– Так сразу? Сам же толковал - старик злобный и несговорчивый? И как старик успел дать знать тому мазурику, что в доме: пускай, мол, нож в дело? Или они нарочно там сидели, один во дворе, другой в доме, Абросимова ждали?
Федька вздохнул - объяснения этому диву у него не находилось.
– Ваша милость, вот привезут этого Семена Елизарова - он все и доложит!
– Ступай.
Федька, повесив буйну голову, вышел из кабинета. А ведь так все ладно получалось… и детинка этот с елизаровским мундиром…
Вдруг он хлопнул себя по лбу и, развернувшись, ворвался обратно в кабинет.
– Ваша милость! Я понял! Абросимова за то закололи, что он того мазурика в мундире видел! Что на Клавароша смахивает! Это уж поопаснее гребаного ножа!
– Так. Сейчас вниз к Вакуле отправишься. Пошел вон.
Федька выпалил именно то, о чем думал Архаров, но своим вторжением сбил его мысль со следа. Нужно было продумывать заново…
Абросимов нечаянно увидел мазурика в полицейском мундире. Могло ли это было поводом для убийства и стрельбы? Мазурик, пырнув полицейского ножом, должен был убежать без оглядки. Желательно - скрыться из Москвы. Он же пытался на прощание порешить тех людей, в чьем доме его прихватили на горячем. Выходит, эти люди слишком много о нем знали. Что можно знать о мазурике, кроме того, что он - ворюга и грабитель? И второй полицейский мундир - какого черта потребовалось бегом уносить его из дома?
Архаров поскреб в затылке, нарушая все волосяное благолепие, исполненное Никодимкой. Было совершенно невозможно увязать эту стрельбу с суетой вокруг блудного сервиза. А связь была! Была некая загадочная связь - только в руки не давалась.
Постучался Клаварош.
– Чего тебе, мусью? - сердито спросил Архаров.
Клаварошу было велено расспросить Марфу, кто принес в заклад золотую сухарницу, что сейчас обреталась в архаровском кабинете.
Даже ему, общепризнанному любовнику, удалось изловить Марфу с большим трудом. На вопрос, где изволит пропадать, она принялась перечислять кумушек. А кавалера, что принес сухарницу с красными яшмовыми ручками, живописала многословно: высок, статен, лицом бел, нос - прямой, губы полные, брови срослись, приметные такие брови, и на лбу бородавка.
– Имя не назвала?
– В тетрадь свою она записала его господином Овсянниковым, а паспорта он не показал, статочно - вранье.
– Когда обещался прийти за тем закладом?
– Через две недели.
– Не придет…
– Сие золотое художество стоит много более тех пятидесяти рублей, что дала ему Марфа под заклад. Такой полировки я до сих пор не встречал. Он должен прийти.
– А я тебе говорю - не придет. В котором часу он у Марфы побывал?
– Вечером, в поздний час.
Архаров задумался - стоит ли назначать наружное наблюдение?
Странные дела творились с золотым французским художеством, безупречно отполированным, - сервиз словно бы дразнил Архарова, показываясь то тут, то там, а заправляли его похождениями загадочные мазурики в полицейских мундирах, это вызывало особую ярость. И рождалась законная злость сыщика, которому люди и обстоятельства морочат голову: треклятый сервиз следовало изловить во что бы то ни стало!
Хотя у Архарова и других забот было превеликое множество. Близился великолепный праздник в честь заключенного год назад Кючук-Кайнарджийского мира. В трех верстах от города, на Ходынском лугу уже были почти готовы главные здания - театр, столовая, бальные залы, стояли остовы «кораблей», насыпан также песчаный холм, обозначавший полуостров Крым. Государыня затеяла изобразить географию - с Доном и Днепром, с крепостями Кинбурном, Керчью, Азовом, Таганрогом, иными словами, ей хотелось видеть картинку, иллюстрирующую знаменитые статьи Кючук-Кайнарджийского мира: «Артикул 18. Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с довольным округом по левому берегу Днепра и с углом, который составляет степи, лежащие между рек Буга и Днепра, остается в полное, вечное и непрекословное владение Российской империи. Артикул 19. Крепости Еникале и Керчь, лежащие в полуострове Крымском, с их пристанями и со всем в них находящимся, тож и с уездами начиная с Чёрного моря и следуя древней Керчинской границе до урочища Бутак, и от Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря, остаются в полное, вечное и непрекословное владение Российской империи. Артикул 20. Город Азов с уездом его и с рубежами, показанными в инструментах, учиненных в 1700 г., то есть в 1113-м, между губернатором Толстым и агугским губернатором Гассаном Пашой, вечно Российской империи принадлежать имеет…»
И чем ближе был день торжества - тем тревожнее делалось на душе у Архарова. Да еще Шварц масла в огонь подбавил.
– При государыне покойной Елизавете Петровне было дельце - хорошо, что добром кончилось. Некий польский ксендз, чьего имени мы так и не вызнали, решил извести государыню и для того столковался с солдатом. И научил его учинить злое дело посредством порошков. И угадайте, сударь, как сыщики на след напали.
– Мало ли как? - удивился вопросу Архаров. - Проболтался кто-то по пьяному делу, как оно всегда бывает, коли с солдатами проказы затеваются.
– А вот и нет! - с неожиданным весельем возразил Шварц. - В Санкт-Петербурге чудный зверь на Васильевском острове завелся - охотясь на кур, не столь загрызал их, сколь ноги им отрывал. Лежит тулово нетронутое само по себе, ноги сами по себе, и перья вокруг раскиданы. А следов - никаких. Бабы не знали, что и думать, страх на людей напал, в Главную полицию дали знать. Нашелся умный человек - заметил, что земля вроде как порошком присыпана, собрал тот порошок. Оказался - вроде пороха. Тут уж все всполошились и довольно скоро изловили подлеца, что на соседских курах учился. Оказалось, ксендз его подучил, где государыня шествие иметь будет, подсыпать на землю для повреждения высочайшего здравия, и порошком в изобилии снабдил. А солдат сперва пробовал на курах, определял потребное количество. Так, сударь, не то было любопытно, что взрывной порошок злодеи сработали, а иное - с какой легкостью оный солдат мог его государыне под ноги подбросить. Он же, нарядясь в офицерское платье, и во дворце бывал, и в Царском Селе, и никто ему препоны не ставил. А на Ходынском лугу будут простой народ поить и угощать, тут кто угодно сможет до государыни добраться.
– Все бы тебе, черная душа, меня пугать, - буркнул Архаров. - Ты к тому клонишь, что понадобится много людей для охраны государыни?
– И проверенных людей. Таких, что не только приказы исполнять умеют, но также наблюдательны и осторожны.
– Не было печали… - Архаров тяжко вздохнул. - Ну что бы ее величеству не у нас, а в Петербурге мир праздновать?
День торжества был все ближе, тревога - все острее. Архаров несколько успокаивался лишь в те дни, когда государыня изволила уезжать в Коломенское - там ее охранять было не в пример легче.
Суета вокруг блудного сервиза попахивала нешуточной опасностью.
От размышлений обер-полицмейстера отвлекли архаровцы - наконец удалось изловить ловкую шуровку, промышлявшую у Кузнецкого моста. Она рядилась знатной особой, разъезжала в экипаже, а пальцы у нее были столь изумительной ловкости, что дама, у которой мошенница, словно бы поправляя мушку на щеке, вынимала из ушей серьги, совсем того не чувствовала.
А потом прибыли Тимофей и Захар Иванов.
– Ваша милость, - сказал Тимофей, - недоразумение получается. Мы на всякий случай Елизарьева привезли, да только, сдается, это не тот Елизарьев.
– Давайте его сюда. И за стариком Дементьевым пошлите!
В кабинет вошел, опираясь на костыль и отпихивая пожелавшего ему помочь Захара, злобный старик. Теперь он уже был в старомодном длинном кафтане и в парике из бараньей шерсти, который по летней жаре мог напялить разве что какой-нибудь умалишенный.
– Как звать? - строго спросил Архаров.
– Семеном Елизарьевым, - отвечал старик.
Очевидно, суровый вид обер-полицмейстера несколько нагнал на него страху. Да еще взгляд исподлобья - Архаров даже как-то перед зеркалом изучал собственный взгляд, удивляясь его воздействию на слабые души.
– Стой тут, - велел Архаров.
Он сразу определил в старике обычного домашнего тирана, которого простой народ определил известной поговоркой: «Молодей против овец, а против молодца - и сам овца».
Старик остановился в трех шагах от стола. И стоял в ожидании довольно долго.
– Что ж ты, Семен Елизаров, мать твою конем любить, дома разбойничий притон завел?! - вдруг заорал Архаров. - Сам уж стар безобразничать, так молодых подбиваешь?
– Ваше сиятельство, ни сном, ни духом! - еще громче взревел старик.
– Будут тебе и сон и дух в нижнем подвале! Тимофей, тащи его туда. Вопросов не задавать, пока не получит отеческого вразумления!
– Ваше сиятельство!…
– Ты полагал, коли имеешь старых дружков в полиции, так тебе все уж с рук сойдет?
– Ваше сиятельство, нет у меня в полиции дружков! Вот побожиться и святым крестом перекреститься - нет!
Старик, изрядно напуганный, осенил себя крестом.
Архаров на это хмыкнул - испуг-то был неподдельный, в голосе и выражении лица не чувствовалось вранья, да ведь такой старый хрен может оказаться ловчее самого Каина - и поверишь в его враки…
Вошел старик Дементьев. За ним, как можно неприметнее, - Федька, которому было страх как любопытно послушать, что скажет его добыча. Архаров заметил его маневр, но виду не подал, таким образом поощряя служебное рвение.
– Ну-ка, глянь на сего кавалера, - велел Архаров. - Признаешь?
– Нет, ваша милость.
– Как так? Ты же всех канцеляристов помнишь с сотворения мира.
– Это ж Семен Елизаров! - встрял Федька.
– Семен, да не тот. Который у нас служил, ему, поди, внуком приходится, - заявил Дементьев. - Тот еще молодой детинушка, четырнадцати лет к нам копиистом нанялся…
– Так это ж мой Сенька! - перебил его старик. - Доподлинно Сенька, чадо мое младшее, лучше б и вовсе не рожалось!
– Федя! - Архаров повернулся к подчиненному.
– Ваша милость! - растерянно воскликнул Федька. - Это меня Переверзев с толку сбил!
– Пошел вон! А ты, Елизаров, садись. Вот прямо тут расскажешь, чем твое беспутное чадо занимается и что у чада за приятель завелся с пистолетами.
Федька выскочил за дверь. Стыдно было - до жара, объявшего лицо, как будто к щекам горячие печные заслонки приложили.
К нему вышел из кабинета Захар Иванов и прикрыл за собой дверь.
– Абросимов-то совсем плох, - сказал он. - Мы прямиком к доктору Воробьеву повезли. Уж не чаяли, что довезем. У него в чуланчике положили. Воробьев ругался - крови, говорит, раненый много потерял.
– Как же потерял? Это ты врешь, я видел - почти и не пролилась…
– Нож внутри жилу какую-то перебил, она вовнутрь из жилы излилась… Да что ты ко мне пристал, Воробьева вон спрашивай, он умный! - огрызнулся Захар. - Тоже врач сыскался… и без тебя тошнехонько…
Федька и замолчал.
Похороны в полицейской конторе, слава Богу, случались редко, но на сей раз, кажется, они были неминуемы…
* * *
В ремесле шура главное - всегда быть готовым к побегу. Мазурик и налетчик по натуре отважны, отчаянны, могут оружие в ход пустить, а шур ради успешности своего промысла должен быть несколько трусоват. И, где бы ни находился, краем глаза посматривать, свободен ли путь для бегства.
Демка был не силен, зато увертлив. И соображал скоро. Потому, когда Архаров увидел перед собой на столе сухарницу из сервиза графини Дюбарри, он долго не маялся сомнениями - а скользнул в открытую дверь.
Думал он уже на улице.
Его побег мог быть замечен тут же, а мог - несколько минут спустя. Так или иначе, следовало убежать подальше от Рязанского подворья. И первым делом, взяв извозчика, домой, за вещами и деньгами, покамест его не опередили. Потом уже можно забраться в безопасное местечко и придумать, куда деваться.
Москва теперь была не для Демки.
Оправдаться перед Архаровым он не мог - все так несчастливо сложилось, одно к одному, что он оказался виновен во всех смертных грехах. Он видел - обер-полицмейстер готов его выслушать, готов разобраться, да говорить-то было нечего! Демка и сам не понимал, как вышло, что покойный Скитайла узнал о поисках сервиза. История с ножом и вовсе была загадочной - надо ж было тому случиться, что Тимофееву жену закололи точно таким же ножом, как тот, что пропал из Шварцева чулана… да еще этот подвал проклятый… сам же Демка хвалился среди архаровцев, что всю Москву под землей излазил и даже пересек пешком Москву-реку по высокому, в человеческий рост, ходу…
Если бы в такую передрягу попал Федька - поставил бы целью докопаться до сути странных событий. Но Демка был иной - он, вздохнув, навеки распрощался с Рязанским подворьем. На Москве свет клином не сошелся - есть еще и Санкт-Петербург. Ловкому шуру везде славное житье - пока не поймали…
Приняв это решение на ходу, Демка огляделся - не видит ли кто из архаровцев, спешащих к крыльцу Рязанского подворья, куда он направился. И тут заметил, что на него, не отводя глаз, глядит девка.
Девок в Демкиной жизни было немало - он им нравился своей живостью и умением сказать ласковое словцо. А уж когда пел - сердечки так и таяли. Но сейчас Демке было не до прелестниц - а скорей бы ноги унести от полицейской конторы подалее.
Однако их взгляды встретились - и девка, не смущаясь, подошла к нему.
– А я тебя, молодец, знаю, ты в архаровцах служишь, - сказала она.
Бегая по архаровским делам, Демка не всегда надевал мундир - порой от него было бы более вреда, чем пользы. Вот и сейчас он был в простом кафтанишке, какой еще не всякий сиделец в рыбной лавке наденет. Но ремесло полицейского таково, что за день и в княжеских покоях побываешь, и в навозе изваляешься. А мундир, между прочим, беречь надобно.
– Про то вся Москва знает, - отвечал Демка и, полагая, что после такого ответа девка отвяжется, поспешил по Мясницкой к Мясницким воротам - там у храма мучеников Флора и Лавра сидел среди нищих некий слепец, который, если обратиться к нему известными словами, много занятного мог сообщить. Демка всего-навсего хотел узнать, как бы встретиться со знакомым шуром Грызиком, а от ворот он бы живо добежал до Подсосенского переулка, где снимал довольно большой, хотя и без окна, чуланчик.
Девка, однако, пошла с ним рядом.
Демка покосился на нее - не красавица, но личико приятное, одета чистенько, и в иное время можно бы за ней приударить - она ведь и сама не прочь.
– Ты, молодец, от меня не шарахайся, я к тебе с делом, - тут девка понизила голос. - Что, не задалась у тебя полицейская служба? А ты не горюй - ты меня послушай, глядишь, сладимся…
Тут лишь до Демки дошло, что девка кем-то послана.
– Ты чья такова? - спросил он.
– Похан мой всем на Ботусе шляком, - тихо и быстро отвечала она. - Не кобенься - не охлынем, будешь при дуване…
– Надобны пока рым да бряйка, - так же тихо, глядя мимо девки, произнес Демка.
– Кликни извандальщика…
Демка выхватил взглядом ярко-желтое пятно - широкий пояс поверх извозчичьего кафтана, свистнул, подсадил девку в бричку, и они укатили по Мясницкой.
– Масу сперва в Подсосенский, слам заюхтить.
– Завтра нельзя ли?
– Нельзя, - неохотно признался Демка.
– Ну, похляли.
Жил Демка, разумеется, небогато, да и порядка особого не соблюдал - целый деь на службе, ночевал - и то не всегда: иной раз был с архаровцами на задании, иной раз, умаявшись, оставался вздремнуть в верхнем подвале, а то Архаров брал к себе, а то находилась добрая душа, у которой муж по делам в какое-нибудь Пошехонье на месяц уехал…
Девка была шустра - так ловко собрала Демкино имущество и увязала в две простыни, что он только присвистнул. Простыни были хозяйские, но это его уже мало беспокоило - он знал, что вовеки в этот чулан не вернется.
Они быстро вынесли узлы, устроили их в бричке, и девка велела везти к Трубной площади. Но до нее не доехали.
Демка прекрасно понимал замысел: посланница неведомого похана путала след. В Подсосненском кто-то мог слышать, как она приказывала везти к Трубной. Извозчик, если Демку начнут искать, тоже мог брякнуть лишнее. А неподалеку от Трубной зашли в какой-то дом, оттуда послали девчонку - и вскоре прибыл «свой» извозчик, это Демка понял сразу.
Вот теперь поехали туда, куда следовало, - в Замоскворечье, да не напрямик, а задами.
– Как тебя звать-то, карючонок? - спросил наконец Демка.
– Катериной. А ты - Котюрко.
Прозвище Демка получил, когда смолоду любил пощеголять - таким молодчиком наряжался, что ремеслом заниматься уже не хотелось, а хотелось слоняться по гуляньям и заигрывать с девками.
Имечко это он уже года четыре как не слышал. В остроге, до того, как завербовался в мортусы, его так еще звали колодники. Но потом, на чумом бастионе, оно поминалось все реже. А в полицейской конторе - совсем сошло на нет. Разумеется, шуры и мазы его помнили, но употребляли заглазно, в лицо же Демку называли Демьяном Наумовичем - то есть, являли показное уважение к его службе.
Стало быть, кто-то решил пренебречь этим… кто-то, видать, из старой закваски мазов…
Бричка тряслась, Катерина оказалась совсем рядом с Демкой. Их колени соприкоснулись, и Демка как-то незаметно и весьма естественно положил руку на Катеринину коленку.
– Не балуй, детинка, - сказала она. - Мой похан за мной строго глядит.
– Так ли уж строго?
Демка знал, что лучший способ поладить с молодой бабой - хоть самую малость за ней поволочиться. Пусть обзовет нахалом и охальником - зато в душе будт рада, что вот ведь еще один готов сделаться любовником.
– Не тронь, говорю.
Но в серых глазах Катерины было определенное удовольствие.
Выехали на Ордынку и катили довольно долго. Демка домогался подробностей Катерининого житья-бытья, девка отшучивалась. Видно было, что она не из воровского мира, жила в довольстве, не набралась грубости, хотя прошла через основательные неприятности и имеет весьма упрямый норов. И нетрудно было представить, что какой-то клевый маз пожелал иметь в постели не шуровку с повадками бывалой колодницы, а эту чистенькую, умеющую себя блюсти девицу.
Наконец бричка свернула в переулок и не остановилась у ворот, а извозчик, сойдя с козел, те ворота отворил и ввел лошадь во двор.
– Вот ты и дома, Котюрко. Будь умен лишь - не пожалеешь, что к нам пристал.
– Да мне теперь хоть к черту лысому пристать - лишь бы от талыгая моего подалее.
Они поднялись на высокое крыльцо, вошли в горницу.
– Жить будешь наверху, в светлице, - сказала Катерина. - Видишь двери? Туда не суйся, там господа живут. Тебе до них дела нет.
Демка кивнул. Он успел заметить, что мебель в горнице господская - не лавки с полавочниками, а диваны, стол круглый, а не простой, стулья тоже нарядные, а на одном стуле - платок тонкого батиста.
Были, впрочем, и другие приметы того, что в замоскворецком доме жила благородная особа дамского пола. В горнице хорошо пахло - запах шел от фаянсовой курильницы, стоявшей на особом столике. У дивана обнаружилась дамская корзинка для рукоделия. И главное - оконные занавеси. Там, где живут мужчины, таких занавесей не бывает - это Демка знал точно. Скажем, в гостиных княгини Волконской, куда он как-то заглядывал, ткани прямо говорили - здесь живет женщина светская. А в гостиных Архарова, пусть даже обставленных премодными мебелями, на окнах висело что-то, препятствующее свету и доставленное в виде подношения от знакомого купца, пока не приехала княгиня и не распорядилась убрать окна иначе.
Разумеется, Демке сразу же стало любопытно поглядеть, кто тут прячется.
Дверь господских покоев отворилась В горницу вышел молодой и стройный кавалер с лицом бледным и сосредоточенным - как если бы все время думал одну и ту же мучительную и неотвязную думу. Камзол модного серо-зеленого цвета был ему заметно широковат. Кавалер посмотрел на Демку, чуть прищурив поразительно светлые, почти прозрачные глаза, и что-то сказал Катерине по-французски. Она ответила - на том же языке.
Демка таращился на кавалера во все глаза - они определенно встречались! Да и на Катерину тоже таращился - ишь ты, по-французски разумеет!
Он пожалел, что рядом нет Клавароша.
Архаровцы были просты - полагали, что русской речи им на весь век за глаза хватит. То, что Саша и сам Архаров осваивали французский, ни в ком не вызывало зависти. Саша - секретарь, ему так по службе полагается, а Архаров - господин, барин, ему надобно в гостиных за дамами ухаживать. Иного практического применения для чужого языка они пока не видели. Для дознаний, когда приходилось расспрашивать иностранцев, звали Клавароша, и он пока справлялся. Ну, понимал еще Жеребцов по-французски - так он когда-то в лакеях служил, вот оно в голове и застряло.
Очевидно, Катеринин ответ кавалеру понравился - он потрепал девку по щечке, она же сделала глубокий реверанс, да так, словно ее с детства этому обучали. Забавно он гляделся, правда, потому что девка была в сарафане, но на Демку произвел впечатление. Он понял, что его новая приятельница не так проста, а ее мещанский наряд - это всего лишь маскарад.
И Демке пришла в голову лихая молодецкая мысль.
Он возвращался в мир, который долгое время считал его чужим. Были, конечно, свои договоренности, взаимные уступки, но сейчас они мало что значили - чтобы занять достойное место, следовало начинать все сначала, а Демке уж было двадцать восемь, не дитя.
Он должен был, явившись к шурам и мазам, сразу дать всем понять, кто он таков, а не взывать к былым заслугам. Хорошие способы для этого - сразу совершить нечто неслыханное и обзавестись клевой марухой. Катерина для этого подходила - не подстилка какая-нибудь, пташка высокого полета, и состоит ныне при ком-то из клевых мазов. Увести ее - значит, нарваться на неприятности, но заодно - и громко заявить о своем бесстрашии.
В том, что девку удастся уговорить, Демка не сомневался. Теперь главное было - не навязываться ей со своими нежностями, а дать время к себе приглядеться.
Времени этого Демка ей отвел ровно один вечер.
Поэтому он кротко и покорно, не давая воли рукам и языку, пошел за ней следом, поднялся в светлицу и принял ее помощь по первому обустройству на новом месте без единой попытки хотя бы усадить ее с собой на постель. И только робко полюбопытствовал, нет ли чего съестного. По опыту он знал, что бабы обожают кормить мужиков, это у них в крови.
– Я тебе на поварне соберу чего-нибудь, принесу, - сказала Катерина. Это был хороший знак - она не посылала его разбираться с какой-нибудь кривобокой и беззубой стряпухой, а сама желала ему услужить.
Когда она уходила, Демка внимательно поглядел ей вслед. Худощава, но сразу видать - из богатого житья, походочка ровненькая, не вразвалку, носками не загребает, спинка пряменькая.
Он знал, что иная девка хоть и ходит, как медведица, хоть и поклониться толком не умеет, а в постели горяча, и даже настолько, что любовнику прямо беда с этакой горячностью. Катерина показалась ему весьма умеренной по любовной части, что тоже неплохо. Но был с ним недавно случай - угодил в постель к чиновничьей вдове. На вид - вобла сушеная, хотя глазищи в пол-лица весьма завлекательны. Так та вдовушка сперва была бревно бревном, потом же разгорячилась не на шутку. Тогда-то до Демки впервые дошло, что мужские возможности не безграничны.
Ожидая Катерину, он глядел в окно и напевал песенку, но не скоромную, а господскую, подслушанную в архаровском особняке, - ее там Меркурий Иванович разучивал. Демка прекрасно знал, что путь к женскому сердцу лежит через уши, и редкая твердокаменная дура устоит перед приятным голосом и нежной мелодией.
Катерина вошла с подносом.
– Вот, что сыскалось, не обессудь, - сказала она.
Сыскалось немного - солонина ломтями, и та сомнительная, хлеб, подовый пирог не первой свежести, кувшинчик кваса. Ясно было, что девица не пачкает белых ручек у печки и квашни. Демка хмыкнул. Неизвестный ему похан, видимо, не придавал этому значения - стало быть, и Демка должен сразу показать, что ему по карману избалованная любовница, при которой нужно содержать еще и кухарку!
– Сама-то будешь? - спросил он.
– Нет, не стану.
– Ин так со мной посиди.
– Недосуг.
Девка выкобенивалась, но и это Демку устраивало - значит, ценная добыча. И времени до вечера много.
– Господи благослови ести-пити, - тихо сказал он и, не обращая внимания на Катерину, взялся за трапезу.
Снизу раздался зов.
– Катиш! - требовал мужской голос. - Катиш!…
И сорвался голос в хрип, и замолчал.
Катерина подхватилась, выскочила из Демкиной комнатушки и поспешила по лесенке вниз.
– Катиш, - повторил Демка. - Надо же…
Он доел угощение и развязал узлы. Где-то там лежали две чистые рубахи. Да и чулки неплохо было бы переменить. Женщины в палатах Рязанского подворья появлялись редко, краснеть перед ними за неопрятность не приходилось, и архаровцы в своем мужском кругу многим вещам просто не придавали значения - разве что могли ругнуть Вакулу, чей гардероб благоухал уж вовсе непотребно.
Рязанское подворье осталось в прошлом. Теперь у Демки была иная забота - сразу показать себя так, чтобы никто и никогда не посмел сказать ему слова поперек.
Демка не был высок и силен, как Тимофей, не был он и драчлив, как Федька. Постоять за себя в схватке он вряд ли мог - и архаровские уроки, и Клаварошевы уроки прошли даром. Но он знал, кем должен явить себя - маленьким, но хищным и злым зверьком, вскипающим мгновенно, кажущим острые клыки на всякую опасность, готовым вцепиться в горло и перегрызть жилу прежде, чем враг осознает, что был неправ. Эта скорость только и могла его выручить при первых встречах с прежним своим миром, пока не будет занято определенное место и старшие не возьмут в свой круг. А есть ли что за его яростным и шумным натиском - пусть разбираются потом…
Переодевшись, Демка заскучал. Развлечься ему было нечем. Тоска одолела - будущее туманно, прошлое как за каменной стенкой, друзья-товарищи вмиг сделались врагами. И тогда уж он запел не для того, чтобы Катерину привлечь, а просто так… по желанию души, что ли… прощался он так с собой давешним, беззаботным, живущим без злости, и знал, что вряд ли в ближайшее время захочется ему петь…
Сперва ему пришла на ум песня о молодце, что с неведомой целью шагал вдоль берега реки Казанки, со всеми ее выкрутасами и прибаутками, которые столь весело выговариваются певцом к радости слушателей. Но не вышло того бойкого московского говорка, того комического удивления, которые требовались - и он довел песню до конца кое-как. Затем Демка спел про утицу луговую, солдатку полковую, затем - «Калинку-малинку», и с каждой песней голос делался все громче, все полнее, хотя сам Демка этого не ощущал, а грусть-тоска - все явственнее. Распевшись, он мало беспокоился о тех, кто станет его слушать. Французскому кавалеру сие, поди, безразлично, а Катерина не приходит ругаться - значит, довольна.
Слух у Демки, как у хорошего шура, был тонкий, и скрип ступеней он уловил отчетливо. И усмехнулся: слушай, Катеринушка, млей, тешь душеньку, гори свечечкой! На то и песни, чтоб девки разум теряли. А что выходит не больно весело - так, может, оно и лучше…
Слушательница на лестнице притихла, не двигалась. Демка запел снова, стараясь голосом передать все томление молодца по красавице. И сам взволновался до крайности. Душа впала в беспокойство, и дюжина красивых румяных девок, сидевших перед ним на лавочке в господских нарядах, с низко открытой грудью, не произвела бы такого волнения, как та, незримая, молчащая за дверью.
И он твердо знал, что ею владеет то же беспокойство…
Вдруг он уразумел - да не может же Катерина сама врываться в комнату и бросаться ему на шею. Первый шаг положено делать молодцу, даже с риском нарваться на оплеуху. Демка распахнул дверь и увидел женщину.
Это была совсем не Катерина.
Та, что стояла тремя ступеньками ниже и слушала песни, была совершенно иной - черноволосой, с нерусским лицом - нос тонкий с горбинкой, подбородок выпячен вперед, глаза также черные, лицо продолговатое и дурного цвета - с желтизной…
На ней было коричневое господское платье с кружевом по вырезу, с голубыми бантами спереди. Прическа также была модная - волосы высоко зачесаны и взбиты, но не напудрены.
Демке по делам службы доводилось бывать в богатых домах, на дам он нагляделся. Теперь, когда его жизнь так неожиданно переменилась, эти знания должны были получить новое применение. Однако с этой дамой было связано нечто странное…
Дама вздохнула и, развернувшись, медленно сошла вниз по лестнице. Как если бы не человека увидела в дверном проеме, а спугнула птицу, ради пения которой вышла в сад, и с легкой досадой преспокойно возвращается в дом. Это было даже обидно.
Демка постоял - да и пошел следом. Шел он бесшумно - тайну такой походки усвоил еще в отрочестве. Дама ему не понравилась, но он хотел понять - да кто ж это такая? Знакомое ведь лицо…
Оказалось, не у него одного тончайший слух.
Она обернулась.
Черные брови сошлись, лицо стало неприятным. Отродясь никто так не глядел на Демку столь высокомерно.
Они оба остановились. И оба не опускали глаз. Демка - тот просто разозлился: приходит подслушивать да и корчит из себя невесть какую боярыню!
Дальше было совсем удивительное - по щекам дамы потекли слезы. Ни с того, ни с сего - никто ей и дурного слова не сказал. Ровненько так потекли, и она не морщилась, не всхлипывала, просто позволяла им стекать.
Демке стало страшновато - да в своем ли она уме? Стоит, глядит на него, ревет и даже не отворачивается. И, кажись, ясно, кто такова…
Застучали каблучки, откуда-то выбежала Катерина, затрещала по-французски, дама отвечала ей кратко. Тут только можно было догадаться по голосу, что она сдерживает отчаянный бабий плач о невозвратимой утрате. Катерина что-то ей пыталась внушить, передать свою тревогу, и это у нее получилось. Дама, подобрав юбки, очень быстро спустилась и, пробежав через горницу, исчезла за дверью.
– А ты еще чего вылез, горюшко мое? - напустилась Катерина на Демку. - Мало, что господа фордыбачить изволят, так еще и ты! Вот навязался мне на шею!
– Могу и уйти, - гордо объявил Демка. И он даже знал, куда пойдет - к Клаварошу.
После драки в снегу у кладбищенской стены они стали приятелями. Клаварош никому не сказал, как Демка пытался дезертировать, и Демка это ценил. Стало быть, нужно отыскать его и сказать примерно так:
– Мусью, я твою племянницу, или кто она тебе, отыскал! Ты кручинился, что пропала безвестно, а она, вишь, в Замоскворечье квартирует. Жива, здорова, только дура дурой…
Клаварош в благодарность расскажет, что было после Демкиного бегства в полицейской конторе. А Демка сообщит, что в Москве объявился граф Михайла Ховрин - или же очень похожий на него вертопрах. Черт его знает, как карта ляжет - может, этот подарочек обер-полицмейстеру когда и пригодится…
А оставаться тут не след. Неладно что-то здесь…
– Куда ты еще пойдешь? Не выйдешь ты отсюда, - сурово сказала Катерина. - В этом доме я хозяйка.
И улыбнулась победительной улыбкой, в которой почудилась Демке немалая злость. Он узнал в Катерининой радости известное ему состояние души - когда после голода и холода вдруг удается разжиться большими деньгами, но впридачу к деньгам откуда-то берется ненависть ко всему миру, и хочется сказать людям одно: сволочи вы, все были против меня, а я вот на коне, и плевать мне на вас, и копошитесь там себе где-то внизу, в грязище…
Нетрудно догадаться - Катерининым выигрышем в жизненной игре был тот неведомый похан, который прислал ее к крыльцу Рязанского подворья выследить Демку.
Тут можно было ответить лишь одно:
– А пошла ты к монаху на хрен!…
– А сам бы ты пошел!…
С бабами и девками, которые проявляли к нему благосклонность, Демка был ласков, но случалось ему и давать зарвавшейся стерве хорошую оплеуху. Сейчас он по задорному виду Катерины понял, что девку давно не били. Это, конечно, не лучший способ поладить с ее поханом, но иного способа защитить свое достоинство Демка сейчас не видел. Кем бы ни был тот похан - коли он из настоящих клевых мазов, то отнесется к Демкиной оплеухе разумно - еще только недоставало шурам и мазам сцепляться из-за девки.
Удар был не сильный, не болезненный - просто хлесткий и звонкий. Пусть знает впредь, как разговаривать с мужиками. Демка развернулся и пошел в комнатушку - заново увязать растребушенный узел. Сейчас главное было - соблюсти достоинство!
Вот как раз теперь уходить он никак не мог.
Она же окаменела.
Демка сел на лавку. Коли тот похан и впрямь чего-то стоит, то к Демкиной оплеухе он добавит еще и свою: Катерину не для того за Демкой посылали, чтобы на нем свой скверный нрав вымещать. Вот сейчас это и станет ясно…
Девок-то на Москве превеликое множество, а клевых шуров, да еще прослуживших четыре года в полиции и знающих немало секретов Рязанского подворья, пожалуй, только один и есть. Так что надо собраться с духом, чтобы выйти к тому похану уверенно, по-хозяйски, и коли он начнет выказывать норов - сразу ставить на место.
Внизу началась какая-то суета. Похоже, кто-то приехал, и несколько человек встречали его весьма бурно.
Наконец дверь Демкиной комнатушки отворилась.
– Ступай вниз, - сказала Катерина, глядя мимо Демки.
– Как звать надобно? - спросил Демка и сам же ответил: - Демьян Наумович, пожалуйте вниз. Так-то, смурулка безбекенная.
Он показал себя, усмирил дерзкую девку - и вот теперь она сама захочет, чтобы приласкал. С Демкой и такое случалось…
Он спустился в горницу и увидел там давешнего кавалера, Клаварошеву родственницу и еще одного человека. Тот, не смущаясь присутствием дамы-француженки, разувался, башмаки уже снял, теперь стаскивал чулки.
Кавалер, оказывается, прекрасно говорил по-русски.
– Я своими руками готов его убить как виновника всех бед моих! По его милости я оказался в столь жалком положении, я не могу и ста шагов пройти - я задыхаюсь!… Просвет в горле моем все уже, и врачи ничего не могут поделать - сие неисцелимо! Вот слышите, слышите? Я болен смертельно, их лекарства не помогают мне!
Дыхание у него и впрямь было подозрительное - короткое и со свистом.
– Погоди, будет и на твоей улице праздник… - сказал собеседник, так склонившийся над босыми своими ногами, что Демка не видел лица, один лишь затылок. - А что наша красавица? Все тоскует?
Дама в коричневом платье, стоявшая рядом с кавалером, отвернулась - это ее назвали красавицей, но слово, обрадовавшее бы любую женщину, эту - ввергло в печаль. Она сказала кавалеру что-то по-французски и решительно пошла прочь из горницы. Кавалер попытался удержать ее.
– А и Бог с ней, - беззлобно заметил приезжий. - Другую тебе, сударь, подберем, не такую сумбурщицу.
– Другой не надобно!
Дама освободилась от его руки.
– Катиш! - сказала она и добавила что-то, видать, обидное для мужчин, потому что Катерина, испуганно поглядев на приезжего, сразу устремилась к ней, приобняла и, утешая, повела прочь.
Демка встал, подбоченясь. Вот сейчас следовало показать свою силу и свою злость.
– Собери поесть, Катенька, - сказал девке вслед босоногий гость. - Да корпии приготовь, да бинтов, да банку с мазью… эк я ногу-то разбередил…
Он встал и повернулся к Демке.
– Вот и славно, молодец, - произнес он наидобрейшим голосом, улыбнулся, указал на стул. - Садись, потолкуем. Будешь умен - многие дела вместе сделаем. Э?
Демка смотрел на него пристально.
Зрение не обманывало - это точно был Иван Иванович Осипов, известный на Москве как Ванька Каин.
* * *
Старик Елизаров мало что знал о похождениях своего непутевого сына. Потеряв в чуму семью - молодую жену и двух детишек, насилу выкарабкавшись из барака при Даниловом монастыре, Семен Елизаров так и не вернулся к правильной жизни. Служить в полиции он более не желал - и Архаров даже вспомнил, что с самого начала, принимая дела, слыщал от кого-то про канцеляриста, оставшегося в живых, но сильно повредившего здоровье. Поскольку и без него забот хватало - Архаров и не возразил против его отставки.
Промышлял Елизаров Бог весть чем - нанимался сочинять прошения, бегал с какими-то комиссиями, пробовал торговать. Где он разжился полицейским мундиром - старик не знал, а рассказал лишь, что однажды Семен привел домой мужчину и объявил, что сдал ему комнату. Мужчина же сказался архаровцем, Антоном Афанасьевичем Фальком, недавно переведенным в Москву аж из Ревеля.
Ничего удивительного в этом старик Елизаров не видел - коли сын не отстал от старинных своих канцелярских приятелей, то и понятно, что они посоветовали новичку Фальку, где можно недорого снять жилье.
Имя, конечно же, было фальшивое, но надо ж как-то этого злодея звать - и до выяснения настоящего им стали пользоваться все, от Архарова до Никишки.
Мнимый архаровец оказался человеком приятным, показывал карточные фокусы, пел сладкие немецкие песенки, баб к себе тайком не водил, заплатил за комнату вперед, опять же - соседи, зная про такого постояльца, присмирели - кому охота связываться с Рязанским подворьем?
– Многие ли соседи его видели? - спросил Архаров.
– А кто их разберет. Он поздно со службы возвращался, у нас-то рано ложатся.
– Приятный, стало быть, кавалер?
Абросимов пребывал между жизнью и смертью, ближе к смерти, а найденный во дворе на травке парень в одних портках тоже был опасно ранен пистолетной пулей. Он оказался двоюродным племянником старика Елизарова, едва не спятившая от страха баба - его женой. Кабы не Федька - приятный кавалер и ее бы пристрелил.
– Бабу следует строго допросить, - сказал Шварц. - Она непременно должна о нем что-то знать существенное.
– С чего ты взял, Карл Иванович?
– Она могла быть любовницей Фалька и знать некие особые приметы на теле.
– При живом-то муже?
Архаров имел в виду, что женщина каждую ночь проводила в мужней постели, а днем постоялец отсутствовал. Но Шварц его огорошил - сказал, что ему и не такие случаи известны.
– Стремление человеческого рода к воссозданию себя способствовало созданию еще всякой всячины, - произнес он, подняв перст, словно изрекал нравоучение. - И когда неверная супруга желает лишиться добродетели, она действует как опытный полководец против злокозненного врага.
– Ну, допустим, баба видела бородавку или там шрам. А ее мужа для чего убивать?
– Муж также мог видеть бородавку или шрам. Я разумею, в бане.
– Игривое у тебя нынче настроение, Карл Иванович, - только и мог сказать Архаров. Но позволил взять бабу вниз и показать ей орудия дознания, чтобы она охотнее заговорила.
Старика усадили с Тимофеем и велели переписать всю родню - надобно было проверить, не туда ли, к родне, прибежали прятаться фальшивые полицейские.
Архаров думал уж, что может взяться за иное дело, но приехал Захар Иванов, вместе с десятскими делавший обыск в доме Елизарова.
– Извольте, ваша милость, - сказал он, выкладывая на стол маленькие золотые ложки с ручками из красной яшмы. Было их четыре штуки.
– Мать честная, Богородица лесная, - сказал на это Архаров. - Найти мне Клавароша, живо!
И, когда француз явился, спросил его строго:
– Мусью, ты когда к Шитовым фехтовальным учителем наймешься?
– Я, ваша милость, произвожу необходимые переговоры, - отвечал Клаварош.
Переговоры осложнялись тем, что после ночных приключений в подвале Гранатного двора господин де Берни не выходил из дома. Преподавать арифметику детишкам можно и сидя, а по комнатам он перемещался с тростью - это Клаварош знал точно. Он дважды пытался навестить земляка, и оба раза наталкивался на привратника, долбящего одно:
– Господа не велели пущать.
На третий раз де Берни оказался случайно в сенях, и Клаварош пероемолвился с ним словечком, прося походатайствовать о своей особе. Так что дело было покамест не совсем безнадежное.
Архаров разослал всех, кто на тот час был в полицейской конторе, по елизаровской родне, но проку было мало - подчиненные возвращались без всяких сведений.
И неудивительно - затеряться в Москве очень даже просто, и, может, господин Фальк вместе с беспутным Семеном Елизаровым сидят себе где-нибудь в Кривоколенном переулке, в трех шагах от полицейской конторы, да посмеиваются.
Михей Хохлов с ног сбился - искал тех шуров и мазов, которые были прикормлены и снабжали полицейских нужными сведениями. С такими осведомителями встречались не вссе архаровцы, а лишь немногие - так оно надежнее. Были бы Демка и Яшка-Скес - можно было бы и их послать к давним приятелям. Но Демка сбежал, а куда подевался Скес - никто не мог понять. Устин бегал к нему домой, перепугал квартирных хозяев, но приятеля не нашел и собирался уж бежать в соседний храм Гребенской Богоматери - служить молебен от отыскании пропажи.
Но до молебна дело не дошло.
– К вашей милости баба, - доложил Клашка Иванов. И была в голосе некая тревога.
– А что за баба? - не отводя глаз от бумаг, осведомился Архаров. Перо в его руке было чревато кляксой, и он желал поставить росчерк, пока не испортил важного письма.
– Рябая, как сорочье яйцо.
– Дурак, с каким делом?
– Вашк милость, она…
– Ну?
– Она вот так, шепотком, сказывала: слово и дело-де…
– Что?! - едва не хором спросили Архаров и Шварц.
Страшное «слово и дело государево» уже тринадцать лет как по указу покойного государя Петра Федоровича было отменено. Беды оно наделало немало - всякий мог, выкрикнув эти слова, пристегнуть к ним любой донос, и розыск по тому доносу был суровый. Со временем скопилось множество вздорных и нелепых дел, а также явилось, что многие доносчики проделывали сей кундштюк единственно из желания подставить невинных, а самим избежать наказания.
– Вот так и сказала.
– Веди сюда, - велел Шварц. - Я полагаю, даже самая глупая московская баба помнит, что сия формула означает, и остережется ее вслух повторять…
Клашка отворил дверь пошире и впустил молодую бабенку, на вид бойкую, сообразительную, хотя и неопрятную. Она была накрашена так, как издавна водилось на Москве, - ярко и густо, но скрыть заметных рябин от оспы на лице не сумела. В левой руке у нее был узел.
– Ну, с чем пришла? - спросил Архаров.
Бабенка подошла к столу и, нагнувшись, прошептала:
– Слово и дело государево…
– Говори.
Бабенка потупилась, вздохнула и, получив от Клашки легкий тычок локтем в бок, начала:
– Я, ваше сиятельство, в Зарядье живу, во Псковском переулке… И ко мне приходит родня моя, братец двоюродный… порой у нас ночевать остается… И вот прошлой ночью так-то пришел, а утром вышел в одном исподнем на крыльцо и сгинул. Я ждала, ждала, страшно стало. Днем не появился, к вечеру не появился, ночью не появился… я - к вашему сиятельству… вот, имущества его принесла, чулки, башмаки, кафтан…
Бабенку следовало назвать дурой и отправить в канцелярию - пусть там кому-нибудь продиктует «явочную», но Архаров, подняв наконец голову от бумаг, посмотрел ей в лицо. Нет, дурой она, кажется, не была…
– А «слово и дело» для чего сказала?
– Так ваше сиятельство… он ведь в полиции служит… как же еще, коли арха… коли полицейский служитель пропал?…
– Как звать братца? - быстро спросил Шварц.
– Яшкой.
– А по прозванию?
Вот тут Феклушка и задумалась. Отродясь Яшка-Скес ей о своем прозвании не говорил. Для их легкомысленных отношений и имени за глаза было довольно. А чтобы сестрица не знала братцева прозвания - для Москвы дело неслыханное.
– Ладно, Карл Иванович, - догадавшись о подоплеке этого родства, сказал Архаров. - Не так уж много у нас тут Яшек.
Похоже, появилась наконец возможность ухватиться за хвост одного из тех мнимых полицейских, которые были замечены ночью, когда треть сервиза в подвале отыскалась, общими усилиями обрюхатили девку Фимку с Якиманки, тяжело ранили Абросимова и, скорее всего, еще много пакостей натворили. И, скорее всего, Яшкой назвался Семен Елизаров, имевший склонность к амурным похождениям.
Но Шварц первым догадался, о ком толкует Феклушка.
– Иванов! Поди, спроси молодцов, не обнаружился ли Скес, - велел он.
– Будет сделано, ваша милость, - Клашка поклонился и вышел.
Архаров поставил еще несколько росчерков и вздохнул с облегчением. Письменная повинность была им выполнена. Он посмотрел на бабу - нет, собой нехороша, вряд ли Елизаров на нее польстился, хотя всякие чудеса случаются…
– Карл Иванович, возьми-ка доносительницу к себе в подвал…
Феклушка в ужасе так и рухнула на колени.
– Да ваше сиятельство, да я-то чем провинилась?! - заголосила она.
– Молчи, дура. Посидишь там в каморке. Узел тут оставь. Не бойся, не тронут.
– Не кобенься, сударыня, - миролюбиво добавил Шварц. - Сие ненадолго.
Порядком напуганная Феклушка была им взята за плечо и выведена из кабинета.
– Карл Иванович, Ушакова ко мне, Петрова, Михея! - крикнул вслед Архаров.
Из всех троих на месте был лишь Устин и тут же прибежал.
– Ну-ка, развяжи узел, - велел Архаров.
Прямо на стол были выложены вещи - включая грубые башмаки.
Устин обшарил карманы кафтана и поочередно предъявил Архарову добытое из карманов имущество - моточек веревки, платок, мешочек с огнивом, чистую сложенную тряпицу, перекрещенную веревочкой колоду потертых карт, маленький ножик в ноженках.
– Этот вроде Скесов, - неуверенно сказал Устин. - И кошель на Скесов смахивает…
– Похоже на то…
Архаров был несколько разочарован - вот, оказывается, чье добро. Он догадывался, для каких добрых дел носит Яша этот бритвенной остроты нож, но не возражал - может, когда и в розыске пригодится.
– Что в кошеле?
Устин высыпал мелочь и достал сложенную бумажку, развернул, молча прочитал.
– Это его, ваша милость! Я сам ему писал!
– Читай.
И Устин прочитал, покраснев при этом до ушей:
– «Господи, дай твои ключи, Матерь Божья, дай свои замки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»
– Это что еще? - спросил Архаров.
– Молитва, ваша милость, от воров. Чтобы кошеля не стянули… очень помогает…
– Это ты Скесу дал молитву от воров? Когда он сам любого шура переплюнет?
– Но вот же, ваша милость, и пригодилась!
– Да… Скесово, значит, добро… - тут Архаров крепко задумался. - Петров, сходи вниз, приведи бабу, что у Карла Ивановича в каморке сидит. Не тронулась бы рассудком с перепугу.
– Ваша милость, а где он - Яша?
– Сам бы я хотел понять… Петров! Ты ведь что-то знаешь. Ну-ка, выкладывай! - велел Архаров.
По Устинову лицу и дитя несмышленое бы догадалось, что архаровец держит в голове какие-то важные сведения о Скесе.
– Я, ваша милость, ничего толком не знаю. Он не рассказывал, а только все в Зарядье бегал… что-то он там заприметил…
– Прелестно, - сказал Архаров. - И рухлядь его сыскалась в Зарядье. Ну-ка, вспоминай еще. Что у него было на уме?
– Карета, - подумав, отвечал Устин. - Он карету с гербом на дверцах искал. Да она, поди, уж нашлась, про то Ушаков знает.
– На что ему?
Но Устин не знал.
Скес был далек от веры, но свято место пусто не бывает - и он установил для себя целый свод примет, большинство из коих запомнил еще с детства. Например - коли он чем-то занимался, то никогда никому не излагал дела полностью, а лишь намеками и экивоками, чтобы не сглазить.
– А что за карета? Кто в ней ездит?
Архаров знал, что в Зарядье есть и богатые дома - те, что стоят повыше, и бедное жилье - в низинках, там, где дурной от сырости воздух. И сейчас он надеялся, что Устин без подсказки вспомнит ховринский особняк. Хотя молодой граф был где-то далеко, в ссылке, которой заменили более суровую кару лишь потому, что он не на шутку расхворался, но как знать - он наверняка пишет письма родителям, а от родителей те письма еще Бог весть куда разбегаются.
– Ваша милость, он про ту карету еще с Захаром Ивановым толковал.
– Кликни-ка Захара!
Иванов доложил - точно, было дело, гонялся Скес за экипажем с красно-черным гербом, на коем перья и латники, и оказалось, что колымага принадлежит графу Матюшкину.
– Прелестно… - пробормотал Архаров. - Я гляжу, вам тут впору вторую полицейскую контору открывать и самим розыски вести! А ну, выкладывай все, что знаешь!
От его грозного голоса Устин даже перекрестился.
– Да ваша милость, мне почем знать?! Он подсобить просил, Ушаков для него балахон этот атласный стянул!
– Еще и балахон. На кой черт?
– Чтобы с ним, с тем балахоном, Яшка в дом к графьям Матюшкиным попал - вроде они потеряли, а он сыскал и принес.
– В тихом омуте… - пробормотал Архаров.
Архаровцы у него были разные - Федька, открытая душа, о всех своих действиях извещал громогласно, а вот Яшка-Скес был неприметен. И надо же - именно он, сдается, нашарил некую важную ниточку.
Архаров понял это, когда услыхал фамилию «Матюшкины».
Супружеская чета была ему неприятна. Он хорошо помнил, как граф с графиней расспрашивали его о розыске золотого сервиза, фальшивыми голосами изъявляя веру в его способности. Тогда он, помнится, даже обиделся на отставного сенатора Захарова, разболтавшего им про этот розыск. Но, дивное дело, более никто из светских знакомцев его об этом сервизе не расспрашивал, хотя, казалось бы, всем должно быть любопытно - не каждый день полиция ищет украденный сервиз фаворитки французского короля.
Стоило подумать о Захарове - дверь кабинета отворилась.
– Мир дому сему, - сказал, входя, Матвей Воробьев. - Проезжал, думал - дай загляну.
Вид обер-полицмейстерского стола, на котором были разложены одежда и даже башмаки, его не удивил.
– Что Абросимов?
– Плох, но надежды я не теряю. Знаешь, какова у нас главная беда? Сиделку хорошую негде взять. Приставил к нему одну - а у ней кавалеры на уме. Изловил у калитки, изругал, чуть не за косу к больному отволок.
– Коли что надобно - говори. Немцев твоих собрать, заплатить им за визит…
Слово «консилиум» Архаров благополучно забыл.
– Потом тебе счет выпишу - не обрадуешься, - пошутил Матвей, но в глазах веселья не было. - А знаешь ли, куда я еду? Господин Захаров при смерти лежит. Не сегодня-завтра, гляди, Богу душу отдаст.
Архаров покивал. Никто не вечен, а отставной сенатор уже довольно стар, чтобы отбыть к праотцам.
– Лет бы десять еще протянул, кабы не собственная дурь, - продолжал Матвей. - Я ведь ему уже прямо говорил - дай девке своей абшид, поживешь еще. Нет - ездил к ней и ездил, ездил и ездил, да еще хвалился - любит, как молодого! Дохвалился! Гляди, Николашка, вздумаешь шпанскими мушками баловаться - скажи сразу, я из тебя эту дурь выбью…
– А помочь никак нельзя? - спросил Архаров.
– А чем тут поможешь? Причастили уж и соборовали. Вдруг все случилось. Сперва почки от шпанской мушки приказали долго жить, кровью ходил, бедняга. Потом так и повалился, рвота, башка трещит. Я ему - и кровь велел пустить, и пиявки на затылок, какое там… Слег - и уж не встанет. Вот тут я бессилен.
Помолчали.
– Осиротеет Дунька, - сказал Матвей. - Жалко девку, девка-то не совсем пропащая. Ты скажи молодцам - пусть ко мне заглядывают. Абросимов-то в сознании, развлечь его…
– А что говорит?
– Да слаб он, чтоб говорить. Поеду. Знал бы ты, Николашка, как это скверно - от одного живого покойника к другому…
Архаров принюхался и присмотрелся - Матвей был трезв.
– Да уж поезжай, - тихо произнес он. - Сам себе такое ремесло выбрал…
– А ты ругаешься, что пью, как же не пить… Ну, Бог с тобой.
Архаров несколько секунд глядел на захлопнувшуюся дверь. Понурый Матвей испортил деловой настроение. Архаров одним движением смел со стола все Яшкино добро.
– Прибери, Петров. Эй! Кто там из канцелярских бездельем мается? Кликнуть сюда, - распорядился Архаров. - И бабу из подвала ко мне!
Оказалось - все исправно трудятся. Тогда за столик сел Устин и приготовился записывать.
Вошла Феклушка. За ней следом - Шварц.
– Ваша милость, - обратился он к Архарову как-то чересчур почтительно. - Благоволите более особ женска полу в каморку не посылать. Ибо производят смущение среди моих подчиненных.
– И кто попался? Вакула? - спросил Архаров.
– Нет, к прискорбию моему, не Вакула, а добродетельный служащий Барыгин, - ответствовал Шварц. - Я полагал, что он в свои годы, имея супругу и взрослых детей, нажил поболее разума.
Архаров поглядел на Феклушку и хмыкнул. У бабенки на лице была написана склонность к похождениям и страсть к привлечению мужского внимания даже в таком неподходящем месте, как подвал Рязанского подворья. А когда лицо говорит о намерениях столь выразительно - то кавалерам уже мало дела до запачканного рукава сорочки или отпоровшегося подола юбки.
– Ну, насчет разума - ты, Карл Иванович, сам с ним разбирайся. А особу давай сюда. Потолкуем. Ей известно, куда наш Скес подевался. Как звать тебя, особа?
– Феклой во святом крещении, в девичестве - Корешковых, замужем за рабом Божиим Федотом, по прозванию - из Балуевых, - замысловато доложила Феклушка. Она уже избыла страх и даже поглядывала на знаменитых своим свирепством Архарова и Шварца с известным бабьим любопытством.
Архаров также глядел на нее с любопытством. «Фекла» - сие имя значит совершенная. Внешне никаких совершенств в посетительнице не обнаружилось - ряба, неопрятна. Но имя обмануть не может - стало быть, есть некие внутренние.
– Погодите, ваша милость, - сказал Шварц. - Наипаче всего следует поблагодарить сию особу за то, что она отважно пришла в полицейскую контору, а не скрывала несчастливую авантуру нашего служащего от боязни повреждения своей репутации.
Феклушка уставилась на немца с тревогой - ничего в его речи не поняла.
Далее Шварц преспокойно добыл из кармана пряник, вручил его Феклушке и, отойдя, уселся у стены, ожидая дальнейших событий.
До сей поры Шварцевы пряники получали мальчишки на побегушках. Архаров понимал: немец не женат, детей ему никто не нарожал, и та малая природная доброта, что отпущена ему Господом, ищет разумного и недорогого выхода. Сей пряник тоже был заготовлен на случай, если кто-то из парнишек окажет себя толковым и исполнительным служащим. Вручение его Феклушке было сущей загадкой.
– Ну, говори, Феклуша, как вышло, что твой братец удрал от тебя без штанов, - вот так, с шутки, Архаров начал допрос и даже изобразил подобие улыбки.
– Да ваше сиятельство… спал он, а я пошла корову доить и в стадо провожать… Прихожу - его нет. Как спал в исподнем, так и ушел.
– Куда бы и для чего он мог податься рано утром?
Феклушка вздохнула.
– Ваше сиятельство, должно, по службе. Он ведь все про соседку мою Марфу расспрашивал, а на той Марфе клейма ставить негде, сколько молодых девок перепортила! А против нее и слова сказать не смей, тут же кричит, что архаровцев на тебя… ахти мне!…
– Вот это новость, - сказал Архаров. - Слышь, Карл Иванович? Пригрели змею на груди. А ты ничего не бойся и все обстоятельно обскажи - когда и для чего твой братец расспрашивал про Марфу. Что он там такого сомнительного приметил?
– А что к ней рано утром на огород кавалер ходит, - доложила Феклушка. - И она с ним в летней кухне сидит.
Архаров и Шварц переглянулись.
– Мусью нашего, стало быть, можно с рогами поздравить, - заметил Архаров. - Только какое дело Скесу до тех рогов?
Яшка всегда держался особо, ни с кем не ссорился, но и никому со своей любовью не приставал. Архаровцы и в полицейской конторе дружились теми же компаниями, что на чумном бастионе: Федька Савин - с Тимофеем Арсеньевым и с Демкой Костемаровым - когда они не были в ссоре; Ваня Носатый - с Сергейкой Ушаковым и Филей-Чкарем… Яшка-Скес с чумного времени сохранил нечто вроде привязанности к Харитону-Яману, с коим трудился на одной фуре, но Харитон погиб. Его место заступил Устин Петров - они стали приятелями. Скес с Клаварошем говорил только по служебной надобности, и уж не стал бы ночью бегать по огородам, чтобы уличить в неверности Клаварошеву зазнобу, такое и Федька, горячий в дружбе, не мог бы учудить.
– Нет, ваша милость, они там не любились, а только говорили, - вдруг объявила Феклушка.
– А ты почем знаешь?
– Бабы толковали.
– Так что же, бабы твои сквозь стенку видят, кто с кем любится?
– Не видят, а только они там не любились, - упрямо стояла на своем Феклушка. - Сказывали, Марфа-то бесстыжая к нему в одной рубахе бегает, а только не любятся, разговоры ведут. Марфа-то хитрая! Коли бы хотела любиться - нашла бы место получше, чем кухня на огороде!
– И то верно… - задумчиво согласился Архаров. Он знал Марфу не первый год - она, промышляя скупкой краденого, могла назначать свидания с кем-то из шуров рано утром, чтобы не видал никто - ни Наташка, ни Тетеркин, ни Клаварош - в те дни, когда ночевал у нее. Шур, стало быть, из клевых… и добыча, надо полагать, непростая, раз Марфа не ленится вставать спозаранку…
Уж не связан ли Скесов розыск с той сухарницей из блудного сервиза мадам Дюбарри, что принес Марфе никому не ведомый Овсянников?
Это уже было похоже на правду - Яшка напал на след сервиза, но что ж он никому в полицейской конторе не сказался?
– Ваша милость, коли он не вернулся, стало, попал в беду, - сказал Шварц. - Надобно искать тело.
– Ахти мне! - Феклушка взялась за щеки.
– Тебе бы только покойников искать, - буркнул Архаров. - Может, жив еще.
– Был бы жив - пришел бы, как полагается, и оделся. Не может быть, чтобы он без кафтана и штанов, в нарушение всех приличий, где-то более суток пребывал живой. Он мог в самом крайнем случае прислать кого-либо сюда, или же к приятелю своему Петрову, или же сам к нему прийти под покровом ночного мрака…
– Так. Ты, выходит, полагаешь, что Скес уже плывет вниз по Москве-реке?
– Меня бы сие не удивило, - хмуро отвечал Шварц.
– Ахти мне, - повторила испуганная Феклушка.
Архаров повернулся к ней и посмотрел тем самым неприятным взглядом, от коего бабы взвизгивали, а особа деликатная могла и чувств лишиться. Феклушка лишь шарахнулась.
– Ты сейчас пойдешь домой как ни в чем не бывало, - велел Архаров. - А за тобой следом пойдут два наши молодца. Ты им покажешь, как твой братец от тебя огородами пробирался к Марфе, и скажешь также, кто еще из соседок об эту пору коров в стадо провожает. Так понемногу и догадаемся, куда он подевался.
– Ваша милость! - воскликнул Устин, вскочив. - Мне! Мне дозвольте, Христа ради! Я справлюсь!
– Тебя послать - так, чего доброго, вдогонку за Скесом поплывешь…
– Ваша милость, я же жил в Зарядье! Я там многих знаю, и меня также помнят! Мне скажут!… Пустите, Христа ради!
Такая мольба была в Устиновых глазах, что Архаров подумал: у бывшего дьячка совесть нечиста, норовит как-то покрыть грех.
– Ступай, Фекла Балуева, подожди за дверью, - сказал он. - И ты, Карл Иванович, ступай. А ты, Петров, останься.
Устин глядел в пол, пока Архарову не надоело молчание.
– А ну, выкладывай все начистоту, как на исповеди! Что ты знаешь про тайный Яшкин розыск! На кой хрен ему карета графа Матюшкина? Как ко всей этой дряни Марфа приплелась?
– Ваша милость, я не знаю, Христом-Богом - не знаю! - воскликнул Устин.
– А что ты знаешь? Для чего ты так рвешься Скеса искать?
– Ваша милость… Это… это дело божественное… Он ведь из-за меня в беду попал…
– Ну, ну, как это - из-за тебя?
– Я, ваша милость, с ним разговаривал, молитвы ему переписывал, а он… а я… он ведь теперь и помолиться-то не умеет из-за моего нерадения!…
До Архарова не сразу дошло, что Устин, как всегда, взвалил на себя тяжкий крест просвещения заблудших душ - на сей раз Яшкиной души.
– Более - ничего?
– Так это ж, ваша милость, главное!
– Вот отправлю тебя обратно во Всехсвятский храм дьячком или псаломщиком, - пригрозил Архаров. - Я уж невесть что подумал. Ладно, ступай с той Феклой. Стой! Сыщи Федьку. Я знаю, он, дурак, от меня прячется. Скажи - я велел ему с вами пойти. Тогда хоть спокоен буду, что и ты не сгинешь безвестно, оставив одни портки с башмаками…
* * *
Федька горел желанием загладить свою оплошность.
Кабы он не вообразил сдуру, будто бывший канцелярист так же стар, как Дементьев, то мог изловить мнимого полицейского Семена Елизарова, а тот бы при помощи Шварца выдал своего дружка с немецкой фамилией Фальк.
Он вцепился в Феклушку мертвой хваткой - даже за руки хватал, задавая на ходу бешеные вопросы.
Устин шел сзади, краснел и бледнел. Федьке зачем-то потребовалось знать, давно ли Феклушка привечает Скеса, часто ли он у нее ночует, как вышло, что именно в эту ночь он отправился следить за Марфой.
А шалой бабенке любопытно было иное. В Зарядье знали, что сам обер-полицмейстер не брезгует заехать к Марфе Ивановне, выпить у нее кофея. И Феклушка все сворачивала беседу на иное: а есть ли у Архарова постоянная любовница да не думает ли жениться?
За такими приятными разговорами дошли до Зарядья. Тут Феклушка опомнилась. Она вовсе не желала, чтобы соседки видели ее с архаровцами. Поэтому она пошла вперед, а Федька с Устином - сзади, как если бы ее знать не знали. Но сперва уговорились, чтобы Феклушка никуда из дому не уходила - мало ли для каких вопросов она потребуется.
Далее архаровцы вели себя как кавалеры, высматривающие прелестницу: наблюдали за Феклушкой через забор.
Она, зная, что за ней следят, ходила по двору, показывая те места, где Скесу удобно было бы удрать, пока она спозаранку провожала корову в стадо.
– Там у них лаз, - сказал Устин. - Это они, поди, с теткой Настасьей и с ее Фроськой друг к дружке в гости бегают, там Настасьин огород, коли ничего не переменилось.
– А где Марфина вотчина?
– А вот поднимемся повыше, я тебе сверху покажу.
Они изучили ландшафт и поняли, что Яшка мог добраться до Марфиного огорода по пустырю.
– Вон и летняя кухня, - Устин показал на край дощатой стенки. - Тут, стало быть, Марфа с кем-то встречалась…
– Пока наш мусью сны смотрел! Пошли, поглядим - может, найдем чего.
Находок не было, зато поняли, что именно через пустырь можно добираться до Марфиной летней кухни незаметно.
– Стало быть, тот кавалер точно так же шел и так же оттуда выходил, - сделал вывод Федька. - Ну, теперь вспоминай всех соседок!
Устин посмотрел направо и налево.
– Тут я уж не знаю, кто живет. В чуму жили Сысоевы, а напротив - Малинины. Они вроде не хворали.
– У них корова есть?
– На что тебе?
– Вот дуралей! Коли есть корова - ее утром выгоняли в стадо. И хозяйка непременно что-то видела!
Федька был не то что полон азарта - переполнен, азарт бил ключом, образуя над Федькиной головой незримую хмельную пену. Он полез звать хозяйку, был облаян цепным псом, да еще малининский петух вздумал защищать свой двор и кур - принялся наскакивать на архаровца, словно бы видя в нем соперника. Пришлось ретироваться.
Наконец на шум прибежала хозяйка с палкой.
– А ну, вон пошли! - крикнула она из-за забора. - Молодцов сейчас кликну, достанется вам!
– Она это! - обрадовался Устин. - Дросида Пантелеевна! Это я, Устин Петров! Пусти на двор, дельце есть!
Калитка приоткрылась. Выглянула статная баба лет сорока, оглядела архаровцев и осталась ими недовольна.
– Думала, врали про тебя, а ты и впрямь, - сказала она Устину. - Нашел, где служить! Ну, чего надобно?
– У вас еще есть корова?
– А ты за молоком припожаловал?
Устин несколько растерялся. Тогда в разговор вступил Федька.
– Господин обер-полицмейстер велел разузнать, сколько где коров и как платят пастухам, - строго сказал он. - И сказано обо всем ему в точности донести, а коли где явится вранье - будут наказывать.
Ему уже приходилось иметь дело с сердитыми московскими обывателями, и он научился их смирять.
– Какое дело боярам до наших коров? - удивилась сердитая Дросида Пантелеевна. - Держим одну - чтоб детишкам свое молоко и своя сметана были. И то уж надоела - вставай для нее спозаранку!
Кабы Федька и Устин были повнимательнее, то и поняли бы, что хозяйка здешнего двора - невеликая труженица. Любая баба отметила бы, что сорочка Дросиды Пантелеевны была не вышита, как полагалось бы, а по вороту и рукавам отделана полосками красно-синей льняной набойки, да и те были пришиты не потайным швом, а весьма заметным.
Оказалось, что коров в Зарядье немного, и очень скоро архаровцы знали, в каких дворах их держат. Выяснили также, что никаких подозрительных событий здесь в последнее время по утрам не случалось. Хозяйки, с которыми они потолковали, не приметили рыжего человека, босого и без порток.
– Куда ж он забрел в одном исподнем? - спросил Федька Устина без малейшей надежды на ответ. - Кабы он видел того человека, что принес Марфе золотую сухарницу, то выследил бы - и тут же в контору побежал.
– Пойдем к реке, - предложил печальный Устин, - поищем там следов. Коли Яшеньки более на свете нет - я себе сего вовеки не прощу!
– Да ты-то тут при чем? - спросил Федька, удивленный не менее Архарова.
– Так он же помер без покаяния. А я-то мог ему внушить, донести до него святые словеса, а не донес! И из-за моего небрежения он, поди, в аду… Господи, страсти-то какие! Федя, ты можешь вообразить ад?
– Могу, - тут же отвечал Федька. - Спустись вон к Ване в нижний подвал, там тебе и преисподняя, и черти.
Устин шарахнулся от него и обозвал богохульником.
Они вышли на берег Москвы-реки и дошли до устья Яузы. Никаких следов Скеса не обнаружилось.
– И точно - плывет он сейчас вниз и доплыл уже, поди, до Сабурова, коли раньше на берег не вынесло, - сказал понурый Федька. - Река-то извилистая, то излука, то отмель. Наверно, завтра и прибегут десятские с новостью.
– Нет! - воскликнул Устин. - Не должно так быть! Не должно! Я ж молился за него!
– Сам же твердишь, что он в аду!
– Я не твержу! Я боюсь!
Федька махнул рукой и зашагал обратно. Устин поплелся следом.
– Федя, глянь! - вдруг позвал он.
У кустов, за которыми не было видно забора, Устин нечаянно отыскал затоптанный в серый речной песок пояс. Это был простой тканый кушак, каким перехватывают рубаху, уже старый, с мохнатыми концами.
– Ну и что? - уныло спросил Федька. - А постой! Тут кто-то воевал!
В кустах, похоже, возились пьяные медведи.
Устин и Федька переглянулись.
– Калитка, - почему-то не громко сказал, а прошептал Федька. - Где тут у них калитка?
Калитка нашлась саженях в пяти от места побоища. Федька постучал по ней - дворовый пес не залаял. Тогда он толкнул калитку.
Устин сперва держался у него за спиной, но пока Федька собирался войти - Устин проскочил во двор первым.
И сразу понял, что в доме неладно.
Об этом сообщил развязавшийся узел, лежавший у заднего крыльца. Кто-то впопыхах кое-как увязал одежду и сапоги, но не умял поплотнее, криво перекрестил углы простыни - все развалилось, а собирать и перевязывать заново, похоже, не было времени.
Федька достал нож.
– Ты хоть палку какую возьми, - безнадежно сказал он Устину. - Думай, будто от псов отбиваешься.
После того, как Устин однажды в беседе о праве архаровцев первыми пускать в ход оружие привел вместо аргумента цитату из Священного Писания о необходимости, получив удар по правой щеке, подставить левую, полицейские присматривали, чтобы он не последовал цитате при выполнении служебных обязанностей.
В доме не было ни души. Федька и Устин, вооруженный катовищем от метлы, обошли все комнаты, заглянули во все каморки. И поняли - здесь жили несколько мужчин и по меньшей мере две женщины, но все они вдруг куда-то впопыхах подевались. Даже пса увели - осталась одна веревка, привязанная к забору.
– Ты побудь тут, я добегу до Феклы, приведу ее, - сказал Федька. - Она тут всех знает. Может, сообразим, что к чему. Коли кто сунется - задерживай.
И убежал - волнение обычно мешало ему ходить пешком, а требовало скорости и некого внутреннего полета.
Устин уселся на крыльце и тосковал с четверть часа или поболее - пока не вернулся Федька.
– Фекла пропала! - сообщил он. - Детишки дома одни, бабы нет!
– Господи Иисусе! - отвечал Устин. - Это что же деется?!
– Велели ж ей дома сидеть!…
Устин развел руками.
Конечно, Федька предпочел бы, чтобы его напарником в этом розыске был некто иной. С Ушаковым, или с Тимофеем, или с Канзафаровым они могли бы сейчас дружно и на разные лады изругать дом, его жильцов, зловредного Скеса и сгинувшую Феклушку. Устин же в такого рода деле был не товарищ.
– Фу-у, аж в горле пересохло, - сказал Федька. - Может, они нам квасу оставили?
Но в сенях нашелся только бочонок с квашеной капустой, от которого пахло очень подозрительно.
– Вот так выпьешь рассольцу - и к дяде Агафону в мертвецкую, - буркнул Федька.
Устин в таких случаях чувствовал себя неловко - ему все казалось, будто в неурядице есть и его вина, и он должен спешно исправлять положение.
– А я из колодезя водицы наберу, - быстро сказал он. - Вишь, у них тут свой колодезь.
Этот колодезь в отдалении был виден в открытую из сеней на крыльцо дверь.
– Старый, - отвечал Федька. - Гляди, сруб совсем трухлявый и ворота нет.
Но Устин, пылая услужливостью, уже схватил ведерко и поспешил к колодцу. Федька усмехнулся - вот сейчас он добежит и поймет, что нужна еще веревка.
Устин наклонился над колодцем, очевидно, оценивая его глубину, застыл, отшатнулся, замотал головой и, уронив ведерко, побежал к крыльцу.
– Федя, там кто-то есть!
– Яшка! - воскликнул Федька.
Веревки они не нашли, разодрали простыню, связали полосы. Федька скинул кафтан, камзол, башмаки, сдернул чулки, подумал - и стащил штаны. Приказав Устину держать и не выпускать, хоть бы руки оторвались, Федька скинул край самодельной веревки в колодец, перешагнул через сруб и сам полез туда.
Колодец был неглубок - поблизости от реки водоносные слои почвы располагались довольно высоко. Вода, правда, была не лучшего качества, да ведь к водовозу не набегаешься, спасибо, что хоть такая есть. Федька первым делом захлестнул веревочной петлей то, что сверху увидел Устин, - две ноги в грязных и мокрых чулках. Разворачивать тело вверх головой он не стал - это бы, пожалуй, никому не удалось меж узких стенок. Потом, выбравшись, он помог Устину тащить - и очень скоро они извлекли мертвое тело, перевалили через сруб и уложили на траву. Голова покойника, разбитая чуть ли не кузнечным молотом, была в грязи, в какой-то тине, и прикасаться к ней ни у Федьки, ни у Устина не было никакого желания.
– Омыть надобно, - жалобно сказал Устин, - и псалмы над ним читать.
– Вот и омывай, - буркнул Федька.
Он, опустившись на корточки, глядел в дальний угол двора, поросший густой травой. На душе было пасмурно. Сперва - бедняга Абросимов, теперь вот Яшка, да что это за мор на полицию напал? И почему именно ему, Феде Савину, такое сомнительное счастье?…
– Ты куда? - спросил он Устина.
– В дом. Может, под образами Псалтирь сыщется.
– Беги лучше в контору, пусть дадут телегу, отвезем Скеса в мертвецкую. Там и почитаешь псалмы.
Устин взял ведерко и стал привязывать к ручке простынную полосу.
– Оставь, - велел Федька. - Там не вода, а грязь одна. Этот колодезь давно засыпать пора.
– Может, поверху немного чистой воды найдется, с Божьей помощью…
– Не найдется. Добеги уж лучше до соседей. Заодно расспроси, кто тут живет и какого бы рожна им вдруг всем удирать.
Отдав это распоряжение, Федька выпрямился и пошел к оставленным на траве штанам и камзолу.
Устин сообразил, где должны быть ворота, да и несложно было - здесь, на краю его родного Зарядья, оставалось очень мало старых московских домишек - местность под названием Васильевский луг была отдана государыней под огромный Воспитательный дом. Это заведение было прекрасно известно архаровцам - все найденные в неожиданных местах младенцы до двухлетнего возраста, на коих никто не предъявлял прав, туда отвозились.
Устин обошел дом и обернулся. Оборачиваться, чтобы лучше улеглась в голове дорога, его выучил Тимофей. Он увидел высокое крыльцо и рядом с ним - низкую дверцу в погреб.
Ему показалось странным, что они с Федькой обошли весь дом, а даже не подумали, что под домом есть погреб с отдельным входом. А в погребе может ведь отыскаться нечто важное для розыска и следствия.
– Господи благослови! - сказал Устин и, недолго думая, стал вытягивать из пазов тяжелый засов.
Дверь открывалась наружу, но очень туго - от сырости осела и перекосилась. Устин не смог ее распахнуть и, протиснувшись в щель, стал пихать, упираясь плечом. Он уже почти справился с задачей, но тут грянуло, в глазах пронеслись звездные круги, стало тихо, а потом вдруг - неимоверно холодно.
Устин зашевелился, стараясь спастись от холода - скорее всего, уползти от него куда-нибудь подальше. Открыть глаза он догадался не сразу.
– Слава Богу! - сказал Федька, нависнувший над ним, и поставил наземь ведро. - Я уж думал - и тебя к дяде Агафону!
– Меня? - спросил Устин, плохо понимая происходящее.
– Тебя нет и нет, я следом пошел, гляжу - ты тут валяешься. Ну, что делать? Я не Матвей Воробьев. Вижу - ведро…
Воду он для экономии времени зачерпнул там, где нашли мертвое тело. И в ведре только что лягушки не квакали - а всякой дряни было преизрядно.
Тут лишь до Устина дошло, что ему не только холодно, но и мокро. Он попытался сесть, Федька протянул руку.
– Голова кругом, - объяснил Устин свое состояние.
– Ну, коли тебе по маковке этим вот ушатом досталось…
Ушат лежал тут же, у высокого порога погреба.
– Ты сиди, сиди, - сказал Федька. - Тот, кто тебя этак благословил, давно уж сбежал. Чертова баба Фекла! Была бы она тут - послали бы в контору за помощью. Где ее только нелегкая носит? Ты не бойся. Я вон тоже от поручика Тучкова зимой такой презент получил. Лучшее средство от него - проблеваться. Потом, правда, сколько-то времени башка трещала. Ничего, у нас, у архаровцев, черепушки крепкие!
– Как он там заперся? - спросил Устин.
– Кто заперся?
Устин хотел объяснить, что засов можно задвинуть только снаружи, но мысли и слова как-то не складывались вместе, не цеплялись друг за дружку.
– Господи, милостив буди мне, грешному, - пробормотал он. - Федя, ты ступай… за телегой…
– Будь тут, не уходи, - приказал Федька. - Я выйду к реке - глядишь, упрошу какую-нибудь добрую душу добежать до конторы.
Но ему повезло более, чем он рассчитывал.
Попав на набережную, он увидел обоз из трех телег и полюбопытствовал, нельзя ли с возчиками как-то срядиться. Ему отвечали, что недосуг - везут провиант в Воспитательный дом, а оттуда заберут детишек, чтобы доставить по уговору в село Измайлово на воспитание, там уж и бабы-кормилицы ждать будут.
Воспитательный дом был государственным учреждением. Федька побежал к воротам и растолковал свою беду сторожам. Коли бы они не оказали помощи полицейскому, на другой же день обер-полицмейстер вспомнил бы о немалых грехах, накопившихся за вороватыми служащими Воспитательного дома. И недалеко ему было ехать с жалобой - государыня тут же, в Москве, и будет лишь рада навести порядок в заведении, которое сама придумала и которому покровительствовала.
Нашелся длинноногий парень из кухонных мужиков, сел на неоседланную лошадь, поскакал по Солянке и далее, а Федька вернулся к Устину.
Тот уже сидел не на земле, а на лавочке, и сушил кафтан, разложив его на солнечном месте.
– Никто не появлялся? - спросил его Федька.
– Никто, поди. Я и не разберу - в ушах шумно.
– Потерпи - придет телега, доедешь до конторы, там приляжешь. Не блевал еще?
– Нет, не тянет.
– Это плохо, - со знанием дела сказал Федька. - Скоро за нами приедут, до конторы чуть поболее версты.
Устин встал с лавочки.
– Ты куда? Сиди, смуряк.
– Яшеньку обмыть.
– Сиди, говорю. Сам обмою.
– Нет. Мне должно… я виновен…
– Свалишься в колодезь - вытаскивать не стану.
Устин все верно рассчитал - он не проявил должной сноровки, не сумел обучить товарища верному пониманию православия, даже ни разу не отстоял с ним вместе службы. А ведь Яшка прислушивался к словам Устина, позволял говорить с собой о вере! И, выходит, если Скес сейчас угодил в ад кромешный, то виновник - вот он… во всю жизнь этого греха не замолить…
С большим трудом Устину удалось поднять из старого колодца полведра мутной воды. Он опустился на колени рядом с мертвым телом и стал очень осторожно, тоненькой струйкой, поливать лицо.
И это было совершенно незнакомое лицо.
– Федя! Федя! - закричал Устин. - Чудо! Чудо свершилось!
В тот миг он был уверен, что его искреннее душевное раскаяние как-то способствовало подмене - вместо покойного Скеса явился некий иной покойник. А для чего - уже не суть важно.
Но Федька был не столь возвышенного образа мыслей.
– Хотел бы я знать, кто ж тогда тебя по башке треснул, - сказал он. - Поди лучше, встань на набережной, а я встану у Устьинского переулка - почем знать, не по Солянке ли наша телега поедет.
Телега и впрямь прибыла по Солянке. Неведомо чье тело погрузили на нее, укрыли рогожей, Устин с Федькой сели сбоку и поехали, причем Федька развлекал Устина преданиями из жизни мортусов - ему очень живо вспомнилось, как он в этих же краях разъезжал в черном дегтярном балахоне, в колпаке с прорезями для глаз и с железным крюком для таскания зачумленных покойников.
Когда Архарову доложили, что вместо Скесова тела в мертвецкую доставлено какое-то совершенно постороннее, он только вздохнул. Как будто мало было Рязанскому подворью забот - еще и убийство в трех шагах от Воспитательного дома…
Федька доложил подробности, но они ничего не объясняли. Опустевший домишко, признаки отчаянного бегства хозяев, тело в колодце - ну, что из этого выжмешь?
– Возвращайся туда, обойди соседей, может, чего подскажут, - велел Архаров. - Заодно и про Скеса.
– Скес жив, - уверенно сказал Федька.
– С чего ты взял?
– Не может так быть, ваша милость, чтобы в одном месте и в одно время - сразу два покойника. Раз был тот, в колодезе, то Скес, выходит, жив.
Архаров усмехнулся - это был занятный довод, из тех, которые ему нравились.
– Ну, ищи живого Скеса! - приказал он.
* * *
Близился вечер - летний вечер, когда впору бы прогуляться по остывающим от жары улицам или хоть выти в сад посидеть, а не слушать чтение важных бумаг и донесения полицейских о том, что на Ходынском лугу-де среди бела дня пытались украсть хорошие доски, погрузить их на телегу и вывезти.
Ходынский луг казался Архарову неким живым существом, наподобие зародыша в яйце. Зреет там себе, зреет, поглядим еще, каково явится, когда треснет скорлупа! Чем ближе был назначенный срок праздника - тем тревожнее делалось обер-полицмейстеру. И кабы срок был совсем точно определен! Государыня по неизвестной причине назвать-то его назвала, десятое июля, но с оговоркой: все-де может перемениться, ибо она не совсем здорова.
А капитан-поручик Лопухин с просьбой обратился: представить его государыне. Как будто до того, в Санкт-Петербурге, этим озаботиться не мог! Вот тоже незадача… и ведь ясна лопухинская хитрость: коли будет представлен московским обер-полицмейстером, то уже первая ступенька образуется к изрядному чину в петербуржской полиции. А как его преподнести? Да и вообще - преподносить ли?
Вот послал Господь гостя…
Архаров уже додумался посоветоваться с княгиней Волконской, которая знала свет и его правила, когда дверь кабинета приоткрылась.
– Ваша милость, там человек от господина Захарова, - сказал Клашка.
Человека впустили, это оказался пожилой лакей, и привез он записку от своего барина. Отставной сенатор просил господина обер-полицмейстера жаловать в гости. Архаров по природной своей подозрительности первым делом подумал о Дуньке. Но тут же вспомнил, что Захаров тяжко болен, уже соборовали, так что ему не до приключений шалой мартонки.
Отставной сенатор был Архарову чем-то симпатичен. Опять же - уступил картины по сходной цене и не жался, не торговался, как третьей гильдии купчишка. Лакею было сказано, что через час-полтора гость прибудет. Так и получилось.
О болезни Захарова можно было догадаться уже по тому, что мостовая перед его домом была устлана соломой - чтобы грохот фур и экипажей не тревожил умирающего.
Гаврила Павлович лежал в чистой постели, но запах в его спальне был малоприятный. Хотя и курильница стояла в углу - дорогая, мейсенского фарфора, который в чем и можно было упрекнуть - так разве в подставках, подражающих уральскому малахиту, и окна были приоткрыты, и стояла на консоли ваза с красиво собранным, в подражание нарисованным на посуде, букетом - розы с невозможным количеством отогнутых лепестков и еще какие-то мелкие цветы, неизвестные обер-полицмейстеру.
– Входите, садитесь, сударь, - тихо сказал отставной сенатор, указывая на кресло. - Умирание есть процедура малоприятная для сердобольных визитеров, но я долго вас не задержу.
– Да Бог с вами, Гаврила Павлович, - отвечал смущенный такой прямотой Архаров. - И не из таких хвороб выкарабкиваются, доктор Воробьев мне сказывал…
– Доктор ваш Воробьев кричать на меня изволил, как баба на торгу, добра желая.
– Да, он таков.
– А потому кричал, что помочь бессилен. Николай Петрович, я прошу вас исполнить некую комиссию.
Захаров достал из-под подушки толстый и длинный кошель. Удалось это не сразу, и движения были для него мучительны.
– Не сочтите за труд, откройте нижний ящик, - сказал он, показывая на туалетный столик. - Вытащите его вовсе. Переверните вверх дном… да не смущайтесь, люди уберут…
Архаров высыпал на ковер превеликое множество мелочей, перевернул ящик и увидел приспособленный снизу к его дну большой конверт из толстой коричневой бумаги - такая была в ходу и в полицейской конторе.
– Там купчая на домишко, - продолжал Захаров. - Будьте любезны, отвезите деньги и купчую к метреске моей, Фаншете. А на словах передайте, что иных подарков пусть не ждет. Более попросить некого, тут же родне моей донесут, а в вас я, сударь, уверен. Сколько-то она на эти деньги сумеет прожить, а из дома на Ильинке ей придется съехать, он лишь по август месяц оплачен. Жаль, вольную я горничной ее, Агашке, дать не успел, не догадался. Может, успею.
Архаров молча смотрел на больное, худое, пожелтевшее, измученное лицо былого красавца и щеголя, остроумца и вольтерьянца. Захаров и точно умирал. Утешать было бы нелепо.
Вспомнились объяснения Матвея насчет шпанской мушки. Средство, дающее выносливость и стойкость в амурных поединках, ударяло по почкам, по мочевому пузырю - а сражаться с его воспалением, особливо когда больное тело столь старое и изношенное, для доктора - большая морока. Положение, когда избавиться от жидкости невозможно без помощи, для Захарова должно было быть унизительно. Однако он знал, чем завершится страстный роман с Дунькой, знал - и пил проклятое снадобье, желая, видно, до смертного часа не отпускать красавицу, иметь ее своей…
Архаров сунул конверт в широкий карман кафтана, в другой карман положил кошель. После чего подтащил кресло поближе к кровати и сел - прочно сел, широко раздвинув колени и упершись в них кулаками. Поза была отнюдь не светская - так ведь он себя галантным кавалером и не считал.
Изъясняться в дружеской привязанности к отставному сенатору Архаров не стал - хороша дружба… Но он положил себе просидеть с больным столько, сколько получится, пока не помешают доктора или домашние. Отнюдь не от чрезмерной чувствительности - а просто было у него ощущение некого долга. Захаров всегда к нему хорошо относился, помог устроить ловушку на французских шулеров, да и с картинами тоже - вел себя безупречно. Когда-то ведь и Архарову придется помирать - и неплохо бы, чтобы вместо квохчущей родни, уже норовящей разгадать тайну завещания, пришел посидеть рядом спокойный и многое понимающий без слов человек.
Возможно, Захаров все понял и смирился с присутствием спокойного понимающего человека.
– Каково картины мои развесили? - спросил он.
– Их сиятельство Елизавета Васильевна много помогла, - ответил Архаров. - Дамам сие искусство от природы дадено, а мне невдомек, что с чем сочетать.
– Однако ж у себя в полицейской конторе вы все верно сочетаете, - любезно заметил Захаров. - Не слышно ли чего о сервизе мадам Дюбарри?
Тут же вспомнилась чета Матюшкиных. Архаров с подозрением посмотрел на Гаврилу Павловича. И тут же вспомнил - да ведь собеседник уже вряд ли может кому-либо разболтать историю с третью сервиза, а Матюшкины, сдается, не из того теста слеплены, чтобы ездить по домам, где имеются умирающие. Опять же - Захарову развлечение.
Обер-полицмейтер взял да и рассказал, как отыскали пропажу в подвале развалин Гранатного двора, как ее оставили на прежнем месте, как Марфа прислала золотую сухарницу, как в доме фальшивого полицейского были найдены четыре ложки.
Ему удалось отвлечь отставного сенатора от неприятных ощущений, да к тому же, рассказывая, он мог заново оценить и сопоставить все обстоятельства.
– И что - точно ли редкостной красоты художество? - спросил Гаврила Павлович.
– Знал бы, что вам любопытно, - хоть сухарницу привез бы показать. До сих пор такой красивой посуды я не видал. Полировка замечательная. А прочее так и лежит в подвале, и люди мои за тем подвалом присматривают.
– Стало быть, ощущение, будто часть сервиза на блюдечке поднесли? - спросил Захаров. - А навел вас на те развалины некий кавалер де Берни? Нанявшийся служить домашним учителем к отставному полковнику Шитову? Ох, сударь, плетется тут знатная интрига! Коли бы шулер из притона просто пошел в домашние учителя, пережидая опасное для себя время, то еще бы полбеды. Сей шулер - француз, и то, что он как-то связан с сервизом мадам Дюбарри, внушает мне опасение…
– Какое? - прямо спросил Архаров.
– Следите ли вы, сударь, за политическими новостями? Нет? А я слежу. По старой памяти…
– Не до того, право, - буркнул Архаров. - Да и затруднительно.
Тут он был прав - чтобы судить о заморских делах здраво, надобно жить не в Москве, а в Санкт-Петербурге, иметь знакомства при дворе и получать надежные сведения из первых рук. До Москвы же вся политика добирается в дамских письмах - или в тех бумагах князя Волконского, в коих сам черт ногу сломит.
– Сколько вам лет, Николай Петрович?
– Тридцать три года, Гаврила Павлович.
Отставной сенатор посчитал в уме.
– Двадцать лет назад, стало быть, политикой не увлекались, - с приятнейшей улыбкой сказал он. - А я, живя в столице, от многих тайных интриг ключи имел. Доводилось ли вам слыхать о девице де Бомон?
– Нет, не доводилось.
– С какого же конца начать? - сам себя спросил Захаров. - А с другого… Известно ли вам, что покойный французский король Людовик был весьма мягкого, нерешительного и уступчивого нрава?
– Нет, сударь, не известно.
Архаров видел, что беседа эта дается больному нелегко, но видел он также, что Гаврила Павлович непременно хочет разъяснить нечто важное. Потому не стал отвлекаться сам и его отвлекать на светские приятности и галантонности.
– Через эту его уступчивость много было непонятных приключений. Всякий, оказавшись вблизи короля, полагал, что может им управлять, как нянька младенцем. Пример тому - достопамятная маркиза де Помпадур. Долгонько при его величестве продержалась и влияла на политику Франции, как до той поры ни одна метреска не влияла… не приведи нам с вами, Николай Петрович, до такого дожить…
Архаров про Помпадуршу слыхивал, но не понимал, каким образом баба, пусть даже маркиза, может взять столько власти над мужчиной.
– Но его величество, хоть и маялся скукой и хандрой, однако же дураком отнюдь не был. Просто некая духовная лень… я знавал его, сударь, был ему представлен… никак он не мог сыскать развлечения себе по вкусу, пока не подвели ему гулящую парижскую девку, ныне известную как мадам Дюбарри, вот эта сумела его хоть перед смертью порадовать. Стало быть, он превосходнейше видел, когда его начинали водить за нос, однако не умел открыто и прямо тому воспротивиться. Не удивляйтесь, сударь, природа человеческая и не на таковые выверты способна.
– Король не умел воспротивиться?
– То-то и беда, что прямо грохнуть кулаком об стол или пощечину отвесить, как, бывало, государыня Анна Иоанновна покойная, не мог. А следовало бы. И решения принимал с великой мукой. Однако, повторюсь, умом его Господь не обидел, а коли и обидел - так самую малость. Весьма доверял первому своему министру, кардиналу де Флери, а тот возьми да и помри. И тут вдруг померещилось королю, будто он может сам, в одиночку, своей державой управлять. Опять же, доброжелатель некий с советом подоспел: вы-де, ваше величество, не позволяйте, чтобы вами командовали, с министрами совещайтесь, а все дела решайте сами. Надоумил - да и сам потом, сдается был не рад. Решать дела его величество сперва-то взялся, но скоро к ним охладел. И тут как-то он договорился с принцем де Конти, родственником своим. Тот как раз был по части политических интриг опытен и своих собственных шпионов во всех европейских странах имел. Сие для начала запомните, Николай Петрович.
– Прелестно… - пробормотал Архаров. Менее всего он желал присовокупить к своим теперешним занятиям еще и ловлю шпионов. На то в столице, поди, Второй департамент Сената имеется…
– Любопытно иное - не то, что принц завел своих шпионов, а то, что они с ведома и по желанию короля орудовали порой прямо во вред французскому министерству иностранных дел. Каково? Государство вроде одну политику ведет, а его величество втихомолку - совсем иную.
Архаров чуть было не выпалил «Мать честная, Богородица лесная», но удержался.
– Как сие возможно? - спросил лишь, передав голосом высочайшую свою степень удивления.
– Королю страх как не везло с министрами. Один другого норовистее. Господа д’ Аржансон, Пюизьё, Сен-Контест, Рулье - все ему перечили. А он, повторяю, возразить не умел. Вот затеи принца Конти и пришлись ему ко двору. Принц, впрочем, был на нашей стороне. Он полагал сближение с Россией необходимым для Франции. Но у него в том был свой интерес - он желал получить польский трон, а коли не выйдет - хоть курляндский. По принцевой подсказке завел его величество свою собственную секретную службу - «Le Secret de Roi». Сиречь - «королевский секрет», - перевел тут же Захаров, верно предположив, что обер-полицмейстер не в ладах с французским языком. - И Конти сей «секрет» возглавил. Вот вам живой образчик его трудов… Откуда я все сие знаю - не спрашивайте, сударь, долго рассказывать.
Захаров помолчал, видимо, отдыхая и составляя в уме экстракт рассказа. Обер-полицмейстер молча ждал. Он даже тихо радовался, что Гаврила Павлович не к болячкам своим прислушивается, а увлечен беседой. И вдруг понял, как важно для человека, уже собравшегося в дорогу, успеть раздать то свое имущество, что может пригодиться живым. Родня получала по завещанию деревеньки, деньги, особняк. Дунька вон - тяжелый кошель и купчую на какой-то домишко. Архаров получал в наследство тревогу - старый царедворец нюхом чуял угрозу и хотел объяснить обер-полицмейстеру, откуда ждать неприятностей. И, очевидно, был в душе благодарен человеку, который дал ему последнюю возможность помочь и предупредить…
– Как вам известно, англичане с французами вечно что-то делят да поделить не могут, - издалека начал Захаров. - И в ту пору англичане были с нами в союзе и принялись укреплять свою армию. Людовик же усмотрел в сем угрозу. Но был бессилен - поскольку французские дипломаты, как на грех, были покойной государыней высланы из столицы. И лет этак двадцать назад он отправил в Россию двух своих молодчиков из «королевского секрета». Один представился у нас шотландским дворянином шевалье Дугласом и объявил про себя, что прибыл по предписанию докторов, для поправки здоровья. Помилуйте, кто ж в Санкт-Петербург поправлять здоровье поедет? Это уж вовсе надо из адского Тартара прибыть, чтобы столичный климат райским показался. А при нем оказалась племянница… Ну, мы с вами, Николай Петрович, знаем, кого пожилые господа возят с собой под именем племянницы, дело житейское… Сия госпожа ростом была невысока, личико имела пухлое, кожу нежную, румянец прелестный - чего ж и не держать в племянницах?
Архаров насколько мог любезно ответил кивком и улыбкой на все еще лукавую усмешку неисправимого Гаврилы Павловича.
– И тут король французский совместно с принцем Конти явили себя неплохими стратегами. Покамест шевалье Дуглас бился, как рыба об лед, ища нужных знакомств, и на все свои затеи получал решительный от всех отказ, племянница диковинным образом втерлась в дамский круг, близкий к покойной государыне. Как-то вышло, что ей оказал покровительство граф Михайла Илларионович, что в прошлом году помер, царствие ему небесное… - И, видя, что Архаров никак не вспомнит сей персоны, Захаров словно бы нечаянно добавил: - И ему это было нетрудно - он уж который год вице-канцлером служил, и воронцовское слово много для государыни значило. А наиболее всего граф Михайла Илларионович желал союза с Францией, в чем и противоречил господину Бестужеву-Рюмину, бывшему тогда канцлером…
Но эти давние дела Архарову были почти безразличны - и отставной сенатор, догадавшись, оставил их в покое.
– Девица поклонников заимела, кстати, знакомства светские… И никто не придал тому значения - все были более озабочены шевалье Дугласом. Наконец государыня приметила племянницу. А той бы на театре играть - голос внятный, выразительный, премилый был голосок…
Архаров вспомнил, что отставной сенатор и актерок также содержал, в голосах разбирается. Явилась из памяти госпожа Тарантеева в платье из серебряной парчи с цветочными гирляндами и мантийкой горностаевой - такая, какой запомнилась при налете на Оперный дом, коленопреклоненная посреди сцены и в растерянности ожидающая своей смерти…
Но рассказывать Захарову сию печальную историю Архаров не стал. Пусть полагает, будто актерка сыскала себе нового покровителя и с ним куда-то укатила. Тем более, что в суете так и не дознались, кто же ее заколол.
– Так девица де Бомон стала чтицей при ее величестве. Доводилось ей и во фрейлинских покоях живать, а покои были, сударь, по соседству со спальней государыни, и стояли там большие кровати, на коих молоденькие фрейлины спали по двое. Сказывали, новоявленная чтица корсеты самых тоненьких девиц перемерила - и были ей в пору, вообразите же, какова была ее талия и сколько в тех фрейлинских покоях было баловства и смеха. Ну, читала она государыне французские книжки, читала…
Архаров вспомнил, как Саша Коробов уныло выговаривает фразы из «Хромого беса» и деловито перекладывает их на русский язык. Одно воспоминание оттеснило другое.
– …да и поехала с дядюшкой прочь - искать более подходящего климата. А потом - извольте радоваться, выясняется, что государыня непосредственно в сношения с французским королем вступила. В обход его министров! Как, когда? Правда обнаружилась год спустя - девица де Бомон снова в столице объявилась, да только, сударь мой, в мужском облике и с солидными полномочиями. И звалась уже кавалером д’Эон де Бомон. Оказалось, что оный кавалер в молодости степень доктора права получил, а также числился изрядным фехтовальщиком Коли кто замечал сходство, тому объясняли - брат-де с сестрой. Но уж больно были похожи… Такой вот проделан был «королевским секретом» кундштюк, чтобы покойной государыне нашей тайно передать письмо от покойного французского государя и отвезти в Версаль ее ответ. Окончательно все прояснилось еще год спустя, когда мы с Англией разругались, а с Францией в союз вступили и план прусской кампании на свет явился. И тогда же наконец получили мы в столицу французского посланника - маршала де л'Опиталя. Но несколько спустя явилось, что д’Эон де Бомон престранную интригу ведет - снимает копии с депеш французского министерства иностранных дел и с ответами маршала на эти депеши, добавляет свои замечания и отправляет в «Королевский секрет». То бишь, покойный король сильно беспокоился, как бы его министры ему назло чего не натворили.
– Прелестно, - сказал Архаров. Историйка была занятная, но он еще не совсем понимал, к чему клонит отставной сенатор.
– Стало быть, сударь, следует считаться с тем, что и у нас в России, и в Москве соответственно, могли быть таковые шпионы, о существовании коих знал только покойный король. Но это бы еще полбеды. После того, как австрийцы докопались до проказ «королевского секрета», сия затея его величества приказала долго жить. Опять же, король изволил скончаться. А австрийцы продали кое-что из тайной переписки «королевского секрета» французам - и так нынешний король получил в наследство не только прекрасную Францию, но и сидящих черт знает в каких закоулках батюшкиных шпионов. Причем, сударь мой, все они весьма осторожны и ждут подвохов… Не утомил ли я вас сими древними политическими затеями?
– Нет, Гаврила Павлович, - серьезно отвечал Архаров, для которого все, случившееся до его поступления в Преображенский полк, уже было древней историей, в коей на одной скамье сидели и покойная государыня Анна Иоанновна, и Петр Великий, и француз Расин, писавший трагедии на манер Сумарокова.
Они помолчали - больной прислушивался к себе, Архаров же просто ждал.
– Но не только французы в наши дела нос совали - мы тоже о их делах бывали осведомлены, - весело, едва ль не лихо сказал отставной сенатор. - И однажды было совсем занятное донесение - мадам де Помпадур, сильно недовольная тем, что покойник не желал открывать ей все затеи «королевского секрета», забралась в комнату, где хранились все важнейшие бумаги - имена, сроки, письма, документы, адреса служащих, что и обрадовало ее чрезвычайно - она ведь желала с ними расправиться так, чтобы «королевский секрет» уничтожить. Она этих людей, честно служивших своему королю, называла блистательной шпионской швалью. И многие пострадали… Так вот, Николай Петрович, весьма разумно было бы допустить, что после смерти его величества Людовика Пятнадцатого умные люди отыскали тех служащих «королевского секрета», что подвизались в нашем государстве, и пустили их снова в ход. Ведь наши отношения с Францией все еще далеки от прекрасных… Ваш кавалер де Берни, что служил в шулерах, вполне мог оказаться таким затейником…
– Этого мне только недоставало, - проворчал Архаров. - Как же сие выходит?…
Он стал вспоминать. Почти два года прошло с разгрома притона в Кожевниках. А французский король помер год назад. По времени совпадало - и только желательно было бы понять, как именно треклятого кавалера проворонили…
– Было еще кое-что занятное. Помните, сударь, как маркиза Пугачева на Москве ожидали? А в то же время парижские газеты вовсю толковали, что маркиз-де имеет прямую связь с великим князем Павлом Петровичем. Я сам те статейки читал и счел бы за бредни, когда бы не голштинское знамя, неведомым путем попавшее к бунтовщикам.
– Ведомым, сударь, - твердо сказал Архаров, и старый придворный усмехнулся - именно это он и желал услышать.
– И задумался я - откуда в Париже с такой быстротой узнают столь опасные для нас новости? Кто снабжает господ газетчиков сведениями? И не походит ли иное событие на итальянскую кукольную комедию - персоны шевелятся и рты разевают, а некто незримый их на ниточках водит и в нужный миг искусно дергает? Оттого и знает наши новости лучше, нежели мы сами.
– Прелестно… - пробормотал Архаров.
– И как бы не взбрело на ум сим кукловодам, что они вправе… - тут старик поморщился. - Николай Петрович, подайте, будьте столь любезны, мне воды. Доктор много пить не велит, а мне… да Бог с ним…
Архаров стал искать глазами графин с водой, а Гаврила Павлович продолжал:
– Наследник наш, великий князь Павел Петрович, французам не по душе пришелся. Посланник французский теперешний, господин Дюран де Дистроф прямо говорил: воспитанием цесаревича-де пренебрегли совершенно, и сие исправить невозможно, разве только чудо свершится. Здоровье-де испорчено вконец, да и нравственность… Сам придумать не мог, кто-то ему сведения предоставил. И Франция уже загодя беспокоиться стала о том, кто сменит на троне государыню, дай ей Господи здоровья. Так что коли начнется суета вокруг престола, там непременно французский посланник руку приложит, помяните мое слово.
– Дай ей Господи здоровья, - механически повторил Архаров, пытаясь уложить в голове потеснее все, что услышал, чтобы ни слова не растерять. Графина он не сыскал - очевидно, воду приносили и уносили по распоряжению доктора Воробьева.
– Сказывали также, что покойный французский король, сочиняя инструкции для послов своих в России, изволил выразиться примерно так: все, что может ввергнуть сию страну в хаос и заставить вновь погрузиться во тьму, отвечает моим интересам. И завершил следующим образом: более и речи не должно идти об установлении прочных связей с этой империей. Сколько их перебывало - и барон, дай Бог памяти… де Бретей! Да, де Бретей, еще при покойной государыне приезжавший, и маркиз де Боссе, его сменивший, и консул де Россиньоль, и затем еще господин Сабатье де Кабр, этот вроде не так давно у нас служил, - все они сим приказам следовали. Так что, хотя при новом короле и налаживается некоторое понимание, однако от инструкций своего покойного государя господин Дюран де Дистроф в глубине души не отрекается. И не будет толку, пока его не сменят.
– Так, Гаврила Павлович…
– И, наконец, то, о чем знают немногие. А вам знать надобно. Господин Дюран двадцать лет назад состоял в «королевском секрете». Они с д’Эоном приятели были. И, кстати, Россиньоль - из той же компании. Вот теперь все и связалось в один узелок, не так ли, Николай Петрович?
Архаров не ответил. Да и что тут отвечать? Старик все растолковал, как наставник дитяти. Легче с того не стало.
Французский посланник - в Москве. Этот чертов де Берни также в Москву прикатил. Сервиз в Москве объявился. Чего же добиваются французы и чего хотят нынешние владельцы сервиза?
– Задумались, сударь? Бросьте, - с неожиданным легкомыслием сказал Захаров. - Грош всему этому цена. Поссорились с Францией, помирились с Францией - что с того человеку? На тот свет всех интриг с собой не возьмешь. А что возьмешь? Вот поразмыслите о сем…
Архарову не доводилось видеть человека, неторопливо умирающего и приводящего в должный вид свои душевные дела. Скорую смерть видал - в той же чумной Москве. И на мертвые тела нагляделся. Сейчас перед ним было почти мертвое тело - но удерживающее в себе живую, взволнованную, занятую делом душу. Архарову казалось, что телесному угасанию должно способствовать и медленное угасание души, сужение ее потребностей до одной простейшей - потребности в сострадании. Оказалось, отставной сенатор полагал иначе - его душа желала дожить последние деньги так же, как провела семьдесят с лишним лет - изящно, остроумно и… с любовью?…
Этот человек много любил, да и его любили. Архаров знал, что Дунька искренне привязалась к покровителю. Сам он сперва не понимал, как ей это удается - ведь полвека разницы в возрасте. И вот теперь проснулось понимание - Дунька отвечала на любовь, как умела. Просто отвечала на его последнюю любовь. А он не стал выгадывать лишние месяцы старчески невинной жизни, а всего себя отдал - и вот уходит… Завидна ли сия кончина - Бог весть…
– Будучи в Париже, слышал я забавный афоризм, - словно угадав архаровские мысли, сказал Гаврила Павлович. - Некто молвил: «Я изучил женщин всех наций. Итальянка верит, что ее по-настоящему любят, если ради нее поклонник готов на преступление; англичанка - если он готов на безрассудство; француженка - если готов на глупость». А что же требуется русской даме? В чем она признает любовь, в каких признаках? Вы молоды, Николай Петрович, у вас еще немало любви впереди. Может, вы на сей вопрос ответите? А я вот по сей день не ведаю, по сей день… Все перепробовал, правды не добился…
Отставной сенатор вздохнул и поморщился.
Теперь лишь обер-полицмейстер увидел, как утомила Захарова эта беседа. Но старик выдержал ее достойно и со всей доступной ему в его положении элегантностью.
– Я еще навещу вас, - глядя в пол, сказал Архаров.
– Право, не стоит. Прощайте, Николай Петрович, - ласково ему возразил отставной сенатор. - Я рад был вашему визиту, я ожидал вас. Прощайте, Бог с вами…
Архаров встал. Все его крупное сильное тело вдруг показалось ему неуместным, лишним в этой комнате. Он даже ощутил некую неловкость… но не от осознания своих грехов, нет… а оттого, что все же захотелось тут остаться до самого конца, и до последнего мига глядеть в морщинистое лицо, исследуя приближение смерти… как бы знакомясь со смертью, потому что ведь и ему когда-то придется, так чтобы не менее достойно… и воды не смог поднести… нет, воду он все же раздобудет!
Архаров подошел к двери, распахнул ее и увидел сидевшего на стуле ливрейного лакея.
– Подслушивал, сукин ты сын? - спросил Архаров. - Попить мне принеси. Живо!
И стоял в дверях, пока не прибежал испуганный лакей с подносом.
– Пошел вон, - забирая у него поднос, приказал Архаров и вернулся в спальню, захлопнув дверь ногой.
– Брусничная вода… ну-ка, приподнимитесь, сударь…
Обер-полицмейстер поддерживал голову отставного сенатора, пока тот пил огромными глотками и напился вдоволь.
– Как хорошо… - прошептал Захаров. - Я чувствую себя великолепно, лишь бы сие подольше не кончалось, как сказал Арлекин, падая с башни…
– За Дуньку не извольте беспокоиться. Присмотрю, чтоб не скурвилась, - вдруг произнес Архаров.
– Замуж бы ее надо отдать.
Архаров кивнул. Так, как если бы пообещал.
– Время мне лекарства принимать. Весьма вам благодарен, Николай Петрович. Вы развлекли меня и утешили. Теперь, поди, более не увидимся. Господь с вами.
Сухая рука выбралась из-под одеяла и перекрестила Архарова.
Более толковать было не о чем.
Архаров, угрюмый и очень недовольный, вышел из захаровской спальни. Следовало бы наговорить утешительных слов, да он отродясь того не умел. Левый карман с тяжелим кошельком несколько перекосил кафтан, и это неудобство вызывало в нем несообразное своей малой значительности раздражение.
На улице было тепло, солнечно, беззаботно. Москва всей своей сумбурной душой готовилась к празднику. Предвкушение праздника словно бы в воздухе повисло, заполняя все пространства. А в Архарове сидело предчувствие смерти - и столкновение их показалось ему не менее болезненным, чем удар под дых.
За спиной умирал старик, и каждый шаг архаровский вперед, к экипажу, к полицейским своим заботам, к суете Рязанского подворья был одновременно и его шагом к смерти. Так оно, по крайней мере, ощущалось.
А возвращение было невозможно.
Прибыв в кабинет и оценив, сколько трудов предстоит, Архаров послал Никишку на Ильинку, велел передать Дуньке на словах - через два часа-де приедет переговорить, так чтобы ждала, из дому не выходила.
А потом взялся за перо. Ему хотелось хоть как-то записать все, чему научил Захаров. И, кое-как, несуразными каракулями, излагая по пунктам все, связанное с французами, он вдруг понял одну важную вещь.
Захаров первый догадался, кому принадлежит украденный сервиз. Он понял, что сервиз - часть некой сложной интриги. И, имея, как оказалось, опыт по сей части, он держал свои рассуждения при себе. Поделился только с Архаровым - и то, лежа на смертном одре. Он не мог рассказать о сервизе Матюшкиным - им расскажешь, а на следующий день весь двор будет сплетню знать.
Странно, правда, что лишь они и спрашивали, как движется розыск… об этом Архаров уже задумывался недавно…
Так откуда ж они проведали о сервизе?
– Клавароша ко мне! - крикнул Архаров.
Француз был поблизости - явился сразу.
– Нет ли чего новенького о кавалере де Берни? - спросил Архаров.
После ночной экспедиции, которая принесла треть сервиза и два необъяснимых трупа, за учителем постоянно присматривали.
– Сидит дома, ваша милость, исполняет свои обязанности.
– И не выходит?
– Нет, ваша милость, не выходит.
– Разберись, кто таков тот отставной полковник Шитов и что за вдова Огаркова. Какие люди у них бывают, к кому сами ездят.
– Ваша милость… - Клаварош несколько смутился.
– Что еще?
– Людей мало. И…
– Ну?…
– Хорошие полицейские в безвестном отсутствии.
Он намекал на Демку Костемарова и Яшку-Скеса.
Демка мог пустить в ход свои давние знакомства или же найти дорожку в дом вдовы Огарковой через сердце которой-нибудь из ее сенных девок, горничных, кухарок… кто там у нее водится… Яшка также был не промах. И вот в такое время Рязанское подворье лишилось сразу их обоих.
– Ладно, ступай…
Архаров понимал, что был, возможно, неправ, затевая разборки с Демкой в такое время, когда Демка очень нужен. Однако иметь в подчиненных человека, который, может статься, убийца и, что еще хуже, выбалтывает полицейские секреты мазам, он не мог. Даже коли бы пересилил себя, отложив все внутриконторские розыски до лучших времен, - все равно мог бы не выдержать, сорваться и заорать в самое неподходящее время.
Он и никогда-то не был по-настоящему спокоен. Неподвижное лицо, неторопливое тело - они служили природным укрытием его внутренней тревоге и недовольству. Да и смеха он боялся - а было бы воистину смешно, когда бы человек таких статей, как московский обер-полицмейстер, принялся метаться, словно угорелая кошка.
Сейчас архаровское беспокойство уже стало обретать причины, которые можно выразить словами. Есть ли какая-то связь между учителем, проживающим в почтенном семействе, и четой пожилых придворных? Пока что единственное меж ними общее: все трое приехали в Москву из Санкт-Петербурга на обещанное празднование Кючук-Кайнарджийского мира.
Но связь бывает разной - чтобы обмениваться мыслями, не обязательно встречаться. Могут же они пересылать записочки с кем угодно, даже без ведома того письмоносца! В одном доме, скажем, сунут в карман кафтана врача-немца бумажку, в другом ее незаметно вынут. А врачи как раз к Шитовым приходили, это Архаров знал из донесений, полковница расхворалась. Или прикинулась расхворавшейся…
В этом деле никому нельзя было верить.
– Эй, кто там? - позвал он. - Велите Сеньке моему экипаж подавать!
Архаров вздумал ехать к княгине Волконской.
Он знал, что ум ее ограничен, как у всякой женщины, что многие вещи ее пониманию недоступны. Однако княгиня была дамой светской и помнила многие истории из придворной жизни. Кроме того, ее возраст и положение исключали всякие амурные шалости с ее стороны. Архаров в дамском обществе чувствовал себя прескверно - он не умел говорить милые пустячки, не знал модных словечек, бывших в ходу у щеголей и щеголих. А Елизавета Васильевна в этих принадлежностях светской беседы не нуждалась.
Вот что он мог сделать и сделал даже с некоторым удовольствием - заехал к кондитеру Апре и набрал там конфектов и бисквитов подороже. Такой гостинец, на его взгляд, был наилучшим. Опять же, в доме две молодые девицы, их нужно угощать конфектами. Анюта и Варенька…
Оказалось, что девиц-то как раз и нет - укатили к Суворовым. Супруга Александра Васильевича вскоре должна была разродиться, из дому не выезжала, вот и звала к себе подружек. А Елизавета Васильевна смотрела, как убирают гостиные, и собственноручно составляла букеты - к вечеру ждали гостей, в их числе и жениха Анюты, князя Голицына.
– Оставайтесь у нас, Николай Петрович, - сказала она. - Накормим не хуже вашего Потапа.
Это был даже не тонкий, а основательный намек: Потап умел готовить простые русские блюда и совершенно не желал учиться печь французские пироги. Княгиня уже предлагала как-то найти более подходящего повара, но Архаров как-то увернулся от заботы.
Лакомства, впрочем, она приняла благосклонно и тут же приказала варить кофей.
Архаров задал несколько светских вопросов, как если бы ему было любопытно, кто и кому наносил утренние визиты, а потом перешел к делу.
– Ваше сиятельство, давненько я в ваших гостиных графа Матюшкина с супругой не встречал.
– А вам угодно было бы, чтобы я их приглашала? - неожиданно резко отвечала княгиня.
Архаров дважды кивнул. Он знал, что после первых встреч с петербургскими знакомцами, исполненных радости, Елизавета Васильевна и князь угомонятся и увидят гостей такими, каковы они есть на самом деле. И прошло достаточное время - двор в Москве, почитай, уж полгода.
– Мы одного мнения об этой паре, - сказал он. - Но мне многое неизвестно. Говорят, графиня в молодости некие услуги ее величеству оказывала, за что ее величество графине долгое время покровительствовали…
– Но государыня с Анной Алексеевной исправно рассчиталась - замуж ее отдала. И, поверьте, отплата услуге по-своему соответствовала.
– Что же то была за услуга?
Княгиня неожиданно рассмеялась.
– Такая услуга, что теперь уже никакого ни смысла, ни значения не имеет. В ту пору, как государыня еще великой княжной была, а графиня Матюшкина - княжной Гагариной, повадилась сия княжна любовные билетики таскать от великой княгини к некому кавалеру.
Архаров даже подался весь поближе к Анне Васильевне. В свете мало что знали о зарождении нежных чувств между государыней и Григорием Орловым, передавали слухи - якобы княгиня Куракина уступила Екатерине Алексеевне статного и неутомимого красавца, однако точно никто ничего не знал - настолько участники той давней интриги ловко хранили тайну.
– Стало быть, госпожа графиня также руку к шелковой революции приложила? - спросил Архаров.
– Ах, Николай Петрович, нельзя вас в свет пускать! Как раз что-нибудь несообразное брякнете! - весело отвечала княгиня. - Тогда ее величеству и двадцати годочков, поди, не было, какая революция? А может, уже и стукнуло. И жила она под весьма строгим присмотром. А из придворных кавалеров несколько отличала графа Захара Чернышова. Он при дворе великого князя состоял.
– Это не тот ли Чернышов, что Берлин брал?
– Да, тот самый, президент нашей Военной коллегии. Но тогда и ему лет двадцать было, самые игривые годы. И вздумали они записочками перебрасываться. А княжна Гагарина в своих юбках те записочки переносила. Но никому про то не разболтала, потом уже выяснилось - Брюсше, что ли, государыня открыто рассказывала…
– Что ж ныне?
Елизавета Васильевна задумалась. Архаров уже довольно знал ее лицо: княгиня не вспоминала подробности, но решала: говорить - не говорить…
– Неспроста ведь спрашиваешь, сударь…
– Неспроста.
– Ну так вот что скажу - правда ли, нет ли, а слыхала краем уха, самым краешком… - княгиня показала пальчиком на ухо, обремененное довольно большой бриллиантовой сережкой. - Чересчур это семейство к Франции расположено и всячески старалось ей свою преданность показать.
– И французов они у себя привечают?
– Николай Петрович, про то Михайлу Никитича спрашивай. Слухи переность я не охотница.
При этом княгиня быстро закрыла веер и спрятала его пластины в ладонях. Сделала она это машинально, забыв, что Архаров не разумеет «языка веерного маханья», - а движение означало, что расспросы ее уже огорчают.
– Скоро ли его сиятельство будет?
– А его сиятельство дома.
Архаров даже несколько растерялся.
– Работает в кабинете, письма диктует, я и не стала его отвлекать. Не ему ж ты, сударь, конфекты от Апре привез? - лукаво осведомилась княгиня.
Архаров решил не уходить, пока не повидает князя. И стал расспрашивать о вещах обыкновенных, а также рассказал всякий историйки о празднике, для которого на Ходынском лугу возводили целую географию. О том, как среди бела дня ловкие мужики догадались доски воровать - на постройке столько народу трудится, что одной телегой более или менее - никто не заметит. Также был занятный случай, когда начали строить потешную крепостцу, изображавшую крепость Керчь, с бастионами и равелинами. Архитекторы Баженов с Казаковым не сразу сообразили, что окружать крепость рвом ни к чему, и телега с бревнами, съехав по контрэскарпу, лихо снесла целый бастион вместе с плотниками.
Вскоре Михайла Никитич вышел - по-домашнему, в легком шлафроке. Он попросил кофея со сливками, и Елизавета Васильевна предложила подать кофей в кабинет - того гляди, гости начнут съезжаться, а хозяин не то что без кафтана, а даже без камзола.
– Жарко, душа моя, - сказал в оправдание Волконский. - Вон и Николай Петрович, поди, взмок в своих доспехах.
Архаров и точно маялся в тяжелом кафтане, на котором было нашито в два ряда широкого галуна.
Зато в кабинете он этот роскошный кафтан скинул и камзол расстегнул. То-то было блаженство…
Выслушав его домыслы, Волконский хмыкнул.
– Ну, коли Захаров подозревает - должно, так оно и есть. Много старик повидал… А как французы нам пакостили - и я не хуже него расскажу. Когда нынешняя война с турками начиналась, полагаешь, мы ее затеяли? Нет - тогдашний французский посол в Константинополе, граф де Вержен, султана на сию дурость подбил. И потом французский король туда своих советников посылал. Ловко он рассчитал - чтобы мы, будучи ослаблены и истощены сей войной, еще долго не могли и помыслить, чтоб воспользоваться своим выгодным в Европе положением - и, будучи в окружении слабейших государств, не имели силы их угнетать и через то вмешиваться в европейские дела. То-то бы сейчас позлился!
– Как я могу быстро и тайно проверить, что известно нашему Второму департаменту о французских агентах в России? - спросил Архаров.
– Быстро не выйдет. Да и не знают они всех агентов - тех лишь, что на виду. Помнишь дело полковника Анжели? Ведь спохватились лишь тогда, когда он самовольно поехал в Вену и в Париж, где его принял герцог д’Эгийон.
Архаров не сразу сообразил - что за герцог такой.
– Министр иностранных дел французского короля, - укоризненно сказал Волконский. - Совсем ты, сударь, в своих полицейских дрязгах и каверзах погряз, газет не читаешь.
– Право, не до французских министров, ваше сиятельство. И не до газет. Вранья я и у себя в полицейской конторе слышу порядочно. Такого, что газетам и не приснится.
Про Анжели Архаров, разумеется, слыхал, потому что его тогда, год назад, волновало все, что хоть как-то можно было увязать с маркизом Пугачевым и его возможным наступлением на Москву. Этот французский офицер, предложивший свои услуги России, успел до того послужить Пруссии, Баварии и Дании. Россию он представлял себе страной нелепой и бестолковой - полагал, будто запросто взбунтует русские полки, стоящие в Лифляндии, захватит Ригу, которая хоть и была укреплена еще при шведах, но оставалась весьма сильной крепостью, и из Риги под развернутыми знаменами пойдет добывать Санкт-Петербург. А чтобы повысыть значимость своей особы, утвержал, будто состоит в сношениях с воскресшим государем Петром Федоровичем. Таких самозванцев Россия знала предостаточно - однако этого уж больно усердно вытаскивал из беды принц де Роган - самолично ездил к российскому послу князю Барятинскому просить за соотечественника. И ведь упросил - тогда же, летом, полковника Анжели выслали из России, тем он и отделался.
Князь внимательно посмотрел на Архарова.
– Гляди, опозоришься через свое нелюбопытство…
Он мог так говорить: и был вдвое старше, и титул носил, и в службе был удачлив и успешен. Архаров на своей лестнице отдал Волконскому одну из самых высоких ступенек - потому и не обиделся.
– А не имеют ли какого отношения к французским делам граф и графиня Матюшкины? - спросил он.
– Черт ли их разберет. Ходили такие слухи, но были ли доказательства - неведомо. Еще при покойном государе он, как говорили, сделался переносчиком вестей, снабжал придворными сплетнями французского посланника. А граф у нас щеголь и игрок, деньги нужны постоянно. Уж не знаю, был ли он, когда во Францию ездил, завербован там, получил ли какие-то деньги за свои доносы… С игроками не поймешь, откуда у них деньги берутся и куда исчезают. Какие-то немалые суммы он там проиграл, это всем известно.
– Как же его, зная про его наклонности, во Францию отпустили?
– Про то не меня спрашивать надобно. Видимо, супруга помогла. И, сдается, после его возвращения милости государынины к графине иссякать стали. Повторяю, Николай Петрович, доподлинно не знаю, я ведь не так много в столице жил.
– А теперь как же?
– А теперь граф с графиней уже люди пожилые, никто их и ни за что преследовать не станет, хотя отношение государыни к ним вам известно. А что он играет по-прежнему - так то вы своими глазами видели.
Не такого ответа, разумеется, ждал Архаров. Но и в этих словах было за что зацепиться. Коли Матюшкин сделался осведомителем французского двора, то при сговоре князь Волконский уж точно не присутствовал, да и никто, пожалуй, не присутствовал, кроме графа и некого высокопоставленного француза - имя же его Господь один знает…
– Может ли быть, что государыня доподлинно знает про то, что граф французов сведениями снабжал? - спросил он.
– Сие вероятно. Однако государыня умна и никогда не устроит скандала там, где можно обойтись без него, - отвечал Волконский. - Я допускаю, что ей сделались известны некие давние грехи, и она полагает, что новых не было.
Архаров вздохнул. Очевидно, ему-то и суждено открыть миру новый грех четы Матюшкиных.
Одновременно ему сделалось ясно, что Волконский не сообщит ничего более, что могло бы помочь в розыске. Видимо, следовало поискать кого другого… Алехана?…
Ведь толковал же Алехан о французских следах в истории с авантурьерой! Разбираясь, кто эта женщина и какого черта вздумала претендовать на российский трон, он мог случайно получить сведения, важные нынче для Архарова, - о французах в России и русских аристократах, которых, оказывается, не так уж сложно купить за разумные деньги…
– Его сиятельство граф Орлов вам еще визита не наносил? - спросил Архаров.
– А разве он в Москве?
Это было уже забавнее.
После той ночи Алехан более на Пречистенке не появлялся. Архаров полагал, что он занят своим устройством в Москве, наносит визиты, и даже не побеспокоился, где Орлов изволил поселиться. Чтобы не расписываться в своей бестолковости, Архаров отвечал князю, что слыхал-де, будто Орлова в Москве видали, и сам удивился, для чего его сиятельство не дает о себе знать давним своим приятелям. Волконский посоветовал не придавать этому значения - всем известен причудливый нрав Алехана. И до праздника остается не так уж много - там-то он наверняка появится. Не может быть, чтобы в день, когда все получат из рук государыни хоть какое награждение, для него ничего не нашлось.
Архаров был на сей предмет иного мнения.
Алехан не говорил прямо - этого еще недоставало! - однако Архаров уловил во всем его поведении некую обиду на государыню. И это желание непременно оставить службу - не на пустом месте возникло. Если Федор и Владимир Орловы подали в отставку из-за брата, и никто их особо на службе не удерживал, то Алехан - другое дело. Он слишком много дал России - и еще более мог бы дать, а государыня, как заметил князь Волконский, умна и скандалов не любит…
Но если вдуматься, история с авантюрьерой - европейский скандал. Заманить хитрую девицу на судно и похитить из-под носа у ее сторонников - это великая наглость. Алехан говорил, что сама государыня именно этого желала - но не вышло бы так, что желала она этого на словах, а на деле предпочла бы не столь шумное событие?
Расставшись с Волконским, Архаров приказал везти себя к Рязанскому подворью. Там он отдал приказание - отыскать графа Орлова. Алехан - мужчина приметный: высок, статен, на лице шрам, известный всей Российской империи. Коли он, как привык смолоду, ищет немудреных развлечений по кабакам, то найти его будет несложно.
Затем следовало посетить Дуньку. И она, кстати, могла знать, куда подевался Алехан: они, помнится, вдвоем остались, когда Архаров спать отправился. Занятно будет, коли пропажа сыщется у Дуньки на Ильинке…
Карета остановилась, Архаров вышел и постоял несколько у дверей Дунькиного дома. Входить не больно хотелось - это было хозяйство Захарова, место, где Захаров любил свою мартону, и жил в душе обер-полицмейстера некий запрет на появление в подобных местах. Однако обстоятельства были особые - не юный любовник тайно проскакивал в спальню прелестницы, пока законный сожитель занят иными делами, а один мужчина выполнял предсмертную просьбу другого мужчины, Дунька же сама по себе тут мало что значила - была поводом для просьбы, не более.
Архаров вошел и был встречен привратником Петрушкой, заменившим покойного Филимонку.
Петрушка, молодой, но низкорослый и слабосильный парень, сказал, что хозяйка-де ожидает, и сам поспешил по лестнице вперед - доложить о госте. Архаров поднимался неторопливо, так что Петрушка успел взбежать наверх, получить приказание и встретить Архарова на последних ступеньках лестницы. Оказалось - хозяйка просит малость подождать.
Примерно через минуту выскочила взволнованная горничная Агашка и сделала глубокий книксен.
– Извольте в гостиную, - сказала Агашка и сама довела до кресла в малой гостиной, сама усадила, при этом все время поглядывая на закрытую дверь, ведущую в приватные Дунькины покои, возможно, сразу в спальню.
Архаров хмыкнул - как будто мало было на сборы двух часов! Ведь непременно в последнюю минуту ей волосочес последнюю буклю на голове укладывает и впопыхах пудрой присыпает!
И вдруг за той дверью раздался заполошный крик - каким орут при начале пожара, не менее.
– Люди! Люди! - вопила Дунька.
Архаров вскочил, распахнул дверь - и тут же подпрыгнул с резвостью, самого его удивившей.
В комнате чуть ли не на вершок от пола стояла вода. Она потекла через порожек и замочила-таки архаровские туфли.
Дунька в маленьком чепчике стояла в ванне на коленях, глядела на потоп и голосила, призывая прислугу. Кроме чепчика на ней, похоже, ничего и не было. А простыня, которой положено накрывать ванну, чтобы являть принимающую гостей даму по грудь, соскользнула и мокла в луже.
Увидев Архарова, Дунька замолчала.
– Что тут у тебя, Дуня? - спросил он. - Куда это ты забралась?
– Да ванна же, будь она неладна! - чуть не плача, отвечала Дунька. - Мода, мода! Прием утренний! А она, вишь, проклятая, течет!
– Вода?
– Ванна!
Архаров отступил в малую гостиную, и тут же мимо него пробежала стряпуха Саввишна с веником, ведром и тряпкой.
– Ведра где? - кричала она. - Агаша, подтирай живее! Не то паркеты взбухнут и рассядутся - то-то беды наделаем!
Пробежала и Агашка, шлепнулась на колени прямо в воду и принялась возить большой тряпкой перед захлопнувшейся дверью, не столь собирая воду, сколь ее размазывая.
– Дуня, накинь хоть рубаху да выйди ко мне! - возвысил голос Архаров.
Столь грозное приказание в полицейской конторе не осталось бы безответным - тут же архаровцы исполнили бы все необходимое. Дунька же провозилась за дверью еще добрых четверть часа.
Наконец она вышла - в белой широкой кофте, в белой же юбке с едва заметными розовыми полосками, так, как одеваются дома, когда никуда не надобно выезжать или принимать знатных гостей, дамы и девицы в почтенных семьях. На плечи Дунька набросила турецкую шаль - их немало понавезли в Москву из недавнего военного похода. И чепчик переменила - этот был больше, с розовой лентой и розеткой спереди посередке.
– Угодно ли кофею, милостивый государь Николай Петрович? - весьма чинно спросила она. Как ежели б только что не торчала перед ним из щелястой ванны в чем мать родила.
– Я по делу, Дуня. Велено тебе передать, - и Архаров без лишних предисловий вынул из карманов и кошель, и конверт с купчей.
– Что это, от кого?
– От Гаврилы Павловича, - неохотно выговорил Архаров.
Дунька, к некоторому удивлению обер-полицмейстера, сперва не в кошель полезла, а вскрыла конверт и, шевеля губами, принялась читать купчую. Он и не подозревал, что Дунька уже знает грамоте. Но, как и следовало ожидать, она не смогла продраться сквозь заунывно-канцелярскую речь, изобретенную нарочно для подобных бумаг.
– Николай Петрович, что это такое? - растерянно спросила она.
– Купчая, Дуня. Господин Захаров тебе дом купил. Туда съедешь…
– Это для чего же?
Вот теперь Дунька забеспокоилась не на шутку. Хмурую архаровскую физиономию она уже довольно изучила, и по тому, как обер-полицмейстер прятал взгляд, догадалась, что дело неладно.
– Что с Гаврилой Павлычем? - спросила она напрямик.
– Болен. Тяжко болен. Вот, вздумал о тебе позаботиться…
– Он помирает?
Архаров хотел было смягчить удар, да передумал. Не малое дитя, девка в возрасте, поплачет да и забудет…
– Да, Дуня. Помирает.
– А что Матвей Ильич?
– Лечит, ругается, да все без толку. Господин Захаров уж стар.
Дунька бросила купчую на стол.
– Как же это? - спросила она. - Как же он? Надобно лучших врачей позвать! Николай Петрович, Христа ради - возьми, поезжай, привези немецких докторов, самого Самойловича привези!
И, схватив кошель, она попыталась сунуть его Архарову в руки.
– Не кричи, Дуня, - сказал обер-полицмейстер. - Я Матвея знаю, он давно уж… ч-черт…
Архаров, понятное дело, опять позабыл слово, означающее сборище докторов над постелью опасно больного.
– Не хочешь - сама по докторам поеду, - решительно объявила Дунька. - Агашка, одеваться! Крикни Фаддею экипаж закладывать!
– Поздно, Дуня, - тихо сказал Архаров.
– А ты, сударь, помолчи! Он совсем еще бодрый был, вовсю со мной любился! - без стеснения сообщила Дунька. - Мало ли, что занемог! Заплачу - вылечат!
– С ума ты сбрела? Там у него полон дом родни, дети прикатили, жена!…
– Что она, жена, понимает?!. Ну-кась, сколько этот старый дурень мне на панихиду оставил? Помоги-ка сосчитать!
Она высыпала на стол все содержимое кошеля. И замерла, приоткрыв рот. Среди золотых монет лежал дорогой перстень с большим сапфиром, окруженным бриллиантами. Дунька взяла его и уставилась на камень в непонятной растерянности.
Что-то, видать, значил для них двоих, отставного сенатора и девки из Зарядья, этот прекрасный перстень. Дунька опустилась на стул и, повалившись кулачками, грудью, лицом на кучку золота, зарыдала отчаянно, взахлеб, ничего не соображая.
Архаров понял - до Дуньки дошло, что спасение невозможно, хоть из Парижа врачей вези. Он подошел, протянул руку, чтобы похлопать по плечу - умиротворяюще, как полагается, когда рыдают. И не смог. Что-то в нем сидело, мешающее открытому сочувствию, как пробка, застрявшая в узком горлышке большой бутыли.
Да, случалось - и в его кабинете рыдали, от злобы ли, от страха ли, оплакивая потери, умоляя о снисхождении. Но те женщины для него делились на дам («Извольте успокоиться, сударыня») и на баб («Пошла, дура, вон!») Как быть с Дунькой - Архаров придумать не мог. Не баба, не дама… непонятно что… ведь не ждет же она, в самом деле, что на батистовое плечико ляжет тяжелая обер-полицмейстерская рука?… Не должна ждать… не до того ей…
И вспомнился афоризм про итальянку, англичанку и француженку. Гаврила Павлович, и умирая, силился понять, что же нужно Дуньке, какое диво ей явить, чтобы вызвать в ней любовь к себе. Итальянка ждала готовности на преступление, англичанка - готовности на безрассудство, француженка…
Думать о француженке Архаров не желал. А желал оказаться где-нибудь подальше от Ильинки. Женские слезы - тяжкое испытание для любого мужчины, Архаров же видел их крайне редко и они раздражали его безмерно.
Он как можно тише вышел в малую гостиную, где обнаружил Агашку с Саввишной. Они непременно подслушивали.
– Подите, утешьте ее как-нибудь, - сказал Архаров. - И хоть копейка со стола пропадет - со Шварцевыми кнутобойцами спознаетесь.
Такие угрозы ему всегда хорошо удавались - Дунькина дворня, хорошо наслышанная о нравах Рязанского подворья, перепугалась до полусмерти.
Архаров молча спустился с лестницы, вышел из дома, вздохнул - почти с облегчением.
Выдать Дуньку замуж… За Жеребцова разве? Служит честно, пьет в меру, да и жениться ему давно пора, который год вдовеет. Есть еще канцелярист Рябинкин, тоже поощрения заслуживает…
Архаров вздохнул. Избалованная Захаровым Дунька не пойдет за канцеляриста.
Да пусть бы шла за кого угодно! Со своей стороны обер-полицмейстер может собрать сведения о женихе - благонравного ли поведения, не обременен ли дурной родней. И даже добавить к приданому - не деньгами, нет, а сделать подарок. Денег эта упрямая дурища не возьмет, а от хорошего подарка не откажется.
Но, как будто у него иных забот не было, обер-полицмейстер, едучи к себе в контору, перебирал в памяти всех холостых полицейских подходящего возраста. Выдав Дуньку за кого-то из своих, он мог бы за ней как-то присматривать… но коли вздумает по вечерам, в сумерках, к нему бегать - гнать в три шеи.
Наиболее подходящими показались ему Степан Канзафаров и… Шварц.
Степан уживчив, сообразителен, способен на преданность, не угрюм при этом, жалование не тратит в первую же неделю и не побирается у канцеляристов, а налаживает свое хозяйство. Недавно вон знакомый купец на него пожаловался - взял самовар, а полностью не расплатился. Самовар - это основательно…
Шварц же почитал порядок, и семейство у него было бы образцовым. Опять же - долго ли он собирается Никишку пряниками кормить? Завел бы своих - вот и кормил бы их пряниками.
От Шварца мысль перескочила на похищенный стилет. От стилета - через труп Федосьи в подвале - к господину де Берни.
После бесед с Захаровым и с Волконским Архаров уже несколько иначе глядел на этого господина. Карточное шулерство - одно, шпионские затеи - другое.
И потому, выходя из экипажа и ступая на крыльцо полицейской конторы, он уже знал, что делать. Де Берни отсиживается дома, носу не кажет - стало быть, безнадежно выслеживать его можно, пока рак на горе не свистнет. Либо - пока полковник Шитов с семейством обратно в столицу не уберется.
– Арсеньева ко мне! Ушакова! - позвал Архаров. Подумал и добавил: - Ваню Носатого!
Когда эти трое явились на зов, Архаров начал беседу так.
– Все вы, голубчики мои, были в налетчиках, иначе не угодили бы в колодники. Надобно вспомнить прежнее ремесло и выкрасть мне одного человечка. Мне плевать, как вы это сотворите, хоть чертями рядитесь, но чтоб он у меня тут был. Ступайте, обдумайте все хорошенько.
– А как его, ваша милость, звать и где проживает? - спросил Тимофей.
– Тот самый господин де Берни, что из дому по крышам убегать наловчился. Возьмите там у Шварца все, что потребуется. Лошадей, экипаж - все получите. Пошли вон.
* * *
Федька извертелся, не зная, как умилостивить Клавароша, чтобы тот показал ему еще занятные приемы разбойничьего французского фехтования. Левушка - тот хотел развлечься, не более, потому что в столице он в драки не ввязывался, да и портить руку, вышколенную правильным фехтованием, не желал. Федька же как раз искал ухваток, пригодных в уличной драке.
Повести Клавароша в кабак - это было бы лучше всего, да только француз избалован Марфой, ему не во всяком дорогом трактире угодят.
Наконец Федька додумался угостить Клавароша макаронами. Марфа сильно задирала нос, гордясь своим умением стряпать, и разве что сладости брала у известного кондитера Апре. Модные макароны были дороги и как-то ниспровергали всю ее кухонную доблесть: никаких тебе хитростей и прабабкиных затей, а просто отвари в кипятке да приправь сыром пармезаном, вот и вся наука. Наука была даже Федьке по плечу, вот он и отправился на Никольскую к мусью Апре за макаронами. Там же заодно взял целых полфунта пармезану.
Варил макароны он сам - в доме, где снимал комнатушку, взял у хозяйки котелок, изумился его черноте, велел отдраить песком, и для пробы сварил с четверть фунта наломанных макаронин. Едово вышло унылое - разварилось. Федька подумал, вбухал в миску с деликатесом сметаны и съел то, что получилось, заместо каши.
Архаровцы все друг к дружке в гости бегали - не посыльных же отправлять, коли что надобно. Клаварош прекрасно знал Федькино местожительство в Столешниковом переулке. И позволил пригласить себя к обеду на заморскую диковинку.
Полагая, что водка идет ко всему на свете, Федька заранее запасся у Герасима замечательной водочкой собственного сиденья - анисовой и померанцевой. Француз, конечно, всему предпочитает красное вино, однако в хороших винах ни Федька, ни Герасим не разбирались, а в хорошей водке знали толк.
Клаварош по натуре был снисходителен и охотно дозволял людям заботиться о себе, пусть даже с некоторой неуклюжестью. Он, придя, съел тарелку макарон под толстым слоем сыра, похвалил, померанцевой водки отведал, а тогда уж Федька издалека завел речь о тайных ухватках.
Француз сказал, что знания с собой в могилу уносить не собирается, но большого рвения не проявил. Даже несколько погрустнел. Федьке, с его-то буйством чувств и здоровой, несокрушимой молодостью было не понять: у каждого ведь свое чудачество, вот и у Клавароша оно имелось, казалось ему, будто уроки французского уличного боя будут для него самого неким прощанием с собой прежним. Он уже после того, как при штурме Виноградного острова сердце взбунтовалось, был сильно напуган не столько грядущей смертью, сколько дряхлостью и неповоротливостью, вынужденной осторожностью во всех движениях и поступках, которой придется ныне придерживаться во всех областях жизни - и в амурной также. А Клаварош не желал уподобляться старцу, хотя уже заметно поседел.
Однако отказать Федьке он не сумел - уж больно пронзительной была мольба в Федькиных глазах. К тому же, архаровец прекрасно показал себя, когда поздним вечером на Пречистенке Клаварош учил поручика Тучкова взбегать на вражеское колено. У него получалось немногим хуже, чем у опытного фехтовальщика Левушки.
– Пойдем на задний двор, - сказал Клаварош. - И сними башмаки.
– Чулки тоже?
– Чулки? - Клаварош задумался. - Да, и чулки сними. И кафтан, и камзол. Будем упражняться в рубашках.
Сам он тоже разулся.
На заднем дворе они отыскали местечко с мягкой зеленой травкой, на первый взгляд вроде бы не изгаженное. Клаварош посмотрел по сторонам и подобрал с земли полешко.
– Будем учить «марсельскую игру», - объявил Клаварош и произнес по-французски уважительно: - «Же де Марсей». Это игра моряков на палубе. Биться надобно лишь ногами. Ударь сюда.
И он указал на конец полешка, который был примерно на уровне его пояса.
Федьке казалось, что это несложно. Не фехтование, чай, со всеми его тонкостями. Но оказалось - и тут надобна особая ухватка, чтобы не завалиться на спину. Потом произвели первую пробную схватку.
Клаварош, бесстыже пользуясь тем, что ноги у него длиннее, так и лупил Федьку ступнями по бокам, скача козлом, напрыгивая и отлетая, и все удары были выше пояса, как полагается по правилам, Федькины же удары приходились главным образом по бедрам противника.
Черная дворовая Жучка сперва глядела настороженно, потом принялась с лаем наскакивать на бойцов - без злобы, а просто желала принять участие в игре. Хозяйка, вышедшая с лукошком покормить кур, смотрела-смотрела, да и плюнула - чего с архаровцев взять, брыкаются, как жеребцы стоялые…
Федька уже наладился бить правильно, однако Клаварош прекратил поединок. Сказал «довольно», не объясняя причины, и лишь потом Федька понял, в чем беда: француз запыхался.
– Повесь в дверях клочок пакли на веревочке, поднимай выше и выше, - приказал он, когда вернулись в комнату. - Учись подходить прыжками и уходить прыжками. Сие несложно…
– Ага, несложно… - пробормотал Федька. Он представил, что подумает хозяйка, глядя на сии экзерсисы.
Но после ухода Клавароша он сразу добыл и веревочку, и паклю.
Француз растолковал ему, что сия марсельская игра ногами распространилась по всей Франции, но обогатилась за счет тех, кто ею занимался не на шутку и имел природные способности. Удар ногой в ухо, да еще ногой, обутой в башмак, сделался обычным в портовых кабаках. Но удавался он далеко не всем - неопытный боец, рискнув показать ухватку, мог запросто рухнуть на пол в обнимку с противником. И потому следует упражняться многократно, прежде чем позволить себе пустить в ход прием в настоящей драке.
Первый Федькин успех в деле доставания носком клочка пакли, висящего в дверном проеме и означающего вражье ухо, был закономерен - он порвал в паху узкие штаны.
Как все архаровцы, не имеющие жен и детей, Федька умел обращаться с иголкой. Наскоро зашив штаны, он положил себе вечером вновь заняться этим упражнением и поспешил на службу. Сегодня многое еще предстояло сделать. И, вернувшись к покинутому жильцами дому, он взялся за дело уже более толково.
Свой полицейский мундир Федька оставил в конторе, а взял у Шварца мундир пехотный да еще крепкую палку - изображать хромоту. За плечо он закинул мешок, набитый тряпками, на ноги натянул черные кожаные штиблеты, на шею повязал черный галстук, на голову напялил старую треуголку, и сделался похож на отставного солдата, пораненного в турецкой войне и бредущего искать хоть какую родню. В таком жалостном виде он стал обходить соседей и задавать вопросы.
О войне Федька имел туманное понятие, но полагал, что московские обыватели и такого не имеют. А пожалеть служивого - святое дело! Тем более, что Федька научился весьма правдоподобно кашлять с хрипом, как если бы ему турецкое ядро грудь пробило.
Этого несложного маскарада и заурядного предлога остаться на дворе подольше - «водицы попить не дадите ли» - хватило, чтобы узнать: Федькина придуманная на ходу родня в том домишке не проживает, а живет там почтенное семейство - хозяин, Иван Карпович Кутепов, трудился на соседней проволочной фабрике Ворошатина, трое его сынов там же учились ремеслу, одну дочку. Самую старшую, отдали замуж, младшая жила при родителях, женихов пока не находилось - девка еще в детстве окривела на один глаз. Была, понятное дело, и хозяйка - Федора Мартыновна. Всего выходило шестеро человек - и все они вдруг сбежали.
Федька уже малость разбирался в человеческих слабостях. Услышав про кривую дочку, он проявил немалое любопытство. И соседке, которая напоила его водой (четвертый ковш за недолгое время розыска, так что Федька уже ощущал неловкость), он сказал, что с лица не воду пить, а для разумного человека, желающего взять замуж девку из хорошего семейства, главное - чтобы работы не боялась.
Хотя Федька и очень старался изобразить помирающего, однако его красивое лицо и широкие плечи вызывали в бабах какое-то странное сострадание - всем тут же хотелось его женить. Соседка, баба в том самом возрасте, когда страшно хочется стать известной на всю Москву свахой, тут же принялась расспрашивать Федьку и услышала немало вранья, в том числе - и про богатого дядьку, которому он, возможно, единственный наследник.
Соседка полюбопытствовала, где Федька эту ночь ночует, и предложила свой дровяной сарай, куда можно кинуть тюфяк и одеяло, а ужином, так и быть, покормит. Федька, разумеется, согласился, и тогда она, оставив его у дверей сарая, куда-то унеслась - не иначе, делиться с подружками знатной новостью.
Федька уселся на колоду для колки дров и стал ждать. Однако дождался кое-чего неожиданного.
К нему из дому вышла девка-перестарок. Демка, знавший в девках толк, научил его как-то, что смотреть надобно не на стати и не на румянец, а на глаза - они первым делом выдают возраст, у тридцатилетней таких глаз, как у двадцатипятилетней, уже не будет.
– Ты, служивый, погоди-ка к Лушке Кутеповых свататься, - сказала она, и Федька сразу понял - подслушивала у открытого окошка.
– Да я и не думал, - отвечал он. - Я вот поживу, огляжусь, высмотрю себе пару, чтобы хозяйка была. Мне за молоденькими гнаться не резон. Женюсь, подлечусь, непременно хочу детишек завести.
– Ты о Лушке и не думай. Детишек-то она тебе нарожает - да всех от Афоньки Гуляева!
– Да я и сам не хвор детишек понаделать! - возразил Федька.
– Ты-то, молодец, не хвор, а с ним она уж так спелась - дальше некуда! Бегать к нему повадилась через забор! Жениться-то он не может, так они и без венца!
– Женат, что ли?
– И женат, и крепостной. Там в заведении много крепостных служит.
Девка показала рукой, и Федька догадался - речь идет о Воспитательном доме.
– Нет, такая невеста мне не требуется, - уверенно сказал он. - Чертям бы любить такую невесту. Впервые слышу, чтобы девка к полюбовнику через забор скакала, да еще в заведение! Куда ж мать смотрела?
– Так мать-то и заметила. И стали ее запирать. А она как с цепи сорвалась - я слышала, как она кричала. Никому, говорит, я такая не нужна, один только человек сжалился! Ну, дядька Иван ей оплеух надавал, ее вовсе из дому выпускать перестали.
– Ишь оно как, - заметил Федька. - Вот коли добрые люди не подскажут, то и попадешь, как кур во щи. Попить ничего не найдется? Водицы или кваску бы.
При этом он постарался сделать умильное лицо, хотя с немалым трудом, - ибо, коли пришлось бы выпить еще ковшик, архаровец неминуемо бы треснул.
– Сейчас квасу вынесу!
Девка убежала в дом, а Федька подхватил свой мешок и дал деру.
До дверей Воспитательного дома он несся бегом. Когда добежал - сообразил, что несся напрасно. Когда является полицейский в мундире - и то не всегда услышит любезные речи. Служивого же могут просто погнать в шею. Но Федька отважно вошел в огромное здание, был задержан привратником и стал бурно требовать своего родного брата Афоню Гуляева. Брат, как оказалось, трудился истопником. Пошли его искать - и нигде не обнаружили. Оказалось, что с утра его никто не встречал.
Тут Федька и догадался, чей труп вынули из колодца.
Теперь следовало бежать в контору, диктовать донесение и объявлять розыск семейства Кутеповых, сбежавшего в неведомом направлении.
По дороге Федька решил заглянуть к Феклушке - может статься, она что-то про тех Кутеповых могла рассказать.
Отворив дверь, он прирос к порогу, разинув рот и не находя в голове ни единого слова.
Скес, завернувшись в одеяло, сидел у печки, держа в охапке годовалого парнишечку. Дитя отчаянно ревело, Яшка же тряс его, находясь в крайней степени остервенелости. Девочка лет четырех выглядывала из-за пестрой занавески. Рядом со Скесом стояла на скамье квашня, накрытая не больно чистой тряпицей, и в дома пахло хлебной закваской. Одна эта квашня уже много могла рассказать о Феклушке - обычно бабы ставят тесто на ночь и пекут хлеб спозаранку.
– Яша! - сказал наконец Федька. - Ты, хрен те промеж глаз, тут что делаешь?!
– Не видишь, что ли? - отвечал Яшка. - Дитя баюкаю! Мамка, гадюка семибатюшная, умелась куда-то, детишек бросила!
И громко чихнул.
– А ты?
– А я ее дожидаюсь. Она мое лопотье куда-то укоробала.
– Твое лопотье у пертового маза в кабинете!
Яшка чуть не уронил младенца.
– Настя, прими братца! - крикнул он. - А то от его крика уже голова раскалывется. Тащи его на двор!
Девчушка осторожно вышла из-за занавески, взяла младенца в охапку, спиной к себе, брыкливыми ножками наружу, и потащила из дома.
Архаровцы вздохнули с облегчением.
– Какого беса ты за Марфой следил? - напрямик спросил Федька.
Скес уставился на него круглыми глазами. Он никак не мог соединить вместе появление своей одежды в полицейской конторе и чрезмерную осведомленность Федьки.
– Марфа ваша - стерва, каких мало, - сказал он наконец. - Марухой Каиновой была, марухой и осталась, масовка чертова.
– А с чего ты взял?
– А с того, что к ней Каин ходит!
– Кто?!
– Осипов Иван Иваныч, - издевательски выговорил Яшка. - Давно не встречались? Потолковать с ним не угодно ли?
– Каин вернулся?
– Ну, коли не Каин, так его братец родной. Уж больно похож. Да и кто бы другой стал тайно к Марфе спозаранку бегать?
– Вот оно что! - Федька и в восторг пришел, и не умел скрыть внезапной зависти. - Как же ты это додумался за Марфой следить?
Яшка опять чихнул.
– Думал - сдохну, - пожаловался он. - Хорошо, у них там старые мешки лежали, я в мешки завернулся. Сволочи… Нужна мне больно их Лушка!
– А Устина-то зачем ушатом треснул? - спросил Федька.
– А ты почем знаешь?
– Насквозь вижу, как пертовый маз.
– Устина?! - тут только до Яшки дошло, что он чуть не угробил товарища.
– Его, болезного. Лежит сейчас в верхнем подвале, ему Чкарь какой-то травки заварил. Ну так что ж Марфа?
Скес поплотнее закутался.
– С тобой, поди, тоже бывало - ищешь одно, находишь иное. Я хотел докопаться, что за драгунскую роту она кофеем поит, а Каина встретить не чаял.
– Так надобно пертовому мазу поскорее донести.
– Не пойду ж я в одеяле через всю Москву!
– Не так уж далеко идти-то. Пусть думают, будто пропился или в карты проигрался, - сказал безжалостный Федька.
– Сам этак пропивайся!
– Погоди, мне в чулане чего-то в мешок понапихали, может, хоть какие портки там лежат?
Федька быстро развязал свой «солдатский» мешок. Там лежали вещи, по отдельности представлявшие какую-то ценность, но совершенно несовместимые: старая мужская ночная рубаха, бабья нижняя юбка, полотенце, детский тулупчик.
– Вот ведь треклятая баба, - пожаловался Скес. Федька понял - это он про Феклушку. А как еще назвать женщину, которая, бросив двоих детишек, куда-то вдруг умчалась? Конечно, девочка может присмотреть за братцем, но ведь кашу варить она еще не обучена.
– Ну, Скес, либо тебе в бабье лопотье наряжаться, либо сиди тут, нянчись с детишками, а я в контору побегу, - сказал Федька. - И принесу тебе твое добро. Не тоскуй! Я единым духом!
Но Яшке пришлось ждать его часа этак полтора.
Феклушка за это время так и не появилась. И потому, когда Федька принес Скесу одежду, оба оказались в превеликом затруднении - как быть с детьми? Не тащить же их с собой в полицейскую контору!
Они уже поняли, что с Феклушкой стряслась какая-то беда.
– Ты Зарядье лучше моего, поди, знаешь, - сказал Федька. - У кого тут детишек с дюжину? Мы этих туда отнесем, дадим бабе пятак - она ж еще за нас Бога молить будет. А к вечеру, может, твоя кубасья сыщется.
– Да какая она моя? - разумно спросил Скес, натягивая чулки. - А детишки есть у Марьи Легобытовой. Дюжина не дюжина, а душ десять будет.
Легобытовы жили у Варварских ворот. Вроде и недалеко, однако тащить туда перепуганных ревущих детишек - удовольствие сомнительное. Да еще со всех сторон народ орет: «Ишь, архаровцы-то! Уж и младенцев к своему душегубу в подвал тащат!» Даже солнышко было Скесу не в радость - у него хватило дури после подвального сидения забраться в Феклушкин дом, а не пристроиться греться хоть б на завалинке, и он поминутно чихал.
Наконец дошли.
Марья Легобытова, как всякая баба, нарожавшая детей, счет деньгам знала и за пятак присмотреть не согласилась, хотя Федька клялся - это лишь до вечера!
– Да где ж ты цену-то такую взял - пятак?! - сердито спрашивала она. - Такой цены отродясь не бывало! Пятак - что? Калачей пару купить! Сам за пятак дитя пеленай!
Переговоры эти она вела, стоя в раскрытой калитке и загораживая вход во двор, где и точно с визгом носилась целая рота детишек. Двое парнишек сунулись было к ней, она повернулась к ним, внезапно разозлясь:
– Купаться? Какое еще купаться?! Утонуть захотели, как Фомка Шкуриных?! Вон, по сей день утопленничка-то ищут! Не пущу!
– До вечера-то за ними посмотреть! Ты их и не заметишь, они с твоими бегать будут! - спорил Федька. - Да коли не хочешь - я вон у паперти их посажу, у Всехсвятского храма, за ними старушки приглядят и пятак получат!
– За пятак-то? - баба призадумалась. Когда дома такая орда - всякая копейка в дело идет, а жилось семейству Легобытовых несладко - были они мастеровыми, и то не московскими, а пришлыми. Купец Пивоваров сперва в селе Кунееве Алатырского уезда завел фабрику по выделке лосиных и замшевых кож, дело пошло успешно, он и вздумал, что нет смысла те кожи продавать - а умнее на Москве завести перчаточную фабрику, благо рабочих рук много - после чумы немало мануфактур позакрывалось, обученные мастеровые, что выжили, без дела сидят. Но, рассудив здраво, он не стал брать балованых москвичей, а привез своих, кунеевских, которые против него и пикнуть не смели, сколь мало бы ни платил.
– Ну, еще копейку накину, - опрометчиво пообещал Федька и вовремя поймал за плечо Феклушкину девчонку, попытавшуюся сбежать. Яшка ткнул его в бок, но было поздно - баба учуяла слабинку.
– Копейку? Сдурели вы, молодцы! Знаете, сколько теперь платят, чтобы дитя нянчить? За одно в день - пятак!
– Это кто тебе наврал? - возмутился Скес и звонко чихнул. - Вот уж таких цен точно не слыхано.
– Ты той бабе скажи, что дурища она стоеросовая, - добавил Федька. - Сама не знает, какую околесицу несет.
Марья Легобытова сильно возмутилась.
– Околесицу? Да сама же я условилась по пятаку в день за дитя, и на моих хлебах, и мне же обстирывать! А вы мне за двоих пятак сулите!
– Так ведь не на весь день! - воскликнул Федька, и тут Скес перебил его:
– Каких это ты детей взялась на своих хлебах обихаживать? Покажи - тогда поверим!
Федька удивился - можно было подумать, что Скес знал в лицо всех парнишек и девочках в коротких рубашонках, что превесело галдели на дворе, играя с собачонкой, перекидываясь тряпичной куклой и гоняясь друг за дружкой. Но рыжий архаровец глядел на бабу с какой-то неожиданной тревогой.
– Детей как детей - парнишку и девочку…
– Давай-ка их сюда! - потребовал Скес.
Тут и до Федьки дошло - парнишка и девочка! Не те ли, что пропали вместе с Федосьей Арсеньевой! Так Федосья-то сыскалась - в подвале, заколотая украденным ножом, а дети - нет…
– А какого лешего я стану вам их выводить? Или я у себя на дворе не хозяйка? - спросила Марья Легобытова. - Пошли вон отсюда! Соседей вон позову! Слыхано ли дело - архаровцы уж детей хватают!
Она захлопнула калитку и пошла загонять детишек в дом.
– Скес, стой тут, - сказал Федька. - Гляди, как бы не увела. У меня ноги длиннее, я вмиг до конторы добегу!
И отскочил, потому что Яшка тут же попытался всучить ему завернутого в одеяло Феклушкиного сынишку. Дитя, успокоившееся было, от резкого движения опять заревело.
Федька опрометью кинулся бежать.
Он ворвался в полицейскую контору, все снося на своем пути, и был остановлен у самых дверей архаровского кабинета невозмутимым Тимофеем.
– Да пусти ж ты! - закричал Федька. - Я детей твоих сыскал! Пусти! Нужно взять наших, идти вызволять их!
– Что ты врешь! - возмутился Тимофей. - Как ты мог их сыскать?! Ты за Скесом же отправился!
– И Скеса сыскал, и детишек сыскал! Пусти, Христа ради! Спешить надобно!
На шум вышел сам Архаров, выслушал доклад и послал вместе с Федькой Максимку-поповича, Клашку Иванова и Евдокима Ершова.
– Еще будешь так вопить - к Шварцу вниз отправлю, - пригрозил он беззлобно. - Знаешь ведь, что шума не люблю.
– Шума более не будет, ваша милость! - отрапортовал Федька. И соврал.
Когда полчаса спустя Архарову пришлось вдругорядь выйти из кабинета, гомон стоял - как будто Рязанское подворье загорелось.
– Это что еще такое? Ты Воспитательный дом налетом брал, что ли? - возмущенно спросил Архаров, указывая на Федькиных пленников.
Пленников было тринадцать человек - Марья Легобытова и дюжина детишек, из них трое - на руках у Скеса, Евдокима Ершова и самой Марьи.
– Чертова баба не признается, кого ей дали на кормление! И детям велит молчать! Говорит - архаровцы-де пороть будут! - отвечал Федька.
– Так они ж не молчат, они ревут, как телята! Во двор их всех веди, а бабу - ко мне.
Марья так и рухнула на колени - уж больно свирепо на нее поглядел обер-полицмейстер.
– Ваша милость, может, Тимофей своих признает? - спросил Скес. И тут же Тимофей явился - взволнованный и грозный.
– Разбирайся с ними сам, - сказал ему Архаров. - Батька, любить бы тебя конем!
Из дюжины ребятишек трое по возрасту худо-бедно годились в Тимофеевы сыновья, четыре девчушки - в дочки. Одна из них, правда, была Феклушкина Настя, и Скес отвел ее в сторонку.
Тимофей глядел на парнишек озадаченно. Они его тоже не торопились признавать - а может, просто были сильно напуганы.
– Во двор, во двор, - повторил Архаров. - Все во двор, а ты, баба, ко мне.
Марью подняли и втащили в кабинет.
– Рябинкина сюда, - распорядился Архаров. - Федя, ты тоже останься. Ну, говори теперь, как ты понял, что у нее Тимофеевы дети?
– Это Скес додумался, - честно признался Федька. - Она про них проболталась, потом перепугалась и показывать не хотела. А коли от нас что-то прячут - значит, оно нам и надобно!
Архаров невольно улыбнулся.
– Кто к тебе привел детей? - спросил он Марью, пока еще не слишком грозно. - Говори, не бойся. Скажешь правду - ничего тебе не будет.
Баба молчала.
Федька глядел на нее с надеждой. Архаров же вспомнил вдруг, как молчала Фимка Курепкиных: во-первых, потому, что не верила, будто обер-полицмейстер в споре между ней и полицейским встанет на ее сторону, а во-вторых, потому, что ее запугали.
– Рябинкин, ты пока не пиши, - приказал Архаров. - А ты… как ее, Федя?
– Марьей звать, ваша милость.
– Ты, Марья, не бойся ничего. Даже коли к тебе ребятишек привет кто-то из моих служащих, говори прямо. Может статься,это не те дети, которых мы ищем. Тогда тебе тем более нет резону что-то скрывать.
Он вздохнул - в кабинете было душно. Похоже, собиралась гроза. Страшно хотелось снять тяжелый кафтан. Но у Архарова было свое понимание смысла одежды: ежели ты в кафтане с галуном, то являешься обер-полицмейстером, а ежели в одном камзоле - то уже Бог тебя ведает, кто ты, может статься, и самозванец.
Марья ничего не ответила - только глядела в пол. Ее лицо - обычное лицо бойкой, здоровой, крепкой бабы, чуть за тридцать, прекрасно рожающей и выкармливающей детей, стало тяжелым и тупым. Архаров знал это выражение, которое он для себя определил не совсем светски, зато метко: каменная задница.
Такое лицо много говорит человеку понимающему.
Марья решилась стерпеть все. Выть от боли - но молчать. Ради чего ж такие страсти? Ради чего женщина приносит себя в жертву?
Дети - понял Архаров, кто-то пригрозил ей, что если будет много болтать - недосчитается детишек.
И коли она полагает того человека архаровцем, то есть - верит в его безнаказанность, то и получится сейчас, как с той Фимкой… Ан нет, не получится!
– Коли тебя Михайла Дементьев запугал…
Один только взгляд кинула на Архарова Марья, но обер-полицмейстер понял - попал точнехонько в цель.
– Рябинкин, сходи, приведи нам Дементьева, - приказал он. - А ты, коли признаешь, говори прямо. Вот те крест - ничем тебе это не грозит.
Обер-полицмейстер перекрестился.
Федька затаил дыхание и молил Бога, чтобы все вышло, как задумано.
Вернулся Рябинкин, следом вошел старик Дементьев.
– Этот? - спросил Архаров.
Марья уставилась на канцеляриста, приоткрыв рот.
– Я тебя страшиваю - этот привел к тебе ночью детей и уговорился, что они пока у тебя поживут? Этот пугал тебя, что коли кому разболтаешь - будет плохо и тебе, и детям, и мужу твоему?
– Нет, нет, не он это, Господь свидетель, не он! - наконец воскликнула женщина, и Архаров понял - она будет говорить!
– А другого Дементьева у нас нет. Тебе, Марья, мазурики голову морочили.
Она ничего не ответила. И ее лицо вновь приобрело известное Архарову тупое выражение. Это означало: да не все ли равно, кто назвался Дементьевым, коли это полицейский - правды не добьешься, а коли мазурик - полиция от него не защитит, потому что архаровцы только безобразничать горазды.
Что теперь делать - обер-полицмейстер не знал. И уже был сильно недоволен Федькой, поднявшим шум и притащившим в палаты Рязанского подворья бабу с детьми. Ну, куды их теперь девать? Коли Тимофеевых ребятишек оставить, а прочих вернуть, откуда взяли, - мнимые полицейские просто пересчитают детей во дворе и поймут, что случилось. Тогда Марье не жить. Вот ведь как расправились с Федосьей - и без всякой видимой причины.
Тут вспомнился Демка…
Архаров многое понимал - он и то понимал, что Демка затосковал о прежней жизни. Затосковал, а тут подвернулся этот проклятый Семен Елизаров, поладили, кто-то третий еще к ним пристал. А тут еще и Федосья… Но неужто больше нечем было порешить бабу, кроме как ножом, нарочно утащенным у Шварца? Этот проклятый стилет портил складную картину - а еще ее портило Демкино лицо. Может, Демка не сказал обер-полицмейстеру чего-то важного - но ведь и лжи в его словах, кажется, не было. Если он уже давно связался с Елизаровым, так, может, Елизаров по его просьба Федосью завел в подвал и прикончил, а детишек - к Марье Легобытовой? И потому столько правды было в его словах о собственной невиновности?
Даже когда утверждал, что никак не связан со Скитайлой…
– Послушай-ка, Марья, - обратился Архаров к женщине. - Как вышло, что именно к тебе детей привели? Что же - этот фальшивый Дементьев заявился нежданно-негаданно, ни с того ни с сего тебе детей отдал, а ты их и взяла? Кто его к тебе послал?
И негромко приказал ничего не понимающему Дементьеву:
– Ступай, старинушка, не до тебя. Ну, Марья, в последний раз спрашиваю - откуда дети взялись?
Ответа он не дождался. И неудивительно - страх перед убийцами был куда как сильнее доверия к полиции.
– Хорошо, - сказал Архаров. - Будешь с детьми жить тут, в Рязанском подворье. Тут они будут безопасны, да и ты с ними вместе. Прокормим как-нибудь. Покамест не изловим мазуриков… Эй, кто там есть! Филю Чкаря ко мне!
Марья уставилась на обер-полицмейстера, явно не в состоянии понять, что такое он ей предложил.
– Ступай отсюда, - велел ей Архаров. - Пока будешь на дворе с детьми, потом найдем для вас место.
Баба повернулась и пошла к двери. Уже не по лицу, а по затылку Архаров видел - ей тяжко и страшно, впуталась в загадочные игры мужского мира, тогда как ей жить бы в своем женском мире, нянчить детей, варить щи да носу оттуда не высовывать.
Он пошел следом и сопроводил Марью на двор, где под присмотром Скеса стояли в уголке притихшие дети - старшему парнишке лет тринадцать, младший в пеленках.
Тут же был Тимофей, сидел на каком-то чурбане, держа на колене девчушечку и беседуя с худеньким, белобрысым, чем-то похожим на Демку отроком.
Марья выхватила у Яшки свое дитя, тут же, не стесняясь, развязала шнурок, стягивавший ворот рубахи и, отвернувшись, выпростала грудь и стала кормить.
– Ваша милость! - устремился к Архарову Яшка.
– Потом, потом. Нашел-таки своих? - спросил Архаров Тимофея. Надо было расспросить Скеса, какого черта он следил за Марфой, но сейчас важнее было иное - что, коли сын Тимофея видел убийцу своей матери?
– Нашел, ваша милость, - спустив дочку наземь и вставая, отвечал Тимофей. - Вот как с ними дальше быть - ума не приложу.
– Сколько же их? - оглядывая малышню, спросил Архаров. - Яша, доложи-ка!
– Двое Феклушкиных, ваша милость, да двое Тимофеевых, да восьмеро той бабы. Так, ваша милость!…
– Потом, Скес, не до тебя. До тебя я еще доберусь! Ну-ка, Арсеньев, дай и мне с твоим сыном потолковать.
– Не бойся, Епишка, - сказал Тимофей. - Господин обер-полицмейстер будет спрашивать, ты знай отвечай, как попу на исповеди.
– Пойдем, Епишка. И ты Арсеньев, с нами. Так ему веселее будет отвечать.
По дороге в кабинет Архаров крикнул, чтобы позвали Шварца - в расчете на постоянный пряник в кармане его кафтана.
У двери ждал Чкарь.
– Ставь на довольствие еще дюжину душ, - велел Архаров. - И чтоб сала в кашу не жалел. Вот рубль - бочку солонины возьмешь, да хорошей, круп, капусты, завтра же сваришь щи. Придумай еще, где эту дюжину разместить.
– Колодников тоже щами кормить? - спросил несколько удивленный распоряжением Чкарь.
– Черт с ними, - подумав, отвечал обер-полицмейстер. - Коли что останется - дай и колодникам. Авось который-нибудь на радостях в разум войдет и правду скажет. Заходи, Епишка, и садись. Арсеньев, подвинь ему стул.
Тимофей выполнил приказание, а сам встал в сторонке.
Архаров занял свое место за столом, Епишка - напротив.
– Ну, молодец, расскажи-ка ты мне, как вы с мамкой в Москву пришли, - издалека начал Архаров.
Ему уже случалось расспрашивать детей, и он знал - надобно так подвести младенца к сути дела, чтобы он сам вольно и безмятежно высказал все необходимое, а не отвечал односложно на вопросы.
Епишка сперва дичился, пусть до Москвы описал просто: шли, шли да и пришли. О московских приключениях до попытки отыскать отца в полиции тоже сказал лишь, что кормились подаянием.
– А когда вы расположились на улице ночевать, а господа вас разбудили и велели прочь идти? - подсказал Архаров. - Помнишь? Еще мамке велели наутро идти к острогу, а ночевать - в заброшенные дома? И дорогу указали?
– Так мы и пошли, - отвечал Епишка. - И в дом вошли, и там легли, а потом пришел дядька, стал с мамкой говорить. Да я не слышал почти, я спал.
– А как проснулся?
– Проснулся… Мамка разбудила, хлеба нам с Аксюткой дала, потом мы пошли и на двор пришли, там нам в сарае жить велели.
Спрашивать об улицах и переулках было безнадежно - иной москвич и сам их поименно не знал, а называл по фамилии знатного либо всем известного человека, в том переулке обосновавшегося.
Стало быть, человек, пришедший в заброшенный домишко у китайгородской стены, сразу Федосью убивать не стал. И это Архарова не обрадовало - получалось, что Демка, коли это был он, мог на следующий день все обсудить и с Тимофеем, и с прочими бывшими мортусами. Что наводило на мысль о заговоре в стенах Рязанского подворья…
– И что мамка говорила?
– Что добрые люди нашлись, батю нашего знают, обещались к нему свести.
– А что за добрые люди? Сам ты их видел?
– Видел одного - в таком кафтане, - Епишка показал на отца. Тимофей как раз был в полицейском мундире.
– И ростом был с батьку?
– Нет, пониже.
– Говори, «ваша милость», дурень! - наконец-то вразумил свое чадо Тимофей.
Архаров попытался узнать, на кого были похожи те добрые люди, но Епишка только смутился и растерялся.
Рассказал он, если вдуматься, немного: что Федосья наутро после той ночи, когда ее, как полагал Архаров, отыскал Демка, была жива, и что к тетке Марье сама же она детей и отвела, а кто с теткой Марьей сговаривался - того Епишка не знал. И когда мать вечером уходила - тоже ничего не объяснила, зовут-де знающие люди - вот и пошла.
Получалось, что Демка неведомо когда сговорился с мнимыми полицейскими и, возможно, образовалась шайка, в которую входили Демка, Скитайла со товарищи, Семен Елизаров и человек по прозванию Фальк. Демка снабжал шайку новостями об охоте на сервиз мадам Дюбарри. А кто-то из шайки взял на себя тяжкий грех - избавил от законной супруги полицейского Арсеньева… или же сам Демка?…
Но кто же тогда разделил сервиз на части? И кто, а главное - по какой причине убил Скитайлу? И что означает стилет?
– А ты бы того доброго человека признал, что мамку увел? - спросил Архаров.
– Признал бы, - уверенно сказал Епишка. - Он на нашего пономаря дядьку Кондрата сильно похож.
Вошел Шварц.
– Простите, ваша милость, что замедлил. Там от доктора Воробьева человек был.
– Что Абросимов?
– Скончался. Царствие ему небесное.
Шварц был неподдельно огорчен, хотя старался выглядеть невозмутимым, ибо чувства не должны мешать службе. Они с Абросимовым лет двадцать были знакомы, охотно сиживали во дворе на лавочке, вспоминая былое, и вот старого полицейского не стало. В Шварцевы годы терять приятелей - не просто печально, есть в этом некая обреченность - ведь новых уже не заведешь.
Архаров хотел было похлопать немца по плечу, да удержался.
– Царствие небесное, земля ему пухом.
– Царствие небесное, - сказал и Тимофей. - Бог даст, мы за него посчитаемся, ваша милость.
– Бог даст, - согласился Архаров. - Пряника у тебя, Карл Иванович, не найдется?
Шварц молча добыл из кармана пряник в виде лошадки и протянул Архарову. Архаров отдал лакомство Епишке. Тот посмотрел на отца.
– Ешь, - смущенно сказал Тимофей. - Он на меду замешан. Да с Аксюткой поделись.
– Смею предположить, что дитя впервые в жизни видит сей предмет, - заметил Шварц. - Кроме того, смею предположить, что дитя нуждается в чистой одежде и густом гребне, чтобы вычесать из волос все лишнее.
– Займись этим, Арсеньев, - приказал Архаров. - Что там еще? Скес, тебе чего надобно?
Он собирался было спросить наконец, какого черта Скес выслеживал Марфу, но не успел.
– Ваша милость! - боясь, что опять прикажут замолчать, воскликнул Яшка. - Каин вернулся!
* * *
Соседки считали Феклушку никчемной бабенкой. Не было в ней основательности, как полагается матери семейства, а были одни глупости в голове - соседки подозревали Феклушку в многочисленных изменах мужу, и из всех приписываемых ей любовников половина уж точно пользовалась ее благосклонностью. И это бы еще полбеды - кто без греха и какая кума под кумом не была? Феклушка считалась плохой хозяйкой, из тех, о ком говорят: «Видать, наша Авдотья пироги пекла - все ворота в тесте». Любопытно, что к Марфе, которая как раз была безупречной хозяйкой, зарядские кумушки относились куда строже - заглазно, конечно, потому что Марфы они побаивались.
Особенно доставалось Феклушке за то, что она могла оставить дома детей одних и ухлестать куда-нибудь на торг, да и пропасть там часа на два. Но это в ее положении было неизбежной бедой - не имея дома старой бабки, чтобы присмотрела за годовалым Ванюшей и четырехлетней Настенькой, Феклушка не знала и мелочного бабкиного надзора. К тому же, Настя росла умницей и вполне могла сама управиться с братом - дать ему кусок хлеба или помочь сходить по нужде.
Но в этот день Феклушка, вернувшись домой, прониклась собственной значимостью - сам обер-полицмейстер послал за ней двух архаровцев, и всякое ее слово было ими выслушано с огромным вниманием. Притом же оба были ей приятны: плечистый Федька мог бы почесться красавцем, хотя несколько на цыганский лад, а светловолосый Устин понравился улыбкой и обхождением.
Расставшись с архаровцами, Феклушка проделала все то, о чем ее просили - прогулявшись по двору, показала, как, по ее мнению, мог уйти спозаранку Яшка-Скес. А потом… потом на нее тоска напала. Вот ведь живут полицейские - не привязаны к фабрике и своему рабочему столу, как Феклушкин законный муж, не привязаны и к лавке, как знакомые сидельцы, к печи и квашне тоже не привязаны. А ходят по всему городу, с людьми встречаются, новости первыми узнают, каждый день - что-то иное. И все, как на подбор, молодцы! (Феклушка, не будучи красавицей, была весьма снисходительна к мужскому полу: всяк чуть покрасивше эфиопа уже был для нее молодец хоть куда).
Достав подаренный Шварцем пряник (Шварц долгонько таскал его в кармане, лакомством уже можно было, поди, и гвозди заколачивать), Феклушка отгрызла край и вздохнула. Не так часто получала она подарки от молодцов - а немец, по ее разумению, еще был весьма пригоден для амурного дела, только притворялся деревянным. Да и все Рязанское подворье ей понравилось - вот где кавалеров-то!
Совесть Феклушкина была чиста - главный ее грех, измены законному супругу, не входил в список проступков, за которые карали светские власти. Так что полиции она не боялась нисколько. И ей даже захотелось сотворить нечто, достойное похвалы Архарова, Шварца, Кондратия Барыгина и даже Вакулы, который, как она заметила, тоже выразительно на нее поглядывал.
Как-то так вышло, что она, малость повозившись по хозяйству и поставив тесто, прошла тем же путем, что Яшка, и вышла к той же самой летней кухне - разве что не забрела в крапиву.
Такова была Феклушкина удача, что явилась она к Марфе на двор вовремя - хозяйка собиралась прочь, давала последние наставления инвалиду Тетеркину и ругалась, что он не сходил на Варварку и не взял для нее извозчика. Феклушка слышала ее молодой звонкий голос, доносящийся из раскрытого окна, хотя не все слова разобрала. Но вот что показалось ей любопытным - Марфа торопилась, потому что некоторые знатные особы ждать ее-де не станут.
Вот и вышло, что Марфа пошла со двора, а Феклушка - за ней следом. Она только сняла грязный передник, повязанный по-простому, над грудью, сложила его поплотнее и понесла,словно бы сверточек с ценным имуществом.
Феклушка сопроводила соседку до Ильинки, где испытала некоторое разочарование - запыхавшаяся Марфа вошла в дом бывшей своей воспитанницы Дуньки, ныне живущей с богатым стариком. Ей стало даже жаль потерянного времени - очевидно, Марфа назвала Дуньку знатной особой, чтобы ее упреки Тетеркину прозвучали более весомо.
Но далеко уйти от Дунькиного дома ей не удалось. Ее окликнула кума Улита, которая спешила в модную лавку за фарфоровой табакеркой - мужу в подарок на именины. Кума жила не так чтобы очень далеко - у Покровских ворот, но у нее, как у Феклушки, были маленькие дети, хозяйство, и встречаться им доводилось нечасто.
При таких редких встречах всякая мелочь радостна и приятна. Кумушки встали в таком месте, где их бы не задевали прохожие, на паперти Николаевского храма, - а прохожих на Ильинке даже в жаркую летнюю пору было много, зимой же здесь устраивалось настоящее модное гуляние с дорогими нарядами, великолепными санями и породистыми лошадьми.
И простояли-то, казалось, лишь минутку, но за эту минутку Марфа успела переодеться в нарядное платье со шнурованьем, Дунька с Агашкой высоко взбили ей волосы, закрутили и уложили длинные букли на затылке, нарумянили ее и напудрили, облили духами. Когда Марфа во всем этом великолепии вышла на крыльцо, Феклушка обомлела - не могла понять, как люди переодеваются с такой скоростью.
Марфа, как всегда, была в наряде ярком, видном за версту, ей казалось, что это и есть настоящая роскошь - блестящие ткани густых цветов и драгоценности - по фунту золота в каждой сережке, а сочетание оттенков значения никакого не имеет. Но камни в ее серьгах, кольцах и браслетах были на зависть всей Москве.
Привратник Петрушка поймал для нее извозчика, помог забраться в бричку, и Марфа покатила, как самая знатная боярыня, глядя на прохожих свысока.
Кума Улита была наслышана о Марфиных подвигах. Вот коли бы сводня явилась на улице в монашеской ряске и не накрашенная - тогда бы, пожалуй, стоило удивляться. Так что кумушки проводили бричку неодобрительными высказываниями и собрались уж вернуться к занимательному разговору, но тут острые Феклушкины глаза углядели недоразумение.
Улица Ильинка была не совсем ровна и не больно широка, экипажей по ней проезжало множество, и вот среди них затесалась какая-то долгая и грязная фура, проделавшая немалый путь и управляемая кучером, плохо знающим московские порядки - иначе он постарался бы доехать до нужного места более удобными улицами. Что уж там было увязано под рогожами - одному Богу ведомо, потому что всякого товара в Москву везли много и отовсюду, не только на склады и в лавки, но и на фабрики: из Санкт-Петербурга - книги и фрукты, из Воронежа - шерсть, «железный товар» - из Тулы и Ярославля, из Тулы же и города Мещерска - «шпажный товар», дорогие ткани - из Германии, Англии, Голландии и Китая, меха - из Сибири, вино - из Реверя, куда оно прибывало морем, рыбу - из Астрахани и Саратова, а из небольших подмосковных сел и городов, названия коих и упомнить все невозможно, везли ткани попроще, местной работы, - «фланское» полотно, затрапезную пестрядину, армейские сукна, а также немецкие ситцы, набойку которых делали на русский лад. Оттуда же поступали и кожи, и москательный товар, и водка, и сахар, и глиняные горшки.
Фура, неловко поворачивая в Никольский переулок, застряла, перегородив улицу, и застряла, будь она неладна, надолго. Экипажи тут же выстроились в ряд, не имея возможности развернуться - да и как разворачиваться на этаком пространстве запряжке в шесть лошадей?
Марфа, надо полагать, сильно спешила. Она слезла с брички и, обойдя фуру, пошла вниз по Ильинке - возможно, искать другого извозчика. С паперти храма эти маневры были Феклушке хорошо видны. Она только упустила Марфу из виду, когда та завернула за фуру.
Феклушка сообразила, что по обе стороны перекрестка экипажи и телеги собьются в кучу, так что и там Марфа извозчика не сыщет. Наскоро простившись с кумой, она побежала к Никольскому переулку. И в тот миг она вовсе не думала ни о полиции, ни о загадочном розыске Яшки-Скеса, а воображала, как будет рассказывать соседкам о светской жизни Марфы Ивановны.
Марфа свернула в Богоявленский переулок, Феклушка - за ней. Там, не доходя Богоявленской обители, Марфа поднялась на три каменные ступени и вошла в двери дома, который Феклушке не больно понравился, хоть был недавно выкрашен в розовый цвет и имел всякие лепные излишества. Она видывала богатые дома, перед которыми были курдоннеры, чтобы карете въехать по красивой дуге и доставить господ к крутому крыльцу.
Феклушка прошла чуть подальше, почти до перекрестка с Никольской улицей, и подумала, что раз уж она тут очутилась, то хорошо бы зайти в надвратный храм Рождества Иоанна Предтечи, о котором ей сказывали, что там-де есть древние и намоленные образа. Недавно праздновали как раз рождество этого святого, но у Феклушки захворал сынишка, и она не смогла пойти в церковь. Захворал же оттого, что во дворе потащил в рот какую-то траву, а сестренка не обратила на это внимания, так что Феклушкиной вины вроде и не было…
Твердо решив сходить в храм и попросить прощения за свою малую ретивость в делах веры, Феклушка даже сделала первые шаги, но дверь розового дома отворилась и вышла Марфа, а за ней бойкая девка, одетая как горничная в хорошем семействе. Они вместе направились к Никольской и вошли в бакалейную лавку. Пробыв там совсем недолго, вернулись обратно, причем горничная несла фунтик из белой бумаги.
Феклушке стало любопытно, и она поспешила к той же лавке.
– А вот к нам, у нас брали! - приветствовал ее молодой бойкий сиделец. - Что сударыне угодно? Лучшего разбору кофей, сахар, чаи китайские!
– Мне того, что толстая барыня брала, - сказала Феклушка. - В малиновой робе и в большом чепце.
– Софья Сергеевна, что ли? Эта барыня в кофее знает толк. Только что полтора фунта взяла наилучшего, - сказал сиделец.
То, что Марфа зачем-то переменила имя, почему-то сильно обрадовало Феклушку. Она поняла, что не напрасно Яшка вел свой розыск, что розыск доподлинно был опасным и что сама она верно поступила, отнеся Яшкино имущество в полицейскую контору. А Феклушка не так уж часто поступала правильно и заслуживала похвалы - пусть даже своей собственной.
– Дай ей Бог здоровья, добрая барыня, и покупателей богатых ко мне приводит, - продолжал сиделец. - Могу прямо на месте смолоть, коли угодно. Запах - как в райском саду!
В лавке и без того благоухало так, что Феклушке захотелось остаться тут навеки.
– Софья Сергеевна госпожа богатая, - с некоторой завистью молвила Феклушка. - Мне-то такого кофея не пивать, как она угощает.
– И помногу берет. С весны, поди, не меньше пуда у нас купила, клад, а не барыня, знает, где самолучший товар, - похвалился приказчик.
Тут только Феклушка вспомнила - Яшка ведь толковал, будто Марфа драгунский эскадрон кофеем поит. Но целый пуд - это было уж чересчур.
– Буду теперь знать, где кофей брать. Как муж жалованье принесет, непременно приду, - пообещала Феклушка и вскочила из лавки, потому что таких обещаний сидельцы не любили, могли и обругать весьма затейливо.
Марфа с горничной поднялись по каменным ступенькам розового дома. Дверь за ними захлопнулась. Выждав несколько, Феклушка вошла в ту же дверь и оказалась в просторных сенях. Дом был устроен на богатый лад - каждый этаж занимало одно семейство, а внизу всех встречал привратник - не какой-нибудь деревенский Ванюшка в ливрее с чужого плеча, а подтянутый детинка, не первой молодости, зато с выправкой - прямо тебе отставной унтер-офицер.
– Куда пошла? - остановил он Феклушку. - К кому тебе?
– Госпожа сюда вошла в малиновой робе, - сказала Феклушка. - Ее видеть желательно.
– Для чего?
– В кофейной лавке товар она брала и сверточек забыла, - Феклушка показала сбитый в плотный комок свой передник. - Сиделец просил догнать, да я ее, поди, упустила. Может, и не сюда она взошла…
– Коли кофей - так это точно наша Софья Сергеевна. Она на всю Москву знатная кофейница, - неодобрительно сказал привратник. - Как усядется в гостиной лясы точить - так и жди неприятностей.
Тут лишь до Феклушки дошло, чем занялась Марфа на старости лет.
Одному Богу ведомо, откуда вдруг взялась мода на кофейное гадание. И уж вовсе необъяснимо, как получилось, что вчера завезли в Россию эту моду, а сегодня уже объявились опытные гадалки, которые, глядя в чашку, могли наговорить мех и торбу всяких любопытных вещей.
Гадания были обычным способом скоротать досуг, развлечься и потолковать о предметах, важных для каждой девицы или замужней: о сватовстве, о нраве жениха, о венчании, о количестве детей, о видах на хорошее наследство. И особенно процветали гадания на пропажу, которые помогали сыскать вора. Не побежишь же с каждой мелочью в полицейскую контору.
Были деревенские гадания на пропажу - с ножницами, с решетом, но как-то приелись. Хотя двор увлекался народными песнями и плясками, ну так то - двор, а барыням средней руки хотелось чего-то более возвышенного, чем слушать шуршание соломы под горячей сковородкой и угадывать в нем звуки имени. Гадание на кофейной гуще предполагало целый обряд - приглашение кофейницы, изготовление кофея нужной густоты, застолье со сластями, затем церемониал - брать чашку правой или же левой рукой, а то и двумя руками, сколько делать ею круговых движений, наклонять к себе либо от себя, сливать или не сливать часть гущи, ставить опрокинутую чашку на блюдце или же на салфетку, тут всякая гадательница изобретала свои ухватки. Но, что касалось фигур, образуемых гущей, кофейницы были почти единогласны. Коли обозначалась голова, повернутая в профиль, это сулило защиту неведомого покровителя. Коли два профиля друг на дружку глядели - несомненное замужество. Две головы, а между ними роза, тоже сулили счастливое замужество. Любое пятнышко из кофейных крупинок исправно сходило за розу.
Сия светская забава оказалась, однако, опасной игрушкой, потому что в расположение кофейных крупинок верили не на шутку.
– От кофейниц только и жди беды, - подтвердила Феклушка. - Знакомка моя места лишилась - кофейница наврала, будто она серьги жемчужные с уборного столика украла, а она их и пальцем не тронула. Мало что место потеряла, как барыня на всю Москву раззвонила, что кухарка-де у нее была вороватая.
– Не пойму, как можно на мазню эту глядеть и живого человека в ней видеть, - сказал привратник. - Так то прогнали, ну, может, оплеух надавали, это полбеды. У нас вон лакея чуть не до смерти запороли - Софья Сергеевна сказала, будто он с ворами дружится и на изголовье их навел, барин в старом изголовье важные бумаги и деньги хранил.
– Ахти мне! - воскликнула Феклушка. - Откуда ж она такая взялась?
– Черт ее знает, кто нам ее сосватал. Так ведь богатые баре ее принимают, иной раз в такой карете приедет, что только государыню возить. А лакей-то не виноват, я точно знаю. Ни с кем он не дружился…
– Паутину надобно обирать с углов и класть на поротую спину, - посоветовала Феклушка. - Ты ему, дяденька, скажи. И пусть не лежит, а сколько может - ходит.
Такие сведения были ею приобретены не от хорошей жизни - а собственный муж как-то проворовался. С этим делом в полицию не пошли, проучили келейно, однако с фабрики не прогнали - мастер он все же был изрядный.
– Скажу непременно. А ты, голубушка, ступай-ка, я никому не скажу, что ты приходила. И сверточек-то себе оставь. Вдруг какая порядочная вещица - тебе в радость, а от нее не убудет.
Феклушка вздохнула - хороша порядочная вещица.
– И сидит ведь, и сидит там, и кофей почем зря переводит, а потом отправится по всей Москве хвостом мести… - уныло сказал привратник. - А из-за нее Федота чуть не насмерть запороли… и все одно до правды не докопались…
– А как это у нее вышло, что Федот виноват?
– А черт ее знает, я ведь не видел, я тут по все дни… А Федот - тот рассказывал: сидит-де, на грязь эту размазанную глядит и толкует: вот-де тень как от строения, она к потере, и потеря в прошлом, а сейчас у нас справа петух с хвостом - вред, стало быть, был от мужского пола, а вокруг него все черточки, черточки - это, выходит, он, петух-то, вашими недругами окружен, за ним - ваших недругов превеликое множество…
– Так и толковала? - уточнила Феклушка, стараясь одновременно запомнить эти тонкости.
– Так она, проклятая, еще и лису в чашке углядела, а Федотово прозвание - Лисицын!
– Ахти мне! А кроме нее, хоть кто-то там видел ту лису?
– Говорю ж тебе - не было меня там! А знаю только, что тут же господа на Федота накинулись. А ему куда деваться? Был бы вольный… а он-то крепостной… Ну и выпороли, да так отделали - сами, поди, уже не рады…
– А скажи, дяденька, до того Софья Сергеевна у вас бывала? - полюбопытствовала Феклушка.
– Как не бывать! Я ж тебе толкую - чуть что, за ней на Ильинку посылают.
– И давно она у вас объявилась?
– Давно ли? Сразу после Троицы. А на что тебе?
– А на то, что никакая она не Софья Сергеевна! - выпалила Феклушка. - Ты, дядя, сговорись с домашними, и пусть иным разом кто-нибудь за ней тихонько пойдет!
Ей была уже в общих чертах ясна вся эта история.
Марфа имела в Зарядье такую репутацию, что надо б хуже, да не бывает. О том, что она втихомолку скупает краденое, а полиция смотрит на это сквозь пальцы, знали все, да молчали. Кому ж охота разом ссориться и с ворами, и с полицией? О том, что дает деньги под злодейский процент, тоже все знали - да как жрать нечего, поневоле к той же Марфе с последним перстеньком побежишь.
– А ты кто такова, коли такое про нее знаешь? - с неожиданной радостью спросил привратник.
Феклушка воспарила духом.
Ей всегда очень хотелось вызывать у людей восхищение. До сих пор это плохо удавалось. Но сейчас она глядела в лицо пожилого привратника - и видела на нем подлинную радость и даже преклонение.
– Кто я такова - это потом явится! Когда пропажа сыщется! - с превеликой гордостью объявила она. - А сыщется, помяни мое слово! И у твоего Федота господа еще прощения попросят!
План, созревший в Феклушкиной голове, был восхитительно прост: проследить за зловредной Марфой, куда она далее направит свои лживые и преступные стопы, а потом рассказать все Яшке. И коли выяснится, что Марфа трудится наводчицей, вызнавая, где что плохо лежит, а потом виноватя в краже совершенно посторонних людей, то пусть Яшка сам явится с этой милой новостью к господину Архарову! И помянет уж кстати, кто помогал в розыске. Из этого воспоследуют две пользы.
Первая - Феклушка наконец посчитается с Марфой за ее гадкий отзыв о своей образине.
Вторая - Яшка сказывал, коли кто доставляет полиции важные сведения, за то деньги платят. А деньги никогда не лишние.
При этом Феклушка начисто забыла, что дома у нее оставленные без присмотра детишки и тесто, которое скоро должно переполнить квашню и устремиться на волю.
Но придуманная по сему поводу поговорка «Замесила на дрожжах - не удержишь на вожжах» в равной мере применима теперь была и к тесту, и к Феклушке.
* * *
Дело о спущенном в колодец трупе разъяснилось удивительно быстро. Нашлись соседи, которые что-то видели, что-то слышали и немало поняли. Кто-то вспомнил, что кутеповская родня живет в Тайнинском. И, когда семейство в почти полном составе привезли в полицейскую контору, на свет явилась такая нелепая история.
Иван Карпович Кутепов, хороший мастеровой и человек богомольный, был очень зол на младшую дочку и на ее любовника. Когда выяснилось, что Афонька Гуляев прикормил дворового пса и исхитряется приходить к девке ночью, Кутепов и двое его старших устроили засаду. Торчали за сараем и в кустах чуть не до рассвета, думали уж, что проворонили. И наконец приметили человека в исподнем, пробиравшегося с весьма вороватым видом сквозь дикий малинник. Им были видны лишь белая рубаха и порты, но этого оказалось довольно - налетели, обрушились на страдальца, отволокли в погреб, особо не разглядывая образину. Тем более, что и волочить-то было недалеко, и скрючился Яшка от ударов так, что виден был лишь его затылок.
Заперев добычу, взволнованные Кутеповы стали решать, как именно они поступят - сведут ли любовника к начальству Воспитательного дома, или же призовут начальство сюда, чтобы при нем выпустить из подвала Афоньку в одном исподнем. Беседа шла у сарая, тут же стояла колода для рубки дров, в колоде торчал топор.
Афонька Гуляев сумел проникнуть к любовнице незамеченным. Находясь у нее в светлице, он услышал шум и затаился. Потом стало тихо, и он решил поскорее удирать - тем более, что сделалось уже довольно светло. Афонька выскочил в окошко и пошел вокруг дома к известной ему тайной дырке в заборе.
Увидев его, Кутеповы сперва остолбенели. Иван Карпович сам прилаживал тяжелый засов. Дикая мысль посетила семейство - не Афонька ходит по ночам к Лушке, а нечистая сила. Конечно же, для нечистой силы топор - невеликая угроза, но чем-то же надо обороняться. Кто выдернул топор из колоды и со страху треснул Афоньку по голове, было уже неважно - все трое хороши…
Потом они опомнились. Увидели, чего натворили. Решили бежать. Именно потому решили, что были люди, в сущности, неплохие, и от собственного злодейства перепугались безумно. Будь они иными - спустив тело в старый колодец, засыпали бы его и на все вопросы отговаривались незнанием, или же и вовсе скинули бы Афоньку в Москву-реку. Но страх одолел их, они разбудили хозяйку, Федору Мартыновну, кое-как собрали самое ценное имущество и, убегая, взяли с собой пса - не околел бы от голода. Таково было их волнение, что они даже не догадались поглядеть, не сидит ли кто в погребе. Таким образом Яшка оказался заперт на целые сутки. Благо он отыскал наощупь припасы - крынку сметаны, другую - с простоквашей, сухой провесной балык.
Архаров подивился тому, какая занятная вышла цепочка - если бы Яшка, выслеживая Марфу, не угодил в кутеповский погреб, если бы Феклушка не принесла его вещи в полицейскую контору, если бы у Федьки с Яшкой не возникла необходимость куда-то девать Феклушкиных детишек, не нашлись бы сын и дочка Тимофея Арсеньева.
И в эту цепочку загадочным образом вплелся Ванька Каин.
Архаров, прогоняя его из Москвы, внятно велел более тут не показываться. Ему казалось, что Каин все понял - не понять было просто невозможно.
И вот, почти год спустя, этот неугомонный мазурик снова прибыл.
Яшка два раза подряд описал, как он преследовал Марфиного гостя, как старался не попадаться ему на глаза, как гость обернулся. Архаров слушал, задавал вопросы, но они были уже ни к чему - все совпадало. На рассвете Каин принес Марфе какой-то предмет, а днем она прислала девку с золотой сухарницей. Каин всегда любил дорогие игрушки - Архаров от Марфы наслышался и о карете, обитой соболями, и об оранжерее с ананасами, единственной на всю Москву. Золотое художество, украденное во Франции, могло бы привлечь его внимание - да только для чего присылать сахарницу через Марфу в полицейскую контору?
Покинув архаровский кабинет, Яшка, имея немалый список неотложных дел, переоделся в простое мещанское платье и сперва поспешил в Зарядье - хотя он не имел семьи, но подозревал, что мать, вернувшись домой и не найдя там маленьких, должна быть близка к помешательству. Надо было скорее рассказать Феклушке, что ее дети оказались в полицейской конторе и за ними смотрит Марья Легобытова, наверняка ей хорошо известная.
Но Феклушкин дом стоял запертый. Соседка рассказала - супруг Феклушки, Федот Балуев, пришел с фабрики вечером, не нашел дома ни жены, ни детей, а одно лишь перекисшее тесто, ушедшее из квашни. Он напросился ужинать к соседям, а про Феклушку выразился так: поймает - убьет, поскольку где это видано - исчезать вместе с младенцами, не оставив мужу и сухой корки. Он полагал, что шалая супруга решила навестить свою тетку за Мясницкими воротами, да там и осталась. Не пошла же она с годовалым на руках да с четырехлетней дочкой, ухватившейся за юбку, перемигиваться с гарнизонными солдатами.
Озадаченный Скес уже был не рад, что они с Федькой сжалились над оставленными без присмотра ребятишками. Попросив соседку передать Феклушке, чтобы немедленно шла к храму Гребенской Богоматери, он ушел, надеясь, что приятельница разгадает загадку: это был, можно сказать, родной храм архаровцев, в двух шагах от полицейской конторы.
Архаров сводил и разводил в голове события то так, то этак. Ничего не получалось. А тут еще прямо в кабинет гости пожаловали, два молодых вертопраха - Тучков и Лопухин. С ними в последние дни Архаров даже у себя дома встретиться не мог - так дела его обременили.
– Тебе, сударь, угодно было свеженькое дельце посмотреть - изволь. Только что убийц изловили. Щербачов, неси сюда тетрадь, - приказал Архаров. Этим стремительным розыском можно было похвалиться.
Лопухин, просмотрев записи, задал разумные вопросы, но выражение его лица Архарову не понравилось. И причина обозначилась сразу.
– Ты полагаешь, преступники были найдены случайно? - напрямик спросил Архаров.
– Полагаю, да, - так же, без реверансов, ответил Лопухин.
– И как бы искал их ты, сударь?
– Так же, как и ты, сударь, - неожиданно сказал Лопухин. - Поскольку при теперешнем устройстве полиции иначе действовать было бы невозможно.
– И на том спасибо, - буркнул Архаров.
Он сам видел, что устройство не лучшее. Но ему и в голову не приходило что-то менять - для этого же надобно, поди, писать бумаги, прожекты, отсылать их вышестоящим особам, может, даже самой государыне. А ведь с Лопухина станется! Он - иной, он - не из тех гвардейцев, что готовы служить беззаветно, шпагой размахивая и кровь проливая, он говорит негромко - на плацу его не расслышать, но он ведь, сукин сын, изучив все неурядицы Рязанского подворья, сочинит целую диспозицию - как изменить устройство полиции, чтобы от нее было больше проку.
– Николаша, нам надобны приглашения в ложи, - заявил Левушка. - Мы ездили на Ходынский луг, присмотрели себе место на самой высокой палубе! Оттуда во все стороны видать!
Деревянные корабли, чуть ли не в натуральную величину, были задуманы как салоны для знатной публики - они стояли в «устье Дона», в «устье Днепра» и у берегов «Крыма». В них на палубах были устроены ложи, которые в последнюю ночь будут обивать дорогими материями - чтобы работный люд их раньше времени не разорил. Левушка выбрал тот фрегат, что ближе к «Кинбурну», сиречь к театру. Сам же Архаров, коли будет минутка свободного времени, предпочел бы ложу неподалеку от «Азова», сиречь от столовой, чтобы не плестись к ней пешком за полторы версты - народу и увеселений на лугу наберется столько, что проехать в карете будет попросту невозможно.
– Будут тебе приглашения, - обещал он. - Вы уж простите, что мало времени вам уделяю. Служба.
– Коли угодно, я тебе, Архаров, свои соображения в письменном виде подам, - сказал Лопухин. - Полиции не след заниматься посторонними предметами - а ведь у вас тут только что в иноки не постригают. За дозволением на строительство - в полицию, чтоб строители цену не заламливали и от подрядов не отказывались - в полицию, купцу баранью тушу клеймить - в полицию, за ценами на торгу следить и чтоб с весами не дурачились - в полицию, сарай загорелся - в полицию! От сих забот надобно избавляться - в Москве довольно чиновников, кому и строительство, и пожары передать, надобно только учредить для того особые присутствия.
Архаров вздохнул с облегчением - Лопухин по молодости лет полагал, будто это так просто: придумал, что пожары должен тушить, скажем, некий пожарный департамент, и завтра же он на свет явится с полным штатом служащих и в новехоньком доме.
Но все же он нюхом чуял - сей гвардеец потихоньку, нося свои бумаги из кабинета в кабинет, чего-то добьется. А все потому, что ведет себя уже как вельможа, а не как капитан-поручик Преображенского полка. Как бы все-таки перенять его повадку?
Но сейчас было не до нововведений. Государыня заперлась в Пречистенском дворце, с утра никого не принимала. Поди знай - что сие означает. Забот - выше головы.
– Николаша, не могу ли чем помочь? - спросил догадливый Левушка.
– Ничем, Тучков. Отдыхай и развлекайся. Куда вы вечером?
– В маскарад, - отвечал Лопухин. - У меня там с Пашотт уговорено.
Архаров не больно любил эти французские затеи - морщился, когда при нем государыню заглазно называли Като, и не понимал, для чего звать невесту Прасковью Пашоттой, когда есть милое русское имя Параша.
– Николаша, а поехал бы ты с нами, - предложил Левушка. - Маскарад будет знатный!
– Довольно с меня того, что половину моих молодцов придется туда посылать смотреть за порядком. У нас тут свои маскарады.
Они укатили - молодые и беззаботные, как оно и положено гвардейцам, выправившим отпуск. А вот Архаров и не помнил, что такое отпуск. На три дня Москву оставить страшно - приедешь, а тут уж Каин заседает!
Каин… его только недоставало…
– Иванов! - крикнул Архаров. - Возьми экипаж, поезжай, привези мне Марфу!
Но экипаж гоняли зря - оказалось, что Марфа дома не ночевала.
Вызванный в кабинет Клаварош только развел руками - он далеко не каждую ночь проводил у своей любовницы и понятия не имел о ее проказах. Архаров допросил его и выяснил, что как раз в ночь, когда Каин принес Марфе загадочный сверток, оказавшийся, скорее всего, золотой сухарницей, Клаварош преспокойно спал в розовом гнездышке.
– Ловкая баба, - сказал, подумав, обер-полицмейстер. - Да как ни востра - а босиком на кляп не взбежишь.
Разумно было бы оставить в ее жилище засаду - как появится, сразу чтоб под белы рученьки волокли в полицейскую контору. Но перед праздником всякий в архаровском хозяйстве был на счету, довольно уж и того, что следили на Гранатным двором, где лежали прикопанные золотые тарелки. И обер-полицмейстер решил оставить Марфу напоследок - когда завершится праздник, можно будет и ею заняться, никуда она не денется.
Клаварош, однако, был сам собой недоволен. Получалось, что Марфа его перехитрила.
Поэтому, когда Федька опять стал его зазывать в гости, соблазняя макаронами, он долго упирался.
Клаварош упорно не хотел стареть. Когда он, будучи в расстроенных чувствах, додумался, что хитрая любовница держала его в сожителях для прикрытия, чтобы за его спиной проделывать свои выкрутасы, то даже выругался по-русски. То ли дело было двадцать лет назад - ни одна самая ловкая парижанка не то что не смогла - не пожелала бы обманывать столь бойкого и очаровательного кавалера. Теперь же, на старости лет, он, очевидно, годился лишь для того, чтобы его бесстыже использовали…
А тут еще молодой бездельник желает превзойти ему в мастерстве боя!
Долго пришлось Федьке упрашивать, заглядывая в глаза, пока француз согласился.
Приведя его домой, Федька скорехонько переоделся в старые портки, принадлежавшие покойному супругу его хозяйки. А он был мужчина внушительный, наподобие Вакулы, с огромным пузом и здоровенными ляжками. Эти портки были ему проданы дня два назад.
Азарт победил соображения нравственности - смирившись с тем, что опять придется зашивать штаны в паху и распахнув дверь в коридорчик, Федька наскакивал на клок пакли, в восторге подтягивая его выше и выше, пока на шум не вышла очень сердитая хозяйка. Время было позднее - самое время, когда почтенный обыватель ложится в постель и прижимает к себе жену, готовый ее осчастливить. Если бы Федька позволил хозяйке, вдовушке немолодой, за тридцать, но весьма еще бойкой, вложить в свою шалую голову правильное понимание отношений между постояльцем и особой, сдающей ему комнатушку, то меньше было бы взаимного недовольства в их отношениях. И уж во всяком случае, увидев дыру в штанах и содержимое той дыры, хозяйка не устроила бы целый переполох.
Но Федька удалось растолковать ей тайный смысл своего безумия, и она, сжалившись, достала из чулана мужние портки, взяв за них неслыханные деньги - десять копеек. Очевидно, сложила вместе стоимость штанов и ущерба своей добродетели.
Непросто давалась Федьке вожделенная наука французского разбойничьего фехтования! А ведь «марсельская игра» было как бы первым подступом к загадочному мастерству Клавароша.
Съев макароны, Клаварош несколько подобрел. Но ненамного. И, показывая на травке очередную ухватку, был чуть стремительнее, чем требуется во время урока. Отбиваясь, Федька чудом устоял на ногах.
– А как быть, коли упадешь? - спросил Федька.
– Не огромна… не велика беда, - бодро отвечал Клаварош. И поморщился - все-таки волнение давало себя знать, если он путался в русских словах.
Федьке повезло - уже несколько дней француз был настолько здоров, что даже забывал к себе прислушаться: как там сердце, не собралось ли останавливаться. Поэтому и показал еще одну ухватку, весьма неожиданную для пожилого и элегантного мужчины. Правда, сперва снял мундир и дал подержать хозяйскому сынку, десятилетнему Алешке…
Он наскочил на Федьку - правда, не слишком высоко задирая ногу, - дал противнику возможность отмахнуться и упал, но не на задницу шлепнулся, а как-то хитро на бок, перекатился, оказался к Федьке задом, уперся обеими руками в землю и сразу его каблук возник в непосредственной близости от Федькиного носа.
– Иван Львович, еще! - в полном восторге завопил Никишка.
Клаварош после сего кундштюка оказался стоящим на одном колене, на коем и развернулся, готовый вскочить на ноги.
– Понял? - спросил он Федьку. - Главное тут - от врага далеко не убраться, иначе…
Француз почистил рукавом штаны и задумался, подбирая подходящее сравнение.
– Пальцем в небо? - спросил сам себя.
– Копытом в небо! - воскликнул Федька и заржал, как стоялый жеребец. Смысл ухватки он уразумел, и выучить ее мог, да только следовало убраться куда-нибудь подальше для таких уроков, пока хозяйка не притащилась к Архарову с жалобой, что постоялец-де совсем спятил.
– Можно делать иначе, но будет труднее, - сказал Клаварош. Иначе - это воистину был кундштюк, который ему самому уже плохо удавался. Тут при падении следовало развернуться к врагу не задом, а рожей, и, опять же, упираясь руками в землю, сильно брыкнуть ногой вперед и вверх.
Алешка, глядя на француза влюбленными глазами, помог ему почиститься, надеть мундир, и тут же сам с визгом принялся разучивать все эти лягания и брыкания. Федька дал ему подзатыльник и отправил к матери. У парнишки получалось не в пример бойчее, чем у него самого, и Федька вдруг забеспокоился - не отяжелел ли он от сытной жизни? Он был из той породы кудрявых красавцев-детинушек, что при доброй еде становятся дородны, тело обретает мягкие очертания, хотя мышцы под вершковым слоем жирка - стальные и отзываются на приказ действовать мгновенно. Смолоду это ему не мешало, смолоду и корм был похуже, но сейчас Федьке было почти двадцать шесть.
Положив себе хоть все жалование платить Клаварошу, а освоить под его наблюдением все эти затеи, Федька почистился и стал задавать французу все новые и новые вопросы.
– А что, коли шпагу или нож выбьют, у вас кулаками бьются?
– Нет, не кулаками. Иначе - вот так, вот это место бьет…
Клаварош выбросил вперед ладонь и уперся ее основанием в пространство между Федькиной губой и носом.
– Вот так вверх, - он нажал легонько, и Федька невольно запрокинул голову, - и носа нет, кровь фонтаном.
– Еще! - потребовал Федька.
– Еще - вот хорошее место, рубит, как сабля, - Клаварош провел пальцем по ребру своей правой ладони. - Еще бьют пальцами в глаза. Но это - драка черни… Надо биться так - шпага, нож и ноги. Но не стараться ударить слишком высоко. Высоко - получается не так скоро, а удар следует наносить скоро. И двигаться так, как фехтуют… А кулаками бьются у вас, я раньше такого боя не встречал.
– Наш пертовый маз кого хошь на кулачках одолеет, - гордясь начальством, отвечал Федька.
– Господин Архаров не встречался с марсельскими матросами и с парижскими грабителями, - возразил Клаварош. - Я видел, как он бьется. Когда дерутся на кулаках, подходят слишком близко к сопернику, и тут в опасности колени. Знаешь, как устроено твое колено?
Отродясь Федька об этом не задумывался. Двигается, разгибается, чего еще?…
Клаварош велел ему ощупать сустав и растолковал, что место это у бойца весьма уязвимое. Стопа тоже уязвима - там много мелких косточек, поломаешь ненароком хоть бы мизинчик - и хромай месяц, а то и поболее, и сие в драке следует учитывать. Коленный же сустав оплетен как будто веревками, но при везении может от удара сквозь эти незримые веревки проскочить наружу. Вправлять его на место весьма сложно и болезненно. И вот каким манером следует бить, чтобы вот этак обездвижить врага…
Федька лишь восхищенно кивал. Запомнить все сие махом было невозможно - да он и не пытался, он просто наслаждался новыми заниями.
Федькин мир был прекрасен. Если не считать месяцев, проведенных в остроге, и службы в мортусах - хотя даже в этоц службе он находил приятные стороны и занимался ею от души. Федька знал, что в мире есть зло, боролся с этим злом, но относился к нему скорее пренебрежительно, хотя мошенников и воришек на торгу ловил азартно. Ему недоставало ощущения полета - он мог быть счастлив лишь в погоне за чем-то неземным.
Хитрое искусство Клавароша было пока непостижимым - и приводило в восторг еще и потому, что душа предвкушала множество побед и приключений.
Варенька была недостижима - и он любил ее, даже не помышляя, что когда-то прикоснется к ее руке.
* * *
День у Архарова выдался суетливый - как и всякий день накануне грандиозного праздника. А тут еще князь Волконский позвал зачем-то короткой запиской. Пришлось ехать.
Оказалось - обычнейшее воровство. В благородном семействе пропали драгоценности. Шум поднимать не хотят, потому что хозяйка дома убеждена - камушки стянула племянница, которую держат из милости. Надобно побеседовать с племянницей и убедить ее вернуть драгоценности. У обер-полицмейстера такие вразумления хорошо получаются.
– Пусть ее ко мне в контору привезут, - сказал Архаров. - Там она и без тонких намеков сама все выложит.
– К княгине зайди.
– Зайду, засвидетельствую почтение.
Лицо князя, когда он попросил Архарова посетить свою супругу, было каким-то подозрительным. Следовало ждать подвоха. Он и явился во всей своей красе.
– Николай Петрович, поехали бы вы с нами в маскарад, право! - сказала Елизавета Васильевна. - И костюм вам иной не надобен - пошлем за черным капуцином, а маска у нас сыщется.
Спорить с княгиней Архаров не любил - на это и рассчитывал Михайла Никитич.
– Николай Петрович, и я вас прошу! - добавила Анна Михайловна. - Мы с Петрушей там встретиться уговорились, а матушка ведь за нами по залам бродить не станет. Вот и будете ей кавалером!
Архаров ощутил острейшую обиду.
Князь Голицын, его на четыре года старше, для этой вертопрашки жених возлюбленный, а обер-полицмейстер, что ей по годам куда как больше подходит, - кавалер для матушки! Черт ли этих девиц поймет…
Архаров не мог не признать - красоты князь был необыкновенной, пусть не мужской, но скорее отроческой, невзирая на годы. Хотя был он боевым офицером и от противника не бегал, хотя умел командовать, умел и драться, однако лицо хранило какую-то нежную и светлую безмятежность. О том, что его собственная тяжелая физиономия в точности отражает и угрюмый нрав, и всегдашнюю подозрительность, Архаров знал уже давно.
Странным ему казалось, что фарфоровая белизна княжеского лика и розовый цвет щек, которые, будучи замечены у любой дамы, непременно наводили бы на мысль о белилах и румянах, у Голицына смотрились вполне натурально - как будто иным он и быть не мог. Архаров даже удивлялся - как же в походе, где по три дня не умываешься и парасоли от солнечных лучей над тобой денщик не держит, он сохраняет эту белизну?
С другой стороны, красота князя столь обрадовала государыню, что та невольно воскликнула: «Да он же хорош, как куколка!». Много ли Москве надо, чтобы прозвище навеки прилепить? Боевого командира иначе уж не звали, как «князь-куколкой» - правда, в глаза не осмеливались. Архаров готов был Бога благословить за свою неудачную образину - она спасла его от нелепого прозванья. И ведь потомство Голицына обречено - до седьмого колена их будут звать «Голицыны-куколки». Уже истлеют в могиле последние, кто помнил, что предок отличался неземной красой, а им все «куколками» быть…
Умная Елизавета Васильевна поняла, что дочка сморозила глупость.
– Вы нам во многом отношении будете там полезны, - тут она отступила несколько назад, словно приглашая Архарова уединиться с ней в дальнем углу гостиной. Он пошел следом и услышал не то чтобы совсем неожиданную, но все же смутившую его новость:
– Ее величеству угодно, чтобы мы взяли с собой в маскарад девицу Пухову. Мне Брюсша конфиденциально передала.
– Прелестно… - невольно произнес Архаров. Голос, впрочем, понизил.
Вопросы были излишни. Государыня, тщательно следившая за розыском по делу Пугачева, непременно знала и о проказах князя Горелова, и о его намерении жениться на девице, могущей, по его мнению, оказаться впоследствии родной дочерью покойного государя и ныне здравствующей государыни. Немудрено, что она хочет взглянуть наконец на этакое диво.
Странно, что ранее она не проявила любопытства к диву.
Что это было - тонкое притворство или доказательство, что девица не имеет никакого отношения к царскому потомству?
– И я была бы спокойнее, видя вас рядом с собой и с Варенькой, - завершила свою мысль княгиня. - Кто и защитит ее, коли не вы?
Архаров задумался.
– А что, ваше сиятельство, много ли девица Пухова выезжает? - спросил он.
– Памятуя ваше наставление, я стараюсь, чтобы она больше сидела дома, да она и сама невеликая любительница разъезжать с визитами да по лавкам, - отвечала княгиня. - И ездить ей особо не к кому. У себя она принимала только двух дам, княжну Шестунову да княжну Долгорукову. Марья Семеновна приезжала раза три или четыре, а госпожа Долгорукова - один раз, я полагаю, желала убедиться, что Вареньке у нас плохо, что мы ее морим голодом и нарочно на сквозняк выставляем.
– Хотел бы я знать, кому она шлет доносы…
– Да и я, Николай Петрович…
Помолчали.
– Я, ваше сиятельство, сейчас откланяюсь, а потом пришлю к вам человека с запиской, - сказал Архаров. - Может статься, и поеду с вами в маскарад.
Он знал, что с высокопоставленной дамой так не говорят. Надо бы выразиться: «буду иметь счастие сопроводить вас», или еще витиеватее. Но он знал также, что княгиня Волконская не ждет от него галантонности. Она сообщила о неожиданных обстоятельствах - и должна понять, что он сейчас поторопится принять свои меры.
В палатах Рязанского подворья было не так уж много народу.
– Клавароша мне сыщите! - приказал Архаров. - Где Сашка? Шварца ко мне. Так, кто еще?… Жеребцов… Жеребцова сюда! Костемарова!
Жеребцов был при исполнении, а жаль - этот немолодой полицейский офицер как раз понимал и по-французски, и по-немецки, только писать не умел. Вошел Саша, за ним - Демка Костемаров, третьим - Клаварош, четвертым - Шварц.
Вслед за Шварцем проскочили Федька и Максимка-попович, коих не звали. Но им было любопытно - для чего обер-полицмейстер вдруг, на ночь глядя, собирает людей.
– Карл Иванович, у тебя в чуланчике капуцины есть? - спросил Архаров.
– Как не быть, а сколько надобно? - вопросом же отвечал немец.
– Хорошие, атласные?
– Есть, разумеется.
– Вели все нести сюда. Едем в маскарад. Да, еще маски!
Шварц дал ключ от чулана Максимке и кратко растолковал, где висят капуцины.
– Я вас, братцы, беру с собой в маскарад, где изволит быть государыня. Не снаружи шастать будете, а внутри, как гости. Для вас главное - не выпускать из виду некую девицу… да вы и сами, поди, догадались…
И душа Федькина загорелась, и глаза вспыхнули.
А вот Шварц еле заметно вздохнул.
У старых полицейских от одного слова «маскарад» делалось такое выражение лица, как если бы зубная боль пронзила не токмо челюсти, но и все тело. Нынешные маскарады, проводимые в домах, не могли еще затмить давний, данный двенадцать лет назад, и имевший название «Торжествующая Минерва». Заодно, кстати, даже самые низшие чины Полицейской канцелярии узнали, что Минерва есть богиня мудрости у древних римлян, кои все вымерли, поди, еще до Рождества Христова. Московская же Минерва олицетворяла государственную мудрость, а также покровительство ремеслам и искусствам. То есть, даже дурак, ложку до рта не умеющий донести, обязан был понять: маскарад служит прославлению ныне здравствующей государыни.
Это событие заняло три последних дня масленицы 1763 года. С десяти утра и допоздна по Большой Немецкой, по обеим Басманным, а также по Мясницкой и по Покровке разъезжали сани с аллегорическими фигурами и с музыкой. Процессия составлялась их двух сотен таких экипажей, а участвовало в ней под четыре тысячи человек - в аллегорические фигуры завербовали студентов, школяров, солдат, работный люд; дудками, флейтами и барабанами ведали полковые музыканты. Шум и грохот стоял нестерпимый. Полицейские же стояли в пикетах, следя, чтобы никто и нигде оному карнавалу не учинил остановки или препятствия. Они же присматривали, чтобы скользкие места были присыпаны песком, выбоины заровнены, а также охраняли находившиеся поблизости кабаки, чтобы карнавальные служители, в масках и казенных костюмах, не бегали туда греться известным русским способом.
Москвичи были приучены к большим маскарадам господином Локателли, которому для того выдавались немалые деньги из Придворной конторы. Устраивал он сие увеселение в своем театре, и хотя взымал с приходившей публики входную плату, но и из придворного ведомства не стыдился просить чуть ли не по четыре тысячи рублей за маскарад. Правда, порядок там соблюдался - никто из посетителей гн мог иметь при себе оружия, не только огнестрельного, но даже и ножей. Впоследствии Локателли промышлял устройством маскарадов в богатых домах, так что столичные жители уже прекрасно знали правила маскарадной благопристойности.
Теперешние московские маскарады, затеваемые государыней, собирали до трех тысяч человек, в том числе и купеческого сословия. Среди этих трех тысяч, понятное дело, всякая сволочь могла замешаться. Так что просьба княгини казалась Архарову вполне оправданной.
Еще следовало отрядить канцеляристов для дежурства у входа. Государыня в Санкт-Петербурге завела презабавную маскарадную моду: чтобы полиция записала десять первых гостей и десять последних, покинувших перед рассветом бальные залы. Ей было любопытно знать, кто из подданных самый страстный поклонник сего увеселения - кроме ее самой, разумеется, потому что маскарады Екатерина Алексеевна любила всей душой.
По уговору с Волконским Архаров привез архаровцев к Пречистенскому дворцу так, чтобы войти туда минут за десять до княжеского семейства и подождать его в сенях. Там их встретил нарочно посланный вперед княжеский адьютант Кондрашин.
– Государыня уже изволила выйти из своих покоев, сидит в дальних комнатах, играет в карты, - тихо сказал архаровцам Кондрашин - Туда не суйтесь. Менуэт уже проплясали, польский проплясали, будут плясать контрдансы. Давайте, проходите живо, покамест не пляшут. И тут же, у дверей, ожидайте…
Федька еще в карете напялил красный капуцин с черным бантом на левом плече - несомненно, тайным знаком для неких любовников, уже давно позабывших о своем амурном приключении. Капуцин, хранившийся в чулане у Шварца, несколько отсырел и от него веяло замогильным тленом, к тому же, он был рослому Федьке коротковат. Особливо смущал архаровца капюшон, то некстати сползавший на глаза, то не вовремя сползавший на затылок. Маска, обрамленная кружевом, разумеется, тоже оказалась с норовом - Федька от неудобства постоянно морщил нос.
Зазевавшись в сенях, он потерял из виду товарищей, а когда заметил их отсутствие - понял, что они уже вошли вслед за провожатым в двери.
Спеша догнать архаровцев, Федька вошел в маскарадную залу и обмер. Все вокруг шумело, звенело, вопило, визжало, пихалось, дергалось немыслимым образом. Даже если бы тут разом свершились десять убийств и двадцать похищений - догадаться о том полиция смогла бы лишь наутро, подобрав трупы и выслушав рыдающих родственников.
Ему показалось, что впереди мелькнул голубый капуцин, который напялили на Клавароша. Федька устремился следом, но голубое пятно пропало, вместо него было множество иных. Умнее всего было бы вернуться к двери, но толпа оттащила Федьку в непонятную сторону, и он уже не понимал, как пробиваться к сеням.
Где-то в этой суматохе должна была возникнуть Варенька Пухова.
Разноцветные капуцины, шелковые и атласные, со свистом и шорохом пролетали мимо, сверху гремел оркестр, Федька задрал голову - и едва устоял на ногах, получив весомый удар в бок. Замаскированная дама гренадерского роста спешила сквозь толпу, сбивая своими необъятными фижмами людей и даже мебель. За ней гналась невысокая маска, крича по-французски. Дама отругивалась басом и по-русски. О дальнейшем их продвижении Федька мог судить по визгу, ругани и хохоту - дамы, которых бесшабашная маска уронила на пол, барахтались, путаясь в сбившихся юбках, и поднимались при помощи кавалеров.
Федька вздумал было преследовать высокую даму, но тут мимо него пронеслось вприпрыжку шестипудовое дитя в чепчике и с преогромной азбукой подмышкой, также сбило с ног несколько человек - его азбука была изготовлена из дубовых досок в два пальца толщиной, не иначе, - и с гиканьем поскакало далее.
Вскоре до него дошло, что приличная публика не толчется в этом столпотворении, а веселится более пристойно в иных помещениях. Здесь же завязывались стремительные амурные интриги - до того отчаянные, что Федька вынужден был с силой ударить по руке наглую маску, догадавшуюся ощупать сквозь капуцин его зад. Если Волконские с Варенькой и приехали - то они, скорее всего, уже там.
Незнакомка в голубом капуцине ухватила вдруг Федьку под руку, вцепилась мертвой хваткой, изумила тяжелым и сладким ароматом, молча и торопливо прошла вместе с архаровцем с дюжину шагов, затем рука в широчайшем рукаве выскользнула, дама забежала Федьке за спину.
– Прекрасная маска, ты приехала одна? - услышал он и повернулся. Вопрос был задан высокой статной маской в треуголке с черным плюмажем.
– Как можно? Старик мой тащится за мной!… - и незнакомка с голубом капуцине метнулась в сторону, проскочила между двумя неповоротливыми масками и скрылась в толпе. Федька вздохнул с облегчением.
В соседнем помещении было малость спокойнее, лакеи бесстрашно разносили напитки и угощение, а уж в третьем развлекались на модный светский лад. Еще покойная государыня Елизавета ввела в моду, а ныне здравствующая государыня сию моду всячески поддержала, русские старинные наряды. Знатные господа платили портным деньги, чтобы пощеголять в ямщицком наряде - правда, из дорогих привозных тканей. Дамы и девицы велели себе шить сарафаны и парчовые душегреи. Особенно ценилось умение точно воссоздать наряд тверской, калужской или же подмосковной крестьянки - цена такого наряда, впрочем, была немногим менее, чем придворного платья.
Здесь водили хоровод и пели очаровательную песню:
- Во селе, селе Покровском,
Среди улицы большой,
Разыгралась, расплясалась
Красна девица душа…
Федька, совершенно забыв о своем ремесле, остановился и слушал, затаив дыхание.
А потом с ним от песни сделалось что-то странное.
Он словно бы воспарил туда, где голова трудится как-то иначе, зато громко слышен голос сердца, и лишь оно имеет право распоряжаться плотью.
Сердце отделилось от тела и понеслось вперед, безошибочно прокладывая себе дорогу сквозь пестрейшую толпу, а Федька спешил за ним следом, уклоняясь от хватающих рук в разноцветных перчатках. Эти руки исхитрялись все же обнять его на лету за шею, неведомо чьи уста выкрикивали в ухо соблазнительные слова, некая дама приняла Федьку за своего махателя и молниеносно назначила свидание в известном месте, в третьем часу ночи, некий кавалер доложил ему, что через час будет подана к крыльцу карета, и хлопнул по плечу, - очевидно, приятели затевали похищение маскарадной прелестницы. Федька только мотал головой и летел дальше, дальше, за сердцем… и остановился вдруг, тяжело дыша, потому что более бежать было незачем…
Каким-то дивом толпа, расступившись, образовала коридор в шесть, не более, шагов, и Федька увидел даму в белом капуцине, в черной маске, в черных перчатках. Это была Варенька Пухова - лишь она могла так отрешенно стоять у стены, чуть наклонившись вперед, как если бы и ее сердце в полет отправилось, а она от растерянности медлит…
И она была совсем одна.
Федька сделал шаг и другой, совсем ополоумев от волнения. Маска в белом капуцине сделала шаг и другой - ее тоже несло над паркетным полом, она тоже ног под собой не чуяла. На третьем шагу они встали - друг против дружки, глядя в глаза и не умея выговорить хоть единое приветственное слово. Господь хранил их - толпа их не задевала, и даже известные маскарадные любезности были не так громки и визгливы, чтобы нарушить их тишину…
– Вы… - сказал Федька.
– Да, - ответила Варенька шепотом, но он услышал. И даже не осознал сгоряча, что свершилось чудо: как он ее - так и она его узнала в толпе непостижимым образом, словно бы ее предупредили - вон тот ополоумевший молодец в красном и есть полицейский служитель Федор Савин.
Безумие росло, разворачивалось ввысь и вширь, безумию было дозволено все в этот вечер - и Федька взял две маленькие руки в черных перчатках, словно собираясь вести Вареньку на танец, хотя танца поблизости не было. И она не отстранилась, только чуть сжала его пальцы, как если бы призывала к молчанию.
Федька даже не подумал, что следует куда-то увести девушку, ведь есть же тут гостиные с диванами, с канапе, где можно говорить, не опасаясь, что какой-нибудь переряженный гренадер собьет с ног огромными фижмами, что кинется приставать обознавшаяся маска…
Он был счастлив и так - посреди галдящего маскарада. Он держал за руки любовь свою единственную - и руки эти не ускользали, а о большем он и мечтать не мог!
– Как хорошо, - сказала Варенька. - Я убежала от них… Они меня найдут, но… Но я знала, что еще раз должна вас увидеть… Судьба моя скоро решится…
Федька не знал, что отвечать. Он и слова-то Варенькины с трудом разобрал.
Но его нисколько не удивило, что Варенька знала о его присутствии на маскараде. Не в том он был состоянии, чтобы удивляться чудесам, - вокруг было сплошное чудо, и душа дышала чудом, наконец-то обретя подлиный свой воздух, и в ином счастье он не нуждался…
– Не дай Бог, прикажут идти под венец, - продолжала Варенька, ничего не объясняя - она полагала, что Федька прекрасно знал ее обстоятельства. - Полагая в том мое счастие… А деваться-то и некуда…
И точно, государыня - не Марья Семеновна, кричать и грозиться, что босиком выйдешь на крыльцо, нелепо. Это Варенька, при всей пылкости своей души, очень хорошо понимала. И болезненно ощущала свою зависимость от женщины, с которой ее давным-давно непонятно что связало.
– Вы, сударыня, еще встретите свое счастье, - довольно громко сказал Федька. - Суженого на коне не объедешь.
– Нет, сударь, был у меня суженый, а теперь осталось только Богу за него молиться, - пылко возразила упрямая Варенька. - Все, что могла я в сей жизни получить, уж получено. И я любила, и он меня любил, и сего чувства мне до конца хватит… все ему отдала, все, ни капельки не оставила…
На это Федька возразить не мог - и слов-то таких не знал, чтобы о нежных чувствах спорить. Как многие мужчины, кстати, способные на сильнейшую привязанность, говорить об этом он был просто не в состоянии.
– Напрасно вы так, - буркнул он наконец. - Не по-божески это… Вам замужем нужно быть, деток рожать…
– Да как же замуж, коли я Петрушу люблю и вечно любить буду? - удивилась она. - Что я своему мужу дам? Одну покорность? Нет, нет, я государыне в ноги брошусь!… Все ей скажу!… Она смилуется, она…
И замолчала. Федька подумал было, что она увидела в толпе кого-то, внушившего ей страх, и притянул девушку к себе. Она не воспротивилась.
Все время этой краткой беседы Федька с Варенькой так и держались за руки, и их пальцы вели свой особливый разговор: Варенькины улаживались поудобнее, Федькины давали им надежное убежище. Четыре руки склеились вместе и им было хорошо в этом слиянии, а владельцы этих рук произносили слова, на самом деле мало что значившие.
– Я боюсь… - сказала вдруг Варенька. - Пустите, ради Бога…
И зашевелились тонкие пальчики, пытаясь обрести свободу. Но при этом Варенька сделала шаг вперед, совсем крошечный шажок, и они оказались совсем близко - как если бы перед поцелуем.
– Нет, нет, - взволнованно произнесла она. - Вы не понимаете… Так быть не должно… Я одного любить обязана, у меня такого нет, чтобы сегодня одного любить, а завтра иного… Пустите же…
Будь Федька чуть поопытнее в делах сердечных, он хоть призадумался бы о причине страха. Причина была высказана Варенькой довольно откровенно: она говорила не о князе Горелове, не о заговорщиках, не о строгой государыне, желающей раз и навсегда решить ее судьбу, то есть об опасностях очевидных, а повторяла сейчас все те же мысли о покойном женихе, слышанные Федькой уже не раз. И то, как она цепляется за воспоминания, пытаясь найти в них спасение от новых чувств и переживаний, много бы сказало человеку опытному.
Однако Федькин опыт сводился пока к хватанию злоумышленников.
– Не бойтесь, сударыня, - сказал он. - Вы же… вы тут со мной… никто вас не тронет!… Никого тут нет!…
И точно - в маскарадной суматохе, кипящей и бурлящей вокруг них, не было живых людей, живых голосов - одни лишь визги, невнятный гул да разнообразные на ощупь ткани, бояться маскарада было бы нелепо, и Федька рад был бы увидеть врага, чтобы повергнуть его к Варенькиным ногам, но врага никак не находил. Меж тем ее страх становился все деятельнее, Варенька вырвала-таки руки из Федькиных рук и попыталась убежать.
Федька и в таких переделках бывал. Он знал, что беззащитное существо редко позволяет себя спасти без лишних приключений, а обычно всячески противодействует спасателям - кричит, ругается, падает наземь или пытается сбежать неведомо куда. Поэтому он Вареньку не отпустил, а ловко облапил и прижал к себе левой рукой, сам же озирался в поисках источника тревоги, правой рукой одновременно шаря под алым атласом капуцина - на поясе у него был нож.
Но не объявилась никакая опасность - маскараду были безразличны эти двое, замершие в самой толчее, и вокруг них завихрялись его потоки и струйки, как если бы они были камнем посреди ручейка. Маскарад жил своей жизнью, своими интригами, своим шумом, предоставляя каждой паре, вдруг обретшей друг друга, надежнейшее в мире убежище - безликость, а также полное безразличие окружающих.
– Нет, нет, - шептала Варенька, и Федька решительно не желал услышать в ее голосе: «Да, да…»
Наконец она изловчилась, вывернулась и оттолкнула его, но убегать не стала. И Федьке показалось, что она желает услышать от него еще что-то, весьма важное.
Что бы в тот миг могло быть важнее любви - он не знал.
– Я люблю вас, - негромко сказал Федька. - Я люблю вас.
– Нет, нет… - услышал он.
Кабы это было подлинное «нет», она не осталась бы, она бы поспешила прочь и затерялась в маскараде, она же отступала, пятясь, мелкими шажками.
– Я люблю вас! - повторил он, удивляясь звучанию собственного голоса: ему казалось, что голос перекрыл и оркестр на хорах большой залы, и шум голосов, и крики шалящих масок.
– Нет, нет, нельзя…
Варенька всегда была непредсказуема. Вот и сейчас - сделав два шага, она вновь оказалась рядом с Федькой, да еще встала на цыпочки, да еще доверчиво положила руку в черной перчатке ему на грудь.
– Вы лучший из людей, вы самый смелый, самый благородный, - сказала она. - Вам Господь другую любовь пошлет! А меня, может, завтра из Москвы прочь повезут, в обитель! Прощайте, друг мой единственный, прощайте…
И, выпалив эти безумные слова, она повернулась наконец и побежала через толпу, разорвала цепочку танцоров, скрылась за высокими и статными масками.
Федька кинулся следом.
Он был счастлив безмерно и беспредельно!
Но счастье его оборвалось от сильного удара по плечу.
– Смуряк охловатый! - услышал он. - Где тебя черти носят?!
Это был Михей Хохлов в зеленом капуцине с белым бантиком у правого плеча, и говорил он весьма громко и внятно. Он бы мог и целую проповедь тут прочитать, взгромоздясь на стул, на байковском наречии - никто бы в общей суете не обратил на нее внимания.
– Да тут я, - растерянно и обалдело, словно только что грохнулся с высоты на землю, отвечал Федька.
– Тут ты! Девица-то пропала! Была с князьями, с княгиней и княжной, и сгинула куда-то!
– Тут она, вон туда побежала, - показал Федька.
– Ты сдурел?
– Точно она. В белом, в черной маске, черных перчатках…
Михей уставился на товарища в недоумении - знать сие Федька никак не мог.
– Похряли, - велел он. И оба поспешили через толпу туда, куда устремился Федькин перст в дешевой нитяной перчатке.
– Князь беспокоится сильно, - говорил Михей. - Девка-то у него дома безвылазно сидит, в кои-то веки ее вывезли, и пропала… не вышло бы дурна…
Тут лишь Федька вспомнил, для чего его на маскарад послали. И взволновался - коли по уму, ему следовало, едва опознав Вареньку, убедиться, что поблизости находятся ее покровители, а не радоваться тому, что она от них сбежала.
Он рванулся вперед, сшиб кого-то с ног, его громко обругали, он огрызнулся, и тут Захар увидел вдали мелькнувший белый капуцин. Они кинулись вдогонку и увидели, как захлопывается дверь в стене. Варенька несомненно была уже за той дверью.
Дворцовые коридоры, предназначенные для прислуги, были узки, темны и крайне неудобны, они огибали залы, имели множество загадочных выходов, к тому же, пересекались между собой диковинным образом - ибо архитектор Казаков, соединяя три здания в одно, перемудрил. Для чего бы Вареньке лезть в это хитросплетение - Михей с Федькой понятия не имели.
– Ты - направо, я - налево, - сказал Михей. И они разбежались, причем Федька, почуяв вдруг опасность, нашел-таки висевший на поясе нож и зажал рукоять в левом кулаке. Правый предназначался для любимого архаровцами кулачного боя.
Насколько красиво были отделаны стены в залах и гостиных, настолько нехороши они были с изнанки - сколоченные из плохо просушенных и даже ничем не выкрашенных досок. Федька знал, что после отъезда государыни причудливое сооружение господина Казакова пойдет на слом. И, мотаясь по странным закоулкам и тупичкам, освещенным лишь благодаря несуразно расположенным окнам, вписываясь в дуги и огибая углы, он тихо клял последними словами изобретателя сего плана. Здесь мог потеряться драгунский полк, а не то что девушка в белом капуцине и черной маске. Вдруг он услышал быстрые шаги и вжался в стенку, поскольку в узком коридоре двоим было не разойтись, особенно коли второй - дама в фижмах.
Чудеса этого маскарада продолжались - к нему спешила Варенька.
Она еще не видела Федьку, да и не смотрела перед собой, а искала выход. Нашарив ручку, она попыталась отворить дверь, но дверь оказалась на запоре - возможно, оба они, и Федька, и Варенька, носясь по коридорам, забежали в ту часть дворца, где расположены были личные апартаменты государыни и ее свиты.
За окном как раз зажгли для чего-то огонь - то ли примчалась карета, сопровождаемая всадниками с факелами, что строго запрещалось в столице, но в Москве, да еще в предпраздничные дни, сошло бы нарушителю с рук, то ли что-то, не дай Бог, загорелось. Федька не раз бывал на пожарах, которые тоже подпадали под юрисдикцию полиции, и первым делом подумал, что дворец в опасности. Он кинулся к Вареньке - ведь именно ее и следовало спасать в первую очередь.
– Скорее, сударыня, скорее! - крикнул он. - Я вас выведу отсюда!
Варенька, похоже, совершенно не удивилась.
– Да, да, - сказала она. - Ведите меня к господину Архарову! Это очень важно! Ах, это он, это он…
Кто-то спешил следом за Варенькой. Судя по ее испугу - не с благими намерениями.
Федька заслонил собой девушку и изготовился к бою.
Из-за угла выскочил некто в темном капуцине и в черной маске. Увидев Федьку, он остановился.
– Ты кто, сударь, таков? - строго спросил Федька.
Варенька была сильно напугана - вместо того, чтобы переждать беду за широким Федькиным плечом, бросилась бежать по коридору, дергая ручки выходящих в него дверей, и одна подалась, Варенька буквально провалилась в распахнувшуюся дверь.
Будь она в черном капуцине - то растворилась бы во мраке тесного коридора, исчезла непонятно где. Но она была в белом - и долговязый ее преследователь заметил место, где она скрылась.
Самоуверенности этому господину было не занимать - он побежал следом, совершенно не обращая внимания на Федьку.
– Стой, сударь! - архаровец ухватил было его за плечо, но каких-то ничтожных долей вершка не хватило - пальцы вместо плеча получили в добычу пустоту. Это показалось Федьке странным - он был быстр и ловок, а кавалер в маске, выходит, еще быстрее и ловчее?
И более того - незнакомца перед ним уже не было.
Федька верил в Господа, Богородицу, всех святых - и самую малость в привидения. Кабы ему не пришлось выслеживать некий вороватый призрак, гуляющий с зажженным фонарем по чердакам, после чего пропадало сушившееся белье, верил бы поболее.
Поэтому Федька резко развернулся и тут же понял, что произошло: преследователь Варенькин, быстро присев, проскочил у него под рукой. И успел совершенно бесшумно удалиться шага на три.
Вот когда Федьке пригодился бы тот крюк, которым он орудовал в чумную пору, служа в мортусах!
Он не видел, как Варенька проскочила в отворившуюся дверь, и отсутствие белого пятна во мраке его испугало. Тут уж было не до церемоний. Федька выругался по-простому и погнался за незнакомцем. Вся погоня уложилась в два шага - тот обернулся, и по одному этому развороту, по очертаниям силуэта Федька понял, что под рукавом черного капуцина в руке у противника - нож.
Но он и сам был вооружен ножом, а кроме того, Клаварош показывал ему ухватку - как останавливать удар скрещенными в запястьях руками.
Надобно было лишь иметь довольно самообладания, чтобы позволить врагу замахнуться первым.
С самообладанием у Федьки не все было ладно -природная горячность мешала. К тому же, ему редко приходилось бить ножом - все больше кулаками. И он невольно встал в привычную левобокую стойку. Тут-то противник, не догадавшись, с кем имеет дело, на него и бросился.
Федьку спасло то, что его поза оказалась для врага неожиданностью - широкий капуцин и мрак в коридоре спрятали ее, скрыли, сделали неуловимой для взгляда. Удар пришелся в плечо - да и то Федька машинально отбил его и сразу же благословил противника кулаком. Этот удар сверху вниз всегда у него хорошо получался, но сейчас кулак лишь проскользнул по атласу черного капуцина. Противник опять исхитрился заскочить Федьке за спину.
Однако архаровец уже был внутренне готов к такому кундштюку. Он ударил с разворота, используя любимую архаровскую свиль - то скручивание стана, которое придавало удару-размашке неожиданную и стремительную силу.
На сей раз кулак достиг цели. И тут же Федька ощутил наконец боль в левом плече - не смертельную, но весьма неприятную.
– Ко мне, архаровцы! - заорал он. Все-таки вязать замаскированного незнакомца, привалившегося к стене, было бы лучше вдвоем с Михеем, а может, еще кто-то из своих поспешит на помощь.
Но противник оказался шустрый - кинулся бежать и, в третий раз пустив в ход свою ухватку, скользнул под руку устремившемуся на крик Михею. Только его и видели.
– Что это за ховрячишка? - спросил несколько растерявшийся Михей, подходя к Федьке.
– Кляп его знает… Плечо мне распорол, сукин сын… - и Федька вкратце описал драку.
– Так у него нож? Что ж он меня не ткнул?
– Незачем, поди, было. Он ведь знал, что и без того уйдет.
– Не мог он этого знать… Ну-кась, повершим…
Михей распахнул капуцин и достал из кармана огниво и свечной огарочек. Вспыхнул желтый огонек.
– Ну вот же, - сказал Михей. - Ты у него нож выбил.
– Спас тебя, выходит?
– С меня полпива в «Татьянке», - сразу понял тонкий намек Михей. И, подобрав с пола нож, присвистнул:
– Федя, глянь! Это ж наша пропажа!
– Мать честная, Богородица лесная, - невольно вспомнил Федька архаровское присловье. - И точно!
Нож был тонкий и длинный, вершков пяти, нож-убийца, весьма похожий на тот, что пропал из Шварцева чулана.
– Сейчас же идем к пертовому мазу, - решил Михей.
– Да погоди ты! Убедиться надобно, что она под присмотром…
– А куда она подевалась?
Вопрос был хороший и своевременный - поди теперь угадай, за какой дверью исчезла Варенька.
Попробовали дергать дверные ручки, попали в некую пустую темную гостиную, сделали по ней несколько шагов и услышали пронзительный бабий визг. Оказалось - спугнули пристроившихся в уголке на канапе любовников. Дали деру. Михей успел прихватить со стола трехсвечник с незажженными новенькими белыми свечами. Это облегчило им шатания по темным коридорам, огибавшим парадные апартаменты и залы. Наконец встретили лакея, тащившего поднос с пустыми бокалами, и он растолковал, как двигаться, чтобы отыскать его сиятельство князя Волконского. Князь, это лакей знал точно, играл в карты, ее сиятельство княгиня была поблизости. Княжна же с женихом где-то отплясывали. Девицы в белом капуцине и черных перчатках лакей нигде не заметил.
– А господин Архаров? - спросил Федька.
– Возле князя сидит, играть пособляет.
Гостиная, где собрались знатные гости, те, что приезжают в маскарад без глупых масок, одетые в дорогие мундиры, была по сути собственной гостиной государыни. Тут, вдали от шума и музыки, игра велась крупная - раньше Федька с Михеем только слыхали, как вельможи расплачиваются бриллиантами, а теперь и сами это издали увидели. Они попросили молодого нарумяненного лакея тихонько доложить господину Архарову - служебная-де надобность. Лакей высокомерно кивнул и вдоль стены, никому не мешая, направился к обер-полицмейстеру.
– Экий ламонный молодчик, - заметил Михей. - И букли загнуты ровнехонько…
– Наш Никодимка поламонистей будет, - возразил Федька. Никодимка считался среди архаровцев образцом красавчика и бабьего любимчика.
Архаров, услышав, что двое его орлов околачиваются за дверью гостиной, тут же встал и вышел к ним.
– Сюда, ваша милость, - сказал Федька, открывая перед ним дверь, ведущую в темный коридор.
– Вы нашли ее?
– Нет, ваша милость, - отвечал Михей. - Она где-то в залах, и надобно всех предупредить - кто-то ее выслеживает. На людях ей вреда, может, и не причинит…
– А кто таков?
– А черт его душу ведает, ваша милость. Вон, Феде плечо поцарапал.
– Заколют тебя когда-нибудь насмерть, Федька, ради этой девки. Как же быть-то?… Так. Ведите мне сюда первого же лакея. Нет хуже, чем девок стеречь. Вот только что рядом с княгиней была - и вдруг ее не стало, понеслась куда-то… а велено же ей было не отходить! Государыня, того гляди, игру закончит и к себе уйдет, на нее не поглядевши…
Федька перестал слышать недовольного Архарова. Рассудок отказывался принимать то, что осознало сердце: Варенька пошла навстречу ему, Федьке, потому что он страстно желал ее видеть, звал безмолвно, его душа летела на тайные знаки, подаваемые ее душой…
– Будет исполнено, ваша милость, - сказал Михей и пошел искать лакея. Вскоре он пригнал чуть ли не пинками какого-то напудренного красавчика, и Архаров приказал: пусть все здешнее лакейское сословие бросит прочие заботы и ищет девицу среднего роста в белом капуцине, из-под коего мелькает темно-зеленая юбка. Найдя же, пусть немедленно ведет… а куда?… Да вот сюда же, в темный и сырой коридор!
– А коли она не одна такая, в зеленой юбке? - разумно спросил Михей.
Воистину - это была тяжкая морока: вылавливать на маскараде среди охочих до шалостей масок Вареньку. Наконец ее отыскали именно там, где ей и следовало быть, - при княгине Волконской. Елизавета Васильевна и хотела сообщить Архарову, что пропажа нашлась, но понятия не имела, куда сбежал обер-полицмейстер.
Варенька, препровожденная к Архарову, была взволнована чрезвычайно: она, запыхавшись и ощущая боль в горлышке, успела-таки вернуться к княгине, ее представили государыне, а перед тем она слушала любовное объяснение и видела человека, которого надеялась в жизни более никогда не встретить.
– Вас, сказывали, некий кавалер преследовал. Кто таков? - спросил Архаров.
– Николай Петрович, он из тех господ, что в Кожевниках… - тут Варенька смутилась. Архаров понял - ей неприятно вспоминать, как глупо она попалась в ловушку шулеров.
На самом деле смущение было тройное - Варенька никак не могла выбросить из головы те несколько минут, что провела в обществе государыни, и страшно беспокоилась, что сказала что-то не то и не так; а громкое Федькино признание в любви не умолкало в ее ушах, перебивая все прочие слова, которые говорили ей окружающие. Поэтому ей было даже страшно посмотреть на Федьку, он же и сам отводил взгляд, потому что вдруг опомнился и не понимал, как у него хватило наглости говорить этой девице о своей любви.
– Как вышло, что вы его узнали? Тут маскарад, все в масках, - сказал Архаров.
– Он маску в руке держал. Я его там видела два раза… или даже три раза, он жил там, однажды он по коридору в одной рубашке пробегал…
– Прелестно. И что ж, кем он сейчас явился?
– Знатным господином, сударь. На нем капуцин распахнулся, а под ним кафтан дорогой, золотое шитье… волосы всчесаны и напудрены на модный лад, высоко…
– Что еще?
– Лет ему много, сорок, поди… - тут Варенька покраснела, вспомнив князя Горелова, коему было уж точно за сорок, однако случились дни, когда она его, видя в нем жениха, стариком не считала. - Сложения тонкого, худощавого… волосы у него тогда, в Кожевниках, были темные, лицо смугловатое, нерусское…
– Кавалер де Берни! - выкрикнул Федька.
– Побойся Бога, - одернул его Архаров. - Один кавалер де Берни у нас уже имеется.
Федька опомнился. Тот де Берни, что жил в доме отставного гвардейского полковника Шитова и навел на закопанную в подвале треть сервиза, был ростом невысок, сложением - плотен, и на вид ему было лет пятьдесят, коли не более.
И тут подал голос Михей, стоявший неприметно за спиной Архарова.
– А коли не господин де Берни, так это, прости Господи, сам черт.
– О Господи! - Варенька даже перекрестилась.
– И точно, что черт! - подтвердил Федька.
– С чего вы взяли?
– Рукой не ухватить… - начал было Федька и вспомнил, что один удар замаскированный незнакомец пропустил - тот самый, что вышиб из его руки длинный тонкий нож.
Нож этот обер-полицмейстер уже отнял у архаровцев и очень жалел, что нельзя сразу вызвать во дворец Шварца, чтобы он опознал свою пропажу.
– Ловок, как бес, - добавил Михей. - И исчез по-бесовски, как сквозь землю провалился. И ходит так,что стука не слыхать.
– Серой от него, часом, не разило? - полюбопытствовал Архаров.
Федька озадаченно понюхал правую руку, соприкасавшуюся с «чертом».
– Ну-ка, Федя, покажи мне, как ты с ним воевал, - вдруг попросил обер-полицмейстер. - Хохлов, ты за беса встань.
Федька изобразил, как он наступал на незнакомца, и заставил Михея проскакивать под своей рукой дважды - как оно и было на деле.
– Диво, что он тебе сзади пинка в гузно не дал, - заметил Архаров, совершенно не смущаясь присутствием Вареньки. - Чертей мне еще недоставало…
– Нет, Николай Петрович, сие не мистическое явление, - сказала не в меру храбрая Варенька. - Я его узнала, я его увидела, когда он у двери стоял и маску заново надевал. Для чего бы потустороннему явлению маска, когда оно может само изобразить любую личину? Я и побежала за ним…
– Для чего? - наконец спросил Архаров.
– Да коли он тогда исхитрился сбежать, то ведь много беды наделать может!
Аръаров тяжко задумался, припоминая события того лета. Сбежали при налете на шулерский притон, трое - князь Горелов, Мишель Ховрин и этот самый кавалер де Берни, они чудом ускользнули от архаровцев, стреляли в подвал, где лежала умирающая Варенька, ранили Степана Канзафарова и исчезли. Добыча, правда, была хороша - сам главный мошенник Дюкро-Перрен с подручными. Но те, кого, по мнению Архарова, следовало примерно наказать, сперва скрылись, потом же князь Волконский настоятельно рекомендовал не позорить отпрысков знатных родов. И в итоге вместе с отпрысками уцелел и загадочный де Берни…
– Запомнить следовало, во что одет, и тут же мне доложить, - сказал он Вареньке. - И мои люди бы его повязали.
– Николай Петрович, я не подумала, я не успела подумать… И маскарад же! Он бы затерялся в залах, право, затерялся бы!
– А теперь он знает, что вы, сударыня, его признали. Как далее было - он обернулся?
– Обернулся! Он уже в маске был. Так ведь и я была в маске!… - тут Варенька задумалась. По всему выходило, что загадочный кавалер узнать ее не мог. Кроме того, она при последней с ним встрече была так плоха, что он, надо думать, полагал ее уже живущей в раю с ангелами. Убегать от обернувшегося кавалера не имело смысла, более того - по одному тому, как она от него кинулась наутек, он догадался, что эта женщина знает о нем что-то нехорошее и смертельно его боится…
Архаров думал о том же и - примерно так же.
– Сбежал, стало быть, - сказал он. - И теперь мы его тут не выловим. Савин, Хохлов, от сей особы ни на шаг не отходить. А лучше всего - чтобы его сиятельство распорядился ее домой отправить. Идем, сударыня.
Они отыскали не самого Волконского, а Елизавету Васильевну.
Князь был занят - он вел крупную игру со знатными особами, в число которых с недавнего времени входил господин Потемкин, и выигрышем в той игре были мимолетные, однако очень важные договоренности о встречах и совместных делах. Напротив него сидела опасная соперница - графиня Прасковья Брюс, ровесница и любимейшая подруга государыни, не раз доказавшая свою преданность. Графиня приходилась сестрой генерал-фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому, а того молва произвела в незаконные сыновья покойного императора Петра Великого. Ладить с графиней и проигрывать ей было для князя Волконского куда как полезно.
А что касается фаворита - приезжие из столицы гости рассказывали, что с ним-де государыня и вовсе повенчалась. Архаров по должности знал цену подобным слухам: даже когда называется храм - Самсониевский, что на Выборгской стороне, даже когда известно, кто венцы держал, даже когда единственной спутницей царицы в этой важной поездке называют с чего-то не любезную Брюсшу, так потрудившуюся для пользы господина Потемкина, а всего лишь камерфрау Перекусихину, - все это еще не доказательство. Вот коли предъявят запись в церковной книге - иное дело.
Елизавета Васильевна была сильно недовольна тем, что Варенька вдруг потерялась, нашлась и опять исчезла. Поэтому мысль отправить ее домой под конвоем архаровцев княгине понравилась. Так и сделали.
К огорчению своему, Федька был оставлен во дворце - авось высмотрит своего противника. Клаварош как умел перевязал ему рану - неприятную царапину, и Федька отправился шататься по залам. Но толку из этого не вышло - господ в темных капуцинах и в черных бархатных масках было превеликое множество.
Архаров уселся с Елизаветой Васильевной на канапе. Он не любил этак восседать с дамами - ему казалось нелепым, что колени его прикрыты складками, воланами, широкими рюшами и кружевами их пышных платьев. Однако страшно хотелось знать, как государыня поглядела на девицу Пухову и что при сем сказала.
– Поглядела без особой нежности. Я же ее представила ее величеству как воспитанницу княжны Шестуновой, не Бог весть сколь почтенное звание. Да и представила как бы ненароком - словно бы не знала, что ее величеству угодно было видеть Вареньку.
– И что же?
– Изволили спросить, просватана ли и есть ли жених на примете.
– И что?
– Тут моя голубушка и брякни - жених скончался! Я уж испугалась - сейчас пойдет про обитель чушь нести! Однако государыня чувствительна, и это оказалось весьма кстати - Брюсша тут же вмешалась. Нехорошо, говорит, в маскараде о печальном толковать, надобно веселиться! Умница Брюсша, выручила. Государыня тогда спросила, помнит ли Варенька родителей своих.
– И что же?
– Варенька сказала - жила-де лет до шести или семи в деревне у старичков, звала их бабушкой и дедушкой, потом привезли ее в Санкт-Петербург, определили в воспитательное заведение для благородных девиц, его теперь все повадились Смольным институтом называть, но там у нее открылась легочная болезнь, и потому как-то вышло, что ее взяла на воспитание княжна Шестунова.
– То бишь, чистую правду ответила.
– Что про себя знала - то и доложила.
– И ничего более, ваше сиятельство?
– Государыня благосклонно отозвалась о Варенькиной броши, ну да это вам не любопытно.
– Мне все любопытно. Должность у меня такая.
Княгиня усмехнулась - менее всего был похож насупленный Архаров на петиметра, который без ума от дорогих побрякушек.
– Брошь замечательная и дорогая. Имеет вид большого букета из лилий - вершка два в высоту, не менее. Сколько живу - отродясь не видала голубого жемчуга.
– Голубого?
– Да, Николай Петрович. Серебряные лилии выложены жемчугом и гарнированы маленькими бриллиантами. А один ряд жемчужин - голубых с прозеленью. Некрупные, да цены им нет. Варенька перед тем, как быть представленной, сняла свой капуцин и брошь сделалась видна. Государыня изволила хвалить и спрашивала, откуда такая редкость. Варенька отвечала - прислана-де из столицы неким покровителем, а имени она не знает. Государыня велела беречь такую редкость и отпустила ее - велела идти в залы, танцевать и веселиться.
И оба они, княгиня и обер-полицмейстер, замолчали. Архарову страх как хотелось спросить - подметила ли Елизавета Васильевна по лицу государыни, что та обнаружила во внешности Вареньки некое важное сходство. Но княгине было бы нечего ответить на этот вопрос - она действительно не заметила ничего судьбоносного и рокового. Вернее всего, что государыня, готовая к встрече, сумела сохранить благопристойную приветливость и невозмутимость. Это ее умение уже было всем европейским дипломатам известно.
И эти голубоватые приметные жемчуга… Она их признала, сомнений нет, она видала эту брошь. А где и когда - неведомо. Не вызывать же царицу для допроса в полицейскую контору.
Маскарад продолжался, продолжалась и игра. Княгиню и Архарова позвали за карточный стол - там составлялась партия в тресет. Пришлось идти.
Домой обер-полицмейстер прибыл в шестом часу утра, измученный беспредельно - он самолично убедился, что клюющие носом канцеляристы исправно записали десять последних гостей, покинувших маскарад. Утром сия важная бумага должна была лечь на уборный столик государыни - Екатерину такие сведения очень развлекали. Сама она покинула праздник довольно рано, еще до полуночи, и ушла в свою спальню, куда шум почти не доносился. Фаворит отстал от нее на полчаса, не более, и то - ему принесли и передали маленькую, в две строки, записочку. Никому и в голову не пришло заглянуть через плечо и удостовериться, чей это почерк.
Вместе с обер-полицмейстером в особняк приехали хоть малость подремать Федька и Клаварош.
Сонный Никодимка раздевал Архарова, кляня подобные светские увеселения, Архаров же ничего не мог с собой поделать - мысли бодрствовали, клубились, одна цеплялась за другую, и вереница их неслась, таща за собой обер-полицмейстера, в какие-то сложные лабиринты, уже на три четверти в пространстве сна.
Шулер с нерусской внешностью проник на маскарад, куда пригласили дворянство и несколько десятков именитых купцов. Как проник - непонятно, для чего - неведомо. В карты, что ли, вздумал он сыграть с господином Потемкиным? Так за карточными столами знати все друг другу известны. Прокрался и исчез, как черт…
Вернее всего, что в маскарадной суете ему была назначена важная встреча. А с кем? Архаров оттолкнул Никодимку, норовящего уложить господские ножки на постель, и сам закинул их на льняную простыню, откинулся, вытянулся, ощутил блаженство. Статочно, что черт искал кого-то из свиты государыни, иначе для чего бы назначать рандеву в дворцовых покоях? Коли не он сам в свиту затесался…
Архаров принялся вспоминать - вроде, почти всех, кто приехал с царицей в Москву, он видел и узнал бы в лицо… хотя кому придет в голову разглядывать лица дворни? Нет, вряд ли, что шулер прибыл в обозе государыни, а потом переоделся в богатый кафтал и пошел плясать на маскараде, хотя с этих разбойников станется… для такого кундштюков надобна бесовская ловкость…
Черт?…
Время от времени на Москве случались неприятности с нечистой силой, после которых на стол к обер-полицмейстеру ложились «явочные». В одном доме бес повадился вещами кидаться, вплоть до чугунных утюгов, виновника так и не сыскали. В другом из запертой комнаты деньги пропали - тоже на чертей хозяева грешили, но там все оказалось куда проще… Протрезвевший извозчик, потеряв бричку с лошадью, клялся, что черт его по Козьему болоту таскал… А был и еще какой-то черт не так давно, был, Федька о нем толковал… и еще…
Сон запустил в явь свои длинные туманные щупальца, как баба пальцы в вязкое тесто, явилось несколько лиц, претендующих на дьявольскую сущность, и доводы их были безупречны по особой сложной логике сна. Архаров вдруг осознал это и, несмотря на усталость, стал из теста выкарабкиваться.
Тут-то и вспомнился черт с оплеухами!
Явственно вспомнился - два спятивших мужика о нем толковали, и это были крепостные… дай Бог памяти, чьи?… Черт гонял их оплеухами, а потом улетел. Возник же он… точно, он возник возле Брокдорфа, треклятого голштинца. Год назад, чуть поболее. И был загадочным образом связан с заговорщиками.
Приказав себе не забыть о нем, Архаров наконец позволил не только телу, но и душе расслабиться. Зевнул и уснул.
Проснувшись в девятом часу, он первым делом послал за Шварцем. Он знал, что немец любит вставать рано и идет на службу не прямиком, как шел бы всякий торопящийся человек с Никольской на Лубянку, а медленно, сворачивая в переулки, порой вообще забредая в торговые ряды - за пряниками. Но к этому времени Шварц уже наверняка дошел до Рязанского подворья, выслушал новости и занялся подвальными делами.
Никодимка, выслушав приказание, пообещал, что тут же отправит за немцем конюшонка Павлушку, и спросил, угодно ли их милостям Николаям Петровичам допустить до себя Орехова с Арсеньевым.
– Какой еще Орехов?
– С ваших милостей дозволения, Ваня Носатый.
– Он что, у меня тут?
– Ночью явились, добычу приволокли. Ждали наверху, ждали, видать, заснули, потому что не шумят.
– Поди за Ваней. И кофею мне изготовь крепчайшего! А что господа Тучков и Лопухин?
– Их милости до полусмерти в машкерадах уплясаться изволили! Спят, голубчики сердечные, и хорошо коли к обеду проснуться соблаговолят. Спиридон сейчас их башмачки чистить хотел, так чуть не плачет - впору, говорит, выбрасывать, до того уплясались!
– Потом съездишь со Спирькой к купцу Аинцеву, покажете ему стоптанные туфли, пусть новые даст. Пошел вон.
Аинцев, купец и промышленник, был пойман на неблаговидных делах - продавал обувь московской работы за немецкую и французскую. Но его производство кормило с полсотни человек, все - вольные и семейные. Архаров подумал и не стал давать делу ход, только обязал голубчика впредь так не чудесить. А поскольку мастера у промышленника были хорошие, обер-полицмейстер и сам не брезговал спосылать порой за туфлями. О плате и речи быть не могло - коли бы он вздумал платить, купец бы понял, что вышел из фавора, что нажил врага, и пошел мылить себе веревку.
Ваня спустился немедленно.
– Ваша милость, приказание исполнено, - гнусаво доложил он. - Господин де Берни схвачен. А поскольку ночью его добыли, то привезли сюда… приказано было - спешно, стало быть, на часы не поглядели…
– Почему вдруг ночью?
– Приказано было добыть, а он из дому не выходил, ваша милость. Узнали, что полковник Шитов с хозяйкой своей и со старшими дочками в маскарад едет, во втором жилье, стало, на помощь звать некого, и забрались к французу через окошко, той же дорожкой, какой он сам лазил.
– Молодцы! Сейчас кофею попью, все вместе в моем экипаже поедем на службу.
– Ваша милость, велите французу дать чего-нибудь надеть, штанов там, кафтанишка. Мы его в одной рубахе взяли.
Архаров поглядел в окошко. День обещал быть солнечным и жарким.
– Обойдется без штанов. Ты, Ваня, все в подвале сидишь, а мы наверху в такую погоду потом обливаемся. Будем, Иван Данилыч, милосердны.
Ваня усмехнулся.
– Как вашей милости угодно будет.
Не сказав более ни слова, он вышел. Архаров хмыкнул - вот был бы славный сыщик, кабы не драные ноздри. Вранье, поди, будто есть умельцы, которые новые ноздри наращивают.
Когда Шварца привезли на извозчике, Архаров уже допивал свой непременный кофей.
– Садись, Карл Иванович, - сказал обер-полицмейстер, распахивая на груди шлафрок пошире - в комнате было жарко. - Помнишь, как брали Брокдорфа?
– Помню, ваша милость.
Немец аккуратно сел на табурет, раскинув полы кафтана и уложив руки на колени.
– Никодимка, тащи еще чашку, налей его милости. Сухарики бери, черная душа, вон конфекты, крендельки сахарные. Ешь и припоминай.
– Взяли его по доносу мясника… мясника…
– Ага, вспомнил. Хрен с ним, с мясником. Как этот наш голштинец угодил в тот подвал, и с доктором вместе, откуда его выковыряли, помнишь?
– Я всего, сударь, в подробностях помнить не могу, ибо голова у меня всего одна, а для того, чтобы держать в памяти все полицейские дела, их бы надобно три или четыре, - с большим достоинством отвечал Шварц.
– Всего и не надо. Ну, припоминай. Когда наш Устин огрел Брокдорфа оглоблей поперек спины, актеришки поволокли его к доктору. И они толковали, что якобы им велел это сделать и дорогу показал некий черт…
– Николай Петрович, сударь, пьяные их враки вы сами матерно определить изволили…
– Изволил! Так вот, черт беседовал с Брокдорфом на неком чертячьем языке…
Шварц несколько забеспокоился. У Архарова после бессонной ночи вид был несколько бешеный, в глазах - легкое безумие…
– … и еще они запомнили, что у того черта было черное лицо. Далее - именно черт повел их всех к доктору Лилиенштерну. И еще одна причина, почему они того шалуна в черти произвели, - ходит бесшумно. Как кот. Помнишь, я еще чуть батогов не прописал тому дураку подканцеляристу, который все эти бредни записал, а потом не поленился перебелить?
– И точно, что бредни, - сказал Шварц. - Я вспомнил - потом сей черт в черной епанче им оплеух надавал и взлетел в небо, размахивая крыльями, в небе и сгинул. Канцеляристы у нас любят такие диковинки и нарочно их приберегают. Не угодно ли вам, сударь, еще чашку кофея? Наутро после ночи, проведенной в развлечениях, способствует стройности мыслей…
– Так вот, Карл Иванович! Черт этот вчера в Пречистенском дворце явился!
Шварц сперва отшатнулся от начальства, которое и на вид, и по речам казалось ему свихнувшимся. Но Архаров очень хорошо понял тревогу своего подчиненного.
– Черт-то в заговоре был замешан, помнишь, как в Сретенской обители оружие изымали? И он там околачивался, и оттуда Брокдорфа к доктору тащили! Все еще не сведешь концы с концами?
– Ваша милость, я был бы нижайше признателен, коли бы вы внятно поведали о явлении черта в Пречистенском дворце, - чинно произнес Шварц.
Тут лишь Архаров сообразил, что немец действительно не может сопоставить в уме события минувшего лета и минувшей ночи.
– Федьку мне кликни, - сказал он Никодимке. - Живо!
Архаровцы еще спали. Никодимка растолкал приятеля, и Федька, встрепанный, зевающий, был препровожден в архаровскую спальню.
Там он рассказал Шварцу, как дрался с бесшумным противником, а в доказательство упомянул найденный на полу длинный нож. Тут и Архаров велел Никодимке подать нарядный кафтан и самолично извлек нож из кармана.
– Твоя пропажа? - спросил он Шварца.
Немец задумался.
– Сие становится похоже на старую закопченную картину, - сказал он. - Видны лишь некоторые части. Нож, коим был заколот покойный Харитон, весьма смахивает на сей, но это не он, доподлинно вам говорю. Злобный кавалер, напугавший крепостных актеров, скорее всего, просто умеет ловко и бесшумно скакать, на манер твоего вчерашнего противника, Федя. Есть некая связь между тем и этим событием, но именно она скрыта под слоем копоти.
– Эк ты красно выражаешься, куда там Сумарокову, - заметил Архаров. - И добавь: тогда многое было связано с девицей Пуховой, и теперь, вишь, черт явился там, куда ее позвали. Жаль, не было меня при том, как ее государыне представили…
Шварц покивал - и верно, жаль.
– Ваша милость, а ведь тот, как бишь его, Фальков, тоже ловко через плетень скакал! - вдруг вспомнил Федька.
– Какой еще плетень?
– Это он, ваша милость! Он Абросимова ранил! - заорал Федька. - Он же, Христом-Богом клянусь! Все сходится!
– Нишкни. Вот мы и заполучили в противники черта, - сказал Архаров. - Ну что, надобно в столицу писать. Пусть там Брокдорфа вдругорядь допрашивают или его сиятельство князя Горелова. Кто там при них состоял… Что еще присоветуешь, Карл Иванович?
– Послать людей в Сретенскую обитель, может статься, там кто-либо вспомнит сего господина. Коли там знали Брокдорфа, то могли знать и его приятеля. Еще сие неведомо, точно ли сопровождала Брокдорфа к врачу, напала на Абросимова и сражалась с Федором одна персона. Может статься, их именно три.
– То бишь, мы имеем не черта, а свору чертей? Премного тебе благодарен, Карл Иванович! - Архаров вздохнул, обнаружил в руке своей недогрызенный сухарик и взялся за него весьма свирепо, только крошки полетели.
– Жаль весьма, что не велась запись всех посетителей маскарада, - сказал Шварц. - Никодим, принеси еще сухарей.
– Первые десять и последние десять, чтобы государыню повеселить, а надобно было всех писать! - воскликнул Федька.
– Тебя не спросили, - буркнул Архаров. - Карл Иваныч, ты коли хочешь есть - не стесняйся. С поварни принесут. Федя, поди вниз, тебя в людской покормят.
Допустить архаровца к собственному столу - такого с ним почитай что не бывало. Хотя и тут были свои тонкости - обер-полицмейстер преспокойно мог сидеть внизу, в людской, за общим столом с крепостными, но маленький столик в спальне имел в его глазах совершенно иной статус. Ибо столик служил для кофея, напитка по отношению к пиву или квасу высокопоставленного, а на архаровской кухне кухне всякий день готовили блюда простые, чуть ли не деревенские, - рубцы, или телячью голову, или щи с печенью, или щи с бараниной, или гуся с груздями, а также студень из говяжьих ног и каши вдоволь.
Потом Никодимка побрил и причесал барина. Шварц, полагая сию процедуру интимной, вышел и ждал внизу, в сенях.
Глядя на кафтан из плотной шелковой ткани, предлагаемый камердинером, Архаров едва не застонал - и в камзоле-то жарко! Лето выдалось неудобоваримое - обер-полицмейстер сильно потел. Матвей уверял, что это от излишнего дородства, но Архаров не находил в его рассуждениях смысла.
– Слушай, Никодимка, а не обрить ли мне башку? - спросил он. - Все легче станет.
– И париков накупить? - сразу догадался камердинер. - Как у Карла Иваныча? Не-е, не стоит.
– А чем плохо?
– Так, ваши милости, за версту же видать! Вон у него летний паричок нитяной, он коли под дождем намокнет - можно выбрасывать, тряпка и тряпка. И грязь собирает, копоть всякую, пыль. И при мне его Карл Иванович терял, все смеялись. Опять же, на зиму нужны парики из бараньей шерсти, а поди сыщи хороший…
Архаров вздохнул. И позволил окончательно привести себя в галантерейный вид.
Внизу его ждали Шварц, Ваня Носатый, Тимофей, Федька, Клаварош и невысокий человек, замотанный в одеяло и босой. Архаров догадался, что под одеялом у него связаны руки.
– Мусью де Берни? - спросил он, хотя и так было ясно. - Не обессудь, мусью, сам напросился. Клаварош, ты кстати тут оказался. Карл Иванович, Ваня, поедете со мной в экипаже, и мусью туда же. Прочие, хватайте извозчика. Или, коли угодно, на запятки.
Де Берни вдруг заговорил, и весьма возмущенно.
– Штанов, что ли, просит? - догадался Архаров. Сашины вечерние уроки, очевидно, застряли в голове.
– Именно так, ваша милость, и еще желает получить туфли, - подтвердил Клаварош.
– Скажи ему - туфли получит не раньше, чем расскажет нам всю правду. А пока пусть ходит босиком. Вон, в такую жару пол-Москвы босиком гуляет.
Клаварош перевел, выслушал ответ и повернулся к Архарову несколько смущенный.
– Я понял - варварами нас честит. Ну так и перетолкуй ему - с кем поведешься, от того и наберешься. Вольно ж ему было в Россию к варварам ехать! Карл Иванович, поезжай с молодцами на извозчике, а Клаварош - в экипаже.
За такими беседами с плененным французом как-то незаметно докатили до полицейской конторы.
Ваня Носатый сидел напротив Архарова, придерживая узника. Он прекрасно понимал: обер-полицмейстер знает его нелюбовь к гуляниям, потому и взял в карету. Не то чтоб Ваня действительно стыдился изуродованного лица - он как-то в нескольких словах обрисовал Архарову, за что был наказан, и тот согласился, что за дело, по справедливости, - а ему было неприятно, когда люди таращатся на хорошо одетого детину без ноздрей. Кабы он был в лохмотьях - иное дело, Москва и не такие рожи видала.
В конторе пленника отвели в архаровский кабинет и усадили на стул. За спинкой стула встали Ваня Носатый и Захар Иванов. Сам Архаров, отметив самостоятельное поведение Вани, но не возражая, сел за свой стол, обитый красным сукном, уперся в него локтями, прпстроил подбородок на сжатых кулаках и некоторое время изучал недовольное лицо француза.
– Черт с тобой, - вдруг заявил он. - Одевать тебя не стану, сам разденусь. И будем толковать на равных. Ваня, Иванов! Разматывайте его! Клаварош, подсоби-ка мне!
Вскоре он сидел напротив своей добычи одетый примерно так же - разве что француз был в широкой рубахе, без штанов и босиком, а Архаров - в рубахе, портках и белых чулках.
– Скидывай кафтан, Клаварош, - велел он. - Испечешься заживо, а нам и невдомек, по какому обряду тебя отпевать.
После чего задумался, припоминая все то, что рассказывали ему о французах господин Захаров и князь Волконский.
Заодно решил сегодня же послать кого-нибудь к Захарову, и коли старик жив - хоть доброе слово ему передать. А коли умер - надобно узнать о похоронах. Есть, право, некий смысл в том, чтобы помирать жарким летним утром - не будет впереди мучительного дня, а солнце, наполняющее комнату, веселым своим светом внушает надежду - вот сейчас душа и воспарит, опираясь на лучи, в радостную высь, и будет ей там прощение и блаженство…
Молчание затянулось - никто не смел нарушать обер-полицмейстерских размышлений.
– Растолкуй ему, что коли он доподлинно де Берни, то ему грозит сибирская каторга за то, что шпионил в пользу своего короля, - сказал наконец Архаров.
Клаварош исправно перевел. Француз что-то заносчиво ответил.
– Мусью?
– Он полагает, будто российские власти не имеют права…
– Не имеют?! - Архаров нехорошо засмеялся. - Захар, спустись-ка к Шварцу, глянь, чем он там занимается.
– Будет исполнено, ваша милость! - браво отвечал полицейский и выскочил из кабинета.
– Мусью, ты пока помолчи, - велел Архаров Клаварошу. - Переводить не надобно.
– Я подданный Франции, - сказал де Берни по-русски.
– Знаем, слыхивали. Помолчи и ты, сделай милость.
Архаров уставился на бумаги, как если бы старательно их изучал.
Клаварош в изысканной позе прислонился к стенке. Де Берни сделал ему какой-то вопрос, ответа не получил и несколько забеспокоился.
Наконец явился Иванов.
– Ну что он?
– Кнутобойничать изволит, ваша милость. У него там те три дуралея, что тело в колодец спустили, так все друг на дружку валят.
– Прелестно. Иванов, возьми-ка ты этого господина за шиворот и отведи в нижний подвал. Усади там на лавочку, пусть полюбуется. Да еще Вакуле подмигни…
Монах-расстрига, которого Шварц подобрал в незапямятные времена и приставил к новому ремеслу, любил пошутить. Шутки были как раз таковы, как требуются ворам, насильникам, грабителям и прочим злодеям: Вакула подходил к ним с нахмуренной образиной, поворачивал и так, и сяк, мерил кнутовищем вдоль и поперек, подбирал веревки какой-то загадочной длины. На человека, еще не испытавшего прелестей нижнего подвала, все сии выкрутасы действовали весьма отрезвляюще и вразумляюще.
Захар Иванов ловко ухватил француза указанным образом и поволок из кабинета.
Архаров и Клаварош остались вдвоем.
– Что скажешь, мусью?
– Должно иметь действие.
– Полагаешь, ранее надобно было его брать.
– Нет, ваша милость. Следовало убедиться, что он имеет сношения… или же не имеет сношений…
– Будет тебе меня утешать, мусью.
Архаров желал прямого и открытого действия. Он устал соображать, соизмерять, складывать одни обстоятельства с другими, вычитать из того третьи обстоятельства, делить на четвертые и множить на пятые. Может, стоило бы еще сколько-то времени оставить француза под наблюдением - да только терпения более не стало.
Заглянул Клашка.
– К вашей милости господин Пушкарев.
– Впусти.
Пушкарев приплелся с жалобой на полицию. Улицы грязны, скользки, он ехал в экипаже, кони споткнулись и упали, было много суматохи.
– Мне уже донесли о том, сударь, - сказал Архаров. - Кони ваши не кованы, а кучера следует сечь немилосердно - он выехал, не имея в правом заднем колесе чеки. Да и над упряжкой вашей вся Москва смеется.
Обер-полицмейстер не имел ни малейшего желания галантонничать. Не в гостиной у княгини Волконской, чай. А Клаварош, на которого Пушкарев взглянул, словно прося поддержки, имел вид нарядной статуи - красиво расположившей тело в пространстве и с таким же пустым взглядом.
Москвичи уже довольно изучили его повадку. Когда обер-полицмейстер вот так говорил правду в глаза, лучше было поскорее убираться из кабинета. А то так глядит, как будто сейчас пудовым кулаком по темечку благословит. И, говорят, случалось…
Выпроводив кляузника, Архаров задумался. Ему было тяжко - уже не голова, а тело требовало: да сделай же что-нибудь! Обер-полицмейстер именно телом ощущал, как его измучила эта непонятная, необъяснимая суета с выныриванием частей сервиза.
Охота за блудным французским художеством чересчур затянулась.
В кабинет заглянул Захар Иванов.
– Угодно вашей милости видеть нашего голубчика?
– Тащи сюда.
Так же, как и уводил из кабинета, за шиворот, Иванов доставил и установил перед обер-полицмейстерским столом француза.
Знакомство с нижним подвалом учителя потрясло. Он знал, что московские варвары жестоки, но орудия жестокости оказались куда страшнее туманных рассказов.
И он заговорил - испуганно и страстно, прижимая руки к груди и норовя заглянуть Архарову в глаза. Иванов шиворота не отпускал - Архаров сильно не любил, когда посетители кабинета падали на коленки и пытались обнять его ноги.
– Он сказывает, - перевел Клаварош, - будто бы на самом деле зовется Дюбуа и отец его - простой мельник.
– Спроси, какого черта при поступлении в службу сам себя в кавалеры произвел, - велел Архаров. - Да еще с таким именем. Спроси, не знавал ли в столице кавалера де Берни и не воспользовался ли его приметами и бумагами.
Клаварош перевел вопрос и получил пространный и торопливый ответ.
– Ну, чего он лопочет?
– Ваша милость, он утверждает, что вступил в службу под своим истинным именем. У него и рекомендательные письма есть - прежде, чем у полковника Шитова, он служил в весьма порядочных домах, обучал французскому языку, письму, счету, и те письма дадены ему как господину Дюбуа.
– Иванов-второй! - крикнул Архаров, и, когда Клашка появился в дверях, приказал: - Ступай в канцелярию, подготовь ордер на изъятие бумаг французского подданного Дюбуа, я подпишу, поедешь к отставному полковнику Шитову из Санкт-Петербурга, где он, бишь, у нас квартирует… найди в бумагах адрес!
Фальшивый де Берни нечто произнес - весьма живо и убедительно.
– Сказывает - господин Шитов проживает в Скатертном переулке, в доме вдовы Огарковой, - перевел Клаварош. - И просит отметить, что добровольно и прилежно помогает розыску полиции…
– Ловкий мазурик. Когда и для чего назвался именем кавалера де Берни?
Сей вопрос оказался для француза затруднительным. Его круглая физиономия как-то поскучнела, поблекла. Архаров прочитал на ней даже некоторый испуг.
– Не отвечает? В подвале ответит. Тащи его туда, Иванов.
Но в подвал господину Дюбуа не хотелось.
Он взмолился Клаварошу, Клаварош что-то ответил ему весьма высокомерно, и между ними завязались стремительная перебранка.
– Он простой дурак из Бретани, - сказал наконец Клаварош Архарову. - Он дурак… он смуряк охловатый!
Архаров, хотя и был сильно недоволен, оценил попытку француза передать наивысшую степень глупости.
– И что он учудил?
– К нему пришел человек, сказался земляком, они выпили вместе. Тот господин заплатил ему деньги, чтобы он, знакомясь в Москве с людьми, всюду называл себя кавалером де Берни. И далее тоже платил деньги.
– За что же?
Вопрос был переведен на французский, ответ получен, но такой, что Клаварош картинно развел руками.
– Он не знает!
– Прелестно. Иванов! В подвал его!
Господин Дюбуа прекрасно понял сдово «подвал» - он завопил и попытался-таки рухнуть на колени.
– Он записки получал. В них были приказания. Ночью вылезть из дома через окно, пойти по улице, сделать два поворота…
Архаров исподлобья посмотрел на широкое лицо француза. Лжи не обнаружил.
Очевидно, тот и впрямь был простым человеком - в отличие от всех бывших кучеров и лакеев, беглых каторжников и прочего сброда, что ринулись в Россию и сделались домашними учителями, он действительно чему-то учился, умел преподать и грамматику, и даже геометрию. Все, чего он желал, - это исполнять свои обязанности, честно заработать деньги и вернуться домой. Он пожелал денег, не более, да еще и небольших денег…
– Нет, не врет, - глядя на пленника, задумчиво произнес Архаров. - То есть, он бродил вокруг Гранатного двора, сам не ведая для чего. А записки не сохранились?
Француз стал радосто что-то выкрикивать, так что Клаварош его даже одернул.
– Говорит - сохранились.
– Ну, стало быть, их сегодня же изымут. Мусью, сядь с ним и со Щербачевым, все запиши - что за человек к нему являлся, сколько денег платил, как часто он из дому в окошки лазил. И ведь не побоялся, с его-то сложением. Спроси его - как это он не побоялся?
Господин Дюбуа объяснил это просто. Кто-то был послан в дом вдовы Огарковой, сошелся с ее прислугой и, забравшись во второе жилье, приколотил к стене у окна палки, чтоб за них держаться. Теперь по крыше сарая могла бы спуститься и сама шестидесятилетняя вдова.
– Прелестно, - сказал на это Архаров. - А теперь, коли хочешь, чтобы тебе выдали штаны, вспоминай, как выглядел тот господин, что подбил тебя изобразить кавалера де Берни.
Речь Дюбуа была короче, чем хотелось бы Архарову.
– Тот господин из Прованса, - перевел Клаварош. - Образцовый провансалец.
– Что сие значит?
– Волосы черные, курчавые, тело… тело… с волосами… мохнатое…
– Волосатое, - поправил Ваня.
– Телосложением каков?
Оказалось, что телосложение отсутствует - Дюбуа сравнил своего соблазнителя с тростью. Что же касается роста, он уверенно указал на Клавароша. И без подсказки отметил голос - довольно высокий, пронзительный, даже иногда скрипучий.
– Иванов, ступай вниз, возьми в Шварцевом чулане какие-нибудь штаны, - велел Архаров. - Клаварош, переведи: пусть он в любую минуту будет готов опознать того мазурика. Немного погодя мы его отвезем обратно в Скатертный. Макарку к нему приставим, чтобы ни с кем не мог иметь сношений. Переведи - коли попытается кому послать записку, спознается с Вакулой. А то у нас еще Кондратий Барыгин есть - тоже ремни из спины славно нарезает…
Клаварош перевел и, видать, чего-то добавил от себя.
Дюбуа заговорил весьма буйно - клялся в своей благонадежности. Тут в дверь постучали, она приоткрылась, явилось лицо Тимофея.
– Ваша милость, я из Сретенской обители. Инока привез.
– Прелестно. Мусью, отведи пока соплеменника в конуру, где короба со старыми делами стоят. Может, он еще сегодня пригодится.
Архаров ощущал необычную радость - он успешно шел по следу! Все сдвинулось с мертвой точки, все ожило - силуэт врага стал обретать объем и плоть. Некто, похожий на Клавароша, бегал по Москве в полицейском мундире, подкупал дурака-учителя, плел интриги вокруг блудного золотого художества. Но Архаров уже держал в руке несколько ниточек, ведущих к этому человеку.
Одна из них была Марфа.
Когда в кабинети ввели старенького инока, отца Авраама, обер-полицмейстер распорядился послать Скеса в Зарядье - раз уж он начал сей розыск, он пускай и заканчивает. И приказал привести со двора Марью Легобытову с Епишкой, Тимофеевым сыном.
Когда все трое оказались перед ним, Архаров держал такую речь:
– Все вы видели некого мазурика. Вы, честный отче, присутствовали при том, как он беседовал с неким немцем, что повадился ездить в вашу обитель да и едва всех вас не погубил. Ты, Марья, вспоминай, как вышло, что к тебе дети попали, покамест я добрый. А ты, Епишка, слушай меня. Некий человек приходил к вам ночью, когда вы с мамкой в заброшенном домишке вздумали ночевать. Он вас всех троих куда-то повел. Потом вас кто-то к тетка Марье свел. Подумай хорошенько - один ли это был человек, или же разные люди. И все приметы, какие вы вспомните, сведем воедино.
– Я уж думал, - признался парнишка. - Их двое было. Ночью - я не разобрал, а днем - похож на нашего пономаря Кондрата.
Сейчас он чувствовал себя смелее и увереннее, чем во время их первого с Архаровым знаомства. И голос был бодрее, звонче, и взгляд - увереннее. Очевидно, Тимофей сумел разумно поговорить с сыном и внушить ему, что господин обер-полицместер в обиду не даст.
– Каков из себя был первый?
– Да не разглядеть же было… ваша милость! - выпалил Епишка, довольный, что вспомнил правильное обращение. - Он ведь ночью к нам приходил. Ругался - мы, сказывал, не туда забрались, ему только всякой шантрапы недоставало, вон гнал, говорил - ищите другого места.
Это было что-то совсем новенькое.
– То бишь, вы с мамкой забрались в брошенный домишко, а он туда пришел и стал ругаться, что-де вы чужое место заняли?
– Да, ваша милость, ругался по-всякому, а потом перестал.
– Что ж мамка ваша ему такого сказала, что перестал?
– Сказала, что мы пришли батю искать, что батя-де у нас в остроге, Тимофея-де Арсеньева она женка.
– И он ругаться не стал?
– Нет, ваша милость, не стал, велел мамке вдругорядь сказывать, кто мы таковы, откудова идем. И тогда говорит - ты-де, баба, говорит, Богу молись, что на меня тебя навел. Я, говорит, с мужем твоим еще до чумы был знаком и знаю, где его искать. Пойдем, говорит, что тебе тут сидеть, а у нас сегодня печь топили, детишек горячим покормишь. И мы пошли.
– И что, к тетке Марье привел?
– Нет, ваша милость! - закричала женщина. - Их ко мне днем уж привели! Ночью не приводили!
– Молчи, дура, не то вниз отправлю. А ты говори, Епишка.
И парнишка рассказал, как их привели на некий двор, как они там прожили несколько дней, три или даже четыре - тут он путался, как их там щами с бараниной кормили и сладкую молочную кашу на закуску давали. Потом же пришел человек, ростом не так чтоб высок, темнолиц, худощав, прямо пономарь Кондрат, только бритый, говорил с мамкой и дал ей надеть армяк. Сказал - к бате придется идти тайно, надобно ей переодеться и волосы спрятать. И она с ним ушла, а детей другой дядька к тетке Марье повел.
– Другой - это уж третий? - уточнил Архаров.
– Нет, ваша милость…
Оказалось, что к Марье Легобытовой Епишку с сестрицей отвел тот самый человек, что случайно набрел на них ночью в хибарке у китайгородской стены. Но сделал это ночью, так что Епишка и тут не разглядел его толком.
– Слышала, Марья? - строго спросил Архаров. - Молчи, не вопи, я говорить буду. Это твой знакомец, из мазуриков или из шуров. Там, в домишке, у них был шуровской или мазовской тайный хаз. И баба с детишками случайно на него набрела. А теперь говори - как приятеля твоего звать. И каков он лицом, статью, повадкой. Все говори! А ты, честный отче, слушай, и коли признаешь - тут же мне знак дай.
До сих пор все шло более или менее вразумительно.
Архаров знал, сколь тяжко сличать приметы по записанным показаниям: кто ни подвернись - у всех рост средний, лицо обыкновенное. Особая удача, когда Бог пошлет одноногого или одноглазого преступника - это всякий свидетель заметит. Бывало, про одного и того же человека первый свидетель скажет, что был в коричневом кафтане, второй - в синем, третий - в черном. Потому-то обер-полицмейстер и решился свести всех свидетелей в одной комнате.
Будь он сам свидетелем в таком деле - спокойно и деловито отвечал бы на вопросы, старательно помогая розыску.
Но они устроили такой базар, что хоть святых вон выноси. Епишка - тот перепугался и молчал, а перепуганная Марья принялась громогласно врать, что никто-де к ней не приходил, детей не приводил, а старенький инок тонким и дребезжащим голосишкой описывал почему-то, как архаровцы вломились год назад в Сретенскую обитель да всех насмерть перепугали. Говорили эти двое одновременно, не слушая ни друг дружку, ни Архарова. Наконец он разозлился и всех выставил из кабинета.
Душа его была слишком мала, чтобы вместить огромное нетерпение. Он собрал уже в кулаке множество разнообразных ниточек, оставалось связать их в узелки и получить хоть редкую, с прорехами, но уже дающую представление об узорах своих ткань.
Первое, что он собирался сделать - доказать самому себе невиновность Демки Костемарова. А потом - в погоню, в погоню! Можно же рассчитать, какой завиток узора должен заполнять прорехи!
Архаров лишь казался непоколебимо спокойным. Смешно было бы, кабы осанистый обер-полицмейстер, достигший той степени дородства, которая, на его взгляд, должна соответствовать чину, вдруг принялся метаться и восклицать, как щеголиха, которой парикмахер щипцами ухо прижег. Беспокойство было внутренним и постоянным, хотя иногда сидело в нем, затаившись и не подавая голоса. Когда же тревога пробуждалась - Архаров умел внешне никому ее не показать. Вот и сейчас - он собрал кучу сведений, половина из этой кучи была совершенно непостижима рассудком, и он был этим сильно раздражен, как будто в нескладице этой были львиная доля его вины. А со стороны поглядеть - крупный дородный господин, взмокший изрядно, с повисшими от жары буклями, в распахнутой на груди рубахе, стоял посреди кабинета неподвижно, как статуя, глядел в пол и молчал.
И когда он вышел, направился к узкой лестнице, спустился в прохладный верхний подвал и вздохнул с облегчением, тоже никто бы не догадался, что делается в обер-полицмейстерской голове.
– Карл Иванович, вели всем говорить, что по делу-де отъехал, - приказал Архаров и вошел в каморку с топчаном, застланным синим армейским суконцем. Там он растянулся и замер, дыша полной грудью. Следовало, избавившись от дурманящей жары, обдумать все подробно, свести концы с концами, но он уже не мог, не получалось, и вместо двух мазуриков, о которых он знал доподлинно, явилось целое их стадо - все худые, темноволосые, остроносые, и все, как один - французы… включая подлого Семена Елизарова и белобрысого Демку…
Кто же стоял за этой армией, совершавшей неожиданные отступления и наступления?
Тот человек непременно должен был знать подробности разгрома шулерского притона в Кожевниках. Он должен был понимать, что при имени «де Берни» полиция всполошится. Всей Москве известно, что у обер-полицмейстера имеются осведомители среди простого народа, и о французе, назвавшемся именем де Берни, довольно скоро станет известно…
Неужто это был сам де Берни?
Толковал же бедняга Дюбуа о некоем провансальце…
А Федька, кстати, особо напирал на нерусскую внешность мномого полицейского, что ударил ножом Абросимова. Он или не он?
А опрошенная прислуга притона вообще мало что знала о кавалере де Берни. Даже возникало подозрение, что лишь его имя слышала, но в лицо не видела. Может статься, злодей бывал в Москве наездами и по каким-то хитрым причинам останавливался не в Кожевниках, но приезжал гостем. Вот кабы Волконский дозволил круто разобраться с пресловутыми отпрысками знатных родов! Так ведь не позволил же - и дело о шулерах по-настоящему не завершилось, был отважный штурм притона, было спасение Вареньки Пуховой - но до конца все довести не удалось.
И какого черта беглый шулер заваривает теперь сию малопонятную кашу? А коли тут замешались французские шпионы - для чего им делить на части треклятый сервиз? (О шпионской деятельности у Архарова было весьма туманное представление).
Много, много было ниточек - вот сесть бы со Шварцем, с Клаварошем, с Левушкой, который тоже отличился при штурме притона, свести все вместе неторопливо… потому что в одиночестве архаровские мысли торопились и скакали, как блохи. Опять же, методичный Шварц мог рисовать на бумаге аккуратные кружки, соединять их линиями, то бишь - кто с кем во всей этой суете вокруг сервиза связан.
Архаров устал думать. Он и так в последние дни слишком много думал, сопоставлял, противопоставлял. Попросту говоря, кулаки у него чесались…
В дощатую дверь постучали. Архаров подскочил - вот сейчас явится нечто, позволяющее распутать клубок!
– К вашей милости с ботвиньей, - сказал Филя-Чкарь.
– Какая, к черту, ботвинья?!
Вошел Никодимка с корзиной.
– Так негоже ж, чтобы их благородия Николаи Петровичи в такую жарищу без холодненького службу исполняли! Ботвинья с крапивкой растертой, с лучком-перышком крошеным, с крутыми яичками, со свеколкой, на кваску ледяном! Нарочно извозчику лишнюю копейку дал, чтобы поскорее домчал, чтобы не согрелось! А к ней, ваши милости, семужка под лимоном, огурчики скоросольные! Извольте употреблять!
Счастливая рожа Никодимки вызывала смешанные чувства - хотелось дать камердинеру оплеуху, чтобы не встревал со своей ботвиньей в сложные умственные построения, а одновременно следовало его как-то поблагодарить. Все, что Никодимка делал на архаровской службе, он делал от души, а забавные его хитрости были шиты белыми нитками - вот ведь и извозчику он не переплатил, а просто знает, что Архаров выдаст ему вдвое больше против потраченного.
– А к ботвинье что? - спросил Архаров.
– Как полагается, ваши милости, - и Никодимка, сервируя трапезу на табурете, добыл из корзины фляжку и стопочку из хороших, серебряных, что подавались к барскому столу. - В жару-то много не выпить, а без того нельзя, без того - не ботвинья!
В стопочку он налил зверобойной водки, весьма полезной для здоровья, выложил на тарелочку ломтики черного хлеба, присыпал солью. Пока Архаров выпивал и наслаждался мгновенным действием водки на тело и душу, Никодимка выложил на другую тарелку тонко порезанную семгу к окрошке и встал, нагнувшись вперед, голову несколько скособочив и напустив на лицо ту сладкую дурь, которая с ума сводит дородных купчих. Он полагал сию пантомиму необходимым дополнением к ботвинье.
Архаров взялся за ложку. Повар Потап постарался, да и доехал ледяной квас быстро, да и семужка была хороша - но проснулась тревога. Архарову вдруг, ни с того ни с сего, показалось, что более он такой замечательной ботвиньи в жизни уж не попробует. Это было странно, и он задумался, не донеся ложки до рта: что бы сие означало? Какие неприятности предвидит душа? Что пытается подсказать разуму?
Но разгадки не было, и он доел ботвинью, вздохнул с облегчением, приказал Никодимке убираться и лег на топчан. Ему было плевать на то, что теперь творится наверху, - долгожданная дрема пришла, он не хотел ее упускать. Дела же никуда не денутся. Тем более, что впереди - несколько дней сплошной суеты.
Подремав с часик в прохладе, обер-полицмейстер выбрался наверх.
– Французишку свезти домой, приставить к нему Макарку, - распорядился он. - Легобытову никуда не выпускать, и детей также не выпускать. Тут единственное место, где эта дура в безопасности, и с семейством своим вместе. Инока также тут держать. Коли он того черта видел - то и его жизнь, возможно в опасности. Посадите в каморку, пусть наши грехи замаливает… Скес свою кубасью сыскал?
Но Феклушка исчезла бесследно.
– Мы, ваша милость, не можем избыточно долго держать у себя Легобытову и детей, - сказал Шварц. - Уже идут гнусные слухи.
– Коли кто из них пострадает, слухи будут еще гнуснее… - и тут Архаров задумался. Угрожало ли что-то семейству Марьи, виноватой лишь в том, что взялась несколько дней присмотреть за приведенными к ней чужими детьми?
Ведь злодеи, порешившие Федосью Арсеньеву, ничего плохого Епишке с сестрицей не сделали. Напротив - позаботились, чтобы дети не пропали. Марье - той точно угрожал нож в бок. Одно то, что она оказалась в полицейской конторе, уже было сильнейшим доводом - вся Москва знала, как в нижнем подвале умеют развязывать языки.
Архаров решил подождать еще день - у него набралась такая куча людей и событий, что в любой миг могла явиться мелочишка, позволяющая свести все в стройное сооружение и начать действовать.
Забот у него и помимо сервизных было превеликое множество. Назавтра праздник - надобно обеспечить явку всех десятских, охрану всех мест, где будет государыня, да и самому привести себя в божеский вид - с утра ожидается большой прием с участием всех посланников, раздача наград героям и просто близким к государыне людям, представление ко двору боевых офицеров и молодежи из хороших семей… и сам же он собирался представить Петра Лопухина… тот, поди, извертелся перед зеркалом в новом мундире… то-то завтра все трое, Архаров, Левушка и Лопухин, загоняют бедного Никодимку!…
Да и кроме праздника…
Он вспомнил важное, велел позвать Степана Канзафарова и нещадно изругал его за досадный промах - Степан, обыскивая некий дом, не обратил внимания на жалкую скрюченную бабку, ковылявшую через двор, бабкой же перерядился низкорослый, но весьма крепкий и шустрый шур Севроха, и про то рассказал хозяин шуровского притона Рымовой, правда, уже в нижнем подвале у Шварца.
Степан даже не пытался оправдаться - все сам превосходно понимал. И стоял, ожидая по меньшей мере оплеухи, но его спасло чудо.
– К вашей милости от его сиятельства, - сказал, заглянув, Клашка Иванов.
Уже знакомый Архарову лакей привез записку.
Записка была неприятная - скончался отставной сенатор Захаров. То бишь, сразу после праздника предстояло ехать на похороны. А Архаров-то надеялся, что, спихнув с плеч торжества в Кремле и на Ходынском лугу, хоть дня два отдохнет от светской жизни.
Захарова было от души жаль. А к жалости примешалась легкая зависть - старику по-своему повезло. До последнего он оставался галантным кавалером, жил весело, имел молодую любовницу, был в любой гостиной желанным гостем и собеседником. И умирал, коли вдуматься, недолго - вон иные по три года из постели не вылезают…
– Царствие небесное, - пробормотал Архаров. - Экипаж подавайте.
Следовало съездить на Ходынский луг, самолично убедиться, что там не случилось никаких бед, что полицейские драгуны объезжают его, что к завтрашнему утру все будет готово. С собой Архаров взял секретаря Сашу, Федьку, Клавароша и Устина - всех троих как бы в некоторое вознаграждение за труды, Устина же он хотел поощрить особо - если бы не дотошность бывшего дьячка, Скес, поди, так бы и помер в том погребе. Потому взял к себе в экипаж и даже спрашивал о его небесном покровителе, святом мученике Иустине Философе, подвизавшемся в Римской империи. Устин пожаловался, что покровитель-то славные проповеди читал, проповедуя истинность и спасительность христианства, а ему вот дара убеждения свыше не дадено - вон Скесу ничего растолковать не удается…
– Однако ж стараешься, - утешил его Архаров, а когда узнал, что святой Иустин крестился в возрасте тридцати лет, совсем успокоился - дьячку-полицейскому тридцати еще не было, так что теория о связи имени и судьбы еще могла блистательно оправдаться.
Обер-полицмейстерский экипаж выехал на Тверскую, где при выезде из города уже стояли триумфальные ворота сорока восьми аршин в высоту, увенчанные статуей Славы, снабженные разнообразными колоннами и походившие на храм. Кони разогнались, взяли хорошую резвость, и вот уже показались ладные избы ямской слободы, где жили мастера конной гоньбы, те, что готовы в зимнюю пору довезти москвича в Санкт-Петербург хоть за сутки, но добавляя при этом: «Тело довезу, а за душу не ручаюсь!»
От слободы уже видны были высокие мачты стоящих на «Танаисе», сиречь Дону, на «Борисфене», сиречь Днепре, и на «Черном море» вокруг насыпанного из песка полуострова «Крым» кораблей - едва ли не в натуральную величину. География была более или менее соблюдена, и Архаров въехал на «театр военных действий» по «Борисфену», миновал здание театра, именуемое «Кинбурн», и оказался в удивительном мире, который все татарские народы, обитавшие в Крыму и окрестностях, - крымские, буджатские и кубанские, а также едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы, за свой бы вовеки не признали. Храмы с высокими колоннадами и ростральные колонны на римский манер, крепости с бастионами и равелинами и дворцы с высокими башнями, над которыми уже развевались флаги, суда при полном своем парусном убранстве, и многие носили славные имена: корабли «Европа», «Три святителя», «Победоносец», «Чесма», «Ростислав», «Победа», фрегаты «Не тронь меня», «Северный орел», «Григорий»…
По их мачтам лазали люди, натягивали парусинные полотнища. Белейшая парусина, принимая ветер, тут же надувалась, и казалось, что корабли в этом многоярусном уборе вот-вот двинутся с места и поплывут по мнимому морю.
Луг был порядочно вытоптан, да еще навалили на него кучи песка, но ког-где остались островки зеленой травы, и странно торчали из пастушьей сумки, белых кашек, мелкого поповника и одуванчиков раскрашенные деревянные стены в турецком вкусе. Дальний край луга был занят декорациями - фальшивыми мельницами, деревьями, домами, все это, по замыслу архитекторов, было иллюминировано, и справа, где, коли верить географии, должен был быть Дунай, уже трудились фейерверкеры, готовя к завтрашней ночи свою огненную потеху.
Архаровская карета остановилась напротив крепости «Керчь», которая была крепостью лишь снаружи, а внутри - бальной залой. Одновременно к ней подъехали верхом архитекторы Баженов и Казаков.
Обер-полицмейстер осведомился, всего ли довольно, успевают ли за ночь завершить дивное сооружение, не было ли каких неприятностей, драк, воровства. Услышал, что драки случались - от поспешности и всеобщего волнения, что к полудню Ходынский луг будет совершенно готов к приему высокопоставленных гостей и простого люда (тут Баженов показал рукой, где именно будут раздавать обывателям угощение - нарезать целиком зажаренных быков, разливать ковшами пиво и вино, там уже стояли огромные деревянные пирамиды с полками для жаркого и возвышались посреди огромных чаш фонтаны для вина).
– Экое вы тут устроили турецкое царство, - сказал Архаров. - Надобно будет караулить, как бы не подожгли ненароком.
– Не столь турецкое, сколь мавританское, - поправил Матвей Казаков. - Государыне должно понравиться, она диковинки любит. И рисунки изволила одобрять.
– Его затеи, - пояснил Баженов. - Я уж ему все эти султанские прелести на откуп отдал! Вот с кораблями беда…
– А что такое?
– Мы с Матвеем люди сухопутные, не додумали - укрепили их на кольях, как обычные павильоны. А начали паруса поднимать - тут и оказалось, что флотилия наша при первом ветре перевернется. Вот, извольте, - в последнюю минуту поднимаем, а суда укреплять пришлось. И то боязно - не было бы дождя. Как подует покрепче - так одному Богу ведомо, что с ними станется.
– А там что? - Архаров показал на огромное колесо, которого еще несколько дней назад не было. Оно бы смахивало на колесо водяной мельницы, кабы не полдюжины люлек, которые как раз собирали из досок плотники.
– Это не по нашей части, - отвечал Баженов, - это для простонародья.
– Перекидные качели, ваша милость, - объяснил Казаков. - Без них какой же праздник?
Убедившись, что на Ходынском лугу вовсю идет работа, Архаров велел сыскать майора Сидорова, который непременно должен был обретаться поблизости со своими драгунами. Сидоров доложил, что единственный повод для легкого беспокойства - те норовящие заблаговременно пробраться на луг людишки, которым назначено быть на празднике для увеселения публики, все эти немцы с куклами на веревочках, владельцы ученых собак, обезьян и лошадей, всевозможные штукари, глотающие ножи, горящую паклю и иные несъедобные предметы, извергающие изо рта пламя, наиболее же обременяют канатные плясуны, которым непременно надобно теперь же опробовать нарочно для них установленные вышки. Втолковать им что-то оказалось затруднительно - канатоходцев привезли чуть ли не из Бухары.
Велев всех до поры гнять в шею, Архаров приказал вести себя домой.
Он хотел приготовиться к завтрашнему дню. Опять же, его ждали к ужину поручик Тучков и капитан-поручик Лопухин.
Экипаж неторопливо проехал по Пречистенке, и Архаров уже видел окна своего особняка, когда стоящий на запятках вместе с лакеем Иваном Федька вдруг застучал кулаком по задней стенке кареты. Сенька понял - что-то архаровец увидел важное, и натянул вожжи. Карета встала, Архаров выглянул в окошко и увидел, что Федька подбегает к некому человеку, имеющему, несмотря на жару, черную епанчу на плечах и треуголку, надвинутую на брови.
После кратких переговоров с незнакомцем Федька подбежал к дверце кареты и распахнул ее.
– Ваша милость, там Костемаров!
– Вели ему идти в дом.
– Не пойдет, боится. Ваша милость, сказывает - важные сведения принес!
– Ну, хрен с ним… - Архаров вылез из экипажа. - Сенька, заезжай с заднего двора!
В то время, как карета сворачивала в переулок, туда же подъехали два всадника - Тучков и Лопухин. Они тоже решили не разводить церемоний и войти в особняк с заднего крыльца - так оно и удобнее, чтобы лошадей сразу, поводив несколько, ставить в конюшню.
Левушка помахал приятелю рукой и, пропустив карету, въехал в переулок, Лопухин - за ним. Архаров же неторопливо пошел к Демке.
Тот действительно боялся - по роже было видно, и ежился под своей епанчой и треуголкой, один острый нос торчал.
– Ну, докладывай, - сказал, подойдя, Архаров, как если бы ничего не случилось.
– При мне про золотой сервиз толковали, ваша милость, - отвечал Демка, не вдаваясь в объяснения, кто и почему толковал. Архарову и так должно было быть ясно, что полицейский Костемаров вернулся к прежним своим товарищам, ибо иных ремесел не знал - либо ремесло архаровца, либо ремесло шура.
– И что сервиз?
– Ваша милость, его сюда для особой надобности привезли, - Демка, отвечая глядел в землю. - Есть на него покупатель, да только, сами знаете, сервиз-то краденый. И тот покупатель лишь недавно в Москве объявился. И он знает, что сервиз краденый, да только ему уж больно надобен. И этой ночью ему этот слам передадут.
– Что ты врешь? Сервиз-то неполный, - возразил Архаров. - Как же его могут передать?
– Знаю, ваша милость, что неполный, да только так при мне толковали - этой ночью-де весь передадут на Ходынском лугу.
– Где?!
Трудно было, на первый взгляд, найти менее подходящее место для таких действий. Полно народу, шум и гам, да еще вокруг разъезжают полицейские драгуны. А коли вдуматься - то там и слона можно спрятать во всех деревянных крепостях и прочих причудливых строениях.
– Вранье, Костемаров. Ведь по меньшей мере третья часть сервиза в подвале зарыта, коли помнишь, под Гранатным двором.
– Стало быть, откопали.
– Не могли откопать. За подвалом следят.
– Да я сам бы оттуда тот сервиз запросто вынес, ваша милость… Коли шуры сговорятся, они и не то еще выкрадут.
Архаров вспомнил о четырех ложечках и о сухарнице. Можно ли считать полным сервиз без четырех ложек и сухарницы? А что, коли их было две или даже три?
– Стало быть, пришел предупредить? Что еще скажешь?
– Там, на Ходынке, судно построено, называется «Чесма», так внизу, под палубой, все будет - сервиз отдадут, деньги получат, - быстро сказал Демка. - И то судно охраняют. Как стемнеет, там Грызик будет ходить, коли что - знак подаст, в других судах еще люди спрятаны… Вы, ваша милость, Грызика знаете… А как во Всехсвятском храме колокола зазвонят, так в той «Чесме» все и сойдутся. Вот, доложил все, как есть. Прощайте, ваша милость.
– Постой, Костемаров, - сказал обер-полицмейстер. - Я почти убежден, что не ты ночью гонялся за Тимофеевой елтоной. И что ее мог заколоть иной человек, имеющий подобный нож…
– Ваша милость, мне оправдываться нечем, - отвечал Демка. - Так все сошлось, что улики - против меня, а за меня - один только Господь Бог! Я ту кубасью не укоцал и Скитайле про рыжевье не разлемзал. И ножа я не брал! Как я могу вам служить, когда мне веры нет?
Архаров наслушался от шуров и мазов таких речей - со слезой и отчаянным надрывом в голосе. Однако Демка был взволнован неподдельно.
– Возвращайся, Костемаров.
– Когда откровется моя невиновность - тогда вернусь. Прощайте, ваша милость.
Демка отступил несколько шагов, повернулся и побежал.
– Стой! - раздалось за архаровской спиной. Это вопил Федька.
Рядом с Федькой стоял Клаварош, необычайно хмурый.
Когда Архаров повернулся, чтобы посмотреть, куда девался Демка, того уже не было.
– Ладно, молодцы, пошли в дом, - приказал Архаров, которому было сейчас не до полицейских. Он повторял беззвучно Демкины слова: «Чесма», Грызик, колокольный звон…
Душа дала о себе знать! Встрепенулась и забила беспорядочно крыльями, как свалившаяся с ветки птица. Архаров быстрым шагом направился к калитке. Ему необходим был Левушка.
Левушка подтвердил бы его решение - немедленно собираться, одеваться попроще, вызывать подчиненных, заряжать пистолеты, ехать на Ходынский луг, да не в громоздком экипаже, а верхом.
Архаров обогнул клумбу посреди курдоннера и взбежал на крыльцо. Тут он услышал стук копыт.
Два всадника, вылетев из переулка, проскакали по пречистенке и резко свернули вправо.
– Вот черти! - воскликнул Архаров, признав в них Федьку и Клавароша.
Полицейские, не спросив позволения, успели добежать до его заднего двора и взять еще не расседланных лошадей Левушки и Лопухина. Стало быть, они очень скоро догонят Демку… но нужно ли это?
Даже коли он сказал не все, что знал, переменится ли архаровское решение?
Вслед за Архаровым поспешал Устин.
– Лови извозчика, - сказал ему обер-полицмейстер, - вези сюда всех, кого найдешь в конторе. Пошел!
– Так никого же нет… ваша милость…
– Пошел!
Архаров ворвался в собственное жилище с криком: требовал, чтобы ему немедленно доставили поручика Тучкова.
Никодимка сунулся было с известием, что банька истоплена, но едва увернулся - а мог бы и крепко по уху схлопотать. Архарову было уже безразлично, что завтра надо быть в наилучшем виде на торжественном приеме у государыни в честь годовщины Кючук-Кайнарджийского мира. Ему указали цель, которую он все лето преследовал, и он должен был понять, что означает эта торговля сервизом, часть коего все еще лежит закопанной под Гранатным двором… или уж нет?…
Левушка в расстегнутой рубахе сбежал вниз по широкой лестнице. За ним неторопливо шел Лопухин.
– Что стряслось, Николаша?
Архаров поглядел на окно - небо было еще светлым, но уже вечерним.
– Помнишь, я тебе про сервиз сказывал? Так вот - сие чертово художество опять объявилось!
Узнав, что сейчас архаровцы едут на Ходынский луг искать загадочного продавца и не менее загадочного покупателя, Левушка пришел в восторг. Его даже то не охладило, что Федька с Клаварошем угнали хороших коней. Он предвидел новое приключение - и, поскольку привык в таких делах полагаться на Архарова, тут же поскакал по лестнице наверх - за камзолом, шпагой и пистолетами.
Лопухин же остался с обер-полицмейстером внизу.
– Насколько я понял, ты, сударь, самолично хочешь изловить злоумышленников?
– Да.
– А для чего? Коли можно послать людей?
Архаров глядел в лицо преображенца и видел ясно, что сей кавалер ни черта не понимает. Мазурики водили за нос Архарова - и он своими руками должен их изловить. Не поручает же кот котятам поймать зловредную крысу. Сперва скогтит, придушит, а потом отдаст поиграть…
– Откуда сие стало известно? - продолжал допытываться Лопухин.
– Говорю же тебе - приходил наш… наш осведомитель.
Только и недоставало Архарову излагать сейчас во всех подробностях, кто такой Демка Костемаров.
– Архаров, тебе решительно незачем самому ехать туда. Ты командир, у тебя довольно полицейских, - преспокойно объявил Лопухин. - Этак ты, пожалуй, сам пойдешь в торговые ряды ловить воров.
Обер-полицмейстер сперва даже не понял, о ком речь. В рядах орудуют шуры… как-то Демка нарочно водил его, показывал работу опытного шура…
Объяснить блестящему гвардейцу, что такое обер-полицмейстерская должность, Архаров был не в состоянии. Он знал одно - если сам не поедет на Ходынский луг и не схватит мазуриков за шиворот, ему более в жизни не будет покоя. Именно сам - как сам первым пошел на штурм ховринского особняка, и как первым вломился в шулерский притон, и как вылез из продранной расписной холстины на сцену Оперного дома, чтобы прекратить безобразие…
Странно было, что этот тонкий, образованный, с прекрасными манерами юноша рассуждает теперь почище князя Волконского - да и князь не стал бы удерживать, он все же боевой офицер и понимает, что на приступ нельзя посылать - на приступ надобно вести.
Как тогда, чумной осенью.
– А надо будет - и в торговые ряды с веревкой пойду, - отвечал Архаров. - Кой час било? Девятый, что ли? Никодимка, сбегай скажи Сеньке - пусть мне Фетиду седлает. В десять выезжаем.
* * *
Федька и Клаварош не сговаривались угнать коней - оно само как-то так получилось. Переглянулись, побежали, оказались во дворе - а выехали оттуда уже верхом. Конюшонку Павлушке и в ум бы не взошло, что архаровцы берут лошадей без разрешения обер-полицмейстера.
Они полагали, что настичь Демку будет легко - уговорить его вернуться, разумеется, будет потруднее. Но иного способа помочь ему ни Федька, ни Клаварош не видели.
Оба знали - Демка ненадежен. И оба понимали - тем более он должен находиться там, где его натура причинит ему поменее вреда.
Было и другое. Федька трудился в чумную пору на одной фуре с Демкой, так что считал его чем-то вроде непутевого родственника. А Клаварош прекрасно помнил, как Федька с Демкой прибежали ему помочь, когда Архаров оставил его в засаде - ждать убийцу митрополита Амвросия.
Но все, что им удалось, - это увидеть бричку, на которой уехал Демка.
– Гляди ты, ждали его за углом, - сказал Федька.
– Это не извозчик, - отвечал Клаварош.
Тут они вдругорядь переглянулись.
Обоим стало ясно, что Демкино явление на Пречистенке имеет какую-то странную подоплеку. С одной стороны, коли он просто не хотел, чтобы архаровцы его догнали, мог оставить за углом извозчика. А с другой - странно все это было, и то, с какой резвостью удалялась бричка, их тоже несколько смутило. В запряжке была сильная лошадь - не извозчичья кляча.
– Поедем следом, - решил Клаварош. - Надобно разобраться.
Всадники были глазасты - и отстав на полверсты, прекрасно видели задок брички. Они пустили коней рысью и, почти не переговариваясь, преследовали бричку, сохраняя все то же расстояние.
Таким образом они оказались в Замоскворечье.
– Вон он где угнездился! - воскликнул Федька, увидев, как отворяются высокие крытые ворота, за которыми непременно должно быть богатое жилье. - С кем же он, сукин сын, успел связаться?
– Слышал, что Скес сказывал? Каин вернулся.
– Да уж слыхивал…
Федька задумался. Конечно же, Каин не хуже Архарова знал, кто служит в полицейской конторе. Демка был наиболее уязвим - с его-то обидчивостью и склонностью непременно показать свой отчаянный норов. Федька вспомнил их зимнюю драку, но вспомнил также, что Демка отходчив - именно он спас Клавароша, который мог остаться незамеченным и помереть в сугробе на Виноградном острове. Сейчас вся надежда была именно на это.
Тем более, что оба, и Клаварош, и Федька, были не в мундирах, а в простых кафтанах, да еще не первой свежести.
– Мусью, держи-ка! - Федька, спешившись, передал Клаварошу поводья. - Пойду-ка гляду.
– Осторожность.
– Ага…
Проводив взглядом Федьку, Клаварош полез в седельные ольстры, в одной нашел пистолет, в другой… бутылку бордо. Усмехнулся, но вскрывать не стал. Пистолет же положил на конскую шею и приготовился к неприятностям.
Федька постучал в калитку. Ему грубо ответили, чтоб проваливал.
– Мас Котюрка искомает, - отвечал Федька. И с ужасом ощутил, как фальшиво прозвучали слова.
Архаровцы нередко беседовали меж собой на байковском наречии. Это бывало по двум причинам - либо для баловства, либо от злости. Архаров такой речью тоже не брезговал. Но всегда в употреблении байковских словечек была у них особая манера произношения, чрезмерно заносчивая или же чрезмерно глумливая. Сейчас Федька обнаружил, что, зная немало слов, говорить на этом языке он по-настоящему не умеет.
– На что те Котюрко?
– Отцепляй скрипоты! - заорал Федька. - Не то и от Котюрка, и от маса будет по космыре!
Он знал, что мазы и шуры принимаются вдруг орать, но орут до определенного мига, а потом так же шустро угомоняются.
– Скарай, лохи усеньжат!
Из чего Федька сделал вывод: соседи не знают, что в этом доме поселилась весьма сомнительная публика.
Калитка открылась, и тут выяснилось, что ворота охраняли трое здоровых мужиков. Один из них Федьке особо не понравился - был одноглаз и неслыханно вонюч.
– Стой тут, пойду скажу хозяйке, - заявил старший из привратников.
Несколько минут спустя на крыльцо вышла девка - одетая по-господски, не красавица, но тонкая в талии, пышноволосая, быстрая в движениях.
– Чего тебе, молодец? - спросила она.
– Добрые люди на ваш хаз навели, - отвечал Федька. - Скитайла-то помер, мне его шуров сыскать надобно, а сам я из Твери.
– И что ж?
– А то, что два Скитайлиных человечка влопались, а Котюрко, поди, знает, что да как.
– А кто навел?
– Грызик.
– Когда?
– Да сегодня с утра я его повстречал, - наудалую брякнул Федька. Это имя поминал Демка - поди, Грызик тут свой человек.
– Ну, шут с тобой, ступай, - сказала девка. - Да недолго, верши! Пока клевый маз не вернулся.
Федька знал галантное обхождение.
– Кабы мне такого карючоночка, - пылко сказал он девке, - вся бы в рыжевье и в сверкальцах ходила.
– Ступай, ступай!
Однако кумплиманы от такого красивого молодца, каков был Федька, ей понравились, она даже невольно улыбнулась.
– Ты, небось, самого клевого маза маруха? - трепетно осведомился Федька.
– А коли так?
В горнице никого не было, девка провела архаровца наискосок и указала ему на крутую лестницу.
– Ступай, я за тобой тут же буду.
Федька взлетел пташкой.
Демку он обнаружил в опрятной комнатке наливающим из штофа в стакан зеленоватую жидкость. Это могла быть только водка.
– Выследили! - с тихой ненавистью сказал Демка. - Убирайся, пока тебя не раскусили.
– Возвращайся, Демьян Наумыч, - выпалил Федька. - Тебе ж пертовый маз не все сказал! Тимофеевы дети сыскались! Парнишка убийцу видел и опознать способен!
– Пошел к монаху на хрен.
Демка стоя решительно выпил полстакана водки, закусил квелым соленым огурцом.
– И нож нашелся! Я сам его отыскал!
– Ну и хрен с ним.
– Возвращайся, говорят тебе.
– Не могу.
Тут-то Федька и пожалел, что плохо ему давалась архаровская наука - читать по лицу, врут тебе или правду говорят.
– Смуряк охловатый! Он же простит тебя! Ты ему важные сведения принес, он простит! - выкрикнул Федька. На это Демка лишь помотал головой.
– Уходи, Христа ради, - вдруг сказал он очень тихо. - Уходи…
– Ну и черт с тобой, - объявил тогда Федька. - ты уж не малое дитятко. Да только знай, что мы все тебя ждем, и пертовый маз ждет. За одно то, что ты нас на продажу сервиза навел…
И тут Демка треснул кулаком по столу. Стакан подскочил, штоф опрокинулся, водка потекла на пол.
Вошла нарядная девка.
– Ну, все спросил? Собирайся, молодец, мы тут не всякого гостя привечаем.
– Все спросил, да не все услышал. Ну, Котюрко?
И тут свершилось чудо.
Демка поднял голову, взгляды скрестились. Ненадолго, но Федька успел увидеть беспросветную Демкину тоску. Костемаров и хотел бы вернуться, да что-то ему сильно мешало. Вряд ли он стал бы беспокоиться, что полиция не сумеет его защитить от мазов.
Щуплый белобрысый Демка попал в беду. Вот что прочитал Федька в его серых, глубоко посаженных глазах - да в такую беду, что чума рядом с ней была конфектом в разноцветной бумажке. В чумное лето, разъезжая в балахоне мортуса, он так не глядел. Теперешние Демкины приятели за несколько дней умудрились скрутить его в бараний рог. И он топил горе в водке.
Что же он натворил за эти дни? Вроде никого не убил - шуры убивают крайне редко, и мазы, принимая их в компанию, с этим считаются. И ничего особо ценного не украл - в полицейскую контору не приносили «явочной» о дерзком воровстве.
– Котюрко… - сказал Федька. - Ну, что же ты?…
И вдруг его осенило.
– Похряли отсюда, - сказал он. - А ну, девка, пусти!
Схватив Демку за руку, он потащил его в узкую дверь. Силой Бог Федьку не обидел - а тут еще он ощущал свою правоту: Костемарова нужно было спасать невзирая на его сопротивление.
Только поэтому он толкнул девку, мало заботясь, куда она упадет.
Девка оказалась на лестнице и, к некоторому Федькиному удивлению, захлопнула дверь. Тогда только она закричала, призывая каких-то Каркана и Бурмяка. Это Федьке не понравилось, он навалился на дверь и тут только понял, что с той стороны имеется основательный засов. Это ему совершенно не понравилось - для чего Демку держат в комнате, которая закрывается снаружи?
– Любить тебя на голове и на брюхе, в двенадцать жил и на цыганский манер! - высказался он. - Не горюй, Костемаров, в окошко уйдем. Доброму молодцу и окно - дверь.
– Будут стрелять, - сказал Демка. - Она масовка догадливая…
– Так не пойдешь?! - Федька понимал, что каждый миг промедления увеличивает опасность вдвое. - Так остаешься? Медом тебе тут намазано?!
– Не могу… да и тебя, дурака, уж живым не выпустят…
– Выпустят!
– Нет, Федя… зря ты сюда полез… Да и мне жить не дадут…
– Какого черта?!
Демкино уныние уже превзошло все допустимые размеры. Водка усугубила эту беду. Да Федька-то был трезв, он положил себе выпить, когда кончится завтрашний праздник, не раньше, а кончится он, поди, к следующему утру.
Демка только помотал головой.
– Да будет тебе хрен жевать, говори внятно!
– Да что уж тут говорить… Какого хрена ты сюда полез?! - вдруг заорал Демка. - Теперь и тебя, и меня порешат! Все! Отгуляли! И себя, смуряк, сгубил, и меня сгубил!
– Да что ты за околесицу несешь?!
– Околесицу? А вот поглядим, какова околесица, когда Каин приедет!
Федька знал о возвращении Каина и лишь подивился тому, что Демка так скоро с ним сошелся.
– И что Каин? - спросил он. - Что он нам сделает? Он нашего пертового маза боится!
– Он? Боится? Да уж завтра некого станет бояться!
Вот тут Федька и онемел.
– Ты что это? - спросил он чуть погодя. - Ты сдурел?
И, опомнившись, крепко встряхнул Демку за плечи.
– Сам сдурел! Нет у нас больше пертового маза! Все! Кончился пертовый маз!
– Там, на Ходынке, - ловушка?
– Ловушка! Пусти, дурак!
Но вырваться из Федькиных рук было затруднительно. На всякий случай архаровец еще раз хорошенько тряхнул беглого товарища.
– Врешь, - сказал Федька. - Он бы догадался! Он же по роже видит!
– Так я ему-то и не врал! Все так и есть - там покупатель на рыжевье придет, и там же ему эти плошки передадут!
– А наш?
– А наш полезет разбираться - тут его и пристрелят.
Все это показалось Федьке избыточно сложным - как будто не было другой возможности выстрелить в Архарова.
– Ты либо напился, либо заврался, - сказал он, отпуская Демку.
– Нет, Федя, не заврался. Там хитрая игра… так надобно, чтобы его на Ходынке в корабле застрелили…
– Кому надобно?
– Я почем знаю? Я сам только одно это и слышал…
– Предупредить его не мог?
– Не мог… Коли бы он туда не поехал, Каин бы догадался, что мои труды…
– А коли бы он туда полицейский наряд послал взять сервиз, а сам бы - пировать к Волконскому, тогда как?
– Так Каин же знает, что он сам поскачет! На то и весь расчет, что он, как до дела дойдет, сам вперед всех лезет!
Федька не стал ломать голову, что за хитрая игра такая и для чего надобно, чтобы обер-полицмейстера пристрелили непременно в трюме сухопутного судна «Чесма». Сейчас следовало употребить ее, эту голову, на иное - выбраться из Каиновых владений.
– Трус ты и подлая душонка, - сказал он Демке. - Сиди уж тут, пей да радуйся! А мне - недосуг.
Подойдя к узкому окошку, он стал деловито выламывать раму.
– Федя!
– Ну?
– Федя, я не виноват, там все было подстроено…
– Что подстроено?
– Что Тимофееву елтону укосали… нарочно переодели…
– Ну тебя к монаху на хрен, и с той елтоной вместе… - задумчиво сказал Федька, глядя вниз.
Он невольно поежился. Все-таки Демкина конурка была в третьем жилье, выпрыгнуть несложно - а ну как ноги переломаешь? Вот тогда точно всем конец - и архаровцу Савину, и господину обер-полицмейстеру.
Двор был довольно просторный, как полагается, со всеми строениями - сараями, ледником, курятником, были тут и плодовые деревья, стоящие среди густой и высокой травы, и вбитый в землю стол с двумя лавками, и навес, под которым летом удобно заниматься домашними работами. Крыша этого навеса и привлекла Федьку. Он понимал, что сооружение ветхое и ненадежное, но иного пути выбраться отсюда не видел.
Жертвовать веревкой, которую он обычно таскал в кармане, архаровец не пожелал.
– Простыню давай, - приказал он Демке.
Достав из кармана нож, он пустил простыню на полосы, быстро их связал и получил ленту длиной саженей в шесть. Должно было хватить. И Федька стал привязывать ленту к скамье - если скамья встанет поперек окна, то слона выдержит, не то что архаровца, слона же Федька видывал и догадывался, сколько эта скотина весит.
Демка глядел на него сперва с недоверием, потом же, когда понял, что Федька и впрямь уйдет отсюда беспрепятственно, - со злостью.
Приладив скамью так, что она при рывке за ленту снизу должна была подскочить и перекрыть собой окно, Федька перекрестился. Божья помощь была сейчас крайне необходима.
– Федя! А я-то как же?! - и Демка зачастил взволнованно, глядя в глаза товарищу с той истовостью, какая нередко бывает у записных врунов: - Это ж ты во всем виноват! А мне - расхлебывать! Кабы ты сюда не полез…
Одно Федька у Архарова все же перенял. Его кулак в нужную минуту действовал самостоятельно, не спросясь хозяина.
Даже не глянув на поверженного Демку, Федька перекинул ноги через подоконник, ухватился за простынную ленту и прыгнул вниз.
Ему удалось, оттолкнувшись ногами от стены, долететь до крыши навеса. А уж с нее соскочить на мягкую землю было несложно.
Очевидно, Каркан и Бурмяк, которых звала девка, находились в доме, потому что во дворе Федька обнаружил, выскочив из-за угла дома, ту самую троицу, что его впустила в калитку.
Нельзя сказать, что он был совсем безоружен - нож при себе имел, да и веревка в опытных руках на многое способна. Но против него было трое здоровых мужиков - и вряд ли жалостливых.
Федька достал нож и взял его в левую руку, а правую сжал в тугой кулак. Это был не простой кулак - а с закладкой. При правильном поединке за такую закладку, коли обнаружат, зрители могли и изувечить. Но вот беда - в жизни архаровцев почитай что и не было тех правильных поединков, того знаменитого охотницкого боя, которым раньше государей тешили. И многие таскали с собой кусочек свинца или подходящий камушек, чтобы зажать в кулаке.
– А ну, а ну, - сказал ему здоровенный одноглазый детина, выходя первым. - Ишь, голубчик! А ну!…
Федька сдвинул черные свои брови, набычился.
Он мог, разумеется, отступить. В доме его убивать бы не стали - связали бы до возвращения Каина, который знает способности архаровцев и уж нашел бы, что предложить Федьке. Но это значило бы - спастись ценой жизни своего командира.
Архаровцы были невеликие любители благородно изъясняться. Их красноречие было такого качества, что случайно оказавшиеся рядом бабы и девки бешено краснели - или же ни слова не понимали. Отродясь никто из них Архарова командиром вслух не называл.
Но они были повязаны круговой порукой не только друг с дружкой. В кругу этом оказался и обер-полицмейстер.
Он вроде бы и недорого заплатил за свое право быть их предводителем - несколько раз самолично возглавил своих архаровцев в таком деле, где требуются литые кулаки и умение отчаянно биться. Дрался он в охотку, драка веселила его - но вот ведь какое следствие имели те побоища: в глубине души каждый архаровец считал его не бывшим Преображенского полка офицером, не полковником, не обер-полицмейстером, а вожаком. Главарем, коли угодно. Пертовым мазом, как повелось звать его заглазно.
Так что Федька ни секунды не колебался.
Он был один - противников трое. Но только он знал теперь правду о ловушке. И он просто обязан был пробиться наружу, просто обязан…
– Ан аван! - сказал где-то в душе легкомысленный Клаварош. Послал, стало быть, вперед…
– Вкуред! Врепед! - вразнобой приказало на байковский лад население Рязанского подворья.
– Бог с тобой! - крикнул издалека Устин.
И Федька пошел на противника.
Шпаги у него не было - но он заметил прислоненную к забору палку, которую кто-то из Каиновой братии на досуге покрывал резными узорами. Пока же следовало обходиться ножом и кулаком.
Одноглазый был самый тяжелый детина из всех, ростом выше Федьки, и вышел он, расставив руки, словно желая поймать архаровца в охапку. Федька правдоподобно метнулся влево-вправо, словно бы отступая - и, вдруг устремившись вперед, ударил противника ребром башмака в колено. Башмаки у архаровцев были грубые, на толстой подошве, обычно задубелые от грязи, да Федька и всю душу вложил в этот удар.
Клаварош, помнится, толковал, что коленный сустав внутри оплетен незримыми веревками, но при везении может сквозь них проскочить наружу, и вправлять его - немалая морока, а потом, может, до конца жизни придется туго бинтовать поврежденное колено, и потому бойцы в портовых кабаках стараются ускальзывать от таких ударов.
Детина французских нравов не знал. Потому сильно удивился, когда левая нога под ним подломилась, словно сухожилие саблей подрубили. Он, уже падая, попытался схватить Федьку, но тот был ловок и помнил Клаварошеву фехтовальную науку - после удара не торчать, как хрен на насесте, а отскакивать быстрыми мелкими прыжками на полусогнутых ногах, готовясь и к обороне, и к следующему нападению.
Он не видел, да и не мог видеть, что по простынной полосе из окна карабкается Демка.
Двое оставшихся детинушек вмиг набрались разума, слушая вопли и ругань своего покалеченного товарища. Они сунулись было к Федьке разом, но тут уж пошла в ход архаровская наука, и кулак с закладкой крепко врезался в нос одному из противников. Второго, правда, Федька не совсем удачно ударил ножом - только одежду пропорол и кровавую полосу на теле оставил.
Но был на дворе, оказывается, и четвертый - дедок, уже слабосильный и потому, не полагаясь на кулаки, поспешивший на помощь с оглоблей.
Суставов и носа у оглобли нет, повредить ей нечего, и потому, хоть Федька и уворачивался весьма ловко, его сбили с ног, и он плюхнулся в грязь. Там бы его и оставить - но дедок с пораненным противником устремились добивать поверженного.
Клаварошева наука, которую Федька осваивал за заднем дворе своего жилища под радостный лай черной Жучки, вошла-таки в плоть и кровь. Упершись кулаками в землю, Федька взметнулся играющей рыбкой и ударил каблуком прямо в лицо врагу. Он не умел еще после этой ухватки ловко вскакивать на ноги, да оно и не понадобилось - один противник был надолго обезврежен, нога куда как посильнее руки и много чего на роже повредить может, а другой, вредный дедок, сдуру треснул своей оглоблей по тому месту, где Федьки уже не было - успел откатиться.
Был же он возле калитки, где вооружился резной палкой.
– А ну, сунься! Сунься, стоптанный хрен! - крикнул он дедку и выдернул засов.
Выскочив на улицу, он оглянулся - вроде ни души - и побежал к Клаварошу. Тот был всего в сотне саженей от калитки.
Но радоваться спасению было рано. Те двое Каиновых подручных, что сидели в доме, наконец выбежали во двор, увидели, сколько беды натворил Федька, и выскочили из калитки. У них-то как раз и были пистолеты.
Клаварош все время ожидания был готов к стрельбе. Одного из этих новоявленных противников, то ли Каркана, то ли Бурмяка, он преспокойно подстрелил, не дожидаясь, пока он прицелится. А потом послал коня рысью. В поводу он вел второго коня.
Федьке оставалось пробежать еще с полсотни саженей, когда в него выстрелили. Видно, он был плохой мишенью - пуля ушла за молоком.
Клаварош поднял коней в галоп. То, что он видел за Федькиной спиной, ему не понравилось - за архаровцем бежали трое. Сколько у них пистолетов - он понять не мог, но в руках у одного преследователя увидел армейское ружье с примкнутым багинетом. Это была пренеприятная вещица - не достав всадника, неприятель мог всадить багинет в брюхо лошади.
Тогда Клаварош на скаку полез в седельные ольстры второй лошади. И вытащил еще одну винную бутылку. Надо полагать, Левушка и Лопухин собирались премило провести вечер.
Глазомер у француза был отменный. Подняв коня в свечку, он получил для себя необходимое мгновение неподвижности и запустил бутылку прямо в лоб первому преследователю.
Другие двое просто не поняли, что произошло - выстрела не было, а здоровенный детина рухнул, как подкошенный, не шевелится и голоса не подает. Их растерянность позволила Федьке без лишних хлопот добежать до коня, перехватить у Клавароша поводья и сесть в седло. Теперь оба были в безопасности.
Повернув коней, они поскакали прочь и не обернулись бы ни разу - кабы не услышали тонкий крик:
– Меня! Меня возьмите!
К ним бежал Демка.
Он ухитрился обогнуть Федькиных преследователей и, совершенно одурев, несся посреди улицы.
Он-то и оказался хорошей мишенью.
Федька невольно повернулся на крик и выстрел. Он увидел, как Демка останавливается, запрокинув голову, как делает шаг вперед и падает лицом вниз.
Еще он увидел Демкину руку - длинные тонкие пальцы знаменитого шура, которые словно старались ухватиться за нечто ускользающее. И не сумели - упали в пыль.
– Скорей, скорей! - крикнул Клаварош.
– Демка!…
– Ты ему не поможешь!
Клаварош прекрасно знал, к чему могут привести в опасном деле наипрекраснейшие порывы. Поэтому он хлестнул Федькиного коня сорванной с головы треуголкой.
Лошадь очень легко испугать; удар был не столь болезненный, сколь ужасающий - и Федька чуть не кувыркнулся через конский круп, когда лошадь резко прибавила ходу.
Настоящей погони за ними не было - и несколько кварталов спустя они позволили лошадям перейти на рысь.
– Смуряк, болван! Дурак! - выкрикивал Федька.
Клаварош молчал.
– Выскочил! Понесся! Смуряк охловатый! Мог же потихоньку уйти! Мог же!…
– Это от испуга, - сказал наконец Клаварош. - Он всегда был пуглив.
– Демка-то?
– Да.
И Клаварош тяжко вздохнул.
Терять товарища, да еще столь нелепо, им во все время полицейской службы не доводилось. Да и не просто товарища - Федька бок о бок с Демкой трудился на одной фуре в чумную пору, а Клаварош хорошо помнил, как Демка, не помня зла, искал сани, чтобы вывезти лежащего пластом француза с Виноградного острова. Но Клаварош был старше - и сам это хорошо понимал. Потому и следил, как бы Федька от горя чего не вытворил.
Федька же просто плакал.
– Он звал нас, звал!… Он вернуться хотел! Господи! Остремался, как лох! Он, может, еще что сказать хотел…
И тут Федька замолчал. Он вспомнил про ловушку.
Слезы высохли не сразу - он еще некоторое время вытирал лицо жестким обшлагом и хлюпал носом, как дитя. Наконец глубоко вздохнул и повернулся к Клаварошу.
– Иван Львович, ты сейчас поскачешь на Пречистенку, - сказал он почти спокойно. - Авось застанешь там пертового маза. Коли застанешь - передай, что на Ходынском лугу ловушка. А я сразу на Ходынку поскачу. Сказано было - как стемнеет… Ну так через час, поди, и стемнеет!
Ничего больше не объясняя, он послал коня вперед.
И дело было вовсе не в важности сведений. Просто Федька сейчас видеть не мог Клавароша. Он все понимал, да только никак не мог избавиться от мысли, что Демку можно было спасти.
Да и сам себе он был противен - хорошенькое же прощание устроил он с давним товарищем, заехал кулаком в ухо…
Прохожие шарахались от взявшего хорошую резвость на галопе коня. Кое-кто провожал его матерно.
А знали бы, что в седле архаровец, - еще и не то бы сказали…
* * *
На Пречистенке сборы завершились быстро.
Странно было, что Федька и Клаварош сгинули - и с лошадьми вместе. Архаров же очень на этих коней рассчитывал. Но не стал ломать голову над этой бедой - за преследование Демки он собирался намылить шею своим орлам завтра. Приказав седлать упряжных лошадей, он построил в переулке небольшой отряд - поручика Тучкова, Михея Хохлова, Максимку-поповича, Устина Петрова, на когорого смотреть было весело - держался в седле как собака на заборе. На Ходынском лугу он собирался еще привлечь полицейских драгун. Их там было довольно для осады небольшой крепости.
Капитан-поручика Лопухина в этом отряде не оказалось, он сильно не одобрял подоные вылазки. Но был Левушка Тучков - куда ж без него? И это Архарова вполне устраивало - с Левушкой он чувствовал себя уверенно, знал, что друг прикроет его шпагой, сам же он всегда был готов прикрыть друга кулаком. А чего ждать от Лопухина - неведомо.
Под причитания Никодимки - их милости-де без ужина остались! - Архаров в старом, легком, без позумента, еще гвардейского времени кафтане, сел в седло. Рыжая Фетида не сразу приняла всадника, но когда вперед выехал Левушка на Фирсе, пошла за знакомым мерином той же машистой рысью, что и он. Фирса она, видать, уважала поболее, чем Архарова.
Левушка для вылазки позаимствовал совсем ветхий мундир Меркурия Ивановича, который был ему коротковат, и убеждал всех, что самый шустрый маз-лазутчик примет его за отставного инвалида - стоит только сгорбиться и ковылять, держась рукой за грудь и время от времени кашляя.
До Ходынского луга от архаровского дома было верст семь - но, коли судить по ощущениям бедер и задницы, то все семьдесят. Положив себе на досуге прогуливаться верхом хоть раз в неделю (как будто у него был досуг!), Архаров стойко продержался до первого драгунского патруля и приказал своим людям спешиться. Лошадей оставили у драгун, далее пошли вразнобой, но не теряя друг друга из виду.
Уже когда подъезжали - темнело, а пока договаривались с драгунами - почти наступила ночь, и Архаров уже забеспокоился: не упустить бы этих треклятых продавцов-покупателей! Ему дали проводника, знавшего, где стоит судно «Чесма» (напротив «Крыма», так ведь еще надобно выйти из устья «Борисфена», миновать театр «Кинбурн» и далее шагать Бог весть сколько по воображаемому Черному морю; Ходынский луг был не маленький, более двух верст в длину да столько же в ширину, и князь Волконский давно на него зуб точил - хотел приспособить для военных учений и маневров). Обер-полицмейстер отвык ходить пешком, но после верховой прогулки ходьба ему даже понравилась.
Ходынский луг в ночь перед праздником был шумен и бестолков, горели факелы, суетился народ. Как оно и полагается в государстве Российском, в последнюю минуту докрашивали деревянные башни и корабли, натягивали какие-то расписные холсты, в огромную столовую «Азов» откуда-то издалека тащили сколоченные снаружи длинные столы. Всюду стояли телеги с необходимой для праздника утварью, их охраняли, шугая любопытных. Какой-то фрегат, когда его оснастили многоярусными парусами, сильно покосился, его борт подпирали бревнами, возили в тачках землю, чтобы укрепить поосновательнее. Архаров невольно вспомнил закулисные тайны Оперного дома.
Пришлось остановиться, пропуская тачки, груженые опилками и стружками пополам с землей. Эту дрянь тоже собрались вывести в последнюю минуту.
– Вот, ваша милость, и «Чесма», - сказал провожатый.
Кораблей было расставлено немало, больших и маленьких, изображавших нечто вроде морского боя, все уже стояли под парусами и флагами, на многих еще стучали молотки.
«Чесму» установили на приметном месте - напротив храма с ротондой, перед храмом же имелись одна ростральная колонна и один довольно высокий остроконечный обелиск. Справа от храма были помещения для буфетов - кормить публику бесплатными лакомствами. Все это было освещено факелами и имело несколько устращающий вид - как если бы призрачный, давно похороненный мир вдруг вздумал воскреснуть и взгромозиться там, где уже пустил корни и обзавелся хозяйством новый мир, сперва проникая в него бестелесными колоннами и лестницами, потом понемногу наращивая плоть…
– И где же тут Грызик? - сам себя спросил Архаров, озираясь. Но шур, видать, слишком отошел от «Чесмы». Значит, надо было спешить, чтобы проскользнуть на корабль незаметно. Левушка перебежал первый и встал в тени округлого борта, обер-полицместер с проводником и архаровцами - следом.
Судно весьма смахивало на подлинное, хотя было гораздо меньше, - имело резного деревянного льва на носу, гривастого и грозного, множество иных украшений, высокую кормовую надстройку, и высота его, как Архаров догадался, соответствовала высоте бортов судна над водой. К его удивлению, она оказалась невелика - Левушка запросто достал рукой края палубы.
– Прелестно. И как же туда лезть? - спросил Архаров, недоверчиво глядя на такелаж, образующий подобие веревочных лестниц.
– А в боку у ней дверь широкая, чтобы и дамский пол проходил, - объяснил проводник.
– Дверь - а за ней?
– За ней внутренность, убрана неважно, однако скамейки мы там поставили и парусиной стены обтянули. Оттуда лестница наверх, на палубу, и там уж стоят кресла, ковры лежат, как полагается, чтобы вечером фейерверки смотреть.
– Дверь открыта?
– Сейчас погляжу.
Пока провожатый ходил к двери и обратно, Архаров соображал - как же быть дальше? И лучшее, что пришло ему на ум - это устроить в корабле засаду.
Дверь оказалась открытой, и он тут же стал выяснять, единственная ли это возможность проникнуть в чрево сухопутного судна, или же имеются иные.
– А других дверей и не надобно, - сказал Левушка. - Вон заходи с кормы, там какие-то веревки висят, да и лезь.
– Михей, встанешь тут, - распорядился Архаров. - Коли кто сверху прыгнет - имай да драгун зови. Максимка, будешь с ним. Задерживать только тех, кто с судна побежит. Тебя как звать?
Вопрос относился к драгуну, которого назначили ему в провожатые.
– Алексеем Кричевским, ваша милость.
– Ты, Кричевский, скажи Сидорову, чтобы человек с пяток мне дал, именно сюда, к этой посудине. Возле нее торчать незачем, а пускай… пускай в ту дурацкую храмину заезжают и оттуда глядят. И примечают - коли кто в дверь полез, пусть будут наготове. А коли кто наружу полезет - тут же брать. И чтобы по их знаку еще народ подоспел. Устин, ты за ту колонну встань, оттуда тебе все будет видно. Постарайся высмотреть Грызика - ты ж его знаешь. Один он, с кем-то вместе бродит… В драку не лезь - твое дело смотреть и запоминать все, что увидишь, понял? В драке от тебя все равно проку, как от козла молока. Пошли, Тучков.
У самой двери в борту «Чесмы» он остановился - предчувствие было весьма неприятное.
Лезть в корабельное брюхо что-то расхотелось.
Но иного пути докопаться до правды о сервизе графини Дюбарри он не видел. И докопаться наилучшим образом - не в своем кабинете, задавая вопросы и слушая вранье, а на месте преступления - ведь продажа краденого имущества преступление и есть.
Тогда сразу и выяснится, для чего избрано такое странное место встречи.
О чуде воссоединения закопанных в подвале Гранатного двора тарелок с прочими частыми сервиза Архаров уж и думать не желал - все, все сейчас разъяснится!
Поэтому он послал свое предчувствие к гребеням собачьим и полез в корабль. Левушка - следом.
– Фонарь вам раздобыть, ваша милость? - спросил Кричевский.
– Лучину раздобудь и зажги, - велел Архаров, рассудив, что поиски фонаря затянутся до явления на пост Грызика, а щепок вокруг валяется предостаточно.
Получив горящую лучину, он закрыл дверь изнутри.
– Ну, мы с тобой, Тучков, как два Ионы в китовьем чреве, - сказал он.
– С той лишь разницей, что Иона не чаял отыскать в китовьем чреве золотую посуду, - отвечал Левушка, озираясь, куда бы воткнуть лучину.
Пространство было для него весьма неудобно - низкое, частично затянутое парусиной. Но оказалось, что все не так уж плохо - под кормой «Чесмы» потолок был гораздо выше, так что там Левушка даже смог выпрямиться. Именно под кормой располагалась ведущая наверх лестница, не слишком крутая и довольно удобная даже для дам. За лестницей было нечто вроде чуланчика не более двух аршин в длину, трех - в ширину, и там стояла скамейка.
– Сюда посвети, - велел Архаров. Он пытался понять - не закопана ли остальная часть сервиза под «Чесмой», ведь сделать это было весьма удобно при строительстве сухопутного судна - оно держалось на вбитых в землю кольях и на наскольких толстых сваях, имевших наверху продолжение в виде трех мачт, так что копали и закапывали тут порядочно.
Он принюхался и понял, что запах ему совершенно не нравится - так мог бы пахнуть, пожалуй, свежеоструганный гроб…
Поежившись от пришедшего в голову сравнения, Архаров стал исследовать ту часть нутра «Чесмы», где собирался ждать загадочного покупателя с продавцом. Он, нагибаясь, прошел от кормы чуть ли не к носу, а Левушка светил.
– Сесть не на что, постоим, - решил Архаров. - Ну-ка, отцепи холстину…
Они перетянули край парусины, закрепив его на свае. Таким образом удалось выгородить закуток на две персоны. Туда и встали.
– Ну, теперь и в колокол можно бить, - позволил Архаров. - Тучков, туши лучину. Тут щели в палец - не дай Бог, на подступах эти пройдохи свет увидят.
Левушка загасил огонь и прислушался.
– Вроде бумкнуло, - сказал он. - А колокол или что-то иное, отсюда не разобрать.
– Тихо ты…
Хотя за стенками «Чесмы» было шумно, однако возню у двери Архаров уловил.
– Замри, Тучков…
Вошел человек с фонарем, высокий и плечистый, они видели его силуэт на натянутой парусине, за которой прятались. Человек прошел за лестницу и сел на скамью.
Судя по силуэту и походке, ничего, кроме фонаря, он с собой не принес. Похоже, это был покупатель.
Левушка вдруг стал дергать Архарова за рукав. Архаров, решив, что приятелю пришло на ум что-то остроумное, легонько его оттолкнул - было не до шуток. А меж тем Левушка, имевший тонкий музыкальный слух, уловил какое-то перемещение наверху, на палубе «Чесмы».
Он дернул приятеля поосновательнее. Но Архаров был слишком занят человеком с фонарем - он даже попытался отодвинуть парусину, чтобы увидеть лицо.
Должен же был он знать, как говорить с человеком, который вот-вот услышит от него неприятные слова: сударь, вы собрались покупать краденое имущество…
Левушка, очень недовольный, отстал от Архарова и занялся своей шпагой. Надобно было совершенно бесшумно и ни о что не задев, вынуть ее из ножен. Пространство было невелико, он уперся локтем в парусину, парусина подалась, и Левушка вдруг понял, что между бортами «Чесмы» и этими эфемерными белыми стенками - пространство порядочной ширины. Очень осторожно он развернул шпагу, медленно нажал кончиком на ткань, не столько прорвал, сколько провертел и продавил ее - и шпага ушла в то пространство едва ли не по весь эфес.
Левушка чудом не хлопнул себя по лбу - надо ж быть такими дураками, чтобы не соразмерить наружную и внутреннюю величину сухопутного судна! Да там роту мошенников и штук десять сервизов можно спрятать.
А тот, кто был наверху, на палубе, двигался к корме и был, наверно, уже у самой лестницы.
Покупатель сервиза от недовольства стукнул кулаком по скамье. Вдруг он поднял голову - услышал шаги на лестнице.
Кто-то спускался, покупатель встал и сделал два шага, чтобы встретить этого человека, когда он сойдет с последней ступеньки.
– Прелестно… - услышал Левушка, и это был даже не шепот, а тень шепота. Архаров еще более отвел край полотнища и был готов выйти на свет. Слова уже были заготовлены: спокойствие, господа, московская полиция! И далее: до выяснения подробностей продажи ворованного имущества вы оба арестованы.
Он страстно желал произнести наконец эти слова!
Левушка, чувствуя, что вылезать еще рано, ухватил его левой рукой за плечо.
Если бы покупатель повернул голову, то увидел бы их обоих - а точнее, один силуэт, архаровский, потому что Левушка стоял за спиной друга.
Тот, кто осторожно спускался, тоже имел фонарь, и во чреве «Чесмы» стало значительно светлее. Теперь покупатель, пожалуй, мог бы и лицо обер-полицмейстера разглядеть.
Да и Левушка с Архаровым увидели покупателя более ясно. Архарова поразило сходство с человеком, которого он неплохо знал, но казалось невероятным, чтобы этот человек ночью и в одиночку оказался в таком странном месте. Левушка же почти не знал этого человека, и потому его внимание привлекло некое движение за лестницей. Тень от статной неподвижной фигуры на белой парусине зашевелилась таким образом, как будто под парусиной образовался бугор.
Тут за дощатой стенкой начался переполох.
– Да пустите же, черти! - вопил знакомый голос. - Сдурели вы? Там ловушка! Засада! Ваша милость, ловушка!
Архаров еще не успел понять смысла слов, а Левушка, отпихнув его, кинулся со шпагой на покупателя, тут же громыхнул выстрел, пуля пробила парусину там, где только что была архаровская грудь, и в корабельное нутро ворвался Федька.
– Тучков, стой! Ваше сиятельство! - закричал обер-полицмейстер. - Свои! Тучков, не тронь его!
Вслед за Федькой в дверь лезли полицейские драгуны с факелами.
Тот, кто стоял на предпоследней ступеньке лестницы, запустил фонарем в стену и пташкой взлетел обратно на палубу.
Дальше была суета, неминуемая, когда с десяток человек окажутся в малом пространстве.
Покупатель шарахнулся, громко выругался, столкнулся с кем-то из драгун, оказался прижат к стенке.
Левушка тыкал шпагой в парусину и нашел место, откуда был сделан выстрел - там один край ткани прикрывал второй, но гвоздями приколочен не был, и выставить в щель пистолет можно было без затруднений. Пистолет он тоже нашел - не за парусиной, а отброшенный стрелком под ноги покупателю, в котором поручик Тучков наконец-то признал графа Орлова.
Сперва Левушка принял этот предмет за длинный, чуть ли не в аршин, нож с золотой насечкой по клинку, узор коей выдавал турецкое происхождение оружия. Но при рукояти имелись замок и короткий ствол, тоже покрытые узором, да так, что на взгляд совершенно сливались с клинком. Такие турецкие кремневые кинжалы-пистолеты были большой диковинкой даже среди многих военных трофеев.
Но Левушке было не до оружейных загадок - он продолжал преследовать стрелка.
Федька взобрался на палубу и преследовал кого-то незримого, но безуспешно - тому помогали прятаться паруса, такелаж и уже расставленная изящная мебель. Судно не было точной копией боевого корабля, и люк в палубе, к счастью, имелся лишь один - тот самый, под кормовой надстройкой-ахтердеком, которая изнутри представляла собой маленький салон со стенками, обтянутыми шелковой тканью московской работы. Но никто не догадался намертво закрепить реи, и они от толчка колебались взад-вперед, едва не сбивая Федьку с ног - мало приятного, если в грудь ударит такая тяжелая оглобля…
Архаров орал, выгоняя драгун из корабельного нутра, - они могли запросто поджечь «Чесму». Кому-то и по уху досталось.
И посреди всего этого безобразия откуда-то сверху рухнул тяжелый узел - а, может, и вывалился из стены, теперь любых чудес можно было ожидать.
Узел был настолько тяжел, что двое драгун по приказу Архарова, еле его вытащили наружу. Развязывать Архаров не велел - он и без того знал, что внутри.
– Савин! Где тебя черти носят! - закричал он. - Слезай оттудова!
Но Федька не отозвался. Он видел тень, которая перелетела через фальшборт и пропала. Конечно же, ему непременно нужно было прыгнуть с палубы в том же месте и с той же легкостью. Ан не получилось. Приземлившись, он подвернул ногу и шлепнулся наземь. Боль была резкая, но терпимая - он даже не выругался, а стал ощупывать больное место, чтобы понять - перелом у него там, или обошлось. Потому и молчал, что было стыдно - распрыгался да и остремался!
– Тучков! - позвал Архаров.
Но Левушка с обнаженной шпагой гнал стрелка, уходившего коридором между натянутой парусиной и округло изогнутой дощатой стенкой. Он на ходу пытался ободрать ткань и тратил на это драгоценное время. Наконец оба оказались в носу «Чесмы», и тут Левушка по незнанию оплошал - парусина была там не приколочена, как полагается, а просто собрана в толстый жгут, и этот жгут, раскручиваясь, рухнул на него, закрыл с головой. Рука со шпагой осталась на свободе и продолжала тыкать во все стороны, это Левушку, наверно, и спасло.
– Ваше сиятельство, - сказал наконец Архаров. - Извольте отсюда выбираться. Чего доброго, подожгут сгоряча…
– Архаров, ты за каким бесом сюда полез? - спросил сердитый Алехан. - Тебя тут, любить тебя конем, недоставало! Мне тут назначено, сижу жду, вдруг пальба, драгуны! Кого ты тут ловишь? Все дельце мне испортил! Нашел время мазуриков своих гонять!
Он был зол безмерно.
– Извольте вылезать, - отвечал на это Архаров.
– Все загубил, солдафон чертов!
– Да, я таков.
Он пропустил Алехана в дверь, выбрался из нутра «Чесмы» сам и приказал драгунам стеречь тяжеленный узел.
– Что там у тебя? - полюбопытствовал граф Орлов, в суете не углядевший, откуда взялось это сокровище. - Не мое ли?
– Золотая посуда.
– Так это, поди, моя посуда и есть!
– Пусть будет так, - не имея желания пререкаться, сказал Архаров. - Я велю драгунам донести ее до вашего экипажа. Только осмелюсь предупредить - тут не весь сервиз, многих предметов недостает.
– Да ты сквозь сукно видишь, что ли?
– Я, ваше сиятельство, за этим проклятым художеством уж не первую неделю по всей Москве гоняюсь.
– Для чего ж за ним гоняться? - высокомерно спросил граф. - Сервиз был у почтенного французского торговца мусью Роклора.
– Как же он, ваше сиятельство, сюда угодил? - уж вовсе ничего не понимая, спросил Архаров.
– Не твое дело, Архаров. Надо ж было тебе сюда лезть!…
Архаров весьма невежливо отвернулся от Алехана. У него и кроме возмущенного вельможи забот хватало.
– Хохлов, Макарка! Куда Савин подевался? Я ведь доподлинно его голос слышал. Устин! Куда все, к черту, подевались?
Когда Федьку стали звать в несколько голосов, он с неудовольствием отозвался - не хотел предстать перед командиром на карачках. Однако пришлось - нетерпеливый Архаров, сопровождаемый Михеем с фонарем, подошел к нему сам. И увидел своего подчиненного сидящим на земле, привалясь к округлому борту «Чесмы».
– Что это с тобой, Савин?
– Ногу вывихнул, ваша милость.
Архаров опустился на корточки.
– Какого черта ты сюда притащился и что ты там такое вопил?
– Ваша милость, тут была ловушка! Вас нарочно заманили, чтобы исподтишка застрелить!
– Меня - застрелить?
– Так и стреляли ж, ваша милость!
– В меня?
– В вас! Мы с Клаварошем, когда за Демкой погнались…
Федька вкратце рассказал, как обманом пробрался в резиденцию Каина, как пьяный Демка открыл ему заговор и чем все это кончилось.
– Ч-черт, как все неладно вышло… Ты уверен?…
Федька понял - неудачное покушение обер-полицмейстера сейчас волнует менее, чем смерть архаровца.
– Да, ваша милость… Клаварош сказал, когда так пуля в спину попадает… Клаварош сказал, его уж было не спасти…
Обер-полицмейстер вздохнул. Ему сделалось как-то не по себе. Это погиб первый из архаровцев чумного призыва, первый из мортусов, которые признали в Архарове командира, когда он возглавил штурм ховринского особняка. Это и само по себе было неприятно, а тут еще странное ощущение… кабы кто другой рассказал о себе такое, Архаров бы определил четко: совесть нечиста. Про себя он так думать не желал, и все же было ему скверно при мысли, что мог вечером на Пречистенке задержать Демку, убедить его вернуться, мог хотя бы власть употребить - а позволил уйти…
И то, что Демка заманил его в ловушку, уже не имело значения. Тот же Демка сказал Федьке правду, а потом его последним желанием было вернуться к своим. И вот его нет более…
Сам заманил в ловушку - и сам же спас. Коли все так, как уразумел Федька. Тоже ведь - невелик умник, мог сгоряча и переврать.
– Ничего попроще они выдумать не могли? - недовольно спросил Архаров. - Вон голштинцы той зимой, помнишь? Подкараулили у дома да и выстрелили, чем плохо? А тут сервиз к делу приплели, суеты вокруг него развели! Сдается, наврал тебе Костемаров…
– Демку, ваша милость, уж не спросишь. Нет больше Демки. И он не наврал - кто ж тогда за холстиной сидел с пистолетом, ангел Божий? Ваша милость, он там так сидел, что из-за спины того господина преспокойно мог в вас стрелять!
– Из-за графской спины? - переспросил Архаров.
Вот теперь вся куча разрозненных и малопонятных событий вдруг, зашевелясь, стала менять бестолковые свои очертания, но это ее движение к порядку было пока весьма смутным, и Архаров замер, пытаясь удержать себя в состоянии, близком к пониманию хода событий.
Ему это не удалось. Помешал запыхавшийся Устин.
– Ваша милость!… Насилу вас сыскал!…
– Ты где пропадаешь?
– Я за теми мазуриками пошел, вы сами велели следить - коли кто выйдет из корабля, так чтоб я потом доложил, куда он пошел. А тут не вышел, а сверху соскочил и побежал. Я думал - Михей его поймает…
Устин замолчал. Архаров вспомнил - Михею Хохлову было велено ловить всякого, кто вздумает покинуть «Чесму». Но поднятая Федькой суматоха отвлекла его - и Хохлов наверняка найдет себе тысячу оправданий, проверить же невозможно…
– И я - за ним, ваша милость! - не дождавшись от Архарова ругани в Михеев адрес, продолжал Устин.
– И где ты его оставил?
– Там, ваша милость, всякие скоморохи, как цыгане, табором стоят, так он туда забежал.
– К скоморохам?
– Там еще телеги и кибитки, в которых работники живут, их сейчас разбирают и увозят. Он там затерялся, ваша милость, народу много, не спят, безобразничают…
Устин имел все основания жаловаться - при его смиренном богомольном нраве общество шутов, кукольников, гудочников, медвежьих поводырей, да еще ночью, при свете факелов, наводило на мысли о том, что на краю Ходынского луга в земле разверзлась прореха и через нее вылезли обитатели адского царства.
О том, как он перепугался гадких визгливых карликов, оказавшихся при рассмотрении двухаршинными итальянскими куклами-марионетками, докладывать Архарову Устин не стал.
– Стало быть, он - там… А второй?
– Кто - второй, ваша милость?
Устин преследовал человека, которого по палубе «Чесмы» гонял Федька, и не заметил второго, покинувшего корабль через какую-то дырку неподалеку от носа судна Но второй, надо полагать, удрал в том же направлении.
– Был и второй. Более ничего странного не заметил?
– Колокол, ваша милость. Отчего во Всехсвятском храме вдруг колокол бухнул? Уж три года, как разрешено отправлять храмовые праздники летом с благовестом и со звоном на всенощную, так ведь память всех святых, в земле Российской просиявших, у нас на вторую неделю по Пятидесятнице была, месяц назад.
– Поди, вели мою Фетиду привести, - сказал на это Архаров. - И господина Тучкова позови. И есть там толковый драгун Кричевский, пришли его ко мне, надо Савина отсюда вытаскивать. Пусть для него лошадь возьмет. Пошел… да что ты тащишься, как вошь по шубе? Побежал!
И, проводив Устина взглядом, беззвучно повторил: «из-за графской спины…»
Мысль была! Умная, все объединяющая вместе мысль! Но куда-то подевалась.
– Вставай, - велел Архаров Федьке и протянул руку. Даже приобнял, помогая подчиненному утвердиться на одной ноге.
В голове его уже выстраивался план розыска.
Затеряться на Ходынском лугу как будто было несложно - однако за несколько недель строительства весь здешний народ перезнакомился и друг дружке примелькался.
Ночной стрелок и его приятель не могли исчезнуть, как злые духи, бесследно - полицейские драгуны патрулировали окрестности Ходынки, всюду горели факелы и фонари, и человек, удирающий оттуда среди ночи и во время переполоха, был бы замечен. Стало быть, они до сих пор где-то среди скоморохов, как назвал Устин завтрашних развлекателей, собранных для увеселения простого народа.
Несколько десятков кукольников, комедиантов, канатных плясунов и штукарей с вечера проникли на луг и обживали новые свои помещения - вышки для натягивания канатов, «комедиантские амбары» для марионеточных и прочих комедий, а также палатки, в которых выставляли свои автоматы французские и немецкие «механисты».
Раздался стук копыт - это мчался к другу Левушка, ведя в поводу Фетиду, а за Левушкой - Кричевский с фонарем, Михей, Максимка.
– Николаша, что там у тебя? - кричал Левушка. - Федька жив?
–Жив! Сейчас пойдем кукольную комедию смотреть! - отвечал Архаров. - Максимка, помоги Савина сзади к Михею посадить. Хохлов, вези его потихоньку. С тобой я завтра поговорю. Так где тут дармоеды?
– А вон там, ваша милость, - сразу поняв вопрос, показал драгун.
– Едем.
Приближаясь к вставшим биваком артистам, Архаров прислушался - и уловил какие-то нечеловеческие звуки, хрипы и стоны.
– А справа что, Кричевский?
– Там плясовые медведи, зверовщики с обезьянами, ученые лошади и верблюды, - доложил драгун.
– Прямо Вавилон какой-то, - заметил Левушка. - Вавилон и Ноев ковчег.
– А заодно Содом и Гоморра, - добавил Архаров. - Помнишь, как наши староверы про Москву стихами говорили: что ни дом, то Содом, что ни двор, то Гомор?
– А сами-то на Москве живут и уезжать не хотят! - воскликнул Левушка и рассмеялся. Архаров уставился на него было с возмущением, и вдруг понял - да ведь приятель еще ничего не знает про дружка своего Демку…
А сколько раз Демка веселил его смешными песнями…
Тут Архаров понял, что никогда и нигде не услышит он более такого заливистого и лихого тенора, способного передать всю игру певучей души с мелодией и словами.
Угрюмый подъехал он к местоположению скоморохов и велел показать весь здешний люд. Ему объяснили, что это протянется до рассвета - народ возбужден да и делом занят, все готовятся к завтрашней потехе, включая механистов, пробующих свои фигуры.
Вышло несколько человек постарше, клялись и божились, что чужих тут нет - за несколько дней они успели обзнакомиться и уж заметили бы, коли в их расположение ворвался кто-то посторонний. Стали подзывать представителей всех родов скоморошьих войск - и те поочередно утверждали, что никто чужой не прибегал, только свои готовятся к завтрашнему празднику и если куда и отходят - так разве в кусты по нужде.
Механисты Архарова, невзирая на скверное настроение, особо заинтересовали. И он при свете фонарей допросил маленького злого старичка, Пьера Дюмолина, сносно говорившего по-русски. Этот Дюмолин хвалился тем, что среди мастеров, показывавших публике курьезные машины, он самый ловкий и находчивый, потому и прижился в России, потому и привозит сюда постоянно свои новые затеи. В доказательство он нажал за спиной у небольшой, с пятилетнего ребенка, фигуры, обряженной на манер французской или немецкой крестьянки, какие-то рычаги, и фигура зашевелила руками. Ее пальцы были как-то увязаны с железным ткацким станочком, на которых делают кушаки, и из станочка поползли пестрые ленты. При этом из живота крестьянкина раздался вдруг колокольный звон, от которого Архарову чуть дурно не сделалось.
Вдруг он вспомнил, что его ждет граф Орлов, которого нужно расспросить, как он увязался в погоню за сервизом.
Архаров непременно должен был заполучить графа к себе домой, чтобы побеседовать с ним как полагается - не в кабинете, а за накрытым столом, да и дико было бы вызывать Алехана для допроса в полицейскую контору.
Сейчас же Алехан зол - того гляди, уедет, и ведь никто не посмеет его задержать. И гоняйся за ним по всей Москве! Опять же, силой его Бог не обидел - коли взвалит на плечо два пуда золота, то с ними так побежит - на лошади не догонишь.
Велев драгунам всех строжайше опросить на предмет чужих людей, которые приблудились, обер-полицмейстер поскакал обратно.
– Ваша милость, чот что внутри нашлось, - сказал Максимка-попович и протянул Архарову пистолет-кинжал, как полагается, рукоятью вперед Михнй же поднес фонарь.
– Мать честная, Богородица лесная… - Архаров потрогал замок, потрогал лезвие, оружие было вполне боевое, а судя по кислому запаху из ствола - из него-то как раз и стреляли.
Держа пистолет-кинжал в опущенной руке, он подошел к графу Орлову.
Алехан никуда не скрылся - стоял, как на посту, возле сервиза, а рядом - трое конных драгун. Архаров еще раз оглядел узел - маловат, в нем и половина сервиза не поместилась бы.
– Я тебя чуть было не убил, - сказал граф обер-полицмейстеру. - Свалился, как снег на голову! А теперь погляжу - и сервиз у меня, и платить не пришлось, дивны дела твои, Господи!
Архаров дважды кивнул - Алехан, может, не убил бы, но попытался дать в ухо - наверняка. Может, у него это даже получилось бы - в узком пространстве Архарову некуда было уходить от размашки или от хорошего тычка.
Но задавать вопросы о способе убийства было бы нелепо.
– Вы, ваше сиятельство, в экипаже прибыть изволили? - спросил обер-полицмейстер.
– Да, мой Сидорка меня на дороге ждет, в кустах затаился. Уговорились - коли я сервиз беру, то Андрюшку за ним пошлю. Там пуда два золота, а то и больше, надо будет потом взвесить.
– Больше двух пудов, но это с яшмой. Яшмовые ручки одни несколько фунтов потянут, они толстенькие, - объяснил Архаров. - А где ваш Андрюшка?
– Черт его знает! Я велел у борта ждать и прохаживаться, а он, сукин сын, куда-то забрел.
Архаров хотел было сказать, что наутро тот Андрюшка объявится, но служить графу уже не станет - покойники не служат. Но промолчал - может статься, орловский человек пропал самым невинным образом: встретил знакомца, зоговорился, а теперь и подойти боится.
– Коли угодно, вам драгуны дадут лошадь, и мы доедем до вашего экипажа, - сказал Архаров. - Тут версты полторы до дороги, не менее.
– Будь по-твоему. Ребята, вы мое имущество стерегли, вот вам рубль на выпивку! - с тем Алехан сел в седло. Наездник он был замечательный, держался - как берейтор в манеже, и Левушка, несколько ссутулившийся и опустивший плечи, поглядел на графа - и тут же подтянулся.
На другую лошадь посадили Максимку, самого из всех легкого, и втроем взгромоздили перед ним узел с посудой.
– Езжай шагом, - велел ему граф. - Держи, как девку! Не дай Бог, уронишь!
Добрались до орловского экипажа, осторожно перегрузили туда странное Алеханово приобретение.
– Я, Архаров, военной добычей не брезгую, - сказал граф, - но за эти тарелки честно заплатить хотел. А теперь они, выходит, добыча? Коли Роклор не явится?
Архаров спешился. Кинжал-пистолет он все еще держал в левой руке, не зная, куда бы его приспособить.
– Коли позволите, ваше сиятельство, я к вам в экипаж сяду. Не откажите подвезти ну хоть до Тверских ворот. Петров, прими Фетидин повод.
Обер-полицмейстер забрался в карету, граф приказал трогать.
– Ваше сиятельство, я подумал, что вам неудобно будет рассказывать мне про этот сервиз при моих людях, - начал обер-полицмейстер. - Потому что художество это ворованное, и вокруг него…
– Да с чего ты взял, будто ворованное? Тебе, Архаров всюду одни кражи мерещатся, - граф рассмеялся, но как-то невесело. - Носишься ночью по Ходынке, людей пугаешь… Слушай. Этот сервиз был заказан еще французским королем покойным для своей метрески. А когда он помер, то выкупить сервиз было некому. Стоит же он бешеных денег - набегаешься, пока иного покупателя найдешь. Ювелиры, у которых он остался, а денег они за него от короля не получили, разве что несколько тысяч ливров задатку, измаялись - куда бы его пристроить. А мусью Роклор - торговец известный и честный комиссионер, он бы Адаму в раю французский кафтан продать умудрился, или скажем, турецкому султану - партию наилучшей ветчины. Он себе процент какой-то злодейский за комиссию выговорил и тогда лишь карты открыл - он на наш двор расчет имел. После того, как мы турок одолели и государыня решила головщину мира в Москве праздновать, во всей Европе такие Роклоры зашевелились и сюда всякое добро повезли. Рассчитали, что и камни, и диковинки - все по случаю праздника у них раскупят.
Архаров хотел было возразить, но промолчал. Приберег возражение до той минуты, когда граф полностью опишет свои приключения с Роклором. А возражение было знатное!
– А я когда через всю Европу домой ехал, все думал - чем матушку удивить? Камнями - не удивишь, на бриллианты она в карты играет. Второго такого алмаза, как ей братец мой подарил, я не раздобуду. Нужна диковина, да такая, чтобы не осрамиться.
– Ваше сиятельство, где вам сервиз предложили, в Санкт-Петербурге или в Москве? - прямо спросил Архаров.
– Впервые я о нем слышал в столице, - подумав, отвечал граф. - А от кого - уж не упомню, видать, персона была незначительная. Подумал еще - вот бы устроить у себя прием! А государыня ко мне приехала бы, теперь в особенности…
Обер-полицмейстер уже довольно знал государяню и согласился: именно теперь, когда Алеханово похищение авантурьеры не все одобряют, когда разносятся невероятные слухи: авантурьера-де от графа брюхата! - так вот, Екатерина Алексеевна для того лишь, чтобы всех сплетников поставить на место, поехала бы на прием к графу.
– И велеть подать простую еду - говядину разварную, огурцы, кашу, как на постоялом дворе. Государыня простую-то и любит. Но подать в этом французском сервизе! И так ей его презентовать. Мог ли я знать, что мне его предложат?
Архаров усмехнулся. То, что о сервизе знали в столице, было очень важно для того мысленного сооружения, которое сейчас строилось у него в голове.
– А уж в Москве я опять про него услышал от наших главных вестовщиков.
Хотя двор уже полгода пребывал в Москве, Архаров так и не знал точно, кто первый придворный сплетник. Очевидно, эта должность не была постоянной.
– Кого вы имеете в виду, ваше сиятельство?
– Да Матюшкиных, кого ж еще. Граф с графиней - два живых бродячих барометра придворного климата, и коли они к кому с дружбой своей липнут, тот, выходит, у государыни в фаворе.
Алехан рассказал, как вышло, что он, приехав в Москву едва ль не инкогнито, в почтенном доме встретился с Матюшкиными и был ими обласкан.
– Да, я сам диву даюсь, откуда у сей четы разнообразные сведения, - признался обер-полицмейстер, отметив в уме, что участие Матюшкиных - тоже весьма важный кирпичик в умственном сооружении. И странное, надо сказать, участие!
– Они-то и рассказали мне великую тайну - мусью Роклор пытается продать в Москве сервиз фавориту, чтобы тот преподнес его государыне в честь празднования мира с турками. А фаворит, у коего деньги меж пальцев текут, сперва сильно обнадежил Роклора, а потом - на попятный, да и кобениться стал, так что бедняга француз чуть ли не в слезах от него уходит. А они узнали эту новость потому, что граф, в бытность свою в Париже, познакомился с Роклором и даже были у них какие-то общие проказы.
Архаров не хуже Алехана представлял, что это могли быть за проказы: ловкий комиссионер устроил проигравшемуся в прах русскому графу денежный заем, получив с того свой процент сразу же - и, возможно, от обеих сторон, потому что ясно было: сколько бы этот вертопрах ни проиграл, его долги оплатит какая-нибудь значительная особа.
– То бишь, о том, что сервиз был заказан еще покойным французским королем, вы узнали от Матюшкиных, ваше сиятельство?
– Или же от Роклора. Они мне его представили. Пожалуй, что от Роклора… Разве сие имеет значение?
Сие имело значение. Ежели приступить к розыску, Матюшкины будут все валить на Роклора - он-де солгал, а они ведать не ведали, что сервизишко краденый! А вот удастся ли изловить этого Роклора - еще вилами по воде писано.
– Стало быть, Ваше сиятельство решили поднести государыне сей сервиз?
– Роклор мне сухарницу показал и кофейник. А весь сервиз, сказал, спрятан в надежном месте, куда он лишний раз не лазит - так оно целее будет. Ну, Архаров, случалось мне богато едать, а такой посуды не видывал. Главное, сервиз точно таков, как должен ей понравиться - линии просты, четки, узор изящен, а ручки эти красненькие - впору умиляться. Казалось бы, велико ли диво - яшма. А как хорошо получилось! Там не столь золото - золото тьфу! Там работа бесценная. Не ремесло - художество! И решил - беру. А расплачусь камнями - я, Архаров, таких трофеев привез!… У меня в одном кармане - деревень пять или шесть обретается, да не захудалых каких-нибудь!
Граф сунул в карман руку и добыл драгоценности - длинные серьги с подвесками, запястья, броши, сцепившиеся между собой, так комом и выложил на каретное сиденье.
– Роклор, разумеется, был согласен.
– А что ж не соглашаться? Я-то его не гонял взад-вперед, как фаворит…
Граф замолчал.
Экипаж приятно покачивался - дорога у самой Москвы ровная, особливо у ямских слобод, где устраивают на праздники гоньбу, ездить - одно удовольствие. За экипажем вразнобой стучали копыта - на некотором расстоянии его сопровождали архаровцы и полицейские драгуны.
– Но как вышло, что сервиз оказался на Ходынском лугу?
– Глупейшая история, Архаров. Наиглупейшая! Постой-ка! Архаров, говори прямо - тебя на след фаворит навел? Это он тебя на меня натравил?
Тут обер-полицмейстер и онемел.
– Ты сказывал - сервиз-де краденый, ты-де за ним охотился! Кто тебя охотиться-то послал? А? Выслуживаешься перед государыней? Ты на носу заруби - она такого не любит! Тем, кто верно служит, цену знает… да и то не всех защитить может…
Алехан помрачнел. Возможно, он имел в виду самого себя.
Архаров все понимал - служа государыне, граф Орлов оказался под всеобщим ударом. Европа возмутилась, Польша кипела - авантурьеру, им похищенную, прямо называли родной дочерью покойной царицы Елизаветы Петровны и, загадочным образом, законной наследницей российского трона. То, что покойница замужем не была и законного потомства оставить не могла, Европу не смущало. А здешние российские недоброжелатели с того голоса свою песню завели - негоже-де матушке-царице такие услуги от графа Алехана принимать, он-де, чтобы бродяжку на корабль заманить, с ней доподлинно венчался, а потом-самозванцем был его приспешник де Рибас…
Очень может статься, что нынешний фаворит - того же мнения, ибо уж ему-то Орловы при дворе не надобны.
– Служу я Отечеству, - помолчав, сказал Архаров. - А фаворит мне не указ. Он, я чай, меня и в лицо-то не запомнил.
Не удержался - высказал обиду! Господин Потемкин несколько раз не ответил ему на поклон, а Архаров по этой части был злопамятен. Коли бы посчитать, сколько раз забьывали поклониться ему влетающие в кабинет полицейские, да выдать обер-полицмейстеру столько золотых червонцев - и он бы, пожалуй, сумел приобрести сервиз графини Дюбарри. Но на лестнице, им изобретенной, было в ходу правило: высший может быть суров по отношению к низшему, однако правила светской любезности соблюдать безукоризненно.
– Твою рожу поди не запомни…
Архаров понял, что Алехан ему поверил. Есть такие оттенки в бурчании и словесном огрызании, которые означают скрытую просьбу простить за необоснованные подозрения.
– Стало быть, сервиз достали из хранилища, где он был небезопасен, и стали искать новое, - сказал обер-полицмейстер. - Но неужто на Москве иного места не нашлось?
– Чертов Роклор хорошо еще, что с перепугу его в нужник не вывалил. Покуда мы сговаривались, кто-то донес фавориту. Французишка отыскал меня ночью, веришь ли - в маске примчался с перепугу! Умолял все забыть, брал свое слово обратно. Тут меня и заело - не желаю уступать сервиз, да и все тут! Хоть тресни!
– Прелестно, - пробормотал Архаров.
– Я цену накинул - он согласился. Через день присылает сказать - фаворит-де его в Сибирь закатать обещал, коли кому другому сервиз отдаст. Хорошей цены не сулит, а Сибирью, вишь, грозится! Роклоришка опять со страху штаны намочил…
– И вы опять цену накинули.
– А что мне оставалось? До праздника-то - считаные дни. А у меня вся ставка на этот сервиз была сделана. Отдарить за все добро, что от государыни видел, по-королевски! Да и в отставку.
– Продолжайте, ваше сиятельство, - сказал Архаров чуть скорее, чем бы следовало.
Он знал, насколько болезненными бывают вопросы об отставке для таких молодцов, как граф Орлов. Уходить, притворяясь, будто делаешь это добровольно, - что может быть хуже.
– Вчера же случилась такая беда - фаворит велел перевезти сервиз к нему в апартаменты, на Пречистенку. Он же там поселиться не постыдился. А Роклор - не дурак, перевезешь вот этак - потом десять лет будешь ходить, свои же собственные деньги выпрашивать. И решил он с перепугу сперва выпроводить сервиз из Москвы, а потом уж дальше со мной тоговаться. Боялся, что фаворитовы люди за ним следят. И уговорился он с одним своим знакомцем, французом, как звать - не помню, славным механистом. Он человеческие фигуры мастерит - шевелятся, как живые, только что не говорят, а сказывали, однажды и говорящую голову изготовил. Тот механист вывез сервиз на возу со своими железными куклами и доставил на Ходынский луг, более ему некуда было, а тут - кто его проверять станет? Везет сундук тяжеленный - стало быть, так ему по его ремеслу надобно. Теперь тебе, Архаров, все ясно?
– Ваше сиятельство, тут только часть сервиза, другая закопана в подвале старого Гранатного двора, - сказал Архаров. - Коли ваш Роклор честный комиссионер, он не мог вам продавать лишь часть сервиза.
– А ты почем знаешь?
– Мои люди ведут наблюдение за Гранатным двором. Мне бы, возможно, следовало те тарелки, откопав, отвезти к себе домой, но я их оставил, потому что не понимал, сколь тонкая игра ведется. И они, смею надеяться, еще там.
– Я все тебе, как на духу, рассказал. А теперь ты мне растолкуй, Христа ради, какая тебе корысть в том сервизе, - приказал Алехан. - Коли не фаворит, то кто тебя по следу направил?
– Того человека, кто меня по следу направил, в России нет. Это, ваше сиятельство, французский начальник полиции господин де Сартин. И его письмо о том, что в Париже был украден сервиз, заказанный для себя фавориткой покойного короля графиней Дюбарри, исправно хранится в моей канцелярии…
– Этой блядищей?!.
– Я, ваше сиятельство, у сводни ее не встречал и в постель с ней не ложился, так что про блядство доподлинно не знаю, - с тяжеловесным ехидством отвечал Архаров. - Письмо хоть сейчас предъявлю, для того придется в контору заехать и послать за кем-то из старших канцеляристов. А еще меня сильно уговаривали искать похищенный сервиз господин граф Матюшкин и госпожа графиня Матюшкина. Было же сие, как сейчас помню, когда праздновали день рождения государыни.
– Архаров, ты врешь… - в отчаянии произнес Алехан.
Архаров только плечами пожал. Обиды он не испытал - в самом деле, кому приятно осознавать, что мошенники втравили его в свою игру и провели, как младенца.
А игра была затеяна опасная. Составляющие ее мелочи, загромождавшие архаровскую голову в неимоверном количестве, только-только начали складываться вместе так, чтобы одно дополнялось другим, и уже ткалась из ниточек ткань с узором, и по крайней мере одну прореху можно было заполнить подходящим завитком… Выстрел из-за графской спины, о котором толковал Федька, собрал вокруг себя все противоречивые подробности, и пистолет, выброшенный из-за парусины к графским ногам, обрел речь…
– Коли был бы жив господин Захаров, мы бы поехали к нему, и он бы разложил вам всю сию интригу, как, знаете, любители отварной рыбьей головы ее на тарелке по косточкам раскладывают. Я же попросту скажу… - Архаров помолчал. - Сервиз отвезли на Ходынский луг единственно потому, что там ночью полно народу и все строения охраняют полицейские драгуны. В месте, где будет среди постороннего народа развлекаться сама государыня, возможны всякие…
И тут нужное французское слово вдруг вылетело из архаровской головы, а на языке завертелось, другое, тоже французское, но совершенно не подходящее: экзерсисы.
– Неприятности, - сказал он, чтобы не длить молчания. - Именно там выстрел, произведенный ночью, тут же соберет множество народу и стрелка изловят, будь он хоть граф Орлов.
– Да какого ж хрена мне стрелять?!
– Причина для стрельбы самая простая - вас разозлила попытка вмешаться в ваши дела, да и то, что вас обозвали вдруг скупщиком краденого, тоже привело в ярость. Но даже не это важно. Важно то, кого бы вы застрелили.
– И кого же?
– Меня, ваше сиятельство.
Сказать это Архарову было непросто.
– Архаров, ты точно сдурел. Я, коли что, тебя кулаком приласкаю, стрелять-то для чего?
– Для того, чтобы убить.
– У меня и пистолетов-то никогда при себе нет!
– Зато пистолет был у того мазурика, что стоял у вас за спиной, спрятанный за холстинами. Ваш мусью Роклор, спускаясь сверху, превосходно осветил меня, стоящего у белой холстинной стенки. Тут было бы мудрено промахнуться. А затем, коли помните, после неудачного выстрела пистолет был брошен к вашим ногам. И, смею вас уверить, это был весьма дорогой пистолет. И что же получается, ваше сиятельство? Получается, что вы накануне славного праздника убиваете московского обер-полицмейстера за то, что он помешал вам купить краденую вещь и ту краденую вещь подарить нашей государыне. О том, что я искал сервиз, знали многие. Итак, убийство видят мои люди, это видит мой друг поручик Тучков, это видят полицейские драгуны. Все они, ошалев от ужаса, готовы клясться, что видели пистолет в руке вашей. И оружие мои люди там, в корабле, подобрали…
– Да мало ли пистолетов на Москве?
– Извольте любоваться.
Наконец-то Архаров выставил пистолет-кинжал, который до поры прикрывал полой кафтана.
Горевший в карете фонарь давал довольно цвета, чтобы разглядеть и тонкую работу, и золотую насечку.
– Мой? - сам себя спросил Алехан. - Доподлинно - мой! А я-то на дураков своих грешил…
– И многие ли его, у вас в гостях бывая, видеть успели?
На этот вопрос Алехан не ответил.
– Стало быть, драгуны, прискакав на выстрел, находят мое мертвое тело и при нем - ваш разряженный пистолет. Ну, и господина графа, разумеется, который клянется, что оружие у него три года как украли. Об этом наутро же докладывают государыне, а полчаса спустя это знают все посланники - и английский, и испанский, сколько их там у нас завелось…
– И французский.
– Французский о сем… - опять нужное для красоты слово упорхнуло, пришлось использовать просто русское: - о сем безобразии, боюсь, знал заранее. Такие вот дела, ваше сиятельство. Сие именуется - шкандаль…
Алехан ничего не ответил.
– У меня тут на Москве риваль завелся, - сказал Архаров. - Господин Шешковский, с коим делим подвалы и прочие палаты Рязанского подворья. Как приехал вести следствие по делу маркиза Пугачева, так у нас и застрял. Надоел до полусмерти. Хоть съезжай, и с конторой своей вместе. Коли бы меня убили, а все улики указывали на вас, господин Шешковский в течение двух-трех часов посидев в полицейской канцелярии и сличив все донесения по поиску сервиза, преподнес бы государыне весьма неприятный для вашего сиятельства доклад.
– Стало быть, французы. Ах, черт, как все ловко подстроено! Пристрелить обер-полицмейстера - это ведь столько шуму, вовек не отмоешься! Архаров, это мне за Ливорно…
– Может быть, и так, а может, и нет.
– За Ливорно. Все грехи мне бы тут же припомнили… а знаешь ли, что еще за слух пущен? Будто бы я не настоящую авантурьеру увез, а какую-то похожую девку, настоящую же приберегаю… Так им, может, и эту блядь выторговть бы удалось. Господи, позору-то… И все, что я доброго сделал, - псу под хвост!
– Ваше сиятельство, обошлось. Угодно ли ехать к старому Гранатному двору?
– Да, - подумав, сказал Алехан. - И молчи, Бога ради.
Архаров видел - граф Орлов не желает ему верить, в глубине души надеясь, что обер-полицмейстер заблуждается. Сие Левушка называл иллюзией. Иллюзию следовало развеять. А заодно и забрать треть сервиза - более ей там лежать было незачем.
Чтобы доехать до печально известного подвала, следовало сделать небольшой крюк. Да там еще повозиться, откапывая клад. Архарову уже хотелось домой, спать, и он знал, что уснет, невзирая на все события этой ночи, - настолько велика была усталость. Уснет, как всякий, кто чудом остался жив, но еще толком не осознал возможности своей смерти. Может, завтра осознает…
Когда экипаж остановился, Алехан не сразу решился его покинуть. И Архаров понимал - очень уж графу не хотелось посмотреть правде в глаза. Пока что его слово было против архаровского слова, история про честного комиссионера Роклора - против истории о ворованном сервизе. Правда же хранилась в подвале.
Поэтому обер-полицмейстер молча ждал, пока граф Орлов выйдет из кареты.
У подвала их остановили двое десятских. Они признали Архарова, поклонились, он же их отпустил по домам.
Внизу все было, как оставили архаровцы, - только на прислоненных к стене лопатах давно высохла земля.
Михей и Максимка-попович стали копать, Устин им светил. Очень скоро показалась рогожа. Сверток вытащили и положили к графским ногам.
– Угодно ли сличить сии тарелки с теми, что у вас в экипаже? - безжалостно спросил Архаров.
Вдруг ему пришло в голову, что французы, поди, его высоко ценят: столь дорогую посуду не поленились привезти, чтобы поймать на сервиз, как рыбку на ключок, сперва московского обер-полицмейстера, потом графа Орлова. Ну что ж, он своего звания не посрамил - впредь могут и дороже оценить!
– Хрен с ними, верю, - сказал Алехан. - Архаров, я твой должник. Кабы не ты, то праздник завтрашний - ко всем чертям! Ко всем гребеням мохнатым! Да и сам я - туда же. Сраму-то… Все, все бы мне припомнили - и Ропшу. Архаров, ты-то хоть веришь, что я покойного императора не убивал? У него и точно какая-то колика была, может, геморроидальная - я почем знаю? Как стоял - так, посинев, и рухнул.
Обер-полицмейстер посмотрел в лицо графу Орлову. И то, что ему требовалось, увидел.
– А чего тут верить? Я знаю, - ответил Алехану Архаров. - А должник ты не мой. С Федькой Савиным рассчитывайся. Он нас обоих спас.
* * *
Который уж день Тереза пыталась понять, что надобно Мишелю.
После их бегства из далеких деревень, после долгой и страшной дороги, они поселились в Замоскворечье, в комнатах маленьких, но со всеми необходимыми женщине удобствами. Наконец удалось позвать к Мишелю доктора-немца.
Граф Ховрин, в восторге от своего побега из ссылки, взял деньги и одежду, но позабыл лекарства и микстуры. Появляться на людях было опасно, верный кучер находил каких-то бабок-травознаек, Тереза прямо в экипаже заваривала сухие листья и коренья, поила своего любовника, уговаривая потерпеть. Ей казалось, что в новой жизни, наступившей после зимы в старой усадьбе, Мишель сделался ее ребенком. И жизнь эта текла наоборот - не от рождения к зрелости, а от зрелости - к причудливому детству и далее - в небытие. Иначе, видно, и быть не могло - после мертвой зимы в чужой усадьбе. Иной свет и иные обстоятельства делались привычными - а то, что в прежнем своем существовании Тереза знала цену времени, в этом же время перестало иметь значение, казалось ей правильным…
Ничего более не должно было удивлять в этой новой жизни - даже то, что в замоскворецком жилище их встретила на пороге Катиш. Она обратилась к Терезе, словно и не расставались, так, как привыкла обращаться на Ильинке, и сразу поставила себя на место служанки, Терезу - на место госпожи. И ни слова не сказала о том, где и как провела эту зиму.
А зима выдалась для Катиш нелегкой - она постарела. Прежняя ее бойкость сменилась плохо скрываемым высокомерием и злостью. В обращении с господами, Терезой и графом Ховриным, она себе воли не давала, но Тереза слышала, как она кричит на кухарку, на горничную, на мужчин, бывших тут в услужении, но занятых чем-то непонятным. Кроме того, Катиш стала носить драгоценности.
Возможно, она хотела, чтобы Тереза расспросила ее, откуда эти кольца и запястья. Но Терезе совершенно не хотелось это знать. Катиш завела богатого любовника - ну так недоставало лишь, чтобы они вдвоем, усевшись в уголке, грызли дорогое драже и толковали о своих любовниках.
Теперь Тереза и Мишель, живя в тесноте, спали каждую ночь в одной постели. Но их объятия не имели продолжения - прижавшись к Терезе, Мишель строил безумные планы. Он намекал на знатных особ, что покровительствуют ему в столице, на тайные межгосударственные интриги, особо напирал на свое значение в политических хитросплетениях, обещал Париж, Лондон и Неаполь, где Терезу ждут дворцы, балы, драгоценности.
Он тяжело и быстро дышал, хватался рукой за горло, как будто это могло помочь, и Тереза понимала: она, как всякая добродетельная мать, утешает свое страдающее дитя. Кому же еще поведает дитя свои затеи, свои выдумки, как не матери? И какая мать оттолкнет умирающего ребенка?
Она знала - не умом, а душой знала, - что Мишелю более не перед кем похвалиться своими великолепными замыслами; возможно, он для того и держит ее при себе, не отпуская, что ему необходима снисходительная слушательница - не знающая, каковы обстоятельства на самом деле, и готовая вместе с Мишелем жить в том мире, что он сам для себя возводил словесно. Жить вне жизни, вне времени, - как будто их обоих уже безболезненно перенесли на тот свет.
А что было за пределами этого жаркого ночного мира, в котором угасание сонной речи было сродни угасанию самой жизни?
У Мишеля доподлинно сыскался какой-то богатый покровитель. Однажды привезли дорогое платье для Терезы, укутанное в простыню. Она вытащила булавки и невольно улыбнулась. Платье поражало воображение - это была парижская мода уже будущего года! Она отреклась от тончайших и изысканные оттенков и полутонов, а предпочла тона, спорящие друг с другом. Оставалось лишь понять - кого Терезе пленять тут, в маленьком домишке.
– Позвольте, сударыня, я вам помогу надеть и зашнуровать, - сказала Катиш.
Платье было полосатое, полосы черные и бледно-жонкилевые, и из такой же ткани - большой бант-розетка на груди. Бант из ткани платья означал, что ленты, чего доброго, выйдут из моды. Поверх следовало носить атласную бледно-жонкилевую накидка, отороченная мехом. Декольте обрамляла очень скромная полоска кружева, такое же кружево было положено и на рукава, доходящие до локтя.
– Позвольте, сударыня, я вам волосы всчешу и взобью.
Еще год назад Тереза не стала бы носить такой большой и пышной прически, полагая ее признаком дурного вкуса. Теперь же Катиш зачесала ей волосы наверх довольно высоко, спереди уложила их гладко, хотя пришлось повозиться - такие моды не для курчавых волос. На самой макушке Катиш приспособила плоскую наколочку из кружев и лент - черных и жонкилевых.
Украшений Катиш не предложила, ни броши, ни браслетов, - одну черную бархотку на шею.
– Благодарю, - сказала Тереза.
И, сев у окна с рукодельем, надолго замолчала. Рукоделье было какое-то нелепое, шитое кружевце, неизвестно для чего нужное. Сама она им даже нижнюю юбку бы не украсила. Но без рукоделья отсутствие жизни в доме было бы совсем мучительным.
Мишель видел ее покорность - но мало задумывался о природе такого смирения. Тот, кто позвал его в Москву (Тереза догадывалась, кто этот человек, но и с ним смирилась), куда-то вызывал его, придумывал для него занятия, и несколько раз Мишель в поте лица своего переводил с французского на русский какие-то письма. Ни покровитель, ни тот неприятный человек не пожелали видеть Терезу. Очевидно, они считали, что любовница Мишеля должна волновать только его самого, а другой пользы от нее не предвидится.
Тем не менее граф Ховрин как-то получил средства для своего обустройства, и тогда он повез Терезу и Катиш в торговые ряды, но не на Ильинку, где их все еще помнили, а в лавки Кузнецкого моста. Он был шумен, желал швыряться деньгами, и Катиш ловко выманила у него парные браслеты. Тереза не хотела украшать себя - но ей показалось вдруг, что изящная фарфоровая фигурка на рабочем столике была бы ей приятна. Она подошла к витрине и невольно вспомнила, как придирчиво отбирала фарфор для своей модной лавки.
Тереза удивлялась, как могут нравиться яркие и блестящие фигурки из севрского фарфора - хотя удивительный по глубине тона «королевский синий» был хорош… Однако «розовый а-ля Помпадур» ее раздражал своей пошлостью, немногим приятнее для нее были яблочно-зеленый и лимонно-желтый цвета. Несколько лучше она относилась к фарфору расписанному а-ля гризайль - только синей или только пурпурной краской.
Но подлинным праздником для Терезы была возможность заказать и привезти к себе фигурки из французского бисквита - фарфора без глазури, которая изрядно портила мелкие черты купидонов и нимф в пять вершков ростом. Бисквит был не белоснежного, а скорее желтоватого тона и при касании пальцами являл нежную, даже шелковистую поверхность.
Она отыскала двойную фигурку - Амура и Психею, слившихся в поцелуе. Странной и притягательной была для нее эта фигурка, являвшая разом и прошлое, и будущее. Четыре года назал вот так приникали друг к другу два юных хрупких тела - два подростка впервые пробовали на вкус любовь. Сейчас и Тереза несколько округлилась (ей это не нравилось, и она старалась потуже стянуть шнурованьем грудь), и Мишель изменился - четче обозначились мышцы, как будто он высох и сделался жестким и костлявым. Но нужно было переждать несколько - и обратное течение жизни изменит их, сделает плоть прежней, разве что совсем невесомой…
Мишель купил ей Амура и Психею, а Катиш попыталась развлечь новомодными товарами. Тут лишь Тереза словно проснулась ненадолго.
Она смотрела на модные вещицы и понимала, что тоскует по свой собственной лавке. Те месяцы вне музыки, которые казались ей бездарно и напрасно растраченными, имели, оказывается, свою прелесть. Они были насыщены иной красотой - которой сейчас недоставало.
Прекрасные кружева, которые продавала она, уже не считались прекрасными - нынешние щеголихи предпочитали более прозрачные, прежние изящные и сложные букеты и гирлянды, заполнявшие тюлевое полотно, стали не столь плотными, рассыпались на отдельные мелкие цветочки, мушки, бабочек.
Обратила она также внимание на новые валансьенские кружева, которых даже можно было не касаться пальцем, чтобы сказать - плотного плетения узор не выделяется рельефом, и потому новинка весьма удобна для стирки и для утюжки. Далее на консоли были выставлены золотистые блонды из Кане, Байе, Пюи (она вспомнила названия городков, в которых отродясь не бывала) и новомодные черные шелковые кружева из Шантильи.
Но Мишель стал торопить их, и, садясь в экипаж, Тереза окончательно простилась со своим шелково-фарфорово-кружевным прошлым. Так же, как давным-давно простилась с прошлым клавишно-нотным. И даже если вновь явится воспоминание - оно уже ничего не изменит.
За тяжкий грех жаркой свой страсти она получила воздаяние - Мишеля, стала для него, как и мечтала, единственной в мире, и молча несла этот крест, не имея более порывов и желаний.
Однако душа ее ждала некого знака. Что-то вроде приказа собираться в дорогу… Душа, приходя на миг в себя, не верила, что это оцепенение - навсегда.
И знак был! Хотя Тереза сперва даже не поняла, что это такое.
Катиш привезла откуда-то невысокого остроносого и остролицего человека, сказала, что он будет жить в верхней горнице. Тереза вовсе не претендовала на ту комнату, узкую, окном выходящую на задний двор, и промолчала - не все ли ей равно? Да и человека этого она видела мельком, просто Мишель, выходя в гостиную, как всегда, не притворил дверь.
А потом она услышала поющий голос.
Тереза не слишком любила пение - вернее, не слишком доверяла ему. Голос мог сорваться, солгать, пропасть, не дотянуться до самых верхних, самых хрустальных нот, а пальцам, знающим правильное обращение с клавишами, все было подвластно. К тому же, новый обитатель дома пел простонародные песни, которые и раньше-то не вызывали у Терезы даже любопытства.
Деваться было некуда - она шила свое кружевце и слушала. Слушала и просыпалась…
В этом высоком и заливистом мужском голосе была та привольная игра со звучанием, та внешняя неправильность размера, то противоречие нотному стану, разбитому на прямоугольнички, что доступны только истинному природному таланту, не знавшему принуждения. Так пела бы душа в раю, не стесненная правилами, кабы не томление о невозможном, пронизывающие эти песни с простой мелодией и несложными словами. Записать их на бумаге - и нет более очарования, а голос записать не на чем - разве что у ангелов в небе такие способы есть.
Тереза положила свое рукоделие мимо корзинки и пошла на голос.
У нее хватило еще ума не врываться в комнату, а, поднявшись по ступеням, встать почти у самой двери. И у нее хватило воображения, чтобы представить: там, за дверью, где звучит дивный голос, не комнатушка жалкая, с постелью, с двумя стульями, а некий просторный и разноцветный мир, некая жизнь, исполненная чувства - печали с блаженством пополам…
Как хорошо было бы любить в этом мире, подумалось ей, как сладко было бы лететь вдвоем, взявшись за руки, ощущая себя ожившим голосом, коему все подвластно…
Но недолго длилось мечтание - певец отворил дверь.
Это был всего лишь человек, поселившийся в комнате, невысокий, худощавый, далеко не красавец, походивший на блудливого приказчика в знакомой лавке, такой же бледный, белобрысый и не разбирающий разницы между девицами - они все для него были хороши.
Стало немного обидно - этот московский житель не имел права владеть таким голосом. Тереза, мало беспокоясь, что он подумает о ней, повернулась и пошла прочь, с каждой ступенью все более удаляясь от мира, в котором можно так петь и так любить.
Путь в этот мир был для нее закрыт навеки. Она не была свободна, она была обречена каждую ночь обнимать человека, который не давал ей более любви, который лишил ее всего, что нужно душе, но бросить его Тереза не могла, как если бы они были повенчаны - на жизнь и на смерть.
Слезы потекли по ее лицу - она возвращалась в прежнее свое отрешенное состояние, иное было для нее невозможно.
Вдруг откуда-то появилась Катиш, заговорила, стала обещать какие-то радости и удовольствия. Тереза отвечала ей кратко: «да, да». Тогда Катиш вдруг принялась ее чем-то пугать, какими-то неизвестными господами, на все способными. Устав слушать слова, понять которые было невозможно, Тереза ушла в спальню.
В этот день была еще неприятность - приехал тот самый господин, Иван Иванович, что был виной Мишелевой болезни. По его приказу Мишеля с Терезой заперли в заброшенном доме, и ночь, проведенная в прохладе, сильно отразилась на состоянии Мишелевой груди и горла. Правда, у этого дела была и другая сторона - Иван Иванович таким странным образом спас графа Ховрина от более серьезных неприятностей, на чем они и помирились. Тереза не хотела видеть этого господина и на несколько дней просто заперлась в спальне. Она и до того почти не выходила из дома.
Мишель куда-то выезжал, был удивительно бодр, и ей показалось было, что жаркое лето поможет ему окрепнуть. На следующий день после явления Ивана Ивановича он привез новые красивые дорожные сундуки.
– Мы возьмем с собой немного, любовь моя. Поедем через Киев. Еще два дня - и в дорогу. Или же три… Вели Катиш уложить сундуки, сама также приготовься. Недостающее купим в пути.
– Катиш поедет с нами? - спросила Тереза.
– Нет, она останется тут. По дороге мы наймем тебе горничную. Все складывается отлично, любовь моя!
И пошел восторженно перечислять европейские столицы - вплоть до Мадрида…
Тереза ничего не сказала, а только радость Мишеля показалась ей неестественной, как если бы он был пьян. А он и точно захмелел от своих великолепных планов - он хотел ехать в Париж и блистать в свете, он тосковал о крупной карточной игре, о больших деньгах. Он даже обещал Терезе, что она будет принята при дворе - не сразу, конечно, сперва им следует повенчаться, но с венчанием торопиться не следует…
Это было продолжением давешних ночных речей, но странным продолжением - Тереза обнаружила себя перенесенной из области туманних мечтаний любовника в область, где загадочные мужчины заняты таинственными, но приносящими много денег делами. И это ей не нравилось - она чувствовала, что дела Мишеля вряд ли кончатся добром. Она предпочла бы и дальше жить с ним в маленькой комнате и по ночам выслушивать неосуществимые планы.
Катиш, которая после приезда Ивана Ивановича жила в одной с ним комнате, пришла после повторного зова и занялась укладыванием сундуков.
– Мы тоже уедем из Москвы ненадолго, - сказала она, - да вернемся уже знатными господами. Сколько получится - поживу с господином Осиповым, а потом он обещал меня замуж хорошо отдать. Да и не за купца, не за промышленника - а есть и дворянские семьи, где мое приданое ко двору придется.
Тереза ничему не удивлялась - она знала, что бывшая ее помощница смотрит на жизнь весьма трезво. Да и риска не боится - чтобы выйти из крепостного сословия, в чуму добровольно пошла служить сиделкой в бараке. Ее связь с Иваном Ивановичем была очередной ступенькой, которой Катиш не могла миновать в своем пути ввысь, к деньгам и супружеству. А что пришлось встречаться с самыми непотребнями образинами и заучивать слова байковского наречия - так это еще не самое страшное условие будущего благополучия. Слова-то почти русские, а она, желая стать хозяйкой модной лавки, и французский язык освоила - весьма бойко трещала.
Живя уединенно в тихом замоскворецком доме, Тереза не знала городских новостей. Ей никто не рассказал заранее о празднике на Ходынском лугу. За неделю до того праздника, с утра, Мишель сообщил, что уезжает, будет жить в ином месте, сие связано с важнейшими делами, и потом приедет с дорожной каретой, так чтоб Тереза была готова двигаться в путь. Сие весьма удобно - выехать в ночь, чтобы наутро проснуться уже в сорока или пятидесяти верстах от Москвы.
Тереза покорно собралась в дорогу. Она удобно уложила вещи, а драгоценности, кольца и сережки, зашила в платье - так делают все, считается, что это надежно. Однако Мишель в назначенный день не приехал. Она, не раздеваясь, легла на постель. Примерно такого исхода она в глубине души ожидала - слишком много было обещаний. Мишель бросил ее - и она сама в этом виновата, не следовало ехать по его просьбе в далекую деревню, по просьбе, для Терезы равносильной приказу. Не следовало всю свою жизнь посвящать ему - как будто Тереза была в чем-то виновна перед Мишелем. Но он всякий раз умудрялся сказать такие слова, что у нее не было иного пути - только быть с ним, только слушать его, и веря, и не веря… как нет иного пути у матери…
Тереза проснулась незадолго до рассвета. Мишеля не было, и она стала думать - могла ли нарушить его планы вчерашняя вечерняя суматоха, когда кто-то ворвался во двор, завязалась драка, сторожам пришлось стрелять.
Часы шли, Мишель не появлялся. Тереза вышла в гостиную и позвала Катиш. Никто не откликнулся. Очевидно, дом был пуст. И мужчины, и стряпуха, и Катиш - все покинули его впопыхах.
Вся эта суета, озаренная радостным возбуждением, должна была кончиться именно так - одиночеством в пустом доме. И вновь Терезе пришла в голову мысль о потустороннем мире - те, кто не заслужил рая и получил свой ад при жизни, как раз и будут помещены в пустые дома, чтобы, не нуждаясь в пище и одежде, пребывать в полнейшем одиночестве, ища себе мучений в воспоминаниях.
Если бы ей сказали, что Мишель погиб, она бы, пожалуй, не заплакала - в глубине души она давно уже знала, что его нет в живых, а постоянный кашель и хватание за горло - затянувшееся воспоминание о мучительной смерти от удушья.
Но он появился, когда уже стеменело.
Он ворвался - но Тереза не сразу признала его, потому что Мишель явился в длинном черном монашеском одеянии и небритый.
– Все погибло, любовь моя, мы погибли! - закричал он. - Если мы сейчас же не покинем Москву - нам конец! Он погубил нас, он все погубил!…
И, приподняв за край дорожный сундук, поволок его, пятясь, и закашлялся, и слезы потекли по его лицу.
– Мы погибли! Где деньги?
– Я не знаю.
Мишель обшарил свои карманы, выкидывая на стол дорогие безделушки.
– Этого мало, мы нигде не сумеем это продать… Твой ларчик! Давай все сюда… Я знаю, где сегодня играют… я выиграю деньги… Нет, у него и там свои люди… он всюду отыщет нас, любовь моя, мы пропали…
Он вытряс на стол из кошелька несколько новеньких серебряных рублей с четким профилем государыни, две золотые пятирублевки.
– Мы пропали, он нас и из-под земли достанет… Господи, где взять денег?…
Вдруг он замер.
– Любовь моя, мы никуда не едем… нас и на краю света сыщут…
Мишель так это сказал, что Терезе сделалось страшно.
Он сел, схватился за голову, тихо застонал - теперь наконец опасность из словесной стала вещественной, Тереза ощутила это всей кожей - ее прошиб озноб.
– Любовь моя, мы слишком много знаем… Все рухнуло, мы не нужны более, они заставят нас замолчать… Он нас всюду найдет, любовь моя, он - убийца! Он убивает тех, кто видел слишком много! Не зря же он рассказывал мне намедни, как заколол шпагой актерку на сцене! Господи, со всех сторон - гибель…
Тереза и раньше понимала, что Мишель ввязался в опасную авантюру. Да только не ощущала меры опасности - как мать драчливого подростка, уверенная, что он будет пробовать силу лишь на сверстниках, а взрослые мужчины его не тронут.
– Нам некуда бежать, - сказал Мишель. - Куда бы мы ни пошли - за нами по следу пойдет или этот проклятый француз, или этот проклятый Архаров! Погибли… это я погубил тебя!…
Ответить было нечего. Разве что сказать - ты уже давно погубил меня, любимый, лишив воли и лишив самой жизни, заменив огромный мир собой единственным.
– Сядь со мной, любовь моя. Будем ждать…
Тереза села на соседний стул. Но Мишель не был способен на ожидание - и минуты не посидев, вскочил.
– Будь он проклят! Это он погубил нас! Он выслеживает меня, как будто я зверь! Тереза, он где-то рядом, я чувствую! Он велел окружить дом, мы обречены!
Она молчала. Тогда Мишель бросился перед ней на колени - чтобы обняла, чтобы позволила ткнуться лицом в свою грудь, прикрытую черной накидкой.
– Во всем мире у меня есть только ты… - прошептал он. - Какой же я был дурак! Мне нужно было увезти тебя и жить с тобой, а не слушать этих мерзавцев… Любовь моя, как это вышло? Я не хотел, право, не хотел… И вот теперь я умираю… Любовь моя, смерть - это миг! Я не боюсь смерти, клянусь тебе! Но он перед тем, как позволить мне умереть, наиздевается надо мной вволю! Я знаю, он ходит в подвалы смотреть, как избивают людей, как плетьми и кнутом выколачивают из них признания! Лучше я застрелюсь!
Но стреляться Мишель не спешил. Он тяжело, со свистом и хрипом, дышал, и эти короткие вдохи-всхлипы были для Терезы больнее, чем если бы сама она жила со смертельно сузившимся горлом.
– Но я бы договорился с французом… Он - убийца, да, но если он поймет, что я его не выдам… А этот палач… Любовь моя…
Мишель вскочил на ноги.
– Едем! - воскликнул он. - Скорее! Он погубил меня, я отомщу ему! Ты увидишь! Я убью Архарова - только это меня спасет! Он чудом остался жив, но чудо сие - ненадолго! Едем!
Тереза схватила его за руку.
– Ты сошел с ума!
– Да! Нет! Доверься мне, я все придумал! Ему не жить! Я с ним за все рассчитаюсь! В болезни моей лишь он повинен! Я все делал, чтобы погубить его - но сам дьявол помог ему вывернуться! А если я уничтожу эту злобную тварь, француз не станет меня преследовать… он даже возьмет меня с собой… возьмет нас с собой!… Едем же!
Мишель потащил Терезу прочь из комнаты, прочь из дома, на улицу, где стояла бричка, запряженная хорошей серой лошадью.
– Ты поможешь мне, - говорил он, - без тебя я не справлюсь!
– Но уже почти ночь!
– Тем лучше! Он наверняка дома! Любовь моя, не бойся, я все придумал…
Тереза позволила Мишелю усадить себя в бричку.
– На Пречистенку! - приказал он кучеру.
Но они не доехали до Пречистенки - Мишель вдруг забеспокоился о чем-то непонятном, опять стал вспоминать страшного француза и клясть московского обер-полицмейстера, приказал остановиться в каком-то темном переулке и еще раз поклялся, что до утра Архаров не доживет.
Очевидно, вся Москва провела предыдущую ночь на Ходынском лугу, лакомилась, пила и любовалась фейерверками. В эту ночь москвичи легли спать пораньше, и улицы были совершенно тихи и пустынны. Свежий и прохладный воздух стоял в них - и после дневной жары этот неподвижный воздух был - словно его в раю зачерпнули и переместили, стараясь не поколебать, на грешную землю.
Тереза дышала полной грудью - как будто больше ей не было отмерено в сей жизни такого дивного ночного воздуха. Замысел Мишеля был ей пока непонятен, но она не спорила, не задавала вопросов. В конце концов, дом Архарова хорошо охраняется, и вряд ли туда пустят обезумевшего от жажды мести графа Ховрина. А помечтать о гибели врага - пусть, пусть Мишель помечтает…
– Слышишь? - спросил вдруг Мишель.
Она слышала - со всех сторон доносился ровный скрип, словно вся трава и вся листва в садах были усажены крошечными серенькими кузнечиками, ночными скрипачами. Один делал паузу - а в хор уже вступал другой. Эта музыка без ритма, без мелодии, была какой-то первобытной, изначальной - той, из которой выросли созвучия и переливы. Или же - той последней, в которой однажды сольются созвучия с переливами, когда их станет в мире слишком много…
Хотелось стоять и ни о чем не думать - просто внимать, ибо скрип этот имел дивное свойство - изгонять из головы всякие мысли. Даже то, что Тереза привыкла считать покоем, показалось ей сейчас суетой в сравнении с бездумной деятельностью маленьких кузнечиков.
– Идем, любовь моя, - позвал нетерпеливый Мишель. И повел ее переулками, быстрым шагом, задыхаясь - но, кажется, сейчас болезнь горла доставляла ему некое странное удовольствие, удовольствие мужчины, показывающего своей женщине горячность и неукротимость души.
Странно, что в темноте, без единой свечки в окошке, пробираясь вдоль заборов, останавливаясь под кронами лип, они не споткнулись ни разу. Возможно, их со всех сторон держал, облачив в незримый кокон, этот скрип, и нес, и принес наконец, и опустил на землю.
– Вот тут, - сказал Мишель. - Это ворота заднего двора. Они сейчас открыты - должно быть, привели верховых лошадей. Там, за воротами, пройдя двор, непременно увидишь невысокое крыльцо. Надобно подняться во второе жилье… любовь моя, ты ведь не боишься?…
– Отчего я должна бояться? - в недоумении спросила Тереза.
– Любовь моя, душа моя, иного ответа я и не ждал! Этот человек должен быть убит. Он виновник всех наших бедствий. Ты слышишь мое дыхание? Я долго не проживу - и умру по его вине! Он, он - вот кто разлучит нас вскорости! Он не имеет права жить! Держи…
Мишель вложил в ладонь Терезы некий продолговатый предмет. Она не сразу поняла, что это рукоять ножа.
Надо было спросить, что затеял Мишель, и Тереза повернулась к нему, но любовник не дал ей сказать ни слова, а схватил, прижал к себе, заговорил страстно:
– Любовь моя, только ты можешь сделать это! Отомсти за меня, избавь меня от него! И тогда мы навеки будем вместе, любовь моя, счастье мое… Ты пройдешь беспрепятственно, даму никто не посмеет задержать… ступай, ступай… отомсти!…
– Но это невозможно!
– Возможно! Или ты не любишь меня более? Ничем иным мы не спасем любовь нашу! Если он останется жив - он выследит нас, поймает, нас будут пытать, чтобы мы выдали проклятого француза и его слуг! Он погубит нас окончательно! Иди, иди, любовь моя… и возвращайся!…
Тереза испугалась не на шутку.
У нее был нож, подаренный Клаварошем - на случай, если мародеры, что поселились в ховринском особняке, заберутся к ней в комнату. Клаварош обучил и подходящему удару - вроде бы исподтишка, но смертельному. Она не раз сама себе обещала, что пустит этот нож в ход. Но даже тогда в глубине души знала, что неспособна убить человека. И вот Мишель требовал, чтобы она во имя их прекрасной любви пошла и убила московского обер-полицмейстера. Сам не шел - а ее посылал.
Вдруг ей стало ясно - все его крики и стоны искусно продуманы. Он проделывает то, что проделывал уже не раз, и весьма успешно: называет ее своей любовью и получает в ответ верность, покорность, нежность.
– … И возвращайся! - сказал он, зная, что возвращение невозможно!
А тот, к кому ее посылал сейчас Мишель, не сказал ей ни слова - но пытался спасти в чумную осень от нищеты, и потом он же пытался спасти от Мишелевой лжи, прислав найденные в шулерском притоне векселя. Убить его было так же невозможно для Терезы, как обернуться птицей или перенестись в свое детство.
– Иди, иди, убей его, убей… - твердил Мишель, поворачивая свою подругу лицом к воротам, к себе - спиной, приникая губами к ее шее и страстно целуя. - Иди же, убей его… отомсти за все… иди!…
Если до сей поры Тереза ощущала свое существование как некий вид загробного бытия и не возражала, то сейчас спасительный страх перед настоящей и непоправимой смертью пробудил в ней отчаянную жажду жизни. Она не могла убить Архарова! Ведь это означало ее собственную смерть.
И тем не менее она взяла нож так, как учил ее Клаварош, и плоское лезвие прижало к предплечью кружева, свисавшие с рукавов ее дорожного платья.
Мишель бормотал, целовал, приказывал - он не только обер-полицмейстера, он и подругу свою обрек на гибель, по-младенчески веря, что ей, верной его возлюбленной, не придет в голову мысль о его предательстве.
До сих пор Тереза ни в чем не могла ему отказать - так откажет ли в такой малости?
Незримые кузнечики собрались все вместе вокруг Терезы, миллионы, мириады сереньких кузнечиков, знающих лишь одну нотку, и голова ее уже раскалывалась, заполненная до отказа их сереньким неутомимым скрипом.
Такова теперь была ее музыка - не чистые клавикордные созвучия гениального ребенка из Вены, и не причудливость итальянской оперной арии, и не предсказуемая торжественность всех в мире менуэтов, а эта одинокая нота - схожая с ля бемоль, но не насыщенного, а пустого звука…
Как и любовь Мишеля, заменившая все, что только было в мире звучного и истинного!…
Вдруг, опомнившись, она стремительно собрала вместе все его слова, которые оказались лживыми, все его загадочные поступки, все его связи с людьми, по которым виселица плачет, и как раньше искала для любимого оправдания, так теперь ей спешно потребовалось прозреть и обвинить его во всем, чтобы единым рывком от него навеки освободиться. Но не удержала вместе эту охапку справедливых обвинений - все, все рассыпалось…
Потому что он целовал и приказывал, он был убежден в своей власти над ней.
До сих пор Тереза вверяла ему себя, свою жизнь и судьбу, без принуждения. Она сама выбрала свою любовь - тонкого и стройного мальчика, темноволосого и светлоглазого, капризного и пылкого, сама отдавала ему себя, мало беспокоясь о всем, что за пределами любви. Его болезнь она приняла как свою обязанность принадлежать ему безраздельно. Однако все это был груз, который человек способен нести лишь добровольно.
И лишь во имя того чувства, что приходит на смену самой пылкой любви и в человеческом языке не имеет имени.
– Ради нашей любви… - шептал он. - Я люблю тебя, только ты можешь спасти меня…
Ну что же, подумала Тереза, осталось отдать ему последнее, более у меня нет ничего - только иллюзия жизни…
И тут же сама себе возразила в отчаянии - нет, нет, нет!…
Если бы хоть кто-то другой - не единственный человек, пытавшийся помочь ей, вытащить ее из трясины!
Ненавистные кузнечики гремели, тесное шнурование раздражало безмерно, губы стоявшего сзади Мишеля сделались неощутимы… ей сделалось все безразлично, все - кроме себя самой, и когда возлюбленный с силой подтолкнул ее, направляя к калитке заднего двора, рука Терезы совершенно самостоятельно подалась назад, ощутила сопротивление, мгновенно его преодолела.
И окаменела, вдруг оглохнув.
Спасительница-натура уберегла ее - не дала услышать, как вскрикнул Мишель, схватившись обеими руками за живот, та же натура заставила ее сделать два шага вперед, чтобы он, падая, не ухватился за ее юбки, и не позволила обернуться.
Ножа в ее ладони более не было. Голоса за спиной, рук на плечах, губ на шее справа - не было.
Она избавилась от них, она их прекратила - и вздохнула с облегчением. Кузнечики - и те притихли.
Но краткий миг покоя сменился страхом.
Она была одна посреди ночной Москвы, боялась обернуться, все ее существо требовало помощи и защиты.
И нужно было наконец хоть кому-то объяснить, что делалось у нее в душе, рассказать про огромную ложь и про столь же огромное нежелание сопротивляться ей, про последнюю каплю лжи и про душу, в которой иссяк родник прощения.
Тереза побежала к калитке, вошла - двор был пуст, только в дальнем его углу, в курятнике, забеспокоился хриплый петух.
Возле крыльца светилось окошко. Она обрадовалась, что видит ступеньки, и взбежала по ним, толкнула дверь, оказалась в сенях.
Теперь у нее была цель - рассказать, рассказать!
Тех русских слов, что она знала, заведомо не хватило бы, но она даже не думала об этом, она просто знала - ее поймут, ее услышат, и ни при чем тут язык…
В людской шумели - праздновали новый чин хозяина. Был он полковником - стал бригадиром, это ли не повод?
Тереза шла наугад - где-то тут должна быть лестница в господские покои, так заведено - в больших домах спальня во втором жилье.
Откуда-то выскочил красивый малый, кудрявый и румяный, держа на сгибе левой руки розовый шлафрок, а в правой - свечу.
Она шарахнулась от от этого человека.
– Ты чего, Дунь? - недоуменно спросил он. - Их милости приехать изволят и к себе пойдут, так ты там погоди… успеешь еще поздравить! Идем скорее, что ты тут толчешься?
И поспешил к лестнице.
Тереза, ничего не сказав, пошла следом - по ступеням, по темным комнатам. Кудрявый камердинер отворил дверь, и Тереза поняла, что неисповедимые пути Господни привели ее в хозяйскую спальню.
Камердинер приготовил все необходимое для ночного отдыха обер-полицмейстера. Там горела всего одна свеча на карточном столике у постели и лежала у подсвечника распечатанная колода. Осталось только положить на постель свежевыстиранный и отутюженный шлафрок.
Хозяйничая, он раза два быстро глянул на Терезу, словно хотел о чем-то спросить, да не решился. Она же стояла, опустив голову, чтобы капюшон скрыл до подбородка ее лицо. Камердинер принял ее за другую - пусть, так даже лучше…
Уходя, камердинер застрял в дверях, словно ждал какого-то слова. Но не дождался. Дверь захлопнулась.
Следовало собраться с силами и приготовиться к неприятной беседе. Тем более - по-русски. Но сперва - проговорить все самое важное для себя по-французски, чтобы суметь объяснить… чтобы он понял то, чего мужчине понять невозможно…
– Нет, нет, нет… - сказала Тереза своему страху, - спокойно, спокойно…
И стала тщательно вытирать руки о юбку.
Он должен был понять… та связь между ними, что началась страшной ночью в ховринском особняке и длилась все эти годы, обязывала его понять!
– Сударь, выслушайте меня, - так начала Тереза свою беззвучную речь. - Мои слова покажутся вам безумными… нет… да!… Да, я безумна, я совершила преступление против всех законов человеческих и божественных… но я больше не могла вынести… он уже давно был мертв - и я была мертва… нет, нет…
Оправдания, конечно же, были, но ни одно не приходило на ум, ни одно не складывалось словесно.
Она вдруг поняла - во всем виновата зима в полумертвой усадьбе! Там кто угодно утратил бы дар речи навеки! И прокляла свое молчание теми жаркими ночами, когда говорил Мишель, а она лишь слушала и обнимала. Сейчас она оказалась не в силах высказать то, что переполнило дуду и излилось столь странным и страшным образом.
– Он посылал меня убить вас, - так хотела сказать Тереза, - да, он посылал меня убить вас, господин обер-полицмейстер, и дал мне нож. Мне следовало войти в ваш дом, спокойно рассказать вам об этом приказании, отдать нож - и пусть бы ваши люди вышли и изловили его… нет!… Я не могла допустить, чтобы его поймали, связали, бросили в темницу… нет, это - ложь, могла бы, если бы знала - что? Что он более из темницы не выйдет?… Как вышло, что я ударила его ножом? Я не знаю, что владело мной, но… но я не желала вашей смерти! Я не могла убить вас, значит, я должна была убить его, чтобы он перестал мучить меня… нет, все было совсем иначе…
– Это - безумие, - сказала она вслух.
А если безумие - может, Мишель еще жив? Может, лезвие только скользнуло, разрезало кожу, или даже уперлось во что-то, носимое под монашеским одеянием на поясе? И не надобно было никуда бежать, красться, дрожать от запоздалого возбуждения?
О, где ты, спасительное безумие?…
Безумных не карают… безумные сами себя не карают…
Мальчик нежный, музыка грациозная, поцелуи первые лукавые - все это вернется вместе с безумием!…
И оживут клавиши из слоновой кости, и сами, без прикосновения пальцев, заиграют мелодию, созданную дивным ребенком, и солнечный луч сквозь кружевную занавеску ляжет на красиво переписанные ноты, на бронзовые накладки клавикордов… мир будет прекрасен, как пять лет назад, если только Господь сжалится и пошлет безумие…
Но Господь медлил, а слова для объяснения своего поступка никак не собирались у Терезы вместе, не выстраивались складной цепочкой, и лишь одно повторялось: он должен понять, он должен понять…
Он - сильный, умный, способный на внезапные озарения, и в этот раз, не дожидаясь путаных объяснений, поступит единственно возможным образом, главное - довериться, но и объяснить тоже как-то надо… а слов-то и нет…
Он должен понять! Он ведь уже не раз все понимал!
Он должен знать этот состояние, когда разума больше нет, а есть одна лишь душа, чья способность терпеть иссякла… да, именно так - душа, изнемогавшая от своего добровольного плена и в полете на свободу не разумеющая, где жизнь, где смерть… но и этого ведь словами не объяснишь, а разве аккордами, и то не клавикордными, нет еще такого инструмента, чтобы сыграть безумный полет души на волю…
– Нет, нет, нет, - сказала Тереза беззвучно. - Я вот как начну: милостивый государь, прибегаю к вам и прошу вашей помощи… я убила… я убила себя, истинную и подлинную себя, ибо все годы, принадлежавшие тому человеку, уже не мои годы, это его годы, я их ему отдала… нет, нет, нет…
И тут она услышала тяжелые шаги.
Сразу же все возвышенные мысли, не находящие словесного выражения, съежились, остался только страх… нет - страх и надежда!
Вошел плотный мужчина, первым делом сел в кресло и стал расстегивать пряжки туфель. Это был он - хотя Тереза видела этого человека всего трижды в жизни, она узнала его сразу. Тяжелое лицо, глубоко посаженные темные глаза, нос чуть длиннее, чем полагается местному жителю, - да и кафтан, выложенный по бортам широченным галуном, тоже свидетельствовал о том, что явился обер-полицмейстер.
Он был чем-то сильно недоволен, избавился от башмаков, вздохнул с истинным облегчением - и вдруг звонко расхохотался. Тереза съежилась - похоже, в этой спальне должны были встретиться два безумия…
Голос обер-полицмейстера оказался звонким и веселым, все слова Тереза поняла.
– Дуня, чего ты там стала в пень? Ступай сюда! Я знаешь что придумал?
Он ждал какую-то иную женщину, близкую ему - иначе в ее присутствии не стал бы разуваться… Тереза смутилась - сейчас он ощутит неловкость от своей ошибки, и это плохое начало для беседы, он будет недоволен, не пожелает ничего понимать…
Стало быть, нужно поскорее объявить себя - чтобы ошибка не разрасталась вширь и не сделалась препятствием между ними…
Тереза шагнула к креслу. И ощутила новый приступ страха. Именно теперь, когда она уже несколько освоилась со своим диковинным положением, - страх, отчаянная боязнь первого слова… хоть бы он задал вопрос, на который можно ответить!…
Он догадался, что в спальне - отнюдь не Дуня, но как - одному Богу ведомо. Тереза поняла это по его движению - он вскочил с кресла, как будто в помещении - враг, и предстоит драка…
Голос его также был голосом человека, говорящего с малоприятной особой.
– Сударыня! Раз уж вы ко мне пробрались - не стесняйтесь, откройтесь и свое дело внятно изложите. Что же вы, сударыня?
Он приказывал - а она не была готова выслушать приказание и подчиниться. Он уже заранее был недоволен - и все, что будет сказано, заранее готов истолковать не в ее пользу.
И он же был сейчас ее единственным спасением!
Как нашкодившее дитя, ожидая наказания и все же веря в силу родительской любви, кидается к недовольной матери и припадает к ее коленям, - так Тереза устремилась к этому хмурому и готовому оказать решительный отпор мужчине, тряхнула головой, атласный капюшон соскользнул… она дала себя увидеть!…
Он замер - и было мгновение полнейшей тишины, полнейшего отсутствия мыслей и чувств, когда они оказались друг перед другом - Тереза окаменела, не дыша, он - также, не осталось в них ничего телесного, а только две души, уже готовые соприкоснуться.
Но миг, как ему и полагается, был краток.
Архаров опомнился первым. А, может, и не опомнился, не обрел рассудок, а утратил его окончательно.
Его качнуло к Терезе, кажется - помимо его воли…
Объятие было внезапным, мощным, безжалостным, звериным. Но именно такого она желала. Ей нужно было ощутить силу этого человека, чтобы увериться в своей безопасности. Пока он держит ее в охапке, как медведь добычу, ей ничто не угрожает, а объяснение подождет…
И, как вспыхивает искра от огнива, ярко и пронзительно вспыхнула коротенькая мысль: спасена, спасена!…
Главное - довериться, отдаться, и тогда уж точно спасена…
Странное состояние - когда душа плавает под потолком, а тело готово к величайшей покорности. Тереза знала это состояние, но тогда она была иной, она сама в себе его воспитала, и знала она, что так должна отзываться только на прикосновение Мишеля, которое никогда не было грубым. Теперь же оно сперва изумило ее, потом вдруг обрадовало - это был миг необъяснимого счастья. Недоставало… недоставало поцелуя…
Безумие, о котором она умоляла Господа, снизошло на нее, радостное безумие торжествующей покорности. Теперь можно было ни о чем не беспокоиться - рядом стоял мужчина, она ощущала его всего, она желала лишь, чтобы объятия стали еще теснее - как будто это было возможно.
В полной и безупречной темноте, которая бывает под опустившимися веками, заговорили два тела, губы нашли друг друга, поцелуя даже не потребовалось - одно их соприкосновение уже было как целый мир с солнцем и радугами. Тяжелые гулкие аккорды взволнованной крови зазвучали в голове и во всем теле.
И ничего не требовалось объяснять.
Она была спасена, спасена!
Тереза, уложенная на постель, сама притянула к себе этого человека, наслаждаясь его молчанием, и тяжестью его огромного тела, и атласной кожей под кончиками своих пальцев. Спасение могло быть только таким - страх исчез, огромное понимание возникло. Да, этот человек понимал ее более, чем если бы жил с ней рядом, в одном доме, годами делил ложе, и слышал в музыке то же, что и она. Его странные поступки происходили как раз от понимания - Тереза помнила все, и подарок, присланный с молодым гвардейцем, и векселя, будь они неладны, и его молчание в кабинете, когда она вернула деньги, и нежелание ее удерживать, и даже то, как он ушел от окна, в котором увидел ее и Мишеля…
Все повторилось диковинным образом - вернулась та ночь, когда она приготовилась к смерти, а он ворвался в ховринский особняк и вошел в большую гостиную с обнаженной шпагой, и только музыки не было - было то, во что превращается музыка, отзвучав, где-то в высочайших небесных сферах, было то, ради чего, собственно, и звучит в мире музыка…
Он был прост и груб, но Тереза чувствовала, что иным он быть сейчас не может - выплескивалось то, что скопилось за четыре года, разразилась долгожданная гроза - а кто пишет правила для грозы и кто требует их соблюдения от неудержимого ливня, от оглушительного грома?
Не было у него иного способа спасти ее - а прочее, то, что можно облечь в слова, пусть подождет…
Она не успела насладиться умиротворенным колыханием души на незримых волнах небесного эфира - измученная и внезапно счастливая, она провалилась в сон. Впрочем, и сна не было - а просто, открыв глаза, она увидела, что в комнате уже почти светло. Это был свет раннего утра, она видела его редко, но все же сообразила - время предрассветное…
Ее одежда была в изумительном беспорядке, а рядом, зарывшись лицом в подушку, спал полуодетый человек, которого она не сразу узнала.
Она отодвинулась от этого человека и разбудила в себе страх.
Вспомнилось все. Отчетливо вспомнилось, и Тереза была самой себе понятна во всех своих решениях и поступках кроме одного: как она здесь оказалась, в этой постели, с этим огромным человеком? Что он с ней сделал? Как вышло, что они - вместе?
Это было лишнее, совершенно лишнее! Она не желала этого! Она только не смогла воспротивиться!…
Мужчина, который смял ее тело, который должен был стать ее спасением, но, как видно, не смог, спал, даже не удосужившись снять с себя кафтан. Спереди все на нем было расстегнуто, и Тереза отвела взгляд - она не могла смотреть на большой белый живот, он сделался неприятен до дрожи, до ужаса…
Тереза, как всякая женщина, умела находить себе оправдания, знала, где их искать, и до сих пор успешно с поиском справлялась. Но события минувшей ночи были таковы, что она даже не могла бы самой себе сказать: голубушка, ты убила своего давнего любовника, а потом кинулась искать защиты к совершенно незнакомому, но обладающему немалой властью человеку, который в иных обстоятельствах вызвал бы у тебя лишь отвращение, и с перепугу отдалась ему, как не отдается последняя парижская шлюха! Это было слишком сурово и просто, а она менее всего на свете любила простоту…
Неведомо, что с Мишелем, - так сказала она себе, - может, он остался жив, и все, что было, - напрасно… Однако жизнь его уже иссякла, он обречен, он сам это знал, и не для того ли посылал любовницу убивать врага, что в глубине души надеялся - она не выдержит и, измученная любовью, своими руками погубит человека, затянувшего ее в этот черный омут? Он искал смерти, - так сказала она себе, - иначе не ввязался бы в интригу и не носился по Москве, умирающий и озлобленный, а лежал, окруженный заботой своей деревенской родни.
Он, возможно, был ей даже благодарен за эту попытку…
Не могла же она в самом деле одним ударом ножа убить человека!
Мишель жив, Мишель жив, ему удалось убраться из переулка, - так сказала она себе, чувствуя, что ночной страх уступает место чему-то иному. И ей следует поскорее покинуть этот дом - пока не проснулся огромный мужчина с ней рядом, пока не повернул к ней крупную голову и не сказал…
А что он мог сказать - неважно, Тереза боялась услышать самый его голос.
Ей казалось, что безумие накрывает человека, словно зеленоватой морской волной, и забирает душу сразу всю, целиком. О том, что оно приходит шаг за шагом, Тереза не знала - и не знала, что есть некий порог, у которого оно может помедлить несколько, чтобы окончательно измучить душу. Там, на этом пороге, оно довольно внятно и даже разумно врет, выстраивая мир на грани, мир из примет и чувств действительно существующих, но сложенных вместе по каким-то особым законам.
Она отчетливо понимала - нужно бежать, пока обер-полицмейстер не проснулся. Очнувшись и увидев женщину, которая ни с того ни с сего прибежала к нему ночью в спальню, он начнет задавать вопросы, ответа на которые не существует в природе… И за кого он примет эту женщину? И чего он от нее, проснувшись, потребует? И что он скажет, когда она, не подпуская его к себе, заговорит об убийстве? Ведь объяснить тот удар ножом тоже невозможно, нет в свете таких объяснений…
Рассказать про зимнее одиночество? Про чувство обреченности? Про присутствие смерти во всем, что было между ней и Мишелем? Про то, как задыхался Мишель, а она ощущала, что горло сузилось у нее самой и отказывается пропускать воздух? Про то, как она безумно устала жить любовью и смертью разом? Мужчинам не дано понимать это - да и не каждая женщина удержится от вопроса: что же ты не покинула своего любовника вовремя, разве ты к нему была цепью, словно каторжник, прикована?
Тереза ступила на пол и нашла свои сброшенные впопыхах туфли. Нужно было уходить, уходить, пока этот огромный человек спит… уходить, и Бог с ним, он был добр к ней когда-то, и она за все рассчиталась… как последняя тварь… уходить тихонько, на носочках, и лишь бы не скрипнула дверь…
Она отступала, пятясь, и смотрела на спящего с тревогой. Но он даже не пошевелился. И она была рада, что не видит его лица - он уткнулся в подушку, да еще развившаяся букля закрыла его щеку.
На полу лежала атласная накидка. Тереза подняла ее, но не сразу ей удалось закутаться - ткань проявила норов, выворачивалась наизнанку, капюшон словно взбесился. Или же обезумели руки, забыв простейшие женские навыки.
Тереза справилась с накидкой и встала, придерживая ее у горла, потому что понятия не имела, куда же идти дальше. У нее не было больше дома, у нее не было денег, а лишь драгоценности, подаренные Мишелем и зашитые в платье. Людей, которые могли бы ей помочь по доброте душевной, она тоже не знала. Единственный человек, способный что-то для нее сделать, лежал сейчас перед ней - но при мысли, что он сейчас может зашевелиться и открыть глаза, Терезу прошибала дрожь.
Однако, все утратив, она сделала некоторое приобретение. Одно, зато значительное.
С того дня, как выяснилось, что семейство Ховриных сбежало в подмосковную, бросив учительницу музыки на произвол судьбы, забыв ее, как корзинку с малоценными вещами, Тереза впустила в свое бытие смерть. У нее сложились странные отношения с воспоминанием о чумном лете - порой ей было неловко вспоминать, как она, нечесаная и голодная, играла на клавикордах, мечтая умереть и рухнуть на клавиатуру последним нестройным аккордом; порой она гордилась собой тогдашней, обреченной и гордой, избравшей прекрасную гибель.
Смерть присутствовала во всем - коли не телесная, от которой спас Клаварош, то духовная. Тереза ощущала, как отмирают и отваливаются, наподобие осенних листьев, привязанности и чувства. Когда она стала хозяйкой модной лавки - умерла музыка. То, что вернулось вместе с Мишелем, лишь сперва показалось ей музыкой. Потом, когда Мишель бежал, в Терезе умерла страсть, приказала долго жить жажда его объятий и губ. Он вернулся - и вместо любви нашел нечто иное. Тереза понимала, что она во власти этого человека и его болезни, а скинуть с себя эту власть не могла, не умела, как не умеет муха скинуть с тельца липкую паутину. И, наконец, зима, проведенная в старой усадьбе, умертвила в ней даже мысли - оставив простейшие: о еде, стирке белья, мытье головы, уничтожении вредных насекомых. Когда Мишель забрал ее, она уже была покорна, как остывающее тело.
В этом было какое-то особое, скверное наслаждение, игра в умирание затягивала, и казалось странным, что тело не желает участвовать в этих затеях души, все еще с охотой принимая еду, питье и даже редкие ласки.
И вот теперь, когда Терезе грозили тюрьма и суровая кара за убийство, жажда смерти покинула ее наконец. Она очнулась. Разум проснулся и взял власть в свои незримые руки. Найдя сперва спасение в архаровской постели, она собралась с силами - и, стоя неподвижно, соображала, как же ей спасаться дальше. Прежде всего - покинуть этого человека, покинуть и забыть. Забвение - вот что отныне спасительно. Затем - бежать из Москвы. Жив ли Мишель, умер ли - неважно, удобнее думать, что он жив и нужно скрыться, чтобы вновь не подпасть под его власть.
Тереза вздохнула и, пятясь, вышла из архаровской спальни.
Наверху ей никто не попался, внизу же дворня старательно делала вид, будто не замечает женщины, низко наклонившей голову, чтобы нависший капюшон скрыл лицо, и пробегающей от лестницы к сеням.
Мишеля в переулке не оказалось - ни живого, ни мертвого.
Это было ответом на безмолвную мольбу Терезы - пусть он будет жив, пусть отделается царапиной и пусть никогда более не попадается на ее жизненном пути! Сейчас она твердо знала, что удар ее был слабым и неточным.
Тереза вышла на Пречистенку. Останавливать раннего извозчика не стала. Ей хотелось на ходу обдумать свое положение, да и неизвестно - не донесет ли извозчик полицейским о даме в накидке, если Терезу начнут по-настоящему искать.
Утренняя прохлада ей понравилась. Она внушала ощущение, будто Тереза проснулась в каком-то ином времени, где ей не полагалось службы в доме Ховриных, знакомства с Мишелем и всех вытекающих отсюда неприятностей. Возможно, в этом времени была еще жива сестра Мариэтта, а чума еще только собиралась нагрянуть в Москву…
Мариэтта!…
Тереза поняла, что ей сейчас следует сделать. Мариэтта умерла от чумы, но семейство, в котором она служила, уцелело. Вот где помнят младшую сестру красивой учительницы. Ведь она прожила там несколько лет, играла с барышнями, хозяйка дома дарила ей кружевные рукавчики и ленточки. Вот где дадут на первое время приют, помогут продать хотя бы жемчужную нить, порекомендуют в хороший дом - смотреть за подрастающими девочками. Всякая сельская помещица норовить взять в дом французскую мадам, но не кого попало, а с приличной рекомендацией. Уехать из Москвы туда, где можно просто жить, трудиться, копить деньги на возвращение во Францию - что может быть лучше?
И вдруг возник в памяти коротенький, совсем простенький менуэт Рамо, который она играла совсем девочкой, самый подходящий для испорченных плохим преподавателем учениц, чтобы начать заново…
Он пронесся стремительно - а пальцы вздрогнули, шевельнулись, ожили.
Оставалось только выйти к Кремлю и к началу Тверской улицы, а там уж Тереза без труда нашла бы дорогу к хорошо ей известному дому.
Она пошла, ускоряя шаг, и те кавалеры, поднявшиеся ни свет ни заря, что заглядывали ей в лицо, могли прочитать во взгляде полнейшую безмятежность, как у проснувшегося младенца.
«Та, что вчера натворила странных дел, - не я, не я, и никогда мною не была, я же - вот, проснулась после жуткого сна и никаких грехов за собой не ведаю!» - так сказала бы Тереза даже ангелу небесному, спустись он к ней со своими строгими вопросами.
И не было в ее жизни странного человека, стоявшего в темной гостиной с обнаженной шпагой в руке и слушавшего музыку. Гостиной тоже не было. Той ночи не было. Ничего не было. Одно лишь будущее…
* * *
Архаров проснулся, несколько полежал, не открывая глаз, и вдруг резко приподнялся на локте.
В широкой постели он был один.
Приснилось?…
Нет, не приснилось, он знал это доподлинно. Здесь лежала женщина, он был с этой женщиной, он обезумел от ощущения невозможности происходящего, да, обезумел… не приснилось, черт побери, но куда она подевалась?
Колокольчик висел прямо перед носом, но Архаров его не увидел.
– Никодимка! - заорал он. - Дармоед хренов!
Камердинер прибежал не сразу - из понятной деликатности он не остался ночевать в гардеробной, где был слышен каждый вздох из спальни и каждый скрип кровати, а убрался в свою конурку.
До явления в дверной щели его румяной сладкой рожи Архаров успел внимательно оглядеть спальню. Никаких следов эта женщина не оставила - ни ленточки, ни тесемочки. Словно прилетела по воздуху и улетела точно так же…
Нет, она все-таки была. Придумать такое невозможно. А сны архаровские по этой части были куда как попроще, обыкновенные мужские сны, без звона в ушах и ощущения утраты своего немалого веса.
– Подавать фрыштик прикажете? - спросил Никодимка и тоже, Архаров заметил, скоренько оглядел спальню. Искал, стало быть, ночную гостью. А спрашивать побоялся.
Впрочем, он и ночью был весьма догадлив.
Когда Архаров прибыл, он не сразу доложил о гостье, а несколько погодя, после ужина, уже на лестнице и тихонько.
– Ваши милости Николаи Петровичи, - шепнул он, - к вам особа.
– Какая еще особа? - осведомился Архаров.
– Дамского полу. В спальню забралась.
– Дунька, что ли?
Архаров невольно усмехнулся, всем видом показывая - дамских особ ему еще на ночь глядя недоставало.
Хотя после всей суеты Дунькино общество было бы даже полезно. Отчаянная девка словно задалась целью влюбить его в себя - а коли так, без Марфиных советов не обходилась. А Марфа, скорее всего, научила ее ничего не просить и от мелких подарков отмахиваться, как черт от ладана. Стало быть, девка хочет знатного подарка - должности обер-полицмейстерской фаворитки. Ну, пускай старается. Он ее честно предупредил. Пусть не словесно - однако каждым своим словом давал понять, что бегать к нему - пусть бегает, более же ничего меж ними не будет.
И уже тогда следовало бы задуматься - отчего камердинер не ответил на простой вопрос.
Никодимка, высоко вздымая свечу, довел барина до дверей спальни. Распахнул дверь, пропустил, закрыл дверь, сам остался снаружи. Свои камердинерские приличия он соблюдал свято.
В спальне горела всего одна свеча на карточном столике у постели и лежала у подсвечника приготовленная Никодимкой карточная колода - для обязательного пасьянса. Архаров со вздохом подумал, что вынужден невинному удовольствию предпочесть грешное. Отец Никон, к которому он всякий пост являлся исповедаться и причаститься, сказал печально, что при таком положении дел лучше бы жениться и угомониться, Дуньку, однако, гнать прочь не велел.
Архаров сел в кресло и расстегнул пряжки туфель, вытащил ступни и вздохнул с облегчением. Надо будет присоветовать Шварцу завести в подвале ящик новых башмаков, подумал он, именно новых и тугих, хождение в которых первые часы сродни пытке. А потом, чтоб добро не пропадало, разношенную обувку отдавать архаровцам - пусть донашивают в свое удовольствие!
Эта мысль развеселила его - он звонко, как всегда, расхохотался. Этими внезапными взрывами хохота он в свое время немало удивлял весь Преображенский полк.
– Дуня, чего ты там стала в пень? - обратился он к девке, что, закутанная в атласную накидку с капюшоном, почему-то жалась в углу. - Ступай сюда! Я знаешь что придумал?
Он хотел насмешить подружку туфельной затеей, чтобы затем уж, приведя ее в озорное настроение, завалить в постель. И еще успел подумать, что странно ведет себя с девкой: если бы князь Волконский увидел, как он развлекает свою мартонку, сильно был бы озадачен метаморфозой обычно хмурого и неуклюже-галантного с дамами обер-полицмейстера.
Дуня подошла, но подошла медленнее, чем полагалось бы, Архаров уже достаточно знал ее телодвижения и телесные ответы на его предложения. Тревога сдернула его с кресла, заставила поджаться, как если бы запахло хорошей дракой.
– Сударыня, - позвал Архаров. - Раз уж вы ко мне пробрались - не стесняйтесь, откройтесь и свое дело внятно изложите.
О таком способе решения важных дел его предупреждали: невелика наука сунуть рубль камердинеру, забраться в спальню к холостому чиновнику и под одеялом добиться того, на что в служебном кабинете ответ возможен один: нет, и ни за какие коврижки!
В полицейской конторе сейчас набралось сколько-то сыскных расследований, в которых были замешаны пускай не самые знатные московские семьи, но весьма почтенные. Да еще озабоченный праздником на Ходынском лугу Архаров отложил все иные дела на неопределенный срок. Неудивительно, что дамы уже ночью в спальню забираются.
– Что же вы, сударыня? - спросил он.
И тут она сделала два шага ему навстречу.
Как он мог по этим шагам, по наклону стана, по манере держать голову догадаться?… Не мог - и все же его озарило. Именно озарило - и, как от вспышки яркого света у иных пропадает зрение, у него пропала способность мыслить. Он осознавал только, что перед ним - Тереза, что она прибежала сама, прямо в спальню, и более тут толковать не о чем.
Архаров не знал, что способен без единого слова наброситься на женщину и взять ее, как дикий зверь - свою самку. Даже навещая своден в столице, он считал долгом хотя бы сказать пару слов исполняющей свое ремесло девке. Даже приказывая Настасье прийти в спальню, он что-то говорил, пока оба укладывались в постель. Желание затмило рассудок - были он и она, мужчина и женщина, и единственным смыслом их существования казалось слияние, полнейшее, беззаветное, безрассудное, бездумное и безоглядное, столь же естественное и неудержимое, как слияние двух бурлящих и торопливых вешних ручьев в один.
Каждый мужчина, даже имеющий чрезмерно высокое мнение о своих способностях, все же приблизительно знает свои границы и пределы. Знал их, понятное дело, и Архаров. Но этой ночью пределы отсутствовали - растворились, сгорели! Он не удивлялся, он просто жил - как если бы, плавая в море, был то вознесен на гребень высокой волны, то вместе с ней низринулся к самому дну, а потом взлетел снова. Ему совершенно не был нужен отдых - да и ей тоже, потому что ни разу она не уклонилась от его решительных атак.
Сон одолел их - обоих разом…
Никодимкин потупленный взгляд при вопросе о фрыштике несколько смутил Архарова - да и кто не смутится, обнаружив, что спал прямо в камзоле, в чулках, при этом в полуспущенных штанах…
– Подай кофею с сухарями, - сказал Архаров, подумал и крикнул вслед камердинеру: - Еще пирога какого-нибудь прихвати!
Когда Никодимка ушел, Архаров снял наконец камзол и привел в порядок прочую одежду. Следовало бы вообще переодеться…
Он посмотрел на опустевшую постель. Что бы сие значило? Куда подевалась женщина? И для чего было ей убегать спозаранку?
Его мужской разум часто пасовал перед дамскими затеями. Да ту же Дуньку - порой отказывался понимать. Бегство Терезы было, в понимании Архарова, заурядной бабьей блажью, вроде Дунькиного отказа принять в подарок браслеты. Коли бы ей не понравилось - она бы хоть уклонилась от объятий, хоть попыталась высвободиться. Но она вела себя так же, как в сходных обстоятельствах Дунька, - самозабвенно. Уж это Архаров, имевший дело с дорогими и дешевыми девками, всегда мог отличить. Даже коли бы солгали уста - не могло солгать тело, а он ее тело почувствовал так, что полнее не бывает…
Примчалась, повисла у него на шее, позволила все - и исчезла…
Архаров велел позвать Меркурия Ивановича и осведомился, как вышло, что ночью по дому шастает женщина и беспрепятственно выходит, никем не задержанная.
– Разве это не господина Захарова мартона была? - удивился домоправитель.
До Архарова дошло - они же одного роста и несколько похожего телосложения, разве что Дунька чуть плотнее и округлости имеет более пышные. Немудрено, что особу в накидке с капюшоном опознали как Дуньку…
– Что нового? - спросил он у Меркурия Ивановича.
– В переулке у наших ворот тело подняли. С ножом в брюхе.
– Мать честная, Богородица лесная, и тут от них покою нет… Под носом у обер-полицмейстера друг дружку режут, - сказал сильно недовольный Архаров. - Что за тело, когда?
– Тело, ваша милость, монаху какому-то принадлежит. Подняли десятские вечером, как стемнело. При обходе обнаружили. Я чай, уж доставлено в мертвецкую.
– Время такое, что могли быть свидетели.
– Сегодня с утра, поди, уж ищут свидетелей. По всему выходит, что монаха закололи вскоре после того, как ваша милость домой вернуться изволила. До того наши бабы выходили в переулок - так никого не приметили. А потом уж десятские обход делали.
– Приятные новости ты мне к фрыштику припас, - проворчал Архаров. Тут явился Никодимка с подносом. Вместо одного заказанного пирога он принес их целую миску - поджаристых и жирных, с говядиной и с кашей. Очевидно, все же подслушивал под дверью и знал, что барину необходимо основательно подкрепиться. Архаров велел ему принести еще одну чашку, для Меркурия Ивановича, и впервые за долгое время поел с утра всласть.
Но странный это был фрыштик - Архаров то и дело, не донеся пирога до рта, усмехался.
Она пришла сама, пришла, когда он был уж свято убежден, что она покинула Москву и недосягаема навеки… Она поступила именно так, как он желал бы, - пришла и все позволила… и в этом было не то чтобы счастье, нет, что-то иное… впрочем, знал ли Архаров вкус счастья?…
Сдается, до сих пор - не знал.
Оказалось, что эта воздушная легкость души, эта умиротворенность ума и тела, чуть-чуть приправленные грустью оттого, что блаженство было и кончилось, ему совершенно незнакомы. И он удивленно исследовал сам себя, даже несколько пугая внезапными остановками и усмешками Меркурия Ивановича.
А уйти она могла по разным причинам.
Хотя бы из чувства неловкости и понятной женской стыдливости - примчалась сама, бросилась на шею, утром же ее одолело смущение. Но коли она в Москве - ее можно найти. Более того - она сама найдется. Она где-то поблизости. Она даст о себе знать… даст знак… записочку, что ли, пришлет, написанную по-французски, так что придется и эту литературу читать Сашке либо Клаварошу…
– Никодимка, где ты там? Прикажи экипаж закладывать, - сказал Архаров. - Меркурий Иванович, может статься, на дом письмецо принесут, так вели его тут же доставить в контору.
И искренне полагал, что сумел сделать свое лицо и свой голос деловито-равнодушными, как если бы письмецо было от приятеля-купца, сообщавшего, что привезены-де ему из Франции дорогие тонкие сукна модных тонов, так не угодно ли господину обер-полицмейстеру, чтоб прислать на дом сколько потребно на кафтан со штанами.
Съев два пирога, Архаров понял, что погорячился - они лягут в непривычном к утренним подвигам желудке неприятной тяжестью. Он допил кофей и встал. Следовало умываться, одеваться, чесать голову. Никодимка подал все свежее и особенно тщательно уложил архаровские букли. Рожа у камердинера была хитрая - возможно, он полагал, что днем барин встретится с незнакомкой, и от души хотел как-то его принарядить, сделать галантным кавалером.
И сподобился дармоед неслыханной награды - Архаров дважды хлопнул его по плечу.
Экипаж был подан к парадному крыльцу, Архаров вышел, вдохнул всей грудью и не смог сделать ни шагу - воздух показался ему изумительно свежим и вкусным. Мир внезапно похорошел, до такой степени похорошел, что даже думать не хотелось - а лишь дышать в полном оцепенении, и все тело соответствовало такому настроению, даже недовольный пирогами желудок - и тот затаился где-то, молчал, ничем своего недовольства не показывал.
Наконец обер-полицмейстер забрался в карету и покатил по Пречистенке к месту службы. Хотя туда ему совершенно не хотелось - праздник оказался весьма утомительным, а уж сколько шуров изловили архаровцы, так это уму непостижимо - казалось, со всей России сбежались эти подлецы на Ходынский луг. В шкафу у Шварца уже полки ломились от всевозможных дорогих побрякушек, отнятых у шуров, и еще предстояло все это добро вернуть хозяевам-растяпам.
Два праздничных дня были совершенно бесконечны.
После ночной суеты во чреве «Чесмы» Архаров, конечно же, не выспался. Они с Алеханом, прибыв на Пречистенку, сами расставили сервиз в столовой на большом столе и увидели, что он все еще неполон - если даже прибавить сухарницу, присланную Марфой и оставшуюся в чулане у Шварца, да ложки, найденные в доме Семена Елизарова, все равно недоставало золотого кофейника, одного из двух. Потом граф Орлов уехал, Архаров отправил спать Левушку, прилег было сам - но Никодимка поднял его ни свет ни заря и стал наряжать к большому приему. Для скорости в архаровскую спальню пришли Лопухин с Левушкой. Левушка тоже зевал во весь рот и норовил заснуть, пока ему загибали букли - высоко, открыв уши, по моде.
Новые туфли несколько жали и врезались в пятки - обер-полицмейстер старался лишнего шага не делать.
Втроем поехали на торжественное богослужение в Успенский собор, оттуда пешком перешли в Кремлевские палаты на прием. Там Архаров наконец встретился с Суворовым. Встали рядышком и тихо переговаривались, пока государыня в малой короне и императорской мантии, как-то внезапно постройневшая и помолодевшая, раздавала титулы и награды, сопровождая их приятными словами. При ней были наследник-цесаревич Павел с супругой (и Андрей Разумовской поблизости), братья Чернышовы - Захар Григорьевич, президент Военной коллегии, и Иван Григорьевич, президент Адмиралтейс-коллегии, оба Панины Никита Иванович, с недавнего времени министр иностранных дел, и Петр Иванович - на этого Архаров глядел весьма критически, прекрасно помня, с какой неохотой сей вельможа покидал Москву, чтобы ехать сражаться с Пугачевым.
Фаворит стоял поблизости - нарядный, в мундире генерал-аншефа, весь в бриллиантах, с красной лентой ордена Александра Невского через левое плечо.
– Вот уж некстати орденский девиз, - шепнул Суворов. - Знаешь, сударь? «За труды и Отечество». Хороши труды…
Орден был дан фавориту более года назад - как видно, в чаянии трудов грядущих.
А сейчас награждали тех, кто год назад одолел Турцию. Раздавали не только ордена, но и прозвания. Алексей Григорьевич Орлов за победу над турками в Чесменской бухте получил орден святого Георгия первой степени и стал именоваться Орловым-Чесменским, оно и разумно - чтобы уж никогда не спутали с братом. Князь Василий Михайлович Долгоруков, занявший Крым, кроме золотого «георгия», получил прозвание Крымского. Граф Петр Александрович Румянцев - крест и звезду Святого Андрея, а также прозвание Задунайского… Архаров только усмехался - дешево, да сердито!
Фаворит никакого титула не получил, но племянницу свою продвинул - Сашенька Энгельгардт в этот день была пожалована во фрейлины, и государыня обещала подарить ей свой портрет, когда она выйдет замуж.
Далее были осчастливлены люди не столь чиновные, кем-то из вельмож протежируемые. Румянцев-Задунайский позаботился о Петре Завадовском - и вот Завадовский с сего дня статс-секретарь. Завидовать ему Архаров, впрочем, не собирался - полжизни надобно потратить, чтобы набить голову всем тем, что с юности знал этот господин. Окончив иезуитское училище в Орше, он блестяще знал латынь и польский, освоил там историю, географию, физику и математику, а завершил образование в Киевской духовной семинарии, где блистал в диспутах на латинском языке.
И этот книжник мало того, что отличился на войне, куда его взял покровитель Румянцев, мало того, что сделался полковником, так еще и прославился тем, что подготовил текст Кючук-Кайнарджийского мира.
Суворов сильно беспокоился - как-то так вышло, что он до сих пор не был представлен государыне, сейчас ему это предстояло, а хотелось не ударить в грязь лицом. Еще он жалел, что не мог взять с собой Варюту - полюбоваться его торжеством. Варюта уже не покидала постели - со дня на день ждали появления настедника.
Немалая зависть была написана на лицах, когда Александр Васильевич, обласканный государыней, получил шпагу, эфес которой был усыпан бриллиантами. Один Архаров невольно усмехнулся - зная, сколько прост быт Суворова, трудно было подобрать менее удачную награду.
Ожидая услышать свое имя, он поглядывал туда, где выстроились посланники - английский, французский, австрийский… Хотелось видеть рожу француза Дюрана де Дистрофа, которому уже наверняка донесли о ночной неудаче.
То же намерение было и у графа Орлова-Чесменского. Но посол прятал глаза - не больно-то приятно было ему видеть торжество Алехана. Да и живой Архаров взора не радовал.
К концу приема Архаров, как и обещал Лопухину, представил его государыне. Но представил, уже пребывая в новом чине, - из полковника стал бригадиром. И, казалось бы, на минуту отвлекся - а Лопухин уже исхитрился попасть в кружок молодежи при наследнике-цесаревиче. И этому тоже стоило бы поучиться. Коли Бог не дал такой памяти и такой красы, как Завадовскому, такой мужественной стати, как фавориту, следовало хоть ловкость отточить…
После приема гости направились обедать в Грановитую палату, Архаров же переобулся в экипаже и поскакал на Ходынский луг - убедиться, что все готово к празднику, и узнать - не изловили ли кого драгуны.
Добирался он туда более часа - Тверская была забита людьми и экипажами, все стремились заблаговременно оказаться на месте, где, коли верить расклеенным по улицам афишам, ожидались всякие бесплатные чудеса.
Рабочие незадолго до рассвета были согнаны вместе, клялись и божились, что каждый исполнял свою обязанность, все были на виду, никто не пропадал и не прибегал со стороны «Чесмы». Никто из фокусников, зверовщиков и прочих штукарей не пытался сбежать. За это головой ручались их старшие, даже бухарцы, кое-как сообщили, что в их ватаге - лишь свои, и все на месте. Более того, с утра пришли новые - привели лошадей лихие наездники, калмыки и киргизы, нарочно для того выписанные, они на всем скаку денежку с земли поднимали и прошибали стрелами подброшенные вверх яйца. Также приехали артисты, которым предстояло исполнить в новом театре «Кинбурн» русскую оперу «Иван Царевич» для образованной публики - сказывали, слова написала сама государыня. Но особо возмутила Архарова восточная ярмарка. Он знал, что приглашены торговцы со всякой дребеденью, но не представлял себе, сколько места займут эти люди в чалмах и полосатых халатах.
Найти в этом столпотворении двух человек, одного из которых видел только Алехан, а другого вообще никто не видел, казалось невозможным. Алехан же был при государыне, которая явно давала понять придворным и посланникам свое к нему расположение. Один лишь Архаров, может, и знал, как болезненно принимал Алехан все добрые слова, все внимание двора - как ежели бы с ним, с умирающим, прощались навеки. Он сделал все, что мог, и именно поэтому должен был уйти теперь добровольно.
– Как только начнут пускать публику, наш убийца тут же найдет способ улизнуть, - сказал Архаров сопровождавшему его Шварцу. Только его при себе и оставил - прочие архаровцы были или здесь, готовые хватать шуров, или в полицейской конторе - чтобы город уж вовсе без присмотра не оставался.
– Он весьма сообразителен, - отвечал Шварц.
Пока обер-полицмейстер объехал Ходынский луг, дозорные дали знать - приближается ее величество.
Государыня прибыла в раззолоченной карете, ее и свиту приветствовали армейские полки, выстроенные у «Керчи», и народ. Затем она прошла в галерею, откуда могла видеть празднество чуть ли не на две версты вдаль. По сигналу с притотовленных для народа яств были сдернуты шелковые покрывала - и на двух огромных пирамидах явилось жаркое: целиком зажаренные быки и бараны в золотистой фольге, украшенные лентами и цветочными гирляндами, несметное множество жареных кур, брызнули фонтаны недорогого вина, повара с поварятами стали раздавать угощение, полицейские драгуны следили, чтобы не было опасной суеты и толчеи. Одновременно начали пускать к увеселениям - качелям, каруселям, кукольным представлениям, на вышках появились канатные плясуны-бухарцы с шестами и большими медными подносами для удержания равновесия. В каждом конце Ходынского луга было что-то свое - где пели и плясали цыгане, где состязались наездники, где раскинулась восточная ярмарка - туда-то и пошла наконец государыня покупать и дарить придворным всякие мелочи, пузырьки с розовым маслом, расшитые туфельки, шали и кувшинчики.
Архаров хотел было сыскать Левушку и Лопухина, но вспомнил - они перед фейерверком собирались в театр «Кинбурн», а до того - в огромную столовую «Азов». Обер-полицместер, объезжавший Ходынский луг верхом на Фетиде, наглядевшийся на все чудеса и почти оглохший от шума, понял, что если он отправится смотреть театральное зрелище, то уж точно сойдет с ума.
Ближе к ночи, уже после театрального представления, благородная публика стала подниматься на суда, рассаживаться в ожидании фейерверка. К тому часу утомленный Архаров уже был не рад Кючук-Кайнарджийскому миру. Но фейерверк его порадовал - в небе вспыхивали вензеля государыни и наследника-цесаревича, вращались огненные колеса, разбрасывая искры, возникали аллегорические фигуры - но висели в ночном небе не так долго, чтобы можно было досконально разобрать, чем они там занимались. А что касается возносившихся к небу «за Дунаем» и рассыпавшихся в вышине огромных золотых снопов - то всякий состоял, как Архаров знал досконально, из двадцати тысяч ракет.
После огненной потехи продолжались пиры и забавы, так что домой Архаров прибыл к рассвету, поспал часа два - и, сгоряча обув новые туфли, помчался в полицейскую контору, откуда его, как он и ждал, вытребовал к себе Волконский. Архаров не успел даже выслушать докладов о событиях вчерашнего праздника - только узнал, что наутро подняли много полумертвых тел, злоупотребивших дармовым вином, и несколько вовсе мертвых - потому что не обошлось без драк. От Волконского вместе поехли в пречистенский дворец, а потом день был исполнен такой суматохи, что к вечеру обер-полицмейстер совсем одурел и ехал домой, тая в душе страх - а вдруг, стоит раздеться, выдернут из постели и потащат разбираться с очередной дурью? Из экипажа он, кстати, еле вылез, - оказалось, что ноги несколько опухли и новые туфли доставляют изрядное мучение.
И - эта ночь… ее даже вспоминать было как-то неловко… слишком радостно, что ли?…
В полицейской конторе Архарова на пороге встретили с очередным недоразумением - самовольно возникшим недавно в Дурновском переулке образом Иисуса Христа. Выяснять подробности, разумеется, отправили Устина Петрова, до праздника он этим делом пости не занимался, но наутро после праздника поспешил в Дурновский переулок - и вот он стоял у кабинета, готовый рапортовать.
– Заходи, - велел Архаров. - Ну, до чего доискался?
– Образ там уж не первый год является, ваша милость. Еще когда при государыне Анне турку воевали, кто-то, уже не дознаться кто, привез в Москву пленного турчонка, - сказал Устин. - И подарил тогдашнему хозяину, а тот велел окрестить. И тут доподлинно случилось чудо!
Восторг в Устиновых глазах был Архарову хорошо знаком.
– При государыне Анне? - строго уточнил Архаров.
– Да!
– Так это не по нашему ведомству.
– Так без этого чуда ничего не понять.
– Ну, сказывай.
– Турчонка покрестили, и он стал в вере укрепляться. А для него было дивно, что есть образа Христа и Богородицы. У них-то рисовать лики запрещено. И вот он, взяв кусок угля, нарисовал в сенях на стене лик Христа. Этот лик кто-то из дворни стер. Он еще раз нарисовал. Ему настрого запретили. И вдругорядь нарисовал. А дальше я не понял - куда-то этот турчонок подевался. Одни говорят - перепродали его, другие - что умер. А образ так и проявлялся в сенях. Его затрут - он опять! Его краской закрасят - а он из краски выступает? Разве же не чудо?!
– Может, и чудо, - согласился Архаров, - но коли он все время проявляется, пора бы и привыкнуть. Архиереев позвать, освятить его, что ли. И пусть бы он там, на стене, оставался.
– У дома хозяин сменился, и образ перестал проявляться, - уныло сообщил Устин. - Лет десять оставался скрытым. А недавно - опять выступил!
– И что люди говорят?
Устин покачал головой.
– Говорят-то плохо. Будто приход царя-батюшки предвещает.
– Устин, ты не первый уж год служишь. Мог бы догадаться! Спервоначалу он ничего не предвещал! А теперь вдруг начал?! И что - вещий сон кто-то видел? Иноку видение было? С чего взяли, что образ проявился к приходу царя-батюшки?
– Да уж и не понять теперь…
– Ты его видел?
– Да, приложился!
– И где он, все там же, в сенях?
– Да, ваша милость.
– Углем писан?
– Да.
– Стирать пробовали?
– Господь с вами, ваша милость! Это кем же надобно быть, чтобы проявившийся образ стирать?! - возмутился Устин.
– На сей вопрос я тебе отвечу. Полицейским надобно быть. Чтобы узнать доподлинно, божественное это дело, или же кто-то народ мутит. Ступай и разберись окончательно!
Выпроводив расстроенного Устина, Архаров тяжко вздохнул - вспомнились события прошлого лета. Вот тогда бы образ, предвещающий царя-батюшку, пришелся совершенно кстати - и можно было бы выйти на заговорщиков, всего лишь изловив незримого художника. А теперь - хрен его знает, что сие диво обещает. Не дай Господи, чтобы коронацию наследника-цесаревича… молод он еще государством управлять…
– Савина ко мне! - крикнул он. Вчера Федька на глаза не попадался, а надо бы похвалить за ночные подвиги и вызнать наконец толком, что там получилось с Демкой.
Но Федька куда-то запропал. Зато пришел Жеребцов с бумагами, пришел какой-то господин с длинной немецкой фамилией и «явочной» - у него в праздничной суете дворовые люди сбежали. Архаров выпроводил его, послал за Шварцем. Не успел задуматься о том, кто еще должен явиться с докладом, - принесли из канцелярии бумаги на подпись.
Шварц явился не сразу и спокойно ждал, пока Архаров разделается с бумагами.
– Что еще Рымовой наплел? - спросил, не глада на немца, обер-полицмейстер.
– Ваша милость, то иноческое тело, что подняли вечером у вас в переулке, принадлежит молодому графу Ховрину, - бесстрастно доложил Шварц.
– С чего взяли? - еще не понимая сути сообщения, рассеянно спросил Архаров, выводя на письме свой росчерк.
– Когда раздели, крест нашли дорогой и ладанку. На ногах обнаружены хорошие чулки. Жеребцов предположил, что иноческое одеяние употреблено было для маскарада…
Далее он принялся повествовать, как сошлись посмотреть на загадочное тело все, кто был неподалеку от мертвецкой, в том числе и парнишки, как Максимка-попович, охранявший графа, запертого Каином в домишке у Оперного дома, назвал имя, но не слишком уверенно.
– А тогда я велел Захару Иванову взять экипаж и привезти кого найдет из ховринской дворни, господам же не докладывать - якобы по делу о покраже в Знаменском переулке, коли помните, там скотину со двора свели. И при осмотре ими явилось, что доподлинно граф Ховрин. Ножа же, которым он был ткнут в живот, никто не опознал. Нож, ваша милость, длинный и остро заточенный, весьма подходящий для таких затей.
– Точно ли? - спросил обер-полицмейстер.
– Точно, ваша милость. Камердинер опознал, знавший его с младенчества, - отвечал Шварц, несколько озадаченный отсутствующим видом и странным голосом начальника.
Архаров положил руку на исписанный лист. Перо уткнулось в бумагу и сделало кляксу. Он ее не видел.
Следовало приказать, чтобы архаровцы немедленно нашли десятского, сообщившего о покойнике, чтобы доподлинно выяснили, когда совершилось убийство. Но он знал это и сам - совершилось за несколько минут до того, как Тереза Виллье вошла в его спальню. Потому и вошла…
Недаром француженка молчала. Она молчала все время… и тогда это казалось единственно верным, необходимым условием, слова бы все погубили…
Ему стало вдруг безмерно стыдно за то, что который уж час носил в себе это воспоминание, словно ладанку на шее, прикасаясь даже к нему, а к его оболочке - к той телесной части события, которая оставила несколько картинок, белилами по черному полю, да то стремительно-горячее ощущение, что сопутствует пробуждению плоти.
А молчала она потому, что после убийства была несколько не в себе. Ей требовался свидетель, готовый подтвердить, что во время убийства она была занята в ином месте, и француженка нашла наилучшего свидетеля, однако пребывала в полнейшем смятении и потому молчала…
Причину убийства Архаров не то чтобы знал - он ее ощущал так, как будто сам был измучен долгим и трудным романом с красивым юношей, оказавшимся последней сволочью.
Она до такой степени устала от этой любви, что и в поисках спасения могла лишь молчать.
Музыка… в ней даже музыка умерла… как же он этого сразу не понял?… Белые лошадки с алмазными копытцами, гарцующие по клавишам манежной рысью, умерли и рассыпались в прах, осталось только тяжелое и вязкое, как всякая плоть, и все свелось к сопряжению плоти… как будто могло быть иначе…
– Карл Иванович, когда пойдешь вниз, вели, чтобы мне каши принесли, - сказал Архаров. - Да сала не пожалели, я не колодник.
Повар Чкарь, стряпавший на узников обоих подвалов, подворовывал в меру, без этого никак, даже когда кто-то из архаровцев, не имея времени бежать в «Татьянку», спускался вниз, то получал миску каши - без рассуждений, но и почти без масла.
Несколько минут спустя ему принесли кашу и хлеб, он сдвинул в сторону осточертевшие бумаги и начал есть - быстро, не понимая вкуса, хотя, кажется, не был голоден.
– Прелестно, - сказал он, уставившись на пустую миску.
Сытое тело способствует отяжелению мыслей… некое равнодушное благодушие ограничивает течение мысли со всех сторон наподобие берегов, хотя ненадолго, сие состояние, ежели не завершается сном, то скоро проходит. Больше всего на свете Архаров хотел бы сейчас основательно заснуть.
Он вышел из кабинета и, стараясь не растерять эту дремотную вялость тела, побрел к лестнице. Там, внизу, была каморка с топчаном - для тех посетителей подвалов, с которыми следовало обращаться поделикатнее. Случалось в ней ночевать и архаровцам, и Матвею Воробьеву.
Но ничего не получилось - в подвал волокли некую вопящую и сквернословящую персону в монашеской рясе, но простоволосую.
– Ваша милость, полюбуйтесь! - воскликнул сопровождавший пленника Евдоким Ершов. - Я же эту лису окаянную месяц выслеживал! Месяц! Дай бог здоровья отцу Игнатию!
Священник, им упомянутый, был тут же - молодой, красивый, чем-то похожий на самого Евдокима. Рядом стояли очень довольные Клашка Иванов и Устин.
– Благословите, честный отче, - сказал, подходя, Архаров.
И склонился, принимая в ладони руку священника, чтобы невесомо прикоснуться к ней губами.
– Матушка моя уж смеется - тебе, батька, прямая дорога в архаровцы, - дав благословение, произнес баском улыбчивый отец Игнатий. - Как малое дитя, задрав подрясник, через заборы сигал… хорошо, владыка не видел, так вы уж меня не выдавайте…
Архаров невольно усмехнулся.
История была занятная. В Москве, где разве что один Господь знает все сорок сороков церквей, а простой христианин хорошо коли в десятке храмов побывал, нередки были случаи такого мошенничества: нарядившись в рясу, ходить с запаянной, имеющей сверху прорезь, кружкой или вовсе с денежным ящиком по улицам и по домам, собирая на восстановление погоревшего храма. Отец Игнатий оказался случайно на Пресне, в гостях, и там на улице видел, как к почтенному человеку подошли два таких фальшивых монаха. На вопрос его, что ж за храм погорел, пакостники назвали ту самую церковь, где служил отец Игнатий. Наглость их была беспредельна - ведь видели же, что рядом стоит и слушает их бредни неподдельный священник.
Отец Игнатий поднял шум и попытался было хоть одного задержать, но им удалось уйти. Тогда он, озлившись, не поленился доехать до Рязанского подворья. Там его приняли, выслушали, записали с его слов приметы мошенников и доверили это дело Устину. Тот добыл из Шварцева чуланчика свой старый подрясник и отправился по храмам - потому что мошенники повадились стоять со своим ящиков на паперти, подстерегая идущих с литургии и потому склонных к благодеяниям прихожан. Примерно в то же время в доме отставного майора Звягинцева совершилась кража, и по всем приметам выходило, что серебряную посуду унесли два монаха, заходившие с черного хода просить на сожженный храм. Этим делом занялся Евдоким Ершов, и очень скоро они с Устином объединили усилия. Несколько раз им казалось, что мошенники найдены, и тогда они посылали за отцом Игнатием.
Наконец Господь сжалился - и после бешеной погони по огородам и по откосу земляного вала, распугивая коз и кур, архаровцы при помощи священника пленили одного из воров. Этого было довольно - Ваня Носатый еще до конца дня добыл бы имя и местожительство сообщника.
Евдоким и Клашка, герои сей беспримерной погони, были так безмятежно счастливы, что у Архарова зачесались кулаки.
Понимая, что нельзя срывать досаду на подчиненных, - ладно бы еще на таких, что не выполнили приказа! - Архаров буркнул что-то невнятное и пошел обратно в кабинет. Там его встретил у дверей человек от Волконских, привез приглашение на вечер, велели без ответа не возвращаться.
Архаров подумал - и сказал, что приедет. В конце концов, гостиная Волконских - не худшее место, где можно сидеть в углу и наблюдать общество. Все лучше, чем ехать домой.
Смутное состояние души погнало его в канцелярию, где он сыскал-таки, к чему придраться, и, сбив нерадивого со стула порядочной оплеухой, поспешил куда-то обычной своей побежкой. Неизвестно где подхватил неведомо чью епанчу, какую-то засаленную треуголку без плюмажа.
Как он выскочил на крыльцо, как оказался на улице - Архаров не помнил.
Он шел да шел, шел да шел, и тех, кто не уступал дорогу, попросту отпихивал. Город мелькал мимо - дома какие-то, раскрашенные в неприятные цвета, грохочущие экипажи, хари, рожи, образины. Где-то в глубинах памяти застряло - ждут у Волконских. Ноги сами понесли с Тверской, а добежал он чуть ли не до самых ворот, на Воздвиженку, и не просто так - а спрямляя путь, какими-то короткими переулками.
Кончилось это постыдное бегство именно так, как и должно было кончиться - Архаров едва не угодил под конские копыта. Он отскочил, карета проехала мимо, колесо плюхнуло в лужу, едва ли не вся она выплеснулась на чулки и на епанчу.
Вот теперь уже можно было не спешить…
Он встал наконец в безопасном месте и задумался: куда идти, но так, чтобы не домой?
Одно хорошее место он знал - два года назал на углу Ветошного переулка и Никольской открылся весьма приличный трактир, слава коего побежала по всей Москве и оказалась столь хороша, что даже переулок принялись звать Истерийским по диковинному названию заведения «Ветошная истерия». Трактир пока еще был опрятен, в нижнем помещении шла продажа вина, в верхнем подавали закуски и чай. Архаров несколько раз забирался туда по весьма крутой лестнице и бывал обычно очень хорошо принят; вряд ли хозяин придаст большое значение чулкам, заляпанным сочной и жирной московской грязью. Там можно просто посидеть, посмотреть, как развлекается приличная публика. И там-то уж никто не станет искать господина обер-полицмейстера.
И выпить, выпить…
Это желание он мог бы осуществить и дома, но дома - Меркурий Иванович, дворня, чертов дармоед Никодимка, все станут смотреть и ломать свои дурные головы: с чего бы вдруг хозяин запил? А ежели кто догадается, сообразит, сведет концы с концами?…
Нет, пить следовало в ином месте.
Опять же, сказал себе Архаров, дома Меркурий Иванович и Потап ставят водку с лимонной корочкой, с померанцевой, ну, с можжевельником, особо не изощряются. Ну, еще у них можно найти анисовку - но эту гадость Архаров, раз в жизни попробовав, в рот более не брал - сильно невзлюбил запах. А в «Ветошной истерии», поди, вся водочная азбука, нарочно подобранная, стоит на полках - на иную букву и по два сорта: анисовая, абрикосовая, барбарисовая, березовая, баклажанная, виноградная, вишневая, грушевая, дынная, ежевичная, желудевая, зверобойная - самая полезная, ирговая, калиновая, коричная, лимонная, мятная, малиновая, можжевеловая, ноготковая, облепиховая, полынная, перцовая, рябиновая, смородиновая, тминная, тысячелистниковая, укропная, фисташковая, хренная, цикорная, черемуховая, шалфейная, шиповниковая, щавелевая, эстрагонная, яблочная. И даже есть водки на амбре и на селитре…
Водки после того, как покойная государыня решила порадовать дворян правом на винокурение, освободив их при этом от налогов, выучились гнать и ставить знатные - нынешняя государыня не раз посылала лучшие из них в Европу, своим знатным и ехидным корреспондантам: пусть видят, какие чудеса творят в помещичьих усадьбах.
Он еще постоял, соображая, в какую сторону двигаться, чтобы выйти к Воскресенским воротам, от коих до «Ветошной истерии» рукой подать. И вроде понял, и пошел, но переулок вдруг стал загибаться влево, Архаров свернул вправо и окончательно запутался. Спрашивать дорогу у прохожих он не желал и шел наугад, пока не оказался возле углового дома и не увидел низкую дверь, ведущую, очевидно, в подвал. По лепному двуглавому орлу над ней, явно утащенному из какого-то иного места, да по двум девкам, вроде как охранявшим ее, однако делающим вид, будто всего лишь, гуляючи, проходят мимо, да по пьяному человеку, сидящему, прислонясь к стенке, Архаров понял, что набрел на какой-то из безымянных кабаков - их на Москве было полторы сотни, всех не упомнишь.
Время уже было такое, когда ремесленный люд и сидельцы из торговых рядов помышляют, как бы поприятнее завершить трудовой день.
Архаров, не раздумывая, пошел к двери, отворил, спустился в смрадный подвал и потребовал чарку ну хоть зверобойной, или же хреновухи. Сев с той чаркой без всякой закуски за голый влажный стол, исцарапанный всякими непотребными словами, Архаров уставился на кабацкое население.
Баб сюда по давнему обычаю не пускали, зато мужики сидели разнообразные - и пьющие из мелкого купечества, и пьющие из духовного сословия, и пьющие из фабричных - этих вроде было большинство. Обер-полицмейстера не узнавали - мало ли кто засел в углу, надвинув на лоб старую треуголку?
Здесь ему наконец полегчало - хотя сам он не употребил бы этого слова. Водка оказалась скверной, не тем достойным напитком двойной очистки, который ему подавали ну хоть дома. Однако он выпил. И еще выпил.
Не то чтоб полегчало - а он ощутил себя несколько вольготнее. И сидел себе совершенно бездумно, катая по столу опрокинутую стопку, а сколько просидел - одному Богу ведомо.
Мимо вдоль стенки пробирался малорослый мещанин. Чем-то он Архарову не полюбился. Обер-полицмейстер протянул руку, цапнул недомерка за плечо и развернул рожей к себе.
– Кто таков? - спросил мрачно.
– Огарковы мы, - растерявшись, доложил мещанин.
– Так. А я - старый дурак. Проходи…
Кабацкая публика вела себя относительно тихо - в одном углу доморощенный артист рассказывал срамную историю про барыню, купившую самостоятельный кляп, слушавшийся приказов «Ну!» и «Тпру!», и его слушали, делая разнообразные примечания; в другом вроде бы тихо пели в лад. Но запели погромче, были окликнуты - не слишком сердито, огрызнулись, и пошло, и пошло…
Хозяин заведения послал человека - призвать шалунов к порядку. Поднялся крик, состоялась и первая зуботычина, прозвенел под низким сводом извечный клич «Наших бьют!»
Архаров понял, что в общей свалке только его кулаков недостает.
Кабак освещался тремя сальными свечками - вроде немного, но чтобы разобраться в обстановке - довольно. Зачинщика обер-полицмейстер приметил сразу - этот рябой фабричный ему не понравился, еще когда поправлял рассказчика срамной истории. Потому Архаров, скинув епанчу, первым делом пробился к нему и ловкой размашкой сбил с ног.
Увидев драчуна в кафтане, по бортам коего был положен золотой галун в три вершка шириной, пьющий люд несколько опомнился. Архаров, стоя над телом поверженного противника, ждал нападения - но самые разумные стали выскакивать из подвала, позабыв, понятное дело, оплатить свои проказы. Хозяин заорал - и Архаров, загородив выход, наконец-то сцепился со рвущимся наружу путным бойцом, которому было начхать на золотые галуны.
Очевидно, и тому страсть как хотелось помахать кулаками.
Несколько «пытливых» ударов убедили обоих - бой будет достойный. Но архаровский противник был более натаскан по части стеношного боя, обер-полицмейстер же умел не только держать удар. Он помнил еще занятные ухватки «ломанья», когда дурашливая полупляска с заведомо нелепыми, шутовскими, глумливыми движениями в единый миг оборачивалась тремя-четырьмя меткими ударами, каждый из которых словно был подготовлен предыдущим.
– Наверх пошли! - крикнул он противнику. - Там ужо потолкуем!
Но наверху оказалось истинное столпотворение. Там было не до поединка - Архаров сразу определил, что несколько минут назад началась свалка-сцеплялка: уже лежали первые сбитые с ног, и у кого получалось - тот откатывался в сторонку, не рискуя даже встать на карачки - ибо тогда он терял статус лежачего, и его уже можно было вдругорядь бить.
Тело помнило все!
Свалке-сцеплялке, где все против всех, соответствовала особая стойка - не зажатая левобокая стойка стеношника, которой не брезговали и мастера охотницкого боя, а вольная - руки в стороны, плечи чуть приподняты, ноги присогнуты, и Боже упаси замереть без движения.
Архаров весело врезался в толчею вскрикивающих бойцов, лишь подивившись, откуда их вдруг столько набралось. Похоже, где-то поблизости был точно такой же грязный и дешевый кабак, откуда тоже поперли обалдевшие от задора мужики.
Опытным взглядом он определил, где происходят самые любопытные события.
Кто-то бился весьма успешно, один против многих - только рев стоял. Боец этот выбрал себе место под окошком, откуда падал свет, и каждый его удар был удачен - кто отлетал сажени на две и, получив вдобавок по шее от иного человека, которому наступил на ногу, уходил, подвывая и держась за челюсть; кто тут же падал, раскинув руки; кто рушился на колени, сбившись в клубок.
Архаров проложил себе дорогу к этому поединщику, бывшему, невзирая на прохладный вечер, в одной лишь рубахе, и уж встал было перед ним, но боя не вышло.
– Архаров, ты, что ли? - спросил, почти не удивившись, Алехан Орлов.
– Я, Орлов.
Вот тут они были на равных - да и выпитая водка тоже имеет свойство всех уравнять.
– Ну… - Алехан задумался, схватываться ли с обер-полицмейстером, но и времени на размышления драка не давала, и врага он в Архарове не видел, и по-настоящему силами мериться в свалке-сцеплялке - глупое занятие.
– Ступай…
Архаров отсалютовал поднятой рукой и тут же отбил удар некого обалдуя, не понявшего, что тут кратко договорились меж собой два одинаково сильных бойца.
Алехан же сунул пальцы в рот и засвистел, желая снова привлечь к себе общее внимание.
Если бы Архарову доложили, что неподалеку от дворца, где изволит проживать государыня, пойман некто, от избытка сил и общего недовольства жизнью затеявший в кабаке драку, которая, выплеснувшись в переулок, вовлекла в себя человек сорок разнообразных бездельников, тому человеку бы не поздоровилось - в подвале бы с него шкуру спустили, домогаясь имен сообщников, коих он заведомо не знал.
Сейчас тут таких вояк было двое - граф Орлов-Чесменский и он сам, московский обер-полицмейстер. И лучше было бы убраться подальше.
Архаров поспешил в самое безопасное место - обратно в подвал, чтобы взять оставленную епанчу и треуголку.
В подвале и впрямь не оказалось ни души - хозяин с подручными куда-то спрятались, а может, бились наверху. Архаров подошел к полкам, на которых стояли бутыли темного стекла. Может, они и составляли пресловутую азбуку - про то мог знать лишь хозяин. Сняв первую попавшуюся, обер-полицмейстер взял чарку, откуда пил, может, какой-нибудь чахоточный, и наплескал туда мутноватого травника. Отпил - пойло было редкостное. Но чем хуже - тем лучше, так решил он и выпил эту чарку до дна.
Как он выбрался наверх - он еще помнил, но куда его понесло дальше, хмельного и очумелого, ведомо только Господу Богу. Вроде бы несло к Воздвиженке, где его ждали у Волконских, и Архаров придумывал какое-то совсем дурацкое извинение. Зигзаг пьяной мысли был таков, что он даже понял, для чего тащится к Волконским, - просить наконец Варенькиной руки. Тогда Архаров захохотал, пугая прохожих.
Варенька, милое дитятко, открытое и простодушное! Все, что на сердце, тут же расскажет - и будет сие весьма хорошо… и никакого опьяняющего душу молчания… Ведь мог же, мог догадаться, что дело неладно! Так надо же - его спасительная подозрительность отказалась служить как раз тогда, когда в ней была иаибольшая нужда!
Наконец он понял, что нужно где-то сесть и добавить. Лучше всего - в «Татьянке», там его знают и не нальют отравы вроде той, какую сам себе плеснул. Но идти в «Татьянку» было не с руки. Именно потому, что там его знают. Вся Москва утром будет веселиться, пересказывая, как пьяный обер-полицмейстер ночью шатался по кабакам. Надобно в иное место - и непременно добавить…
Кто-то налетел на него - да и отлетел, и рухнул в лужу.
– Кулак не сласть, а без него - не шасть, - нравоучительно сопроводил свой удар обер-полицмейстер. Вспомнил Алехана… те давние мальчишеские схватки на лугу… хорошо было…
Провожаемый жалобной матерщиной, Архаров пошел дальше - к Воздвиженке, просить Варенькиной руки, одновременно внутренне двигаясь к «Ветошной истерии», где пойла не держат.
– Ваша милость, вы, что ли?
Перед ним стоял незнакомый человек. На вид немолодой.
– Кт-то т-таков? - спросил Архаров.
– Востряк я, - бесстрашно признался незнакомец. - Подите-ка отсюда, ваша милость, негоже стоять посреди перекрестка. Темно, копытами стопчут.
– Посреди перекрестка? Прелестно… Пошли, Востряк, выпьем.
– В «Негасимку», что ли?
– Точно. В «Негасимку».
Архаров сам себе подивился - как мог забыть про сие злачное место? Сопровождаемый пожилым опытным шуром по прозванию Востряк, которого в иное время он бы уж нашел о чем спросить, Архаров побрел к Васильевскому спуску - мимо благоухающей, как всегда, Неглинки, мимо Охотного ряда, мимо поворота к «Ветошной истерии» даже. Востряк шел следом, несколько заинтригованный. Никто и никогда не видел господина Архарова в таком свинском состоянии.
Они нашли за Покровским собором и чуть ли не под ним вход, вошли, и целовальник Герасим, старый приятель, тут же принял их, усадил, первым делом пошел принести закуски - по части питья он был мужчина опытный и видел, что обер-полицмейстер готов хоть штоф выхлестать, занюхивая жестким от галуна обшлагом.
Востряк отошел к каким-то знакомцам. Он был довольно умен, чтобы не навязываться в собутыльники обер-полицмейстеру.
Но Герасим сразу не убрал стопки - и Архаров, как говорил Саша, механически допил ту, в которой еще что-то имелось. Поморщился. Запах был преотвратный, вкус… вкуса, кажись, уже не было вовсе…
Архаров мрачно смотрел на пестрое население «Негасимки». Ему было плевать - узнали, не узнали… Когда надобно напиться, не к его сиятельству князю Волконскому же идти. Надобно! Как будто у архаровцев не заведено перехватывать по чарке у трактирщиков и целовальников просто так, на арапа… и ничего, никто еще не спился с кругу…
– Герасим…
– Что, ваша милость? - подойдя, тихо спросил кабатчик и поставил на стол для дорогого гостя расстегаи с налимьей печенкой, для себя самого, кстати, купленные.
– Что у тебя за пойло такое? Опять непоказанным торгуешь?… Верши…
– Для вашей милости хорошего травничка нацежу, - преспокойно пообещал Герасим. Травничек уж точно был непоказанным напитком, держался как бы для собственных надобностей, потому что оказывает целебное действие, наливался из-под полы. Но был выше всяких похвал. Меркурий Иванович брал у Герасима этот напиток для барского стола; Архаров знал, но молчал.
– Ну его… мне бы… - Архаров задумался. - Наливки мне сладкой…
Герасим и тут не показал удивления. Сыскалась и наливка, хорошая, вишневая.
Понадобилась она потому, что Архаров хотел ощутить вкус спиртного. Он хотел убедиться, что приятный сладкий жар во рту существует, однако и пахучая наливка проскочила в горло, как водица, хотя была изрядно густа.
Сильно этим недовольный, он оглядел посетителей «Негасимки» и, как ему показалось, признал несколько лиц.
– Шуры чертовы, любить вас конем… - проворчал он, но не поднялся для скорой и суровой расправы, а только смотрел - и высмотрел в компании взрослых мужиков совсем еще молоденького парнишку, невысокого, белобрысенького… как Демка…
– Герасим! - рявкнул Архаров. Кабатчик подбежал.
– Что вашей милости угодно?
– Налей. И себе тоже. Помянем раба Божия Демьяна…
– Демку, что ли?
– Его.
– Ах ты Господи… - Герасим глядел на Архарова и глазам не верил: чтобы обер-полицмейстер напился до такого состояния, оплакивая бывшего шура и мортуса, простого полицейского?
Он быстро принес лучшую из всех водок, что у него на тот час были, померанцевую, и чистые стопки, и успел подхватить полоток копченого гуся.
– Помяни, Господи, раба твоего Демьяна, и прости ему все согрешения, вольные и невольные, - тупо глядя в стопку, произнес Архаров слова, которым полагалось бы звучать в храме, но никак не в кабаке. - И даруй ему царствие свое небесное, Демке, дураку… Господи, какой же он дурак… неужто мы бы не докопались?… Пей, Герасим. За Демку посчитаюсь, вот те крест.
Выпили. Архаров отодрал пласт гусятины, куснул, пожевал, с натугой проглотил. И понял, что тут более делать нечего.
– Пошел к черту, - произнес обер-полицмейстер, вставая, и Герасим не понял, к нему ли относятся слова, или же господин Архаров сообщает о своих намерениях.
Даже не подумав заплатить, Архаров направился к дверям. Герасим неодобрительно посмотрел на изгвазданную епанчу и грязные чулки, но опять же промолчал. И только когда за широкой спиной обер-полицмейстера захлопнулась дверь, окликнул Ванюшку-подручного.
– Ну-ка, проводи его милость… не вышло бы дурна…
Московская шелупонь Архарова знала в лицо, но сейчас понаехало много пришлой - учуяли поживу, и Герасим не хотел, чтобы обер-полицмейстер угодил в неприятности.
Ванюшка вернулся не скоро.
– Крепко набубенился, ноги не держат, - сообщил он хозяину. - Дважды на спуске падал.
– А куда подевался?
– А в Зарядье, к Каиновой зазнобе поплелся.
– Ну, эта с ним управится. Докуда довел?
– До калитки. Там уж не промахнется.
Герасим хмыкнул. Теперь главное было - крепко помолиться Богу, чтобы Архаров наутро забыл, где его ночью носило. Вряд ли ему приятно будет знать, что кто-то видел его в столь непотребном виде…
Архаров же шел целенаправленно и даже одолел доски, положенные от калитки к крыльцу. Мысль у него в голове была из тех, что наутро, если удастся их воссоздать, приводят человека в содрогание. Хотя определенная логика в ней присутствовала - напившись в кабаках и вывалявшись в мокрой глине, Архаров забыл о Варенькиной руке и полагал завершить день соответственно - в постели у Марфы. Не то чтобы он плохо относился к сводне или желал приравнять ее к уличной грязи, а просто предполагаемые амуры с Марфой, бывшие для них обоих вечной темой фривольных шуточек, казались Архарову чем-то еще более нелепо-безумным, чем сладкая наливка после сивухи. Он желал провести себя через сей миниатюрный ад, занимающий пространство одной ночи, взбаламутить себя и покарать за дурость, покарать жестоко… хотя не слишком… хорошо Шварцу, знающему меру справедливости, Архаров же ее никогда, оказывается, не знал, и, рухнув с высоты в пропасть отчаянной обиды, никак не мог придумать себе должного наказания за доверчивость…
Кудлатая Моська, охранявшая и Марфин, и соседский двор, признала его и промолчала. Окна были закрыты на ночь, он постучал в ставень. Инвалид Тетеркин откликнулся не сразу. Сперва он грозно изматерил обер-полицмейстера, потом пригрозил позвать десятских, потом - и вовсе архаровцев.
– Да я сам архаровец, отворяй, смуряк дермошный!
Тогда только Тетеркин признал ночного гостя и засуетился.
Марфа спустилась сверху в нижней юбке, завернувшись в большую шаль, со свечой в руке.
– Ахти мне! Вот не чаяли, не ждали! Заходи, сударь. Прими у него епанчу.
Тетеркин снял с архаровских плеч тяжелую суконную епанчу и повесил в сенях на гвоздь. Марфа оглядела Архарова, отметила измазанные в глине борта кафтана и колени, принюхалась.
– Да ты, сударь, из «Негасимки», что ли, шествуешь?
– Из «Негасимки»… Дай, думаю, загляну… на огонек… Клаварош у тебя?
– Нет, сударь, сегодня у него служба, собрались куда-то в ночь с Ушаковым.
– Эт-то… эт-то прелестно…
– Дай-ка я тебя горячим напою, Николай Петрович, - предложила Марфа. - Да и уложу. Ступай со мной на кухню, а ты вздуй самовар поскорее!
Большая печь давала столько тепла, что Архаров после странствий по ночной Москве и сидения в сырых подземных кабаках просто ожил.
– А шаль тебе к лицу, - сказал он, хотя перед ним было отнюдь не лицо, а широкая спина Марфы, добывающей заедки из шкафчика.
– Да ты уж не клинья ли под меня подбивать вздумал? - сразу подхватила она любимую словесную игру. - Явился заполночь, выпивши для храбрости, небось, и подарок принес?
– А что, Марфа, ты бы меня полюбила? - пытаясь вести галантную игру, спросил Архаров. - Без подарка?
– Так я, может, и теперь тебя люблю, почем знать? Да только беда - кабы могла до тебя дотянуться, так, может, и не любила бы.
– Экая ты замысловатая! - и он расхохотался. - А я вот к тебе пришел, оскоромиться… принимай, Марфа Ивановна, прибыл…
Тут Марфа поняла, что обер-полицмейстер не шутит.
– Что с тобой, сударь? - обеспокоенно спросила она. - Ты садись, я стол накрою.
– Накрывай! - позволил он. И грузно сел на лавку, широко расставив колени.
– Сударь, да ты сам не свой! С кем воевал-то?
– Выпить не найдется?
– Как не найтись! - делая вид, будто не замечает крайней степени архаровского опьянения, объявила Марфа. - Погоди, на стол соберу. Что ж за питье без закуски!
Марфа, при всей своей многопудовости, была легка на ногу - выметнулась за дверь почище иной молодой. Там, в сенях, она схватила за шиворот притаившуюся Наташку - неведомо какую по счету из тех, что постоянно жили у нее в услужении и вводимы были ею в бабье ремесло. Шепотом отдав девчонке несколько приказаний, вернулась и села за стол напротив Архарова.
– Христа ради, ничего не говори! - велела. - Сейчас будем пить. Зальешь свое горе вином, а я тебя уложу.
Тут же на столе впридачу к пастиле, пряникам, конфектам и французским бисквитам от знаменитого кондитера Апре явились водочный штоф, бутылки с домашними наливками, нарезанное сало, огурцы, капуста, разнообразные грибы в трех плошках, хлеб. Выставив все это в красивом порядке, Наташка сразу убралась, уковылял и Тетеркин.
Марфа расплескала по стопкам водку.
– Пей, господин обер-полицмейстер. Пей. Легче не станет, но… пей.
– Ты права, - опрокинув в рот стопку и закинув следом два склизких темных грибка, согласился он.
Марфа тут же налила еще. И вторая стопка была исправно опрокинута.
– Закусывай, - сказала она.
Он молча стал жевать хлеб с ломтем сала.
Марфа, так же, молча, глядела на него. Видимо, ждала объяснений. Надо было бы объяснить ей про Демку, но две последние стопки водки как-то странно повлияли на голову - Архаров помнил лишь одно…
– Черт бы вас, баб, всех побрал, - сказал наконец он. - Суки, бляди, твари, подлые твари…
– Ты пей, пей. Видать, мало еще, сударик, выпил, - преспокойно отвечала Марфа и в третий раз наполнила стопку. Но он не стал, а через стол уставился на нее своим тяжелым неприятным взглядом.
– И ты такова ж. И ты. И ты за деньги под кого угодно ляжешь.
– А и лягу, - согласилась Марфа. - Что ж плохого? От меня не убудет, а кавалеру - радость.
– Под кого попало, - уточнил он.
– Это уж как Бог пошлет.
– Лишь бы свою шкуру уберечь…
Марфа насторожилась.
– Это не французенка ли под тебя улеглась? - вмиг сообразив, откуда ветер дует, спросила она.
– Французенка. Гнать их всех из Москвы поганой метлой.
Марфа хмыкнула.
– Налей, - велел Архаров.
На его протянутую к стопке руку легла женская рука.
– Дура твоя французенка, - сказала Марфа. - Ничего в мужиках не смыслит. Ни шиша. Ладно, сударь мой, выпей за то, чтобы бабы поумнели.
Архаров опустошил третью стопку.
– Хочешь напоить меня в зюзю? - спросил с неожиданной суровостью.
– Хочу тебе правду сказать. А трезвый ты ее не поймешь.
– А… ладно. Наливай.
– Подставляй. И закусывай, Христа ради.
Четвертая стопка не сразу хорошо пошла. Архаров пригубил ее и отставил.
– Ну и в чем же твоя правда?
– А в том, что тебе с самой твоей первой девкой не повезло, не заладилось. Стерва попалась. И ты вздумал, будто нас можно только покупать. За свои деньги получать… - и тут Марфа такое загнула, что Архаров чуть стопку не выронил. - А ты, сударь…
– Не смей, не твое дело, каков я.
– Не мое - так не мое. Ты пей. Ты еще мало выпил.
– Нет. Теп-перь - в самый раз…
Убедившись, что Архаров съел достаточно жирного, Марфа повела его наверх и доставила в лучшую свою комнату - в розовое гнездышко. Увидев его, Архаров помрачнел - кабы Марфина кровать заговорила, никаких пальцев не хватило бы счесть гостей. Стало быть, ему, Архарову, после всего тут - самое место.
Он и шлепнулся на розовое покрывало - как был, в грязном кафтане. Марфа, опуствшись на корточки, стала его разувать. Потом помогла ему вынуть руки из рукавов и расстегнула камзол.
– Надо же, ты меня на свою постель укладываешь, - бормотал Архаров. - Ты, Марфа, хитрая баба… хитрая, как черт… Вот ты меня и заполучила… Но проку не выйдет, я сплю уже…
– Да и хрен с тобой, - беззаботно отвечала Марфа, разглядывая пройму кафтана. - Нешто на Москве кавалеров мало? Не ты один такой ядреный! Ишь, рукав-то чуть не с корнем выдран…
А сама меж тем прислушивалась - и уловила некий скрип.
– Давай-ка ложись, - приказал он. - Сейчас, сейчас я тебя… любиться с тобой станем…
– Лезь под одеяло, сударь, - велела она и тут же вышла.
Внизу, на пороге кухни, ее ждали Дунька в испытанном своем, надежном, вернее всякого маскарадного «капуцина», сарафане, с душегрейкой внакидку, и Наташка.
– Что стряслось-то? - обеспокоенно спросила она. - Чего ты за мной посылала?
– Там у меня наверху наш кавалер ядреный… пьяным-пьянешенек, а все ему неймется…
Дунька так и села на скамью.
– У тебя, наверху?… И пьян?…
– Плохо дело. Поди к нему, - тихо велела Марфа.
– Нет. Не пойду.
– Ступай, дура, ну?! - Марфа вдруг сделалась грозна, однако ее суровый вид не больно испугал Дуньку.
– А ты мне не приказывай, Марфа Ивановна!
– Да тошно ж ему! С французенкой сцепился, совсем сдурел… Подрался с кем-то, вишь, рукав ему из кафтана выдрали, пришел грязный, как свинья, сколь ни пьет - все ему мало… Дуня, я его таким отродясь не видала! Экая заноза эта французенка, а?… Неужто тебе его не жаль?…
И Марфа попыталась заглянуть Дуньке в глаза. Но безуспешно - шалая девка глядела в пол.
Вдруг она решилась.
– И стерва ж ты, Марфа Ивановна, - тихо сказала Дунька и, развернувшись, побежала по лестнице наверх.
Марфа не обиделась, а словно бы молча согласилась с Дунькиным определением. Даже с некой тайной радостью - она добилась своего. И странной была эта радость.
– Поди… не поскупись… Поди… - шептала Марфа вслед Дуньке.
И скрипнула дверь наверху, и захлопнулась, а она все стояла у подножья лестницы и глядела на ту дверь, все стояла и глядела.
* * *
Саша Коробов отпросился у Архарова на два дня, сказал, что посмотрит праздник на Ходынском лугу и потом переночует у приятеля. Так оно и было - он не солгал, да и всей правды не сообщил.
Правда же была такова - Саша встретил бывшего своего однокашника, такого ж бешеного поклонника астрономии, ныне оказавшегося учителем арифметики в Воспитательном доме. Приятель повел его к себе - показать книгу, которую они оба в бытность студентами искали, да нигде не отыскали.
Это был трактат Бернара де Фонтенеля «Разговоры о множестве миров», еще при покойной государыне Елизавете запрещенный, как противный вере и нравственности. Перевел его с французского лет сорок назад еще князь Антиох Кантемир, и он же написал подробные комментарии. Книга даже была издана, причем роскошно, в коричневом кожаном переплете, но примерно двадцать лет назад вышло постановление синода, в котором было ясно сказано: «дабы никто отнюдь ничего писать и печатать как о множестве миров, так и о всем другом, вере святой противном и с честными нравами несогласном, под жесточайшем за преступление наказанием, не отваживался, а находящуюся бы ныне во многих руках книгу о множестве миров Фонтенеля, переведенную князем Кантемиром, указать везде отобрать и прислать в Синод».
Едва ли не все изданные книжки полетели в печь или были отправлены в размол на бумажную мельницу. Уцелевшие хранились в большой тайне. Потому Саша радостно принял приглашение приятеля и пошел смотреть трактат Фонтенеля. Увидел же не толстый том ученых рассуждений, а юную сестрицу однокашника, которая сидела у окошка и шила ему рубашку.
Саша отнюдь не собирался жениться. Все лекаря ему хором твердили, что при его здоровье супружество противопоказано. Однако девица ему понравилась. И он решил малость приволокнуться - так, в меру, не слишком смущая красавицу и себя самого. Ему не было еще тридцати, до сей поры он ни за кем не махал - голова была занята чересчур высокими материями и службой, - и потому он понятия не имел, с чего бы начать. К счастью, сестрица узнала от соседок, что на Ходынском лугу будет неслыханный праздник, и стала туда проситься.
Родители и брат не хотели пускать - мало ли что случится с молодой девушкой в такой суматохе, пусть даже она пойдет с братом. Тогда Саша вызвался сопровождать - все знали, что он служит секретарем у обер-полицмейстера, можно сказать - сам архаровец, и поверили, что при нем девица будет в безопасности.
Вот они втроем - Саша, приятель Гриша Анучин и его сестрица Грушенька - и отправились на Ходынский луг веселиться. Саша по такому случаю принарядился и новую черную бархатную ленту для косицы купил, а Никодимка ее преизрядным бантом завязал.
Грушенька тоже, кстати, надела лучшее свое платьице и башмачки. Не то чтоб ей так уж хотелось нравиться этому немолодому забавному кавалеру, у которого одни науки на уме, а просто так, ради праздника. Ну, и понравиться тоже - это само собой…
День был солнечный - как нарочно для большого гулянья, знакомый извозчик не заломил цену для почтенного господина - секретаря самого обер-полицмейстера, но ехали медленно - вся Тверская была забита пешим народом. На Ходынский луг шли семьями, а семьи были немалые. Пришлось ехать в объезд.
Саша первым делом отыскал полицейских драгун, что конными патрулями разъезжали вокруг Ходынского луга, и они ему подсказали, где найти архаровцев.
Поскольку переодетым полицейским и десятским предстояло замешаться в толпу, Саша и уговорился со Степаном Канзафаровым ходить вместе. И когда народ пустили на Ходынский луг к увеселениям, они так вчетвером и бродили.
К жареным быкам даже пробиваться не стали - ну их, это утеха для простонародья, а пироги и пряники Степан пообещал вынести из буфета. Пошли смотреть, как качаются на качелях, простых и перекидных. Простые качели бывали обыкновенно в московских дворах и Грушенька их знала, а вот от больших перекидных обеими руками за щеко от страха ухватилась. Были они с виду - как огромное колесо, к которому приделаны дощатые люльки, и находились любители, забравшись в эти люльки, повисеть при неторопливом обороте колеса вниз головой, даже отчаянные девки - и те туда лезли. Визгу было - хоть уши затыкай.
Саша не осмелился предложить Грушеньке покататься на простых качелях, а Грише это и в ум не взбрело. Они пошли дальше - мимо пивного шатра-»колокола», мимо лотков с лакомствами, к палаткам цыган - смотреть медведей. Саша только успевал отмахиваться от бузников и сбитенщиков, предлагавших свой товар.
Но у самых палаток им попался Гришин знакомец, спешивший прочь.
– Нешто это медведи? - возмущался он. - Идем со мной, мне показали - вон там мужики из Курмыша медведей привели. Так то медведи! Мало что, вставши на дыбки, кланяются, по-солдатски маршируют, и на палке, как малые ребята, катаются! Так они еще у хозяина из-за щеки лапой табак вынимают! Когтем цепляют, не иначе! Сказывали - вино и пиво пьют!
Все вместе отправились смотреть курмышских медведей, и оказалось, что на них и покататься можно. Грушенька взмолилась, как дитя, и Саша, дав две копейки, помог ей сесть на медвежью спину и за руку держал, пока она проехала с десяток шагов.
Душа его впала в неслыханный восторг - умник и книжник впервые в жизни держал вот так девичью руку. Но это было еще не все - они рядышком сели в люльку карусели. Гриша отговорился головокружением, а Саша катался с Грушенькой, пока ей не надоело. Вот это воистину был праздник - куда значительнее Кючук-Кайнарджийского мира с турками!
Пока он развлекался, Степан изловил мошенника, успевшего вынуть кошелек из чьего-то кармана, и, заломив подлецу руку, быстро выволок его из толпы, потащил к драгунам. Только успел крикнуть Грише, чтоб никуда без него не уходили, тут стояли.
Пока ждали Степана, встретились у каруселей с почтенным семейством Гришиного соседа - отставного майора Молодцова - с его сынами и невестками, а также внуками. Внукам, десятилетним близнецам, кто-то рассказал про штукаря, умеющего подбрасывать в воздух множество предметов и не давать им падать наземь. Они на масленичном гулянии видели шута, кидающего три яйца и три деревянные ложки, но этого им было мало, а на Ходынском лугу где-то подвизался великий мастер, кидающий шесть тарелок, да так быстро, что уследить за ними было совершенно невозможно.
– Пойдем поищем, - сказал, усмехаясь, Молодцов, - не то от от них покою не будет. Сами, чего доброго, в шуты пойдут, сколь яиц у хозяйки моей стянули да, кидаючи, поколотили!
Тут же принаряженные, в чистеньких кафтанчиках близнецы получили от бабушки по легкому подзатыльнику - чтоб не забывались.
Удивительного штукаря отыскали возле самой крпости «Еникале», он стоял там на помосте и держал в воздухе разом три табакерки и две винные бутылки, а на лбу имел трость и, запрокинув голову, преловко ее удерживал. Народ, окруживший помост, едва не крестился, глядя на такое мастерство. Штукарь и точно был похож на черта - высокий, худой, носатый, черномазый.
– О Господи! - сказал Саша.
Он Бога поминал нечасто, но тут не удержался. Штукарь на помосте был ему несколько знаком. Этого чудака Саша видел два года назад в шулерском притоне, куда угодил сдуру, переодетый французской девкой из модной лавки. Там он скакал босиком, в одной рубахе, по дорогим мебелям, корча из себя шута горохового, добывал орехи из человеческих носов и проделывал всякие чудеса с картами.
Тут же он был в нарядном палевом кафтане, впору придворному вертопраху, и черные его космы преобразились в белокурые, высоко зачесанные, с модными маленькими буклями. Однако такой нос не спрячешь, да и живое лицо скалилось, как у мартышки, - не часто такой оскал увидишь. А увидишь - надолго запомнишь.
Саша завертелся в поисках Степана Канзафарова.
Степан же забрался на какой-то деревянный торчок с края помоста и оттуда, не обращая внимания на ловкача, озирал публику. Он был на службе - и красота мира, шум праздника, нарядные девки были не для него.
Саша пробился к архаровцу и дернул его за полу кафтана.
– Степа, глянь-ка на ловкача. Не признаешь?
Канзафаров повернулся и присмотрелся.
– Нет, а что такое?
– Степа, он в Кожевниках служил! Тоже вот так-то всякие предметы кидал! Я видел, я знаю…
Но Канзафаров никак не мог припомнить этого человека.
– Я тебе точно говорю! Он умеет неприметно вещи отнимать… гляди, гляди!…
Очевидно, для передышки штукарь подвал к себе на помост желающих вот так покидать табакерки с бутылками - позвал неприятным скрипучим голосом, но на чистом русском языке. Он обещал, что это так же просто, как двумя ногами по земле ступать. И вылез пьяноватый парень - в том состоянии, когда ноги еще держат, но море уже по колено. Он был поставлен лицом к публике, получил в левую руку одну пустую бутылку, в правую - две, подкинул их разом - и они грохнулись на помост, к огромному восторгу толпы.
Штукарь вручил огорченному парню калач за отвагу и, выждав, когда он полезет с помоста, окликнул его, потрясая вязаным кошельком. Как он на глазах у всей публики вынул у жертвы этот кошелек - было совершенно непонятно.
– Он же, он самый! - твердил Саша. - Итальянец! Сказывали, ему господин Архаров денег дал и приказал на Москве не показываться. А он, гляди-ка, вернулся!
– Сукин сын… - пробормотал Степан.
Может, он не стал бы ничего затевать, но Архаров грозился днем разъезжать по Ходынскому лугу и за всем смотреть. Коли он увидит штукаря (тот как раз установил трость на трость, сверху дивным образом - блюдо, поставил все это себе на лоб и начал приплясывать), то вспомнит его и начнет разбираться - почему этот урод до сих пор в Москве? А обер-полицмейстерской ругани Степан недавно уже наслушался вдоволь.
Беда была еще и в том, что Канзафаров, забравшись в шулерский притон, от всех там прятался, мало кого видел, черномазую рожу никак признать не мог, а Сашин азарт вдруг показался ему сомнительным.
– Слушай, Коробов, тут Федя Савин поблизости, вон там, где круг для джигитов. Сбегай-ка за ним, может, он точно признает?
– Экий ты!…
И Саша, попросив Гришу с Грушенькой не уходить, кое-как растолкал толпу и побежал к кругу, где лихие наездники показывали чудеса - носились, свесившись вниз, ведя рукой по песку и держась лишь носком сапога за какую-то петлю у седла.
Канзафаров посмотрел ему вслед - пожалуй, Коробов все же прав, и следует того ловкача гнать с помоста и из Москвы поганой метлой, невзирая ни на какие праздники…
Федька тоже высмотрел себе местечко повыше. Он после ночной суеты прихрамывал и бегать не желал, но это было и необязательно - он не стал переодеваться, и народ, видя архаровца в мундире, уже вел себя потише. А две молодые цыганки, поймав его взгляд, сразу же убрались от круга.
С завистью глядя на всадников в халатах, Федька тосковал - ах, почему он так не умеет? И воображал, как бы он понесся на коне по кругу, как бы соскальзывал по крутому боку и висел вниз головой, но при этом еще метко стрелял из пистолета в кем-то подброшенную шапку, а не то что эти - из луков по куриным яйцам! Тоска эта, совершенно мальчишеская, отвлекла его от печальных мыслей о покойнике Демке.
Следовало бы сразу послать к тому дому наряд драгун, похватать всех, кто там засел. Но Тимофей, которому Федька изложил свои стратегические соображения, ответил так: у этих мазуриков непременно есть какие-то договоренности насчет оповещения, и дураками они будут, если останутся там сидеть, зная, что покушение на Архарова провалилось. Скорее всего, они, поняв, что упустили Федьку с Клаварошем, тут же разбежались. Статочно, пытались добраться до Ходынского луга, но драгунские патрули посторонних туда не пускали.
А отчаянные киргизы творили чудеса - стояли вдвоем, в обнимку, на одном седле, словно бы не замечая, что конь под ними даже не просто идет галопом, а перескакивает через подставленную жердину. Федьке ббезумно хотелось хоть раз в жизни проделать то же самое, и он был страшно недоволен, когда Саша отвлек его от прекрасных мечтаний ради какого-то черномазого урода.
– Так ты сам был при том, как господин Архаров велел ему из Москвы убираться? - спросил Саша.
– Сам не сам, а как он из нашей черной души орехи вытряхал - знаю. И как его Клаварош по коридору вел - видел… - тут Федька задумался. - А ну-ка, где ты того итальянца оставил?
– На помосте, с тростями. Это ж, наверно, год учиться надо, чтобы так две трости на лбу держать…
– Пошли! Где тот помост?
Федькина тревога пока еще была Саше непонятна. Он повел помрачневшего товарища через толпу, сбился, но вывел к нужному месту. Федька ковылял за ним как только мог быстро - хотя и, наученный товарищами, перетянул ногу полосой холста, но ступать на нее было больно.
На помосте был уже другой штукарь - тешеншпилер в невероятном кафтане, желтом с какими-то оторочками и хвостами, он засунул в табакерку большой зеленый платок, скомкав его нещадно, покрутил табакерку так и сяк, а извлек из нее уже платок красный. Многие, увидев, сие, крестились, а один человек даже бросился наутек.
– Куда штукарь подевался, что трость на башке держал? - спросил Федька кого-то из зрителей.
– Вниз спустился, Под настилом, поди, - отвечал тот.
Помост был обит размалеванной холстиной. Федька, недолго думая, пропорол ее ножом и полез вовнутрь. Саша остался снаружи, придерживая край разреза.
В этом невеликом темном пространство хранилось имущество штукарей, тут они отдыхали, трудясь наверху попеременно. Свет попадал сюда сверху - на высоте человеческого роста были оставлены щели в вершок между холстиной и настилом. И между коробами со штукарским добром возились за полу два человека. Федька бы подумал, что любятся, да только оба, похоже, были мужиками.
Вдруг один из них вскрикнул, а другой вскочил на ноги с такой ловкостью, словно веса в нем не было вовсе.
Его лицо попало в полосу света.
– Сволочь, - сказал Федька, заступая ему дорогу. - Ну, держись!
Противник, видно, был грозен против безоружных - а Федька переложил в левую руку нож, туго сжал правый кулак и был бы молодец молодцом, кабы не нога.
Канзафаров приподнялся на локте. Он был ранен - но готов продолжать драку.
Штукарь отступил - и вдруг, подскочив, ухватился руками за какую-то жердину под самым настилом, подтянулся и, качнувшись, ловко закинул наверх ноги. Федька задрал голову, готовый к нападению с потолка, но штукарь опять куда-то мотнулся, соскочил довольно далеко и, пропоров холстину, исчез.
– Сашка! Беги за ним, Сашка! - заорал Федька. - Справа заходи!
Саша, видевший лихие маневры штукаря, исчез.
– Федя, помоги мне, - позвал Степан. - Он меня в плечо ткнул, жилу бы не перешиб.
Федька опустился рядом с ним на колено.
– Вот сукин сын! - сказал он сердито. - Прощайся, Степа, с кафтаном.
И, оттянув ткань, ловко отхватил разом рукав кафтана и рубахи, обнажил раненое правое плечо.
Среди прочего добра в карманах у архаровцев частенько лежала полоса холста, туго смотанная, на случай ран, и всякий из них умел наложить простую повязку. Федька нашел в канзафаровском кармане платок, не сказать чтоб очень чистый, свернул его, свел края раны, закрыл и сразу захлестнул холщевой полосой.
– Жилу, кажись, не перешиб. Кабы жилу - кровища бы хлестала. Как это ты с ним сразу схватился?
– Черт его знает! Я сказал лишь, что ему в Москве быть не велено, так чтоб тут же убирался, а он нож выхватил! Ну да и я не лыком шит - удар-то отбил, и мы сцепились… Он, подлец, верткий, как змея… Спасибо - ты вовремя подоспел…
Пока Степан говорил, Федька помог ему подняться и усадил на короб.
– Будь здесь, я за тобой наших пришлю, сиди тихо, - велел он. - Может, он за добром своим вернется… Ах, сукин сын, мало ему Абросимова…
– Так это… - начал было Канзафаров.
– Так он самый! Это он в елизаровском дома Абросимова заколол! Я его рожу сатанинскую сразу признал! Хоть он там без парика был, а тут - в парике! И раньше бы мне ту обезьяну вспомнить проклятую! А, вишь, он всем головы заморочил! На что пертовый маз хитер - и тот его отпустил!
– Точно ли он?
– Точно! Я его, как тебя, тогда видел! Сиди, я скоро!
И Федька, отдав Степану свой нож, заковылял к прорехе.
Он выбрался из-под помоста. На него не обратили внимания - наверху тешеншпилер, приняв протянутую из толпы по его просьбе круглую русскую шляпу, обещал напоить из нее вином хозяина, и мальчик, одетый в красный камзольчик и желтые штаны, держал наготове стакан.
– Кара фаре вот маршаре! Рекомадире! - на неизвестном языке возгласил тешеншпилер, перевернул шляпу - и из нее в стакан полилось красное вино. Публика завопила. Тешеншпилер подошел к самому краю помоста, присел на корточки и протянул стакан хозяину шляпы. Тут все притихли.
– Вот те крест, вино! - отпив, громко сообщил мужчина. - Да и какое! Ну, брат, ловок! Слезай, и мы тебя не хуже угостим!
Федьке уже было не до развлечений - а лишь бы скорее добраться до пирамид с жарким, где собирался быть Тимофей и уж во всяком случае были полицейские драгуны.
Кое-как отойдя от толпы, с трех сторон окружившей помост с тешеншпилером, он посмотрел по сторонам. Саши нигде не заметил. Это значило, что Коробову удалось найти штукаря и пойти за ним следом.
Федька не надеялся, что архаровскому секретарю удастся изловить опытного убийцу. Он только хотел, чтобы Саша как можно дольше издали сопровождал эту сволочь. А коли бы секретарю удалось наткнуться на кого-то из архаровцев - так было бы и вовсе замечательно. Только бы у него хватило ума не подходить к убийце слишком близко…
* * *
Наутро в архаровской голове первой проснулась мысль об отраве. Рот был изнутри отвратителен. Отродясь обер-полицмейстер не напивался до такого состояния, о котором говорят: в пасти будто эскадрон ночевал.
Архаров открыл глаза и приподнял голову. Тут оказалось, что за ночь кто-то заполнил ее жидким чугуном.
Местность, куда он угодил, была опознана не сразу. Тесная комнатка, на стене - платья, покрытые розовым немецким ситцем в мелкий цветочек, на окне - геранька с большими розовыми соцветиями, да и занавеска, да и скатерка… и край стеганого одеяла… Марфино гнездышко было невыносимо розовым.
– Марфа! - позвал Архаров. - Марфа Ивановна!…
Получилось отнюдь не так громко, как желалось бы.
– Прелестно… - сказал сам себе Архаров, пытаясь восстановить в памяти вчерашние блуждания. Хорош обер-полицмейстер! Выпил черт знает в каком зловредном кабаке всю отраву, ободрал о какую-то пьяную сволочь кулак, чудом дотащился до Марфиного домишка… Дунька!… Тут была Дунька!…
Дверь чуть приоткрылась.
– Дуня… - позвал Архаров.
Дверь тут же захлопнулась. Кто-то очень быстро и почти бесшумно сбежал вниз по лестнице. Потом раздались шаги более увесистые - Марфины.
Она вошла в розовое гнездышко и первым делом подобрала упавшие на пол архаровские штаны.
– Не бойся, дурочка, - сказала она, вешая штаны на стул. - Ступай сюда, поднеси… чему я тебя учила?…
Появилась Наташка с ковшиком, нерешительно подошла к постели.
– Пей, сударь, рассол у меня самый ядреный, нарочно для кавалеров держу. Наташка, подсоби-ка господину обер-полицмейстеру.
Девчонка присела на край постели, приобняла Архарова, помогла подняться и, придерживая его за плечо одной рукой, другой поднесла к губам ковшик. Обер-полицмейстер отхлебнул - и глаза у него на лоб полезли.
– Ма… Марфа!… Это что за гадость такая?! - воскликнул он, опомнившись.
– А что? Крепко продирает? - невиннейше осведомилась она. - Так и задумано. Поди, Наташа, прочь. Пожарь яишенку из полудюжины яичек, хлеба хорошего отрежь, уставь все на подносе, как я учила…
– Сюда, что ли, сервировать хочешь? Оставь, я спущусь. Ты, красавица, мне с колодца ледяной воды ведерко принеси-ка, - велел Архаров. - Ох, Марфа, как я еще Богу душу не отдал…
Наташа выскочила за дверь.
– И так запросто не отдашь, не надейся. Еще помучаешься, сударь.
– Да уж мучаюсь… Слушай… Мне спьяну пригрезилось, или тут впрямь Дунька была?
– Была, подвалилась к тебе под бочок. А ты, сударь, пьян-то пьян, а свое кавалерское дело разумеешь. Я тут за стенкой ночевала - долгонько ты угомониться не мог.
– Ох… кой час било?…
– Обеденный, Николай Петрович.
– Дуньку, стало быть, осчастливил… чего еще натворил?…
– Меня непотребным образом хватал.
– Тебя?!
Вот тут хмельная дурь, лишь малость отступившая перед крепким холодным рассолом, съежилась, освободила хотя бы частично обер-полицмейстерскую голову.
– Меня, сударь. Да я-то что, мне в радость, когда такой ядреный кавалер потискать изволит. А Наташку я прогнала, чтоб тебе под горячую руку не попалась… или под что иное…
– А Дунька откуда взялась?
– А так… забежала… - несколько смутившись, отвечала Марфа. - Она, как стемнеет, забегает по-свойски, не чужие, чай… Тебе одеться-то пособить?
– Сам управлюсь, ступай, я тут же буду.
Марфа вышла. Архаров потянулся за штанами. Чувствовал он себя прескверно. Вся надежда была на ведро ледяной воды.
Решив, что обувание ног для него сейчас непосильная, да и не нужная задача, он заправил рубаху в штаны, накинул на плечи кафтан и пошлепал на кухню босиком.
Спустившись с лестницы, он столкнулся с молодым то ли иноком, то ли иереем, не понять - темно-синюю рясу могли носить и те, и другие. Отчаянно покраснев, неожиданный Марфин гость поспешил прочь, двумя руками прижимая к груди узелок. Архаров постоял, подумал и явился на кухню.
Марфа толкла заправку в кислую капусту, что уже стояла на столе в большой миске, Наташка солила яичницу-глазунью, пожаренную на сале, так что из толстого слоя сгустившегося белка торчали темные шкварки.
– А для чего иерей Божий приходил? - спросил Архаров. - Краденое приносил или девка ему приглянулась?
Марфа рассмеялась и, попробовала заправку с пальца. Сочтя, что и перца, и сахара хватает, вылила ее в миску и стала ловко ворошить капусту.
– Ох, ты и насмешишь, сударь! Ни то, ни другое, а приходил он за бородой.
– У него ж своя есть.
– Своя, да худая, клочьями растет. А что ж за поп без бороды? Она вот этак должна лежать на одеянии, - Марфа показала растопыренными ладонями бородищу шириной во всю свою необъятную грудь, а длиной - до пупа. - Весь приход смеется - батька-де у нас, как ощипанное куря. Ну, я ему травку толченую дала заваривать да мыть личико дважды в день.
– Заморская, поди, травка? - серьезно спросил Архаров.
– Батюшка Николай Петрович, как есть заморская! Вот, видишь, забор у меня? А по ту сторону у калитки полынь растет, я Тетеркину ее истреблять не велю.
– Видел. Та полынь уже с дерево ростом будет.
– Ну так с нее листья обдираю, сушу да толку. И точно борода в рост с того идет! Сколько уж раз бывало…
– Так ты у нас теперь бабка-лечейка?
– Николай Петрович, сударь мой, а то ты не ведаешь моих дел? - спросила Марфа. - Еще при Иване Иваныче моем незабвенном, черти б его драли, была эта морока - приплетется каторжник, колодник, на лбу и на щеках знаки. А Ивану Иванычу он для каких-то дел на Москве нужен. Ну вот и моют его полынным отваром, чтобы щеки скорее да гуще заросли. Оттуда и знаю…
– Заморская, выходит, травка… - задумчиво подытожил он.
– Заморская, сударь, из самой Франции, из городу Берлину! - тут же бойко отрапортовала Марфа, зная по опыту, что человек грамотный от такой географии тут же буйно хохочет.
Но хохота не было. Архаров уставился в пол и молчал.
– Марфа Ивановна, а помнишь, как в чуму с девками промышляла? - наконец спросил он. - Помнишь, у тебя все Лизеты и Анеты были из Франции, из города Берлина?
– Ох, как не помнить… а кавалерам-то нравится!… Наташка! Тебе что господин обер-полицмейстер велел? Ну-ка, оставь сковородку да живо за водой!
Шлепнув Наташку по заднице, чтобы придать ей скорости, Марфа сама встала к плите, а Архаров, кряхтя, побрел на крыльцо. Наташка уже исчезла. Тетеркин, сидевший на завалинке со всем своим столярным прикладом, встал и поклонился. В руке у него была только что собранная игрушка - медведь и мужик, схватившись за бочонок, тащат его каждый в свою сторону. Только что оструганная древесина была чиста и, кажется, даже духовита - Архаров ощутил желание, как в детстве, понюхать игрушку.
На крыльцо вышла Марфа. Через плечо у нее висело грубое льняное полотенце, сероватое с красной вышивкой, зато большое - впору турецкую чалму накручивать. Некоторое время оба молча глядели на двор, как если бы вид утоптанной дорожки, и досок, и травы, и поленницы, и забора, и калитки могли пробудить мудрые мысли.
– Мои не прибегали? - спросил наконец Архаров.
– Прибегали вечером. Тимофей дважды заглядывал, Скес… ну, Иван Львович мой…
Так Марфа звала Жана-Луи Клавароша, соблюдая разумное правило - баба в годах уже не может звать сожителя попросту, а должна уважительно.
– А ты?
– Так ты ж, сударь мой, еще не приходил. Они вечером прибегали, а ты знаешь когда заявился? Ко вторым петухам. Кто ж знал, что в «Негасимке» застрял?
О том, что Наташка уже бегала на Лубянку с записочкой для Тимофея, Марфа не доложила. А сам обер-полицмейстер тоже не сообразил, почему его вечером искали, а утром - не пожелали.
– Прелестно… - пробормотал Архаров. - Нет, одного ведра мне будет мало.
– Наташка два принесет. Кто ж на коромысло одно вешает? Вода у нас плоховата, да на голову вылить - сгодится. Послушай, Николай Петрович, ты вон с государыней обедаешь - скажи, что на Москве вода плоха, а водовозам платить - никаких денег не станет, да и врут! Сам божится, что в бочке у него - студеная водица из Андроньевского колодца, а отхлебнешь - конским навозом отдает.
– Так что ж, государыня тебе новый колодец выкопает?
– Да пусть бы приказала в удобных местах новые колодцы рыть. А то к соседям девку гоняю, а она у меня худенькая, силы еще не накопила, хотя…
Тут Марфа замолчала и улыбнулась.
– Да нет, силы-то накопила… - рассеянно сказал Архаров, глядя, как Наташка, отворив калитку, входит бочком, и два ведра плывут над землей, не колыхнувшись, такая у девки плавная походка, нарочно для ношения воды выработанная.
У самого крыльца Наташка присела и ведра встали наземь.
– Ну-ка, сударь, сойди да нагнись, а ты с крыльца полей, - распорядилась Марфа и поспешила на кухню - вспомнила о яичнице.
Архаров нагнулся, как велено, и Наташка, взойдя на крыльцо с ведром, все его вывернула на склоненную похмельную голову. Архаров невольно зафырчал, как конь, и дал знак лить из второго ведра.
Бодрость и веселье, совершенно неожиданное при его обстоятельствах, овладели сперва - телом… сперва - телом…
Теперь следовало жить дальше. Но иначе.
Он стоял в своей любимой позе - широко расставив согнутые в коленках ноги и как бы сидя на воздухе. Шею он вытянул сколь возможно дальше и мотал головой в ожидании, пока девчонка спустится и подаст ему полотенце. Брызги летени - как от искупавшегося барбоса.
Намотав полотенце на голову, Архаров на манер турецкого паши прибыл в кухню и сел к столу.
– С капустки начни. Там и лучок, и перец - вмиг поправишься. Твой Потап так-то не умеет.
Архаров попробовал. Капуста была выше всех похвал.
Поставив перед Архаровым сковородку, Марфа сама села напротив. И подперлась ручкой - этак со значением, приготовляя собеседника к тому, что сейчас он из ее румяных уст услышит нечто приятное.
Архаров же, вдруг ощутив зверский голод, расправлялся с яичницей и, торопясь, перемазался в желтке.
– Дай-ка утиральник, - велел он. Снимать полотенце с головы не хотел - довольно длинные волосы были еще мокры и, дай им волю, тут же завились бы легкими прядками, а ему еще предстояло как-то собрать их в достойную прическу.
– Давай-ка, сударь, я Наташку за извозчиком пошлю. Ты записочку напиши, она к тебе на Пречистенку съездит, чтобы за тобой экипаж прислали.
Архаров стянул с головы полотенце и потрогал влажные волосы.
– А мне что же - сидеть, ждать?
– И подождешь. В таком виде тебя выпускать нехорошо. Ты ко мне, поди, на карачках добирался и через заборы лез. Сиди уж, отдыхай. В полицейской конторе и без тебя, чай, обойдутся. Наташка!
Девушка тут же вошла.
– Принеси сверху чернила, перо да бумаги листок… Постой! Весь прибор неси.
Наташка притащила небольшой, но тяжелый малахитовый письменный прибор с двумя бронзовыми чернильницами, стаканчиком для перьев, посудинкой для песка, ложбинкой для перочинного ножичка и прочими затеями.
– Откуда у тебя? - удивился Архаров.
– Так я всякий заклад записываю - что взяла, сколько дала, когда срок. Иначе нельзя, меня так еще Иван Иванович приучил… не к ночи будь помянут… Так не в плошку же перо макать. Вот, не выкупил кто-то, а мне и удовольствие.
Архаров весьма неохотно взялся за писанину. Марфино перо было очинено под ее руку, он понаставил клякс и лишь надеялся, что Меркурий Иванович, кому адресована записка, уже по одним кляксам догадается, что писано собственноручно.
От этого непосильного труда он опять ощутил голод и потянулся за капустой.
Выдав Наташке деньги на извозчика, Марфа выпроводила ее, и тут ее загадочные улыбки и взгляды получили наконец объяснение.
– А что сударь, тебе моя Наташка по нраву ли?
Архаров насторожился.
– Девка тихая, послушная, ей и шестнадцати нет, - деловито начала Марфа. - Ни с кем еще не хороводилась, я за ней строго слежу. Забирай-ка ты ее к себе, Николай Петрович! Сколько поживешь - то и твое, а надоест - дашь ей хоть какое приданое.
– Ни с кем не хороводилась? - повторил он.
– Попробовала бы! Я б так ее за косу оттаскала! Нет, смиренная, рукодельница. Для хорошего человека приберегаю. Сам, сударь, знаешь, нетронутая девка в цене. А тебя я знаю, ты ее не обидишь. И она к тебе охотно пойдет. Она тебя не раз видала, привыкла. Бери! Не пожалеешь!
Архаров и жевать забыл.
Следовало кратко послать Марфу в известном направлении, чтобы не городила околесицу - какая еще теперь Наташка, и без Наташек тошно. Однако ж Марфа не дура, знает, когда, кому и что говорить…
– Ты думаешь, сударь, тебе для кавалерского дела Дунька нужна? Да начхать тебе на Дуньку! - все более увлекаясь своей затеей, говорила Марфа. - Она девка порченая, с кем только не гужевалась. А господин Захаров ее и вовсе разбаловал, никакого сладу с мерзавкой нет…
О том, каким словцом благословила ее рано утром на прощание норовистая Дунька, Марфа Архарову, понятное дело, не сказала. О том, что девку в последнее время словно подменили, - тоже.
– А ты свою мартонку ни с кем делить не пожелаешь. А она уж привыкла от добра добра искать! Потому и с Дунькой никогда не сладится! - грозно произнесла Марфы. - Сбежались - да разбежались, сбежались - да разбежались. А Наташка только твоя будет. Приедешь с государыниной службы - а она уж встречает. И не будет той занозы в голове, что ты у нее не первый.
Архаров с великим подозрением уставился исподлобья на Марфу.
Он пытался понять - что она знала о событиях той ночи, о чем догадалась? Мог ли ей рассказать Клаварош? Мог ли дармоед Никодимка? И бабы! Не может быть, чтобы Марфа, столько раз бывая на Пречистенке, не свела дружбы с Дашкой, Настасьей, Авдотьей, Аксюшкой!
Уж больно разумно она сейчас глядит - ну, все чертова баба понимает…
О том, что сам же он все, что ей требовалось, исправно разболтал, Архаров, разумеется, не подумал.
Марфа подвинулась к нему, улыбаясь во весь рот, горя желанием поскорее приступить к торгу.
– Шестнадцати нет, говоришь?
– В сентябре шестнадцать будет. Да ты девку-то мою разгляди! Она в тело войдет - еще краше Дуньки станет. Дунька - что? Дунька уж баба. Двадцать второй год - на что она тебе? А Наташка - самая сласть! Первым у нее будешь, сударь, чего ж еще слаще?
И ведь Марфа был права - сейчас, чтобы прийти в себя, требовалось именно это - чистота и полнейшая покорность.
И светлая коса с золотом, тяжелая, на ощупь - прохладно-шелковистая…
Однако то же самое имелось и дома, на Пречистенке! Потапова дочка Иринка была ровесницей Наташке, если даже не старше. И тоже миловидна собой.
Если бы Архаров приблизил к себе Иринку, вся дворня, поди, вздохнула бы с облегчением, и повар Потап - первый из всех. И барин угомонился, и девка, не успев наделать глупостей, пристроена - без хорошего приданого замуж не отдаст.
Но это было для него так же невозможно, как приблизить к себе самого повара Потапа. Иринка была - своя, он знал ее совсем сопливой девчонкой, наблюдал, как она растет и хорошеет, по-своему берег ее - она была самой юной из всей дворни. Он даже радовался при мысли, что вскоре отдаст ее за лакея Ивана, который в последнее время стал вокруг Иринки увиваться, и станет крестным отцом их первенцу.
А Наташка была словно бы из другого теста - из коего не добродетельных жен, а мартонок пекут. Даже не сама по себе она наводила на такие мысли - а через свое проживание у Марфы Ивановны.
Что-то слишком уверенно взялась Марфа разбираться с его постельными делами - так подумал Архаров. Баба хитра - не иначе, чает иметь с этой сделки свою прибыль.
И плевать, что она до чего-то своим бабьим умом додумалась… плевать!…
– А что возьмешь? - деловито спросил Архаров.
– Да девки-то чистые на дороге не валяются…
– Да Москва-то велика, не у тебя одной такой товар.
– Так я-то за свой ручаюсь!
Марфа так изготовилась к словесному сражению, что Архаров невольно засмеялся.
– Приводи ее как-нибудь вечером, - сказал он. - А я, глядишь, на твои новые проказы сквозь пальцы посмотрю.
И, испытав вдруг острое желание поколобродить, спросил, прищурившись:
– Э?
Марфа только вздохнула.
И Архаров понял - она, превосходно разобравшись в его упрямом норове, вовеки не признается, что хочет всего-то навсего прийти ему на помощь единственным известным ей средством. Выходит, и Дунька не просто так прибежала…
Слишком много поняла Марфа, слишком много, и это отвратительно.
Если бы Марфа затеяла торговаться - глядишь, и не вспомнил бы обер-полицмейстер свое нелепое приключение. А так - вспомнил, встал из-за кухонного стола, подошел к окошку, как если бы там, за окошком, творилось нечто любопытное.
– Да не майся ты, сударь, обойдутся один день твои архаровцы и без тебя, - не поняв, к счастью, причины этой маеты, сказала Марфа. - Хочешь - на огород выйди, посиди на солнышке, посуши головушку.
– Пойду обуюсь, - решил он.
– Я чулки твои постирала, сейчас с веревки сниму.
Вот уж чего Архаров точно не помнил - как оказался без чулок.
Он поднялся наверх, надел и застегнул камзол, обулся. Нашел ленточку, которой были схвачены волосы, кое-как стянул их, косицу плести не стал. Наконец распялил на руках кафтан и задумался - где по дороге от «Негасимки» к Марфе удалось отыскать столько светлой глины? С неба она, что ли, сыпалась? Вот так, как сейчас сыплется с кафтана?
Влезши в кафтан, он попросил Марфу хотя бы пройтись поверху влажной тряпкой. Она же наотрез отказалась разводить грязь. Так обер-полицмейстер и поехал домой - словно узкими подземными ходями из Замоскворечья в Кремль лазил.
Из кареты он прежде, чем задернуть занавески, поглядел на Марфу и Наташку, вышедших его проводить к калитке. Рядом с Марфой Наташка показалась ему совсем тоненькой - с Дунькой не сравнить, Дунька-то уродилась пышногрудой. Однако к двадцати годам и Наташка, поди, наживет себе пышности. Особливо коли родит…
Подумав, что такая юная и неопытная мартонка первым делом окажется брюхата, Архаров хмыкнул. Будет, стало быть, бегать по заднему двору на Пречистенке толстенький коротконогий младенец со светлыми вьющимися волосиками… чем плохо?…
Будет кого, поставив меж колен и положив ему руки на плечики, учить уму-разуму, чтобы во всякой драке бился до победного конца… как покойный дед учил…
И угомонится душа, перестанет ждать невозможного. Забыть, забыть, усилием воли - забыть… разве так не бывает, захотел - и забыл?
Бывает.
Но прежде, чем в пречистенском особняке заорет младенец, надобно вбить ума в голову его батюшке. Ибо батюшка сей раскис, как старый лапоть в луже. Вот тоже выдумал - лечиться от хандры по кабакам да дурацкой дракой! Обер-полицмейстер? Мальчишка сопливый…
Архаров ощущал себя лошадью, оседланной и взнузданной кое-как, меж подпругой и брюхом два кулака просунуть можно. Ни всадника понести, ни прыгнуть, нет ощущения подтянутости, нет ощущения строгости сбруи, стало быть, нет готовности к движению. А есть готовность хоть весь день стоять, опустив башку. Надо собираться с духом, надо жить дальше, надо жить иначе, а что, собственно, произошло? Да ничего не произошло. Две ночи подряд с продажными девками провел. И - все. Погулял - будет!
Именно так - две продажные девки, о которых вспоминать решительно незачем.
Переодевшись, он приказал везти себя к Рязанскому подворью.
Архаровцы встретили командира настороженно. Они не знали, с чего он вчера ударился в бега, не знали, где его носило, но Михей Хохлов утром был по делу в «Негасимке», встреча у него там была назначена, и Герасим тихонько рассказал о явлении пертового маза. Когда человек вот этак срывается и на всю ночь уходит колобродить, поди знай, что это его встряхнуло и ошарашило, да не соберется ли он срывать зло на подчиненных.
– Ваша милость, - сказал Тимофей. - Тут Канзафаров в канцелярии сидит, вас дожидается, еле доплелся. Ранили его на Ходынке.
– С этим - к Матвею. Более никто из наших не пострадал?
– Ваша милость, допросите его, Христа ради. Он такое сказывает, что лучше бы вашей милости послушать, - совершенно не боясь архаровского гнева, посоветовал Тимофей.
Обер-полицмейстер вздохнул и пошел в канцелярию. Теперь следовало заняться чем-то таким, чтобы голова не имела свободного уголка для лишних мыслей.
И это у него получилось.
Когда Степан объявил, что давешний шут из шулерского притона и убийца Абросимова - одно лицо, Архаров едва не подпрыгнул.
– Черт, - сказал он. - Доподлинно черт! И что Федька?
– Федька за мной драгун прислал, они меня оттуда вынули, а сам так и не появился.
– Арсеньев! Он что же, вчера не появлялся?
– Нет, ваша милость.
– А Коробов?
– В конторе не появлялся, ваша милость.
– И дома я его не приметил. Где там Макарка или Никишка? Пускай кто-то добежит до Пречистенки! Надобно убедиться, что он не возвращался!
Очень недовольный сам собой, Архаров распорядился, чтобы Канзафарова отвезли домой в полицейском экипаже - нечего москвичам таращиться на раненого архаровца. И пошел в кабинет, страстно желая заняться наконец делом, а не пережевывать, как корова на лугу, умственную жвачку отзвучавших слов… да и вообще он желал бы раз и навсегда забыть все лишнее!…
У дверей кабинета его ждал Яшка-Скес.
– Ваша милость, опять она со словом и делом!
Утром этого дня Скес побежал в Зарядье, уже без особой надежды когда-либо в жизни увидеть Феклушку. Пропала она основательно, супруг пил горькую, здраво рассудив, что когда она после столь долгой отлучки появится с детьми, то ей будет уже не до его грехов - свои бы замолить.
Соседка, к которой он обычно обращался с вопросами, сидела во дворе на лавочке. Она вместе со всем семейством ходила на Ходынский луг, провела там всю ночь. И, хотя была бабой немолодой, лет сорока, и в жизни опытной, дармовое вино сбило ее с толку - не рассчитав своих силенок, она употребила прекрасного напитка вдвое больше, чем бы следовало. Во время фейерверка она как-то потеряла семейство, оказалась бок о бок с незнакомым мужиком, даже от восторга схватила его за руку, им обоим это показалось удивительно смешно. Мужик был одним из корабельных строителей и повел соседку к судну «Победоносец», в трюме которого и одержал победу…
Так что теперь нечаянная гулена, кое-как добравшись до дому, отоспавшись и отпившись рассолом, маялась при мысли, что скоро Успенский пост, надобно будет говеть, исповедоваться и причащаться, и как же она скажет батюшке, который приходится ей родней, про этот неожиданный грех?…
– Бог в помощь! - сказал, открывая калттку, Яшка. - Фекла-то не появлялась?
– Да привезли ее утром! - отвечала соседка. - На телеге! Сказывала - ее карета сбила, колесом помяло, хорошо, добрые люди в дом занесли! А теперь вот привезли, у себя лежит. Крику-то что было! Муж ее чуть не пришиб, за руки оттаскивали!
– За что это он ее?
– Так дети ж пропали! Ушла с детишками, сколько дней пропадала, а привезли-то без них, а он-то думал, она с детишками где-то у родни мыкается, а их-то и не стало! Так он на фабрику пошел, а она дома лежит, в три ручья ревет, и больно ей, бедненькой, и куда дети подевались - неведомо, а сказывали еще, что у Легобытовых дети пропали, и с Марьей вместе! Ох…
Соседка отскочила от Скеса и от ужаса даже прикрыла ладошкой болтливый рот.
Яшка не первый день служил в полиции и понял: ходят слухи, что Марью Легобытову забрали в полицейскую контору, и с малыми детишками вместе, а о конторе известно, что там служат жестокие злодеи, которым для полноты репутации недостает одного: жарить на обед младенцев.
– Ничего с легобытовскими детишками не сделается, - сказал он. - Живы, здоровы, на полном казенном довольствии. Только визгу от них много. А отпускать нельзя - те детишки убийц видели и могут признать.
– Убийц? Не тех ли, что Кутеповых порешили?
До Скеса не сразу дошло, что исчезновение семейства Кутеповых народ приписал неведомым злодеям, не увязав его пока с убийством служителя воспитательного дома Афоньки Гуляева.
– Тех самых, - кратко отвечал он. - А теперь пойдем-ка вместе к Феклушке.
Он знал московские нравы. Бабы могли, недолюбливая соседку, перемывать ей косточки ежедневно и злобно, однако в беде не бросали, и коли заболеет - самые ярые сплетницы прибегали с гостинцами, с прабабкиными целительными снадобьями, помогали ее выхаживать. Скорее всего, у Феклушкиной постели уже собралось несколько суетливых и хлопотливых теток. И коли в одиночку притащится молодец, о котором знают, что из архаровцев, то сплетен потом не оберешься. А вот вместе с кем-то - иное дело, тогда может статься, что и по дельцу.
Увидев на пороге Скеса, Феклушка приподнялась на локте и вскрикнула. Тут же две бабки, совсем древние, кинулись ее успокаивать и подмощать ей под бока подушки.
Сейчас в доме было куда больше порядка.
– День добрый, - сказал Яшка. - Тут ли проживает Фекла Корешкова, замужем за оружейным мастером Федотом Корешковым?
– Тут, тут, молодец, - отвечала бойкая бабка. - Вот она самая…
– А коли ты, баба, Фекла Корешкова, то изволь явиться в полицейскую контору. Добрые люди туда твоих детишек принесли. Когда тебя карета сбила, они детишек подобрали, сколько-то у себя подержали, видят - никто за ними не приходит, и к нам их принесли.
Соседка, сопровождавшая Яшку, ахнула - но возражать не стала. Возразишь этак-то архаровцу - да и сама потом будешь не рада.
– Господи! - воскликнула Феклушка. - Да я ж чуть умом не тронулась! Нашлись мои голубочки!
Редко Скес говорил людям такое, чтобы тех людей от радости слеза прошибала. Может, даже впервые в жизни такое сказал - и потому очень смутился. Увидев в Феклушкиных глазах горячую и неподдельную благодарность.
– Куда ж она пойдет? - спросила бойкая бабка. - И в нужник-то сама не доплетется.
– Господин кавалер, слово и дело! - воскликнула Феклушка.
И сразу обе бабки, крестясь, вымелись из горницы. Они помнили, как по крику «слово и дело государево!» вязали и обрекали на пытки ни в чем не повинных людей.
Яшка проводил их равнодушным взглядом. Дуры - они дуры и есть.
– Слово и дело! - повторила Феклушка, засмеялась и заохала. Смех был ей теперь противопоказан.
– Лихо ты их спровадила.
– Яшенька, сокол, беги к господину Архарову! Я все про старую стерву Марфу вызнала! Все расскажу! Она такое затеяла - вся Москва стоном стонет! Я все, все запомнила, и прозвания, и что украдено!
– Мне расскажи.
– Ан нет! Я тебе расскажу, а ты начальству преподнесешь, будто сам раскопал! Нет, соколик! Беги скорее - да и Ванюшу с Настенькой чтобы ко мне привели… Я про них и спросить боялась, уходила - думала, на часок, а вон как все вышло… Бабы додумались, что я их с собой взяла, а -то и молчу, а сказать-то - заклюют! Беги, Христа ради, к господину Архарову!
– Да ты что, в архаровки нанялась? - наконец удивился Скес.
– Так. сказывали, у вас, коли кто сведения приносит, хорошо платят. А мне деньги-то нужны…
– Точно нужны, белила с румянами покупать, - сказал раздосадованный Яшка.
Беседа с супругом не прошла для Феклушки даром - под левым ее глазом был свежий синяк. Да и косы, поди, пострадали.
Попререкавшись с любовницей, Яшка плюнул и поспешил в полицейскую контору.
Выслушав Скеса, Архаров постоял несколько, соображая.
– Говоришь, лежит в постели, шевельнуться не может?
– Она, поди, ребра поломала, ваша милость.
– Прелестно. Поди, вели Сеньке экипаж подавать.
Обер-полицмейстер, у которого с утра день не заладился, решил оставить кабинет и ехать в Зарядье. Скеса он взял с собой - показать дорогу и способствовать живости беседы. Ибо за себя не ручался - ему вообще лишний раз рот отворять не хотелось. Еще взял с собой нового подканцеляриста по фамилии Шустерман, совсем еще молоденького и не успевшего познать, что такое школа старика Дементьева. Этот служащий был взят по протекции Шварца.
Феклушка совершенно не удивилась этому визиту. Более того - была откровенно горда, что столь важная персона к ней пожаловала. И уже предвкушала исправление своей репутации среди соседок - и хозяйка-де она прескверная, и детишки у нее вечно сопливые, и пауки по углам уже не то что холсты - сукно соткали, ан вишь - сама обер-полицмейстерская особа, всей Москвы гроза, ее навещает!
– Лежи, лежи, Феклуша, - сказал, войдя, Архаров. - Яша, раздобудь хоть табурет, что ли. Шустерман, сядь к столу, записывай.
– Ваша милость, я все разведала! Марфа-то столько беды на Москве понаделала - спасу от нее нет! - воскликнула Феклушка.
– Ты по порядку сказывай, - попросил Архаров, не очень надеясь, что баба способна что-то изложить по порядку.
– Ваша милость, она на старости лет в кофейницы подалась! Новое имя себе взяла, переодевается у беспутной Дуньки Мокеевой, и входит она к Дуньке Марфой, а выходит в боярском платье, с кружевом на волосах, и звать ее уже Софьей Сергеевной!
– Прелестно. И что ж?
– Она разъезжает из дома в дом, гадает на кофейной гуще, по-господски, и гадает на пропажи. В котором доме что пропадет - она глядит на спитый кофей и виновника там видит! А видит она там людей невиновных! И их из-за нее наказывают, а пропажу так и не находят! У Мироновых господ, что в Богоявленском живут, она сперва на жениха гадала, у них дочки на выданье. Потом там возьми да и пропади деньги с важными бумагами, кто-то их из барского изголовья вынул. А она поглядела на кофейную гущу и говорит - лакей-де взял да и пропил. Ваша милость, я нарочно спросила - пропажа после того открылась, как она туда ездить стала! А у лакея тех бумаг не нашли, только почем зря спину ему ободрали.
– Ишь ты… - изумился Скес. Он и не предполагал в своей подруге таких сыскных талантов.
– И от Мироновых она, взяв извозчика, поехала к господам Никитиным, на Тверскую, и я за ней побежала. И там тоже в доме пропажа была - дорогие браслеты, броши и серьги с алмазами. И она нагадала, что это-де племянница, что в доме из милости живет. К девке приступаться стали - а она не сознается.
– Никитины? - переспросил Архаров. Кажется, именно эту фамилию поминал князь Волконский, просивший обер-полицмейстера приватно побеседовать с племянницей и убедить ее вернуть драгоценности.
– Никитины, ваша милость. Я дом запомнила, покажу, коли угодно. И вот она, Марфа, ездит этак по домам, и там дорогие вещи пропадают, а она не вора находит, а в кого попало пальцем тычет - кофей-де ей так сказал! И потому воров-то настоящих не ищут, а над невинными людьми измываются! - с пафосом провозгласила Феклушка. - И от Никитиных, ваша милость, она поехала дальше…
– Погоди, не трещи. Шустерман, записывай все досконально. Скес, сам расспроси… - и он, встав с табурета, пошел прочь.
– А награждение?!
Этот вопль Феклушкиной души заставил его обернуться.
– Шустерман, у тебя полтина сыщется? Дай ей. Я в конторе тебе верну.
– Полтины мало, - возразила Феклушка.
Архаров вздохнул. Марфины подвиги были ему понятны - очевидно, она и раньше трудилась наводчицей. Новомодное гадание предоставляло ей множество замечательных возможностей устраивать кражи и направлять доморощенных мастеров розыска по ложному следу. Но сейчас думать о Марфе решительно не хотелось. На душе было прескверно - эта женщина видела его совершенно невменяемым, но это бы еще полбеды; она угадала причину архаровского сумасбродства и раздобыла лекарство, и именно этого он ей не мог простить - не любил, чтобы кто-то видел его уязвимые места.
– Ну, дай ей рубль, - приказал обер-полицмейстер. Сейчас он хотел убраться отсюда и засесть в экипаже. Душа настоятельно заявила, что всякое общество ей противно. А записать Феклушкины сведения подканцелярист сможет и самостоятельно.
– Так от господ Никитиных она, Марфа, отправилась к господам Матюшкиным, а это бояре знатные, сам-то господин - граф…
Архаров остановился.
Ему не хотелось заниматься кражами, но Матюшкины сыграли весьма гадкую роль в деле с сервизом - и, чудом спасшись от пули, Архаров хотел добраться до той руки, что эту пулю в пистолетный ствол загнала.
– И что Матюшкины? - спросил он.
– А тут, ваша милость, кражи-то и не было, - сообщила несколько обескураженная Феклушка. - Она туда заехала на минуточку, дважды «Отче наш» прочитать… А от господ Матюшкиных…
Архаров, не говоря ни единого слова, вышел.
Как ему ни было тошно, а дело требовало: очнись, соберись с силами! Тому рыжему котишке, что истребил в амбаре всех крыс, тоже тяжко пришлось - да ведь он не разогнал зловредных тварей по норам, он их уничтожил.
– Потому что они - крысы, а я - кот, - повторил Архаров запавшие в душу слова.
Думать не хотелось совершенно. А следовало выстроить очередное умственное сооружение, в котором каждый участник истории с сервизом занял бы правильное место. С Марфой-то как раз было проще всего - она выполняла поручения Каина, и верность Каину, происходящая от страха перед ним, не позволила ей вовремя намекнуть обер-полицмейстеру: Иван-то Иванович вернулся. А поручения Каина могли быть двух родов: связанные с его воровскими замыслами и связанные с происками французов…
Архаров забрался в экипаж, еще не желая размышлять, но уже вспоминая всякие события Марфиной жизни. Каин передал ей золотую сухарницу и научил, что соврать при этом. Кто-то составил план, как вернее заманить обер-полицмейстера в ловушку, и его дразнили сервизом, как дразнят кота веревочкой с навязанным бантиком. Этот хитрец знал архаровский нрав; знал, что обер-полицмейстер будет доведен мельтешением золотых тарелок до молчаливой и затмевающей рассудок ярости; знал также, что он непременно захочет сам схватить продавца сервиза. А кто мог, тайно наблюдая за Архаровым, сделать такие выводы? Только враг, не поделивший с ним чего-то весьма значительного. Москвы, к примеру. И тогда это - Каин…
Обучилась ремеслу кофейницы она, может, и сама - от скуки, по какой-нибудь замызганной тетрадочке, из тех, что имеют хождение между бабами. Но пустила это ремесло в ход по приказу Каина. И тут уже становилась понятной игра, которую он завел вокруг Демки Костемарова. Неглупый и ловкий Демка был ему необходим - второго такого шура не скоро сыщешь. Сделать так, чтобы Демка не захотел более оставаться в полицейской конторе, изготовить улики против него, включая кражу стилета и тело Тимофеевой жены, а потом прибрать его, перепуганного и возмущенного, к рукам - что может быть для Каина любезнее? И он повязал Демку по рукам и ногам первым же поручением - заманить обер-полицмейстера в ловушку…
Стало быть, есть кражи, о которых никто не пишет «явочных», потому что преступника указала кофейница. И кражи основательные - в богатых домах, где Марфа подвизается, дамы носят на себе целые деревни в виде перстней, бриллиантовых нитей и пряжек. И сегодня же надобно послать людей в те дома, которые укажет Феклушка.
Шустерман подошел к карете и остановился в нерешительности - не хотел сердить Архарова.
– Полезай, - велел он. - Все записал?
– Все, ваша милость.
– Она при вас о детях спрашивать боялась, - добавил Яшка.
– Детей вернем. Они мне в конторе не надобны. Скорее бы от легобытовских избавиться.
Но это избавление могло случиться не ранее, чем будет изловлен убийца Федосьи Арсеньевой, которого может опознать Тимофеев сынишка. А лучше бы - после того, как удастся избавить Москву от Каина. Ведь убийца орудовал наверняка с его благословения.
К счастью для себя, Архаров любил умственную работу. Он вроде и не желал ничем сейчас себя обременять, однако в крупной его голове уже возникали связи, уже находились объяснения. И вопросы также вставали. Вот, например, такой: что могла знать Марфа о тайных делах Каина с французами? Служила ли она бывшему любовнику, всего лишь перевозя записочки от него к Матюшкиным и обратно, или же сама вместе с ним вела интригу?
Экипаж тронулся, заколыхался по неровной улочке, а обер-полицмейстер уже обрел ответ: ничего она толком знать не могла. Кабы он посвятил былую подругу в свои проказы - она не стала бы дожидаться ночного явления Архарова, а, узнав, что убийство не состоялось, дала бы деру и отсиделась где-нибудь в Твери или Калуге. Затем - он, чертов Каин, не послал к ней человека сказать, чтобы пряталась - стало быть, уверен, что никто не знает о его участии в этом заговоре. Но Яшка видел, как Каин передавал Марфе предмет, подозрительно похожий на сухарницу, которую она в тот же день отправила в полицейскую контору. Марфа исполнила приказание - не более.
Ее шалости Архарову уже осточертели. Он глядел сквозь пальцы на то, что шуры по ночам таскали к ней ворованные часы и табакерки. В конце концов, она же и подсказывала, где тех шуров искать. Да и выкупать краденое удобнее было у известного человека. Но такая дружба с Каином уже выходила за пределы дозволеного. Архаров Каина из Москвы прогнал - и потворствовать его стремлению заново тут утвердиться не желал. Опять же, череда краж в богатых домах, о которой, не обозлись Феклушка на Марфу, так бы никто ничего толком и не прознал.
Стало быть, пробил Марфин час. И надо ею заняться, пока Каин не догадался ее предупредить.
Вернувшись в кабинет, Архаров распорядился послать за Марфой один из полицейских экипажей, нарочно предназначенный для перевозки арестантов. И ее доставили - сильно недовольную.
Архаров, отдав кое-какие распоряжения, ждал ее в кабинете. На столе стояла золотая сухарница, накрытая большой салфеткой.
– Входи, садись, Марфа Ивановна, - сказал он. - Наедине потолкуем.
– Что ж такое стряслось, сударь мой, что ты меня велел сюда, словно масовку, доставить?
– А то и стряслось, что лопнуло мое терпение, - преспокойно объявил обер-полицмейстер. - Твои шалости и дурачества до предела дошли, и более я их терпеть не намерен.
– Какие ж такие дурачества?
– Когда ты то колечко заведомо краденое, то сережки в заклад принимаешь, я уж молчу - ремесло у тебя такое. Но ты, Марфа Ивановна, избаловалась и последнюю совесть потеряла… Молчи. Тут я говорю. Ты повадилась под мнимым именем ездить по богатым домам, высматривать, где что плохо лежит, и наводить шуров. Кофейницей сделалась! Я еще доберусь, сколько ты невинных людей под плети подвела. Вот тут у меня все фамилии записаны…
Он показал листы работы Шустермана - опрятные, без клякс, с ровненькими полями.
– Да батька мой, Николай Петрович!…
– Молчи. Я еще не все сказал. Кто тебе сию сухарницу в заклад принес? - Архаров сдернул салфетку. - Только не ври. Мы-то с тобой знаем, что приносил ее Иван Иванович Осипов и передавал тебе в летней кухне у тебя же на окогоде, в которой кухне вы и до того ранним утром частенько встречались. В Москве, стало быть, Каин, а ты и словечком не обмолвилась.
– Да коли я бы обмолвилась, он бы меня убил, вот те крест - убил бы! Он, как объявился, первым делом пригрозил…
– Молчи. Я говорю. Так вот, Марфа Ивановна… - Архаров был изумительно спокоен, говорил неторопливо, почти ласково, и видел, что от этого Марфа в великом недоумении. - Я подумал и понял, отчего ты чудесишь. Самостоятельности в тебе много. Обычная баба мужним умом живет, он все растолкует и уму-разуму по-семейному поучит. И ей это на пользу идет. А ты, вишь, моего Клавароша взяла для того, что он русского обычая бабу учить не понимает. Давно тебя, стало быть, не вразумляли, как полагается…
Поняв, о чем речь, Марфа онемела.
– Ты сейчас тихонько пойдешь вниз, к Карлу Ивановичу, и велишь, чтобы тебя вразумили должным образом, без членовредительства, но весьма чувствительно. Поверь - сие будет к твоей пользе. Потом сама благодарить придешь, что вовремя уму-разуму научили, покамест Каин совсем тебя с толку не сбил.
– Да ваша милость!… - наконец воскликнула Марфа. - Да за все мое к вам добро!…
– Не поднимай шуму, Марфа Ивановна, не позорься. Заслужила - получай. Не то силком отведут - хуже будет. Ступай. После вразумления полежи малость и ко мне сюда возвращайся. Будем дальше о твоих проказах беседовать. Где лестница в подвал - знаешь?
Марфа настолько была поражена этой архаровской затеей, что молча кивнула.
– Вот и ступай с Богом.
Марфа стремительно вымелась из кабинета. Архаров нехорошо усмехнулся - конечно же, пользуясь давним знакомством с полицейскими, старая сводня постарается улизнуть из конторы. Не тут-то было - не выпустят! Да еще и препроводят вниз под ручки. Не напрасно предупреждал: Марфа Ивановна, не позорься…
– Эй, кто там есть! - крикнул он. - Щербачова ко мне! И Арсеньева!
Следовало основательно заняться списком господ, которых Марфа облапошила.
Но из этого благого побуждения ничего не вышло. Пока полицейские перекликались, вызывая Тимофея с канцеляристом к обер-полицмейстеру, откуда-то снизу донеслись подозрительно громкие крики.
Подвалы были так устроены, чтобы поменьше шуму проникало наверх. Поэтому Архаров очень удивился и даже сам пошел смотреть - что за притча? Его любопытство было вознаграждено.
Оказалось, что Марфа попыталась-таки сбежать, была поймана, доставлена к ведущей вниз узкой лестнице, начала спускаться - и застряла.
Архаров подивился - сам он, мужчина плотный, не раз спускался и поднимался без особых затруднений. Однако это приключение его позабавило - и он азартно принялся руководить сверху действиями по извлечению Марфы. Снизу же взял власть в свои ручищи Вакула. Судя по взвизгам и ругани Марфы, охальничал он там напропалую. Но в конце концов именно он поступил разумно - ухитрился стянуть со сводни многослойные нижние юбки, после чего удалось развернуть ее боком и, выпихивая со ступеньки на ступеньку, вытащить на свет Божий.
– Говорил же тебе - не позорься, - сказал Архаров. - А теперь вон бока себе ободрала. Да и все подворье хохочет. Этого ты добивалась?
Марфа молча одергивала юбку - красная, как свекла. Снизу вылез Вакула, держа над головой широченные, как парус, белые мешки с кружавчиками. Архаровцы стали делать разнообразные замечания, от которых Марфа разозлилась, выхватила у Вакулы нижние юбки и хлестнула его ими по веселой бородатой роже.
А потом она вдруг заревела - словно девка, которую помял драгунский полк да и поскакал себе дальше, а она вон осталась на обочине, навеки опозоренная, хоть головой в петлю.
Архаров смотрел на нее в недоумении, пока не понял - Марфу могли не любить, ругать в глаза и заглазно, упрекать во всех смертных грехах, но она отродясь еще не была общим посмешищем. Это ее и подкосило…
– Пойдем, Марфа Ивановна, в кабинет, - предложил обер-полицмейстер, сжалившись. - Хватит тут сырость разводить, у нас и своей довольно.
И, не снисходя до уговоров, повернулся и пошел. Марфа поплелась следом. Белые крахмальные юбки волочились по полу, но ей было не до них.
В кабинете Архаров дал ей время прийти в себя.
– А теперь говори - где Каин, - приказал он.
– Да почем я знаю! Он сам ко мне приходил! У меня-то жить боялся!
– Ты, Марфа Ивановна, не ори. Вдругорядь тебя без юбок в подвал спускать будем - не застрянешь! - пригрозил обер-полицмейстер. - Ну-ка, вспоминай, где он может обретаться!
– Да мало ли?… Это, может, Герасим в «Негасимке» знает.
– Кабы знал - сказал бы, не таков он дурак, чтобы Каина покрывать.
Марфа задумалась.
– Гляди, не поленюсь каменщиков позвать. Давно собирался лестницу вниз расширить и ступеньки переложить, больно покривились. А для меня они работать быстро станут.
– У него раньше были всякие логова в Замоскворечье, - неуверенно сказала Марфа. - И за Яузой где-то. Может, до сих пор там верные людишки остались?
– За Яузой, говоришь? - Архаров вспомнил доклад Яшка-Скеса. Каин, принеся утром Марфе сухарницу, отбыл как раз в том направлении.
– Да спроси ты, сударь мой, Герасима! Грызика спроси! У него маруха за Яузой живет! И Иван Иваныч мой Грызика как-то поминал!…
Теперь Архаров вспомнил последнюю встречу с Демкой. Демка поминал Грызика, который должен бродить в потемках вокруг «Чесмы». Мало ли на Москве шуров - а тут оба, Марфа и Демка, одного человека вспомнили.
Лицо у Марфы, вспомнившей про Грызика, было беспредельно счастливым - она смогла-таки услужить обер-полицмейстеру и отклонить от себя его праведный гнев. А за шуром набегаешься, пока изловишь. Коли он работает на Каина, то будет скрываться от посланцев с Рязанского подворья, даже Скес не сумеет его отыскать. Ловка Марфа, нашла, на кого все свалить…
Однако Архаров вычитал на ее лице кое-что, для нее вовсе неожиданное.
– Стало быть, Грызик от тебя к нему записочки носит?
– Да сударь мой, Николай Петрович!… - Марфа начала было спорить, да осеклась - вспомнила про подвал.
– А без записочек никак - должна ж ты ему сообщать, каково кофейная ваша пакость продвигается. Чтоб знал, с кем ты в свете познакомилась, кто тебя погадать зазвал, за которым домом присматривать. Не бегал же от к тебе каждый день спозаранку на огород! Ну?
– Грызик… - призналась огорченная Марфа.
– Коли так - сейчас поедешь домой и напишешь записку. Кто их от тебя Грызику передает - Наташка?
– Тетеркин… Он на торгу резные игрушки продает, Грызик к нему подходит…
– Ловко. Сейчас тебя отвезут домой - и чтоб сидели вы там все трое, ты, Наташка и Тетеркин, тихо, как мыши в норе. Никаких знаков чтобы подать не пытались - за домишком твоим будут смотреть. Завтра отдашь Тетеркину записку. А напишешь в ней… напишешь, что была-де у господ Рукосуевых в Колобродском переулке, видела-де… ну, сама изобрети, что ты там такое видала… с алмазами непременно…
Тут по Марфиной физиономии Архаров явственно прочитал - то, что передает Марфа через Грызика, мало имеет отношения к золоту и самоцветам. Может статься, все как раз наоборот - Каин приказывает Марфе, в который дом проникнуть, чтобы сбить хозяев с толку.
А передает она, коли не врет отчаянная Феклушка, записки от графа Матюшкина или его дражайшей супруги.
Додумавшись до этого, Архаров обрадовался. Понемножку ему удавалось сводить концы с концами.
– Или доложишь, что господина Матюшкина дома не случилось, не смогла ты от него записочку взять…
Марфа ахнула.
– Что, уже не рада, что любовнику помогать взялась? - подначил Архаров. - Ты хоть понимаешь, старая ты дура, с кем Каин связался?
– Это все она, его новая маруха! Подобрал девку, ни кожи, ни рожи, меня бы попросил - я б ему получше подвела! - заговорила Марфа с необычайным волнением. - Она в модной лавке служила, по-французски говорит! Ему теперь молодую подавай, чтобы по-французски! А девка нос сует куда не след, стерва, масовка! Молоко у ней на губах не обсохло, а всюду встревает! Тоже мне хозяйка сыскалась!
– Марфа Ивановна, уймись! - прикрикнул Архаров. - Твой дружок ненаглядный с французскими мазами связался, при чем тут баба? Кто его с ними свел? Ты?
– Да сударь мой, Николай Петрович! Одного только француза знаю, да и тот - архаровец! Вот как Бог свят!
– Когда Каин объявился на Москве?
– Весной…
– Сразу к тебе ли пришел?
– Почем мне знать? Это все она, Катька проклятая, она его с французами свела!
– Часть ли ты ездила к Матюшкиным за письмами для Каина?
– Да один раз всего-то!…
– Врешь. Когда Каин впервые велел тебе ехать к графу Матюшкину за письмом? И что при том говорил? Будешь врать - поставлю на одну доску с соседками твоими и с моим Скесом, они видели тебя с Каином на огороде, на не раз. Пока Клаварош у тебя спал, ты к Каину бегала. Клаварош-то, поди, так и не знает?…
– Ох, Николай Петрович, батька мой, этого еще недоставало!
– Ну?
До Марфы дошло наконец, что она через приверженность к бывшему любовнику может чересчур многого лишиться.
– Иван Иванович мой так сказал: Марфа, есть некий человек, хочет передать письмецо графу Матюшкину, что на днях приехал, возьмись-ка.
– А ты к тому времени уже кофейницей сделалась?
– Нет еще, только училась… Знаешь, сколь кофею извела?
– Как к Матюшкиным пробралась?
– С купчихой Ананьевой сговорилась, она их сиятельствам сама перины и подушки привезла, а я - при ней.
– И потом приезжала уже как кофейница?
– Да…
– А что за некий человек? О нем Каин хоть слово сказал?
Марфа задумалась.
– Ну? Или мне Вакулу позвать?
– Он с тем человеком еще прошлым летом, поди, сошелся. Как ты его, сударь, из Москвы в тычки выставил… ты уж прости меня, дуру, я следом за ним поехала, знала, где его искать. Мало ли какое дельце, а у меня все ж его деньги были на сохранении. И там он так обмолвился - я-де человека тут видел, что всю ту кашу в Оперном доме заварил, клевый маз, хоть и басурманин. Раньше-де я его там, в Лефортове, приметил, да и он меня приметил. Может, его к тебе пришлю. Да так и не прислал, а сам объявился.
– Знак какой был?
– Знак - что человек чернявый, курчавый…
– Ты-то его видела?
– Нет, сударь.
– Так как же бы ты его признала?
– Я Ивану Иванычу перстенек с руки дала, по перстеньку бы признала, кого он ко мне пришлет. А перстенек-то Катька чертова принесла! И я ей по тому знаку дала денег.
– Через твои шалости, Марфа, я чуть на тот свет не отправился, - сказал Архаров. - Сразу бы доложила, что от Каина была весточка или что он прибыл, не сидела бы тут - дура дурой. Все, будет с тебя. Пошла вон.
– Да как же я пойду? Ты, сударь, отворотись, я юбки надену!
– На сей раз отворочусь, - сказал Архаров, придавая лицу и взору то страхолюдное выражение, которое особенно хорошо действовало на девок и баб. - Но коли успеешь подать Каину знак - на прелести твои нагляжусь, когда Вакула тебя вразумлять станет. Неделю сесть не сможешь!
Не на шутку перепуганная Марфа, схватив под мышку белые юбки, вымелась из кабинета, не попрощавшись. А обер-полицмейстер сунул в рот четыре перста и засвистел отчаянно - так, как выучил еще покойный дед.
Архаровцы в коридоре подхватили свист.
Но, посмеявшись, обер-полицмейстер призадумался. После того, как удастся разгрести все это дело с сервизом графини Дюбарри, надо бы поладить с Марфой. Обещала ж она привести к нему Наташку? Обещала. Вот пусть и держит слово. Опять же - понимает старая ведьма, что ей надобно как-то с обер-полицмейстером мириться.
При мысли о Наташке на душе несколько посветлело…
* * *
Устин сильно расстроился из-за Демкиной смерти.
А поскольку он привык нести свои жалобы в храм преподобной Марии Египетской, то и на сей раз, едва схлынула праздничная суета, ближе к вечеру побежал туда - хоть на четверть часика. Да еще и взял с собой Скеса.
Яшка потащился за Устином без особых возражений, потому что его совесть в этом деле была несколько нечиста.
Когда у Шварца пропал из чулана нож и архаровцы стали сами разбираться, кто бы мог его унести, Яшка увидел, что решительно все подозрения падают на Демку, и вздохнул с некоторым облегчением. Никто и не подумал, что это он, Скес, навел покойного Скитайлу на мысль последить за полицейскими.
Яшка просто не предполагал, что события начнут разворачиваться с такой ошеломительной скоростью. Он думал, что Скитайла, глядя на суету и беготню архаровцев, сообразит такое, что обер-полицмейстеру и на ум бы не взбрело, и полагал узнавать о действиях матерого маза через тех самых приятелей, которые снабжали его сведениями из жизни воровского мира.
И вот Скитайла, напавший на след сервиза, был убит. С одной стороны, скверно, что и этот грех повесили на Демку, с другой - никто уже не мог выдать Архарову Скеса.
И, осознавая свою полную безнаказанность, Яшка все же ощущал не то чтобы тоску, не то, чтобы угрызения скорби, - нет, скорее какое-то внутреннее неудобство.
Сложившись вместе, все обвинения погнали Демку прочь из полицейской конторы - а чем кончилось?
Смертью кончилось.
Скес по натуре был, пожалуй, самым спокойным из архаровцев - всегда у него была такая рожа, будто телом он здесь, а душой - на звезде Сириус. Там, где Федька мог бы откровенно разрыдаться, Тимофей - треснуть кулаком по чему придется, а Ваня Носатый - изругать все окрестности нещадно, Скес издавал задумчивое «хм», так что даже непонятно было, действительно ли он осознал обстоятельства.
Это равнодушие и безразличие имели ту особенность, что Скес жил вне веры, признавая разве что отдельные приметы - да и то черных котов не боялся, а число «13» даже по-своему уважал.
Теперь же в нем родилось неожиданное желание - попросить прощения у Демки. Даже не словесно - а вот как-то молча, но чтобы он там, наверху, понял. (В том, что Демка, оставив здесь плоть, куда-то перебрался и там жив, Скес не сомневался).
Вдруг показалось, что если пойти в церковь, как ходит Устин, то оттуда просьба о прощении будет Демкой услышана.
Яшка и Устин подошли к приземистому старенькому храму, и Устин, наскоро перекрестясь, устремился вовнутрь, а Скес остановился, задрав голову и разглядывая наддверный образ. Он мысленно просил позволения войти - хотя и не словами. И ждал какого-то знака, но знака сверху все не было.
Устин уже усвоил, что не следует никого тащить за шиворот в храм Божий. Он поставил свечку за упокой Демкиной души и помолился со всей горячностью и искренностью А потом пошел советоваться с преподобнй Марией Египетской.
Опустившись на колени перед ракой, он тяжко вздохнул.
– Моли Бога о нас, пресвятая угодница Марья… - прошептал он, а мысленно добавил: - И что ж я за урод такой?…
Далее молитва пошла какая-то двойная. Устин, шевеля губами, вычитывал акафист по бумажке, но внутренне рассказывал Марии Египетской совсем не то. Жаловался он, что никак не получалось наставить на путь истинный шалую Дуньку, да и вообще ничто святое ему не дается, хоть тресни. Вспомнить хотя бы Митеньку, чистого, просветленного, придумавшего всемирную свечу. Как было не вдохновиться прекрасным замыслом! Душа рвалась послужить святому делу - а что вышло? И митрополита Амвросия, царствие ему небесное, из-за той свечи погубили, и Митеньку убили, и сам Устин только благодаря Архарову на каторгу не угодил. Служа на Лубянке, святости не наберешься, но мысль избавить Дуньку от разврата все же была весьма хороша и праведна. И что же? Одна ругань от бешеной девки да всякий непотребный соблазн…
– Матушка Марьюшка! - взмолился Устин совсем по-простому. - Да неужто я совсем дурак?… Или ж меня гордыня дурацкая одолела? Да и кто я таков - о деяниях старца Виталия помышлять?… Ему-то Господь дал силу блудниц от блуда отвадить, мне вот не дает - недостоин бо, грешный… Как же быть-то?…
Угодница молчала - то есть, ни единой мысли в ответ на сумбурную мольбу в голову не пришло. И получилось, что поход к мощам напрасен - не дал он душе просветления.
– Ну, прости, что душой вознесся, - сказал огорченный Устин. - Вперед не стану. Смирения мне не хватает, вот что… о подвигах, дуралей, возмечтал, души спасать… свою бы единственную спасти…
С тем он и побрел прочь от раки, зарекаясь помышлять о деяниях святого Виталия, клянясь и близко не подходить к Дунькиному дому, и даже до того воспарил духом, что пообещал себе впредь во всем покоряться начальству, включая старика Дементьева, какую бы околесицу тот ни плел. Ибо наука смирения должна быть усвоена раз и навсегда.
Оказалось, что Яшка-Скес, который в таких случаях обыкновенно ждал на паперти, зашел в храм и с любопытством разглядывает образа.
Устин замер, боясь спугнуть трепетное мгновение. Человек, далекий от Бога настолько, что даже вообразить невозможно, пришел в храм - а почему? Потому что был некто, понемногу, деликатно, бережно доносивший до него понятие о Господе Христе, о Пресвятой Богородице, об угодниках…
Выходит, откликнулся Господь на молитвы? И дано было совершить хоть крошечный подвиг во имя веры?…
Яшка заметил Устина и подошел к нему.
– Давай я тебе все тут покажу, растолкую, - пряча безмерную радость, тихонько заговорил Устин.
– Ну, растолковывай, - несколько озадаченно позволил Яшка. - Мы тут не меньше как на час застряли.
– Как - застряли?
– Да ливень там хлещет. Вот я и зашел.
Устин повесил голову.
Опять возомнил о себе, опять все рухнуло с треском…
Однако он собрался с силами. То, что Скес попал в храм Божий, - промыслительно, значит, Господь о нем заботится и желает, чтобы он хоть поглядел на образа. Да только с чего же начать?
Вдруг Устину пришла в голову разумная мысль.
– Ну, не дурак ли я? Демку-то вспомнил, а про Харитона забыл. Пойдем, свечку затеплим за упокой Харитоновой души, - сказал он. - Коли не мы - так кто ж его помянет?
С Харитоном все было непросто.
Всякий раз, молясь за упокой его души, Устин испытывал некоторую неловкость. Он страшно сам себе не нравился той ночью, когда один с трухлявым дрыном напал на троих, отбивая Харитоново тело. Потом выяснилось, что он причинил Брокдорфу порядочное увечье. Устин испытал угрызения совести, хотя понимал, что иного выхода у него не было. Поэтому с покойным Харитошкой-Яманом сложилось нечто вроде загробной взаимопомощи. Устин молился и заказывал сорокоусты за упокой Харитоновой души - но и Харитон, со своей стороны, должен был просить, чтобы Устину простили нанесенное Брокдорфу увечье.
Яшка-Скес посмотрел, как Устин вставляет в подсвечник свечу, как бормочет, глядя на распятие, и сам захотел это проделать. Показалось ему, что Демка сверху увидит его и все поймет. Но Устин уже не возносился в гордыне, а кротко пошел покупать еще одну свечку, здраво полагая, что бабки, целыми днями не отходящие от свечного ящика, сразу опознают в Скесе некрещеного и с шумом погонят прочь. Огрызаться же он умел - и не кончилась бы склока жалобой прихожан на Лубянку… а разбираться с ней-то самому же Устину…
Переждав дождь, они пошли к полицейской конторе. Скес молчал - что-то его там, в храме преподобной Марии Египетской сильно смутило, дыхание какое-то, что пронеслось, поколебав огоньки свеч и вытянув огонь поставленной им на канунник свечки ввысь, пряменько и пронзительно. Он и понимал, что движение воздуха объясняется просто, и хотел верить, что Демка его услышал.
Молчал и Устин.
Он шел, с каждым шагом и с каждым выдохом выталкивая из себя несбыточную мечту о служении и о подвиге. Он вовсе не желал попасть в святцы, не желал также, чтобы его лик иконописцы размножили, а попы в каждом храме повесили. Ему всего лишь хотелось сотворить нечто истинно православное, но при том еще и красивое. Всемирная свеча - что может быть прекраснее? Или спасение заблудшей души? Однако и с такой мечтой приходилось прощаться. Рылом, видать, не вышел - и придется довольствоваться честным исполнением полицейской службы… поди, Господь сверху и ее увидит… в храм ходить, милостыню подавать, поститься, причащаться, все сие - как любой московский обыватель…
Надобно смириться, сказал он себе, надобно смириться. И проводить дни свои в скорби о несвершившемся. Да, именно в скорби. А не гоняться за несбыточными мечтами.
Надо сказать, что мысль о вечной скорби посещала Устина не впервые, и тут он брал за образец покойного Митеньку - вот тот умел скорбеть слезно, страдал от несовершенства мира истинно, у Устина же так не выходило. Но он всякий раз давал себе слово взяться за ум, проникнуться скорбью как полагается, теперь же и настроение было подходящее, и жажда безупречного смирения оказалась удивительно сильна, так что Устин положил себе провести грядущую ночь в молитве, и чтобы отбыть не менее сотни земных поклонов. Ему казалось - это все, чем он может послужить Господу. Служение тихое, скорбное, малозаметное для посторонних - вот отныне его предназначение…
В конторе Устина уже ждали - было для него получение: отнести в Богоявленский переулок, в дом отставного майора Поприщева две табакерки, отнятые у пойманного на горячем шура. Обе походили на ту, о коей он оставил «явочную». Следовало, не показывая, расспросить его о пропаже более подробно, а затем, коли окажется, что одна из них - его собственная, вернуть под расписку.
Время было уже вечернее, и он, более не собираясь возвращаться в полицейскую контору, взял узелок и пошел потихоньку к Богоявленскому.
Но до поприщинской квартиры он не дошел.
– Эй, молодец! - услышал он звонкий женский голос. - Тебя, тебя зову, Устин Петров!
Он обернулся и увидел Марфу. Она стояла у калитки, явно намереваясь войти, а рядом с ней вытирала платком нос молодая девка, принаряженная, как ходят в гости. В левой руке у девки был небольшой узел - как если бы в баню собралась.
Устин знал, что эту нечестивую бабу, сводню и скупщицу краденого, привечает сам обер-полицмейстер. Поэтому не отмахнулся, а подошел.
– Чего тебе, Марфа Ивановна?
– Сделай милость, постой тут с моей девкой, - попросила Марфа. - Мне зайти надобно всего на минуточку, отдать да взять, а она, сам видишь, ревет белугой, расспросы начнутся… Постой, а? Негоже девке молодой одной посреди улицы торчать. А я единым духом. А ты гляди мне!
Это относилось к девке.
Устин крайне редко беседовал с молодыми особами своего пола и понятия не имел, как это делается. В Дуньке он видел грешную душу, не более, и откровенно побаивался ее женской сути. Блудниц он знал исключительно по сценам в Священном Писании и очень смутно представлял их богопротивную деятельность. Попросту говоря, Устин еще не ведал, каково с бабой в постели, да и ведать не желал - надеясь когда-нибудь на старости лет уйти в обитель, он берег свое целомудрие. При виде красивого румяного личика он тут же опускал глаза.
Этим и объяснялось, что он не сразу признал в заплаканной девке Наташку, которую не раз и не два видел у Марфы.
Устин встал на приличном расстоянии - вроде как и при девке, но пусть все видят - дурных намерений не имеет. Она же и вовсе повернулась к нему спиной - ей было стыдно за слезы и сопливый нос.
Устин вздохнул - увидят архаровцы или десятские, шуток потом не оберешься.
Наконец девка громко вздохнула и искоса на него поглядела, прикрывая рот вышитым платочком.
Кого другого этот быстрый взгляд больших голубых глаз и взволновал бы неумеренно. Кто другой и вообразил бы, каково распускать недлинную, но удивительно густую светлую косу, схваченную сейчас внизу тяжелым старинным косником с кисточкой. Кто другой приметил бы, что девка под темно-красным топорщащимся сарафаном уже налилась, как яблочко, и в свои неполные шестнадцать созрела для ласки… Кто другой - да не Устин!
Зато она его узнала и покраснела.
Устин неверно понял причину румянца. Он решил, будто Наташке неловко, что ее все видят посреди улицы с кавалером.
– Ты, сударыня, потерпи, сейчас Марфа Ивановна придет, - сказал он любезно, однако глядя мимо девичьих глаз.
– Да хоть бы и вовсе не приходила… - отвечала Наташка. - Господи, куда ж деваться-то?…
Этот отчаянный вскрик смутил Устина.
– А что за беда? - спросил он, охваченный внезапной и очень острой тревогой.
– Да то и беда, что она меня… просватала…
– Так коли просватала - радоваться надобно, честный брак для девицы - это спасение. Ибо сказано про жену, что спасется через чадородие, - бойко заговорил Устин, уверенный, что сейчас вот успокоит расстроенную Наташку, а это - доброе дело, глядишь - и зачтется. - Через святой венец благодать нисходит…
– Какой венец?! Какой венец?!. - и девка снова заплакала.
– А что же? - Устин в тот миг начисто забыл Марфину репутацию и искренне удивился, подумал даже, что Наташка от девичьей стыдливости малость с ума сбрела.
– А то, что сосватала без венца! С богатым человеком сегодня сговорилась!
– И что же?
– И меня к нему домой ведет! И заступиться некому - сирота я! Мне добрые люди сказывали - она так-то растит сироток, а потом и продает… или в ремесло отдает, в бабье…
– Ах ты Господи! - тут лишь до Устина дошла суть беды.
Наташка достала платочек и высморкалась.
– Нет, нет, так нельзя, я с ней потолкую, я господину Архарову расскажу про ее пакости! - заговорил возмущенный Устин. - Он ее к порядку-то призовет!
– Не смей, хуже сделаешь! - новый испуг оказался, видать, покрепче прежнего страха, у Наташки и слезы на глазах высохла. - Она меня тогда со свету сживет, я ее знаю! Одна только Дунька от нее избавиться сумела! Да и так на прощание изругала - хуже пьяного извозчика.
– Так неужто господин Архаров…
– Ох, молчи ты, Христа ради…
– Так коли молчать - что с тобой станется?
– А то и станется, не первая я, не последняя… Защитников у меня нет, она - одна защитница. Она-то, я знаю, нипочем не бросит, она своих девок не бросает. Знать, судьба моя такая проклятая… - печально сказала девка. - Меня Марфа Ивановна кормила-поила, хозяйству и рукоделиям учила. И знала ж я, для чего она меня готовит, научили добрые люди. А деваться-то и некуда… Теперь вот прибежала домой, давай меня впопыхах собирать! Сказывает, человек-то он богатый, сможет обо мне позаботиться… старый, правда, и толстый, как боров…
– Так ты что же, раньше-то… то есть, сейчас… то есть, до сего дня?… - Устин покраснел, не зная, как спросить Наташку о соблюдении девства. Но она поняла.
– Так он за то меня и хочет взять, что я себя соблюла, ему такая и надобна, а Марфа Ивановна говорит - золотом меня осыплет, сарафанов накупит, серьги большие с алмазами - за то лишь, что у меня до него никого не было… так я уж и не знаю, она мне дурна не пожелает…
– Дура ты, дура, - сказал Устин. - Тебя ж потом замуж никто не возьмет.
– Марфу Ивановну же взяли. Да еще свахи ей пороги обивали, - возразила Наташка. - Она сама сказала, что это уж вернее всего - коли я ему полюблюсь, он меня и замуж отдаст… а все равно - страшно… боюсь я его, прямо обмираю…
– Ты его знаешь?
– Да уж видала… - уклончиво отвечала Наташка. - Она перед ним провинилась чем-то, вот мной грехи замаливает…
– Да кто ж он таков?
– Твое какое дело? - и Наташка отвернулась.
Даже сейчас, заплаканная, она была удивительно хороша. Такую девку - да какому-то сладострастному старому борову? В Устине все вскипело. Он готов был своими руками удавить Марфу. Девство - да его же наперекор всему беречь надо!
Опять давнее желание свершить подвиг во имя чего-то необъятного и слепяще-светлого овладело Устином. Но он уже стал чуточку иным. И не сразу вспыхнул, понесся на огонь, не разбирая дороги, а взял себя в руки и задал Наташке еще один вопрос:
– А сама-то ты как? Замуж хочешь - так, как полагается, по-христански? Чтобы без всякого борова?
– Да кто меня сейчас возьмет? Сейчас-то я бесприданница, да и знают свахи, что я при Марфе… они, поди, до поры ко мне и не сунутся, а когда будет приданое, понабегут… Уйди ты, молодец, не трави душу! - вдруг вскрикнула она.
Отродясь красивая девка не называла Устина молодцом.
– Лет тебе сколько? - спросил он.
– К Успенскому посту шестнадцать будет.
– Шестнадцать… - задумчиво повторил Устин.
Решение было принято - безумное и прекрасное.
– А что тебе до того? - спросила Наташка.
– За меня замуж пойдешь?
– За тебя? Ой… Матерь Божья, за архаровца!…
– Я тебе серег с алмазами дарить уж точно не стану, - сказал Устин, - а под венец поведу. Вот и выбирай… денежки или честный брак по-православному… под венец…
– Так я ж с тобой и словечком-то не перемолвилась! Кто ты таков, откуда взялся - ничего ж не знаю! - вдруг разволновавшись, заговорила Наташка. - Архаровец - и все тут! А кто таков… живешь с кем… родня откуда… ну ничего ж не знаю…
– Нет у меня никакой родни, - признался Устин. - Был бы я вроде нашего Федьки, косая сажень в плечах, спросил бы, как полагается: девка, я тебе люб? А так - сама видишь, вот он я весь… и все, что могу - это под венец тебя повести… больше, наверно, и ничего…
Девка смотрела на него, смотрела, вдруг покраснела отчаянно и прошептала:
– А больше и не надо…
И тут Устину вдруг стало страшно.
Судьба его решилась. Отступление было невозможно.
– А коли так - пошли! - воскликнул он и схватил Наташку за руку. - Не бойся ничего, мы тебя защитить сумеем!
– Да кто - мы?
– Увидишь! - он забрал не слишком тяжелый узел.
Так же внезапно, как страх, на него накатило совершенно несуразное веселье.
– Бежим, бежим! - кричал он, дергая Наташку за руку.
И побежали!…
Отродясь Устин так не бегал по Москве. Даже когда приходилось по службе. А сейчас ему казалось, что он способен обогнать породистого скакуна, казалось даже, будто некие ангелы, держа его сверху за ворот, несут по улицам, не позволяя упасть, а другие ангелы несут Наташку, и этот праздник размашистого и торжествующего бега прервался лишь у крыльца Рязанского подворья.
У крыльца стояли архаровцы - Степан Канзафаров, Клашка Иванов, Макарка, Евдоким Ершов, с ними же был выбравшийся подышать свежим воздухом Кондратий Барыгин. Они рассуждали, что обер-полицмейстер, поехавший к князю Волконскому, мог бы уж и вернуться.
Узнав здание, Наташка стала вырываться.
– Ты куда это меня тащишь? - закричала она. - Не пойду и не пойду!…
К крыльцу как раз подкатил архаровский экипаж, остановился, и лакей Иван, соскочив с запяток, распахнул дверцу.
В проеме воздвиглась плотная фигура Архарова.
– Ахти мне! - вскрикнула Наташка.
Ее испуг был Устину понятен - на Москве обер-полицмейстера боялись, а про подвалы вообще рассказывали страшные небылицы. О том, что Архаров нередко бывал у Марфы, где та же самая Наташка могла видеть его добродушным и разговорчивым, Устин как-то не подумал.
– Ваша милость! - завопил Устин, кидаясь к каретным ступенькам и не отпуская при этом Наташкиной руки. - Благословите жениться!
Архаров, занеся ногу над нижней ступенькой, так и остался стоять, приоткрыв рот.
Но длилось изумление недолго. С помощью Ивана он спустился, встал на твердую землю и уставился на странную пару - своего неказистого служащего и красавицу Наташку. Взгляд невольно оказался до того тяжел и переносим, что Наташка ахнула.
Она убежала бы, она растолкала бы архаровцев и унеслась, все равно куда, но Устин, которым, видно, в сей день руководил некий разумный ангел, обнял ее за плечи и прижал к себе тем единственным объятием мужчины, мужа и защитника, которое ни с каким иным не спутаешь. И она, почуяв себя в некоторой безопасности, уткнулась лицом в Устиново плечо.
– На ней, стало быть, жениться вздумал? - переспросил ошарашенный Архаров.
– На ней, ваша милость!
– И когда ж сговорились?
– Да прямо сейчас и сговорились! - выпалил ошалевший от своего мужества Устин.
Архаров помолчал. К такому повороту событий он готов не был. Опять же, Марфа божилась, что Наташка охотно пойдет жить на Пречистенку… врала, опять врала, проклятая баба… да и полицейские глядят на потеху круглыми глазищами, вот ведь незадача…
– А ты, девка? - спросил он. - Охотой ли за моего молодца идешь?
– Так коли под венец зовет! - отвечала, вдруг осмелев, Наташка. - А я уж от него не отступлюсь!
– А то погляди - вон у меня какие орлы… - Архаров повернулся к подчиненным.
– Нет, нет, я уж решилась!
И Наташка прижалась к Устину всем телом. Он же стоял перед обер-полицмейстером, обхватив невесту правой рукой и глядя перед собой на удивление твердо и уверенно - как и должен глядеть мужчина, готовый защитить свою избранницу от любого покушения. Ему самому это было странно - а в ушах загремело вдруг радостное «Гряди, гряди!…», и он понял, что на небесах уже венчают его с Наташкой, и все сложилось настолько внезапно и радостно, что остается только принимать распахнутым сердцем, не боясь, способно ли оно вместить вместо необъятной скорби столь же необъятное счастье. И как еще способно!
Устин был готов противостоять и Марфе, и тому неведомому борову, и целому свету - ибо златые венцы того стоят. И он в своем противостоянии был не один. Их стало двое - жених и невеста, будущая семья. А за ними выстроились их незримые дети, уже взрослые почему-то, и дивным образом сделались видны всем, кто на тот час стоял у крыльца Рязанского подворья.
Архаров хотел было еще раз спросить Наташку - но ее лицо сказало ему более, чем любые слова.
Девушка с такой гордостью глядела на Устина, как будто говорила: Господи, вот счастье-то, что этот необыкновенный, замечательный человек выбрал меня и поведет под венец!
– Ишь ты… - сказал Архаров. - Ну что же… совет да любовь! На свадьбу-то позвать не забудь. Ну что, молодцы? Ура жениху и невесте?
– Ура! - отвечали архаровцы.
* * *
Обер-полицмейстер не любил, когда погода выкидывала коленца. Он сам был склонен к постоянству и того же требовал от погоды. А она, как назло, буянила и кобенилась напропалую.
После отчаянной жары грянул наконец дождь, вроде похолодало и полегчало, но к вечеру опять стало душно. Когда он явился домой, голова была совсем дурная. И только одна мысль освещала смутную душу, как лампадка: Господи, как хорошо-то будет, когда праздник окажется уже позади!
Ходынский луг опустеет, рабочие разберут все былое великолепие, корабли и крепости обратятся в доски и будут сложены на телеги. Князь Волконский желал употребить праздник на пользу делу - коли туда навезли несчетное количество возов песка, чтобы устроить «полуостров Крым», то будет чем засыпать колдобины. Луг следует выровнять и дать ему порасти травой, а на следующий год там уже можно ставить военный лагерь и проводить солдатские учения.
Главное же - полицейские, которые теперь заняты на празднике, вернутся в контору и займутся делами - ведь шуры и мазы не все пошли победу над турками праздновать, иные радуются, что некому их в Москве ловить, и шалят…
Левушки и Лопухина дома не было. Оба шастали по гостиным, вели светский образ жизни. Архаров с необъяснимым злорадством подумал, что баловство их скоро кончится - вернутся оба голубчика в полк и приступят к выполнению офицерских обязанностей.
Он заглянул к Меркурию Ивановичу узнать - не было ли известий от Саши.
Известий не было, и Архаров принял приглашение домоправителя выпить по малой стопочке. А потом как-то вышло, что Меркурий Иванович взял скрипку и заиграл, Архаров же сел на табурет, привалившись к стене, и через минуту уже перестал слышать музыку. Это с ним бывало обыкновенно, когда одолевали размышления.
Размышления же были малоприятные. Клубок злодеяний почти распутался, но изловить главных злодеев обер-полицмейстер пока не мог.
Их было двое - загадочный француз и Каин.
Насчет Каина Архаров не сомневался - рано или поздно шур Грызик явится к инвалиду Тетеркину за Марфиной записочкой. Можно бы и Скеса послать на поиски Грызика, но черт его разберет - мало ли что наобещал шуру Каин? Этим осведомителям можно было доверять лишь до появления любезного Ивана Ивановича…
Проклятые крысы!
Кто ж для них кот, черт бы их всех побрал?
А вот насчет француза были преогромные сомнения.
Архаров начал с самого начала - с письма де Сартина о пропавшем сервизе. Письмо оказалось ловушкой. И ловушкой, придуманной высокопоставленными особами. По времени замысел совпал с похищением авантурьеры из Ливорно.
То, что в злодее, бегавшем по Москве в полицейском мундире и убившем Абросимова, опознали штукаря, служившего шулерам, сперва казалось несуразным - зачем же де Сартин просил Архарова изловить шулеров, коли в их притоне нашел приют французский агент? Но если вспомнить, что рассказывал покойный Захаров про «Секретный кабинет» французского короля и про его личных шпионов, которые оказались не у дел и затаились, то все вставало на места.
Этот шпион, по стечению обстоятельств бывший еще и ловким штукарем, в нелегкое для себя время познакомился с Дюкро-Перреном и выдал себя за итальянца. Притон в Кожевниках был для него просто замечательным местечком - туда съезжалось немало знатных особ, и хотя Москва - не Санкт-Петербург, придворные новости являются тут с двухнедельным опозданием, однако можно свести знакомство с людьми, которые имеют множество почтенной родни и не сегодня-завтра окажутся при дворе. Опять же, в притоне, за игрой, да еще ублажаемые французскими девками, они много чего могут наболтать.
Если допустить, что «черт», надававший оплеух крепостным актерам и проявивший заботу о голштинце Брокдорфе, был тем самым мнимым итальянцем, то многое становится ясно в заговоре князя Горелова. Горелов мог сойтись со шпионом в Кожевниках и стать игрушкой в его хитроумных руках.
И то, что «черт» оказался на придворном маскараде, куда пускали по приглашениям, подтверждало догадку: он имел-таки знакомства среди московской знати, и кто-то раздобыл для него приглашение. Может статься, Матюшкины. А коли так - то не стоит ли за Матюшкиными французский посланник, господин Дюран де Дистроф? Сие выглядело куда как соблазнительно…
Далее - этот «черт» отнюдь не был ленив. Он сам присматривал за всем, что связано с золотым сервизом. Когда возникла опасность, что сервиз будет найден Скитайлой, «черт» убрал Скитайлу, да так ловко, что и следов не сыскать. И далее он, как кукольник, дергающий фигуры за ниточки, разыгрывал пьесу: то треть сервиза появлялась, то сухарница. А все затем, чтобы вызвать у Архарова ярость и азарт. Тут он правильно рассчитал - и ярость, и азарт явились, как по зову…
Только вот где его теперь искать?
О том, как вышло, что спелись французский шпион с Каином, Архаров пока не думал. Но полагал, что некоторую роль в этом неожиданном содружестве играл граф Ховрин - ныне покойный. Для чего он притащился на Пречестенку, переобевшись иноком, да еще и прихватил с собой свою девку, знал, возможно, только он сам.
Ховрин, как и князь Горелов, много набедокурил в компании шулеров. «Черт», пожалуй, такое про него знает, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И с Каином у Ховрина было занятное знакомство - хитрый Каин заморочил ему чем-то голову и захватил его в плен. Опять же - вместе с девкой… тьфу!…
Архаров внезапно разозлился и на себя, и на Меркурия Ивановича, чью музыку вновь услышал. Это скрипка навевала дурацкие воспоминания! Потому он резко встал и вышел, не сказав ни слова, из комнаты домоправителя.
Когда обер-полицмейстер пришел к себе в спальню, за окном уж стемнело, и он был очень сам собой недоволен - собирался же лечь пораньше. Даже ругнул Никодимку - зачем камердинер не присмотрел за барином и вовремя не позвал его спать.
Постель была свежа, прохладна и приятна - льняные простыни отрадны летом, в них горячему телу - блаженство. Архаров снял с себя решительно все и растянулся, раскинул руки, бормоча: хорошо-о-о…
Никодимка поскребся в дверь.
– Чего тебе, дармоед? - спросил уже засыпающий Архаров.
– Ваши милости, к вам Арсеньев просится.
– Какого черта… гони в шею…
– Сказывал, дело наиважнейшее.
– Ну, пусти…
Вошел Тимофей, поклонился.
– Ваша милость, беда.
– Что такое?
– Учителишку убили.
– Какого еще учителишку?
– Который кавалером де Берни притворялся.
Архаров, как был, голышом, выметнулся из-под льняной простыни и сел.
– Рассказывай, что там вышло!
– Ваша милость, десятские подвели. У нас было назначено, кто за тем домом в Скатертном присматривает. И даже на время праздника присмотр был. А после праздника - людей не дозовешься. Это дармовое вино на Ходынке мы еще неделю расхлебывать будем.
– Коли не более… - буркнул Архаров, вспомнив Козье болото, как раз на полпути от города к Ходынскому лугу. Оно порой возвращает покойничков совершенно неожиданным образом…
– Так, ваша милость, сейчас-то наш человек там на пост заступил. И, как в доме поднялась суматоха, тут же туда пробрался. Я его с собой привез, он внизу, в сенях, ждет.
– Веди сюда, - и Архаров, в ожидании десятского, поглядел было на шлафрок, ужаснулся - в нем весь на пот изойдешь! - и завернулся в простыню на манер фигуры древнего победоносного грека, которых на Ходынском лугу было целое войско на фронтонах деревянных храмов.
Десятский оказался худеньким молодым человеком, лет шестнадцати, сильно смахивал на Сашу Коробова и вид имел взъерошенный - вздернутый нос, выбившийся из прически хохолок надо лбом, смешная манера вскидывать голову, словно пытаясь боднуть затылком кого-то незримого.
– Вот, ваша милость, студент…
– Сам вижу, что студент. Эти мне московские мещане… Нет чтоб плечистого молодца в десятские выставить - они детей присылают… Как звать?
– Ильей Чурсиным, - ответил за юношу Тимофей. - Он у нас новенький, старается, а живет там же неподалеку.
– Докладывай, Чурсин. Только не про свои похождения, как ты стоял да как ты бегал, а про покойника.
Десятский открыл было рот, пораженный обер-полицмейстерской проницательностью, да тут же захлопнул.
– Я, ваша милость, их сторожа расспрашивал. В доме внизу живут вдова Матрена Огаркова с малолетними внуками, две ее дворовые девки, стряпуха, сторож, верхнее жилье сдали полковнику Шитову с семейством. Так жильцы все, и с детьми, поехали в гости, а француз-учитель дома остался. Вернулись и для чего-то к нему заглянули. А он лежит мертвый. Сторож божится, что никто чужой в дом не приходил.
– Это, ваша милость, злодей тем же путем через крышу пробрался, которым сам француз выходил, - перебил Тимофей.
– Сдается, так. Далее.
– Они шум подняли. Я вошел и посмотрел на тело. Они на нем камзол расстегнули, грудь открыли… я ранку малую видел…
– Вот, вапа милость. Опять стилет.
– Да и без стилета ясно, чья работа…
– Нет, ваша милость, - вдруг объявил Тимофей. - Мы знаем, что злодей навычен стилетом колоть. А кто французишку заколол - того мы не знаем.
– Это как же?
– А так, ваша милость, что стилет, из чулана украденный, до сих пор неведомо где.
Архаров задумался.
– Тебе когда велено было на пост заступать? - спросил он Чурсина.
– Как стемнеет, ваша милость, и до рассвета ходить.
– Когда пришел - никого из наших не видел?
– Нет, ваша милость.
– А ты всех полицейских в лицо знаешь? Может, был полицейский в мундире, с кем ты не знаком?
Архаров имел в виду до сих пор не найденного Семена Елизарьева.
– Нет, ваша милость… не было такого…
– Прелестно. Тимоша, узнай, кто из десятский пьяный валялся. Может, его с умыслом напоили. Ступайте теперь оба.
Тимофей увел десятского, ошаршенного тем, что угодил в спальню самого обер-полицмейстера и видел сию важную особу завернутой в простыню.
Архаров же крепко задумался.
Почему закололи безобидного французишку - понятно. Он мог опознать «черта». Стало быть, «черт» чует, что ему наступают на пятки. Кто еще мог бы его опознать? Епишка Арсеньев? Марья Легобытова? Но Епишку и Марью не выпускают с Рязанского подворья, хотя детишки всем изрядно надоели. Родня Семена Елизарьева, которая знает его как Антона Афанасьевича Фалька? Нет, тех он крепко запугал…
Стилет, будь он неладен…
Его мог вынести Демка и зачем-то передать Семену Елизарьеву. Мог вынести и Семен - он, как оказалось, приходил навещать старых приятелей. А мог быть и кто-то третий…
Этот третий сидел, затаившись, а чего ждал - непонятно.
Поскольку интрига вокруг блудного сервиза разлетелась в пух и прах, все ее участники притихли. По крайней мере, должны притихнуть и выждать время, чтобы стало ясно, какими сведениями полиция располагает, а до каких не добралась.
Если в полицейской конторе сидит этот третий, вооруженный стилетом, то какой в его действиях смысл? Для чего он стянул именно этот необычайный клинок?
А смысл таков: коли будет найдено еще одно тело с особой трехгранной ранкой на груди, против сердца, то и это убийство спишут на загадочного «черта», которого будут искать, хотя он к тому времени будет, может, уже в Париже. А неуловимый третий, так и останется служить, вынюхивая полицейские новости и исправно донося их до противника.
И получалось, что снова под подозрением - все…
С этой мыслью Архаров провалился в неприятный, чугунный какой-то сон - и не на шутку перепугался, когда ощутил, что ноги его придавлены каменным одеялом, тяжесть ползет к горлу. Он во сне стал читать «Отче наш», проснулся, понял, что ночной кошмар удалось одолеть, и заснул снова, уже более мирно.
Утром в спальню заглянул очень довольный Никодимка.
– Господин Коробов вернуться изволил!
– Прелестно! Тащи его сюда!
– Так ваши милости, он к рассвету прибрел и чуть на крыльце не повалился! Спит теперь без задних ног! А грязен-то - как прах! Мы уж с него чулочки сняли, а чулочки в углу поставить - так сами стоять будут! И кафтанчик его нарядный чуть не в навозе вымазан…
– Где ж его нелегкая носила? Подавай кофей скорее. Как на дворе?
– Денек жаркий будет, так я вашим милостям опять окрошечки привезу! Ледяной, с семужкой или с севрюжинкой! Нешто в «Татьянке» такую окрошку подадут, как ваши милости любить изволят?
И Никодимка, счастливый оттого, что все в доме благолепно, и хозяин мирно настроен, и секретарь приплелся живой и невредимый, побежал прочь - чтобы черед несколько минут явиться с серебряным подносом.
Он стал сервировать фрыштик. Архаров схватил сладкий сухарик и, не дожидаясь кофея, начал его грызть.
Неожиданно под кроватью пискнуло и завозилось.
– Черт знает что! - воскликнул Архаров. - Никодимка!!! Дармоед! Мыши среди бела дня в спальне пищат! Полон дом дворни - некому кота, что ли, принести?!
Никодимка прекрасно знал - грызуны завелись от архаровских любимых сухарей. И знал, что Архаров осознает свою вину в этой неприятности. Поэтому он молча вышел и вернулся с лакеем Иваном. Иван держал наготове большой веник, тут же опустился на колени и принялся старательно выметать крошки, забирась в самые дальние подкроватные уголки. И тут послышалось тихое шипение.
– А ну, вылазь, вылазь! - загребая веником, потребовал Иван.
Из-под кровати выглянула усатая взъерошенная рожица - и тут же Архаров, нагнувшись, ловко подхватил котенка под брюшко, поставил на простыню.
Котенок чувствовал себя, впрочем, весьма уверенно - стоял, задрав хвост, и глядел на Архарова очень знакомыми раскосыми глазищами.
– Извольте, ваша милость, я заберу, - сказал Иван. - В людской девки завели, а она, дурочка, сюда забежала.
– Погоди забирать, - велел Архаров. Котенок ему нравился, хотя был невыразительной дворовой масти - в серо-бурую полоску, лишь на мордочке внизу - белое пятно. Котенок откуда-то знал, что тут ему - самое место.
Иван вновь полез веником под кровать и вымел придушенную мышь.
– Ишь ты! - сказал он. - И точно, что мышеловка. Девки сказывали, ее матка тем славится.
– Девки пусть другую кошку заводят, - распорядился Архаров. - Эта пока тут поживет. А звать ее будем… Дунька. Дунька!
Котенок самоуверенно глядел на Архарова зелеными глазищами. Примерно так же, как другая Дунька в тот первый раз, когда примчалась сюда, незваная-непрошеная.
– Привыкнет, - сказал Иван. - Мышеловки умные. А бывают кошки-крысоловки, те в большой цене.
– Ступай, - велел Архаров. - Стой. Пусть с кухни плошку молока принесут.
Явление котенка было кстати - добрый ангел подал знак.
– Потому что они - крысы, а мы с тобой - коты, ясно? - объяснил зверьку Архаров и одним пальцем почесал под мордочкой. - Господин Тучков проснуться изволил?
– Их милости спят, а господин Лопухин спозаранку кофею спросили и лежат с книжицей в постели, - доложил Иван. - Даже вслух читать изволят по-всякому.
– Как это по-всякому?
– На разные лады. То горестно, то весело, и даже вроде как петь изволят.
– Дуралей, это они вирши декламируют! - блеснул познаниями Никодимка.
– Тучкова - будить и ко мне гнать в тычки, - распорядился Архаров. - И без нежностей! Я вас знаю, он у вас любимчик.
Это было чистой правдой - вся архаровская дворня Левушку обожала. Как-то он, шумный и на первый взгляд весьма легкомысленный вертопрах, умудрялся привязывать к себе людей - архаровцы тоже стали его лучшими приятелями.
Но Тучков ворчал сквозь сон, лягался, и к тому часу, как Архаров уже был готов выезжать, его не удалось извлечь из постели.
Архаров был этим сильно недоволен, а тут еще пришел кучер Сенька, тоже очень сердитый, и сказал, что коли и дальше ездить по колдобинам Ходынки, то экипаж и вовсе развалится, а так - лишь чеку потеряли да с рессорами нечто страшное творится. Выезжать на карете, которая может рассыпаться на ходу, он категорически отказался, однако обещал с помощью Михея и Тихона к обеду все починить.
– Ладно, как починишь - сразу и езжай к конторе, - велел Архаров. - А сейчас раздобудь мне извозчика, да почище.
Оказавшись в палатах Рязанского подворья, он первым делом вызвал к себе Шварца.
– Слыхал новость, Карл Иванович?
– Ваша милость имеет в виду мусью Дюбуа?
– Да, французишку. Докопайся, кто из десятских должен был там вечером бродить, отправь в подвал пьяную скотину! Все ж им растолковали, показали, как там можно по крыше лазить! Нет же, праздник они справляют! Турку они одолели! Сукины дети…
Немец всей физиономией дал понять, что чувства обер-полицмейстера он разделяет.
– А с утра Коробов вернулся. Проспится - наверняка что-то важное доложит. Не иначе, они с Федькой того шута горохового выследили! Это было бы кстати, да только знаешь что, Карл Иванович? Сдается, я уже с ума съехал малость, - признался Архаров.
– Каковы признаки умопомешательства вашей милости? - деловито осведомился немец.
– Француза стилетом закололи. Кто - неведомо… молчи! Ты не первый год в полиции служишь! Убийца следов не оставил, и записки - я-де сотворил - также нет. Это мог быть и наш «черт», который стоял за прошлогодними проказами князя Горелова, но мог быть и тот, кто стянул из твоего подвала стилет. Демки уж нет, царствие ему небесное, но где-то ж тот стилет обретается? Коли не Демка его взял и не Елизарьев - статочно, кто-то из наших? И вот теперь надобно собирать людей, чтобы изловить наконец того штукаря, а я сижу сейчасс тобой в кабинете и боюсь звать их сюда! Понимаешь? - взволнованно спросил Архаров. - Как погляжу в их рожи - так все, мать бы их, праведники, все честно служат! А кто-то один - со стилетом за пазухой… И в самый неподходящий миг сие объявится! Что скажешь?
Шварц молчал.
– А я гляжу на них - и в упор этого сукина сына не вижу…
– Ваша милость, коли это кто-то из наших служащих, то он бы уж давно убил сына Тимофея Арсеньева и Марью Легобытову, которые имели несчастье видеть убийц Федосьи Арсеньевой, - рассудительно молвил Шварц.
– Ох, еще и та Федосья… Скажи, Карл Иванович, это ж какую черноту души надобно иметь, чтобы использовать труп вроде метки на заборе - сюда, мол, пожалуйте, по ступенечкам, не споткнитесь, вот тут нечто любопытное вас ожидает! - воскликнул Архаров, некстати разволновавшись.
Он сам себя превосходно понимал. Это была тревога, предвещавшая завершение долгого и малоприятного дела. Сейчас малейшая ошибка была недопустима. И он не стыдился своего беспокойства - тем более, что знал: сейчас Шварц скажет нечто разумное и придется угомониться.
– Да, ваша милость, не всякий додумается переодеть бабу в мужской армяк и завести ее в подвал для того лишь, чтобы мы проявили в сем подвале ожидаемое любопытство. Но следует помнить, что злодей уже знали, чья она жена, и главной их целью было поставить ловушку на Костемарова, сделав его пребывание в полицейской конторе невозможным.
– А что до Епишки и Легобытовой, так они весь день на дворе, все их видят, ночью же Барыгин их запирает. Так что, коли стилет у кого-то из наших, ему еще надобно исхитриться. Хотя именно сейчас… - Архаров задумался.
Мысль возникла неприятная.
Если «черт» подкупил кого-то из его орлов, то именно сейчас этот «черт», вынужденный удариться в бега, может взять с собой и предателя. То есть, терять этому вероятному похитителю стилета будет уже нечего - и он перед побегом по приказу «черта» прикончит и Марью Легобытову, и Епишку, чтобы уж концы в воду.
– Николай Петрович, я уверен, что никто из служащих не подкуплен французскими злодеями, - твердо сказал Шварц.
– А я вот уже ни в чем не уверен.
– Тревога ваша, сударь, напрасна. Вы измыслили теорию, но вся эта теория пригодна лишь для дискуссии о ней. Позволите идти?
– Ступай…
До явления Саши Коробова и Левушки, которые прибыли вместе на извозчике, Архаров занимался обычными делами - выслушивал донесения, приказывал читать бумаги, распорядился взять штраф с мясников, торговавших тухлым мясом, и не слушать их причитаний о жаре и растаявшем леднике.
И выстраивал в голове прескверное здание домысла.
Раненый Степан Канзафаров рассказал то, что знал: ловкач, в коем Саша опознал шута из шулерского притона, а Федька - убийцу Абросимова, исчез. Пропасть в праздничной толпе несложно. Однако за ним бросились Саша и Федька. Саша - не боец, слабосилен, Федька - боец, но временно охромел. Они могут вдвоем выследить «черта» и позвать на помощь полицейских драгун. Отчего же они этого не сделали? Не оттого ли, что кто-то из архаровцев, нынешний владелец стилета, помог «черту» скрыться?
Дверь приоткрылась.
– Николаша, я его привез, - сказал, входя, Левушка. - Ты уж его прости, он всю ночь пешком откуда-то шел, ты бы и сам после такого променада заснул, как убитый.
– Коробов, не прячься, входи, - велел Архаров. - Садись и рассказывай скорее, что там у вас вышло.
– Простите, Николай Петрович… я три ночи не спал… - жалобно сказал Саша. - Только в телеге немного, да вот сейчас часа, наверно, два… И пахнет от меня прескверно…
– В баню потом пойдешь. Докладывай кратко: где сейчас этот злодей?
– Кабы я знал! Ваша милость, мы с Федей сопроводили его до сельца, Федя в тех краях отродясь не бывал, сельцо малое, дворов с полсотни, а я тоже, хоть и коренной москвич…
– Прелестно. Как же мы его найдем?
– Я, ваша милость, путь запомнил. Позвольте, нарисую.
Как всегда, чернила в чернильнице на архаровском столе высохли, а при попытке все же нашарить их на самом дне перо уткнулось в еще живую муху. Послали в канцелярию, и очень скоро Саша уже чертил ровные линии.
– Вот тут, ваша милость, село. От него идти берегом против течения, и там баба держит перевоз. Она меня научила - вон там, говорит, будет Тушино, и за Тушиным выйдешь на большую дорогу, и по ней прямиком до Москвы, а ехать верст пятнадцать.
– Так ты ехал?
– На чем же, Николай Петрович? Даже телеги не случилось попутной. К тому же, ночь. Кто не спит - тот, поди, на Ходынском лугу еще гуляет. Я шел - так шум слышал, фейерверк видел.
– Что ж ты у бабы не спросил, как сельцо зовется?
Саша вздохнул и развел руками.
Архаров посмотрел на план и велел канцеляристу Щербачову как следует покопаться в шкафах. У него были подробные планы многих московских кварталов - те, кто желал строиться, не могли и сарая поставить без разрешения из полиции, а приносимые ими рисунки так и оставались в полицейском хозяйстве. Однако ж сельцо явно было за московскими пределами.
Щербачов принес, что нашлось, выложил на столе, и тогда в кабинет поочередно пошли все, кто на тот час были в конторе. Каждому Архаров показывал планы, проводил пальцем и говорил:
– Ходынский луг проехали, Всехсвятское проехали, что у нас там дальше?
Ваня Носатый сам сделал Саше несколько вопросов и вывел пальцем дугу.
– Вот как он шел, ваша милость. Через Тушино к перевозу, а сельцо то - либо Строгино, либо Троице-Лыково, я там живал.
– Побудь тут, глядишь, еще чего припомнишь, - велел Архаров. - Далеко ж он забрался. Мы, москвичи, такого села сразу не вспомним, а он, черт французский, нашел! И что - Федька там остался следить?
– Да, ваша милость. Он лошадь из телеги выпряг, коли что - на лошади гнаться будет.
– Постой… А где вы телегу с лошадью взяли?
– Ох, Николай Петрович, не поверите - увели…
– Архаровцы! - завопил радостный Левушка. - Натуральные архаровцы!
– Ваня, ты те края знаешь? - спросил Архаров.
– Как не знать. Я, ваша милость, из крепостных графа Разумовского, потому и в Троице-Лыкове бывал, это их владение.
Ваня сообщил это преспокойно, уверенный, что обер-полицмейстер его бывшему барину не выдаст. И он был прав - Архаров почитал себя чем-то вроде монарха Рязанского подворья, и как спокон веку не было выдачи с Дону, так не было выдачи и из полицейской конторы - за тех, кто там прижился и служил честно, Архаров был готов воевать хоть с Разумовским, хоть с графом Паниным, хоть с фаворитом.
– Сядь с Коробовым, пусть он тебе растолкует, как они с Федькой туда забрались и где их нелегкая трое суток носила. Сашка, возьми бумаги побольше, все запиши и зарисуй.
– Ваша милость, упустим! - воскликнул Саша. - Я всю ночь шел - так одному Богу ведомо, там ли они еще, или за ночь еще куда убрались!
– Ступай и разберись сам, где ты все эти дни шатался! - прикрикнул Архаров. - А когда и как злодеев брать - это уж позволь мне знать!
Он остался в кабинете с Левушкой.
– А что, Тучков, ведь придется нам с тобой вдвоем этого черта брать.
– А архаровцы?
– Что - архаровцы…
Он хотел было сказать, что среди них, похоже, есть предатель, да только махнул рукой.
Левушка посмотрел на него с великим подозрением.
Архаров уже не первый год сам с собой имел дело. Он понимал, что оттягивает тот миг, когда придется собирать всех, кто подвернется, и ехать в незнакомое сельцо Троице-Лыково. Кабы речь шла о чем-то менее значительном - не суетился бы. Но упускать «черта» он не желал.
– Кому из нас ты не доверяешь? - вдруг спросил Левушка.
– Кабы я знал…
– Мне - доверяешь?
– Тебе - да.
– Сашке?
– Да.
– Герру Шварцу.
– Да, - подумав, отвечал Архаров.
– Ване Носатому?
– Он тоже мог взять стилет.
– Какой стилет?
– Кто-то из наших у Шварца из чулана стилет стянул… ох, долго объяснять.
– Феде доверяешь?
Архаров хмыкнул. Пожалуй, этого орла он не подозревал - Федька был открыт душой, что на уме - то на языке, и мысль украсть оружие вряд ли бы наведалась в его шалую голову.
– Клаварошу?
Тут Левушка ответа не получил - потому что Архаров принялся выстраивать возможную связь между своим французом и тем загадочным «чертом», что затевает международные интриги. Почем знать, откуда взялся на Москве Жан-Луи Клаварош? Если «черт» тут не первый год сидит, то и Клаварош… Опять же - говорит, что служил кучером, а манеры - лучше, чем у маркиза.
– Тимофею Арсеньеву?
Тимофей был мужчина степенный, неторопливый, надежный - лицо не лгало, да ведь в душу-то не заглянешь?
– Упустим - кого винить станешь? - спросил Левушка.
– Да сейчас соберемся и поедем…
Левушка выскочил за дверь. Архаров вздохнул. Он ничего не мог с собой поделать - подозрительность сидела в нем, как жало овода, причиняя немалое беспокойство.
Он снова перебрал в уме всех, кого хотел бы взять в это дело. Состояние было мучительное - встать бы из-за стола, на все плюнув, крикнуть, велеть всем собираться, а он не мог.
Постучав, вошел Шварц.
– Что скажешь, Карл Иванович?
– Ванюша с Сашей целую карту нарисовали. Коли преступник и впрямь в Троице-Лыкове, я бы советовал вашей милости послать за Фетидой и полицейских также посадить на лошадей. Ваня утверждает, что есть удобные броды, тем более теперь, когда по случаю жары вода стоит низко.
– Карл Иванович, ты Ване во всем доверяешь?
– Вы предполагаете, будто он похитил стилет из чулана?
– Да ни хрена я не предполагаю! Ладно, вели всем собираться…
Но сам Архаров не поднялся из-за стола, а едва ли не улегся на столешнице.
Шварц тоже с места не сдвинулся, а стоял, как вкопанный, и беззвучно шевелил губами - но не произнося неслышимые слова, а так, словно по губам ползало, не желая улетать или падать вниз, некое неприятное насекомое. Правую руку же сунул за пазуху.
– Не извольте беспокоиться о стилете, ваша милость, - вдруг сказал немец. - Вот он.
И на архаровский стол лег длинный и тонкий нож с необычным для Москвы трехгранным лезвием.
– Мать честная, Богородица лесная! Откуда это? - спросил Архаров.
– Из подвала, сударь.
Вообще Архаров был довольно сообразителен. Но сейчас все получалось не так - Шварц, как полагалось бы, не рассказывал подробностей, да и вошел столь буднично, как если бы доложил о прибытии телеги с дровами, а не об этой страшной находке. Что-то со стилетом было не так… и вдруг явилась догадка…
– Так, выходит, твоя работа, черная душа, - тусклым голосом сказал Архаров.
– Моя, сударь, - преспокойно отвечал Шварц.
И видно было, что совесть его молчит.
– Припрятал и поднял суматоху.
– Именно так.
– Иного ничего выдумать не мог?
– Я должен был посеять меж ними тревогу. Иначе я никак бы не заставил всех полицейских разом проявить бдительность.
– Да уж заставил…
Архаров отвернулся. Ему даже видеть немца не хотелось.
– Очевидно, вы, ваша милость, мало имели дело с людьми невиновными, - сказал Шварц. - Невиновные не склонны к сочувствию своим виноватым товарищам и потому весьма ленивы. Я же поставил всех служащих полицейской конторы в положение виновных - ибо подозрение в краже стилета ложилось на всех, включая меня самого и даже на вас, сударь. Потому все засуетились, ища способа обелить себя. И таким образом вспомнили визитации старых полицейских, назвали имена, остальное же было несложно, коли изволите вспомнить. Абросимов и Савин разом отправились искать Елизарова. И, коли угодно вспомнить, он явился виновником…
– Но ты знал, черт тебя побери, что все подозрения лягут на Костемарова?! - вдруг заорал Архаров.
– Сему молодому наглецу сие было бы весьма полезно.
– А коли так - ступай и приведи его сюда! Сейчас же! Живого! Невредимого!
Архаров был неимоверно зол. Злость эта долго медлила явиться на свет, но теперь вскипела наконец - и кулаки чесались сбить немца с ног зубодробительным ударом.
– Мне незачем ходить за Костемаровым, - отвечал Шварц. - Осознавая обстоятельства, я готов заказать по нему панихиду.
– По тебе бы кто панихиду заказал!
Спокойствие и бесстрашие Шварца раздражали обер-полицмейстера неимоверно. Он чувствовал себя человеком, выстроившим здание, населившим его людьми - и вдруг узревшим, как сие здание рушится, люди гибнут. Виновник же бедствия был в тот миг сильнее хозяина дома, ибо он свое зло уже сотворил, а будет ли равноценная злу кара - неведомо.
То, что Шварц в этом деле вздумал распоряжаться сам, заварил крутую кашу, оказал себя проницательнее и хитрее начальства - еще полбеды. Он действовал так, как если бы начальства не было вовсе: сам решил, сам исполнил, а правду сказал потому, что обстановка в палатах Рязанского подворья уже сделалась совершенно бешеной.
Разумеется, вспомнилась Каинова басенка о коте и крысах… и кто же тут, с позволения молвить, кот?…
– Ну что же, Карл Иванович. До сих пор ты служил честно, и я обещаю тебе повышение в чине, чтобы вышел хороший пенсион, - сказал Архаров. - С завтрашнего дня ты в отставке, а бумаги потом выправим. В контору более жаловать не изволь. Тебя заменит Ваня Носатый.
– Смею рекомендовать Кондратия Барыгина, - не переменившись в лице, отвечал немец.
– Я сказал - Ваня. Он своих товарищей под плети подводить не станет.
– Как вашей милости будет угодно.
Казалось бы, тут-то и следует Шварцу уйти из кабинета. Но он все стоял напротив стола, глядя на стилет. И Архаров сперва хотел было встать и вытолкать его в тычки, потом понял, что это дурость, всей Москве на смех. Мало ли кто околачивается в коридоре… Дело следовало покончить без лишнего шума.
– Ступай, - тихо сказал Архаров.
Шварц взял со стола стилет.
– Оставь.
– Я должен вернуть его в чулан, поскольку он теперь является государственным имуществом, - так же тихо отвечал Шварц.
И тут Архаров вспомнил былое.
Он вспомнил крыльцо и дверь, подпертую всякой дрянью, скамейками, досками, старой тачкой. Вспомнил, как в восемь рук ее высвобождали. И как на крыльцо выпал человек в дымящемся кафтане и парике. Едва ль не единственный московский полицейский, честно исполняющий свой долг в чумном городе…
Человек, в одиночку решившийся поддерживать порядок, невзирая на бунт, в одиночку вышедший против шайки мародеров, несомненно, умел принимать решения и готов был отвечать за свой выбор. Вот и сейчас - он мог вовеки не рассказать, что сам припрятал стилет. Но выбрал правду - чтобы воцарился в полицейской конторе столь любимый им порядок.
Архарову пришло в голову иное решение - сам бы он, скорее всего, этот проклятый стилет подбросил в коридоре. И ломайте головы, господа, чьих рук труды - разве что по отпечаткам пальцев и ладони догадаться можно, иного способа нет!
А Шварц, вишь, принес, чинно положил на стол поверх бумаг. И на ум ему не бредет оценивать свой поступок по человеческим меркам, то бишь - хорош он или плох. Поступок послужил на пользу делу. Вот ведь как у немца голова устроена.
Архаров редко задумывался о морали, сам он как-то знал, что хорошо, что отвратительно. И ему показалось любопытным рассуждение Шварца. Любопытство же свое он холил и тешил.
– Возвращай, - сказал он, подвигая стилет к краю стола. - И сгинь с глаз моих.
Затем, как если бы Шварц уже ушел, Архаров встал из-за стола, потянулся и подошел к окошку.
– Арсеньева ко мне! - крикнул он. - Хохлова! Ушакова! Кто там еще есть! Ваню ко мне! Коробова! Всех!
В коридоре закричали. Затопали, дверь распахнулась, явился Клашка Иванов.
– Там, ваша милость, ваш Сенька подъезжает.
Это радовало - не придется посылать за Фетидой, хотя проехаться верхом не мешало бы.
– Сейчас же отправляемся, - сказал Архаров. - Взять упряжных лошадей. Коробова и Ваню - ко мне в экипаж. Иванов, помоги-ка зарядить пистолеты.
Их, пистолетов, у Архарова в кабинете было три - два обычных, один короткоствольный английский, который удобно помещался в кармане. Да еще в карете постоянно находились два заряженных.
– И вы все, тоже снарядитесь как полагается! - крикнул он. - Петров! Возьми внизу какой-нибудь подрясник! Макарка! С нами поедешь! Переоденься живо в какую-нибудь рванину!
Шварц молча вышел. Архаров понял - идет выдавать имущество из чулана. А потом, поди, заставит обер-полицмейстера принимать все это добро по описи. Да и имущество из нижнего подвала, пожалуй, тоже. С немца станется.
Архаров поморщился, вспомнив признание Шварца. И тут же стремительно занялся подготовкой экспедиции в Троице-Лыково - выйдя из кабинета, подошел к тому окну, из которого мог видеть двор, посмотрел, как выводят лошадей, там же на плече у Шустермана подписал два письма, велел Левушке оставить в полицейской конторе дорогой кафтан и надеть что-нибудь попроще - черт его знает, где придется лазить, вон Саша пришел - словно в загородке со свиньями валялся.
Наконец он вышел на крыльцо в прекраснейшем расположении духа. Ваня Носатый, Саша и Левушка уже ждали в экипаже. Устин на другой стороне улицы покупал у разносчика горячие калачи.
– Оголодал? - удивленно спросил подбежавшего Устина Михей, державший в поводу двух лошадей.
– Для Феди. Он-то в засаде со вчерашнего не евши…
Архаров сбежал вниз и, крича Сеньке «Гони!», прыгнул в карету. Ваня поймал его в охапку, когда Сенька чересчур ретиво выполнил приказ, усадил на заднее сиденье, и экипаж понесся по мостовой.
Карету Архарова все извозчики и все кучера знали, знали и то, что коли Сенька хлестнет кнутом - жаловаться бесполезно. Поэтому с архаровским кучером не задирались спорить, а смиренно уступали дорогу.
– Что это? - спросил Архаров. - Сколько вас тут?!
Он точно помнил - велел садиться в экипаж Левушке, Саше, Ване Носатому. Но там на переднем сидении в дальнем углу жался еще один человек.
– Ты, что ли, дармоед?!
– Да ваши милости Николаи Петровичи! Нешто можно себя так изнурять! - воскликнул Никодимка. - Целый день не евши, не пивши! А в такую жару пить-то надобно! Окрошечка холодненькая, прямо с погреба, кваску жбанчик!…
Судя по корзине, стоявшей у него на коленях, той окрошечки и того кваску хватило бы на драгунский полк. Вот только драгуны были далеко - одни патрулировали Ходынский луг, где еще длился праздник, другие - дороги, ведущие к Москве, потому что в такие дни можно было ожидать всяких безобразий.
– Я тебя сейчас из экипажа выкину.
– Да ты что, Николаша! - вступился Левушка. - Коли ты окрошки не желаешь, так я поем! Детинушка старался, а ты его выкидывать? Не бойся, Никодимка, не выдадим!
Карета меж тем приближалась к Охотному ряду.
– Вашга милость, дозвольте, я дорогу показывать стану, - сказал Ваня Носатый и, обернувшись, чуть приоткрыл зарешеченное окошечко. - Сеня, правь прямо, повернешь на Никитскую - и по Никитской до ворот!
– А что не по Тверской? - спросил Архаров.
– Так оно короче выйдет. Я знаю, как к бродам выехать. Всякое на тех бродах бывало, ваша милость…
Архаров знал, что карета, пересекающая реку по ступицу в воде, совершенно беззащитна, и прекрасно понял, что вспомнилось Ване.
– Прелестно. А теперь, Сашка, докладывай, где вас с Савиным нелегкая носила.
Их похождения, как понял Архаров, сперва были чередой перебежек - «черт», убежав от помоста, спрятался сперва в толпе у каруселей, потом стал понемногу пробираться к краю Ходынского луга, тому, который соответствовал «Борисфену», то бишь наскоро проложенной дороге от Тверской-Ямской. Федька прихрамывал и клял свою недееспособность. Как на грех, не попадался ни кто из своих, ни патруль полицейских драгун, а искать его - упустишь злодея.
Но по краям луга располагались службы и стояли телеги, на которых привезли всякое потребное для праздника добро. Возчики, оставив сторожей, тоже побежали праздновать, хотя и утомились от бессонной ночи. Послав Сашу преследовать беглеца, Федька высмотрел за театром «Кинбурн» телегу и, подкравшись, взял лошадь под уздцы. Сперва он вел кобылу шаг за шагом, потом, удалившись на безопасное расстойние, забрался в телегу и поехал высматривать Сашу. Сверху ему было виднее, да и Саша ради праздника надел нарядный васильковый кафтан - среди простого люда он был весьма заметен. Очень скоро глазастый Федька обнаружил его и нагнал.
«Черт» побежал переулками, не обращая внимания, что на расстоянии сотни саженей за ними следует телега. Федька к тому же нашел в ней сложенный коричневый армяк и, невзирая на жару, завернулся в него, Сашу же уложил на дно. Более того - в телеге, очевидно, возили к «Кинбурну» мебель и перекладывали мешковиной и паклей. Из куска мешковины Федька соорудил головной убор, из пакли - бороду с усами, и сделался неузнаваем. Прохожих, которые увидели бы этот маскарад и стали показывать пальцами, не случилось - все окрестные жители, исключая разве совсем дряхлых и обезножевших, побежали на праздник, матери даже грудных младенцев туда понесли.
А далее они попали в местность, обоих сильно удивившую.
– Это, ваша милость, графа Разумовского владение, - объяснил Ваня. - Там и заблудиться недолго.
У Разумовского Архаров бывал и все понял.
Кирила Григорьевич был любимцем покойной государыни Елизаветы Петровны. Старший брат его стал фаворитом в амурном значении слова, а сам он, совсем еще юный, полюбился и потому, что голова была светлая - его отправили учиться в европу, по возвращении пожаловали в камергеры, назначили даже президентом Академии наук и в том же году женили на любимой родственнице и фрейлине государыни - Екатерине Ивановне Нарышкиной, одной из богатейших российских невест.
Разумовский был вельможей парижского покроя, немало потрудился, чтобы ввести в моду галломанию и внедрить в светское общество французский язык. Надо полагать, его немало повеселила забота покойной государыни, способствовавшей, чтобы он был избран в гетманы Малороссии.
Вл время «шелковой революции» граф-гетман благоразумно и с великим усердием поддержал Екатерину, за что был щедро вознагражден. И тут-то чувство меры изменило ему - он обратился с прошением о том, чтобы пост гетмана стал в его роду наследственным. Государыня не возражала против того, чтобы приятный ей человек развлекался столь забавной должностью, но иметь в своем «маленьком хозяйстве» монархию Разумовских не пожелала. Получив решительный отказ, Разумовский вновь сделался благоразумен и подал в отставку. Тогда его простили.
И он основательно занялся полученным в приданое за супругой селом Петровским, которое уже все стали звать Петровско-Разумовским.
Он велел построить плотину на речке Жабне, чтобы получился живописнейший каскад прудов. Для постройки большого дворца выписал из Санкт-Петербурга знаменитейшего архитектора Филиппа Кокоринова. Он же возвел летний дворец, конный двор, манеж для верховой езды, оранжереи. Большой дворец соединили каменной галереей с Петропавловской церковью, которая из вотчинной Нарышкиных теперь стала домовым храмом графа Разумовского.
Особой заботой графа стал огромный парк, устроенный по образцу французских регулярных парков, с центральной аллеей от пруда ко дворцу, с прямыми дорожками, с террасами. У пруда же Кирила Григорьевич велел сделать грот и увенчать его павильоном, откуда бы гостям любоваться панорамой прудов и окрестностей.
Когда Архаров впервые ехал с Волконскими к графу, Михайла Никитич велел ему глядеть в окно экипажа, приговаривая:
– Ты, сударь, неведомо, выберешься ли когда во Францию, а тут тебе чистый Версаль!
И Архаров действительно удивлялся - одна триумфальная арка на подъездной аллее, высотой сажен в десять, чего стоила, за аркой же открывался вид на восточный фасад дворца. По обе стороны аллеи из огромный лип, высаженных через две сажени, мельтешили всевозможные храмы, павильоны, беседки, статуи, где-то вдали имелся и летний театр - Елизавета Васильевна показала, когда его проезжали.
А когда подъехали поближе, увидели слева от дворца манеж в виде ротонды, крышу которого украшала статуя Минервы, а справа - конную ферму на манер рыцарского замка, с башенками и шпилями.
«Версаль», разумеется, имел не только всякие чудеса для господ, но и множество хозяйственных строений, скрытых за деревьями. Туда-то и прибежал «черт», а впустили его в ворота без затруднений. Это Федьке с Сашей не понравилось, и они стали рассуждать, как же быть. Если злодей завел себе приятелей в такой богатой усадьбе, то ведь его спрячут, не выдадут, для того он сюда и прибежал.
Тут, на их счастье, к воротам подъехала еще телега, возчик закричал, чтобы распахнули ворота да не запирали - сейчас-де будут его товарищи. И Федька с Сашей, выждав несколько, пренахально въехали в «Версаль» графа Разумовского. Тут-то они и осознали свою беду.
Здесь можно было спрятать не один драгунский полк.
Но это бы еще полбеды - а беда была в том, что они упустили своего злодея.
Федька тихо ругался, чуть не плакал и даже до того додумался, что погнал Сашу обратно на Ходынский луг - отыскать наконец драгунский патруль, послать за Архаровым, чтобы окружить Петровско-Разумовское со всех сторон и не упустить «черта». Саша разумно возражал, что для этого нужна армия мало чем поменьше той, которая под водительством графа Румянцева, ныне графа Румянцева-Задунайского, одолела год назад турок. Наконец решили так: Саша пойдет обратно, Федька же останется и попробует завести дружбу с кем-то из местных жителей. Судя по тому, сколько здесь было цветников и куртин, Разумовский содержал не менее сотни садовников с подручными.
Федька забыл только, что на нем полицейский мундир.
Далее события развивались довольно нелепо.
Саша, не доходя Ходынского луга, столкнулся с человеком, обряженным весьма затейливо, в кафтан с заплатками и колпак с перьями, и человек этот спешил не почтенную публику веселить, а совсем в другую сторону, вроде бы к известным Саше воротам.
Бывший студент, ставший архаровским секретарем, нахватался в полицейской конторе всяких знаний и умений. Человек показался ему подозрительным. Коли вспомнить, что злодей, затеявший стрелять в обер-полицмейстера, несколько дней прожил в шалаше у Ходынского луга, притворяясь штукарем, так что все его считали за своего, то и сей торопливый господин мог оказаться не тем, за кого себя выдает. Федька, пока ехали, рассказал Саше все подробности ночных встреч и погонь.
Поэтому Саша последовал за этим беглецом с Ходынского луга. Беглец же попал во владения Разумовского через какую-то загадочную калиточку, и Саша - с ним вместе. При этом незнакомец, увидев кого-то из служителей, прятался - приседал за кустами, и Саша - с ним разом.
Пока Федька ссорился с садовником, клявшим архаровцев на все лады, Саша забрел за большой дворец чуть ли не к Яузе. Точнее, его привел туда господин в шутовском колпаке - хотя именно колпака на нем уже и не было, этот головной убор он бросил в кусты и туда же полетел дурацкий кафтан.
Он оказался человеком примерно Сашиных лет, таким же худощавым и узкогрудым, разве что ростом вершка на три повыше и волосом потемнее, похожий на верткую и проворную птицу, особливо резкими поворотами взъерошенной головы.
Пока Саша, сопроводив этого мужчину в двухэтажный домишко, пытался выбраться из владений Разумовского, чтобы найти ворота и телегу, Федька уже и подрался и помирился с каким-то местным сторожем. Польза от этого была такая, что он немного узнал про «черта», а вред - еще больше повредил ногу.
Они нашли друг друга чудом - уже стемнело и Саша собирался возвращаться в Москву. Федька потребовал доставить его к тому домишке, и в результате оба ночевали в весьма странном месте.
Недалеко от дома, где спрятался шут гороховый, была поляна, устроенная для увеселений, со скамейками, выложенными из дерна, и большими белыми вазами на постаментах. С краю той поляны стояли два старых вяза. Федька, обуреваемый желанием выследить злодеев, пытался загнять Сашу на дерево, чтобы оттуда заглянуть в окна второго жилья. Саша отговаривался тем, что лазить по деревьям не обучен, Федька сам отважился на сей подвиг и обнаружил, что на стволом, в кустах, есть лесенка, и весьма удобная - по ней и дама в широких юбках могла бы взобраться.
Архаровцы полезли наверх и обнаружили в кроне вяза маленькую беседку. Такой забавы они от графа Разумовского не ожидали, но она пришлась кстати.
Только вот к тому времени, как они оказались на дереве, свеча в окне погасла. А в огромном парке раздался лай - выпустили на прогулку графских кобелей.
Так что спали они наверху, да и не спали, а так - дремали в ожидании рассвета, когда свисток псаря соберет собак в положенное им место.
Утро же преподнесло сразу два сюрприза - приятный и неприятный. Сперва Федька разглядел в окошке два лица и убедился в точности своих предположений. Это были «черт» и Семен Елизарьев. Насчет Семена ему бы полагалось усомниться, потому что этого мазурика он видел всего раз в жизни - убегающим и уносящим полицейский мундир. Но Федька, преследуя врага, не знал сомнений.
Что касается «черта» - этого он очень хорошо запомнил, когда шел ему навстречу, крича и кривляясь, и все выстрелы мнимого Фалька били мимо.
Некоторое время спустя явился и неприятный сюрприз - к коему Федька уже был готов. Когда он сцепился с садовником, а потом со сторожем, то был изруган не просто так. Ему сказали, что ходят-де по графской земле архаровцы, и сама государыня им не указ, и все им подавай, и слова поперек не скажи. Поэтому Федька не слишком удивился, увидев выходящего на крылечко Елизарьева в мундире.
Он направился к графскому конному двору, пропадал там около часа и привел двух оседланных лошадей. Стало ясно, что сейчас оба мнимых архаровца преспокойно уедут.
Как Саша исхитрился увести этих коней, пока Елизарьев на несколько минут зашел в дом, как он загнал их вниз, в летний театр, за земляную насыпь, заменявшую кулисы, как крался обратно, стараясь не попадаться на глаза садовникам, которые мелькали за белокаменной каменной балюстрадой огромной террасы, украшенной бюстами древних греков и римлян, как Федька подкрался, ковыляя, к самому дому и подслушал беседу, наполовину по-французски, наполовину по-русски, - Архаров уже слушать не желал. С него было довольно знать, что оба архаровца отыскали свою телегу и, преследуя «черта» с Елизаровым, оказались сперва непонятно где, ночевали в телеге, потом одолевали брод, потом вели наружное наблюдение на каком-то огороде, лежа за навозной кучей, поверх которой вовсю росла и цвела тыква; от многочисленных подробностей он уже отмахивался и наконец прикрикнул на подчиненных весьма строго.
Саша умолк на полуслове, а Ваня Носатый, помогавший ему, вздохнул.
– Николаша, надо будет докопаться, кто там, во дворце Разумовского, протежировал нашим злодеям, - сказал Левушка. - Сдается, там у его сиятельства немало французов проживает, и не там ли уж спрятался наш голубчик, когда его выставили из Москвы?
И точно - Разумовский завел целый штат, в котором соблюдалась строгая иерархия: он имел флигель-адъютантов, ординарцев, почетный караул, гайдуков, егерей, скороходов, и это еще не считая людей, приставленных к службам и к воспитанию немалого потомства - супруга родила ему одиннадцать человек детей. Несомненно, жили в Петровском и гувернеры, и гувернантки, и разнообразные учителя.
Они-то внушали Архарову особое подозрение. Но говорить о том он не желал.
– Ваня, у тебя там, в Петровском, остались приятели? - продолжал Левушка.
– Статочно, остались.
– Погоди, Тучков. Это - потом, - сказал Архаров.
– А коли сейчас злодеев не изловим? Надобно же понять, куда они побегут.
– Да уж не туда, откуда прибежали… Их сообщник из людей Разумовского не пожелал их прятать в Петровском, а послал в Троице-Лыково. Чего-то они там желают дождаться…
– Николаша, найти того человека несложно, он при конях состоит. Давай пошлем туда Ваню! Мы и без него управимся! - и Левушка улыбнулся архаровцу ободряюще.
Обер-полицмейстер подивился тому, что и Шварц, и Тучков, не сговариваясь, норовят дать Ване такое задание, чтобы он проявил всю свою сообразительность. Как если бы помогали ему подняться ступенькой выше и достичь наилучшего положения, какое только возможно при драных ноздрях.
– Пошлите меня, ваша милость, - попросил Ваня. - Я докопаюсь! Я то владение как свои пять пальцев знаю! Меня там припомнят!
– И чем скорее он туда поскачет, тем лучше, - добавил Левушка. - Ваня, учти - его там могут знать как Антона Фалька. И что Елизарьев более в полиции не служит, им там тоже неизвестно…
– Слушай, Тучков, кто из нас двоих обер-полицмейстер? - полюбопытствовал Архаров. Но без злобы - он уже видел, что Ваня и Левушка рассуждают правильно.
На Пресне Ваню высадили. Был он в простом армяке, так что полицейского мундира своими драными ноздрями не позорил. Архаров выдал ему полтину мелочью на извозчика и прочие расходы: где трезвый молчит, там ублаготворенный в трактире - все сведения внятно излагает…
Ваня растолковал Сеньке дорогу. Сенька, всю жизнь проживший в Москве, многие Ванины приметы знал, чего не знал - переспрашивал. Наконец расстались.
Они остались в экипаже вчетвером - Архаров Левушка, Саша и Никодимка, причем Никодимка молчал и смотрел в пол, стараясь занимать как можно менее места и не привлекать к себе внимания.
За экипажем ехали верховые - Михей Хохлов, Сергей Ушаков, Макарка, одетый хуже нищего, Максимка-попович, Устин Петров с котомкой, в которой были подрясник, скуфеечка и еще кое-что. Прочие были на Ходынском лугу.
Архаров молчал, поглядывая то на Левушку, то на Сашу, наконец им обоим предпочел окошко.
Он ехал по местности совершенно сельской. Редко выезжая за городские ворота, он плохо знал окрестности Москвы и изучал их настороженно. Знал только, что экипаж катит по Большой Звенигородской дороге, и, стало быть, сейчас где-то справа будет Хорошево.
С Хорошевым было что-то связано… кроме лошадей, понятное дело, вся Москва знала, что тут стоит огромная конюшня на каменном основании и выращиваются для нужд двора кони привозных пород… кто-то рассказывал, что уж более сотни лет эта местность служит для коневодства, потому что на заливных лугах удобнее всего выпасать кобыл с жеребятами…
Конюшню Архаров, ни разу тут не бывав, признал по парадной въездной башне, установленной за год до чумы.
За Хорошевым дорога свернула налево.
Когда подъехали к реке, оказалось, что ни Ваня, ни Сенька тут давно не бывали - не брод, а основательный наплавной мост соединял Хорошево с угодьями Серебряного Бора. Это был полуостров с озером посередке, окруженным болотами, прекраснейшее место для охоты на птицу и в особенности на цаплю, тут же на вершинах сосен гнездились соколы-сапсаны. Дорога же была такова, что обер-полицмейстер возблагодарил Господа, наславшего жару, - сейчас-то сухо, а осенью сюда на колесах и не суйся, засосет выше ступицы.
Через лес ехали под птичий звон и свист, особенно выделялись громкие и бойкие трели зябликов. Архаров даже видел несколько раз этих нарядных веселых птах, вызвавших совсем неожиданное размышление: головка у зяблика серая, спинка - коричневая, ниже - желто-зеленая, брюшко и грудка - винного цвета, на крылышках белые зеркальца; коли бы какой щеголь позволил себе это сочетание оттенков, смотрелся бы уродом и в гостиных был бы осмеян; птаха же почему-то кажется нарядной и красивой.
Дорога шла по северному краю полуострова и выводила, как обещал Ваня, к Троице-Лыкову, где, возможно, еще обретались «черт» и Елизарьев. Тут наплавной мост был таков, что того и гляди - колесо, раздвинув поломанные доски и бревна, провалится и уйдет в воду.
Слева в заводи плавали утки и гуси, за ними присматривали детишки. Несколько лодок отдыхали, наполовину вытащенные из воды. Слева, в полуверсте, стояла на холме старинная белая церковь и взгляд невольно искал ее отражение в воде.
Архаров на всякий случай открыл дверцу кареты и увидел чуть подальше на берегу парнишек. Они занимались именно тем, чем и должны заниматься в летний день подростки - учили друг друга ухваткам кулачного боя.
Левушка, оценив по достоинству мост, первый выскочил из экипажа и, перепрыгивая с бревнышка на бревнышко, лихо добрался до берега. За ним последовал Саша. Никодимка, косясь на Архарова, тоже освободил экипаж от своего веса - корзину с продовольствием все же оставил. Но Архаров мужественно сидел в карете, пока она не выехала на твердую землю.
Парнишки пропали из виду. А смотреть на них было весьма занимательно, особливо на самого рослого, главного в ватаге. Архаров невольно вспомнил Алехана и берег Яузы. Алехан тогда хвалился, что скоро поедет служить в Семеновский полк. Статочно, ему было лет четырнадцать, как тому юному верзиле. А кто в ватаге самый младший? А самый младший, толстенький и белобрысый, держался рядом с вожаком, норовя заглянуть ему в лицо. Похоже, все на свете повторялось.
Всадники, спешившись, перевели коней, и даже Устин справился с норовистым, не желавшим водных приключений Сивым.
Архаров жестом собрал всех вместе.
– Петров, Макарка, переодевайтесь. Сашка, вспоминай, как ты отсюда ночью выбирался.
Саша задумался, присел на корточки и начертил прутиком на песке план - примерно такой, какой они изготовили вместе с Ваней. Однако ночью он уходил в сторону Тушина, то бишь к северу, теперь же архаровская экспедиция прибыла в Троице-Лыково с юга.
Михей подобрал кусочек дерева, выласканный рекой, и поставил крестик на влажном сером песке.
– Вот тут у нас, - сказал он, - храм Божий. Ну-ка, вспоминай, церковь видел?
Архаров заметил, что его каблуки уж больно ушли в песок, и собрался перейти на сухое место. Но вместо того присел на корточки - на самом мелководье, где глубины было менее вершка, носилась стайка рыбешек, каждая - с ноготок, и ему показалось любовытным, как получается, что они все разом меняют направление.
Присев и упершись в бедра, обер-полицмейстер наблюдал за рыбками, сам себе не удивляясь - он знал, что погоня и стычка с врагом никуда не денутся, рыбок же таких в золотистой воде в ближпйшее время не будет. И такого воздуха тоже. На Пречистенку наносило порой с Москвы-реки столь гнилые ароматы, что хоть нос затыкай. Здесь же благоухало неподдельной свежестью - и он наслаждался бездумно, как в детстве, на Яузе, и чуть было не стал собирать в ладошку витые полосатые раковинки, покинутые безногими и безголовыми своими жильцами.
Он наслаждался тишиной - подлинной, чуть-чуть приправленной птичьими голосами и какими-то непостижимыми водяными шорохами. И вдруг тишина сделалась тяжелой. Он понял и выпрямился.
Архаровцы молча ждали приказаний.
– Ну, что, молодцы, посчитаемся за Демку? - спросил он. Ответа не требовалось.
Устин был уже одет в подрясник, а кафтан спрятал в экипаже. К счастью, он, ведя наружное наблюдение в монашескм образе, уже с неделю не брился, Вид был достоверный. Босоногий Макарка в лохмотьях смотрелся менее натурально - парень за последнее время вырос и мало был похож на жалкого сиротку. Вот как раз сиротки в полицейской конторе и недоставало - но Архаров прогнал мысль о поисках новых парнишек для службы на побегушках.
Среди ждущих приказа архаровцев обер-полицмейстер заметил своего камердинера. Никодимка из любопытства, свойственного его званию, стоял там, где мог услышать нечто занимательное.
– Не путайся в ногах, дурак, - сказал Архаров Никодимке, и тот покорно полез в экипаж - охранять корзину с окрошкой. Архаров же, глядя ему в спину, подумал, что порка дармоеду не повредит - ишь, являет усердие, с обедом через пол-Москвы катается, а ведь наверняка не поменял пряжки на новых башмаках и не отдал прачке Дарье тонкое белье - Настасье еще учиться и учиться обхождению с голландским полотном…
– Сашка, был у вас с Савиным уговор насчет сигнала?
– Был, Николай Петрович, козой мемекнуть, коли что…
– Козой… козлы вы оба, братцы… Итак - где ты его оставил? А вы слушайте.
– Оставил я его на огороде, у самого забора, откуда видно крыльцо. Крыльцо вроде обыкновенное, и дом, куда они зашли, также обыкновенный, крестьянский, не нищее жилье…
– Заботится его сиятельство о своих людишках, - заметил Левушка, снимая кафтан, чтобы закинуть его в экипаж.
Но сельцо процветало именно потому, что у графа не доходили до него руки. Местные жители нашли замечательный промысел - пользуясь близостью Серебряного Бора, ловили там певчих птиц и продавали в Москве, в Охотном ряду. А птица в клетке - главная домашняя утеха и для барыни, и для купчихи, и для одинокого чиновника, и для семейного отставного офицера. Овсянки, зарянки, дрозды, щеглы, а главным образом чижи составляли для многих единственное их ежедневное увеселение. Находились чудаки, державшие дома и по десять клеток с тем расчетом, чтобы в одних птахи пели утром, в других - вечером, да и наблюдать за ними было занятно.
– Они оба ждали темноты за околицей, тогда только пошли, и я считал дома. Вышло, что по левую руку - тринадцатый, - продолжал Саша.
– Это коли со стороны Тушина, - добавил Михей Хохлов.
Архаров посмотрел на сельцо и прикинул - на берег от северной околицы до белого храма выходит полтора десятка дворов, возможно, один из них - искомый.
– А телегу с лошадью где оставили?
– Лошадь выпрягли и на задворках привязали, чтобы паслась, Федя знает где. Телегу оставили за околицей, столкнув с дороги. Там, поди, и стоит в кустах.
– Сенька! - крикнул Архаров. - Привяжи коней сзади к экипажу!
– А хорошо бы их сейчас искупать, - отвечал Сенька. - Водица теплая, коням - радость. Не так часто их к речке гоняют…
– Нашел время! Макарка, ступай берегом, зайдешь с околицы, отсчитаешь двенадцать дворов - сядь, будто ногу сбил. Петров, ты зайдешь с другой стороны, минуешь храм, увидишь Макарку - он тебе укажет на нужный двор. Пройди там в переулок - вроде по нужде, выйди к берегу, коли удастся…
Таким образом он распределил свои невеликие силы, чтобы при штурме двора, где засели миимый Фальк с Елизарьевым, перекрыть им все пути отступления. И погнал выполнять приказания.
Левушку оставил при себе.
Минуты тянулись. Архаров, не двигаясь с места, стоял на солнцепеке и молча ждал хоть каких-то событий. Ему было тем более тяжко, что он уже сунул один из пистолетов в ременную петлю на шее - как это часто делали кавалеристы, другой держал в опущенной руке, третий, маленький, оттягивал карман. Левушка играл со шпажным эфесом - то вынет клинок на пядень, то вернет в ножны. Наконец, поняв тревогу друга, он не выдержал.
– Николаша, да и шут с ним! Впредь на Москве не покажется! - воскликнул он. - И внукам своим закажет тут шалить!
Поручик Тучков, как мог, пытался заранее утешить друга на случай, если «черт» опять исхитрится уйти - как ушел при разгроме шулерского притона, как ушел, очевидно, и из Оперного дома - не может быть, чтобы его там не было.
Но Архаров не ответил даже взглядом.
Ему было ясно одно - это существо, будь оно хоть выходцем из преисподней, должно быть либо схвачено и предано суду, либо уничтожено, и второе - желательнее. Ибо когда станет ясно, что «черт» много чего наговорит о господах придворных, о тех же Матюшкиных, начнутся интриги, начнется торговля, вмешается французский посланник, граф Панин вмешается непременно - он же теперь министр иностранных дел. Не желая портить отношений с Францией, которые только-только стали улучшаться, Панин вполне может использвать «черта» как разменную монету, и кто поклянется, что несколько лет спустя злодей не вернется в Россию, служа какому-нибудь неведомому господину?
А Устин Петров, не помышляя ни о каких международных интригах, загляделся на храм Божий. Он знал, что нужно исполнять приказ, искать сидящего в засаде Федьку, ловить злодея, не не мог не залюбоваться старым храмом, поставленным тут семьдесят лет назад Нарышкиными. Его воздвиг родной дядя государя Петра Алексеевича совместно с матушкой своей, но этого Устин не знал. Он только смотрел на удивительную резьбу по камню, более похожую на кружево, но кружево, оживленное листвой, шариками винограда, пузатенькими гранатами и ананасами, бывшими тогда для богомольных москвичей в диковинку - эту манеру завезли в Москву с Украины.
Старушка, проходя мимо храма, перекрестилась.
– Что за церковь, бабушка? - спросил устин.
– Троицкая, честный отче.
Устину стало неловко за маскарад. В святые отцы его пожаловали - а он, вишь, жениться собрался.
Мысль о нечаянном супружестве вызвала внезапную улыбку. Но тут же Устин покраснел от невыносимого стыда. То, что ему предстояло, до сих пор он почитал грехом, потому что и не помышлял о браке. А в честном браке то же самое - уже не грех, а таинство, к такой мысли не сразу привыкнешь…
Обогнув гульбище вокруг храма, он вышел на улицу - скромный такой монашек с котомочкой, этих безобидных и ясноглазых монашков на дорогах - превеликое множество, кто из обители, кто в обитель бредет с богомолья, заходя по дороге во все храмы, выстаивая службы и тихо радуясь такому своему безгрешному бытию. Даже у старца согбенного - все тот же детский взор…
Сперва Устин удивился, не обнаружив народа. Потом вспомнил - это ж не Москва. Мужики в поле или косят сено, бабы на огородах, вон - перекликаются, детишки - на реке или еще не вернулись из леса, куда были посланы по землянику. Старые деды - те, поди, сидят в тени, плетут из прутьев птичьи клетки. Все при деле.
Перекрестившись, Устин пошел дальше и очень скоро увидел Макарку. Тот сидел по-турецки. Притворяясь, будто врачует поврежденный палец левой ноги. Взгляды встретились - и Устин, поняв указаиие, свернул в узкий проход между заборами, где разве что козу провести, а с лошадью в поводу уже не проберешься.
Настоящие заборы были только со стороны улицы - а в глубине сменялись плетнями, изгородями, да и те - с дырками и лазами. Узкий ход стал шире, лопухи словно приглашали укрыться заскочившего сюда путника, обуреваемого нуждой.
– Ну, Господи благослови, - прошептал Устин и весьма похоже мемекнул.
Справа услышал такой же ответ.
Тогда он стал разгребать заросли у плетня в надежде найти проход.
– Не шебурши, - раздался Федькин шепот. - Пригнись. Они тут, оба. Тот, что Абросимова заколол, черт его душу ведает, как его на самом деле звать, и Семен Елизарьев. Да и третий пришел. Сдается, еще кого-то ждут. Хозяин телегу запряг, а со двора нейдут.
– Сколько ж их у нас орудовало?
– Хрен их знает. Где пертовый маз?
– Остался у шавозки, - отвечал Устин, - а басу вот бряйка.
И, достав из-за пазухи, сунул сквозь кусты незнамо куда калач.
При необходимости и он умел выражаться не хуже бывших мортусов. Греха в этом, кстати, не находил и даже на исповеди байковское наречие не упоминал, хотя в список своих прегрешений мог включить даже минутную злость на угодившего в щи таракана.
– Не шебурши, - повторил Федька. - Что ты там тычешься?
– Калач прими…
– Где он?
Федька со своей стороны принялся шарить в лопухах и выдернул из Устиновой руки продовольствие.
– Это славно! Ступай, доложи, а я тут буду…
Более Устин ни слова не дождался. Изголодавшийся Федька яростно жевал калач.
Как и предполагал Архаров, Устин вышел к берегу и встал, ожидая, пока к нему подбежит Левушка.
– Тут, что ли?
– Тут, ваша милость. К тем двум еще один прибавился и еще кого-то ждут, собираются уезжать.
– Мы, стало быть, не опоздали! - и Левушка опрометью кинулся радовать Архарова.
Обер-полицмейстер выслушал и задумался.
Неведомый четвертый мог прийти и через час, и к вечеру. Сидеть в засаде дотемна нелепо - в темноте-то злодеям как раз удобнее всего будет убраться.
Следовало брать тех, кто в доме. И сразу. И любыми средствами.
– Стрелять сразу, - сказал Архаров. - Неведомо, сколько их в том доме. Трое, что Федька знает, а, может, и до того кто-то прибежал. Слышал, Петров? Вроде все при оружии… Пошли, Тучков.
Они, оставив Устина там, где злодеи могли выскочить на берег, строжайше приказали ему стрелять, и Архаров сам убедился, что оба его пистолета под старым подрясником заряжены.
– Гляди, зазеваешься - до свадьбы не доживешь, - предупредил Левушка.
Устин ничего не ответил.
Архаров с Левушкой пошли в обход храма, чтобы выйти к Макарке, а он все думал.
Человек, которого предпочтительнее было пристрелить, чем брать в плен, много набедокурил - Устин ходил на отпевание и на похороны Абросимова, видел его вдову, его малых деточек - пожилой полицейский, потеряв в чумное лето семейство, женился вторично, успел родить сынка и дочку. Этого вот Абросимова злодей заколол, да так неудачно, что человек несколько дней промучился, прежде чем отошел. Видел Устин и учителя-француза, которого выкрали и привезли в полицейскую контору завернутым в одеяло. Тоже был, видимо, неплохой человек, грамотный, да и безобидный. И он получил удар стилетом в сердце - точный такой укол… теперь уже не ткнет пальцем в злодея и не скажет: признал я его, этот самый уговорил меня побыть кавалером де Берни да ночью по крыше лазить…
Раненый Канзафаров лежал сейчас у Матвея Воробьева, а уцелел потому, что умеет драться - не позволил ткнуть себя ножом в опасное место, отделался малой кровью.
И Харитон, Харитошка-Яман, уже с того света сумевший повернуть Устинову судьбу и пустить ее в совершенно иом направлении!
Это были не просто знакомцы - друзья, почти родня, за четыре-то года в полицейской конторе и впрямь все сроднились, друг к дружке в гости хаживали, именины праздновали. И все же Устин не был уверен, что в нужную минуту сумеет выстрелить. Вся его душа этому противилась.
Прочие архаровцы внутренне готовились к бою.
Макарка был премного доволен тем, что ему, как взрослому, выдали огнестрельное оружие. Если бы большинство старших не охраняло сейчас Ходынский луг - не торчал бы за Макаркиным поясом пистолет да не был бы спрятан в рукаве немецкий охотничий нож с широким клинком и костяным череном, его собственная добыча в одном бешеном дельце. И парень знал, что будет действовать, как старшие: они начнут стрелять - он тоже выстрелит.
Максимка-попович, как и Устин, не очень хотел пускать оружие в ход. Однако он последний пришел посидеть с Абросимовым. И потому Максимка чувствовал, будто именно он отпустил эту душу с земли в небеса, а душа, хоть и не просила о мести, однако ж чего-то от него ждала.
Михей Хохлов и Сергей Ушаков исполняли службу. Кроме того, Архаров был не просто обер-полицмейстером, а их пертовым мазом, он не издали приказы посылал, а сам сейчас находился поблизости с пистолетом. Хотя они и отреклись от своего разбойного прошлого, какие-то вещи сидели в душах цепко, словно большие растопыристые занозы. Тот, кто пытался укосать пертового маза, - не жилец на этом свете, считай - уже ухленник, что тут еще прибавишь?
Что касается Федьки - после бессонных ночей он уже был несколько не в своем уме.
Торопливо жуя калач, он не сводил взгляда с крыльца. В душе пела песни радость - свои успели вовремя! Это было сейчас главное. А голова была пустая и звонкая, казалось - способна отправиться в полет и рассыпаться в небе огнями, как колесо фейерверка.
Федька умел быть счастливым невзирая ни на что. Потому, возможно, что в его мире было все, потребное для души, - строгий и отважный командир, надежные товарищи, тело - готовое исполнить любой приказ, сердце, переполненное любовью, а перед глазами, стоит только пожелать, возникало лицо Вареньки, а в ушах звучал ее взволнованный голосок: «Вы лучший из людей, вы самый смелый, самый благородный! Прощайте, друг мой единственный, прощайте!» И смысл этих слов был вовсе не в прощании…
Замечтавшись, Федька не сразу понял, что нетерпеливое козье мемеканье относится к нему и означает уже матерную ругань.
Он отполз к изгороди.
– Да слышу, слышу…
– Сказано - поджечь дом, - передал Макарка.
– Господи! Так ведь огонь перекинется…
– Не перекинется.
– Почем ты знаешь?
– Пертовый маз сказал.
И точно - Архаров принял это решение, несколько минут глядя на небо. Облака стояли недвижно - день был совершенно безветренный. Искры и клочья горящей соломы с крыши не должны были разлететься по соседним дворам. Опять же - не столь нужен настоящий пожар, сколь дым и шум - чтобы выкурить из дома злодеев.
Федька пополз меж грядок, высматривая, где тут дровяной сарай или хоть поленница у стенки.
Макарка на корточках, гусиным шагом, отправился докладывать и занимать отведенный ему пост.
Архаров встал в тени под старой липой. В Москве он имел липу прямо у себя во дворе, но не такую огромную, Тут же оказался окружен облаком сладкого аромата, и это ему не понравилось. Но и на солнцепек выходить он не хотел, потому что был в тяжелом кафтане с галуном.
Ему казалось неприличным, как Левушка, бегать в одном камзоле - пусть даже в сельской местности. Левушка - молодой вертопрах, да еще в отпуску, а Архаров - обер-полицмейстер при исполнении обязанностей. Его фигура должна иметь солидный и благообразный вид. Без кафтана же как-то нелепо. Вот и парься теперь…
– Ага… - сказал Левушка. - Слышишь?
Они видели из переулка забор того двора, где укрылся «черт» с приспешниками. За тем забором начиналась долгожданная суета.
– Прелестно, - отвечал Архаров. - Сейчас побегут.
Левушка вытянул из ножен шпагу - не щегольскую шпажонку длиной менее аршина, а хороший клинок в вершок с четвертью шириной, от эфеса до острия - аршин и пять вершков, длина для всякого противника несколько неожиданная. Глядя на него, высокого и тонкого, посторонний человек бы усомнился, что это тяжелое оружие ему по руке, но Левушка, будучи одним из лучших фехтовальщиков Преображенского полка, давно уже приучил кисть и пальцы к этой тяжести.
Он глядел, не отрываясь, на ворота - и дождался. Их стали отворять, показалась чья-то спина в грязной рубахе, исчезла, опять возникла - человек пытался вывести испуганного коня, запряженного в телегу.
Архаров ждал. Он должен был увидеть лицо этого человека прежде, чем стрелять. И увидел - оно оказалось бородатым, мужицким. Хозяин дома вряд ли был полноценным сообщником злодеев.
И тут раздался выстрел, другой, третий, и над сонным сельцом зазвенел молодой и радостный Федькин голос:
– Ко мне, архаровцы!
Где-то пронзительно закричали женщины.
Левушку словно шилом в пятки кольнуло - он понесся чуть ли не прыжками, вознеся шпагу над головой, в благородном своем порыве - превосходнейшая мишень для злодея.
Архаров же не двинулся с места. Он знал - и Михей, и Ушаков, и Максимка умеют действовать дружно и не кинутся вместе на одного противника, прочим предоставив полную свободу. Знал он также, что Федька будет яростно добираться до злодея, которого упустил на Ходынском лугу. И только Устин внушал некоторое сомнение.
Судя по стрельбе, и «черта», и Елизарьева, и неведомого третьего подлеца удалось выкурить из дома. Их гоняли по двору, где не должно было остаться мест, недоступных выстрелу, - по крайней мере, так Архаров учил подчиненных распределять силы и находить удобные позиции.
Его собственная позиция была неизменной - и блистательно оправдалась.
Из калитки выскочил человек в желтом полотняном камзоле, а не в простой рубахе, в туфлях, бритый - то бишь, никак не хозяин дома. Он, повернувшись, выстрелил во двор и пробежал шагов с десяток. Архаровская пуля попала ему в бедро, он упал, но еще пытался ползти.
Обер-полицмейстер быстро поменял местами пистолеты - разряженный в петлю, заряженный в руку. И, перебежав широкую сельскую улицу, прижался к забору возле калитки.
Во дворе вроде никто не галдел - шум доносился со стороны огорода. Архаров заглянул и увидел Михея, склонившегося над поверженным мужиком в грязной рубахе распояской - тем, что пытался вывести в ворота коня.
– В меня целил, ваша милость, в него попал! - доложил Михей. - Не жилец…
– В него и целил. Больно им нужны живые свидетели… Пошли, - приказал Архаров. - Ну-ка, веди! На огороде, что ли, воюют?
– Кабы не на берегу…
И точно, «черт» и раненый в руку Семен Елизарьев пробивались огородами к берегу, где, очевидно, рассчитывали найти лодку.
И справа, и слева были архаровцы. А со стороны берега как будто никто не стрелял. Это не показалось им странным - по той простой причине, что человек, спасающий свою жизнь, помышляет лишь о главном и не ищет объяснения досадным мелочам.
А тишина объяснялясь просто - Устин стоял там, куда поставили, врага перед собой не видел и зря переводить порох не собирался. К тому же он еще не выучился заряжать пистолет - точнее, на столе, под присмотром Тимофея, он это исправно проделывал, но без стола и без Тимофея - не рискнул бы. Пули имели скверную привычку, как будто признав Устина в лицо, выскакивать из ствола и закатываться непонятно куда.
И вдруг враг появился.
Устина спасло чудо - «черт» его, стоящего неподвижно и тихо, попросту не заметил. Иначе быть бы крови - в левой руке у «черта» был длинный стилет, в правой - пистолет, который он держал за дуло, чтобы при нужде бить рукояткой.
Невероятная прыгучесть «черта», о которой Устин, конечно же, знал, оказалась совсем неожиданной - убийца слетел откуда-то сверху, почти бесшумно приземлился и побежал по траве, стараясь быстрее пересечь открытое место.
До моста было близко - с полсотни саженей, и возле него торчал из воды нос небольшой рыбацкой лодки, привязанной к колу.
«Черт» обернулся, выкрикнул что-то, Устину непонятное, побежал к мосту. Тут только Устин понял, что может упустить неприятеля. Он поднял правую руку, подпер ее левой и в миг выстрела, понятное дело, зажмурился.
Толку от этого выстрела было лишь - что его услышали архаровцы и поняли, куда подевался «черт».
А тот уже был почти у самой лодки.
Устин, размахивая пистолетом, побежал к нему, крича:
– Стой! Стой, висельник!
Он смутно представлял себе, что будет делать с разряженным пистолетом против опытного уьийцы, но и бездействовать не мог.
Эта нечаянная наглость и спасла ему жизнь - «черт» вообразить бы не мог, что человек в подряснике, несущийся к нему, размахивая пистолетом, на самом деле безоружен. И опять Устин не понял, что случилось чудо.
Он просто бежал к преступнику, готовый исполнять архаровский приказ.
Поняв, что с лодкой ему за считаные мгновения не управиться, «черт» взбежал на мост. Устин отстал от него всего на два шага.
– Петров, держись! - услышал он за спиной. - Имай его, Петров!
Архаровцы бежали на подмогу.
Казалось, эти злосчастные два шага будут между ними вечно. Однако «черт» споткнулся на разъежавшихся досках, и тут же Устин, не боясь стилета, повис у него на плечах.
Но его хватка была слабовата, «черт» - изворотлив, и Устин сам не понял, как вышло, что он шлепнулся с моста в реку.
Ему удалось не допустить «черта» к лодке, удалось задержать его на несколько важных мгновений - но тут чудеса и кончились. Потому что плавал он, как топор.
Устин почувствовал, что идет ко дну.
– Господи, Господи, - беззвучно выкликал он, выталкивая изо рта воду. И лупил руками, что было силенок.
Именно сейчас он менее всего хотел умирать.
Казалось бы, свалился он возле самого моста и должен был бы до него дотянуться - а все какого-то вершка недоставало.
Меж тем Левушка, ловко скача по расходящимся доскам, использовал драгоценные мгновения - и догнал, и даже обогнал «черта», проскочив вперед и заступив ему путь.
«Черт» был при шпаге. Отбросив пистолет, он выхватил клинок из ножен и напал на Левушку с мастерством и яростью, которые оказались бы роковыми для кого иного - да только не для преображенца Тучкова.
Они бились бешено, стремительно, и Левушка едва не пропустил опасный выпад - острие шпаги коснулось его груди, пробило рубаху, оставило царапину.
– Держись, Тучков! - кричал Сергей Ушаков, целясь издалека. Перед ним была спина отступающего перед Левушкиным натиском «черта», но спина эта постоянно меняла положение, а «черт» отступал подозрительно быстро.
– Тучков, ложись! - кричал Максимка, выцеливая врага с другой стороны.
Появился на берегу и Архаров, проклинающий все на свете, начиная с кафтана.
Но было поздно. Хитрый француз, отступив каким-то неслыханным прыжком, развернулся, побежал - и оказался на берегу раньше, чем у моста оказались Макарка с пистолетом и Михей с привычным всякому мазу кистенем.
Он уже наметил себе цель - архаровский экипаж.
Левушка, полагая, что треклятый «черт» теперь уж точно поймает пулю в грудь, встал, опустив шпагу, и вдруг понял - он видел в воде что-то странное, только в пылу поединка не успел понять - что именно.
Он вовремя повернулся - Устин на расстоянии аршина от края моста собрался уж отдавать Богу душу.
Левушка подбежал, протянул ему руку и помог лечь грудью на мокрые доски.
– Я стрелял в него, вот те крест, стрелял, - еле выговорил Устин.
– Да мы слышали. Вылезай сам, мне недосуг, - с тем Левушка и умчался, а Устин выкарабкался и, вдруг ослабев, остался лежать на мосту.
Он мог убить злодея, мог - да Господь не дал. Может, рука дрогнула?
А злодей уж точно мог его убить.
Только теперь он понял - чудо следовало за чудом, и то, что он сейчас жив, только воды нахлебался, означало, что Господь за что-то вознаградил его и уберег для некой цели.
Он слышал крики, но они его уже не касались - мокрый насквозь Устин пытался впопыхах возблагодарить Господа, сообщить Господу, какой он недостойный грешник, и вдруг сбился с беззвучной речи, осознав, для чего он, бывший дьячок, бывший писарь, ныне - архаровец, Господу понадобился.
Где-то на Покровке ждала в домишке канцеляриста Щербачова взятая под покровительство его супругой Наташка. Предполагалось, что она там пробудет до венчания, и уже был назначен день - спешили, чтобы успеть до поста. Коли бы Устин сдуру отправился на тот свет - ей пришлось бы возвращаться к Марфе и ждать, пока отведут за руку к какому-нибудь жирному борову. Так что он не имел права гибнуть - ведь больше ей не на кого было надеяться. Вот что имел в виду Господь - а Устин Петров его понял!
Меж тем ловкий «черт» увернулся от Михеева кистеня и рубанул шпагой почти наугад. Макарка рухнул на колени и от неожиданености выстрелил в воду. А «черт» поспешил к экипажу, до которого было саженей с десяток, не более.
– Уйдет, уйдет! - закричал Архаров и кинулся к своей карете. Его обогнал Михей, Михея - Максимка-попович.
«Черт» оказался у экипажа куда раньше преследователей и скрылся за конскими крупами. Сенька, зазевавшись, смотрел на погоню с козел и дождался - потерял беглеца из вида. А прыгучий «черт», неожиданно сбоку вскочив наверх, одновременно пинком скинул его на песок и перехватил вожжи.
Архаров встал, расставив ноги, выхватил любимый пистолет, выстрелил - и промахнулся. Карета двинулась с места и отдохнувшие кони понесли ее вдоль берега, по траве, куда-то к Тушину. За ней волей-неволей побежали привязанные сзади лошади архаровцев.
– Уйдет, уйдет… - твердил на бегу Архаров. - Михей, навпереймы!
Но Михей, споткнувшись, шлепнулся. Максимка отбежал в сторону, чтобы достать «черта» выстрелом сбоку, забожал в реку, провалился по пояс в ямину, распугав уток, и все равно ничего не вышло - того прикрывал кузов экипажа, да он, злодей, ожидая стрельбы, и съежился, стараясь не торчать.
Кони пошли галопом, и пошли ходко. Расстояние между экипажем и архаровцами росло.
Вдруг из кустов вывалился Федька верхом на краденой кобыле. Сидел он охлюпкой, с большим трудом поднял упряжную скотинку в галоп, обогнал товарищей и поравнялся с задними колесами. Архаров понял его замысел - перебраться на кузов и достать «черта» сверху. Но никак не получалось - прыгнуть на экипаж сзади мехали привязанные лошади, а сбоку кобыла боялась приблизиться, ее пугали большие скрипучие колеса, и справиться с ней, привычной лишь к вожжам и оглоблям, не знающей того языка, на котором общаются всадник и конь, Федька никак не мог. Он несколько отстал, чтобы сделать еще одну попытку. И вновь не удалось.
А до околицы и широкой утоптанной дороги, на которой можно хорошо разогнать холеных обер-полицмейстерских коней, оставалось совсем немного.
– Уйдет же сволочь! - кричал Архаров и бежал, что было сил.
И тут раздался выстрел.
Архаров не понял, где прозвучал этот выстрел, и пробежал еще шагов с десяток, когда увидел, что от экипажа отделяется что-то темное, скорченное, летит вниз кувырком и остается лежать неподвижно.
Он даже не сразу догадался, отчего Федьке на старой кобыле удалось обогнать карету. И только когда экипаж перестал колыхаться, обер-полицмейстер сообразил - да ведь он вот-вот остановится!
И он остановился, и дверца распахнулась, и подбежавший первым Макарка попятился, глядя вовнутрь так, словно там сидел плясовой медведь или ученая обезьяна.
Архаров перешел на шаг. Сердце колотилось уже в глотке - давно он так лихо не бегал. Сопя и пыхтя, он подошел к экипажу, и ему навстречу выпрыгнул Никодимка с пистолетом в руке.
Пистолет благоухал только что сделанным выстрелом.
– Да ваши милости, что же это творится? - жалобно спросил Никодимка. - Скачут всякие, ваших милостей экипажи норовят угнать! А коли велено хозяйское имущество сторожить???
– Ты открыл переднее окошко… - произнес Архаров и удивился, что лишь на четыре словца хватило дыхания. - И выстрелил ему в спину.
– Так, ваши милости, иначе-то как с ним справиться? Я ему кричал, грозился - не слушает… Злодей - он злодей и есть… Николаев Петровичей экипаж угонять!… Хорошо, пистолеты вы в ольстедях оставили, я уж думал - придется сбоку к нему лезть, а потрогал ольстредь, а там - вашей милости пистолет, да и заряженый… Простите, Христа ради, коли что не так!
– Ну и дуралей же ты! - сказал Архаров. - Ступай, поищи болвана Сеньку. Да корзину оставь! Никто на твою окрошку не покусится! Макарка, побудь тут.
Обер-полицмейстер и его камердинер пошли назад. За ними шагом ехал Федька.
Архаровцы собрались у мертвого тела.
«Черт» лежал вверх лицом, раскинув руки. Глаза его были открыты.
– Он самый! - сказал, глядя сверху, возбужденный Федька. - Ишь, носатый! Итальянца из себя корчил!
– А может, и был итальянец, - ответил Левушка. - Господи, сколько же он беды понаделал…
– Царствие небесное Абросимову, - тихо произнес Михей.
– Царствие небесное Харитону, - добавил Ушаков.
Архаров отпихнул мокрого Максимку и встал над телом. Сам не заметил, как принял привычную позу: колени согнуты, стан наклонен вперед, руки уперлись в бедра.
Ему нужно было с этим телом побеседовать. Безмолвно, умственно.
– Ты своему господину хорошо служил, ты в своем ремесле мастер, и мы это уразумели, - примерно так сказал Архаров, даже с некоторым уважением. - Да только и у нас - служба. Ты в чужом государстве сидел, шута горохового из себя корчил, ждал, пока о тебе вспомнят и на дело пошлют, потому что служил своей Франции. Для нее козни плел и стилетом орудовал. Ну а мы своей России служим, так что не обессудь…
Затем он повернулся к архаровцам.
– Коробов где?
– Елизарьева охраняет, - сказал Ушаков. - Хоть и связали - а мало ли что.
– Хохлов, поди, доставь его сюда. Федя, покажи Ушакову и Макарке, куда телегу спихнули. Надобно лошадь запрячь, подобрать там, на улице, раненого, довезти покойника до нашей мертвецкой, а потом - вернуть, где взяли.
– Будет сделано, ваша милость, - вразнобой ответили Федька, Ушаков и Максимка-попович.
Бой кончился, а обычная полицейская жизнь продолжалась, и ремесло требовало быстрого и спокойного возвращения к своим обязанностям.
Архаров с Левушкой пошли к экипажу.
– Что, оплошал? - сердито спросил обер-полицмейстер Сеньку. - Ворона ты, а не кучер.
– Наше дело при лошадах… - отвечал расстроенный Сенька. - Лошадиное то есть наше дело…
Он, падая, ободрал щеку и теперь прикладывал к ней подорожник.
– Ваша милость, ваша милость! - воскликнул, подбежав, Устин. - Я стрелял, вот как Бог свят!
– Кабы не он, злодей бы в лодке ушел - и поминай как звали, - доложил Архарову Левушка. - А стрелок из него никудышний - так, что ли, Устин?
Устин вздохнул и подошел к телу.
– Католик, должно быть, и помолиться-то за него нельзя… за грешную душу…
Архаров и Левушка переглянулись.
– И ты бы мог за него молиться? - спросил Архаров.
– Так ему-то, может, больше, чем кому другому молитва нужна, - тихо сказал Устин. - Он же аду обречен…
– Ты лучше за Никодимку моего помолись. Сидит сейчас, трясется… - и Архаров замолчал.
Все-таки этот день потребовал слишком многого, а то, что он дал - мертвое тело у архаровских ног, - как-то не соответствовало огромной тревоге и ожиданиям. Был враг, врага одолели, сделалось как-то скучно…
Да, Никодимка…
Архаров подошел к экипажу.
– Эй, дармоед, где там твоя окрошка?
Он хотел показать Никодимке, что ценит его старания и одобряет его поступок. Но иного способа не выбрал - полагал, что позволение позаботиться о барине заключает в себе благодарность. Не лобызаться же с камердинером, в самом деле.
И, хотя есть совершенно не хотелось, Архаров похлебал из мисочки, присев на ступеньки экипажа, а Никодимка стоял напротив и прислуживал - держал тарелки.
– Ваша милость! - издали крикнул с телеги Федька. - Мы раненого подобрали, но он совсем плох, не довезем. Я ему ногу перетянул, как господин Воробьев учил, да только поздно, поди!
Архаров вспомнил этого раненого, сунул Никодимке миску и встал.
– Ну-ка, где он?
Человек, подстреленный обер-полицмейстером, лежал в телеге рядом со связанным Елизарьевым. Федька же не восседал на облучке, а стоял и держал вожжи, как заправский ямщик. Макарка и Ушаков шли рядом с телегой.
Архаров подошел и посмотрел в лицо раненому.
– Кто таков, как звать? - спросил без надежды на ответ.
Пособник «черта» молчал. Хотя был в полном сознании.
– Елизарьев, ты отвечай - кто он таков, коли не хочешь со Шварцем спознаться, - приказал Архаров.
Но ответа не услышал.
– Ну, в подвале заговоришь. Молодцы, грузите этого черта на телегу.
Елизатьев заворочался - ему не хотелось лежать рядом с мертвым телом.
Архаров глядел на него и пытался высмотреть в лице те черты, которые говорили бы о наклонности к предательству.
Как ни странно, до сих пор он не имел дела с предателями.
В полку было не столь уж великое разнообразие пороков на лицах: иной был выпивохой, иной - буяном, иной - страстным и безнадежным игроком, не более. Понятие о чести имелось у всех. А в свете Архаров бывал редко и физиономии придворных интриганов не исследовал.
Затем, уже в Москве, он вглядывался в рожи мазов и шуров. Мало хорошего было в тех рожах, и тайные осведомители, которые сообщали важные сведения архаровцам, добродетелями не блистали. Легко было прочитать в выражении их образин немудреную хитрость: я-де сейчас полиции помогу, иным разом полиция меня побережет, поскольку я ей нужен. Это были мелкие игры, внутреннее дело полицейской конторы, и посторонних они не касались, тем более - государственных дел.
Стоя на сцене Оперного дома, Архаров видел лица дворян, уже почти изменивших государыне. Он при необходимости легко бы докопался, кем двигала обида, кем - возвышенные мысли о справедливости. Но все те люди обмануты были князем Гореловым, если не брать в расчет стоявшего за его спиной «черта». А что в подвигах маркиза Пугачева, кроме голштинского, был и французский след, Архаров-то знал, да только обманутые князем, честно уверовавшем в воскресшего императора Петра Федоровича, господа не знали.
Сейчас перед обер-полицмейстером было лицо истинного предателя. Он был посвящен во многие затеи мнимого Фалька и недаром чувствовал свою безнаказанность. Что сподвигло его на все сомнительные подвиги? И не с того ли началось, что после чумы он отказался возвращаться в полицейскую контору?
Архаров обвел взглядом своих орлов.
Рыжий здоровенный Михей - проверен в деле, надежен. Сергей Ушаков - также. Максимка с Макаркой у него на глазах выросли, немало подзатыльников от тяжелой обер-полицмейстерской руки схлопотали - для их же пользы Архаров держал парнишек в строгости. Вот теперь и может порадоваться - выросли таковы, что в любом деле можно на них положиться. Устин Петров - и этот не подкачал! Федька - тот и вовсе любимчик, дважды спасал от смерти. Нет, глядя на них, не поймешь, откуда берется предательство…
А Федька меж тем слез с телеги, отошел и тихо беседовал с Левушкой. Тот, размахивая руками, описывал свой бой с «чертом» и даже изображал вполноги выпады и отступления. Даже сам себя отругал за ошибку, которая оставила царапину на груди, как раз посередке, а могло быть и хуже, острие шпаги только распороло рубаху…
– Вот черт, - сказал Левушка, шаря под рубахой. - Медальон пропал! И с лентой вместе!
– Портрет? - спросил Федька.
– Портрет. Чувствовал же я - дернулось! Не иначе - он ленту рассек, и все в воду полетело.
– Может, на мосту лежит?
И Федька, не спросясь, побежал, прихрамывая, искать портрет.
Конечно же, его на мокрых досках уже не было - и фехтовальщики там немало потоптались, и Устин возился, как тюлень, выползая из воды. Федька вернулся на сушу и встал столбом, созерцая воду.
Медальон с Варенькиным портретом ушел на дно саженях в трех-четырех от начала моста - глубина там уж всяко была не менее сажени. Нырнуть несложно, нырять он еще парнишкой выучился, знать бы - где!
Может, и вовсе какая-нибудь рыбина заглотала…
К нему подошел поручик Тучков и увесисто хлопнул по плечу.
– Ну, Федя, видать не судьба - не про нас тот портрет, - уже справившись с собственным легким огорчением, объявил Левушка. - Пошли! Господин обер-полицмейстер уже изволит по-народному выражаться.
Поглядел Федька на темную воду, вздохнул, повернулся и пошел к экипажу.
Ему вдруг стало ясно, что никогда более он не встретит Вареньку. Вокруг нее такие страсти, такие интриги! Может, ее и вовсе на границу ушлют, от греха подальше. И он ступал тяжко, прихрамывая, повесив буйную голову, и вздыхал столь тяжко, что Михей расхохотался.
– Эй, Федя, у нас вот так-то буренка дышит, когда ей телиться пора!
Архаровцы собрались у экипажа, наконец отвязали лошадей. Обер-полицмейстер взял к себе в экипаж Сашу и Левушку, Никодимку выставил и велел лезть на телегу.
– Николаша, сперва - на Пречистенку, - потребовал Левушка. - Ты погляди, на что мы все похожи!
Архаров дважды кивнул. И крикнул Сеньке, чтобы вез домой как-нибудь в объезд, огородами. Потому что и Сенька, и едущие следом за экипажем архаровцы имели такой вид, будто участвовали в знаменитом Чесменском морском сражении.
Оглядев свое воинство, обер-полицмейстер остановил взгляд на Макарке. Этому орлу удалось и в реку не свалиться, и в грязи не вываляться.
– Ну-ка, скачи в контору. Может статься, там есть новости о Каине, черти б его побрали. Потом - ко мне. По коням, молодцы.
И полез в карету. Дело было сделано, хотелось посидеть и помолчать, пусть даже под Левушкины восторги и ужасы.
Полицейские ехали вслед за архаровским экипажем молча. Некому было вдруг завести песню о молодце, что шагает вдоль по крутому бережку, или об утице луговой, или о миленьком на троечке. И все они разом затосковали по звонкому, переливчатому, вечно-юному голосу. Скрип колес разве что, стук копыт, какие-то далекие голоса были сейчас их музыкой - музыкой победителей, которым победа не в радость, потому что надобно еще отыскать и с честью похоронить Демкино тело…
Добравшись до Пречистенки, обер-полицмейстер отправил всех в людскую - пусть там бабы приведут их в порядок, дадут умыться, обсушат как-нибудь. Меркурию Ивановичу велел поглядеть раненого - может, еще не безнадежен. Сам же отправился в свои покои - хотел всего-навсего продиктовать письмо.
Его встретил на лестнице Лопухин - нарядный, в светло-зеленом модном кафтане, напудренный, чуть нарумяненный - не иначе, собрался к невесте в гостиную, пленять дядюшек и тетушек. Отправляясь на тайные ночные свидания в саду, он так не наряжался.
– Я в окно глядел, когда вы подъезжали. Ну и кавалькада у тебя, Архаров, - сказал Лопухин. - С кем это вы воевали?
– Коли угодно, спустись да погляди в телеге, - не совсем любезно отвечал Архаров.
– Непременно самому надобно было ездить?
– А сидя в кабинете, много не накомандуешь.
– Вот тут и видно, что в полиции все устроено неправильно. Начальник должен распоряжаться, подчиненные исполнять. Что же это за устройство, коли начальник сам должен вместо подчиненных трудиться? - резонно спросил Лопухин. - Я, Архаров, записку готовлю, имей в виду, об улучшении полицейской деятельности.
– Готовь, коли охота. К невесте собрался?
– Сперва - к Пашотт, потом все вместе поедем ужинать к его сиятельству. Архаров, ступай умойся да и приезжай туда! Ее сиятелство передавать изволила, что дамы по тебе соскучились.
В голосе и взгляде Лопухина было известное лукавство. Не иначе, намекал на Вареньку.
Надобно было что-то отвечать, но пристойные слова на ум не шли. Выручил Левушка - прискакал через три ступеньки, исполненный восторга:
– Лопухин, кабы ты видел, как я сегодня дрался!
Оставив приятелей, одного - безудержно хвастаться, другого - внимать со скрытым недовольством, Архаров прошел к себе и потребовал мокрое полотенце - обтереться, во время вылазки он взмок под кафтаном нещадно. Никодимка тут же принес и свежую рубаху.
– У ваших милостей сор в волосиках, - сказал он, - перечесать бы заново.
– Чеши…
Глядя на Никодимку, Архаров подумал: надо бы еще как-то поблагодарить. Ведь додумался - открыл окошко, выстрелил.
– Эй, дармоед, тебя Марфа, что ли, стрелять выучила?
– Марфа, чтоб ее приподняло да шлепнуло… Она и не то еще умеет, она и из пушки стреляла!
Архаров догадался - это было в те времена, когда Каин, хвастаясь богатством, устраивал народные увеселения и баловал красивую подружку тем, что всюду выводил на главное место.
– Дай-ка бархатный кафтан, тот, вишневый.
Никодимка принес кафтан, и Архаров пошарил в карманах. Он помнил, что в этом наряде был у Волконского, усадили за карточный стол, он что-то даже выиграл, не выигрыш был незначительный, так и остался в кармане. Сказалась обычная архаровская брезгливость по отношению к деньгам, что достались неправедным путем. Пошарив, Архаров выгреб несколько монет.
– На твое счастье, - сказал он Никодимке и разжал кулак.
Счастье оказалось внушительным и странным - два золотых червонца и перстенек с неведомым камнем, вроде рубина, но цветом - как слабый клюквенный морс. Ну, значит, такова дармоедова удача.
– Да ваши милости!…
– Забирай и кончай с волосами возиться. Крикни там Сеньке, чтобы седлал Фетиду и Тучкову - Агата. Поедем в контору.
Архарову совершенно не хотелось слушать Никодимкины благодарности и пожелания. Сам он полагал, что главную награду выдал там, на берегу, явив свою благосклонность к окрошке.
А теперь он, освеженный и причесанный, хотел побыть один хоть четверть часа.
И ему это почти удалось.
Он пошел в спальню и сел на постель. Дунька по обычной кошачьей наглости спала на подушках. Он перевернул ее на спинку и растормошил, добиваясь, чтобы стала покусывать пальцы. Это его смешило.
– А почему, Дунька, все сегодня получилось? - спросил он котенка. - А потому, что они крысы, а мы с тобой - коты… Иначе, Дуня, и быть не могло. Всякая крыса знает, что однажды явится кот…
Он вспомнил мертвое лицо. Этот навеки неизвестный человек сделал все, что мог - все, что причитается соответственно ремеслу крысы. Ничего не боялся, человеческая жизнь в его глазах не стоила ни гроша, если интрига требовала. И чуть было не увенчалась его пакостная затея успехом.
Он вспомнил и мертвые руки с тонкими смуглыми пальцами, нечеловечески ловкими - что кундштюки с орехами проделывать, что шпажный эфес держать.
Это тело было словно нарочно создано для скорости и риска, оно исполняло любой приказ своего владельца - прыгнуть ли вверх на зависть коту, бежать ли быстрее коня, биться ли с лучшим фехтовальщиком.
У Архарова в полицейской конторе таких ловкачей не водилось - разве что Клаварош, но Клаварош уж немолод.
Грустно и неприятно стало от мысли, что тело (Левушка сказал бы - идеальное) загублено, что ум, способный заплетать неслыханные узлы, не может быть более употреблен. Словно бы по любимому архаровскому английскому пистолету треснули во всю дурь кувалдой.
Но предаваться скорби по врагу вовсе не имело смысла.
Архаров кликнул Сашу и продиктовал письмо графу Орлову-Чесменскому. Это не было победной реляцией - Архаров кратко извещал, что некая персона обезврежена, и предлагал встретиться для важного разговора. В конце концов, следовало как-то решить судьбу сервиза графини Дюбарри. Письмо повез конюшонок Павлушка.
Ему было велено седлать Фирса и скакать сразу же. Потому, услышав стук копыт во дворе, Архаров рассердился - это что же, парень до сих пор собирался? Он подошел к открытому окну, чтобы изругать бездельника, и увидел Макарку.
– Ваша милость! - закричал Макарка, поднявшись в стременах. - Тимофей Кондратьевич велел сказать, что десятские Грызика и встретили, и проводили! И Скес с ними был! Так что все известно! И стерегут!
– Стой, жди меня! - приказал Архаров. И побежал вниз, и ворвался в людскую, где сидели за столом его молодцы.
– Каина обложили, - удержав голос, негромко сообщил он. - Кому неохота его брать - оставайтесь, кто желает - по коням!
Возбуждение, охватившее обер-полицмейстера, ему самому сильно не понравилось. Казалось - в теле появилась, как у железных кукол механиста Пьера Дюмолина, некая железная штуковина, вызывающая дрожь. Пока что силой воли можно было держать ее в узде. Но могло ли этой силы хватить надолго?
Он не мог рассуждать, как рассуждал на речном берегу и в спальне о погибшем «черте». К «черту» он отнесся философски - француз, итальянец, или кем там был покойник, служил врагам Отечества, и хотя он затеял убийство обер-полицмейстера, это дивным образом не вызывало у Архарова ни возбуждения, ни раздражения. Всякий из них делал свое дело, один сделал лучше, другой расплатился жизнью - вот и вся недолга.
Каин - это было нечто иное.
Архаров по сей день не мог простить ему той тревоги, свидетелем коей стал Шварц. Он ненавидел свой внутренний трепет - такой, по его мнению, должен был бы чувствовать самозванец при явлении подлинного хозяина.
И Архаров не был на Москве самозванцем, и Каин давно уже не был хозяином, а это первое впечатление, первое ощущение оказалось цепким и живучим. Следовало как-то от него избавляться - пока не заметили и не поделились друг с дружкой своим удивлением архаровцы.
Каина выследили не вовремя - обер-полицмейстер, хотя и показывал подчиненным хмурое спокойствие и готовность к действию, еще не остыл после беготни по берегу и погони за каретой.
Но откладывать это дело он не мог - мало ли, что придет в голову старому мошеннику? Сейчас он сидит в доме, а через полчаса явится к нему тот четвертый, которого дожидались «черт» с Елизарьевым в троице-Лыкове; непременно тот четвертый видел из кустов беготню архаровцев и слышал выстрелы; Каин же - отнюдь не дурак…
Архаровцы поднялись из-за стола. Первым, понятное дело, вскочил Федька.
– Пошли, товарищи, - сказал Ушаков. Это было правильно - по возрасту он самый старший из всех, так что даже к Архарову могли относиться эти слова.
– Телегу оставим здесь, - решил Архаров. - Нечего возить по Москве покойников всем на погляденье.
Спорить с ним не стали - тем более, что, прибыв в полицейскую контору, он сразу же отправил за мертвым телом, тяжело раненым незнакомцем и Семеном Елизарьевым экипаж с решетками на окнах под кожаными занавесками.
Тимофей уже был готов присоединиться к экспедиции, рядом с ним стояли оба Ивановых - Захар и Клашка.
– Он за Яузой, совсем рядом угнездился, на Николоямской, за Степановским храмом, - деловито доложил Тимофей. - Место удачное, там ямской двор поблизости, непременно он с ямщиками в сговоре. Так что, ваша милость, надо поторопиться. Домишко мы оцепили.
– Прелестно, - сказал Архаров.
– Ваша милость, прикажете брать? - спросил Тимофей.
– Да, Тимоша… - Архаров задумался. - Всем добираться пешком, поодиночке. Мы с поручиком Тучковым приедем чуть погодя. Пусть нас на набережной встретят. Ступай…
Затем он направился к себе в кабинет. Левушка шел следом, несколько встревоженный.
– Значит, твой приятель полагает, что всю московскую полицию надобно разогнать и новую завести, устроив ее более разумно? - спросил вдруг Архаров. - Что он тебе о том толковал?
– Толковал, что мало порядка, а порядок образуется, когда…
– Порядка ему, стало быть, мало. Ничего, сегодня его и заведем, порядок-то… Прискакал, два дня в канцелярии просидел - все про Москву понял! Тетрадочку написал! Что - небось, государыне подаст? И для того просил, чтобы я его представил государыне, чтобы тут же к ней с тетрадочкой?
Левушка не был пуглив и сегодня это снова доказал. Но сейчас он смотрел на старшего товарища - и ему делалось страшновато.
– Да ты что, Николаша?
– А что ж его никто из родни представить не мог? То есть, он хотел показать государыне, что в полицейских делах разбирается. Какого черта ты его привез?
Тут уж Левушка просто не знал, что ответить.
Все трое были преображенцы - и Архаров, и Лопухин, и Тучков. Дико было бы, коли бы один из них отказал другому в гостепримстве. Да и московские нравы были таковы, что какую-нибудь внучатную племянницу соседа покойного деверя принимали, как родную, и она гащивала по месяцу и более.
– Мы что, тебе не ко двору пришлись? - спросил Левушка.
Тут только Архаров опомнился.
Он сам не мог понять, почему вдруг напустился на друга. И, чтобы прервать этот разговор, крикнул, чтобы к нему вызвали Шварца.
Несколько минут спустя доложили - немца нигде нет.
Однако и ключей от подвальных помещений он не отдал. Архаров задумался и прошелся взад-вперед по кабинету. Левушка озадаченно наблюдал за ним.
Он понятия не имел о стычке Архарова со Шварцем.
Архаров же одновременно ощущал свою правоту в этом деле и хотел, чтобы откуда-нибудь вдруг взялся Шварц и поделился с ним невозмутимостью, как это уже не раз бывало.
В дверь поскреблись.
– Кого черти несут? - спросил Архаров.
Вошел Ваня Носатый.
– Я, ваша милость, по горячему следу кое-чего разведал.
– Ну?
– Наш голубчик там учителем танцевальным служил.
Архаров даже не нашелся, чего ответить.
Это было уже просто восхищение ловкостью французского шпиона. У графа Разумовского одиннадцать человек детей, денег на учителей он не жалеет, там целую шпионскую роту можно к делу приставить. В Петровском бывают и знатнейшие господа, особливо теперь, когда государыня в Москве и двор вместе с ней приехал. Это ж какие знакомства можно завести, привлекая дам грациозностью исполнения менуэтных, контрдансных и прочих па!
– Поедешь сейчас с нами, - сказал Ване Архаров. - Завтра продиктуешь канцеляристу донесение.
И дважды хлопнул Ваню по плечу. Это было - вроде ордена Андрея Первозванного, только на полицейский лад.
– А вот любопытно, есть ли и наши люди во французской столице? - спросил Левушка. - Тоже, поди, при знатных особах состоят и всюду нос суют - как ты полагаешь?
– Полагаю, что нет, - отвечал Архаров. - Иначе бы разнюхали, какую нам пакость с этим сервизом готовят. Сервиз, Тучков, не с луны свалился - его у ювелиров выкупали, как-то в Россию переправляли, и негодник Сартин о нем все превосходно знал. Разве что при посланниках обычно есть люди, которые этим занимаются - и то, как я погляжу, проку от них мало… шифрованные сообщения разве что писать…
– По-дурацки это все устроено, - согласился Левушка. - Ну, едем, что ли? А то вон солнце скоро сядет, а я еще хочу с Лопухиным кое-куда съездить.
Архаров сдержался. Легкомысленный Левушка так и не понял, что теперь о Лопухине лучше не говорить.
Ваня побежал вниз, раздобыл лошадь, зарядил пистолеты и был готов сопровождать господина обер-полицмейстера хоть в пекло.
Они поехали втроем, негромко переговариваясь - Ваня рассказывал о своих похождениях в Петровском, Левушка делал примечания.
В начале Николоямской их встретил Никишка, довел до нужного места, где все трое спешились, а он принял поводья.
Стемнело. Добропорядочные горожане спали, спали и ямщики на своем дворе - и те, что выезжали в ночь, и те, кто спозаранку. Архаров отметил, что несколько фонарей не горят, и положил себе завтра же с этим разобраться.
Никишка свистнул, из темноты отозвались, вышел Евдоким Ершов.
– Сюда пожалуйте, ваша милость, - сказал он.
Домишко оказался жалкий, на задворках маленького и заброшенного Яузского дворца. Но Каин, добираясь из Сибири в Москву, и не в таких живал.
– Мы пса отравили, двух мазов изловили, связали, прикажете привести? - спросил Евдоким, и тут же бесшумно подошел Тимофей.
– Не надобно. Кто в доме?
– Каин и маруха его, еще гируха, что бряйку стряпает, - отвечал Тимофей.
– Никого при оружии нет?
– Не должно быть, ваша милость. Хотите, в окошко пальнем, чтоб отозвались?
– Не надобно. Тучков, жди здесь.
Архаров направился через двор к крыльцу.
Он и не глядя видел - кто где из архаровцев стоит, перекрывая все входы и выходы.
– Кыш отсюда, - сказал оказавшемуся рядом Клашке.
И преспокойно пошел к низкой двери.
Дверь была заперта. Архаров треснул в нее левым кулаком.
– Отворяй, Иван Иванович! - крикнул он. - Не то подожжем с четырех углов! Побежишь, как таракан!
– Отворяю! - некоторое время спустя отозвался женский голос.
Дверь распахнулась. Архаров увидел в темных сенях девку с худощавым и неприятным лицом.
Отодвинув нее, он вошел в горницу. Девка осталась стоять в дверях.
Каин сидел у края стола и даже не встал при виде обер-полицмейстера. Одна нога у него была обута, другая - боса.
Стол был накрыт диковинно - крынка со сметаной и торчащей ложкой, тарелка с надкусанным калачом, другая - с французскими драже, фаянсовая кружка, дорогая табакерка с мелкими бриллиантами и золотой кофейник.
– Что, старая хворь разгулялась? - спросил Архаров.
– Выследили меня твои кобели, - отвечал Каин. - Отгулял я свое. Опять в Сибирь отправишь?
Архаров ничего не ответил, а лишь глядел на босую ногу, лишенную двух крайних пальцев, с незаживающей раной у щиколотки. Матвей говорил как-то, что рану в таком месте залечить трудней всего.
– Ну, бери, вяжи, что ли! - выкрикнул Каин.
Архаров и тут промолчал. Босая нога вызывала острую жалость - жалость к старческому обветшавшему телу.
В лицо Каину даже глядеть не хотелось - ничего там хорошего нет.
– Коли так, пойду я, Иван Иванович, - сказала девка. - Сманил меня, дуру… Не стану с тобой пропадать.
Архаров кивнул.
Он уже почти принял такое решение, которое позволяло обойтись без сурового допроса девки-сожительницы и людей, давших Каину приют.
Каин словно не слышал слов своей подруги.
Она зашла за длинную занавеску и вышла с немалым узлом, который несла легко, да и взгляда не прятала, не склонялась перед скверными обстоятельствами. Остановившись у стола, она посмотрела на кофейник и табакерку, взяла табакерку и сунула в узел.
Каин даже не шевельнулся.
– Пошла вон, - сказал Архаров.
– Я о нем, о всех его затеях, знать не знала. Сманил дуру, платья и серьги обещал…
– Пошла вон.
Девка вышла. Архаров слышал, как каблучки простучали по сеням, как хлопнула дверь.
Тогда только Каин поднял голову и посмотрел с некоторой надеждой.
– Говорил же тебе - сгинь из Москвы, - тихо произнес обер-полицмейстер.
– Так и уходил… А что, сударь, не отпустил бы ты меня? Я тебе про графа Матюшкина расскажу, про елтону его, и как граф Ховрин меня к ним посылал…
Теперь на Мишеля Ховрина можно было валить все, но Каин, скорее всего, сказал правду - кто бы, кроме покойного графа, свел его с «чертом», давним своим приятелем по шулерскому притону?
– …и как они меня с французом сводили, и на что подбивали. Да и не столь на мне вины, как на первый взгляд кажется. Э?
Архаров все смотрел на изуродованную ногу.
Каин непременно станет врать, выгораживая себя, объясняя свое предательство незнанием и обычной жаждой наживы, поливая грязью тех, к кому сам же пристал, предложив свои услуги. Кондратий Барыгин и Вакула его жалеть не станут. А меж тем только он и мог научить французов - кто бы еще так понял нрав Архарова, сперва сидящего сиднем в своем кабинете, а потом непременно прущему на рожон впереди всех? На чем, собственно, и была построена интрига…
Каин волновался - за руками-то следил, а пальцы ног поджались.
Жалкая, обреченная плоть…
– Говорил же тебе… - повторил Архаров, вынул из кармана руку с небольшим английским пистолетом и выстрелил Каину в грудь.
Пистолет меток лишь в ближнем бою. Тут же - ближе некуда, и сажени не будет.
Каин ахнул и повалился со скамьи.
Архаров даже не посмотрел на него - он знал, что выстрел был удачный, смертельный. Затем шагнул к столу, взял золотой кофейник, развернулся и пошел прочь из комнаты.
Он встал на крыльце, опустив дымящийся пистолет. Подбежали Тимофей, Ушаков, Максимка, Клашка Иванов, всех растолкал и пробился в первый ряд Федька.
Он был их командиром - а это значило, что ему ничего не надо объяснять подчиненным.
Архаровцы молча ждали - вдруг командир что-то скажет. А он, опустив голову, набычившись, не мог и не желал говорить, да и с крыльца сходить почему-то не хотел. Так и стоял: в одной руке английский пистолет, в другой французский кофейник.
Он сделал то, что должен был сделать, - уничтожил крысу. Как тот котишка из Каиновой басни. Две было возможности избавить Москву от этой крысы - выгнать навеки или убить. Выгнать не удалось. Но даже Шварц должен был бы понять - это наилучший выход из положения…
Если Архарову и случилось когда-либо убить человека - сам он об этом доподлинно не знал. Четыре года назад, в Чумной бунт, он приказывал солдатам стрелять по толпе и стрелял сам. И потом доводилось, но - в ходе схватки, когда и прочие палили, промахивались, попадали. Возможно, Каин был его первым покойником. Сам он не ощущал себя в эти минуты ни убийцей, ни палачом, ни исполнителем воли Божьей, ни даже офицером, исполнившим долг в меру своего разумения.
В его владения забралась хитрая и опасная крыса. Он ее пристрелил. Чего же более? Каин в его разумении уже давно не был человеком. Блажен, иже и скоты милует - эти слова из Священного Писания Архаров знал твердо и помиловал Каина примерно так же, как живую четвероногую и хвостатую крысу - уничтожил без лишнего мучительства. А в подвале довольно будет для допросов прочей Каиновой братии - узнав про гибель своего предводителя, мазы, несомненно, поумнеют и охотно расскажут все, что им известно, свалив при этом все грехи на покойника.
Крысы больше нет. А котишка, ни на кого не обращая внимания, зализывает раны, коих накопилось уже немало.
Архаровцы ждали, не решаясь заговорить с командиром, только что убившим человека - не в стычке, не в поединке, а как охотник пристреливает загнанного зверя. Каждый из них рад был бы изловить Каина и сдать его с рук на руки Шварцу, каждый преспокойно бы выстрелил в старика, коли не знал бы иного способа его задержать, но убивать человека, который окружен со всех сторон, убивать без особой нужды - этого они понять пока еще не могли.
И они искали оправдание для своего командира, и оно возникло едва ли не у всех разом.
– Вот и поплатился за Демку… - очень тихо сказал Тимофей.
– Царствие нашему Демке небесное, - добавил Ваня.
Устин был тут же, стоял позади всех, но Ваню расслышал.
За свою жизнь он повидал, пожалуй, столько же мертвых тел, сколько все архаровцы, вместе взятые. С ранней юности дьячок читал Псалтирь над покойниками. Проводя ночи возле открытого гроба, он освоился с присутствием смерти телесной. Правда, он позже всех догадался, что сделал Архаров, но раньше всех понял, как себя вести.
– Ваша милость, - сказал, подойдя к крыльцу, Устин. - Дозвольте мне там помолиться…
– Помолиться? - переспросил Архаров.
– Ваша милость, ему теперь молитва более, чем кому другому, надобна, - тихо произнес Устин и, изловчившись, проскользнул мимо Архарова в двери.
Архаров, медленно повернув голову, хмуро поглядел ему вслед. Устин несколько озадачил его своим деловитым исполнением христианского долга. Но, похоже, он был прав - по крайней мере, его голос, громко нарушивший возникшую после выстрела тишину, помог Архарову вновь ощутить течение времени.
И в мире, где только что снова появилось время, раздался стук копыт - пронесся, удаляясь, куда-то в сторону Яузы.
Архаров понял, кто покинул его, и дважды кивнул - иначе и быть не могло.
– Я, ваша милость, пошлю за телегой, - сказал Тимофей. - Там, поди, много чего еще найдется, что к нам доставить следует. Да и ту парочку мазов. Позвольте, ваша милость…
И Тимофей, взяв пистолет за ствол, забрал оружие у обер-полицмейстера. Архаров остался с кофейником.
Жизнь продолжалась, служба продолжалась, и все вдруг поняли, как следует себя вести: ни словом более не обмолвиться о Каине, как если бы он в Москве не появлялся, а так и сидел по сей день в сибирской каторге. Потом, собравшись у кого-нибудь поздно вечером, и можно будет потолковать о событии, сейчас же следует думать не о том, кто застрелен, а о том, кто жив.
Архаров прочитал на лицах это безмолвное общее решение. Иначе и быть не могло. Иначе эти люди не были бы его людьми.
– Ваша милость, что с девкой делать? - спросил, подойдя, Скес, показывая совершенное безразличие к судьбе Каина. - Там ее Захар держит, она божится, что вы ей дозволили уходить.
– Пошли, - сказал Архаров, и Скес повел его через темный двор к калитке.
Захар держал девку, вывернув ей руки так, что и не пошевелиться. Узел с вещами стоял у ее ног.
– Кто такова? - спросил Архаров.
– Катерина Печатниковых, - отвечала девка, и сразу было ясно - врет. - Не велите ему, ваше сиятельство, добро мое отнимать, сами ж позволили унести.
– Позволил… Где тело Костемарова?
– Какого еще Костемарова?
– Коли ты с Каином жила, должна знать.
– Да мало ли с кем он якшался? Я-то по другой части ему служила!
– Тебя мой человек видел, когда к Костемарову на замоскворецкий ваш хаз пробрался.
Федька рассказал лишь о девке, которая жила в том доме и имела некоторую власть. А желание власти на лице пленницы было написано огромными буквами, как в заглавии печатного указа.
– Ну, будешь ли говорить?
– Ничего не знаю, спала я с ним - и все, ваше сиятельство…
Архаров, не тратя времени, дал девке пощечину. Захар удержал ее от падения.
– Это тебя еще только приласкали, - сказал Захар, - а вдругорядь зубки полетят.
– В старый колодец кинули…
– Умница, - похвалил Архаров. - Давно бы так. Где колодец?
– За домом… там от навеса тропинка через огород… и направо…
– За что люблю Москву, так это за постоянство, - задумчиво произнес Архаров. - Как труп - так непременно в колодец. Ну, беги, да чтоб я тебя более на Москве не встречал!
– Отпустить, что ли? - удивился Захар.
– Отпускай. Да и узел свой пусть забирает. Грешно Каинову маруху нищей оставлять. Пошла вон!
Катиш подхватила свое имущество и побежала.
– Идем, - сказал Архаров Захару. - Нечего здесь время терять. Где там моя Фетида?
* * *
– Так вот оно каково, блудное парижское художество, - сказала государыня, обходя стол.
На столе был выставлен сервиз графини Дюбарри - весь целиком, включая самые малые ложечки. Сияло золото и тусклые блики гуляли по «мясной» красной яшме.
– Изрядно, - подтвердил фаворит, сопровождавший ее в этом путешествии. - Отродясь такой тонкой работы не видывал. Ну, господин обер-полицмейстер, добыча славная!
Архаров молча поклонился - он не хотел встревать в беседы с господином Потемкиным.
После завершения празднеств граф Орлов-Чесменский был приватно принят государыней и рассказал ей приключение с сервизом. Разумеется, она пожелала видеть произведение парижских ювелиров, и граф по такому случаю вызвал в Пречистенский дворец тех участников дела, коих знал сам - полковника Архарова и и поручика Тучкова. Особо замолвил словечко за полицейского служащего Федора Савина. Сам же отговорился то ли нездоровьем, то ли еще чем, и государыня не настаивала - знала, что ему неприятно находиться в обществе фаворита.
Архаров был в некотором затруднении - после той ночи, когда он расправился с Каином, Левушка от него сбежал и поселился у какой-то тетки. Пришлось просить о содействии капитан-поручика Лопухина, который также чувствовал себя неловко - Тучков наговорил ему каких-то невнятных ужасов, и Лопухин не знал, как же теперь вести себя с хозяином дома. Но он умел ладить со всеми и устроил так, что Архаров и Левушка встретились в приемной государыни.
Архаров по указанию графа привез с собой Федьку.
Федька наконец выспался, нога болеть перестала, перед столь важным визитом Архаров погнал его в баню, к тому же, обер-полицмейстер вызвал к себе знакомых купцов и велел спешно осчастливить подчиненного новым мундиром, туфлями, чулками - всем, что положено иметь на себе во время аудиенции. Купцы, сообразив, что Федьку ждет повышение в чине, благоразумно не поскупились и даже положили в карман кошелек с деньгами и табакерку. Утром Никодимка причесал его, загнул букли, напудрил - и вышел такой молодец, что, пока Архаров вел его по кривым и несуразным коридорам Пречистенского дворца, все встречние дамы и девицы заглядывались.
Левушка поклонился Архарову весьма сдержанно, зато подошел к Федьке и стал развлекать его беседой, в которой Архарову места не нашлось. Когда же они были впущены в кабинет, то держался ближе к фавориту, который тоже был рад его видеть - генерал-адьютант Потемкин уже более года был подполковником гвардии Преображенского полка.
Государыня и ее любимая подруга, графиня Брюс, пожелали знать подробности дела. Архаров не был великим рассказчиком, зато они умели задавать вопросы и понемногу вытянули из него всю историю - вплоть до перестрелки в Троице-Лыкове.
Фаворит, зная, что поручик Тучков тоже в сем деле участвовал, вовремя спросил о какой-то мелочи Левушку, а тот и рад стараться - весьма красочно живописал погоню за каретой.
Этот кундштюк Архаров раскусил - сам он был под покровительством графа Орлова-Чесменского, и фаворит не желал, чтобы государыня была к обер-полицмейстеру благосклонна, потому и выставлял вперед своего подчиненного. Опять же, Левушка хорош собой, на него дамам и посмотреть приятно, а опасности для фаворита не представляет - молодой вертопрах, умеющий ловко драться на шпагах, не более.
Федька стоял в уголке, ничего с перепугу не понимал в разговорах и смотрел в пол, лишь изредка осмеливаясь взглянуть на ее величество.
Государыня была очень хороша в платье из коричневого бархата - цвета желудя, отделанном только лентами и газом. Волосы она убрала просто - хотя придворные красавицы с каждым месяцем прибавляли вершок в росте из-за пышных своих причесок, Екатерине эта мода явно пришлась не по вкусу. Брюсша же, наоборот, взбивала волосы, как молоденькая щеголиха, и прическа ее была увенчана небольшими страусиными перьями.
– Я жду немалых неприятностей от французского посольства, - сказала государыня. - Ты, Николай Петрович, и не знаешь, а за нашим малым двором нужен пригляд… глаз да глаз!
Вспомнив русское выражение и применив его к месту, государыня улыбнулась.
Вот как раз это Архаров превосходно знал.
Именно теперь и знал в подробностях.
Он отправил Клавароша в Петровское - разбираться с тамошними французами. Как всегда, слуги знали о жизни господ более, чем им полагалось бы. Кроме сведений о танцевальном учителе Клаварош раздобыл всякие занятные подробности из придворной жизни Андрея Разумовского, графского сынка. Причем он никого не выспрашивал - подробности являлись сами, беспечно и непринужденно.
Разумовский-младший состоял при «малом дворе» - при наследнике-цесаревиче Павле Петровиче и его супруге. В Москве наблюдательные дамы подметили, что он за ней машет. Она же, особа весьма норовистая, с каждым днем все менее ладила со свекровью. Государыня не могла понять, как можно, столько лет прожив в России, не знать ни одного русского слова. А траты невестки приводили ее в скверное настроение. Она уж пыталась как-то воздействовать на бывшую принцессу Вильгельмину, ныне - великую княгиню Наталью Алексеевну, и собственного сына через того же Разумовского, чтобы как-то призвать их к порядку. Даже прямо рекомендовала по одежке протягивать ножки. Но строптивая невестка не поддавалась увещеваниям, делала долги - и кто-то из персонала графа Разумовского, подслушав некую беседу, уже рассказывал, что великая княгиня хочет сделать займ у европейских банкиров при посредничестве французских дипломатов.
Эта новость и дошла до ушей государыни. На нее-то и был сделан намек, понятный, как полагала царица, одному лишь фавориту.
Но Архаров сохранил неподвижность физиономии. Лезть в семейные дела государыни он не хотел. Вот коли скжут прямо и попросят содействия - иное дело.
– Мне скучно понапрасно и без спасибо платить их долги, - добавила государыня. - Если все счесть и с тем, что дала, то более пятисот тысяч в год на них изошло, и все благодарности не получила. Ныне же новые проказы…
Возможно, она желала вопроса. Но Архаров молчал. Коли понадобятся его услуги - пусть ее величество призовет для приватного разговора, чтобы не торчал рядом бесстыжий фаворит, чтобы не подсовывала свою пышную грудь прямо ему под нос Брюсша, да и поручик Тучков с подчиненным Савиным в таковой беседе ни к чему.
– Господин Архаров сделал уж довольно, чтобы пресечь новые проказы, - сказал фаворит. - Раскрыл злодейский заговор, оказал немалую услугу графу… к радости вашего величества…
– И я высоко ценю сию услугу, - мягко ответила государыня. - К сожалению, граф при последней встрече нашей просился в отставку. Желает жить в Москве на покое.
Архаров слушал весьма внимательно. О том, что фаворит ревнив и государыне приходится то и дело его ревность усмирять, обер-полицмейстер знал. Все, что было связано с предыдущими фаворитами, казалось господину Потемкину невыносимым. Однако Алехан Орлов никогда, помнится, при постельных услугах не состоял, это ему за братца досталось…
И Архаров представил себе, что рядом с государыней - не сей могучий господин, коего даже красавцем не назовешь, а умница Алехан, ростом - не ниже, станом - стройнее, норовом - попрочнее, и предан безмерно… чего бы ей не снизойти к Алехану? Разве не хорош собой? Не любимец дам? Не доказал своей верности делом? Не взял на себя дважды ответственность за малоприятную историю - лишь бы ей, государыне, от того была польза? Этот же - еще неведомо, как себя в трудный час окажет?
Левушка покосился на обер-полицмейстера - не понимал этого молчания, которое могло показаться признаком заносчивости и гордыни. Сейчас бы и, вступя в беседу, ловко отвлечь государыню с фаворитом от их внутренних несогласий. Оба за это будут благодарны.
– Сие с его стороны благоразумно, - сказал фаворит. - Друзьям графа не следует его отговаривать.
– Я люблю иметь разум и весь свет на стороне своей и своих друзей, и не люблю оказывать милости, из-за которых вытягиваются лица у многих, - парировала государыня. - И, коли уж мы толкуем о заговоре, то главный герой не должен быть позабыт. Верно ли, что сей молодец способствовал раскрытию заговора?
Государыня указала веером на безмолвного Федьку.
– Именно так, ваше величество, - отвечал Левушка. - Кабы не он - много бы злодеи бед понаделали. Он и заговор раскрыл, и шпиона выследил. Сделал сие, не дожидаясь приказаний, а лишь из чистосердечного рвения.
На архаровский взгляд, поручик Тучков беседовал с императрицей уж чересчур вольно. Сам он словно окаменел в своем огромном и тяжелом кафтане, держа крупную голову наклоненной самым почтительным образом.
– А ты что скажешь, Николай Петрович? - обратилась к нему государыня.
– Все так, как поручик Тучков доложил, - подтвердил Архаров. - Сей полицейский служащий проявил рвение, усердие и ловкость. Достоин награждения и повышения по службе.
– То есть, один московский полицейский спас от позора и меня, и весь двор?
– Да, ваше величество! - прежде Архарова выпалил Левушка.
– Так, ваше величество, - на долю мгнования опоздав, но почти разом с ним, произнес Архаров.
Причем оба, оказавшись рядом, старались друг на дружку не смотреть.
Федька стоял, глядя в пол, и не верил собственным ушам. Архаров и Тучков едва ль не за уши тащили его сейчас вверх, отказывались от славы и похвал для себя, преподнося государыне, как некую драгоценность на золотом подносе, тверского мещанина, колодника, мортуса, полицейского служащего Савина.
– Награждать мне приятно, - сказала государыня, с улыбкой глядя на Федьку, даже любуясь им. Он был не того богатырского сложения, которое редко оставляло ее равнодушной, но плечист, чернобров, черноглаз, и, коли бы нарядить его в придворное платье да обучить изящным манерам, затмил бы, поди, записных санкт-петербуржских щеголей и красавцев.
Господин Потемкин тут же полез в карман и достал дорогую табакерку с эмалевой картинкой на крышке.
– Вот тебе, кавалер, награда, - и вжал безделушку в Федькину ладонь.
– Нет, нет, этого мало, - возразила Брюсша. - Он большего достоин.
– Ваше величество, сей полицейский превосходно служил вам, будучи в самых низших чинах, но еще лучше послужит в высоком чине! - встрял Левушка с истинно гвардейской отвагой.
– Что скажешь, Николай Петрович?
Архаров понял вопрос государыни.
– Полиции недостает хороших офицеров, ваше величество, молодые люди из почтенных фамилий не идут к нам служить. Коли бы полицейский служащий Савин был награжден должным образом… из вашего величества рук, вашей волей… сие бы прибавило уважения к полиции…
Он никак не мог выговорить того, что уже созрело, что уже висело в воздухе, словно выбирая уста, с которых прозвучать. Да и кто он такой, чтобы советовать государыне возвести в дворянство Федьку Савина? Молодому нахалу Тучкову такой совет простят, а обер-полицмейстеру - того гляди, припомнят.
Да как же намекнуть Левушке?
Но государыня была умна.
– Вот и я того же мнения, - сказала она. - Но присвоение чина влечет за собой и иную награду. Что же, молодец, будешь отныне потомственным дворянином, заслужил, радуйся. И впредь служи честно.
Федька поднял наконец голову. Обвел взглядом всех, бывших перед ним, - Архарова, Левушку, государыню, графиню Брюс, господина Потемкина, какого-то еще господина у окна, быстро записавшего нечто серебряным карандашиком в карманную книжицу. Творилось неладное - точно лучший из всех возможных снов вдруг принялся сбываться. И голоса были ласковы, доброжелательны, и сердце Федькино ощутило общую к нему любовь и благосклонность… то, чего он отродясь не чувствовал…
Он зажмурился, пытаясь удержать слезы.
– А хорош кавалер, - продолжала государыня. - Коли не женат - так сама ему невесту посватаю, у меня в штате много девиц хороших фамилий. И еще до отъезда на свадьбе будем пировать, а, Григорий Александрович?
Потемкин невольно улыбнулся. Свадебные хлопоты были любимым развлечением Екатерины Алексеевны. К тому же, радостный взгляд синих глаз государыни говорил ему более, чем прочим. Она словно хотела устройством чужого счастья подтвердить и укрепить свое собственное.
– Это будет большая честь для господина Савина, - уже с учетом новорожденного дворянского звания, сказал Потемкин.
Федька потерял всякое соображение. Дворянство, свадьба… какая, к черту, свадьба?!
Он шагнул вперед и упал перед государыней на колени. Следовало тотчас же объявить, что ему никто не нужен! Что нужна одна-единственная, а девицы хороших фамилий… да Бог с ними!… Но слов не было, были только распахнутые глаза. Как раньше он избегал взгляда императрицы, так теперь стремился поймать его, чтобы передать свою безмолвную, но страстную мольбу.
– Ваше величество, сей кавалер давно уж без памяти влюблен, - пришел на помощь Левушка, и Архаров даже позавидовал тому, как свободно он говорит о таких вещах с государыней.
– И что же, не отдают за него? Встань, сударь, - велела государыня. - Подумай хорошенько. Ты теперь будешь носить дворянскую шпагу, станешь офицером, тебе нужна жена, достойная того…
Федька не вставал, а лишь глядел - и Екатерина Алексеевна, сама способная до смерти влюбиться, даже в нынешние свои годы, все поняла.
– Да кто ж такова? - спросила она.
Федька ничего не мог поделать со своей немотой - произнести имя Вареньки было выше его сил.
Но Левушка снова пришел на помощь.
– Он, ваше величество, в девицу дворянского звания влюбился, уж года два тому будет. Он и не чаял, что когда-либо найдет способ к ней посвататься, а теперь, по вашей милости, любовь свою сможет увенчать как полагается! - выпалил поручик Тучков, и Архаров снова позавидовал ему: Левушка знал, что должно нравиться государыне.
– Два года молодец о том молчал? - государыня обвела взглядом мужчин и ободряюще улыбнулась Федьке, но он уже ничего от волнения не разумел.
Вдруг царица подошла к нему совсем близко.
– А любовь-то заперта в сердце за десятью замками, ужасно как ей тесно, с великой нуждою умещается, того и смотри, что где ни на есть выскочит, - не только лукаво, не только с душевным сочувствием, но и с изрядным кокетством произнесла она. - Ну, говори ж, сударь, как звать девицу? Она ведь девица?
Федька вздохнул - имя было настолько для него свято, что боялся прикоснуться устами.
– Варвара Пухова, ваше величество, княжны Шестуновой воспитанница! - бойко доложил Левушка. - И он также девице не противен. Да она знала, что за него не отдадут, оттого и горевала.
Федька дернулся, словно горячий жеребчик, стремительно повернулся к Левушке и чуть было не брякнул: да что ты врешь?! Насилу сдержался.
– Как? Та самая Пухова? - государыня повернулась к Архарову.
– Он, ваше величество, ее от смерти спас, - сказал Архаров. - И когда некие злоумышленники желали ее похитить, чтобы с ней обвенчаться и великое смятение произвести, бежать ей пособил и при сем был ранен шпагой в грудь.
Сказал он это с умыслом - чтобы царица вспомнила князя Горелова с его затеями и оценила верную Федькину службу.
Государыня помолчала и вновь обратилась к Архарову.
– Мне княгиня Елизавета Васильевна сказывала, будто к девице Пуховой иная персона свататься желает, верно ли?
Архаров опустил глаза. Иная персона… как же теперь отвечать?… околесица какая-то выйдет…
Собирался, собирался, да кто ж знал, что времени на это уже не станет?
Молчание могло затянуться надолго, но догадливый фаворит, все это время лишь слушавший, решил вмешаться в разговор.
– Ваше величество, а не отдать ли и впрямь девицу Пухову за полицейского служащего? - спросил он. - Тем вы разом всю суету вокруг нее и все сплетни и слухи прекратите. Сразу станет всем ясно, что слухи были пустые.
– А коли отдать за видную в свете персону, то и домыслы возродятся… впрочем, не смею указывать вашему величеству… - добавила Брюсша, очевидно, имевшая на государыню неоторое влияние.
Потемкин посмотрел на Архарова несколько свысока, весьма довольный тем, что сделал некую пакость обер-полицмейстеру, орловскому ставленнику, не желающему отрекаться от былых своих покровителей.
Ну что же, подумал Архаров, сего следовало ожидать.
Левушка, несколько растерявшись, вертел головой - ему непременно нужно было видеть разом и государыню, и фаворита, и Архарова, и коленопреклоненного Федьку.
– Вы правы, сударь, и ты, Пашотт, права, - церемонно сказала государыня. - Встаньте, господин Савин. Девица Пухова - невеста ваша. Будьте с ней счастливы, любите ее примерно.
И протянула для поцелуя красивую белую руку.
Она не сообразила, что до сих пор Федьке ни разу не доводилось целовать руку даме, и он просто не знал, как к этому приступить.
Но он невольно умудрился растрогать Екатерину Алексеевну - когда нерешительно подвел обе свои руки под ее ладонь и замер в недоумении - то ли тянуться губами и всем телом вперед, рискуя грохнуться на паркет, то ли тащить к себе царственную кисть.
Государыня шагнула к нему, и непосильная задача разрешилась сама - губы Федькины ткнулись в душистую кожу и замерли, даже не пытаясь изобразить поцелуй.
Архаров смотрел на ошалевшего подчиненного и вдруг вспомнил вечер на чумном бастионе, когда мортусы впервые сняли перед ним свои черные дегтярные колпаки и дождевая вода текла по их лицам. Федька был сейчас странно похож на себя тогдашнего, и Архаров отвернулся, уставившись в паркет - воспоминание пришло на редкость некстати.
– Встань, Савин, - сказал он, потому что Федька, коли не вмешаться, так и будет торчать посреди кабинета коленопреклоненный до конца аудиенции.
Начальственный голос подействовал - Федька ловко поднялся, но соображения в его взгляде все еще не было.
– Ваше величество, что прикажете делать с сервизом? - спросил Архаров.
Екатерина Алексеевна, опираясь на руку фаворита, обошла вокруг стола, полюбовалась замечательной шлифовкой, взяла в руки и с интересом рассмотрела изящнейшую ложечку. Брюсша же поднимала и изучала чуть ли не каждую тарелку. Архаров прочитал на ее лице простенькие фразы: уж кто, как не я, заслужил сей подарок? Кто, как не я, способствовал твоему, сударыня, счастливому союзу с сим богатырем?
– А ты бы как поступил, Николай Петрович?
В вопросе было лукавство.
– Вернул бы, ваше величество.
– Мы его вернем. Распорядись, Николай Петрович, доставить сей сервиз к французскому посланнику мусью Дюрану де Дистрофу… - государыня, прекрасно зная французский, имя нарочно выговорила на русский лад. - И с приложением письма от мусью де Сартина - пропажа-де найдена, везите к своему королю! Тем более, что мусью Дюран де Дистроф теперь уж недолго у нас задержится. И, статочно, передаст сие художество собственноручно… тому, кто эту кашу заварил…
Архаров дважды кивнул.
Ему показалось, правда, странным, что государыня придумала кундштюк, созревший в голове у него самого. Ему казалось, что она, женщина, обожающая красивые вещицы, захочет оставить сервиз себе. Но швырнуть его в рожу интриганам… да, это ему понравилось… хоть и не по-дамски как-то…
– И, Николай Петрович, хочу с тобой потолковать приватно о ваших полицейских делах, - сказала государыня. - Пашотт, займи кавалеров.
Фаворит коли и обиделся, виду не подал. Он с Брюсшей отошел в сторонку и подозвал к себе Левушку, а Екатерина Алексеевна отвела Архарова подалее, к окошку.
– Григорий Александрович ловко придумал, как распорядиться судьбой девицы Пуховой и отвадить от нее искателей несбыточных надежд. Но дуракам закон не писан… - государыня улыбнулась, вновь к месту применив поговорку. - Я знаю, кто ее родители, а сказать не могу, потому что та дама давно уж замужем. Девица Пухова отнюдь не мое дитя, и не дитя покойного государя. Враги наши впали в понятную ошибку. Тебе, сударь, я все объясню, чтобы при нужде мог вмешаться.
– Как будет угодно вашему величеству.
– Одна из моих девиц, что состояли при мне, позволила улестить себя некому господину и долго скрывала свое несчастное положение. Они призналась мне в беде своей, я же ничем не могла ей помочь, потому что сама была в страхе за себя. Николай Петрович, теперь я о сем могу говорить прямо - мне готовили большие неприятности, впрочем…
Архаров кивнул - о тех давних событиях он знал очень мало, а кабы хотел знать - не станешь же расспрашивать женщину, от кого она родила своего ребенка, да еще столь высокопоставленную даму.
– Правду о бедственном положении той девицы знали я и госпожа Владиславова, приставленная ко мне ее величеством, но вставшая в тех интригах на мою сторону. Когда настал мой срок, всех удалили от меня, но затем… Ты не поверишь, Николай Петрович, но после родов своих я была брошена всеми. Императрица пришла сама со своим духовником, который дал дитяти имя Павла, и тут же его спеленали и унесли. Это было в полдень, я осталась одна на родильной постели, и тут ко мне пробралась та злосчастная девица, она рыдала и просила о помощи. Я не могла прогнать ее из дворца, я просила Владиславову приютить ее в своей комнате. А комната Владиславовой была возле моей и они соединялись дверью. Около трех часов дня пришла надзирательница моя, графина Шувалова, вся разодетая. В комнате моей было холодно. Она увидела, что я лежу на той же постели, вспотев, ахнула и сказала, что так можно уморить меня…
Архаров слушал и ушам своим не верил. Ему казалось, что вокруг роженицы, которая должна произвести на свет будущего государя, должны стоять врачи уж никак не хуже Матвея Воробьева, и придворные женщины в немалом количестве.
– Я не знала, как ее выпроводить, чтобы она не услышала шума в комнате у Владиславовой. Теперь ты понимаешь, сударь, сколь несчастливо сложились обстоятельства? Чистосердечно оказав той девице услугу, впустив ее в комнату Владиславовой, я, почти умирающая, вынуждена была заботиться о том, чтобы тайно вынести ее дитя из Летнего дворца и передать в надежные руки. К счастью, Владиславова вспомнила о доброй повивальной бабке и нашла человека, который ночью отнес ей дитя. Девица же вернулась в помещения, отведенные фрейлинам. Впоследствии ее выдали замуж за знатного человека. Но исправить ее нрав было уже невозможно - она пристрастилась к карточной игре. Теперь я понимаю, что мне следовало сразу прогнать ее из своей комнаты, но я была слишком слаба, чтобы возражать ей, я заливалась слезами оттого, что лежала плохо и неудобно…
Архаров покосился на фаворита. Но тот преспокойно беседовал с Брюсшей и Левушкой. Федька же стоял весьма задумчивый - очевидно, пытался осознать свое сегодняшнее превращение.
– Я полагала, что лукавство мое поправило то, что чистосердечие испортило. Но вышло, что мне и впредь пришлось проявлять заботу о дитяти. Есть женщины, которые не помнят о своем материнстве. Те, кто следил за моими тайными поступками, несомненно, были введены в заблуждение. Я же, видя, как эта злосчастная мать не помнит более о своем грехе, старалась как-то облегчить участь девочки. Ты видишь, Николай Петрович, какое действие это произвело…
– Однако ж княжна Шестунова убеждена, что дорогие вещицы посылала девице Пуховой мать ее. Я полагал, что она с той матерью знакома.
– Ее ввели в заблуждение. А что до вещиц - Николай Петрович, несколько раз я была крайне неделикатна… Рубила правду-матку, - поправилась государыня. - Я подходила к карточному столу, когда та дама бывала в выигрыше, и спрашивала ее, какое употребление она намерена сделать из выигрыша своего. Так мне удалось три или четыре раза пробудить в ней милосердие. Однажды это была жемчужная брошь, букет лилий…
– Так, ваше величество. Брошь сия послужила причиной многих бед девицы Пуховой.
– Однако ж таким образом удалось собрать девице приданое, хоть и небольшое. Воспитали ее достойно. По моему приказанию княжна Долгорукова присматривала за девицей, не зная причины моего к ней благоволения. И даже коли княжна распустиля слухи о… о высоком происхождении девицы… Бог с ней, теперь уже поздно карать, приходится миловать.
Государыня улыбнулась. Улыбнулся и Архаров - ему нравилось благоразумие этой дамы. Миловать, когда карать уже поздно - сия мысль стоила того, чтобы на досуге обдумать ее более тщательно.
Наконец-то он понял, что сумеет с государыней ужиться.
– Но теперь я позабочусь о ней. Расходы по свадьбе я беру на себя. Ты же не оставляй девицу своим вниманием. Ибо дураков не сеют, не жнут - они сами родятся…
Она вздохнула.
Архаров ждал - что еще скажет.
Она сказала именно то, чего он давно уже ждал.
– Ты, Николай Петрович, немало потрудился. Чем тебя за сервиз отблагодарить? Изволь сказать сам, что надобно.
Архаров нахмурился - уж больно прямо сказано. Ондано следует отвечать.
Он кинул взгляд на фаворита. Григорий Второй, поди, для такого вопроса уж заготовил дюжину ответов. Деревеньку-де присмотрел на полтысячи дворов, запряжку продают - шестеро вороных с белыми чулками так подобраны - не отличить…
– Я, ваше величество, хотел бы указ о бездельниках получить.
Глаза у государыни и до того были большие, синие, а тут совсем равпахнулись.
– У каждого московского храма человек по двадцати и более просят милостыню, а народ их жалеет и подает. Я сам видел среди них здоровенных детин - и сладу с ними никакого, от одного храма прогонят - они к другому плетутся. И притворяются хворыми, хромыми, одноногими - это я доподлинно знаю. А в остроги их сажать - никаких острогов не хватит, да они большею частью и не преступники.
– Чего ж тебе, сударь, угодно?
– Устроить работные дома для ленивцев, привыкших лучше праздно питаться, чем добывать пропитание трудом. И, дабы прекратить им средства к развратной праздности, учредить те работные дома под ведением полиции. Бабы пряли бы, для мужского полу тоже дело найдется.
– Такой указ я тебе, Николай Петрович, хоть завтра подпишу. А для себя для самого?
Архаров опять поглядел на фаворита. Унижаться до выпрашивания денег было отвратительно.
– Ваше величество, для себя-то я о том и прошу. Устал на дармоедов глядеть, с коими бессилен поступить с разумной строгостью.
– А ты хитер, господин обер-полицмейстер, - правильно поняв эти два взгляда, сказала не слишком довольная государыня. - Просьбу исполню. А теперь, Николай Петрович, ступай с Богом. Сия неделя была изобильна дураками, хочу отдохнуть в обществе человека разумного и великого забавника.
Это государыня произнесла громко, глядя на фаворита.
Архаров и Левушка откланялись, причем Левушка позаботился и о Федькиной учтивости - подтолкнул его локтем в бок весьма чувствительно.
А потом все трое оказались в приемной.
Левушка потупил взгляд, потом вскинул упрямую голову и, не прощаясь, унесся по небольшой, в два помещения, анфиладе.
Объяснять ему свои поступки, тем более - оправдываться, Архаров не желал.
– Пошли, - сказал он Федьке. - Дел еще невпроворот. И не вздумай устраивать в полицейской конторе пиры! Другое место поищи, чтобы обмыть свою дворянскую грамоту.
* * *
Если бы московские шуры и мазурики знали, чем заняты в этот день архаровцы, то все торопливо вышли бы на промысел, ибо второго такого дня, чтобы за городом не было почти ни малейшего присмотра, им в ближайшие сто лет судьба не сулила.
А день выдался удивительно ясный - солнечный, но не жаркий, с легким ветерком - именно таким, что нужен для приятного освежения лица, колыхания перьев и кружев, игры с шелками и лентами. И даже сомнительные ароматы московских улиц словно выветрились - по крайней мере, никто их не замечал.
Полицейские и десятские собрались у архаровского особняка, почти перегородив Пречистенку, бодрые и веселые, многие принарядились. Понемногу просочились в курдоннер и с шумом расступились, когда туда въехала карета.
Это был экипаж Архарова, а вскоре и сам обер-полицмейстер вышел на крыльцо. Его приветствовали криками, он, невольно улыбнувшись, помахал рукой. В этот день он хотел показывать людям свою благосклонность - но пальцы чуть не сжались в кулак, когда он понял, сколько на Пречистенке собралось бездельников.
Следом вышел Федька - в новеньком ярко-голубом кафтане с позументами, на шее у него топорщилось дорогое кружево, на боку висела новая шпага, с которой он еще не обвыкся. Треуголку он держал подмышкой. За ним шел Петр Лопухин, а последним - сияющий Никодимка в новенькой ливрее.
Архаров, Лопухин и Федька поместились в экипаже, Никодимка забрался на козлы к Сеньке, Иван и молодой лакей Савелий встали на запятки.
Федька - новоявленный дворянин Федор Игнатьевич Савин, пожалованный дворянством за особые заслуги, сподобившийся поцеловать руку государыни и услышать от нее ласковые ободрительные слова, - по высочайшему повелению ехал свататься.
– На Воздвиженку! - приказал Архаров. - Матвея ждать не станем. Он уж, поди, сам в одиночестве сговор празднует.
– Зачем же в одиночестве? - удивился Лопухин. - В компании штофа, стопки и закуски.
Архаров кивнул - ему было приятно, что молодежь Преображенского полка помнит запойного доктора.
Карета выехала со двора, и тут оказалось, что не все доброжелатели остались в курдоннере. Из Чистого переулка выехали всадники и пристроились следом за каретой. Кони под ними были не лучших кровей, а взяты в пожарных командах, однако всадники выглядели вполне счастливыми.
– Это что еще за кавалькада? - удивился Архаров. - Так, Тимофей… Клаварош… Степан, Максимка… Мать честная, Богородица лесная - Вакула!… Ну, Федор, гордись - тебе такая честь оказана…
Федька, бледный и сосредоточенный, кивнул.
Страшные мысли клубились в его бедной голове. Он понимал, что все делается не так. Особливо ему казалось странным решение Вареньки переехать накануне важнейшего в жизни дня от Волконских к былой своей опекунше - старой княжне Шестуновой. Это сильно смахивало на бегство - как если бы Варенька пыталась скрыться от государыни, велевшей ей выйти замуж за новоявленного дворянина Савина. И в глубине души Федька отчаянно трусил: он равно боялся и того, что Варенька при помощи старой княжны скроется еще куда-то, и того, что она сидит теперь в своей комнате, обреченно и покорно ожидая страшного для нее сватовства…
Он знал, что недостоин этой девушки. Куда ни ткни - всюду у него недочет. Грамоте знает скверно, разбирает по складам, а она-то сколько книг прочитала! В музыке ничего не смыслит - когда поручик Тучков объяснял, что песни нотами записывают, никак не мог понять этой премудрости. Да и песен не знает - не то что покойный Демка, и светской беседе не обучен, а по-французски нахватался от Клавароша с дюжину словечек, не более. Да и все - не так… вон, руки - на что похожи? Ободранные, со сбитыми костяшками, разве ж у дворян бывают такие руки? Матвей привез мазь, велел на ночь руки почевать и спать в нитяных перчатках, да что толку? И ногти… совсем не дворянские ногти…
И богатства не нажил. Такую красавицу, как Варенька, нужно во дворце бы поселить, а у него не дворец - всего-навсего домишко за Кузнецким мостом, и тот явился как-то странно.
Архаров два дня назад позвал в кабинет двоих - его и Устина. Выставил на стол мешок, судя по звяку - с монетами. Устин так сунулся к столу, что Федька понял - он этот мешок уже где-то видел.
– Не лезь, - сказал обер-полицмейстер. - Вот деньги. Я положил себе употребить их на покупку дома. Дом мне подыскали. Так в верхнем жилье будешь жить ты, Савин, в нижнем - ты, Петров, и дом этот будет записан на вас обоих. Тебе, Савин, еще его сиятельство граф Орлов-Чесменский обещал богатый подарок на домашнее обзаведение. Сегодня никуда из конторы не уходите, мне после обеда принесут купчую. Так что от денег я наконец избавился. Пошли оба вон.
Устин, видать, понял поболее Федьки - схватил его за плечо, вытолкал из кабинета. И в коридоре перекрестился.
Потом оказалось, что оба не имеют ни малейшего понятия, как обставлять дом и делать его пригодным для жилья. Но было не до учения - государыня прислала обер-полицмейстеру записочку, торопила со сватовством.
Карета покатила по Пречистенке, конный эскорт рысью припустил следом, вызывая смятение среди прохожих - всадники размахивали штофами, кружками, выпивали прямо на ходу и шуму поднимали не менее Мамаевой орды.
– Архаровцы едут!
– Куда это их несет?!.
Диковинная процессия с шумом и гамом приближалась к Знаменке. И чем ближе был поворот. - тем ниже опускалась Федькина голова, тем менее уверенности оставалось на его лице.
Он знал, что такой свахе, как государыня, такому свату, как господин Архаров, вряд ли кто на Москве будет противиться. Он знал, что Архаров наедине уже сказал старой княжне кое-какие веские слова - передал желание государыни видеть лихого полицейского женатым на дочери, пусть и незаконной, благородных родителей. Старуха Шестунова для приличия поупиралась, но сегодня непременно скажет: коли Варенька не против, то вот вам, детки, мое благословение.
А что скажет Варенька?
Федька безмерно боялся, что откажет. Еще более боялся, что согласится…
В доме старой княжны была немалая суматоха. Марья Игнатьевна в новом чепце сидела в креслах, а вокруг толклась вся ее свита, восемнадцать бабьих душ, с нюхательными солями во флакончиках и стопочками, в которых плескались целебные настоечки.
Ей уже сообщили о благосклонном отношении государыни к отчаянному архаровцу, который два года назад спас Вареньку из французского притона. Противоречить она не могла, да и не собиралась. Коли Екатерина бралась устроить судьбу какой бы то ни было девицы - то устраивала ее щедрой рукой. И объяснение с загадочными родителями Вареньки тоже брала на себя.
Восемнадцать бабьих душ причитали и охали: для того ли они растили дитятко, холили и лелеяли, возрастили ее, душеньку, как лазоревый цветик, чтобы отдать грубому архаровцу? Не о таком женихе мечтали! Кое-кто покойного измайловца Фомина даже добрым словом помянул - то был офицер, хорошего рода, благородного поведения, к полицейской конторе и близко бы не подошел!
А она-то, голубушка наша, заперлась у себя, и слова ей о женихе не скажи - так шептались приживалки. Получила, бедняжка, в мужья новоявленного дворянина, хоть пользующегося особливым покровительством. Это, понятно, не князь Горелов-копыто, но как знать - коли государыня захочет - будет принят при дворе лучше всякого князя.
– Едут, едут, въезжают! Поворачивают! - раздалось от окон.
Княжна встала навстречу сватам.
Первым вошел Архаров, поклонился с большим достоинством, за ним - Лопухин, и тут же со двора долетел гомон.
– Мать честная, Богородица лесная, кого там еще несет? - вместо положенных любезностей воскликнул Архаров. Оказалось - прибыла тяжелая артиллерия! Сам князь Волконский, видать, не слишком доверяя сватовским талантам Архарова, вместе с княгиней прискакал на помощь.
Федька краснел, бледнел и обливался холодным потом.
В гостиную, где решалась его судьба, он не вошел, остался на лестнице, и к нему туда пробрался неугомонный Клаварош.
– Мой друг, все сбудется, все сладится, - повторял француз.
Вскоре дверь приоткрылась, высунулся возбужденный Архаров.
– Ты что ж, чучела бестолковая, на лестнице торчишь? Живо ступай к невесте!
Федька вошел в гостиную, но Вареньки там не увидел. Зато увидел старую княжну.
Некоторое время они глядели друг на дружку, как бы прицениваясь. Первой не выдержала княжна - заплакала.
– Ох, не такого я жениха ждала, ну да какого Господь послал - такого и любить будем… А ты-то, оказывается, красавчик! Ступай сюда, сударь, дай я тебя поцелую!
Федька молча терпел поцелуи и умоляюще глядел на Архарова.
– Ну, будет, будет, - обнимая его за плечи и тихонько высвобождая из объятий старой княжны, сказал князь Волконский. - Невеста ждет, пустите молодца к невесте!
Федька понял, что все погибло безвозвратно. Ему отдавали Вареньку, не спросясь ее мнения! Но он не мог взять то, что она тогда назвала своей покорностью. Он не желал покорности! Следовало объясниться с ней как можно скорее!
И Федька, как только его развернули рожей в нужную сторону, опрометью кинулся к небольшой двери, за которой ждала Варенька.
Она встретила его стоя и кутаясь в большую турецкую шаль. Перед встречей с женихом ее отчаянно набелили и нарумянили. Федька даже не сразу сообразил, кто эта страшноватая девица - дуры-девки, клавшие белила и румяна, не учли, что встреча состоится при дневном свете, а не вечером при свечах. Вот при свечах эта бешеная раскраска была бы очень даже уместна, да и то - на записной кокетке, вертопрашке, щеголихе. Равным образом и мушка на щеке, означавшая «согласие».
– Сударыня, - сказал Федька. И замолчал надолго. Даже на лицо невесты не смотрел от неловкости.
– Сударь, - нерешительно произнесла Варенька и тоже замолчала.
Она была как-то странно, загадочно тиха, словно приняла отчаянное решение и приготовилась к наихудшему. На груди у нее Федька увидел букет лилий, выложенный жемчугом. Очевидно, Вареньку заставили принарядиться. Да и как иначе - сама императрица сосватала ей жениха, надобно надеть самое лучшее и дорогое. А ведь ей, должно быть, и глядеть-то на эти лилии противно, столько из-за них было беды.
Жалость к невесте совсем сбила его с толку.
– Считаю своим долгом, - повторил Федька слова, которые как-то подслушал в доме Волконского, но за ними следовало изъясняться в том же благородном духе, а он не умел.
– Да, я вас слушаю, - ободрила Варенька и улыбнулась.
– Сударыня… - Федька громко вздохнул. - Вот черт, и не знаю, как сказать… Вы помните, как… то есть, тогда…
Он вдруг понял, что напоминать о шулерском притоне и о подземных ходах нельзя, покраснел, сбился.
– Этого я никогда не забуду, - тихо сказала Варенька. И прикоснулась пальцами к жемчужным лилиям.
Это был знак, что говорить можно обо всем, и о самом печальном тоже, но Федька отказался его понимать.
– Я тоже. И вы тогда, и потом еще в доме господина Архарова, и еще а маскараде изволили сказать, что не пойдете ни за кого замуж… то есть, кроме господина Фомина… ох, простите, я околесицу несу…
Варенька ничего не ответила.
– А сейчас господин Архаров и господин Волконский вздумали нас сватать, и государыне Бог весть чего наговорили, они там между собой сговорились… и высочайшим повелением… а вы… а вас…
– Меня не спросивши? - догадалась Варенька. - Да, это так, тетушка Марья Семеновна позвала меня третьего дня и сообщила сию… новость…
Федька насупился. По всему выходило - она не рада.
Он не знал, как положено радоваться девицам с таким тонким воспитанием. Но уж во всяком случае - не стоять, опустив руки, и эта легкая улыбка могла означать лишь одно - покорность неизбежному.
– Сударыня, я вас силком под венец не потяну! - воскликнул он. - Я архаровец, это святая правда, я из тех архаровцев, что чудом в Сибирь на каторгу не угодили! Я всякое повидал, но чтоб девицу силком под венец - нет уж, другого дурака ищите! И приданое ваше мне ни к чему! И покорность ни к чему!
Тут Федька словно бы раздвоился. Первый, наружный Федька, выкрикивал, в чем именно он не нуждается из благ, которые мог бы приобрести посредством этого брака. Второй, внутренний Федька, ошалело шептал: «Я несу околесицу, я несу околесицу…», но помешать первому никак не мог.
Варенька слушала, приоткрыв рот, и Федька видел - ей страшно. Еще бы не страшно, догадался внутренний Федька, по воле гсударыни подсунули в женихи головореза-архаровца… как же быть-то, как изворачиваться?…
Очевидно, общее архаровское горе было таково, что никак не находилось слов для изъяснения чувства. В мужской компании они были решительно ни к чему, а с дамами и Архаров, и архаровцы беседовали на такие темы, что чувства были все больше с дамской стороны: страх, ужас, трепет, паническое желание обольстить. Вот и Федька сейчас и понимал, что можно говорить о любви, и - не мог, словно не имел права.
А меж тем он уже не видел ни белил, ни румян, ни глупой мушки «согласие», а видел только огромные прозрачные глаза Вареньки, лишавшие его всякого здравого смысла. И понимал, что сейчас прощается со своей любовью навеки.
– Так вы не хотите на мне жениться? - спросила она. - Ну что же… Простите, сударь, за всю суету, вы, должно быть, правы… Я не создана для семейной жизни.
И отвернулась к окошку.
– Да я-то хочу, - пробормотал, опомнившись, красный, как морковка, Федька. - Я только не могу помимо вашей воли… а они все без вас сладили! Государыня так распорядилась! А я не могу… чтобы одна лишь покорность… Я на себя всю вину возьму, государыне в ноги брошусь!…
Варенька повернулась к нему, и он увидел две слезинки, медленно ползущие по нарумяненным щекам.
– Да нет же, сударь, это я не могу навязать вам супругу, которая не жилица на сем свете! Я просила, умоляла, чтобы меня в обитель отвезли! Моя болезнь меня то отпустит, то опять притянет… Нельзя вас к моему смертному одру приковывать! Нельзя, слышите? Другую себе найдите, здоровую, чтобы детей нарожала, а я… а я век за вас молиться буду… до самой смерти!…
Столько пылкости было в Варенькином голосе, что Федька окончательно понял - не сладилось, и не могло слажиться, и все в жизни было напрасно!
– Стало быть, не люб, - тихо сказал он. - Ну что же… иначе и быть не могло… куда это я сдуру полез?… Дурак, да и только!…
– Вот именно, что дурак! - раздался весьма знакомый голос, и из других дверей появился Матвей Воробьев.
Это диво объяснялось просто - к выезду из архаровского особняка он опоздал и добирался до Воздвиженки пешком. Архаров с Левушкой были правы - он уже начал праздновать, но пешая прогулка его несколько протрезвила.
Увидев, что делается у парадного входа, он махнул рукой и пробрался в дом старой княжны черным ходом, который был ему знаком - не раз он приходил сюда, будучи вызван то по случаю головной боли, то ради общей телесной слабости хозяйки. Вся прислуга собралась поблизости от парадной гостиной, и он через совершенно пустые комнаты дошел до помещения, из которого доносились два взволнованных голоса. Один он вскоре и определил как Федькин, другой, очевидно, принадлежал Вареньке.
Федька ахнул и повернулся к Матвею, готовый выставить его отсюда кулаками.
– Уймись, кавалер! - прикрикнул на него Матвей. - А вам, сударыня, плакать вредно. Утрите слезки. Знаете, как в народе говорят? Суженого на кобыле не объедешь. Глупо было бы плакать и упираться…
– Ну, пусть я дура! - воскликнула взбудораженная Варенька. - Да только не могу я вешать ему на шею столь тяжкий крест! Пусть он другую встретит и полюбит! Кто это выдумал - нас поженить?!
– И я, дурак, незнамо зачем свататься собрался! - добавил Федька. - Знал же, что откажут! Мало ли - государыня велела! Она велела да и забыла, а расхлебывать кому? Полез с суконным рылом в калашный ряд! Дворянин на скорую руку сляпанный! Такого дурака поискать!
Матвей посмотрел на Вареньку, на Федьку, и вдруг запел.
В его хмельной голове после полуштофа водки с утра были нарушены многие связи, но на звук отдельных слов вскрылись сундуки с воспоминаниями, и одно было пресмешное. Причем даже не самому Матвею оно принадлежало!
Всякий петербуржец, да еще водящий дружбу с гвардейцами, знал какое-то количество анекдотов былых царствований. Собственно, для простого человека история из этих анекдотов и складывалась: дубинка Петра Великого, да стрельба по воронам царицы Анны Иоанновны, да страстная любовь к лошадям господина Бирона, да мужские маскарадные наряды государыни Елизаветы Петровны, да всеобщее посмешище - господин Тредиаковский…
Сей муж, немало сделавший для русской словесности, остался в памяти нескладнейшими из сочиненных им виршей да колотушками, полученными за те вирши от тогдашнего кабинет-министра Артемия Волынского. Матвею же пришло вдруг на ум то театральное действо, которое по заказу Волынского сочинил Василий Кириллович Тредиаковский к некой свадьбе, врубившейся в народную петербургскую память навечно.
Анна Иоанновна решила поженить произведенного в шуты князя Голицына с давней своей шутихой калмычкой Бужениновой и устроить из их свадьбы праздник на всю столицу. Был для торжества выстроен посреди зимней Невы целый ледяной дом, а Тредиаковский сочинил, кроме прочего, то ли оду, то ли гимн, теперь уже не понять, и сие произведение было пето не только на свадьбе, но и много лет спустя после нее, коли выпадал подходящий по степени дурости случай.
Вот это гениальное творение и взбрело на ум Матвею Воробьеву, да так его обрадовало своим соответствием подслушанному разговору, что сдержаться он уж никоим образом не мог.
– Здравствуйте, женившись, дурак и дура! - пропел он медвежьим голосом, после чего осознал, что дальнейшие слова провалились в память навеки. - Здравствуйте, женивши… и прочая фигура!…
Он был искренне рад, что так к месту употребил дурацкую песню, но посмотрел на жениха с невестой - и понял, что пора удирать.
– Убью! - прошипел Федька и кинулся-таки на доктора с кулаками.
Варенька, вскрикнув, метнулась ему наперерез и повисла на шее. Он невольно схватил ее в охапку.
После чего счастливо избегшему смерти Матвею осталось только тихонечко, пятясь, на носочках, покинуть комнату, где вот сейчас и началось настоящее объяснение…
* * *
Архаров вернулся домой не сразу, а побывав у князя Волконского. Лопухин же остался у старой княжны Шестуновой. Встретились они на Пречистенке уже поздно вечером.
Лопухин был несколько смущен.
– Такая оказия, Архаров… Тучков вдруг в Санкт-Петербург засобирался, зовет ехать вместе спозаранку, приехали ж тоже вместе…
Архаров дважды кивнул. Левушка всячески показывает свое недовольство. Даже проститься не желает - кобенится, как записная щеголиха и вертопрашка. И теперь лишь стало окончательно понятно: хотя они друг за дружку горой, хотя поручик Тучков готов жизнь положить за полковника Архарова, однако ж один из них - гвардеец, а другой - полицейский. И тут уж ничего не поделаешь - гвардейцу полицейского не понять.
И Лопухин… нет, Лопухин, пожалуй, тоже более не гвардеец.
Он усердно пробивается вверх, записывает в тетрадочку все прегрешения московской полиции. Выучиться бы вести себя так же, как он, да, поди, уж поздно. Коли так пойдет - лет через десяток сделаешься вроде щеголя времен прошлого царствования, не желающего расставаться с длинным кафтаном и старомодными пуговицами, посмешищем для выпорхнувших из французской лавки юных вертопрахов.
И ведь пробьется Петруша Лопухин, со ступенечки на ступенечку - глядишь, петербуржским градоначальником станет. Личико гладенькое, глазки хорошенькие, кавалер из тех, что всюду производят наилучшее впечатление и знают науку жить, не пачкая холеных ручек. Это ему еще только двадцать два. А к тридцати много чего успеет…
– Коли вдругорядь к нам соберешься - милости просим, - вот и все, что мог сказать Архаров. Не передавать же с гонцом к Тучкову прощальные объятия и поцелуи.
– Послушай, Архаров, нам надобно объясниться!
В голосе светского кавалера и будущего высокопоставленного чиновника было неподдельное волнение.
– Коли ты про Тучкова - так между нами ссоры не было. Он сам вправе решать, с кем дружиться, кого сторониться, - отвечал Архаров, упорно не желая смотреть в глаза собеседнику.
– Тучков мне все наконец рассказал. Архаров, что мы стоим на лестнице, пойдем к тебе в кабинет.
– Коли угодно.
В кабинете Архаров тут же сел, Лопухин остался стоять.
– Сядь, Лопухин. Коли хочешь, велю Никодимке кофею сварить.
– Я пытался понять, что есть благочиние, - вдруг сказал гвардеец. - Ты помнишь, государыня все твердит, что благочиние есть важнейшая задача полицейская. От слов «благостно» и «чинно»… То есть, следить, чтобы все происходило благостно и чинно… Архаров, мне все представляется крестный ход, где люди шествуют с умилением, неся образа. Но ход - это два часа, три часа, потом те же люди ставят образа в красный угол, идут в кабаки, напиваются и сквернословят. Возможно ли благочиние с теми людьми, какие у нас есть? Как ты полагаешь, Архаров?
– Других Господь не дал.
– Может ли статься, что государыня желает невозможного?
Вот тут Архаров несколько остолбенел.
– Никодимка, дармоед, кофею неси с сухарями! - крикнул он.
– Архаров, ты не ответил.
Тут лишь обер-полицмейстер посмотрел в лицо собеседнику. Лицо было молодое, открытое, подвоха он не разглядел.
– Я, Лопухин, за четыре года на людей нагляделся. Я видел старика, который все имущество на церковь отписал, сам ушел в обитель доживать. Родня его последними словами проклинала. И видел я человека, который убил подряд четверых младенцев - задушил. При расспросах явилось, что, когда душит, его охватывает неземная радость. Возможно ли благочиние, когда в одном чрезмерная святость, а в другом, соседе его, таковое зверство, я не знаю. Мне сдается, что для благочиния все люди должны быть более или менее одинаковы. Без великой святости, без душевного уродства, а чтобы просто жили мирно и в церковь ходить не забывали.
– Ты сказал то самое, о чем я думал. Можно ли считать обывателем, живущим мирно и не служащим к соблазну ближних такого, как Каин?
И тут Архаров понял, что он никогда и ни одному человеку в мире не сумеет объяснить, почему застрелил Каина.
Даже и пытаться не стоит.
– Оставь это, Лопухин. Я знаю, что тебе сказал Тучков. Пусть будет так… спорить не собираюсь…
Помолчали. Вдруг Лопухин вынул из кармана толстенькую тетрадку.
– Возьми, Архаров. Тут мои наблюдения, примечания, прожекты. Ты сделаешь из них лучшее употребление.
Архаров редко получал бескорыстные подарки. Это же был не просто подарок. Лопухин одним точным жестом показал, что не собирается въезжать в рай на архаровских плечах, и безмолвно подтвердил право обер-полицмейстера принимать решения, не спросясь гвардии поручика Тучкова.
– Я велю переписать, а потом отправлю к тебе в Санкт-Петербург, - сказал Архаров. Нужны были слова благодарности - но все куда-то подевались.
– Я, собственно, для того и ждал тебя. А теперь простимся - я ни свет ни заря отбываю, Тучков заедет за мной.
Проститься преображенцы могли только так - крепко обнявшись. Архаров встал, облапил Лопухина и легонько оттолкнул - чай, не баба.
– Счастливый путь, Лопухин.
– Счастливо оставаться, Архаров.
И потом, когда шаги молодого офицера стихли, Архаров хмыкнул и вздохнул - надо же, впервые в жизни так ошибся в человеке. Наверно, созерцание разбойничих, шпионских и прочих рож портит остроту взгляда.
Тетрадка лежала на столе. Можно было бы позвать Сашу, но Архаров взялся читать сам.
Он открыл тетрадку наугад посередке и прочитал: «Зимою и осенью извозчикам кафтаны и шубы иметь, какия кто пожелает; но шапки русские с желтым суконным вершком и опушкою черной овчины, а кушаки желтые шерстяные».
Он несколько удивился - ведь так примерно московские извозчики и одевались, странное нововведение! Посмотрел дальше: «А когда случится подъехать к перекрестку, тогда ехать тише и осматриваться во все стороны, чтоб кому повреждения не учинить или с кем не съехаться, по мостам чрез реки карет не объезжать, а ехать порядочно и не скоро».
Дальше последовала такая прописная истина: «В городе и предместиях ездить на взнузданных лошадях малою рысью, а скоро отнюдь не ездить».
Архаров уже стал сердиться - он и так не любил чтения, а тут изволь разбирать нравоучения для извозчиков, достойные малого дитяти. И вдруг понял - Лопухин тщательно собрал вместе все правила для того, чтобы их обнародовать в виде указа и впредь за несоблюдение карать!
Сие было не так уж глупо. А очередной пункт был и вовсе умен: «Ежели извозчик кого возить порядится на год, или на несколько недель, то оной подряд записать в съезжей, чтоб известно было, с кем он ездить будет и за какую цену, а без того суда ему с ездоком дано не будет, если денег платить не будет».
И далее Лопухин показал себя весьма толковым исследователем полицейской жизни: «Ежели извозчику ехать с ездоками случится дни на два и на три, или в отдаленныя места, то отнюдь без позволения на съезжей от офицера не ездить, и отнюдь никого беспашпортных не вывозить из города под тяжким штрафом. Ежели ж с незнакомым седоком поедет за город, то онаго и обратно в город привозить, дабы под таковым видом беспашпортный вывезен не был».
Архаров закрыл тетрадку.
– Никодимка, не надо кофея! - крикнул он. - Беги стелить постель!
А сам пошел в спальню, надеясь, что найдет на кровати Дуньку. Это не было спасением от одиночества - свое одиночество Архаров осознавал крайне редко и не всегда приписывал этой беде внезапное дурное настроние - обычно искал более вещественных причин и находил их. Беседуя с Дунькой вслух, он баловался, говоря «мы, коты». И Дуньку его тяжеловесные шутки, очевидно, устраивали. Если бы она еще не драла когтями обои - все было бы вовсе замечательно.
Архаров лег, котенок пристроился на подушке возле щеки.
– Спи, Дунька, - сказал обер-полицмейстер и вдруг подумалось, что та, другая Дунька уже довольно давно не прибегала в гости.
А было бы совсем неплохо…
Проснулся Архаров на рассвете - словно кто за ногу дернул. Он, выкарабкиваясь из середины сна и с неудовольствием ощущая, как от этого сна отваливаются цветные кусочки, гаснут и мгновенно забываются, пытался понять - какого черта?
Иногда он просыпался, как по заказу, когда с утра ждало важное дело. Сейчас же дела не было - это он помнил точно.
Должно быть, сонный разум уловил какие-то неожиданные для этого времени звуки.
Вдруг понял - сейчас из Москвы уезжает Левушка Тучков. Уезжает, не простившись, даже не попытавшись задать хоть один вопрос. И не гнаться же за ним, умоляя: ну, спроси, я все тебе растолкую, Лопухину - не смог, но ты-то знаешь Каинову басенку про кота и крыс!
А звуки - это вышел из особняка, увидев в окно дорожную карету-берлину, Лопухин. И за ним вынесли его дорожный сундук.
– Спать! - приказал себе Архаров. И был очень рад смутной дреме, в которой можно наблюдать, как цепляются друг за друга несуразные мысли, как из них вырастают некие зримые затеи. Но это все же был не сон - разум кое-как действовал, и Архаров был очень рад, услышав суету в доме.
– Ваши милости, извольте просыпаться! - позвал Никодимка. - Кофей поспел!
Архаров встал с твердым намерением помолиться от души. В спальне у него был образ Николая-угодника, еще дедово благословение, и угодник должен был бы помочь сейчас - установить в душе спокойствие, необходимое для дальнейшей службы.
Но молитва получилась лишь словесная - Дунька, сидя на подоконнике, умывалась, и пришла на ум другая Дунька - тоже, поди, сейчас умывается. Или велит наполнить теплой водой ту деревянную щелястую лохань…
Архаров даже головой помотал, чтобы выгнять соблазнительный образ. Но этот образ допекал его и за кофеем, и в карете, и даже в кабинете, так что Архаров весьма обрадовался, увидев входящего к нему пожилого батюшку, сильно недовольного.
– Благословите, честный отче, - попросил он и склонился, принимая в сложенные ладони руку священника.
Обычно иереи жаловали в полицейскую контору, когда случалось воровство. Но вид имели скорбный, этот же посетитель был сердит.
– Ваше сиятельство, еретики и преступники за Рогожским кладбищем сидят! - объявил батюшка. - Вот, извольте, сему идолу молятся!
И выложил на стол небольшую икону.
– Какой же это идол? - спросил, разглядев, несколько озадаченный Архаров. - Это, честный отче, Николай-угодник…
– Нет! - воскликнул священник. - Извращение раскольничье, а не угодник! Извольте, извольте… вот, и вот, и вот…
Он тыкал пальцем в доску, и Архаров стал замечать отличия. Угодник глядел не прямо, а повернув голову вправо, при этом глазами он косил влево - и верно, негоже угоднику быть косым. И пальцы были сложены для благословения как-то необычно, и помещен святой был не посередке доски, а с краю…
Благолепия в образе не было вовсе - зато была некая тайная сила, властность, способность одолевать зло.
– Так чего же вы хотите, честный отче? - спросил Архаров.
– В каторгу! - немедленно отвечал священник. - Всех - в каторгу, кто такие образа пишет, покупает, у себя хранит и показывает! Знаете, как они угодника-то зовут? Никола Отвратный!
– То есть как - Отвратный?
– А вот тут и есть главная хитность и главная ересь. Они утверждают, якобы сей образ призван зло отвращать, потому - «отвратный». А в простом народе «отвратной» всякую дрянь зовут, не слыхивали?
– Хорошо, - преспокойно отвечал Архаров. - Я вашу жалобу уразумел. Образ отправлю в столицу с приложением соответственного донесения.
И тут же он прочитал по лицу просителя, чего тому недостает для полного и совершенного счастья.
– С указанием имени иерея, явившего бдительность и догадливость, - добавил Архаров. - Вы также по своей части подайте жалобу в Синод. Ступайте, честный отче, в канцелярию, скажите - я велел записать ваши показания. Образ же останется пока у меня. Дабы не смущать моих служащих.
Главное было - удержать это каменное выражение лица, ровный голос, спокойную и невозмутимую деловитость.
Жалобщик убрался, и тогда Архаров смог без помех разглядеть свою добычу.
Да, была в сем Отвратном немалая сила. Недолго думая, Архаров сунул сомнительного угодника в ящик стола. И решил для себя, что небесный его покровитель нашел способ ответить на неудачную утреннюю молитву, да и не только на нее - на все смутные мысли последнего времени.
В том числе и буйные Левушкины мысли. Как будто музыкальное и фехтовальное мастерство могли разрешить все противоречия сего несуразного мира…
– Да, я таков, - ответил Архаров раз и навсегда на все упреки.
Постучался Яшка-Скес, рассказал удивительное: Феклушка, едва начав передвигаться по горнице, просила приказаний.
Архаров пользовался услугами женского пола. Марфа как-то присылала двух шлюх, готовых доносить, кто чего брякнул сдуру. Так то было год назад - тогда Архаров и беса бы приветил, кабы бес сообщил полезные сведения. Ныне же спокойно… вроде бы…
Но именно благодаря этой неряшливой бабенке удалось наконец разделаться с Каином.
– Скажи - потом решим, как с ней быть, - велел Архаров и вспомнил еще один случай - как в Дунькиной гостиной затеяли игру в рулетку, чтобы подманить шулеров. Дунька держалась не хуже светской дамы, а что подняла шум - так это горячая кровь виновата, теперь-то она, поди, со своими чувствами лучше управится…
Что ни час - то более добрых качеств находил Архаров в Дуньке. И через два дня додумался, что грех упускать такую хорошую девку. В постели угодить умеет, не дурочка, предана ему всей душой - вспомнить хотя бы, как она носилась с обнаженной шпагой по Оперному дому, готовая собой заслонить обер-полицмейстера…
Законный брак, понятно, невозможен, но отчего бы не взять Дуньку на содержание? Унаследовать мартону от покойного Захарова - оно вроде бы и достойно…
Как подступиться к Дуньке со своим предложением - Архаров не знал. Решил отправить к ней парламентером Марфу.
После того, как он отправил ее в подвал на вразумление, они ни разу не видались. По сообщениям десятских, Марфа с перепугу засела дома и кофейным ремеслом более не промышляла. Поняла, видать, что бедокурить можно до известного предела. Следовало бы как-то исправить причиненный ею вред, но Архаров подумал - и решил похоронить всю эту историю вместе с Каином. Он один знал, куда подевалось уворованное по Марфиной наводке добро, - значит, так Бог судил, чтобы оно уж не отыскалось. А гоняться за его разбежавшимися подручными и тратить на них время, зная, что они непременно все свои грехи свалят на покойника, нелепо.
Когда выдался у него свободный час, Архаров поехал к Марфе мириться.
Инвалид Тетеркин, увидев его выходящим из экипажа, чуть заикой не сделался.
– Молчи, - велел Архаров и пошел к крыльцу.
Марфа в своем розовом гнездышке была занята делом - сама, взгромоздившись на стул, вколачивала в стенку гвозди. Получалось это у нее довольно ловко. Очередная девчонка, взятая для услуг и сомнительного воспитания, стояла возде стула и подавала гвозди.
Архаров молча воззрился на это диво. Марфа повернулась.
Сперва на лице отобразился испуг. Потом - тревога, возможно, за Клавароша. Потом же, когда Марфа окончательно поняла, что беда миновала, - превеликое облегчение.
– Вовремя явился! Сейчас новокупку обмывать станем! - воскликнула она. - Машка, тащи ее сюда!
И прямо при Архарове на стену повесили гобелен, на котором был выткан тускло-розовый купидон чудовищных размеров.
– Ему бы в гренадерском полку служить, - вместо комплимента сказал Архаров.
– Мне теперь иного нельзя. Была молоденькой - и купидон при мне состоял вот такой, вроде петушка. А теперь-то я такова стала, что купидон надобен мне под стать. Малютка с моими заботами не управится!
– Слезай, Марфа, потолкуем. Мне, поди, тоже такой гренадер теперь надобен.
Марфа смутилась - решила, что это намек на ее неисполненное обещание отвести к Архарову Наташку.
– Пойдем, сударь, вниз, - пригласила она. - Угостимся, чем Бог послал.
Архаров не возражал - за столом такие задачки решаются как-то проще.
Но, выпив и закусив, начал он издалека.
– А что Дуня? - спросил Архаров после нескольких словесных маневров. - Бываешь ведь у нее?
– А вот и съездил бы к ней, сударь, утешил, - отвечала каким-то не своим, а весьма зловредным голоском Марфа. - Сказывали, много она по своему покойному Гавриле Павловичу плакала.
Архаров даже несколько смутился - он не представлял себе, как в таких случаях наносятся визиты. То есть, в приличном семействе он бы уж додумался, что сказать, сумел соблюсти правила светского обхождения. Но ехать соболезновать мартоне по случаю смерти сожителя - такого казуса светское обхождение, поди, и не знало.
Однако Марфино лицо при упоминании Дунькиного имени выразило явное неудовольствие…
– Да ты сама-то у нее была? - спросил обер-полицмейстер.
– Была! Их сиятельство никого принимать не изволят! Как знатные барыни, льют слезы в опочивальне!
Архаров покосился на сводню.
Дунька, несомненно, по-своему привязалась к покойному Захарову. Но столь возвышенная скорбь была не в ее вкусе. Да и, позвольте, она ж провела ночь с обер-полицмейстером уже после смерти своего покровителя…
– Так еще сходи.
– Да ну ее. Надоест ей нос задирать - сама прибежит, - старательно показывая беззаботность, отвечала Марфа.
Архаров понял - дело неладно.
Он не мог, разумеется, знать, что после той ночи, когда Дунька по Марфиному зову тут же примчалась лечить его, пьяного до зеленых чертей, своим бабьим способом, они обе, наставница и способная ученица, ни разу не виделись. Не знал, что Дунька, на прощание высказав Марфе несколько кратких и неприятных истин, прекратила беготню в Зарядье - как топором отрубила. И что запретила привратнику Петрушке пускать в дом сводню - тоже не знал.
А кабы и знал - не задумался бы над сей причудой. Мало ли, чего не поделили Марфа с Дунькой.
Конечно, следовало бы после той ночи увидеться с девкой. Что-то такое сказать любезное. Но, право, Архарову было не до того.
– Передай ей как-нибудь - пусть приходит. У меня для нее гостинец есть, - как всегда, неловко пошутил Архаров.
– Что б тебе самому с тем гостинцем к ней не съездить?
Архаров подумал - и высказался прямо.
– Отродясь девок на содержание не брал - черт его знает, как это оно делается.
– Ишь ты, каков! Ну, делается-то просто, без затей. Скажи, что дом ей наймешь, скажи, сколько в месяц на булавки дашь… да попроще говори-то! Дунька тебя и без кумплиманов поймет! Она, я чаю, о том лишь и мечтает. Езжай, батюшка, сам! Нешто она графиня какая, чтобы к ней хитрых баб подсылать? Вот уж тут тебе сводня вовсе не надобна!
Архаров подумал и решил - Марфа права, он и сам с этом делом справится.
– Спасибо за угощенье, Марфа Ивановна, поеду я. А ты сиди тихо, как мышка, чтоб я твоих старых грехов не вспомнил.
– Да я новые наживу, - беззаботно отвечала Марфа. Затем взяла из ряда разномастных флаконов, стоявших на подоконнике, один побольше.
– Возьми, сударь, не все же на французские водицы деньги переводить. У меня не хуже.
Архаров поднес к носу, понюхал - пахло приятно.
– От скуки затеяла? - догадался он.
– От нее, матушки…
Отдернув занавеску, Марфа показала две немалые бутыли прозрачного стекла с мутноватой жидкостью.
Кто-то из приятельниц научил ее мастерить пахучее снадобье. Архаров проявил любопытство и услышал способ: уложить цветы в простой глиняный горшок, пересыпая их обыкновенной солью, закупорить и снести тот горшок на сорок дней в погреб; затем вывалить содержимое в сито, дать образовавшейся жидкости стечь и выставить ее в бутылке на солнышко, чтобы за месяц отстоялась и очистилась.
– Шла бы ты замуж за Клавароша.
– Не зовет.
– А коли позвал бы?
– Полагаешь, замужем мне веселее будет? - Марфа вздохнула. - Сударь мой, Николай Петрович, да у меня уж внуков четверо. Еще годочка два погуляю - и поеду к дочке внуков нянчить.
Архаров ужаснулся при мысли, чего может натворить Марфа за эти два годочка, когда ей надоест возиться с домашней парфюмерией.
Но уже потом, сидя в карете, он подумал: еще страшнее будет, когда эта проказница откажется от всего своего опасного баловства и засядет дома с внучатами добродетельной бабкой. И сказал себе, что этого допускать никак нельзя. Вон Марфа не раз говорила, что они с государыней ровесницы, а государыня еще в такой поре и в таком бойком настроении, что не одного фаворита введет в телесное изнеможение.
От Марфы он поехал к Суворовым. Настало уж время наносить Александру Васильевичу положенный визит.
Обер-полицмейстер поздравил счастливых родителей с рождением и с крестинами дочки Наташеньки, выразил соболезнование касательно смерти старика Суворова. Александр Васильевич был порядком удручен и как раз придумывал, каким бы памятником украсить могилу. Ему пришло на ум, что слов не надобно, а довольно суворовского герба - герб же был самые боевой: щит разделен в длину надвое, в белом поле - нагрудные латы, в красном поле - шпага и стрела крест-накрест, корона - дворянская, а над ней - обращенная направо рука с плечом в латах, замахнувшаяся саблей. Архаров согласился - и без слов понятно, что под таковым гербом может почивать только Суворов.
Он сказал кумплиман Варюте, уже почти оправившейся после родов, и в том кумплимане почти не было лести - она действительно похорошела. Возможно, и Дунька, родив, станет чуть иной - любопытно бы наблюдать эти перемены в Дуньке…
Наконец он собрался с духом и поехал к ней объясняться.
Карета катила по Ильинке, мимо нарядной публики и модных лавок, и Архаров, глядя в окошко, усмехался - надо же, как ожил этот мир с приездом государыни. Еще ему было весело оттого, что он представлял себе заранее Дунькину радость. Быть на содержании у богатого, знатного, чиновного человека, не старца, а в самом соку - разве не такова мечта всех этих легкомысленных девок, которые на женихов из своего сословия по молодости и глупости смотрят свысока.
– А у меня радость! Меня на содержание взяли! - воскликнула в давнем воспоминании юная и счастливая Дунька. Уцелела после чумного барака, из комнатушки в доме госпожи Тарантеевой перепорхнула в хоромы - со своей гостиной, со своей дворней! Недоставало лишь того, что дал ей той забавной ночью молодой московский обер-полицмейстер… и ведь щедро дал, от души, грех жаловаться…
Опять же, и Дунька умеет ему угодить. И не девочка - двадцать второй год пошел, по возрасту вполне ему соответствует. Весьма, весьма разумное будет сожительство…
А вздумает Дунька дитя родить - и дитя без заботы не останется. Открыто такого отпрыска признать обер-полицмейстеру не к лицу, но коли родится паренек - получит нужное воспитание, будет определен в службу, коли девочка - найдется из чего справить ей приданое.
И вновь явился внутреннему взору образ - толстенькое дитя бегает по заднему двору особняка на Пречистенке, и вся дворня норовит его приласкать и обиходить. Не пропадет дитя! Вечером, возвращаясь со службы, можно будет зайти в детскую, расспросить няньку, положить поверх одеяльца лакомство - конфект в цветной бумажке, пряник или просто апельсин… ибо не скоро настанет день, когда с младенцем можно будет потолковать о его шалостях и проказах, об уроках и обновках…
Размышляя так и радуясь собственной решительности, Архаров рассеянно глядел в окошко экипажа и отметил красивого рослого вороного, как мрак загробный, жеребца, которого держал в поводу верховой берейтор. При том же берейторе был и вороной мерин, немногим помельче, в белых чулках. Оба - с тем особым лебединым изгибом шеи, что так ценился любителями конских бегов. Под берейтором - также вороной конек, также хороших кровей. И кони стоят мирно - все трое, видать, с одной конюшни.
Вороные исчезли из виду, и тут же карета остановилась.
Архаров вошел в дом и первым делом обратил внимание на лицо горничной Агашки.
Девка смутилась. Принимать знатного гостя и приглашать его наверх, в гостиную, она явно не желала… или боялась?…
– Здравствуй, Агаша, - сказал Архаров. - Что, Авдотья Ивановна принимает?
Девка закивала. Она явно не знала, как быть.
Архаров задумался на миг. Коли Дунька завела себе махателя - это полбеды, решил он, потому и завела, что в отношениях с обер-полицмейстером не имела никакой определенности. На то она и мартона, чтобы в одиночестве не спать. Но теперь все будет не так… теперь все будет благопристойно…
Он еще раз перебрал в памяти все все тщательно продуманные подробности своего предложения. Оплачивать дом, карету, лошадей… два новых нарядных платья в месяц… коли угодно мечтать о сцене - нанять учителей, пусть балуется… и содержать «амурное гнездышко» не хуже покойника Захарова, устраивая там светские развлечения для людей своего круга, этим уж Дунька пусть сама озаботится… ревностью преследовать ее никто не станет - сие пошло и моветонно…
Поскольку Агашка все еще молчала, он прошел мимо нее и поднялся по лестнице. Внизу услышал громкое «ахти мне», понял - это выскочила с кухни стряпуха Савишна, и Агашка докладывает ей о госте.
В комнатах у Дуньки был некоторый разгром - мебель стояла на местах, но стол был без скатерти, пропали канделябры, безделушки. Архаров понял - хозяйка вздумала съезжать.
– Дуня, ты где? - позвал он, направляясь к спальне.
Она выскочила навстречу, и Архаров хмыкнул.
На Дуньке был мужской наряд, но не тот забавный голубой кафтанчик, в коем она штурмовала Оперный дом в Лефортове. Одета она была - хоть на придворный маскарад. На Дуньке была темно-красная пара из дорогой ткани, кафтан новомодный - с расходящимися полами, такой же камзол - из золотого атласа с тонкой вышивкой букетиками. Букет был приколот и на кафтане - из искусственных цветов хорошей работы, а на груди у Дуньки, поверх золотистых блондов, на черной ленте висел медальон.
Волосы были убраны в модную прическу - подвиты, взбиты, приподняты сверху и по бокам, так что голова казалась больше натуральной. Но не напудрены - этой пачкотни Дунька не любила, собственный цвет был хорош.
Она уставилась на гостя и, как Агашка, ни слова не могла произнести.
– Здравствуй, Дуня, - сказал Архаров. - Садись, потолкуем.
– Здравствуй, Николай Петрович.
Она села в кресло «кабриолет» (дай Бог здоровья княгине Волконской, Архаров уже запомнил эти названия), указала на соседнее кресло. Получилось это у нее даже изящно, совершенно по-дамски, - как будто не она пять лет назад носилась по Зарядью босиком, помогая Марфе по хозяйству.
– Ты, я вижу, съезжать собралась. Ни к чему это, Дуня. Оставайся тут, живи, как привыкла. Дом и карету с лошадьми я тебе оплачивать буду, всю прислугу, как полагается, туалеты, стол…
– Николай Петрович, это ты что же, на содержание меня берешь? - тихо спросила Дунька.
– Да, Дуня. Будешь жить, как привыкла при господине Захарове. Может, даже еще лучше. Больше будешь выезжать, у себя принимать, учителей тебе найму - музыкального, танцевального, какие там еще полагаются.
– Фехтовального…
Архаров посмотрел на нее внимательно - нет, Дунька не шутила.
– Разве что вздумаешь в полк поступать.
Тут ему вдруг пришла в голову еще одна дамская забава.
– Можешь, коли угодно, в манеж ездить, брать уроки конной езды, по примеру государыни. У меня Агатка без дела на конюшне стоит, понравится - забирай. Стало быть, подумай, сколько тебе ежемесячно на дом требуется…
– Николай Петрович!
– Что, Дуня?
– Ни к чему это!
Архаров подождал - не будет ли объяснения странным словам. Но Дунька только вздохнула и отвернулась.
– Ежели я тебя, Дуня, когда обидел, то прости, вперед буду умнее, - на всякий случай сказал он.
Она ответила не сразу.
– А что ж ты, Николай Петрович, не спросишь - мил ли ты мне?
Это было и вовсе неожиданно - после того, как Дунька сама прибегала на Пречистенку, никто ее не гнал туда силком и денег ей за это не платил!
– Будет тебе, Дуня, дурачиться, - сказал Архаров и вспомнил советы Марфы. - Я тебе говорю попросту - беру на содержание…
Тут опять пришла на ум их первая встреча после чумы - когда нарядная Дунька посреди Ильинки хвасталась: «А у меня радость! Меня на содержание взяли!»
– Нет, сударь мой, - вдруг произнесла она, глядя мимо глаз. - Не пойду. Будет с меня…
– Не кобенься, Дуня. Я тебе добра желаю.
– Нет. Не надобно мне твоего добра.
Лицо не лгало - Дунька действительно более не нуждалась ни в Архарове, ни в его близости. Это было весьма странно…
– Другого завела? - спросил Архаров.
– Другого, Николай Петрович. Не обессудь.
Он встал.
– Ну, Дуня, коли так - навязываться не стану. А кто таков?
Встала и она.
В ее огромных раскосых глазищах не было знакомого ему огня. Дунька приняла некое решение - и далось оно ей нелегко. Так глядит человек, решительно отказавшийся от всего минувшего и весьма смутно представляющий себе свое будущее; возврата к былому, однако ж, не допускающий.
– Да уж не в монастырь ли ты собралась? - осенило Архарова.
– А коли так?
– В мужском наряде?
– В мужском путешествовать ловчее.
Тут она была права - после дождя в застрявшей карете, поди, насидишься, а в седле - и горя не знаешь.
– Грешно же, Дуня.
– Не твоя печаль, - огрызнулась она.
Что-то тут было не так…
– Может, одумаешься? - миролюбиво спросил Архаров. - Я тебя не неволю, не тороплю, подумай, с Марфой потолкуй.
Она вздохнула и наконец-то посмотрела ему в глаза.
И стало ясно, что время безнадежно упущено.
Надо было хватать Дуньку в охапку еще тогда, в Лефортове, когда она выскочила на сцену, размахивая дрянной дешевой шпажонкой, чтобы защитить от бунтовщиков московского обер-полицмейстера. Хватать - там, в запущенном парке, в каком-нибудь неподстриженном боскете, превратившемся в зеленую лиственную пещеру, ведь ждала же она этого, желала же она этого, не отпускать ее более в захаровские владения на Ильинке, пропади пропадом все платья и побрякушки - новых накупить!
И не забивать себе дурную башку всякой ахинеей… Матвей бы даже выразился так: безнадежной ахинеей.
– Николай Петрович, - сказала Дунька, - устала я тебя дожидаться. А знаешь, что бывает, когда дожидаться устаешь? Тогда, сударь мой, идешь ты в Божий храм да и просишь: Господи, пошли мне хоть что, все приму и тут же исполню, лишь бы… лишь бы не прежнее… И Господь посылает! Главное - не струсить и принять. Так-то, Николай Петрович. Это как ежели бы кто тонул, Богу молился, а ему руку протянули. Не станешь допрашиваться, чья рука да откуда родом. Божья! Вот и хватаешься.
– И чья же такая рука подвернулась? - уже начиная сердиться, спросил Архаров.
– Моя, - уверенно отвечал мужской голос.
Из соседней комнаты вышел Алехан.
– Прости, Архаров, что девку у тебя забираю. Девка - золото. Я возвращаюсь в столицу и ее с собой увожу.
– Ну, Дуня… - совершенно ошалев от такого поворота дел, прошептал Архаров.
– Не на блуд беру, не бойся. У нас иное - так… Фаншета?
Давненько Архаров и не слыхал, и не произносил этого имени. Как-то без него обходился.
Имена несомненно влияют на судьбу и на нрав человека, а чем Архаров неоднократно убеждался. Дунькино крещальное имя «Евдокия» означало «благоволение», и точно - Дунька к Архарову благоволила. Но что могло означать имя «Фаншета»?
Не было такого имени в православном именослове, а было оно разве что в комедиях, переведенных с французского и доморощенных. И означало лишь то, что носящая его ходит в маске. Дабы собственное имя не истрепать…
– Так, Алексей Григорьевич, - сказала Дунька, подходя к Алехану - словно бы под его защиту.
Архаров глядел и глазам не верил. У его своенравной мартонки и у государственного мужа лица сделались одинаковы. Он знал, когда бывает такое - когда решено поделить по-братски нечто, чего руками не потрогать, завтрашнюю опасность ли, бой ли, смерть ли.
– Будь она со мной год назад - многих бед удалось бы избечь, - продолжал Алехан. - Одна такая Фаншета целую эскадру российского флота с избытком заменила бы, коли бы ее к нашей авантурьере вовремя подослать. И до правды бы докопалась, и вывезли бы, может, ту блядь без лишнего шума. Но и теперь ей дело найдется. Так что прощайся с Фаншетой, Архаров. Теперь уж не ты, а я о ней позабочусь. Передам ее в хорошие руки. Грех такую девку в Москве держать для одной лишь амурной надобности.
Дунька смотрела в пол - как если бы не о ней говорили. При этом она левой рукой опиралась о шпажный эфес - и поза ее была совершенно непринужденной, словно Дунька с отрочества служила в гвардии и привыкла носить на боку клинок.
Архаров вспомнил - она так хотела стать актеркой… ну вот - по-своему сбылось…
Фаншета.
Не Дуня, нет. Стройный мальчик со шпагой, по имени Фаншета.
А рядом - восьмипудовый гигант с прекрасными темными глазами и знаменитым шрамом на скуле. Не может же быть, чтобы между ними ничего не случилось…
Но эту мысль Архаров тут же из головы изгнал. Ибо недостойно опускаться до бабьих предположений. Было, не было - какое это теперь имеет значение?
– А сам вскоре вернусь. Поселюсь тут на приволье. Мне Москва всегда была милее Петербурга, - совсем нерадостно сказал Алехан. - Коней растить буду, кулачных бойцов под свое крыло соберу, сам их школить буду, слышишь, Архаров? Я вернусь, все улажу и вернусь. Мы тут еще, Архаров, заживем! Деньги есть - все заведем, и конские бега, и боевых петухов! И голубятня знатная! Хор у меня будет, плячуны, девок плясать заставлю. Мы еще погуляем, слышишь? Вот последние дела доделаю… Отслужил я, Архаров… отслужил… А Фаншета еще послужит.
Архаров отвел взгляд от Дуньки.
– Что ж ты, Алексей Григорьевич, сразу не сказал? - не чая получить ответ, спросил он Алехана. - Я бы в это дело не мешался. Прощай, Дуня.
С тем Архаров повернулся и пошел прочь.
Дунька смотрела ему вслед и не отводила глаз от двери, пока ей на плечо не легла тяжелая орловская ладонь.
– Молода, другого наживешь, - строго сказал Алехан. - Главное - никогда не оборачивайся назад. Не возвращайся - никогда. Так, как было, уж не будет. Я и братцу Гришке сколько раз толковал… не разумеет!…
– Какое там возвращаться… Я всех рассчитала. Баулы мои велела к вам на квартиру снести. И…и… и вот она - я. Вся я. Ничего тут более моего нет.
– С кем-либо попрощаться желаешь?
– Нет.
– Ну так идем.
– Погодите, сударь…
Дунька подошла к окну.
Архаров как раз садился в свою карету.
Что-то словно подтолкнуло его - он повернулся и увидел в окошке Дуньку.
Может, и следовало сорваться, ахнув, кинуться назад, взбежать по ступеням. Да как-то не по-архаровски оно было - ахать, бегать, спотыкаться. Мало ли, какая блажь зародится в душе - так тут же ей и потакать? Недостойно. Да. Недостойно. Она ему на дверь указала, а он, словно мальчишка, словно паж или кадет, поскачет через ступеньку! Недостойно, неприлично, невместно… ну ее, в самом деле, мало, что ли, на Москве девок?…
Архаров сел в карету, Иван захлопнул дверцу и забрался на запятки. Сенька щелкнул кнутом.
Всей Москве известная обер-полицмейстерская карета покатила по Ильинке к Черкасскому переулку.
И лишь когда она скрылась за углом, Дунька молча пошла к лестнице - первая, Алехан - за ней.
Внизу их уже ждал привратник Петрушка. Он накинул Дуньке на плечи тяжелую черную епанчу - без особого труда, и другую епанчу накинул сзади на Алехана - тут уж встал на цыпочки.
Дунькина коса оказалась прикрыта, и теперь довольно было надеть треуголку, сдвинуть ее вперед - никто не признал бы в сопровождающем графа Орлова-Чесменского кавалере бывшую мартону господина Захарова.
Стряпуха Саввишна перекрестила ее, Агашка поцеловала ей руку, и обе женщины вышли на крыльцо посмотреть, как удаляются трое всадников, и все трое - на вороных конях.
Больше Дуньку на Москве не встречали.
* * *
Приближение осени Архаров услышал в шорохе деревьев. Он сделался каким-то сухим, словно от недавней жары листва утратила не только майский блеск и нежность, не только июньскую упругость, а и что-то иное.
Смена времен года, столь незначительная прежде, сейчас навевала хмурые мысли. Как так вышло, что осень в его понимании непременно связана с одиночеством, - Архаров не знал. Добрые люди, вишь, радуются, у них Спас за Спасом - яблочный, медовый ореховый, а московский обер-полицмейстер уже второй час возит свою постную образину по улицам и все никак не поймет, чего же ему в сей жизни надобно. Сенька же на козлах тем более этого никак не поймет и, сдается, ездит по кругу.
Наконец Архаров велел везти себя по Маросейке к Ивановской обители.
Этот монастырь указом покойной государыни Елизаветы Петровны предназначался для призрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей. Архаров бывал тут крайне редко, хотя место ему нравилось - уж больно круты были подъемы и спуски.
При виде обер-полицмейстера, выходящего из экипажа, нищая братия у ворот всполошилась. Все знали о его нелюбви к попрошайкам, а кто не признал его в лицо - тому товарищи подсказали. Охая и причитая, чуть ли не тридцать бездельников убрались подальше - который к Владимирском, что в Старых Садех, храму, который и вовсе прочь поплелся.
Невольно вспомнилась чумная осень 1771 года. Теперь уже при взгляде на две высоченные колокольни по обе стороны ворот Архаров не подумал бы, что надобно их запереть, чтобы бунтовщики не ударили вдруг в набат. Наоборот - выйдя из экипажа и задрав голову, он долго их разглядывал, всего лишь прикидывая высоту. Выходило, пожалуй, полтора десятка саженей. Потом обер-полицмейстер вошел в ворота. Дорогу он знал, что будут удерживать - не беспокоился.
Шварц сидел на какой-то приступочке у стены и глядел прямо перед собой. Там, внизу, за каменной стеной и под толстым полом, было обиталище Салтычихи-Людоедки - грязная земланая нора, откуда она не выходила, почитай, уже лет семь.
А в Шварцевом понимании это была обитель самой Справедливости - такой, как ее могли бы изобразить Баженов с Казаковым на Ходынском лугу, в виде греческой полуголой богини.
– Угощение принес, Карл Иванович? - спросил Архаров, словно бы напоминая немцу те чумные дни, когда он спас преступницу от голодной смерти.
– Ее нынче регулярно кормят, я проверял.
Архаров вгляделся в морщинистое лицо. Да, была на нем написана обида, была… Однако ж немец дивным образом увязал неизбежность этой обиды с торжеством великой Справедливости. Он сделал то, что полагал необходимым, и следствие несколько ускорилось. Возможно, он собирался подбросить стилет, чтобы на законных основаниях вернуть его в свой чулан. Но рассудил иначе - ради дела.
Думал ли он сейчас о Демке Костемарове, на чьем отпевании, как Архарову донесли, он появился и стоял в самом темном углу? Определял ли степень своей вины в Демкиной смерти?
Этого как раз прочитать по лицу Архаров не мог.
Шварц пришел на рандеву со Справедливостью. Он оказался выкинут из полицейской конторы, отстранен от дела, которому три десятка лет жизни отдал. И ему важно было в этих скверных обстоятельствах еще и еще раз напоминать себе: Высшая Справедливость есть.
– Каково-то ей там, света Божьего не видя? - спросил Архаров сам себя, но с расчетом, чтобы услышал Шварц. - Поди, от крыс и грязи уже рассудком повредилась и не осознает ни вины своей, ни наказания.
– Она и допрежь того вины не сознавала, - отвечал Шварц. - Наказание же сообразно.
– Я бы таких барынь в каторгу отправлял, сперва выписав плетей.
– Нет, сударь. На каторге-то ей как раз будет житье. Люди кругом, каждый день нечто иное. А сие однообразие - навеки. Плети - тьфу, почешется и заживет, и живи себе далее, хоть ангелом, хоть чертом. Одни белые полосы на спине свербеть станут.
Архаров пожал плечами - немцу виднее.
– И в Нерчинске обустроиться можно, - продолжал Шварц тизим невыразительным голосом. - Вон, в ссылку, на каторгу, жен с собой берут, детишек там заводят. А что мужику? У него и тут, как это говорится… Баня да баба - одна забава. И получается, что всякое наказание, кроме смертной казни, - временное и даже с некоторыми развлечениями. Потерпел - и свободен, и душа чиста, поскольку потерпел. А тут, сударь мой Николай Петрович, - навсегда. И я чем далее, тем более убеждаюсь, что кара должна быть - навсегда. Воистину навсегда.
Убежденность Шварца несколько озадачила Архарова. Он ждал, что будет сказано дальше.
– Хоть малая - а навсегда, - помолчав, уточнил Шварц. - На сем примере я вижу, как оно должно быть. И сей пример для всякого должен быть вразумителен.
– А коли она покается? Попов к себе потребует, взвоет, грешна я, грешна, простите, люди добрые?!
– Не потребует. Потому что тут все соответствует.
Архаров вздохнул. Все-таки в речах и поступках Шварца была порой какая-то нечеловеческая логика - простому смертному не понять.
– Я бы большего зла никому не пожелал, - сказал он, - а ведь есть, наверно, душегубы, которые более Салтычихи грешны. С ними как же быть? Их-то как судить7
– Бесстрастно, - был ответ. - Отсечь всякое негодование и всякое сожаление.
– Полагаешь, есть такой судья, кому сие доступно? Для того не человеком надобно быть…
– Человек рождается ни добр, ни зол, а таков, каким его Господь сотворил, - сказал Шварц. - Прочее суть несчастливые его приобретения на жизненном пути. Вот таков же и я, ни добр, ни зол. И не переменяюсь.
– Стало быть, ты безупречная тварь Господня? - спросил его Архаров.
Шварц несколько раз кивнул.
– И потому я должен быть, - добавил он. - Как есть все иное, созданное по законам разума и порядка.
– Ну, прости, что я тебя черной душой звал! - глумливо кланяясь, сколько позволяло пузо, воскликнул Архаров. - Куды нам всем до твоей безупречности!
– Были бы все, как я, остался бы я без работы, - совершенно не уязвляясь глумлением, преспокойно отвечал Шварц.
Тут уж можно было только расхохотаться.
– Ну, уморил, Карл Иванович, - сказал, отсмеявшись, Архаров. - Механист ты. На Ходынском лугу тебе самое место. Вот через свою механику и сидишь тут, караулишь Салтычиху.
– Я все верно рассчитал, ваша милость.
– Да только впредь так не рассчитывай.
Архаров не собирался возвращать Шварца в полицейскую контору, он сам толком не знал, для чего его занесло в Ивановскую обитель. Но что-то произошло с его голосом - в словах, помимо его воли, прозвучало обещание.
Шварц дернулся, как от щелчка кнутом по плечу, резко повернулся к обер-полицмейстеру.
Обратного пути не было. И как там сказала государыня? «Когда поздно карать приходится миловать».
– Будешь служить. И не заикайся мне об отставке, - сказал Архаров. - Тебе, кстати, письмо там пришло, из самого Тобольска. Поехали.
Он, не оборачиваясь, пошел к экипажу, Шварц поплелся следом. Думал на ходу, надо полагать, о том, каким боком повернулась к нему сейчас Высшая Справедливость.
Вернувшись в полицейскую контору, обер-полицмейстер на несколько минут заперся со Шварцем в кабинете.
Архаровцы, видевшие это явление, кинулись совещаться. Никто не знал, почему исчез Шварц, домыслы строились самые диковинные. Уже и до того додумались, что он, гоняя французских шпионов, за границу ездил. Наконец во двор, где совещались полицейские, пришел Клашка Иванов.
– Велено собраться, - сказал Клашка. - Что-то, видать, затеял. И нижних тоже звал.
– А где? - спросил Скес.
– То-то и оно, что у маза пертового.
– Опять, поди, облаву затевают, - буркнул Михей.
Архаровцы собрались в кабинете, куда, конечно же, набились не все - прочие остались в коридоре и нарочно для них дверь оставили открытой.
Архаров и Шварц стояли у стола.
– Тихо! - прикрикнул Архаров.
– Добродетель должна быть вознаграждаема, - сказал, когда все угомонились, Шварц. И полез рукой в карман.
– Сейчас пряник достанет, - шепнул Федька Скесу.
Но Шварц добыл оттуда бумагу, судя по скомканному и неопрятному виду - письмо, пришедшее издалека.
– Ваня, выйди вперед, - велел он Ване Носатому.
Тот подошел.
– Я получил послание из города Тобольска. В сем городе, при застенке, живет старик, прозвание ему Шаман. Тот Шаман был приговорен к бессрочной каторге, затем ему вышло послабление, ныне на старости лет кормится лекарским ремеслом. Он известен был среди каторжников особым умением… - тут Шварц замолчал, потому что архаровцы стали перешептываться - кое-кто слыхал про Шамана.
– Карл Иванович, продолжай, - когда установилась тишина, велел Архаров.
– Умение же таково - он тем, у кого драные ноздри, наловчился их заново выращивать. Как ему удается - одному Господу ведомо. Сказывали, берет кусок плоти от бедра и, сделав на лице раны, как-то приспосабливает. Я бы не поверил, коли бы сам не повстречал в Москве своего крестника, коему при мне, отправляя его в каторгу, ноздри драли. А он, хоть и не стал красавцем, однако имел вполне достойный нос. Я спросил его, точно ли Шаманово рукоделие. Он подтвердил. Человечек тот был Каин, царствие ему небесное.
Архаров вспомнил - его самого несколько смущал вид Каинова носа. Но нелепо мужчинам задавать друг другу такие вопросы. А Шварц ведь и точно, когда Каина с дружками отпускали на милость Божью, подходил к нему и втихомолку что-то выпытывал.
– Я написал в Сибирь, чтобы узнать о Шамане, и недавно мне сообщили, что он в Тобольске, - продолжал немец. - Я написал в Тобольск коменданту и вот получил ответ. Иван Орехов! Ты получаешь полугодовой отпуск ради путешествия в Тобольск. В канцелярии его сиятельства тебе выправят все бумаги, мы приготовим рекомендательное письмо к коменданту. Поезжай с Божьей помощью и возвращайся с носом!
Архаровцы так и грохнули. Шварц стоял торжественный и невозмутимый - при одном взгляде на него Архаров, уже успокоившись было, захохотал снова.
– Все-таки ты немец, - просмеявшись, сказал Архаров. - Ты до сих пор не знал, что по-русски значит «остаться с носом»? Что тебе, Ваня?
– Я не понял, - сказал Ваня. - Его милость шутить надо мной изволит?!
– Какие шутки, когда он с зимы только тем и развлекается, что письма по Сибири рассылает! Да еще за казенный счет! - воскликнул Архаров. - Уж не чаяли, что этот Шаман сыщется. Ваня, все - правда. Ты получишь жалование вперед и поедешь лечиться.
– Он? Черная душа? Письма для меня писал?
– Иди, Ваня, - посоветовал Архаров. - Иди в «Негасимку» и напейся в зюзю, чтобы водка в ушах плескалась. А как вернешься - то уже не в подвал, а наверх. Глядишь, и женим тебя, и детишки пойдут. Орлы, забирайте его отсюда - вишь, остолбенел. Пошли, пошли отсюда, все пошли вон!
Они опять остались вдвоем.
– Я знал, что значит «остаться с носом», - негромко сказал Шварц. - Но желал доставить радость…
Он старался держаться невозмутимо, но был сильно огорчен, что Ваня выдал свое подлинное к нему отношение.
– Будет тебе. Они и меня пертовым мазом заглазно кличут, и еще по-всякому величают, - успокоил Архаров. - Ну, не ангелы белокрылые, что ж теперь поделать.
И, вспомнив разговор с Лопухиным, добавил:
– Других Господь не дал.
Дверь приоткрылась.
– К вашей милости Арсеньев просится, - сказал Клашка.
– Ну, впусти.
Вошел Тимофей, ведя за руку парнишку лет двенадцати, худенького и бледного, но одетого чисто и опрятно. Кафтанчик и штаны ему, впрочем, были великоваты.
Это был Епишка.
– Вот, ваша милость, сына привел, - сказал Тимофей. - Кланяйся господину обер-полицмейстеру, дурень. Девчонку я Марье Легобытовой отдал, буду ей платить. А этого при себе оставил. Тринадцатый год молодцу, пора к делу пристраивать. Так нельзя ли к нам в контору? Всегда ведь парнишки на побегушках надобны.
Архаров заметил, что дверь за собой Тимофей не закрыл. Стало быть, в коридоре ждут все, кто на ту пору случился в палатах Рязанского подворья.
– Ну что же, он у нас уж и жил, и в розыске помогал. Что, Епишка, не страшно было?
– Страшно…
– А мертвых бояться не след. Они уж ничего не натворят.
Епишка вздохнул. Когда привезли тело мнимого Фалька, его водили в мертвецкую - опознавать. И он испугался там куда больше, чем при очной ставке с Семеном Елизарьевым, хотя Семен кричал, всех проклинал и вообще был страшен.
– Подкормить его надобно, Тимоша. А ты, Епишка, во всем слушайся Карла Ивановича. Он Максимку нашего учил, Макарку, теперь тебя учить станет.
– В какого святого честь окрестили? Епифана? - деловито осведомился Шварц.
– Елпидифора!… - сердито отвечал Тимофей. - Дура моя бабок послушалась! У всех дети как дети, у меня, вишь, Елпидифор!
– Ого! - воскликнул Архаров. - Вот тебя-то нам и надобно!
– На что? - резонно спросил Шварц. - Парнишка хилый, к службе пока негоден.
– Он же Елпидифор. То бишь - надежду приносящий. А мясо на костях нарастет! Сам же толковал - нам надобен Елпидифор!
Блажь начальства Шварц старался уважать - пока она имела скромные размеры и невинные формы проявления.
– Сие будет его должностью? - деловито полюбопытствовал Шварц.
– Да. И канцеляристам так вели писать.
Шварц кивнул.
– А каков оклад денежного содержания? - несколько подумав, спросил он.
– Прокормим! Эй, кто там за дверью сопит? Заходите все! Нашего полку прибыло!
Рига 2006