
Дмитрий Старостин
АМЕРИКАНСКИЙ ГУЛАГ
Пять лет на звездно-полосатых нарах
Моему отцу Виталию Григорьевичу Старостину, первому читателю этой книги, посвящается

ОТ АВТОРА

В 1991 году, когда мне было 18 лет, я переехал из Москвы в Нью-Йорк. За три с половиной года побывал официантом, продавцом, курьером, биржевым спекулянтом, студентом Колумбийского университета и еще много кем. В сентябре 1994 года меня арестовала нью-йоркская полиция за «покушение на убийство». Через двое суток я был освобожден под залог в десять тысяч долларов.
Российский паспорт судья не отобрал, и я хотел убежать из США. Отговорил меня адвокат. Он советовал идти на суд присяжных и доказывать, что я действовал в пределах необходимой самообороны. Американскую судебную систему я знал плохо и легко поверил аргументации защитника.
Суд состоялся пол года спустя. 31 марта 1995 года присяжные огласили вердикт. Виновным по основной статье обвинения, по которой мне грозил срок до 16 лет тюрьмы, меня действительно не признали. Но зато осудили по статье меньшего калибра: «нанесение тяжких телесных повреждений». Меня взяли под стражу в зале суда. Вечером я был в манхэттенской тюрьме «Томбс» («Tombs»), ожидая, когда выдадут кружку и одеяло, и разглядывая в зарешеченное окно горящие огни ресторана, в котором несколькими часами ранее съел свой последний вольный обед.
Я получил срок в 6 лет и 8 месяцев. Отбывал его в двух городских изоляторах и четырех тюрьмах усиленного режима, подведомственных штату Нью-Йорк. Благодаря вмешательству российского консула я был освобожден досрочно и оказался в Москве в августе 2000 года.
Тут меня ожидало много сюрпризов. Большинство моих друзей и знакомых в Москве считали, что я либо пять лет горел в аду, либо пять лет отдыхал в санатории. И тем, и другим объяснить, что я испытал на самом деле, было чрезвычайно трудно.
Одни сформировали свое представление об американской тюрьме по фильмам типа «Побег из Шоушенка» и «Поезд-беглец». Страшные беспросветные джунгли, где осатаневшие от безысходности люди бьют, режут и насилуют друг друга. С теми, кто так жить не хочет, все это проделывают надзиратели.
На других повлияли в первую очередь публикации в либеральной прессе начала девяностых, где Запад в целом представлялся царством комфорта и гуманизма, и его тюрьмы в частности. Шутка об американских зеках, которые взбунтовались из-за черствых булочек на завтрак, именно тогда вошла в обиход. А еще бытовал такой анекдот: «Решили отправить партию американских заключенных в российскую тюрьму, а делегацию русских — в американскую. Через неделю и от тех, и от других поступили ходатайства: американцы просили, чтобы их расстреляли, а русские — чтобы их приговорили к пожизненному заключению».
На страницах этой книги я рассказываю и о подавлении забастовки заключенных тюремным спецназом, и об избиениях в карцере, и об убийствах, произошедших на моих глазах. Уверенности в том, что этот день не станет для тебя последним, в американской тюрьме ни у кого нет. Впрочем — а разве на воле может быть такая уверенность? Ощущения же, что ты живешь в банке с пауками или в клетке с голодными крысами, у меня в американской тюрьме не возникало. Человек, не осужденный по «гнилой» статье (а статьи эти во всех тюрьмах мира одинаковы — изнасилование и растление малолетних), человек, ведущий себя спокойно и даже вежливо, обычно принимается арестантским сообществом. В американской тюрьме нет «прописки», нет «опущенных» в нашем понимании. Риск быть убитым или искалеченным не так уж велик, если ты не доносишь, с другой стороны — не провоцируешь надзирателей, не берешь взаймы и не торгуешь наркотиками.
Означает ли это, что сторонники «санаторной» версии ближе к истине? Нет. Хотя бы потому, что такую трактовку американской тюремной системы постоянно опровергают сами ее создатели и кураторы. Предыдущий губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо, когда его спросили, почему он выступает против смертной казни, ответил: «Для убийцы это слишком мягкое наказание. Провести жизнь в наших тюрьмах — это гораздо хуже смертной казни». Допустим, Куомо, убежденный католик, в чем-то лукавил, чтобы угодить избирателям, озабоченным тем, как справедливее мучить преступника — сильно или долго. Так или иначе, губернатор явно не имел в виду, что осужденного будут приковывать к стене, морить голодом или заражать туберкулезом. «Наказание хуже смертной казни» — это сам факт непреложной пред-решенности твоей участи.
Старца Зосиму в книге «Братья Карамазовы» спросили, есть ли для грешников в аду материальный огонь. «Не исследую тайну сию и страшусь, — ответил старец, — но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо мечтаю так: в мучении материальном позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная».
В нью-йоркских тюрьмах большинство заключенных работает не более шести часов в день. Там раз в неделю меняют постельное белье. Там на обед иногда дают мороженое. Там я встретил пожилого поляка, непрерывно находившегося в заключении с 1965 года. Не совершая новых преступлений «на зоне». Следует напомнить, что пожизненное заключение в сегодняшней России предполагает выход на поселение — при условии хорошего поведения — через 25 лет. Пусть доживут до этого немногие. Но существование даже полупризрачной надежды может дать человеку силы и — что еще важнее — примирить его с людьми и Богом. В этой книге я пишу о своем сокамернике-негре, осужденном в восемнадцать и по прошествии двадцати пяти тюремных лет мечтающем о работе в «Макдональдсе», съемной комнате в Гарлеме и какой-нибудь спутнице жизни, пусть даже не первой свежести и красоты. Поскольку полностью уверенным в исправлении можно быть только в отношении мертвого, его отказались освободить.
И поляк, и негр были осуждены за убийство. Одно убийство. Первый — при ограблении, второй — при разборке между подростковыми бандами. По словам сотрудников российской спецзоны для пожизненно осужденных, на одного их заключенного в среднем приходится по восемь трупов. А в штате Калифорния на срок «от 25 лет до пожизненного» был осужден человек, укравший в магазине набор батареек для плейера. Ранее его дважды осуждали за мелкие кражи. Когда калифорнийского губернатора об этом спросили журналисты, он ответил: «Он получил 25 лет не за кражу батареек. Он получил 25 лет, так как продемонстрировал, что является закоренелым и неисправимым преступником. А таких мы изолируем от общества».
Многие наши соотечественники считают, что американцы правы. «Я считаю, что за убийство нужно сажать на пожизненный срок даже пятилетних. Они все равно никогда не исправятся», — сказала мне одна журналистка. Должен ее разочаровать — эти слова все равно звучат не по-американски. Большинству американских граждан вообще безразлично, исправится преступник или нет. Они мыслят в не ветхозаветных даже, а машинных категориях воздаяния: «Сделал — получи». В задачи этой книги не входит философский анализ этого мировосприятия и его проекции вовне, ныне поставившей человечество на грань мировой войны. Я всего лишь пытаюсь рассказать о человеческих душах перед лицом забвения.
Глава 1
ПРАВО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ
«Тяжкие телесные повреждения»
В достопамятные времена перестройки в либеральной московской газете был опубликован очерк об американской правоохранительной системе:
«В США закон требует, чтобы перед началом допроса задержанному было сообщено: «У вас есть право хранить молчание. Любые показания, которые вы дадите, могут быть использованы против вас». Даже если этр и формальность — все равно прекрасно!» — восторженно резюмировал очеркист. Советские читатели, наслышанные уже к тому времени об Андрее Вышинском и его теории признания как царицы доказательств, не могли не согласиться с мнением автора.
Благодаря тому, что я узнал еще тогда о правах задержанного в США, мой собственный допрос в полицейском участке Нью-Йорка в 1994 году оказался очень недолгим.
Было три часа ночи. Я, тоскливо напевая «Гори, гори, моя звезда», расхаживал из угла в угол бокса, когда дежурный отворил дверь замысловатым ключом.
— Детективы хотят с тобой побеседовать, — сказал он, изучая мой измятый костюм с пятнами крови. — Придется надеть наручники.
Английский я понимал хорошо. Я протянул руки.
— Нет. За спину.
Я повернулся. На запястьях щелкнула сталь.
— Просьбы есть?
— Попить бы, — ответил я.
Полицейский ничего не ответил и лишь указал на дверь в коридор сыскного отделения. Я понял, что утолить жажду мне не удастся. Но в коридоре он остановился у питьевого фонтанчика и нажал кнопку.
— Давай, пей.
— Спасибо, — я наклонился над холодной струей и принялся с жадностью глотать воду.
Вдруг одна из дверей открылась, и в коридор вышла какая-то тетка в полицейской форме.
— Ты представляешь, — возмущенно обратилась она к дежурному, — этот господин только что в боксе песни распевал! Я подошла взглянуть, а ему наплевать — ходит и поет. Вот так. Приезжают из своей России, ничего не боятся, убивают здесь людей, а потом поют!
Я чуть не поперхнулся. Как это — убивают? Дежурный опять пристально взглянул на меня, вздохнул и отпустил кнопку.
— Вон в ту дверь.
В полицейских участках обычно горит яркий люминесцентный свет, но здесь была лишь тусклая настольная лампа. В полумраке сидели два сыщика в штатском: усатый и бритый.
— Снимите с него наручники.
Это был, очевидно, знак доверия. Один из сыщиков указал на стул, и я сел. Наступило неловкое молчание.
— Значит так, мистер Старостин, — начал усатый, — Вам предъявляется обвинение в умышленном убийстве.
Лицо его сделалось еще более серьезным и смачным.
— В убийстве? Как это странно, — вырвалось у меня.
Полицейские переглянулись.
— Мистер Старостин, — оживился усатый, — кстати, вы не возражаете, если я буду называть вас просто Дмитрий?
Я покачал головой.
— Не возражаю, так как вы значительно старше меня.
Сыщик почему-то осекся, но тут же обратил замешательство в свою пользу.
— Вы знаете, Дмитрий, мне нравится ваша вежливость. Думаю, что вы воспитывались в хорошей семье.
Я неопределенно кивнул.
— Это не так часто можно встретить в нашей работе, — продолжил усатый, поглядывая на своего напарника — У меня это вызывает уважение.
Сейчас, решил я, было бы самое время предложить мне по-мужски.
Предложение поговорить «по-мужски» напомнило историю моего приятеля, которого звали Саня.
Оказавшись в Америке, Саня расстался с женой — точнее, она его бросила. Ни увещеваниями, ни мольбами Сане не удалось ее вернуть. Он страшно переживал. Жена переехала из Бруклина в Бронкс, но Сане удалось разузнать ее новый адрес. В первый раз, когда он пришел туда, на него посмотрели в глазок, но дверь не открыли. Вместо этого из-за двери донесся скрипучий мужской голос, который по-русски предупредил Саню, что здесь не Россия, и пригрозил заявить на него в полицию. Второй раз Саня основательно напился, приехал в Бронкс с пятилитровой банкой бензина, облил дверь, бросил спичку и ушел. Происходило все это средь бела дня. Саня особенно и не пытался прятаться: даже простоял еще пару минут на улице, глупо ухмыляясь. Тем не менее никто из жильцов его не заметил. Жена, конечно, сказала полиции, что «больше было некому», и вечером в Бруклин приехали два пожарных инспектора (в Америке они имеют и полицейские полномочия). Саня работал в супермаркете в вечернюю смену, и его пригласили в казенную машину для разговора.
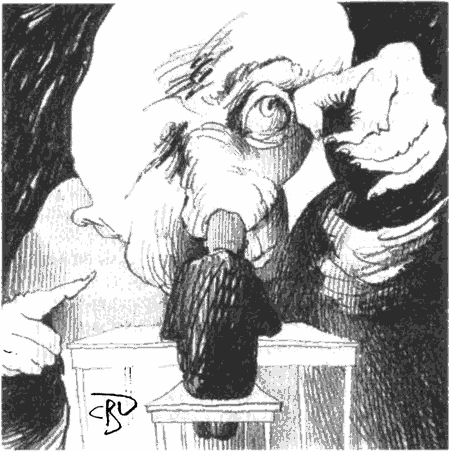
Инспектора были людьми неглупыми и быстро разобрались, что имеют дело с человеком неопытным и несчастным. Они усадили Саню на заднее сиденье, участливо поинтересовались работой и зарплатой, давая понять, что обращаются с ним не как с преступником. После этого один из инспекторов рассказал Сане о «небольшом пожарчике» в Бронксе. Тактика была избрана иная, чем со мной: не шокировать, а наоборот, успокоить. Саня удивлялся и качал головой, но не очень старательно. Инспектор решил, что нужный момент настал, и сказал тихо и доверительно:
— Послушай, парень, давай сейчас забудем про расследование. Я хочу с тобой поговорить как мужчина с мужчиной. Ну скажи мне начистоту: ведь это ты сделал?
Саня секунду помедлил и, размягченный сочувствием, ответил:
— Хорошо, инспектор. Поскольку разговор откровенный — скажу все как есть. Да, это действительно сделал я.
Утром следующего дня Саня уже получал одеяло и подушку в бруклинской тюрьме предварительного заключения. Впрочем, пожарные инспектора пощадили его чувства. Вместо того чтобы надеть на него наручники сразу же после слова «я», они потратили еще четыре минуты своего рабочего времени и тактично подождали, пока Саня не излил им душу на скверном английском языке.
Воспоминание об этой истории настроило меня на нужную волну, и я прервал затянувшееся молчание:
— Господа, в отношении того, о чем вы меня спрашиваете, я имею сообщить следующее. Я подтверждаю, — тут сыщики напряглись, — что минувшим вечером нечто действительно произошло в баре под названием «KGB». Об остальном я сообщу в присутствии своего адвоката.
Сыщики сразу сделались постными и официальными. Надо полагать, что после упоминания об адвокате они уже не имели права продолжать допрос.
Дежурный снова надел на меня наручники и отвел обратно в бокс. Чаю мне так и не предложили.
Два часа спустя, когда я сидел на лавке в углу, угрюмо дожидаясь рассвета, к прутьям решетки приникла крутая полицейская физиономия, которая прищурилась и произнесла:
— Ты, парень, плохо работаешь. Он остался жив.
— Правда? Веселые дела, — ответил я, стараясь казаться безучастным.
«Ну, слава Богу», — мелькнуло в сознании, прежде чем я погрузился в тяжелое забытье на несколько минут.
Впоследствии я изложил историю моего допроса другу-соотечественнику по имени Антон. Он слушал внимательно, иногда кивал, одобряя, очевидно, мое поведение.
Дослушав до конца, Антон затянулся сигаретой и сказал:
— Не знаю, конечно, как по их законам, а по нашим понятиям ты пару проколов дал. Не надо было никак выражать свою реакцию, вообще никак. Все эти «как это странно», «шутить изволите», все эти «ух», все эти «бля»… Надо сидеть и смотреть в одну точку, а если не можешь сдержаться, скажи: «Оставьте в покое невинного человека». Потом, это твое «нечто действительно произошло» — тут уж ты явно лоханулся.
— То есть как? А что же я, по-твоему, должен был сказать?
— А ничего. Молчать, в натуре.
— Так ведь нет смысла отрицать, что я там был. Они же не дураки. Две машины за мной прислали, сфотографировали, протокол составили.
— Протокол? Послушай вот, что со мной было. Приехали мы разрывать одного чувака, еще по арбатским делам. Мы войти не успели — жена его уже звонит по «02». Выполнили работу, спускаемся на лифте — в подъезд бегут мусора. В отделении следак говорит: «Подпиши вот эту бумагу — постараюсь устроить товарищеский суд». Как это тебе нравится? У меня статья «разбой», а он обещает, что меня в ЖЭКе будут судить. Я ему: «Гражданин следователь, я не понимаю, о чем вы говорите. Никогда я по этому адресу не был и никого там не грабил. Я вообще грабежом не занимаюсь». У следака челюсть отвисла. Кричит: «Да ты что? Тебя же целая бригада брала! И тебя, и твоих дружков!» Я отвечаю, опять же спокойно: «Не знаю, о каких дружках идет речь. Я гулял по улице, вдруг подъехал газик, меня схватили и привезли сюда. Вы меня с кем-то перепутали». Следак аж побледнел. «А, ты так, значит? Уведите его!» Я-то понимаю: ему надо в прокуратуру звонить, а там у него первым делом спросят: «Что он подписал?» Прокурору ведь надо, чтобы все шло гладко, — чистосердечное признание. А признание не всякий получить сумеет.
— А как же свидетели? — спросил я Антона.
— Свидетели… Да пусть меня хоть десять человек опознает. Это ведь как можно повернуть? Конечно, мол, видели бандюка в черной куртке и с цепочкой на шее. Вы меня привели, показали — ясное дело, куртка похожа, цепочка похожа, — они говорят: «Да, тот самый». Преступника не нашли — невинного подставили.
— Ну, а как быть, если против тебя прямые улики? Отпечатки пальцев, допустим. Это же неоспоримо.
— Неоспоримого, чтоб ты знал, ничего нет. Пальцы — тут отмазаться сложнее, это правда. Но и здесь есть методы. Например, следак тебе говорит: «Волына в лаборатории. Там подтвердили, что пальцы твои». А ты на это отвечаешь: «А волына — это что, пистолет? Так вы же сами на первом допросе мне этот пистолет на стол бросили, еще кричали: «Твой? Признавайся, твой?» А я пистолет от себя отодвинул: «Нет, не мой, уберите!» Вот когда отодвинул, конечно, оставил отпечатки.
— Да неужели все это работает? — поразился я.
— Если твое дело серьезное, сверху идет, — нет. Тут нужен известный адвокат и большие бабки. А в обычных случаях прокурору проблемы не нужны. Не подписал — значит дела нет. Сразу, конечно, дело не закроет. Будет несколько тяжелых дней.
— А это что такое?
— Как что? Навешают пи…юлей. Не сам следователь, а дознаватели, конечно. Руки за спину, наручники, сажают на табуретку — и дубинками. Тут у них с советских времен ничего не изменилось. Я еще легко отделался, а подельник мой решил дознавателю сдачи дать. Они разъярились, со всех сторон целая куча набежала его х…ячить. Подельник упал под стол, кто-то на него, еще кто-то сверху — полный хаос. Парень под столом рванулся, выполз с другой стороны, приподнялся — а дознаватели все еще друг на друге барахтаются, матерятся и под стол дубинками тычут. Вот тут-то его ужас и охватил. Подумалось, видишь ли, что он уже концы отдал, тело его мертвое под столом лежит, а душа со стороны эту картину наблюдает! Ну тут, правда, мусора сообразили, где он, и поставили все на свои места. В общем, три дня длились наши мучения, но не раскололся никто. А тут как раз путч начался, им совсем не до нас стало — закрыли дело за отсутствием состава преступления.

В США Антона обвинили в покушении на убийство. Обвинение было сомнительное и фактически основывалось на показаниях одного человека. Так или иначе, Антон ни на йоту не отступил от своих правил и отрицал даже сам факт знакомства с потерпевшим, несмотря на то, что их несколько раз сфотографировали вместе. Антон пытался воспроизвести знакомое российское судопроизводство, отказавшись, к примеру, от обычных на американских процессах двенадцати присяжных в пользу одного судьи. Правда, здесь он действительно один, без народных заседателей. Антон хотел, чтобы его судил профессионал, а не дилетанты-обыватели, которым от одной фразы «пять ножевых ранений» сделается дурно. Профессионал выслушал речи защитника и прокурора без всяких эмоций, стукнул по кафедре молоточком, признал Антона виновным и вкатил ему срок «от пяти до пятнадцати лет».
Осудили и меня — по статье «тяжкие телесные повреждения». Использовать для этого мои случайные обмолвки прокуратуре не потребовалось: хватило и прочих улик. Лишь однажды мне пришлось пожалеть о своей опрометчивости. Когда суду оставалось решить, сколько лет мне дать, прокурорша, изобразив негодование, рапортовала судье о моем пении в камере полицейского участка. Выглядело это так, что вместо раскаяния злодей, залитый кровью жертвы, предавался сатанинскому торжеству. На самом деле я от тоски пел «Гори, гори, моя звезда», но что им было до чувств дикого россиянина перед лицом судьбы? Любимая песня адмирала Колчака, возможно, добавила мне лишний год. Впрочем, винить я мог лишь себя: ведь у меня было право хранить молчание.
Вердикт
Когда в последний день судебных заседаний мой новый адвокат, взятый по рекомендации и увешанный званиями, вдруг пригласил пообедать за его счет, я начал понимать, что мы проиграли. Он с наслаждением поглощал спагетти и хвалился своим знакомством с шефом ФБР Гувером и давней защитой каких-то корсиканских наркоимпортеров. Впрочем, я не вслушивался, сосредоточившись на стакане виски и думая только о том, что не позволю арестовать себя трезвым.
В это самое время присяжные решали, виновен ли я в попытке преднамеренного убийства. Из окна ресторана хорошо была видна та самая дверь тюрьмы «Томбс», из которой я вышел под залог полгода назад, в сентябре 1994 года.
В конце концов, залог был всего десять тысяч, и я сейчас мог просто встать из-за стола и уйти. Поймать такси, через час быть в аэропорту, купить билет до Сан-Диего на чужую фамилию, а ночью перейти границу Мексики. Но до абсурда невозможно было поверить, что меня осудят. Проклятая надежда на «авось» приковала меня к месту. Надежда сесть в конце дня в такси и, не оглядываясь тревожно по сторонам, вернуться в свою манхэттенскую квартиру. Надежда, на которую не оставалось уже почти никаких шансов.
Судьба оказалась снисходительной лишь в том, что присяжные признали меня виновным не в покушении на убийство, а лишь в нанесении телесных повреждений.

Это было само по себе удивительно. Против меня свидетельствовали трое полицейских, прокурор намекала присяжным, что я еще и наркоторговец, подпольный букмекер и чуть ли не убийца президента Кеннеди, а мой адвокат все время путался в бумагах, запинался и грубил судье. Ввиду всего этого статья, по которой мне грозило не более десяти лет тюрьмы, могла сойти за подарок судьбы. Но вот за спиной защелкивают наручники, и ты бросаешь прощальный взгляд на сидящих в зале и расстаешься со всей своей прошлой жизнью. Благодарить судьбу при этом не очень получается. Только и успел я сунуть своему злополучному Плевако наручные часы, которые в тюрьме носить не положено.
После решения присяжных срок заключения объявляют не сразу. Три мучительные недели ожидания я провел в уже знакомой «Томбс».
Впрочем, попал я туда не сразу. Не зная, как оттянуть заключение, я пожаловался надзирателям на давнюю боль в желудке. Меня отвезли в больницу и в самом прямом смысле слова приковали наручниками к койке. Даже не спросив, на что я жалуюсь, не вызвав врача и не сделав рентген, мне дали две таблетки неизвестного назначения и оставили лежать. Вокруг стоял невообразимый гвалт бесплатной городской медицины, а манера обращения персонала ничем не отличалась от тюремной. Наевшись всем этим, я объявил охранникам, что, пожалуй, готов ехать в тюрьму, прервав «курс лечения». Они откровенно обрадовались — наступал пятничный вечер, и теперь, избавясь от меня, они могли спокойно отправиться в бар. Растрогавшись этой мыслью, один из них даже пожелал мне удачи.
Тюрьма меня встретила такой же, какой я оставил ее полгода назад: те же переполненные грязные и душные боксы, полу съедобные бутерброды и бесконечное хождение гуськом — на отпечатки пальцев, на регистрацию, на фотографирование, на медосмотр…
Какой-то негр в сверкающих кроссовках неизвестно зачем стал рассказывать длинную историю про своего знакомого грузина, сидевшего в федеральной тюрьме. Но закончить он не успел — его прервали вопли заключенных из соседней камеры, скандаливших о несоблюдении какой-то инструкции. Оказывается, на стене была полусодранная бумажка, гарантирующая нам размещение по «личным» камерам в течение двадцати четырех часов. И действительно, ровно за пять минут до истечения магического срока всем раздали потертые одеяла, пластиковые кружки и повели к лифту. Во время первого ареста я до личной камеры не дошел: меня успели выкупить под залог прямо из бокса.
А теперь я оказался перед массивной серо-металлической дверью. Надзиратель-негр с равнодушным видом уставился на меня из-за стола, усеянного кнопками, как пульт ракетного управления.
Наконец, серая дверь, лязгнув, отворилась, и я вошел. То, что я увидел, напоминало замусоренный школьный спортзал. Посреди стоял грохочущий телевизор, вокруг которого возвышалось что-то вроде магазинного прилавка — это была кухня, точнее, раздаточный пункт. Слева — маленькие грязные душевые кабинки и два привинченных к столбам телефона. Очередь к ним — человек десять. Во всю правую сторону шли высокие, очень узкие окна с толстым плексигласовым стеклом. Остальное пространство занимали камеры, два яруса. А в центре возвышался огромный стол для пинг-понга, он же обеденный. Прямо на этом столе сидели несколько человек и агрессивно спорили.
— Вешаться будешь? — деловито прервал мои наблюдения голос надзирателя.
— Нет пока…
— Тогда камера шестнадцатая-нижняя, — заключил он.
«Прямо как в Швейке», — вспомнил я, таща под мышкой одеяло: «Тогда снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую…»
В моем новом жилище все было из металла. Койка, привинченная к стене, умывальник, унитаз, даже зеркало, все в брызгах зубной пасты. Под самым потолком было маленькое окошко, в котором едва светились верхушки манхэттенских небоскребов.
Я не спал уже двое суток. Наскоро натянув видавшую виды простыню на пролежанный, весь в разводах матрац, я сбросил на пол успевший помяться пиджак и улегся под одеяло. Объявили отбой, и надзиратель забегал пальцами по пульту, запирая электрические замки и отключая свет. Наступила полная тьма, только вдалеке мерцали огни города.
«Куда меня занесло?..» — но мысль эта исчезла, как на угасающем экране, и я заснул.
Русская пицца
Замок лязгнул, и дверь камеры начала медленно отворяться. Было совершенно темно. Вчера вечером, предполагая, что кто-то из старожилов манхэттенской тюрьмы может решить устроить «прописку» новичку, я спрятал в носок кусок мыла и теперь лихорадочно шарил по полу. Но ни найти, ни воспользоваться этой импровизацией в духе пращи Давида мне не пришлось.
Жмурясь в ослепляющем свете фонарика, я разглядел заспанное лицо надзирателя-негра.
— Вставай. Тебе к психиатру.
— Я же уже прошел медосмотр… — неуверенно возмутился я.
— А тебе и не осматривать. Тебе — переводить, — буркнул он и позвенел в нетерпении ключами.
Натянув бркжи и пиджак, я последовал за ним. Тюрьма еще спала, и только двое заключенных катили на кухню тележку с молоком и кукурузными хлопьями.
В мертвенно-зеленом кабинете психиатра я увидел вжавшегося в стул человека с ежиком седеющих волос. Он поднял на меня затравленный взгляд и снова уставился в пол.
— Я буду его спрашивать, а вы переводите, — с раздражением сказал психиатр и разложил перед собой несколько толстых папок.
— Where are you from?
— Откуда вы? — перевел я.
— Из Киева, — глухо ответил пациент.
— Нет, нет, — прервал его психиатр. — Спросите его: где он жил в Соединенных Штатах?
— Да в Бруклине, где же еще? — не дожидаясь перевода, удивился тот.
История его ареста не интересовала тюремного врача, но арестант все сбивался на воспоминания, пытаясь что-то объяснить.
Николай, так его звали, в прошлом строительный прораб, приехал в Америку три года назад да так и остался там нелегальным иммигрантом. Документов не было, языка он не знал, мотался по дальним знакомым и ночлежкам, перебиваясь нечастой поденной работой по десять-пятнадцать долларов в день.
Но однажды какой-то иммигрант предложил ему наконец стабильный заработок.
— А что надо будет делать? — осторожно спросил Николай, боясь, что речь идет о наркотиках.
— Пиццу будешь разносить по неправильным адресам. Шесть долларов в час. И не болтай об этом.
Как и персонаж Конан-Дойля, которому предложили от руки переписывать Британскую энциклопедию, Николай долго не мог понять, в чем дело, но со временем все разъяснилось.

Его новый босс и еще несколько русских иммигрантов зарегистрировали в Нью-Йорке компанию с телефонным номером, начинающимся на 1–900. То есть с номером, который требует от звонящего дополнительной, поминутной оплаты. Таких платных номеров в Нью-Йорке предостаточно — от сводки погоды и справочной о выигравших номерах лотереи до телефонного секса и брокерских консультаций. Цену за минуту назначает сама компания, а телефонная сеть лишь перечисляет деньги. Компании такого типа обычно рекламируют свои услуги в газетах, на телефонных будках и даже спичечных коробках. Однако работодатели Николая нигде рекламу не давали, зато брали за каждую минуту разговора по двадцать долларов.
Николаю и еще нескольким таким же, как он, бедолагам выдавали каждое утро коробку с пиццей, наряжали их в традиционную красно-бело-полосатую униформу, обычную для всех нью-йоркских пиццерий, и снабжали длинным перечнем адресов.
Расчет был прост. Деловые американцы часто съедают ланч прямо в офисе, заказывая бутерброды, пиццу, китайскую лапшу или еще что-нибудь из ближайших закусочных. Разносчики этих заказов появляются в офисах очень часто. Поэтому когда Николай входил и бормотал на ломаном английском: «Кто заказывал пиццу?», то ему не удивлялись, а, наоборот, сочувственно объясняли, что он, должно быть, ошибся этажом или дверью. В ответ Николай просил разрешения позвонить в «свою пиццерию» и выяснить правильный адрес. Доверчивые клерки сами подсовывали незадачливому разносчику телефон, и Николай быстро набирал затверженный наизусть номер своей фирмы. Пока он спрашивал «диспетчера», пока тот искал «правильный адрес», пока они выясняли, кто из них «ошибся», время шло. И деньги капали — по 20 долларов за минуту — со счета той фирмы, которая дала позвонить.
Никто Николая так и не заподозрил. Мир этих клерков, окончивших приличные колледжи в Новой Англии, обеспокоенных страховками, котировками и пенсионными планами, мир выглаженных рубашек и строгих костюмов, был безмерно далек от Брайтон-Бич, он был просто в другом измерении. Когда месяц спустя в эти офисы приходили телефонные счета, то нельзя было даже выяснить, кто был тот звонивший. Не знали и о таких же счетах, приходящих на все другие этажи.
Правда, иногда случались неприятности. Несколько раз проголодавшиеся клерки соглашались купить принесенную «по ошибке» пиццу, и Николаю не только не удавалось позвонить, но еще приходилось покупать новую. К тому же эти купившие скандалили, что пицца была совершенно остывшая и черствая. Николай искренне не понимал их возмущения: он съедал такую холодную пиццу в конце каждого рабочего дня, это был его законный ужин.
Я так и не успел узнать, каким образом в конце концов их поймали. Психиатр, утомленный несвязной исповедью, прервал ее на полуслове и стал расспрашивать, зачем Николай разбил о стену деревянный стул в холле.
Отвечал он нехотя. Лишь один раз, повернувшись ко мне, сказал:
— Переведи ты ему, чтоб отпустил меня в Киев. Один я здесь. Никого у меня нет, понимаешь…
— Он надеется, что его депортируют на родину, — сказал я по-английски.
Психиатр только кивнул, продолжая писать.
Шестой восточный блок
Манхэттенская тюрьма «Томбс», по российским понятиям, ближе к следственному изолятору. Большинство заключенных ждет здесь суда. В Шестом восточном блоке, куда определили меня, были в большинстве случайные горемыки.

Со мной сидел негр, укравший из магазина слесарных инструментов коробку с отвертками. Сразу после кражи он отправился через дорогу в Армию спасения — в очередь за бесплатным супом. Там его и схватила полиция. Выйти под залог 250 долларов ему было не по карману. В соседней камере был эмигрант — серб. Ввязавшись в спор в табачной лавке, он расколотил владельцу-арабу витрину в ответ на какую-то ремарку о войне в Боснии.
Были и уже осужденные, которым предстояла отправка на Райкерс. Этой самой большой тюрьмой США, занимающей целый остров, нас постоянно пугали надзиратели. О Райкерсе ходили леденящие кровь легенды, после которых маленькая «Томбс» казалась просто санаторием.
Как и всюду в нью-йоркских тюрьмах, среди заключенных преобладали негры и латиноамериканцы. Последние, в большинстве своем пуэрториканцы и эмигранты из Доминиканской Республики, держались особняком, но в целом были дружелюбны. А мексиканец по имени Эфраим, в ковбойских сапогах и с усами Эмилиано Запаты, даже пытался учить меня испанскому. Делал он это так: тыкал пальцем в какой-нибудь предмет и произносил его испанское название. Иногда по моей просьбе — писал. Латиноамериканцы, в отличие от негров, почти все грамотны.
Кроме этих импровизированных уроков делать, в сущности, было нечего. Телевизор надрывался постоянно, но все время шла какая-то невыносимая муть. Иногда я играл партию в шахматы, стараясь, правда, без особого успеха, поддержать репутацию русских шахматистов. В карты играть тоже разрешалось, но их я избегал, боясь наделать долгов: играли на сигареты. К тому времени я Уже знал, что задолжавшего даже пачку могут запросто порезать. Лезвий в открытую ни у кого не было, но встречались люди со свежими шрамами от уха до подбородка. Шрамы бывали огромные, вздувшиеся, как от от ожога. Такой след оставляло местное орудие из двух половинок бритвенного лезвия, параллельно вплавленных в разогретую на огне ручку зубной щетки. Кожу лица нельзя толком сшить, и порезы эти не исчезнут уже никогда.
Возможно, именно в поисках лезвия со всех переданных мне русских книг сдирали обложки. Книги были вполне уместные в моем положении: Солженицын и Достоевский — и читал я все ночи напролет. Пару раз за ночь заглядывал через плексиглас охранник, удивленный моей необычной здесь страстью к литературе. Под утро делал обход блока так называемый дежурный по самоубийствам — назначенный на эту должность заключенный. Вначале мне это казалось одной из американских нелепостей, но, повстречав потом на острове Рай-керс людей с фантастическими сроками, я уже не удивлялся по поводу этих дежурных. Пожалуй, Родион Раскольников ошибался, и терпению человека есть предел.
Кормили в манхэттенской тюрьме хорошо. К завтраку давали яблоко, пакетик молока и кукурузные хлопья. Обед и ужин, почти горячие, развозили с кухни по блокам. Обычно макароны или рис с каким-нибудь мясным соусом или даже кусочком мяса. Добавку выдавали беспрепятственно. Была даже особая очередь для мусульман — еда без свиного жира, по законам «халал». Совсем уж невероятными казались кошерные еврейские блюда — рыба или гуляш, привозимые на маленьких запечатанных пластиком подносиках. Кошерное очень любил толстый колумбиец, дежуривший на раздаче.
Однажды в обед я сидел со своим подносом за фанерным пинг-понговым столом. Рядом со мной уселся мексиканец Эфраим, придвинув красный пластиковый стул. Несколько минут мы сосредоточенно ели.
— Buena comida? (Вкусно?) — спросил я его по-испански.
Эфраим улыбнулся, но ответить не успел. Сзади на его плечо легла ладонь огромного нефа.
— Ты снимал мои вещи со стула? — в голосе его дрожало бешенство.
Эфраим не понял, он не говорил по-английски. Сидевший напротив пуэрториканец бросился переводить сбивчивым шепотом. Очевидно, Эфраим без спроса черного владельца переложил на подоконник сушащиеся после стирки кальсоны. Не дав пуэрториканцу договорить, негр заорал:
— Переведи этому… пусть просит прощения!
Эфраим, с побелевшими желваками на натянувшемся лице, выслушал перевод и что-то глухо сказал по-испански. Пуэрториканец замялся, но потом все же перевел:
— Он говорит, что прощения просить не будет.
Конец этой фразы совпал с ударом. Эфраим вместе со стулом был сбит на пол. Но никто не шевельнулся, ни один человек, даже латиноамериканцы, только сразу повисла напряженная тишина. По лицу мексиканца, заливая глаза, текла кровь, а нога негра уже давила ему горло.
В этот момент подбежали два надзирателя, но разнимать не решались — негр легко мог справиться и с ними.
— Брось его, брось! — истерично выкрикивал один.
А другой, тоном врача-психиатра, увещевал:
— Ну вот и хорошо, видишь — ты его уложил, вот и отличненько. А теперь все, хватит, куда ж ему больше?
Как-то сразу угаснув, негр отошел, продолжая гримасничать и бормотать:
— Не будет он прощения просить, не будет?!
Эфраим встал, цепляясь за стол и покачиваясь.
Я отвел глаза, а впрочем, ему было не до меня. На столе в капельках крови остался недоеденный обед: сосиски с бобами.
Действительно вкусный обед.
На остров Райкерс
Нас сковали по двое. Правая нога одного к левой ноге другого; руки в цепях, пристегнуты к поясу. Путаясь в сложной упряжке кандалов, я и мой напарник, низенький лысеющий еврей, влезли в тюремный автобус.
Стоял пасмурный весенний день 1995 года. В манхэттенской тюрьме проходила очередная разгрузка, и нас везли на остров Райкерс. Несколько зеленых тупорылых автобусов выстроились посреди тюремного двора.
Уселись на жесткой лавке. По команде конвойного открылись две пары скрипящих металлических ворот, и за мелкорешетчатыми окнами автобуса замелькали лавки и ресторанчики китайского квартала. Был полдень, по узеньким улицам среди рыночного развала овощей, рыб, креветок и копченого мяса текла густая толпа. На украшенный гербом тюремного ведомства автобус никто внимания не обращал.
Чуть отдышавшись, мой напарник представился:
— Бронштейн. Пабло Бронштейн. Аргентинский еврей, видите ли. А вы поляк?
— Нет, русский, — поправил я.
Обмен репликами, как в телячьем вагоне, во вкусе фильмов о Второй мировой войне.
— Ах, русский! — Бронштейн почему-то обрадовался этому. — А я, знаете ли, как раз собирался начать шить в России шерстяные куртки. На экспорт, да. И фабрика нашлась, ну… так сказать, на примете. Я, видите ли, торгую одеждой. Оптом, да. Уже тридцать лет. За это и посадили, — тут он засмеялся невеселым смехом.
Пабло Бронштейн, как оказалось, ходил с условным сроком за неуплату налогов. И обошлось бы, но тут он договорился о закупке контейнера джинсов. В контейнере не хватало восемнадцати пар.
— Вы понимаете, — продолжал он взволнованно, — я как раз рассорился с женой… Вы не подумайте, она хорошая женщина. Но, знаете ли, она иногда так умеет… Ну да не в этом дело. Просто еще этот прохвост со своим неполным контейнером… Глупо, конечно… Но я, знаете ли, я просто вышел из себя и поехал к нему, на склад. А склад этот заперт, да. Ну я сбил замок и взял свои восемнадцать пар, только свои, заметьте, ничего больше. Я вам говорю, ведь это просто справедливость, как вы считаете? Прямо с этими джинсами в руках меня и взяли, даже не знаю, кто их вызвал. Очень быстро они приехали, да. Это я о полицейских говорю. И вот теперь — Два года… А за что, я вас спрашиваю, вот вы мне скажите, за что?
Автобус тряхнуло на резком повороте, и мы, прикованные друг к другу, слетели со скамьи на пол. Когда, поощряемые руганью конвоира, мы уселись опять, впереди уже появился мост через Ист-Ривер, а за мостом — огромный остров Райкерс. Остров-тюрьма, город-тюрьма, самая большая и одна из самых страшных в Соединенных Штатах.
В сером послеполуденном свете поблескивали концентрические круги заграждений из колючей проволоки, увенчанные спиралями Бруно. Все затихли, вглядываясь в это море нержавеющей стали.
— А что, мистер русский, — тихо сказал Бронштейн, — действительно, очень похоже на концлагерь.
Автобус начал кружить между бесконечными рядами корпусов. Позднее я узнал, что их на острове 153, а карта расположения засекречена. Но в те первые минуты мое внимание приковало одно, совершенно огромное здание. Окон в нем не было, а вместо них по серым бетонным стенам, как чумные пятна Красной Смерти из Эдгара По, расползлись ярко-кровавые квадраты. Это был «Веасоп» — корпус для отправляемых на пожизненное заключение.
Нас, однако, не встречали ни автоматчики, ни рычащие овчарки. Последних заменял один небольшой доберман, несолидно вилявший обрубком хвоста. Надзиратели, такие же хмурые и безразличные, как в манхэттенской тюрьме, повели нас привычным гуськом к караульному отсеку. Всех расковали и втолкнули в и без того уже битком набитую железную клетку с умывальником и унитазом в грязном углу. Впрочем, грязь была всюду.
— Застрянем до ночи, — мрачно сказал бас над моим ухом, — и еды не дадут.

Время тянулось бесконечно. Стоял ровный, выматывающий душу шум, и через несколько часов я был близок к ступору. Сознание продолжало фиксировать все сквозь туман. Вот орет, размахивая руками, огромного роста доминиканец: власти конфисковали у него героин в багажнике заодно с новой «ауди». Вот рыжий гомосексуалист осторожно продвигается к унитазу, но прежде чем успевает дойти, его останавливает коренастый негр со сверкающим бритым черепом. И «петух» безразлично и деловито становится на колени… На краешке скамьи, уютно свернувшись, посапывает во сне Пабло Бронштейн, а прямо над ним звучит-исповедуется голос с сильным арабским акцентом:
— Отец мой — из самых богатых у нас в Марокко. Я жил как принц… Я учился в лучшем французском пансионе! Мне была доступна любая женщина. Мне ни в чем не отказывали. Деньги, путешествия, все! Но я не хотел… Я хотел в Америку. Я приехал сюда найти новое имя и новую веру…
— Заткнись, ты! С иглы не слазишь… Я тебя и твои байки еще по прошлой отсидке помню!
— …Новое имя и новую веру! Я постиг Христа, и я постиг, что Святой Дух на земле есть оргазм… Я причастился к истине, и стал художником волею Бога, и запечатлел священные таинства небесных тел, и за то ангелы дьявола схватили меня. Но я сохранил, я сохранил! — и заросший седой щетиной араб, с подергивающимся лицом и горячечными глазами, развернул засаленный тетрадный лист и помахал им. Я успел заметить крест и слезу, падающую на обнаженный женский торс.
Внимательно слушавший толстый пуэрториканец ухмыльнулся, пальцем постучал марокканца по колену и едва заметно кивнул в сторону дальнего угла. Они отошли и вернулись ровно через минуту. Пуэрториканец улыбался. На его оплывшей шее поблескивала золотая цепочка араба с медальоном тонкой резьбы. Бывший ее владелец, блаженно вздыхая, смахивал с ноздрей остатки белого порошка.
Через пятнадцать минут араб уже спал, и лицо его разгладилось. Измятый листик со священными таинствами небесных тел остался лежать на полу…
Доктор Сартори
На острове Райкерс держали подследственных и пересыльных заключенных. Униформу нам не выдавали. В тюрьме царили моды нью-йоркского гетто. Негры в приспущенных шароварах и мешкообразных футболках сверкали кроссовками и золотыми фиксами. Засаленные косички перемежались вязаными мусульманскими шапочками поверх старательно выбритых черепов. Латиноамериканцы увешаны густыми рядами цепочек из фальшивого золота и самодельными цветными пластиковыми ожерельями. Банда «Латинские короли» носила черно-желтые, «Ньетас» — черно-бело-красные. Вечерами, под приторный запах марихуаны, одни цвета резали бритвами другие.
Лето 95-го года казалось самым жарким летом столетия. Ни одного дождя. В окна коридора видны были высохшие газоны, старые липы и серые корпуса, каждый в своей отдельной клетке из колючей проволоки. Перед корпусами стояли нарядные гранитные монументы с тюремной эмблемой и надписью «Добро пожаловать в такой-то блок тюремного управления!» От блока к блоку текли плавящиеся от жары шоссе и чистенькие белые тротуары, по которым никто никогда не шел.
На газоне лежала мертвая чайка. Она лежала две недели, и пылающий солнцем июнь устраивал ежедневный паноптикум разложения. Глядя на нее, я терял рассудок от обреченности и жары.
Вентилятор работал только в «комнате отдыха» — маленьком закутке при входе в блок. Каждый вечер, ища прохлады, туда набивалось десятка три человек. В углу всегда грохотал телевизор, заглушавший крики спорящих латиноамериканцев. Среди бурлящей тесноты, занимая целую скамейку, лежал и смотрел в потолок огромный негр с серьгой в ноздре, застреливший таксиста при ограблении. Два мексиканца играли в шахматы и напевали «La bamba».
Кто-то встал у меня за спиной, тихо отстукивая такт ботинком. Я оглянулся. Склонив тонкое усталое лицо с очень светлыми глазами, за моей спиной стоял оживший Вольтер с огромным томом в руке и, чуть прищурившись, наблюдал за игрой.
— Вы играете в шахматы?
— Я? Да, я играю в шахматы, разумеется, — голос был с иностранным акцентом и звучал очень мягко. — Простите мое любопытство, но вы, мне кажется, тоже из Европы, не так ли? — Он протянул мне узкую длинную руку с тонкими пальцами. — Позвольте представиться: меня зовут доктор Сартори. Я говорю «доктор» потому, что по профессии я врач. Это моя миссия. Но призвание мое — музыка. Поверите ли, я пел в Парижской опере.
— В Париже?
— О! Неужели вы сомневаетесь? — доктор Сартори выпрямился, взмахнул свободной от книги рукой и запел:
«La.fleur que tu in’avais jetee
Dans ma prison m’etait restee…»[1]
Голос его, необыкновенно чистый, мгновенно вытеснил все остальные звуки в комнате. Показалось, что затих даже телевизор. Со всех сторон на Сартори смотрели ошеломленные глаза. Негр с серьгой поднялся со своей скамейки, опрокинул шахматную доску, и фигурки посыпались на пол. Взяв завершающую верхнюю ноту, доктор неловко поклонился и произнес:
— Кармен. Ария Хозе.
— У, Хозе, Хозе, ты классно поешь! — восторженно закричал усатый доминиканец из «Латинских королей» и бросился тискать смущенного певца. — Да как ты сюда попал?
— О, — вскинул брови доктор, — их просто пугает блистательный человеческий интеллект. Поверьте мне — это правда. Я для них — главная угроза, они охотились за мной по всему миру, и теперь мне уже не выйти отсюда живым. Я говорю о правительстве и ФБР. Вы ведь знаете, друзья, как это делается: «при попытке к бегству»… Но вам я доверю, — тут он понизил голос, — я изобрел лекарство от СПИДа.
Затихшая толпа плотно окружила его. Доминиканец произнес шепотом заговорщика:
— И что ж это за лекарство, док?
— О, это так просто! Потому они и боятся. Мое лекарство — озон.
— Озон?! — недоверчиво воскликнули сразу несколько голосов, забыв про конспирацию.
Но доктор начал так возбужденно говорить, так уверенно писать ряды химических формул на коричневых тюремных салфетках, что недоверие растаяло, и все, ничего не понимая, завороженно слушали.
— Вот видите, че они с нашим братом делают! — с горечью произнес пожилой негр с изъеденным оспой лицом. — Изобрели свой СПИД нам на погибель, а этого вот — цап и за решетку, чтоб ихний секрет не раскрылся. Проклятое правительство!

Сартори продолжал. Несколько раз я ловил его взгляд, и в нем дрожала чуть заметная усмешка. Я ничего не сказал.
Надзиратель прокричал «отбой». Слушатели, ворча и сокрушенно покачивая головами, стали расходиться. Я задержался и сказал, неуверенно вспоминая школьные уроки химии:
— А разве не…
— Вы знаете, мой метод еще не проверенный, еще экспериментальный, — перебил доктор Сартори. — Я как раз готовлюсь послать доклад на эту тему. Меня пригласили на конференцию в Нижний Новгород, но мне теперь туда уже не попасть. Я говорю на шести языках, по мой русский, к сожалению… — И он потянул мне огромный том, оказавшийся англо-русским медицинским словарем. — Вы не могли бы мне помочь?
Я согласился и проводил его до камеры. Перед самой дверью он замялся, словно собираясь что-то добавить, но, так и не решившись, шагнул в темноту. В эту минуту все осветилось резким мертвенным светом, как будто подожгли магний. Снаружи загрохотало: началась долгожданная гроза. При вспышках молний тени оконных решеток падали на стены, как нотные строки.
Утро, мокрое и холодное, было прекрасно. В пустой «комнате отдыха» Сартори стоял, прижавшись к решетке лбом.
— Это вы? — он поднял рассеянный взгляд. — Как вам спалось?
— Отлично! Может быть, это озон?
— Что? Ах, озон… Да-да, конечно, — и он печально Улыбнулся.
Час спустя меня перевели в этапный корпус, и я Ушел, не успев попрощаться. Доктора я больше не встречал. Писать ему я не стал: переписка между тюрьмами в штате Нью-Йорк запрещена.
По этапу на автобусе
Было еще темно, когда меня разбудил металлический скрежет в коридоре. Я уже знал, что это такое. Коридор семьдесят четвертого корпуса с одиночными камерами по обеим сторонам был отделен от плексигласовой будки надзирателя стальной дверью. По утрам некоторых заключенных вызывали в лазарет — принимать лекарства. Надзиратель нажимал кнопку, раздавалось гудение скрытого механизма, и дверь, лязгая и вздрагивая, вдвигалась в стену — как в купейном вагоне. После этого другими кнопками точно так же открывались нужные камеры. Надзирателю не надо было выходить из будки.
Но неожиданно для меня моя дверь тоже открылась, а затем стали отворять чуть ли не все двери подряд. Я подумал, что пришла спецкоманда с очередным обыском. Они любили приходить рано и переворачивать все вверх дном. «Have a nice day»,[2] как говорят американцы. Но тут я услышал, как выкрикивают по списку имена. Нас отправляли на этап. Я поднялся с койки, вздрагивая от недосыпа и от волнения. В тюрьме ненавидишь любую перемену мест.
Собраться в дорогу было несложно: с собой не разрешали брать никаких личных вещей. Одежда только та, что на себе (в пересыльной тюрьме все равно поменяют на казенную). Лишние вещи и книги можно передать родственникам, но это, оказалось, нужно делать заранее. А дня этапа, конечно, никто не сообщал. Для религиозных книг, впрочем, делали исключение. Я подошел к надзирателю и показал ему потрепанную Библию и недочитанный «Петербург» Андрея Белого. На обложке был изображен купол Исаакиевского собора, и надзиратель безразлично кивнул. Книги отправились в специальный пакет под расписку конвоя вместе с каплями сердечников и аэрозолями астматиков.
Остатки печенья и пакет растворимого кофе из ларька я просунул под дверь камеры напротив, где обитал Семен Драбин — старый брайтонский морфинист. Драбина в списке не было, и он, кажется, даже не проснулся.
Нас вывели в сырой коридор, построили и дважды пересчитали. Я знал здесь почти всех. Негры, пуэрториканцы, деловито шагавшие на свой второй или третий срок. Бледный, сгорбленный Эндрю, нью-йоркский домовладелец, получивший 25 лет за убийство, мог говорить лишь о двух вещах: о Священном Писании и об апелляции. Разговорчивый грабитель из Гаваны — родители назвали его Юрием в честь Гагарина. Мой партнер по шахматам, выпускник французского лицея в Бейруте, галантный импортер героина, чудом отделавшийся четырьмя годами.
В столовой наскоро раздали кашу, молоко и зеленоватые апельсины — последний завтрак на острове Райкерс. За оконными решетками загорался рассвет.
Сигареты в дороге тоже не разрешались, и мы закурили прямо за столами. Столовая окуталась клубами Дыма. Затягивались все с такой жадностью, как будто нас везли не в пересыльную тюрьму, а на виселицу.
Мы проследовали в бокс — обычную для всех нью-йоркских тюрем тесную заплеванную клетку с деревянными лавками вдоль стен и унитазом в углу. Надзиратели суетились снаружи, в последний раз сверяя списки с личными делами. Я пытался задремать на лавке, когда мне послышался отдаленный звук, не вполне еще различимый, но до крайности отвратительный. Какое-то зловещее позвякивание, напоминавшее кабинет дантиста. Я заметил, что и другие заключенные как-то встрепенулись. «Несут, несут! — послышались возгласы. — Сейчас поедем, значит!» Из-за угла показались двое конвойных. В такт их шагам покачивался деревянный ящик, доверху наполненный наручниками и ножными кандалами. Связки цепей свешивались по краям, как медузы.
Ни с чем не сравнимое ощущение цепей на руках и ногах, собственно, не было уже мне в новинку. В цепях возили меня в суд и из суда, из манхэттенской тюрьмы на остров Райкерс, из одного корпуса в другой на самом острове. Но обычными цепями на этот раз дело не ограничилось. Третью и самую тяжелую, как монашеские вериги, цепь обвязали вокруг пояса. Спереди, на уровне живота, к цепи была приварена черная стальная коробочка размером со школьный пенал, с небольшим отверстием в торце. «Видишь, русский, — сказал сзади насмешливый голос с ямайским акцентом, — это black box, великое американское изобретение».
Смысл изобретения я постиг через несколько секунд, когда увидел в середине цепи моих наручников узкую металлическую втулку, тоже приваренную. Надзиратель привычным движением всунул втулку в отверстие черного пенала, и руки мои оказались пристегнутыми к поясу. Я мог слегка согнуть их в локтях, но поднять не мог. Этим исключались удушение конвойного цепью наручников или удар соединенными над головой кулаками, который мог бы применить некий заключенный-богатырь. Возможно, об опасности такого удара нью-йоркские тюремщики вычитали в «Записках из мертвого дома». Это, кстати, не шутка. У входа в манхэттенскую тюрьму я видел официальный плакат:
«По состоянию тюрем можно судить о состоянии общества.
Часть заключенных из семьдесят четвертого корпуса оставили в боксе, — оказалось, что им предстоял этап в пересыльную тюрьму «Даунстейт», то есть на строгий режим. Мы ехали в Ольстерскую пересылку усиленного режима, примерно в трех часах езды от города, в Кэтскилльских горах.
Ножные кандалы, как и при городских перевозках, были одни на двоих. На этот раз меня приковали к пожилому молчаливому пуэрториканцу. Забираться в автобус было сущей мукой — зафиксированными руками нельзя поддержать равновесие. Конвоир-водитель наблюдал за нашими усилиями ко всему привыкшим взглядом, потягивая кока-колу из запотевшей баночки.
Автобус по виду напоминал обычный рейсовый — только салон отгорожен от водительской кабины стальной решетчатой дверью. На окнах решеток нет, но висят аккуратные таблички: «При прикосновении к стеклу срабатывает сигнализация». Что последует за этим, не уточнялось. Кобуры наших конвоиров пусты. Впрочем, на выезде с тюремного острова автобус затормозил, и с вышки опустили на веревке пластмассовое ведро с револьверами. На ящике рядом с водителем я заметил радиотелефон — вероятно, на случай поломки автобуса или попытки его захвата в дороге.
Мы выехали на мост через Ист-Ривер. Мрачные корпуса острова Райкерс остались позади. На другом берегу с невероятным равнодушием смотрели на нас нью-йоркские небоскребы.
«El grande Dios»,[3] — прокряхтел мой сосед. Мы набрали скорость — начинался первый в моей жизни этап.
Конечно, провести три часа в хитроумных оковах болезненно скорее психологически, чем физически. Сходные ощущения давал, наверное, «пояс невинности».

По-настоящему мучительны в США только многодневные автобусные этапы из местных тюрем в федеральные или же в иммиграционные лагеря в Луизиане.
Впрочем, даже восьмичасовой маршрут из Ольстерской пересылки в Уотертаунскую тюрьму на канадской границе был уже значительно тяжелей. Стояла июльская жара, а вентиляция в автобусе не работала. Одетые в плотную зеленую униформу, мы обливались потом. Согнутые в одном положении руки быстро затекали. Когда нам раздали обед, то, чтобы укусить зажатый между ладонями бутерброд с искусственным сыром, приходилось что есть силы наклонять голову. Пластиковую бутылочку с приторным лимонадом приходилось хватать зубами за горлышко и пить, вскинув голову, без помощи рук. Наверное, в этом была какая-то насмешка судьбы: я вспомнил, как пьют водку «по-гусарски» в русских ресторанах.
Где-то в середине пути наш автобус остановился на общественной стоянке захолустного городка. Группами по несколько человек нас выводили на оправку в местный туалет. Эффект появления бритых сумрачных личностей, гремящих цепями и жмурящихся от солнца, был силен. Городские обыватели, все как один в голубых джинсах и белых футболках по провинциальной моде, выбегали из туалета, как при бомбежке. Я шел мимо них, радуясь свежему воздуху и возможности чуть-чуть размять ноги.
У одной из машин негромко препиралась супружеская чета — молодцеватый загорелый старикан и его жена, испуганно схватившаяся за его рукав. Старик решительно освободил руку и бодрым, бесстрашным шагом направился к двери туалета. Мы посторонились на пороге, пропуская его к свободному писсуару. Закончив свои Дела, старик улыбнулся и отвесил нам небольшой дружеский поклон. Мы улыбнулись ему в ответ.
«Ну, заходите, чего встали!» — крикнул конвоир. Старик зашагал к машине, как ковбой к лошади, и я успел увидеть, как всплеснула руками его счастливая жена.
Наверное, нет ни одного заключенного, которому бы не приходила в голову мысль о побеге. Особенно часто думаешь об этом в первые дни и недели. Иногда просто-таки с маниакальной навязчивостью: «Интересно, что находится здесь под полом? Прочна ли эта решетка? А если удастся продолбить эту стену, куда я попаду?»
На моей памяти были две попытки. В июне 1995 года, когда я сидел в городской тюрьме на острове Райкерс, какой-то негр в соседнем корпусе узнал, что в уборной не закончили ремонт и что вместо одной из стен там тонкая переборка. Средь бела дня, когда надзиратели редко делают обход, этот негр проломил переборку и оказался вне «зоны». Если бы тюрьма находилась посреди города, он в считанные секунды смог бы затеряться в толпе, спрятаться в канализационном люке или в шахте метро. Но остров Райкерс целиком застроен тюремными сооружениями, и вольные люди по нему не ходят.
Недолго думая, заключенный добежал до реки Ист-Ривер и бросился в воду. Если бы он успел добраться до негритянских кварталов на противоположном берегу, то, скорее всего, был бы спасен.
Но пока он плыл, его успели заметить — причем не с берега, а из полицейской патрульной лодки. Полиция тут же вызвала подкрепление, и беглеца выловили. Сколько ему добавили к сроку, мне неизвестно. Но вообще-то по американским законам за побег дают больше, если человека уже успели осудить. И меньше, если он был еще подследственным.
Несмотря на провал побега, известие о нем (а такого рода новости в тюрьме распространяются молниеносно) вызвало у меня восхищение и даже зависть: «Кто-то решился, и ведь ему почти удалось!»
Через четыре года, когда один латиноамериканец пытался выехать под днищем продуктового фургона из Фишкиллской тюрьмы и был схвачен на вахте, я отреагировал уже совсем иначе: «Бедный дурак!» Надо сказать, что большинство заключенных, особенно старшего возраста и со стажем, мою реакцию вполне разделяли.
Усы и борода
Ольстерская пересылка находится примерно в трех часах езды от Нью-Йорка. Дорога туда идет через Кэтскилльские горы. На одном из поворотов я увидел в окне изящный дорожный указатель: «Вы едете по самому живописному шоссе Америки».
Местность вокруг и вправду красива. Именно в этих горах расположены многочисленные бунгало и зимние мини-пансионаты, где за 900 долларов супружеская пара может встретить Новый год, сходить на фуршет с шампанским и покататься пару дней на лыжах по искусственному снегу. Когда-то эти места были популярны среди иммигрантов из Восточной Европы и имели прозвище «Борщевой пояс». Среди пассажиров тюремного автобуса, впрочем, эту часть света представлял один я.
Погода портилась по мере продвижения к пересыльной тюрьме. Когда автобус въехал, наконец, в долину, пейзаж окрасился в мягкие серые тона. Мы миновали ворота, и на оконных стеклах появились первые дождевые капли. Автобус плавно затормозил у входа в приемник, и мы стали выходить под звон кандалов и шум усиливающегося ливня.
Тюрьма эта мне сразу не понравилась. Еще издали я заметил геометрически безупречные ряды одинаковых одноэтажных корпусов из красного кирпича. Значило это, что с относительным комфортом одиночных камер — как на острове Райкерс — можно распрощаться. «Приходите в гости к нам — мы живем в бараке», — всплыла откуда-то из детства дурацкая песенка, и я с еще большим раздражением уставился на идеальные формы цветочных клумб. Если кругом такой показательный порядок, то его, стало быть, распространят и на нас. Мои первые впечатления очень скоро подтвердились: в столовую здесь водили шеренгой по двое, а гулять не выпускали вообще.
Надзиратели Ольстерской пересылки одеты в коричневую униформу с гербовыми шевронами, в отличие от синей формы городских надсмотрщиков. Надзиратели городских тюрем, чаще всего негры, переняли стиль нью-йоркского преступного мира — массивные золотые цепочки, перстни на всех пальцах и криминальный сленг. Их коллеги на Ольстерской пересылке, почти без исключения белые, являли собой совершенно другой тип — солдафонский. Сама по себе эта разница могла ничего и не значить, но у надзирателей штата был в руках мощный рычаг. За оскорбление или угрозу надзирателю на острове Райкерс в худшем случае можно получить по голове дубинкой и попасть в карцер. За то же самое в тюрьме, подведомственной штату, можно заработать пометку в личное дело, которая всплывет при явке на комиссию по досрочному освобождению. Дубинкой и в карцер — само собой.
Неудивительно, что на нас начали орать, как только сняли кандалы. Невысокого роста господин с огромными черными усами шагал перед строем заключенных и вопил:
— Не корчите из себя гангстеров! Таких здесь нет! Гангстеры сидят на строгом режиме, а передо мной стоит мелочь и дерьмо! А если кто и считает, что он крутой, мне на это насрать! У меня в теле сидит столько пуль, что мне вообще на все насрать!..
Тут я невольно улыбнулся, подумав, что тюремному надзирателю пулю получить негде, а для вьетнамского ветерана он слишком молод. Наверное, кто-то по ошибке влепил в него во время популярной в этих местах охоты на оленей. Улыбка моя, вероятно, показалась ему издевательской, потому что он приблизился ко мне вплотную:
— Кому смешно, тому сейчас смешно не будет! А ты, — тут он вдруг поднял глаза на моего соседа, огромного доминиканца, — знаешь, что мне нравится в таких быках, как ты? Звук, который они издают, падая на бетонный пол! Ха-ха-ха! Ну-ка, все повернулись лицом к стене и сняли обувь!
Я уже забеспокоился, не в голову ли был он ранен? Не будет ли он и вправду нас бить? Но тут возникла откуда-то орава надзирателей, и начался личный досмотр. Раздеваться догола, как на острове Райкерс, здесь не заставляли — просто ощупывали сквозь одежду на предмет оружия. Впрочем, через несколько минут, в другом помещении, раздеться все-таки пришлось. Двое надзирателей за столом, заваленным бумагами, разглядывали поодиночке голых заключенных и записывали в личные дела особые приметы: шрамы, родимые пятна, татуировки. Когда дошла очередь до меня, один из надзирателей вдруг развеселился:
— А я, между прочим, видел вашего президента, Майкла Горбачева, когда он приезжал в Нью-Йорк. Вот это личность!
— Действительно, личность, — ответил я, — только он уже не президент.
— Ага, — сказал надзиратель, и я увидел, что он записал в мое дело: «Говорит с иностранным акцентом».
После этого группами по четыре нас повели в душевую. Седой тюремщик, глядя на нас с отвращением, сунул каждому по пластиковой чашечке с едко пахнущей жидкостью:
— Слушайте инструкцию. Жидкость втереть в волосы на голове и на теле. Встать под душ на две минуты. Следить, чтобы не попало в глаза.
Очевидно, это было средство от блох и вшей. Мыла нам не дали, и после процедуры кожа чесалась и зудела. На выходе нам отпустили по комплекту казенного белья. Далее следовала парикмахерская, до предела забитая заключенными в одинаковых белых майках, трусах и носках. Очереди пришлось ждать около часа. Вокруг орали, ругались, кряхтели. Усталость моя и раздражение все усиливались, голова гудела, и хотелось есть. Все знакомые куда-то подевались, а вокруг оказались довольно неприятные личности. При мысли о том, что спать в ближайшие годы предстоит в бараке, стало еще паскуднее.
— Эй, ты, который белый! Ты что, заснул? Садись в кресло! — голос заключенного-парикмахера вывел меня из оцепенения.
Стриг он машинкой, и уже через минуту лица своего в зеркале я не узнал. Голый череп и невредимая пока борода сделали меня похожим на вахабита. Вид был устрашающий.
— Бороду можешь оставить? — спросил я.
— Я-то, конечно, могу, — пожал плечами парикмахер, — только тебя в карцер посадят.
— В карцер?!
— Ну да. Двадцать три часа в сутки в одиночке, телевизора нет, говорить не с кем — могила. В общем, не валяй дурака.
— Подожди, — сказал я, — мне все ясно. Позови мусора и скажи, что бороду я сбривать отказываюсь. Отказываюсь потому, что… — я задумался, — потому, что я ортодоксальный еврей — так и объясни.
— Да ты сам объясни, — парикмахер показал на недовольную физиономию надзирателя, просунувшуюся между плечами.

С души у меня свалился камень, потому что я понял, что сейчас отправлюсь в карцер. Верхом мечтаний мне казалось остаться в полном одиночестве и тишине. Я был в этот миг искренне счастлив — так, как мог бы быть счастлив ортодоксальный еврей, водворяемый в карцер за свою стойкость в соблюдении заветов. Поэтому в какой-то степени я даже не солгал.
— По твоему поводу будет сделан запрос в Центральное управление тюрем, — буркнул мне надзиратель, отворяя дверь штрафного изолятора. — Только, наверное, сам через два дня попросишься побриться.
В центре штрафного изолятора была плексигласовая кабина охраны, от которой в четыре стороны расходились узкие коридоры с камерами по обеим сторонам. Это немного напоминало остров Райкерс, но правила здесь жестче. Ходить можно только вдоль стен, с обеими руками в карманах.
— Вынешь руки — упадешь на бетон, — мрачно приветствовал меня дежурный по карцеру. Уже второй раз за день я услышал это выражение: «to fall on the concrete». Вообще-то его можно перевести и по-другому: «упадешь на конкретное». Не исключено, что надзиратели Ольстерской пересылки придумали эту фразу для тех заключенных, которые считают материальный мир иллюзией.
Камера моя оказалась в конце коридора. Дверь автоматическая, с зарешеченным глазком и отверстием для кормления. Вопреки моим ожиданиям, в камере сухо и довольно большое окно, тоже забранное мелкой сеткой. К стене приварена металлическая койка, а напротив стоит унитаз и висит стальной умывальник, такой же, как в российских поездах дальнего следования. На койке лежали матрас в пластиковом чехле и скатанное в трубку одеяло с комплектом белья. Под умывальником я увидел рулон туалетной бумаги, кусок мыла, зубную щетку и тюбик пасты.
Я застелил койку, снял только что выданную мне зеленую форму и улегся. В камере горела очень яркая люминесцентная лампа, и глаза пришлось закрыть рукавом. Я лежал, отдыхая, стараясь не думать ни о будущем, ни о прошлом.
Неожиданно дверь камеры заскрежетала, и вошел надзиратель мощного телосложения с пластиковым молотком в руке. Я лихорадочно соображал, что же я такое натворил и что сейчас произойдет, как вдруг надзиратель взмахнул молотком и нанес серию страшных ударов по оконной решетке! От грохота у меня заложило уши.
— В порядке, — проворчал он, круто повернулся и вышел, не удостоив меня взглядом.
В окно видны горы, кажущиеся необыкновенно прохладными в июльскую жару. Собственно, мне только и оставалось любоваться природой и размышлять. Была пятница, а библиотечную тележку привозили в изолятор только по вторникам. Общаться тоже не с кем: камера напротив пустует, а перестукиваться в Америке не умеют. К вечеру я исполнил весь известный мне репертуар русских романсов и арий из опер и пошел уже по второму кругу. Тут дверь опять открылась.
— Это ты по какому поешь, по-чеченски? — передо мной возникла физиономия нового надзирателя, толстого и с усами пшеничного цвета.
— Нет, по-русски.
— А Чечения — это же в России?
— Вообще-то да, — ответил я.
— Ну вот, видишь, — удовлетворенно хмыкнул надзиратель, — я все про Россию знаю.
Он выставил вперед огромный кулак и начал перечислять, разжимая пальцы один за другим: «Gorky Park», «From Russia with Love», «The Hunt for Red October»…[4]

— Очень впечатляюще, — я покачал головой.
Это и вправду было неплохо для США, где очень многие люди, даже со средним образованием, считают, что Россия находится в Германии, или Германия в России, или это одна и та же страна.
— Ну вот что, Борис, — надзиратель опять ухмыльнулся, — чем петь, иди-ка лучше помоги разносить еду. Мы тебя выпустим в коридор, ты не опасный.
— А руки в карманах держать?
— Какой хитрожопый, — буркнул он, пропуская меня к тележке с едой.
Я обрадовался его предложению — можно размять ноги и узнать о своих соседях по штрафному изолятору. На двери каждой камеры висела картонная табличка с указанием, за что заключенный попал в карцер и на какой срок. Я катил свою тележку от камеры к камере, вкладывая в прорези кормушек порции жареной рыбы с рисом, и читал: «№ 8. Неподчинение приказу. 15 дней»… «№ И. Драка с № 19.30 дней»… «№ 14. Храпение холодного оружия. 90 дней с последующим переводом на строгий режим»… «№ 25. Изготовление алкогольного напитка 45 дней»… «№ 27…».
Тут я остановился. Перед дверью камеры № 27 сидел на стуле надзиратель — тот, что входил ко мне с молотком. Каждые 10–15 секунд он заглядывал в глазок.
— Этот есть не будет.
— Понятно, — ответил я.
Но на самом деле было непонятно. Может быть, больной?
Сквозь глазок я успел заметить худенького белого паренька — не старше двадцати на вид — ничком на койке. Он был в одних трусах и лежал прямо на матрасе, без одеяла и простыни.
Я взглянул на табличку: «№ 27. Неопределенный срок содержания. Особый надзор. Попытка самоубийства через повешение».
Я страшно проголодался за этот день, и порция 27-го номера пришлась кстати. Засыпая, я помолился за беднягу.
Вообще-то за самоубийц нельзя, но ведь он не успел.
Гладиаторский бой с видом на реку
В августе 1995 года, пройдя две пересылки, я оказался в тюрьме «Ривервью». Поэтическое название («Вид на реку») не соответствовало действительности. Сама река Святого Лаврентия, протекавшая поблизости, с территории тюрьмы не просматривалась, ее загораживал лес. Но с прогулочного двора, окруженного двумя рядами колючей проволоки, хорошо видны сигнальные огни на опорах пограничного моста, ведущего в Канаду. По вечерам над Ривервью загорались такие закаты, которые бывают только вдали от больших городов. Инфернальный свет сменялся тихим сумраком, сквозь который красные огоньки на мосту мерцали и манили к себе. Заключенные любили их разглядывать — вероятно, с тем чувством, которое хорошо описал один наш соотечественник, «братан», сделавшийся в американской тюрьме поэтом:
И странно ему: эти двести шагов,
Что взгляд пролетает в мгновение,
Всей жизни порой не хватает пройти,
Чтоб вырваться из забвения.

Больше ничего поэтического в Ривервью не было. Тюрьма эта состоит из 14 бараков, по 60–90 человек в каждом. Хождение по территории зоны строго ограничено, и люди из разных бараков могут видеться только в столовой, в часовне или на прогулках. В отдельном здании находилась школа, в которой я работал помощником учителя: растолковывал заключенным таблицу умножения и английскую грамматику. Здесь же были мастерские, где желающих учили на каменщика, печатника или циклевщика полов. Отдельно находились парники, где обучали садоводству и огородничеству. Выращенное разрешалось уносить в бараки. В парнике работал мой хороший знакомый Мариус Бургад, сын французских колонистов из Северной Африки, который делился со мной помидорами и огурцами. Почва в районе Ривервью хорошая — непонятно, почему такое количество местных уроженцев пренебрегали фермерским трудом и шли надзирателями в тюрьмы, которых в этом провинциальном районе пять.
Два надзирателя дежурили в бараках круглосуточно, менялись пары каждые восемь часов. Они занимали некое подобие деревянной кафедры неподалеку от входной двери. Чтобы не вставать с места всякий раз, когда нужно вызвать кого-нибудь из заключенных, вертухаи пользовались громкоговорителем. По всему бараку то и дело разносилось: «Томпсон! Ривера! Гверрини! Мену кян!»
Изначально бараки Ривервью, построенные в 1980-х годах, были рассчитаны на 45 человек. Но к 1995 году число заключенных в штате Нью-Йорк выросло в четыре раза, достигнув 68 тысяч. Амнистий в США не бывает, поэтому тюремное ведомство штата пыталось решить проблему простым способом — воздвигнув везде, где только можно, двухъярусные койки. Ни к чему хорошему это не привело. Участились драки, потасовки, в карцерах не хватало места. Ривервью к моменту моего прибытия уже имела среди заключенных репутацию тюрьмы, вышедшей из-под контроля.
Ни для кого не было секретом, что в Ривервью шла довольно активная торговля наркотиками. Администрация безуспешно пыталась ее пресечь. Все посылки тщательно проверялись и просвечивались. Вскрывали даже фабричные упаковки. Заключенных, возвращавшихся со свидания, раздевали догола и тщательно осматривали. Основной проблемой для тюремщиков было то, что американские законы запрещают физическое прощупывание анального прохода, позволяя лишь визуальный осмотр. Большинство пакетов с наркотиками попадали в тюрьму именно вследствие этого запрета. С поставщиками расплачивались либо сигаретами из ларька, либо деньгами, которые переводили на указанные счета родственники и друзья любителей наркоты. Для задолжавших единственным спасением было попасть в карцер — иначе их запросто могли порезать. Бывали и другие способы расправы: одному должнику проломили голову гантелей в туалете спортзала, другому поломали пальцы на руках.
Несмотря на эти обычаи, количество желающих покурить или понюхать не убывало, и вскоре в Ривервью начались разборки между конкурирующими наркоторговцами.
Октябрьским вечером 1995 года я вышел на тюремный двор, где происходили соревнования по игре в баччи. Игра эта, популярная в Италии и во Франции, в тюрьмах штата Нью-Йорк — любимое времяпрепровождение арестантов белой расы. На один конец хорошо утрамбованной площадки бросают небольшой деревянный шарик, после чего игроки по очереди швыряют с другого конца более увесистые каменные шары, — кто угодит ближе, тот выигрывает. В тот вечер моим партнером был Мариус Бургад, большой знаток баччи и многократный чемпион зоны. Против нас играл грек Афанасиос, осужденный за мошенничество с кредитными картами, и американский старикан по имени Бернард, ранивший по пьяному делу собственную жену из револьвера «Магнум». Этот Бернард увлекался игрой, как ребенок, и в любом спорном случае обижался и вопил. Вот и на этот раз он подскочил к Бургаду, измерявшему расстояние между шарами портновским сантиметром, и принялся топать ногами, что-то злобно выкрикивая. Несколько негров, прыгавших неподалеку по баскетбольной площадке, остановились и отпускали остроты. Афанасиос развел руками и вздохнул:
— Сейчас, чего доброго, начнет бросаться шарами…
И тут я вдруг увидел, что Бернард застыл на месте и уставился, вытаращив глаза, в противоположный угол двора. Рядом с ним вскочил с земли Мариус Бургад, все еще сжимая в руке свой сантиметр. Я обернулся, и мне почудилось на секунду, будто я стою не во дворе тюремной зоны в американской глухомани, а на трибуне римского амфитеатра.
Отчетливые в зловещем свете юпитеров, друг на друга надвигались две группы латиноамериканцев, все без исключения с ножами в руках. Я завороженно смотрел, как они приближаются, отступают, маневрируют, сближаются вновь… К воротам двора что есть силы неслись выбежавшие из бараков надзиратели. Послышались отчаянные крики: один из латиноамериканцев рухнул на бок и катался по земле. Другой упал навзничь.

В этот миг обе группы сражавшихся, как по команде, бросились врассыпную. Ножи полетели в стороны; кто-то из надзирателей попытался в прыжке опуститься на спину убегавшему, но, промахнувшись, грохнулся оземь. Видеокамеры на столбах ограждения, обычно направленные на полосу предзонника, начали разворачиваться внутрь двора. Из будки охраны у входа пророкотал мегафон: «Всем заключенным оставаться на местах!»
Мы простояли во дворе до позднего вечера, так как обратно в бараки заключенных пропускали по очереди, досконально обыскивая. Пластиковые карточки с фото, которые американский заключенный обязан постоянно носить при себе, у всех до единого отобрали: их предстояло сличить с видеозаписями и данными стукачей. Надзиратели группами ходили по двору, освещая мокрую траву фонариками в поисках ножей.
На прогулку несколько дней никого не выпускали. Я лежал на койке и читал Достоевского. Мариус Бургад, всегда жизнерадостный, занимался изготовлением пиццы из хлеба с томатным соусом. Латиноамериканцы сидели тихо, стараясь не попадаться надзирателям на глаза.
Меморандум начальника тюрьмы, расклеенный по баракам, сообщал, что в результате «преступного инцидента» двое заключенных получили тяжелые ножевые ранения, и угрожал всем зачинщикам добавками к сроку. В качестве превентивно-карательной меры общие прогулки были отменены: каждый барак теперь мог выходить только в свое время. Соревнования по игре в баччи были безнадежно испорчены; правда, всем участникам выдали по поощрительному вымпелу из красного уголка.
В Ривервью наступил период затишья, но какое-то подспудное напряжение все же чувствовалось, время от времени прорываясь наружу. В соседнем бараке рано поутру какой-то заключенный в маске вбежал в туалет и полоснул бритвой по лицу человека, про которого узнали, что он растлитель малолетних. Знакомый белый парень из другого барака, поклонник «тяжелого металла» с лицом христианского святого, не поладив с тюремным врачом, схватил швабру и начал громить лазарет. Он успел разбить стеклянный шкаф с лекарствами и два компьютерных монитора, прежде чем его скрутили и бросили в карцер. Но это были лишь отдельные и в целом довольно заурядные инциденты, которые не шли в сравнение с октябрьским боем гладиаторов. Мало кто предвидел, что самое серьезное еще впереди.
Забастовка
Морозным февральским вечером 1996 года я увидел в окно барака четверых заключенных, бежавших с носилками по обледенелой центральной дорожке. На носилках лежал Виктор Моралес, пуэрториканец, работавший оформителем в редакции тюремного бюллетеня. Я в свободное время вел в том бюллетене рубрику «Книжное обозрение» и виделся с Моралесом неоднократно. Именно он должен был иллюстрировать мою заметку, рекомендовавшую американским зекам «Один день Ивана Денисовича» (в Ривервью была неплохая библиотека). Меня занимало, как пуэрториканский художник изобразит советскую зону, но посоветовать ему мне Уже ничего не пришлось. Следующим утром администрация тюрьмы объявила о предстоящей панихиде и о причине смерти Моралеса; сердечный приступ.
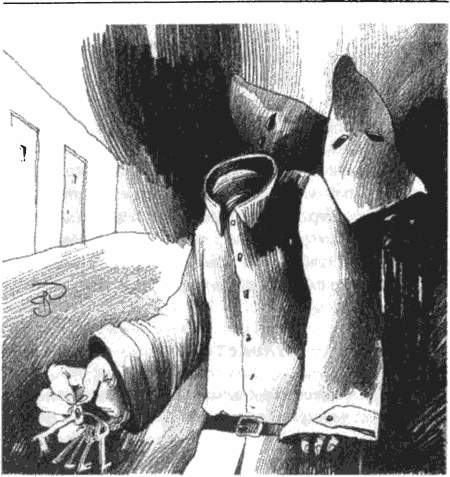
В тюрьме, как и на воле, человек может умереть естественной смертью. На моей памяти было несколько случаев. В соседнем блоке на острове Райкерс заключенный-поляк, только что признанный виновным в поджоге с человеческими жертвами, скончался от инфаркта миокарда. В Уотертаунской тюрьме, где я провел три недели, какой-то пожилой негр умер во сне — надзиратель на утренней побудке безуспешно тряс и дергал его труп. Но случай с Моралесом не все отнесли к разряду естественных. Виктор отличался крепким здоровьем, и лет ему было не больше сорока. Наркотики он вроде бы не употреблял. Никаких личных трагедий или нервных потрясений накануне у него не было. Более того, по словам друзей, Моралес незадолго до смерти получил из апелляционного суда положительный ответ на свое прошение и мог рассчитывать на снижение срока или даже освобождение. Между тем, по тюремным рассказам, Моралес в Нью-Йорке был крупным наркоторговцем, и поэтому его загадочная смерть приобрела зловещий оттенок.
По тюрьме поползли слухи. Говорили, что в бараке, где жил Моралес, вопреки правилам не оказалось носилок, и пришлось ждать, пока их принесут из лазарета. Эти 20 минут, мол, надзиратели лишь безучастно наблюдали, как Моралес агонизировал на полу. По мере распространения слухов 20 минут превратились в 30, потом в 40. Начали говорить, что в лазарете, опять-таки вопреки предписаниям, не оказалось дежурной медсестры и что начальство долгое время не давало машине «Скорой помощи» из окрестного поселка разрешения на въезд в зону. Полушепотом, боясь стукачей, передавали, что в машине не оказалось ни врача, ни кислородных баллонов и что любимый всеми зеками католический капеллан, неведомо как очутившись на месте поздним вечером, пытался делать уже бесчувственному Моралесу искусственное дыхание «рот в рот».
Тюремная администрация, безусловно, узнала о растущем брожении. Спустя три дня около двух десятков заключенных из барака покойного Моралеса были этапированы в другие тюрьмы. Эта акция только подлила масла в огонь: тут же распространился слух, что начальство намеренно устранило всех свидетелей смерти Моралеса накануне приезда инспектора из Центрального Управления тюрем.
— Я проснулся от постукивания по металлическому борту моей койки. Стащив с глаз повязку, увидел седую Шевелюру и массивный красный нос месье Бургада, что меня несколько удивило. Обычно таким способом будили тюремщики и у заключенных стучать по койке считалось дурным тоном — принято было похлопывать спящего по плечу. Впрочем, я не обиделся: спал я на втором ярусе, и Бургад с его маленьким ростом, наверное, не смог дотянуться.
— Что такое? Восемь утра всего. — Я работал в вечернюю смену и мог рано не вставать.
— Дорогой русский, — месье Бургад хитро прищурился, и нос его покраснел еще больше, — видишь ли ты, что происходит вокруг нас?
С верхнего яруса барак виден как на ладони, и странная картина не могла не броситься в глаза. Почти все заключенные лежали на своих койках, но не спали, а беспокойно оглядывались по сторонам. Здесь были люди из утренней смены, которым как раз в восемь полагалось выходить на работу, и повара, которые должны были быть в столовой еще в шесть. Никто не двигался с места.
— Сегодня что, праздник? Или сбежал кто-то?
— Мой дорогой русский друг, не затруднит ли тебя посмотреть теперь в окно нашего гостеприимного дома?
— Что за чертовщина… — пробурчал я, спрыгнул с койки и придвинулся к оконной решетке.
Февральский снег искрился на солнце, и я на мгновение зажмурился. Приглядевшись, увидел вдалеке, у въездных ворот зоны, какие-то странные фигуры в оранжевом, которые медленно и равномерно приближались.
— Нет, это не обман зрения, — вмешался месье Бургад, будто угадав мои мысли. — Это… по-моему, это называется бригада тюремной охраны особого назначения.
— Значит, все-таки забастовали…
— А ты думал, люди коллективной мастурбацией решили заняться под одеялом? Конечно, бастуем! — месье Бургад молодецки притопнул ногой и принялся насвистывать «Марсельезу».
С американским тюремным спецназом я уже сталкивался на острове Райкерс, и воспоминания эти были не самыми приятными. Я с беспокойством наблюдал, как движется между сугробами колонна молодцов в оранжевых бронежилетах, в касках и с дубинками в руках. Очевидно, они шли прямиком к нашему бараку А-2. Я мог уже различить усатую физиономию командира, носившую тот оттенок ожесточенного сознания собственного морального превосходства, который встречается на лицах шерифов в старых ковбойских фильмах. «А я даже не успел умыться, — почему-то подумалось, как будто это очень важно. — И надеть чистую рубашку». Но тут шериф в бронежилете сделал отмашку дубинкой, и бригада резко повернула в сторону соседнего барака В-2. Значит, бастовала вся тюрьма.
Понять, кто именно организовал забастовку, было невозможно. Никакого стачечного комитета, конечно, не было, а если бы он и появился, то оказался бы в полном составе в Сауспорте, штрафной тюрьме особого режима. Никаких конкретных требований тоже не выдвигалось. Это был в общем-то стихийный протест, чтобы привлечь внимание к гибели Моралеса. Цель эта, судя по всему, удалась — уже через пару часов кто-то из заключенных услышал по местному радио о «бунте в тюрьме Ривервью». К полудню у барака В-2 затормозил автобус, куда оранжевые жилеты начали очень бойко сажать заключенных. Конечно, они не могли этапировать всех зеков Ривервью — тысячу с лишним человек, но нужно же было с кого-то начать. Одновременно на территории тюрьмы появился другой автобус, без решеток, в котором приехало начальство из Олбани, столицы штата Нью-Йорк.
Спустя два или три часа в нашем бараке возник строгий господин в костюме и при галстуке, сопровождаемый несколькими надзирателями. Многие зеки притворились спящими или неожиданно выказали любовь к чтению. Мой сосед снизу, негр из Южной Каролины, листавший иногда по вечерам комиксы из серии «Бэтмэн», взял с моей тумбочки «Страх и трепет» Кьеркегора и принялся с интересом разглядывать русские буквы.
Несколько человек решились все же пообщаться с господином. Но разговор как-то не клеился.
— Здравствуйте. Как у вас дела?
— Ничего, спасибо.
— Есть ли какие-то жалобы, замечания?
— Жалоб нету.
— А почему бастуете?
— Я не бастую.
— Так на работу же не вышли?
— Так ведь никто не вышел.
— А почему это случилось?
— Я не знаю, так как-то… Вы вот людей спросите.
Господин вежливо улыбался, подходил к следующей койке, и все начиналось сначала.
Один заключенный посмелее, молодой парнишка из семьи американских литовцев, на вопрос о жалобах выпалил вдруг:
— А почему не кормят?
— Как? Вас не кормили?
— Завтрака не было, обеда третий час ждем.
Господин из Олбани вдруг нахмурился и мрачно сказал: «Не беспокойтесь. Получите, что полагается».
Я был уверен, что начальник иронизирует и что «получить» нам предстоит только от спецназа, который пока в нашем бараке не появлялся. Зато надзиратели еще утром вырубили в «комнате отдыха» телевизор, отключили телефон и на какое-то время душ. Из этого следовало, что в качестве наказания нас также не будут и кормить. Уверения американских зеков, что это незаконно, я считал наивными — ведь мы вроде как бы вне закона. Я прикинул, сколько у меня в тумбочке хлеба, лука и рыбных консервов из ларька, не зная, впрочем, останется ли все это в моем распоряжении, или же продукты отберут в общий котел. На всякий случай я решил припрятать пачку рассыпного чая, который американские заключенные все равно не умели оценить по достоинству. У меня был свой кипятильник, так что я мог, по крайней мере, приготовить себе любимый напиток.
Я был чрезвычайно удивлен, когда в 8 часов вечера на столе у надзирателя зазвонил телефон и несколько мгновений спустя молчавший с самого утра громкоговоритель проорал: «На кормежку!»
Еще больший сюрприз ожидал меня в столовой, Я предположил, что из-за отсутствия поваров нам выдадут какой-нибудь сухой паек. Однако еще в дверях в ноздри ударил запах приготовляемой пищи. Войдя, я просто не поверил глазам: у котлов и на раздаче в поварских халатах и колпаках стояли вольные учителя и преподаватели ремесел из тюремной школы. Остальные заключенные тоже были изумлены и даже как-то смутились, виновато выстраиваясь за своими порциями гамбургеров и картофельного салата. Преподаватели, «прочем, не выглядели обиженными и даже отпускали шуточки, если узнавали в очереди своих учеников. Надо полагать, им обещали хорошие сверхурочные.
Утолив голод, заключенные тоже преобразились. Пожилой негр по имени Мозес, сидевший уже 27 лет, начал рассказывать о знаменитом мятеже 1971 года в тюрьме «Аттика», участником которого он был. Само название этой тюрьмы стало в США почти нарицательным. Тогда, в 1971 году, измученные жестоким обращением заключенные строгого режима, вооружившись ножами и пиками, захватили тюрьму и взяли в заложники большую часть надзирателей. Требования были разные — от улучшения условий содержания до предоставления самолета для бегства в Африку. Аттику окружили войска национальной гвардии, которые тогдашний губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер бросил на подавление мятежа. Губернатор использовал вероломный трюк. Он объявил восставшим о намерении лично прибыть на вертолете для переговоров во внутреннем дворе тюрьмы. Вертолет и в самом деле завис над тюремным двором, но стал сбрасывать канистры со слезоточивым газом. Одновременно ударный отряд национальной гвардии ворвался в тюрьму через главные ворота и начал расстреливать собравшихся заключенных.
— Они только не учли, — рассказывал Мозес, — что мы на всякий случай переодели всех мусоров в арестантскую форму. Так что рано радовались, сволочи, своих они тоже вместе с нашими положили.
Убито было 10 надзирателей и несколько десятков заключенных. Многих застрелили с поднятыми руками или лежащими на земле. Инцидент в Аттике все же взволновал общественное мнение тогдашней, более либеральной Америки, и условия заключения после мятежа повсеместно смягчили. Даже американские власти со временем признали случившийся бунт если не справедливым, то неизбежным; примерно так при Александре II отзывались о восстании декабристов.
Мозеса зеки слушали с благоговейным вниманием, будто ощущая себя продолжателями великого дела. Настрой этот, которому и я поддался в тот момент, имел для нашего барака трагикомические последствия.
Из столовой все вышли взбудораженными и несколько осмелевшими. Надзиратель торопливо семенил впереди. У входа в барак он поскользнулся на обледенелом бетоне и едва не упал. Послышались довольно отчетливые смешки. Предпочитая не реагировать, тюремщик принялся отпирать входную дверь. Как назло, у него что-то не ладилось с ключами, и я заметил, что он нервничает, стоя спиной к 90 воинственно настроенным заключенным. Заметил это, очевидно, не один я. Кто-то из латиноамериканцев, подойдя почти вплотную к надзирателю, не слишком громко, но решительно крикнул: «Get him!» — «Мочи его!» Надзиратель вздрогнул, машинально наклонив голову, и замер. Так прошло несколько секунд, пока кто-то не загоготал. Надзиратель отчаянно рванул ключ в замке, резко распахнул дверь и прошел внутрь, не глядя на нас.
— Так-то вот, — сказал итальянец Гверрини, отряхивая снег с казенных ботинок, — когда я в Грин Хэйвене на строгом режиме сидел, там был один мусор, шести Футов ростом, настоящий джуджуццо. Тоже все крутым себя считал, с дубинкой расхаживал, издевался над людьми. А как один негр на него в коридоре прыгнул и мутузить начал, мусор этот как заорет: «Мама, мама!» Вся тюрьма слышала. Все они смелые до поры до времени.

Вообще, похоже было, что обитатели барака А-2 Решили этим вечером подтвердить на практике, что исторические трагедии повторяются как фарс. Спустя несколько минут я снова услышал ржание: двое здоровых ямайцев, выкрикивая что-то на уморительном карибском диалекте, начали расхаживать по бараку в масках. Тут надзиратель уже не выдержал и вместе со своим напарником направился к ямайцам, намереваясь пресечь издевательство любой ценой. Впрочем, те на конфронтацию не пошли и маски моментально стащили. Тюремщик, очевидно, удовлетворенный, вернулся назад к своей кафедре. Тут послышались негромкий вскрик и брань: оказалось, что за это время кто-то воткнул иголку в сиденье его стула.
Надсмотрщик, весь красный от злости, схватил мегафон и гаркнул: «Завтра посмеетесь!»
И погасил свет. В бараке сразу наступила тишина, и веселье как-то мгновенно угасло. В тюрьме толпа подвержена таким же резким переменам настроения, как и любой отдельный заключенный. Но это было уж слишком внезапно.
Когда-то, еще в детстве, у меня была книжка «Американские сказки и небылицы». Мне запомнилась история о негре, который был доверенным слугой богатого южного плантатора. Однажды хозяин отправился в город, оставив усадьбу на попечении слуги. Но в дороге его застигла буря, и плантатору пришлось вернуться назад. Он заметил еще издали, что вся его усадьба ярко освещена, а приблизившись, увидел через окно, что дом заполнен веселящейся толпой гостей-негров, напяливших его костюмы, курящих его сигары и пьющих его виски. На этом месте в книге была картинка, изображавшая взбешенного плантатора в мокрой одежде, врывающегося в дом с палкой в руках.
Не знаю, известна ли эта история заключенным. Вряд ли, если только ее не экранизировали. Но в тот вечер, когда расшумевшийся огромный барак А-2 вдруг погрузился во тьму, мне показалось, будто его обитатели ощутили нечто сходное с теми неграми южной плантации. Будто забывшись ненадолго в буйной игре в своевольную жизнь, они вспомнили внезапно, что ничто не изменилось и вокруг по-прежнему проволока, а дальше — беспредельные снега американского захолустья, враждебно следящего за их потугами на бунт. И хозяин — рабовладелец с палкой — стоит у дверей.
Спецназ явился, когда еще не рассвело. Нас выстроили в проходах, и группы бойцов в оранжевых жилетах начали свою работу. Простыни, одеяла, ложки, миски — все летело на пол. Это был капитальный шмон. Спецназовцы прощупывали, вздыхая и матерясь, каждый грязный носок, заглядывали в каждую пачку сигарет, распатронивали рамки на фотографиях и протряхивали книги. Потом настала очередь самих зеков: «Повернуться спиной! Снять майку! Передать майку мне левой рукой! Не оборачиваться! Поднять левую ступню! Правую ступню! Снять подштанники! Кому сказано — не оборачиваться?! Наклониться! Раздвинуть ягодицы! Еще! Теперь присесть! Стоять! У, щас как вдарю — повыступаешь еще! Одевайся! Следующий!»
Поскольку происходило все это одновременно по всему бараку, и рядом еще шел досмотр имущества, и кого-то уводили в наручниках, и какие-то вещи вылетали в проход, казалось, будто настал конец света. Хуже того, мелькала мысль, что это не так уж и плохо. В тюрьме такие мысли посещают периодически.
Шмон кончился к полудню. Командир спецназа, по-прежнему с миной морального превосходства, заполнял на кафедре какие-то формуляры, а заключенным приказали приводить в порядок спальные места. Дежурные надзиратели ссыпали в мешки пожитки веселых ямайцев; откровенный паренек-литовец тоже куда-то исчез.
Мои бумаги и белье оказались ссыпанными в одну кучу с вещами моего соседа из Южной Каролины, и мы до вечера разбирались, где чье. Погруженный в эту трудоемкую деятельность, я и не заметил, как ко мне подошли Бургад и Гверрини.
— Вот ведь, русский, — вздохнул Бургад, — какие негодяи! Письма мои рассыпали, помидоры подавили. Раздевают людей всенародно, ни стыда, ни совести. Десять минут голый стоял! Повернулся к начальнику — он мне говорит: «Еще слово скажешь — прямо без штанов поедешь на особый режим». Устроили нам тут Сталинград!.. Помню, в Париже так станция метро называется. Эх, Париж, Париж… Mort aux vaches![5] — и он рассмеялся, потрепав меня по плечу.
— Это еще что, — мрачно сказал Гверрини, — когда они к нам в Бруклин домой нагрянули, так все вверх дном перевернули! Меня с отцом отвели на кухню и кричат: «Оба раздевайтесь — обыскивать будем!» Отец мой по-английски не понимает, кричит мне все: «Che vuole? Che vuole?»[6] Я объясняю, как могу: спокойно, мол, отец, у них тут, в Америке этой, порядки такие. Никакого уважения к людям.
— А за что тебя взяли? — спросил я.
— Да, — махнул рукой Гверрини, — ерунда, глушители. Всего двенадцать штук в подвале и нашли. И за эту ерунду шесть лет схватил!.. Да с их законами шесть — еще слава Вогу, — Гверрини перекрестился. — Это ж моя третья ходка.
Забастовка прекратилась на следующий день. Вечером, закончив работу, я зашел в комнату редколлегии тюремного бюллетеня. Диего, толстый перуанец-редактор, посмотрел на меня меланхолично:
— А я-то думал, ты тоже на особый режим уехал. Видишь, половины людей нет. Ну, хорошо, что ты пришел. Почитай вот, что мы тут сочинили.
Я взял в руки листок. Это был некролог: «Памяти Виктора Моралеса». Я пробежал глазами текст: «Отзывчивый человек… талантливый художник… большая потеря для редакции… заключенные скорбят». Все было хорошо. Все правильно. О забастовке ничего не говорилось.
— Подпишешь? — спросил меня Диего. — Все подписали уже.
Я достал ручку и расписался. Диего положил листок в свою папку, и на несколько секунд наступило неловкое молчание.
— О, я забыл совсем! — встрепенулся вдруг перуанец. — У нас же иллюстрация лежит к твоей статье «Один день Хуана Денисовича». Смотри, как здорово. Это Виктор нарисовал.
На рисунке была зона, с приземистыми каменными бараками и двумя рядами колючей проволоки между вышек. Вокруг стояли деревья, засыпанные снегом, луна поблескивала из-за облаков, а в самом углу на небе сверкали две яркие звезды, похожие на сигнальные огни моста.
Огненные колеса
Новый, 1996 год мне довелось встретить в Ривервью, на границе с Канадой. В нашем блоке, где 90 человек спали на двухъярусных койках, уже с одиннадцати вечера началось оживление. Люди потянулись в «комнату отдыха». Телевизор показывал весело орущих людей на нью-йоркской Таймс-сквер. Заключенные жадно вглядывались в экран, пытаясь различить в толпе симпатичных женщин. Особенно их восхищало, когда камера показывала какую-нибудь негритянку или латиноамериканку смазливой и простой наружности. «Sister! Hermanita!» (Сестренка. — англ., исп.) — раздавались выкрики. К микроволновой печи (электроплитки в Ривервью запрещены) выстроилась очередь желавших приготовить в честь праздника бутерброды с запеченным сыром и ветчиной «Spam».
Когда знаменитый шар упал с небоскреба на Таймс-сквер и толпа в телевизоре завопила: «Новый год!», в Ривервью начался пандемониум. Один заключенный схватил со стола колоду карт и метнул ее вверх. Другой швырнул груду шахматных фигурок. За ними полетели шахматная доска, коробка домино и сам стол.
Заключенные с радостными возгласами метались по блоку, заключая друг друга в объятия, хлопая товарищей по плечам и головам: «С Новым годом!» В Ривервью, где у многих сроки небольшие, этот крик означал: «Свобода стала ближе!» Какой-то особенно веселый негр достал пластмассовую бутылку с кетчупом и начал разрисовывать стену граффити. Удивительно, но охрана почти не отреагировала. Только один надзиратель, Успевший уже, судя по всему, изрядно принять, пробурчал: «Потом чтоб протер, а то в карцере рисовать будешь!»
В американских тюрьмах строгого режима, как мне описывали побывавшие там русские братаны, Новый год отмечают еще более бурно. Заключенных там после Девяти часов вечера запирают в камерах, которые, как читателю приходилось видеть в кино, напоминают клетки зоологического сада. Вечером 31 декабря узники готовят различные предметы тюремной одежды — как правило, брюки, рубашки и свитера. За несколько минут до полуночи по всем камерам щелкают зажигалки и трещат спички. Охваченные пламенем куски униформы просовывают через решетки клеток и что есть силы размахивают ими, описывая в воздухе огненные колеса. Особенно хороши для этой процедуры зимние куртки. Они на искусственной вате и прекрасно горят. Проблема в том, что не всякий заключенный решится ею пожертвовать: каптерка выдает одну куртку на три года.
Новый год — едва ли не единственный момент в жизни американских заключенных, когда контроль охраны над ними ослабевает. В тюрьмах США, в отличие от российских зон, заключенные находятся под постоянным наблюдением. И в жилых помещениях, и в производственных, и в клинике, и даже в церкви постоянно дежурят надзиратели. И на Новый год они не покидают своих постов, но хотя бы не стоят над душой. Заключенные несколько минут чувствуют себя как бы свободными.
Правда, именно к Новому году была приурочена однажды попавшая мне в руки инструкция для персонала Фишкиллской тюрьмы. В ней было указано, что в период с 25 декабря по 1 января заключенные склонны болезненно воспринимать свою разлуку с родными и близкими. Поэтому охране следует внимательно наблюдать за их настроениями во избежание возможных самоубийств.
Инструкция не лгала. В сочельник и под Новый год в очереди к телефону замечаешь печальные и даже виноватые лица. Ведь поздравить с праздником жену или любовницу можно только за счет абонента.

Полночное веселье быстро сменяется угрюмой тоской. Именно 1 января в американской тюрьме очень легко получить в физиономию по самому незначительному поводу.
Глава 2
Всюду жизнь
Мы работаем в кандальной бригаде
Еще не так давно в Соединенных Штатах существовали каторжные тюрьмы. Закованных в цепи арестантов выводили на разные общественно полезные работы: на строительство мостов, шоссе и железных дорог. Некоторое представление о работе в ножных кандалах можно составить по «Запискам из Мертвого дома» Достоевского, но в американском варианте заключенные зачастую были прикованы еще и к длинной общей цепи, которую колонна при передвижении волочила по земле. В некоторых нью-йоркских магазинах звукозаписей и сейчас можно отыскать старые песни о кандальных бригадах, своего рода американский блатной фольклор:
We work all day — in the rain or sun,
Working on the chain gang.
And every time I look up — there’s a man with a gun,
— Working on the chain gang».[7]
На Юге каторжников иногда использовали даже на сельскохозяйственных работах, как в XIX веке — рабов. В 1958 году, после нашумевшего разбойного нападения на отель в Южной Каролине, во время которого был убит полицейский, бригады каторжников бросили на прочесывание окрестного кустарника. Там рассчитывали найти опустошенный бандитами сейф и табельное оружие убитого. Правда, тогда из-за особенностей ландшафта от общей цепи пришлось отказаться.
В эпоху либерализации 60-х годов кандальные бригады повсеместно ликвидировали. Южные штаты держались дольше всех. Уже в 1994 году, на обратной волне ужесточения тюремного режима, законодательное собрание Алабамы восстановило у себя в штате кандальные бригады. Правозащитные организации США не преминули заметить, что это — достойное продолжение традиций штата, где в 1963 году травили овчарками негритянских демонстрантов (это описано Сергеем Михалковым: «В диком штате Алабама страшный город Бирмингем»).
В 1997 году кандальные бригады в Алабаме снова отменили. Кардинальную роль в этом, однако, сыграли не борцы за права человека, а местный профсоюз тюремной охраны, официально осудивший возврат к каторжным работам. Надзиратели поняли, что тяжелые и унизительные условия труда озлобляют заключенных и могут привести к нападениям на охрану. Интересно, что это далеко не единственный случай столь неожиданного заступничества. Профсоюзы охранников из тех же прагматических соображений боролись против таких рьяных затей начальства, как уплотнение камер в Нью-Йорке, содержание арестантов в палаточных концлагерях в Аризоне и запрет на спортивные снаряды в тюрьмах Джорджии.
В штате Джорджия постоянные конфликты между властями и профсоюзом надзирателей привели в конце концов к тому, что администрация почти повсеместно сократила гостюремщиков и заключила контракты с частными фирмами. Помимо сокращения расходов, это дало еще и возможность игнорировать жалобы заключенных на жестокое обращение: ведь их новые тюремщики формально не были государственными служащими. Несмотря на судебные иски против этой политики, и некоторые другие штаты последовали примеру Джорджии, передав охрану тюрем в руки частных агентств. Одна из таких фирм даже выставила на бирже свои акции, которые имели довольно большой успех — перспективная отрасль.
Не менее популярными оказались акции компании «Юникор». Эта корпорация, открывшая филиалы во многих штатах, поставляет свою продукцию крупным государственным заказчикам, в первую очередь — американскому оборонному ведомству. Свои производства «Юникор» разворачивает в тюрьмах, что позволяет экономить на оплате труда и легко обходить конкурентов, использующих вольную рабочую силу. Сюжет о корпорации «Юникор» появился в популярной американской телепрограмме «60 минут», которую мне довелось видеть в Фишкиллской тюрьме. Журналисты брали интервью у разозленных поставщиков, вынужденных сворачивать производство из-за перехваченных «Юникор» заказов. Затем на экране появился дородный и самоуверенный директор «Юникор», назидательно заметивший интервьюеру: «Наша фирма принимает в расчет новую государственную политику в борьбе с преступностью: сажать больше и на более долгий срок. На этом мы делаем свой бизнес».

При этих словах упитанного директора вся собравшаяся у телевизора разноцветная толпа арестантов издала общий вздох, за которым последовал шквал ругательств:
— Вот почему, сволочи, такие срока навешивают!
— И досрочку не дают, пидарасы!
— Мы для них дойные коровы! Деньги на нас делают, сукины дети!
— Ох, попался бы ты мне, жирная скотина! Пять минут со мной в камере — тебя бы родная мать полгода не узнавала!
Почти все нью-йоркские заключенные убеждены, что кому-то выгодно их сажать. В некоторой степени это верно — администрация штата Нью-Йорк получает от федерального правительства ассигнования на постройку и содержание тюрем. Прямого дохода казне штата это не приносит, но сокращает безработицу: создаются вакансии для надзирателей и разного рода вольной обслуги. Поэтому так много тюрем строится в экономически отсталых районах штата. Что же касается чисто коммерческих производств, то они еще в начале века были в тюрьмах Нью-Йорка запрещены именно усилиями корпораций, боящихся потерять конкурентоспособность. Ни одна нью-йоркская тюрьма в экономическом смысле не рентабельна.
Впрочем, трудно сказать, выигрывают ли нью-йоркские заключенные от того, что в их штате деятельность компании «Юникор» запрещена. Арестанты, которые пьют в зарешеченных цехах этой фирмы костюмы химзащиты или штампуют запчасти для авиамоторов, конечно, зарабатывают на порядок меньше, чем вольныерабочие, но все равно — значительно больше своих собратьев в нью-йоркских тюрьмах. При семичасовом рабочем дне заключенный на фабрике «Юникор» зарабатывает до 200 долларов в месяц. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить себя сигаретами, продуктами из ларька и время от времени заказать по каталогу кроссовки, куртку или плейер. В нью-йоркских тюрьмах даже на «придурочных» работах (помощник учителя или клерк в тюремной конторе) заключенный получает не более 30 долларов в месяц. Неквалифицированный труд (уборка бараков, к примеру) дает лишь 12–15 долларов в месяц. Без «подогрева» с воли заключенный при таких заработках немного может себе позволить. Обычно он запасается концентратом искусственного бульона (14 центов брикет), едким рассыпным табаком «Тор» вроде махорки (37 центов пачка), да иногда может побаловаться настоящим мылом и зубной пастой вместо казенной дряни.
С другой стороны, уборщик реально работает не более часа в день, что делает это занятие популярным среди состоятельных заключенных, для которых лишние 15 долларов в месяц значения не имеют.
Впрочем, хотя среди арестантов можно встретить итальянца или колумбийца с тысячами долларов на лицевом счету, в целом обеспеченных людей в нью-йоркских тюрьмах мало. По словам моего приятеля, который работал в Ривервью в ларьке, не более трети осужденных сколько-нибудь регулярно получают денежные переводы с воли. Остальные вынуждены заботиться о себе сами.
В некоторых тюрьмах штата Нью-Йорк существует своего рода промышленное производство под эгидой корпорации «Коркрафт». В отличие от фирмы «Юникор», корпорация эта — некоммерческая и принадлежит правительству штата. Выпускает она продукцию для внутритюремного потребления — койки, тумбочки, одеяла, зековскую униформу, мыло, зубную пасту и так далее. В Фишкиллской тюрьме, к примеру, клепают оконные рамы для бараков. На этой работе арестанты получают больше обычного — 60–70 долларов в месяц, а со сверхурочными — до ста. Но устроиться на производство непросто. Заключенный должен иметь аттестат об окончании средней школы или получить в тюрьме его эквивалент (GED), а на это не у каждого хватает умственных способностей. Кроме того, нужно окончить пару ремесленных курсов — например, слесарного или типографского дела. И даже тогда приходится стоять в очереди несколько месяцев, чтобы получить место у станка.
Альтернативой изготовлению оконных рам могут быть работы низкооплачиваемые, но с хорошими слепыми» доходами. По рассказам долгосрочников, раньше наиболее прибыльным занятием считалась работа в ларьке. Хотя там постоянно присутствует продавец-вольняшка, а надзиратель обыскивает на выходе всех заключенных-рабочих, предприимчивые арестанты умудрялись что-нибудь незаметно позаимствовать. Обычно нацеливались на сигареты — в нью-йоркских тюрьмах, где заключенным запрещено иметь наличные Деньги, «Мальборо» и «Ньюпорт» играют роль общепризнанной валюты. Сигареты обладают и еще одним Несомненным достоинством — компактностью. Улучив Момент, заключенный, работающий в ларьке, распечатывал картонную упаковку печенья за 90 центов, клал сверху три-четыре пачки «Мальборо» (по 2,60) и снова вклеивал. Упаковка с сюрпризом дожидалась своего часа на полке, пока в окошке ларька не показывалась физиономия сообщника. «Так, что там у тебя? — бормотал вольный продавец, разглядывая бумажку с заказом. — Так, пачка печенья… 90 центов со счета долой… Эй, дайте мне печенье для этого парня». Рабочий-арестант без промедления протягивал продавцу приготовленную упаковку, а потом, во время инвентаризации, вольняшка тщетно пытался понять, откуда у него недостача.
Со временем, конечно, этот метод раскусили. Сигареты в ларьках стали держать в ящике под прилавком, вне досягаемости для заключенных. Там же начали хранить и почтовые марки — еще один ходовой товар. Зарабатывать на ларьке стало гораздо труднее. Правда, некоторые умельцы и тут нашли выход: вместо сигарет стали подкладывать продукты. Можно, допустим, высыпать в мусор пятидесятицентовую пачку риса и положить в пустой брикет четыре плавленых сырка, по 70 центов каждый. Конечно, это уже не тот размах, но все равно доход. В ларьке Фишкиллской тюрьмы, к примеру, обнаружили недостачу продуктов на 1,5 тысячи долларов. Уследить за четырьмя-пятью рабочими один продавец все-таки не может, и работа в ларьке до сих пор считается у арестантов «блатной».

Но пальму первенства по доходности держит столовая. Известно, что даже в концлагерях повара и хлеборезы никогда не оставались внакладе. К счастью, в относительно благополучных нью-йоркских тюрьмах нет необходимости сколачивать капитал, обкрадывая голодных товарищей. Еды здесь всегда хватает. Основной бизнес рабочих столовой — это продажа продуктов налево. К примеру, сосисок или куриных лап. В официальном меню столовой эти блюда бывают раз в две недели: одна лапа на обед или три сосиски на ужин. Между тем за пачку сигарет повар вынесет в штанах и десять штук. Можно приобрести и продукты, которые в меню вообще никогда не числятся: отварную говядину, каковая полагается только язвенникам и диабетикам, или коварную колбасу, которую выдают заключенным-евреям. На более скромную пищу цены вполне доступные Даже для малоимущих: за ту же самую пачку «Мальборо» можно купить пакет картошки килограмма на три. Такой пакет, конечно, в штанах не пронесешь, и повара обычно дожидаются, когда на дежурство заступит невнимательный надзиратель. Некоторые предприимчивее надсмотрщики даже разрешают поварам выносить продукты. За это им готовят заказные блюда, которым позавидовал бы любой приличный ресторан.
Наиболее оборотистые повара зарабатывают на левых операциях до трехсот долларов за месяц в сигаретном эквиваленте. При этом у них есть законное право наедаться в столовой от пуза и, соответственно, нет надобности ходить в ларек. У некоторых поваров возникает проблема с отмыванием доходов: ведь 50–60 пачек сигарет за месяц не осилить даже заядлому курильщику. Многие за них перекупают у других арестантов кроссовки и свитера. Некоторые начинают играть в тюремный тотализатор, где делаются ставки на бейсбольные или баскетбольные команды, а иные балуются анашой или героином.
И все же, несмотря на несомненную прибыльность, кухонная работа пользуется в тюрьмах штата Нью-Йорк не слишком большой популярностью. Поварам приходится рано вставать, да и сам труд довольно тяжел, в особенности летом, когда на кухне страшная жара. Большинство заключенных работать не любят и предпочитают сорок минут в день помахать веником, а не стоять по семь-восемь часов у плиты, пусть даже и за приличные деньги. Правда, в городской тюрьме на острове Райкерс охотников работать на кухне много. Дело в том, что там кормят гораздо скуднее, чем в тюрьмах штата, и ларек там очень плохой. Многим арестантам, особенно крупного сложения, приходится устраиваться на кухню, чтобы нормально питаться.
На острове Райкерс как-то раз я видел даже потасовку на этой почве. Здоровенный негр зажал в угол другого, поменьше ростом, в поварском халате и колпаке, и мутузил его с криками: «Ты украл мою работу!» Оказалось, что большой негр занимал в столовой очень привлекательную должность: открывал и закрывал кран бака с искусственным лимонадом. По какой-то причине в тот день он на работу не явился, и начальство поставило на розлив лимонада другого. Его-то теперь и били, как штрейкбрехера. Надзиратели Райкерса на подобные инциденты реагировали вяло, и ревнитель лимонадного бака успел порядочно навешать своему конкуренту, пока их не разняли другие арестанты.
При желании зек может извлечь прибыль практически везде. Парикмахер получает пачку сигарет за работу на совесть (особенно часто платят белые клиенты, чтобы их не стригли, как черных, то есть наголо). Рабочий тюремной прачечной, где одежду и белье стирают в авоськах и в них же сушат, может за ту же пачку постирать чьи-то вещи индивидуально, погладить и аккуратно сложить. Даже в ремесленных классах делается бизнес. Из класса циклевания и покрытия полов мне иринесли очень приличный коврик, служивший там учебным пособием. В классе типографского дела раздобыли затычки для ушей — в тюрьме это бесценная вещь. Затычки уступил мне всего за две банки сардин веселый старый негр Джо, работавший до тюряги на побегушках у самого богатого человека русской эмиграции Сэма Кислина.
В тюрьмах иногда можно встретить людей с поразительными художественными способностями. Первое подтверждение этому я получил еще в ранней юности, в 1990 году, когда был на туристической базе в Псковской области. Неподалеку, в поселке Середка, находилась колония общего режима, и некоторые отдыхающие через местных посредников получали оттуда поддельные галоны на водку, от настоящих совершенно неотличимые. Расплачивались, в основном, чаем. Через несколько лет, когда я, уже на другом полушарии, сам угодил за решетку, то обнаружил, что умельцев хватает и здесь. В Ривервью был пуэрториканец, занимавшийся резьбой по мылу. Некоторые из его произведений можно было отправлять прямо на выставку. Особенно поразительно, что его композиции — портреты и натюрморты — делались обыкновенной швейной иголкой, так как резцом в тюрьме пользоваться нельзя. Платили ему по тюремным меркам очень щедро — по шесть-семь пачек сигарет за композицию. Но мне казалось, что работал он по большому счету не из-за «гонораров». Когда, придя с ужина в барак, он придвигал к тумбочке колченогий стул и садился за свое мыло, лицо у него становилось воодушевленным, и он что-то удовлетворенно бормотал по-испански, из-под иголки на пол сыпались маленькие желтые или зеленые осколочки. Некоторые ценители его искусства специально заказывали с воли хорошее цветное мыло, так что недостатка в сырье он не ощущал. Были в Ривервью и художники. Работали они на материале, который мне только в тюрьме и приходилось видеть. Это — листы твердого прозрачного пластика, иногда окрашенные в черный цвет, под стать клеенкам Пиросмани. Кусок такого пластика в ларьке стоил доллар. За три-четыре пачки сигарет на нем изображалась одна из стандартных композиций — например, алая роза или сердце, пронзенное кинжалом. Такие вещи заключенные любили посылать на волю женам, подругам или матерям. Иногда, для ясности, просили прибавить к рисунку красивую надпись: «Вечная любовь Марии от Хозе». Некоторые художники брались и за более сложные заказы. Итальянец Гверрини заплатил целый блок «Мальборо» за герб Савойского королевского дома. Его три недели срисовывал из книжки ирландец Джерри О’Коннор, член организации «Шинн Фейн», торговавший по совместительству в Нью-Йорке героином. О’Коннор любил рисовать ирландские пейзажи, один из которых — каменный кельтский крест на фоне заходящего солнца — я как-то раз предложил купить.
— А тебе зачем? — спросил О’Коннор.
— Ну как зачем, — смутился я, — просто пейзаж замечательный, да и на память…
— Э, знаю я тебя, на память, — хмыкнул О’Коннор, — хочешь, наверное, загнать на воле какому-нибудь коллекционеру.
— Коллекционеру?
— А посмотри вот, что я тут нашел, — О’Коннор протянул мне смятую вырезку из газеты.
В статье рассказывалось о директоре похоронного бюро в штате Луизиана, который собрал первую в мире коллекцию искусства маньяков-убийц. Ему удалось приобрести живописные и графические работы даже у Джона Гейси, убийцы 32 человек, сидевшего в Иллинойсе в камере смертников. Гейси, маньяк-педофил, любил знакомиться со своими малолетними жертвами на детских праздниках, где он развлекал аудиторию в костюме клоуна. Он и рисовал клоунов — с оскаленным черепом вместо головы. По совету коллекционера Гейси стал писать также заказные портреты — по фотографиям, которые эксцентричные ценители искусства присылали ему в тюрьму. Занятие это было прервано казнью Джона Гейси на электрическом стуле. После смерти цены на его работы поднялись до пятизначных цифр.
— Интересно, — сказал я, возвращая статью О’Коннору, — но при чем тут ты? Ты же не маньяк-убийца, а боец за освобождение Ольстера.
— Ну все равно, мое дело было громкое, — возразил О’Коннор, — я ведь на героиновые деньги хотел оружие для наших купить… — Он многозначительно помолчал. — Просто обстоятельства сложились иначе. Пришлось вместо оружия купить ночной клуб. Конфисковали, конечно, что там… Так сколько ты мне предлагаешь?
Кельтский крест я приобрел всего за четыре пачки — очевидно, Джерри О’Коннору польстили мои слова о свободе Ольстера.
О’Коннор, кстати, был не единственным в Ривервью политически ориентированным художником. В тюрьме этой, изобиловавшей разными экзотическими личностями, сидел еще парень-индеец, рисовавший на заказ пленительных ирокезок в ожерельях из бирюзы, а для себя — портреты Леонарда Пелтиера, который якобы приходился ему каким-то дальним родственником. Узнав от меня, что в Советской России когда-то велась кампания за освобождение «американского политзаключенного Пелтиера», индеец подарил мне небольшой рисунок, изображавший вождя на тропе войны, в перьях и боевой раскраске. Вместо томагавка он держал автомат Калашникова.
Тату-apt и самогон-apt
Очень хорошие доходы в нью-йоркских тюрьмах у художников узкой специализации: татуировки. Правда, дело это небезопасное — тюремные правила под угрозой карцера запрещают делать наколки себе и другим. Работать приходится скрытно, чаще всего в одной из кабинок туалета или душевой, с помощником, стоящим «на вассе». Выбранный клиентом рисунок делается сначала на бумаге. Затем тело мажут специальным кремом, и татуировщик аккуратно прикладывает к этому месту рисунок. Чернильные контуры отпечатываются на теле, и татуировку накалывают уже по ним. Делается это машинкой, состоящей из моторчика, иглы и ампулы с краской. Мотор обычно вынимают из купленного в ларьке вентилятора. Если такую машинку найдут при шмоне — тоже карцер.

Хотя заключенных с татуировками в американских тюрьмах великое множество, далеко не всегда можно понять, какие наколки сделаны здесь, а какие на воле. Вольные наколки иногда можно определить по цветам, которые в тюрьме не используются (красный, желтый), либо по сюжетам, которые здесь считают глупыми. В Фишкиллской тюрьме многие потешались над огненно-рыжим евреем слегка отмороженного вида: ему пришло в голову наколоть изображения своих детей — два на руках, одно — на ноге. Портреты скорее символические: младший сынок имел вид ангелочка в шляпе и с пистолетом-пулеметом Томпсона. Судя по всему, он доставлял папе немало хлопот.
Из чисто тюремных сюжетов популярна обнаженная девушка, танцующая со смертью. Попадаются также орлы, пауки, драконы (последнее обычно у китайцев). Как правило, никакого подтекста американские тюремные татуировки не имеют. Единственное известное мне исключение — это изображение слезы, которое накалывают у нижнего века. Считается, что это — опознавательный знак осужденных за убийство. От некоторых старых зеков я слышал сетования на то, что такую наколку многие делают «незаконно», проходя по менее внушительным статьям. Самозванцам, однако, ничего не угрожает. Уголовная иерархия в американских тюрьмах отсутствует, и «смотрящих» здесь нет.
Наколки «со значением» я видел только в импортном варианте. Один мой тюремный знакомый — израильтянин, судимый в своей стране за многократные ограбления банков, — имел татуировку с изображением короны — «кетер» — знака статуса, аналогичного российскому «законнику». На острове Райкерс мне повстречался соотечественник, плечо которого украшал пронзенный кинжалом дубовый лист: «Убей прокурора!»
Видел я и арестанта-итальянца с татуировкой в виде контура Сицилии и подписью «Amici Nostri».[8]
Наколки-надписи у американских зеков не особенно в ходу. У англоязычных их практически нет (разве что свое имя или имя женщины), у латиноамериканцев иногда встречаются. Помню, я немного растрогался, увидев как-то на руке пуэрториканца скромное «Perdon Маша»;[9] Члены банды «Латинские короли» порой накалывают девиз своей группировки: «Amor Del Rey».[10] У доминиканца, загоравшего на травке в огромном дворе Уотертаунской тюрьмы, я видел на спине довольно длинную фразу, которую его соотечественник перевел мне так: «В рай меня не примут, в аду боятся, что я захвачу власть». Бакинец, сидевший в тюрьме «Грин Хэйвен» за торговлю «лимонками», собственноручно сделал себе наколки на ногах. На правой значилось «Они устали», на левой — «Но их не догнать». В этом была своего рода ирония: обладателю татуировок набавили срок за попытку побега из тюремного госпиталя в Бруклине.
Даже за самые простые наколки татуировщики берут не меньше блока сигарет. Любители татуировок, впрочем, не скупятся. Многие приплачивают за новую иголку и ампулу с красителем — во избежание заражения СПИДом.
А вот потребителей тюремной браги соображения гигиены не слишком сдерживают. Изготовление ее — тоже доходный промысел. В качестве тары обычно используют пластмассовую бутыль из-под моющего средства для полов (примерно 5 литров). Рецепты браги зависят от фантазии производителя и тех продуктов, которые ему удается купить, получить в посылке или Украсть.
Обычно заливают водой смесь из хлеба, сырого картофеля, сахара и какого-нибудь лимонадного концентрата (для вкуса). Сахарный песок воруют в столовой. Некоторые более утонченные изготовители используют сырые яблоки, которые в нью-йоркских тюрьмах часто дают на завтрак. Один неф в Ривервью пустил в дело даже виноград — конечно, он готовил бражку для себя, а не на продажу. Виноград почему-то пропускают в посылках неограниченно, а вот изюм — не более 60 граммов в месяц.
Впрочем, какова бы ни была рецептура, из-за отсутствия перегонки любителям выпить приходится довольствоваться неизбежно мутной жидкостью мерзкого вкуса и с резким запахом сивухи. Запах, кстати, создает самые большие проблемы: держать емкости с брагой в собственной тумбочке очень опасно. Поэтому обычно брагу фабрикуют арестанты, имеющие доступ к подсобкам или мастерским, где труднее определить, кому именно принадлежит бутыль.
Жарким летом 1995 года в классе ремонта телевизоров Уотертаунской тюрьмы произошел забавный инцидент. Прямо во время занятий раздался громкий хлопок в чулане, где хранились веники и швабры. По классу распространилась волна характерного аромата. Очевидно, кто-то из арестантов-уборщиков решил дополнить самогоноварением свой скудный официальный заработок, но не учел погодных условий. Скандала, впрочем, не произошло: ведущий класс телемастер-вольняшка, сам, судя по пунцовым щекам, любитель зашибить, распорядился выбросить взорвавшуюся емкость и надзирателю ничего не сообщил. Нужно сказать, что это необычно: чаще всего вольные служащие в любой нестандартной ситуации сразу бегут стучать.
В Обернской тюрьме строгого режима, самой старой в штате Нью-Йорк, брагу продавали по кружке за пачку сигарет. На общем режиме берут обычно поменьше, но в Оберне цена включала и закуску. Старик еврей, который делал брагу прямо на кухне, лепил там пирожки с рыбой и выдавал своим клиентам по штуке на кружку. Заключенные очень этому умилялись.
Среди арестантских подпольных профессий есть одна, имеющая репутацию элитной. Нет, не торговля наркотиками — ими как раз в тюрьме никого не удивишь. Любой заключенный, обладающий связями на воле, может продавать наркоту в своем блоке или на общем прогулочном дворе. Самым большим уважением в американских тюрьмах пользуются юристы, познания которых могут сыграть решающую роль в судьбе заключенного.
По закону в каждой американской тюрьме должна работать юридическая библиотека. В тюрьмах общего и усиленного режима заключенные часто вынуждены довольствоваться небольшой комнатой с четырьмя-пятью десятками кодексов, юридических справочников и парой пишущих машинок. В тюрьмах строгого режима, где для многих арестантов хорошо составленная апелляция — единственный шанс обрести свободу, юридические библиотеки порой близки по размерам к университетским. Во всех библиотеках работают сотрудники только из заключенных. В большинстве тюрем существуют курсы, выпускники которых получают право работать «правовыми ассистентами», то есть помогать закаченным составлять юридические бумаги всех видов.
В нью-йоркских тюрьмах можно встретить и бывших профессиональных адвокатов. В Фишкиллской тюрьме я «ознакомился с Марком Фогелем, юристом, который в свое время представлял интересы крупных американских инвесторов в Карибском бассейне. Он даже участвовал в организации правительственного кризиса на Сен-Мартине, чтобы свергнуть несговорчивую администрацию острова. Фогель, осужденный на срок от 4 до 15 лет по 46 эпизодам мошенничества, практически жил в юридической библиотеке. Но он работал только над собственной апелляцией, избегая рассказывать зекам о своей вольной профессии. Другие бывшие юристы, которых я знал — Пласт, получивший срок за заговор с целью убийства своего клиента, и Розенбаум, загремевший за неуплату налогов, — тоже себя не афишировали.
Бывшие профессионалы, как правило, избалованы большими доходами на воле и не хотят рисковать из-за несущественного, по их стандартам, приработка. «Рисковать» — потому что тюремные правила штата Нью-Йорк строго запрещают заключенным взимать плату за юридические услуги другим арестантам. Даже обнаружение во время обыска чужих юридических бумаг чревато карцером. За «правовыми ассистентами» администрация следит особенно бдительно, периодически обыскивая их отсеки и проверяя, не поступают ли на их личные счета подозрительные денежные переводы. Профессиональные юристы, как и другие «интеллигентные» заключенные, обычно стараются быть на хорошем счету — им дискомфортно, когда приходится что-то скрывать или прятаться.
Совершенно другой тип — арестантский юрист (или, по меткому определению одного русского зека, «лойерок»[11]). Чаще всего это долгосрочник, иногда многократно судимый, набивший руку на составлении апелляций, жалоб и прошений, знающий на личном опыте самые разные аспекты уголовного законодательства Некоторые «лойерки» имеют много мелких клиентов: один хочет перевестись в тюрьму поближе к дому, другой оспаривает дисциплинарное взыскание, третий добивается диетической пищи. «Л ой-ерок» готов помочь любому за пару блоков сигарет. Есть и юристы, которые берутся только за крупные дела; составление апелляции или подготовку к иммиграционному слушанию. В таких случаях счет идет на сотни долларов. Их с великими предосторожностями на воле передает доверенному лицу «лойерка» семья клиента.
Мне неоднократно приходилось слышать, что некоторые арестантские юристы работают качественнее, чем профессионалы. На воле действительно трудно найти адвоката нужного профиля. Многолетний опыт личного общения с судебными и тюремными инстанциями зачастую формирует у «лойерков» некое шестое чувство, которого лишены корифеи права с Бродвея и Мэдисон-авеню. Арестантские юристы во многих тюрьмах очень жестко конкурируют, иногда используя чисто гангстерские приемы. В тюрьме Ривервью долгое время очень успешно работал белый «лойерок». Потом туда прибыл с этапом новый правовой ассистент-негр, и в спальном отсеке удачливого конкурента случился поджог. Тюремные правила предписывают в таких ситуациях немедленно изолировать потерпевшего в одиночке «из соображений безопасности» с последующим переводом в другую тюрьму. Это и было проделано с белым «лойерком». Правда, поджигатель своей цели не достиг, его кто-то выдал, и он загремел на штрафной режим. В других случаях, однако, от конкурентов вполне успешно избавлялись такими же или еще худшими методами. Я слышал даже о подбрасывании наркотиков накануне обыска.
Могила для бедных
В советских лагерях некоторые заключенные с художественными способностями могли выжить благодаря покровительству администрации. Солженицын писал о художнике, снятом с общих работ, чтобы рисовать пейзажи и натюрморты для «кума». У Шаламова упоминался музыкант, обучавший пению жену начальника лагеря. В американских тюрьмах их таланты вряд ли бы нашли себе применение: здешние власти не претендуют на любовь к искусству. Зато услуги виртуоза-бухгалтера в Уотертаунской тюрьме пришлись весьма кстати. Все местное начальство ходило к нему со своими декларациями о доходах. Манипулируя чрезвычайно запутанными налоговыми законами США, бухгалтер экономил для тюремщиков сотни и тысячи долларов. В его распоряжение предоставили персональный компьютер, а в качестве вознаграждения выделили лучшее место в почетном бараке, где он мог пользоваться грилем и холодильником.
В Фишкиллской тюрьме я некоторое время обитал в четырехместной камере, где моим соседом был Мелвин Пейнтер, негр из штата Вирджиния, садовник по профессии. К несчастью, несколько лет назад он забросил садоводство, переехал в Нью-Йорк и занялся торговлей крэком. Его довольно быстро взяли; при аресте Пейнтер нанес тяжелое ранение агенту Федерального управления по борьбе с наркотиками. Со сроком от 8 до 25 лет он загремел в нью-йоркскую тюрьму «Ваге Hill» («Голый Холм»). Начальник этого «холма» имел неподалеку дом с обширным, но запущенным садом. Однажды, производя инспекцию тюремного парника, начальник обратил внимание на пейнтеровские грядки. Помимо своих профессиональных талантов, Пейнтер обладал еще и обычной у чернокожих с Юга обходительностью, и в скором времени начальник решил доверить ему собственный участок. Тюремный босс под личную ответственность выписал Пейнтеру допуск для работы за пределами тюрьмы, обычно выдаваемый лишь неопасным заключенным с маленькими сроками. К садовнику, конечно, приставили вооруженного конвоира, но Мелвин и не собирался бежать.
Всего лишь за пару недель, орудуя лопатой и граблями, он сделал из начальничьего сада настоящую конфетку. Восхищенный хозяин сказал Пейнтеру, что он умеет помнить добро, и пообещал в течение года оформить ему досрочное освобождение. Тогдашний губернатор штата Нью-Йорк демократ Марио Куомо предоставил большую свободу действий тюремному начальству, и хозяин Голого Холма собирался, судя по всему, сдержать свое обещание. Пейнтера уже вызвали в тюремную контору и приказали заполнить необходимые анкеты. Не смея и поверить в свою удачу, Пейнтер продолжал самозабвенно трудиться в саду благодетеля. Он в поте лица разбивал новые цветники, клумбы, окучивал фруктовые деревья и начал даже проектировать фонтан. Начальник восторгался: сад его превращался в местную достопримечательность. Тюремные служащие рангом пониже наперебой умоляли шефа уступить им необыкновенного садовника хотя бы на неделю. Начальник тюрьмы, однако, был непреклонен: Пейнтер будет у него в хозяйстве, пока на него не выпишут «вольную», то есть Досрочку.
Эта-то неуступчивость и погубила все. Обиженный на жадного шефа сержант «просигнализировал» в тюремное управление, что начальник «Голого Холма» намеревается досрочно выпустить на свободу особо опасного наркодельца Мелвина Пейнтера, нанесшего увечье сотруднику правоохранительных органов. Донос сделал свое черное дело. Начальнику тюрьмы сообщили, что во избежание расследования ему «рекомендуется» немедленно удалить Пейнтера из-под своей юрисдикции. Креслом начальник, очевидно, дорожил больше, чем садом, и на следующий же день беднягу Пейнтера отправили с этапом в Фишкиллскую тюрьму. Здесь он целыми днями лежал на койке, толстел и жаловался на судьбу.
Практически каждый американский заключенный обязан посещать так называемые исправительные программы. Наркоманы должны прослушать шестимесячный курс по борьбе с пагубными привычками. Этот же курс обычно прописывают и наркоторговцам — очевидно, чтобы они осознали, какой вред обществу приносит их профессия. Если «преступление было совершено в процессе распития спиртных напитков», то заключенного определяют в группу «Анонимные алкоголики». Если человек осужден за убийство или нанесение увечий, его место на курсах «Альтернатива насилию». Существуют специальные программы для женоубийц, сексуальных маньяков и ВИЧ-инфицированных. Ведут программы почти всегда заключенные (иногда под надзором «вольняшек»). К этой категории арестантов в тюрьме относятся одновременно и с завистью, и с презрением. Считается, что «актив» администрация ставит на заметку и помогает им досрочно освободиться. Это далеко не всегда соответствует действительности, но многие заключенные рвутся в активисты даже ради призрачной надежды. Презрение же к ним возникает оттого, что некоторые из этих людей становятся холуями тюремных властей. Когда я работал в Ривервью помощником учителя, то избегал даже относить надзирателю список отсутствующих в классе, поскольку это для них чревато дисциплинарным взысканием. А многие «ведущие» совершенно не стесняются это делать — особенно на курсах для наркоманов, где откровенно поощряется стукачество.

Некоторые активисты говорят с заключенными на жаргоне тюремной бюрократии и раздражают всех своим энтузиазмом. В группе «Анонимные алкоголики» Фишкиллской тюрьмы был ведущий по имени Питер, который то и дело разражался трескучими сентенциями по поводу полного отказа от спиртного, который он, куратор группы, уже решительно осуществил. И теперь считает своим долгом, вернее даже сказать, миссией разъяснить невежественным алкоголикам всю жизненную необходимость такого шага и т. д., и т. п. Я старался воспринимать Питера стоически и попросту отсиживался поодаль с книжкой небольшого формата. Мой приятель-грузин, также посещавший «Анонимных алкоголиков», обладал более горячим темпераментом и не мог, по его словам, «терпеть это мудозвонство». Понимая, что пререкаться с Питером опасно (может ведь и настучать), он избрал другой метод — постоянно прерывал ведущего такими репликами: «Слушайте Питера! Он правду говорит!» или: «Слушайте Питера! Он мудрый человек!» Упоенный своим красноречием, активист даже не чувствовал иронии. Грузин неизменно произносил его имя со звонким «д» вместо глухого «т». Должно быть, сказывался акцент.
На острове Райкерс, помимо основного контингента — подследственных, были и те, кто отбывал там весь свой срок. По закону осужденных на год и менее за пределы города Нью-Йорк не вывозят. Сидят эти арестанты в отдельном корпусе и с подследственными не пересекаются. Исключение составляют только общие поездки в суд — никогда не знаешь, с кем тебя сведет судьба.
— Тебе сколько дали?
Я вздрогнул и обернулся. За окнами тюремного автобуса проплывали городские фонари: мы возвращались на остров Райкерс.
— Максимум 10, - нехотя ответил я соседу. — Тяжкие телесные.
— Первый раз сидишь? — деловито осведомился негр средних лет, потрепанный жизнью, без передних зубов и со шрамом на шее.
Я кивнул.
— Значит, можешь получить досрочку через 40 месяцев. Это еще ничего, могло быть хуже. По твоей статье, братец, верхняя планка — 15, то есть досрочка через 5. А если повторно проходишь, через 7 с половиной.
— Ты, я смотрю, хорошо законы знаешь, — заметил я.
— А то?! Всю жизнь, братец, от срока до срока. Но я больше по мелочам — 6 месяцев, 8 месяцев… Сейчас вот год схватил. У меня ведь, братец, дома нету, — продолжал словоохотливый негр, — и жил я, значит, в брошенном здании в Бронксе. Но не один жил, конечно, — ребята там в подвале крэком промышляли, ну, и прочие дела. Раз прихожу вечером к себе — в здании полиция. «А, — говорят, — старый знакомый!» Они ж меня и раньше брали. Хвать мою сумку, а там у меня, братец, лежит втулка от колеса. «Это что?» — спрашивают. Я им объясняю: «В здании, мол, рамы всякие остались, чистый алюминий — хочу их, значит, этой втулкой отколупать и сдать в утиль». Полицейский говорит: «Понятно. Я про этот утиль с восемьдесят четвертого года от тебя слышу. В общем, так. Или ты нам Рассказываешь, кто тут в подвале держал точку, или оформляем тебе втулку как инструменты взломщика». Ну, я же не крыса, мне с этими ребятами жить потом. Я прикинул: не больше года за ту втулку. А в тюрьме, братец, тоже посидеть иногда нужно. Жаль только, на Райкерс отправили. Я-то думал, в Бронксе перекантуюсь. Тут любой пацан, чуть что, сразу за нож. Ну, ничего, я здесь вообще-то только сплю, а днем на работу вывозят. На кладбище.
— Ты что, шутишь, что ли?
— Ну, ты же не знаешь, из следственного блока туда не берут. Кладбище, братец, в Квинсе, для бедных людей. Если кто, значит, скончался, семьи нет, на похороны денег нет — его город за свой счет хоронит. Кладут в ящик, на ящике номер пишут и закапывают по восемь-десять покойников в одной могиле. Мы и закапываем. А бывает, что и обратно достаем.

— То есть как? — не понял я.
— Ну так: несколько месяцев проходит — родственники объявляются. Хотят, значит, на нормальном кладбище похоронить. Ну, начальство проверяет — где могила, какой номер ящика. Дают нам лопаты, ну, и рукавицы, конечно, брезентовые. Ящики-то друг на друге стоят, а начнешь вынимать — разваливаются, покойники выпадают.
Рассказ его напомнил мне о Кате Ш. Это была моя знакомая в Нью-Йорке, тоже москвичка, приехавшая в поисках счастья. Работала она то нянькой у чьих-то детей, то уборщицей, то продавщицей в брайтоновской лавке (да еще, кажется, с условием сверхурочно «давать любовь» одесситу-хозяину). Уже в тюрьме я узнал, что Катю сбила машина. Сбережений у нее почти никаких не было, и соседки по квартире, поплакав, отдали ее тело городским властям. Теперь я мог бы написать ее родным о яме для бедняков, о похоронной команде, что разыскивает дорогие еще кому-то останки. Но куда писать, я не знал.
Яко разбойника мя приими…
Двенадцать человек в первом ряду католической часовни по знаку падре принялись развязывать ботинки и снимать носки. Появился священник, одетый в фиолетовые ризы; в руках его были таз и кувшин. Раздались медленные, странные звуки электрического пианино. Священник опустился на колени и наклонил кувшин, осторожно омывая ноги первого из сидящих. Он продвигался вдоль ряда, и из переполненного зала с необычайным умиротворением на него смотрели десятки глаз. Это была католическая служба Страстного Четверга, в память об омовении Иисусом ног учеников во время Тайной Вечери. Происходило все это в Ривервью, тюрьме усиленного режима у канадской границы.
В тюрьме многие обращаются к вере. Люди более циничные объясняют это выражением «foxhole praying» — окопная молитва. Однако нельзя сказать, чтобы в Боге искали прибежища лишь на грани отчаяния, в отсутствии каких-либо земных надежд. Никакой закономерности здесь нет. Многие латиноамериканцы с небольшими сроками, приходя в часовню, стоят на коленях перед гипсовой статуей Пречистой Девы, со слезами на глазах, перебирая цветные четки. Я хорошо помню и худое, изможденное лицо заключенного по имени Анатолий. Этот бывший ленинградский экономист зарезал родителей жены — в пьяном угаре, доведенный до отчаяния эмигрантскими неудачами и упреками в никчемности. Анатолию дали 50 лет. У него был глуховатый голос, страшный и спокойный: «В Бога я не верю, нет. Я только поскорее хочу исчезнуть с лица земли…»
В нью-йоркских тюрьмах я слышал гораздо больше споров о религии, чем в Колумбийском университете или в американском светском обществе, где подобные дискуссии чуть ли не табу: «это может причинить кому-то дискомфорт». Наверное, у каждого второго заключенного есть Библия или Коран. Вокруг американской пенитенциарной системы существуют десятки миссионерских организаций. Наиболее активны, конечно, протестанты. Иногда их миссионеров в строгих костюмах и галстуках можно увидеть в зале свиданий по обеим сторонам какого-нибудь здоровенного негра в тюремной униформе, которому они втолковывают что-то из Священного Писания. По понятным причинам заключенные любят миссионеров-женщин. Наблюдать за такими встречами трогательно и забавно: налицо различие интересов сторон. Впрочем, в одном известном мне случае дело кончилось настоящим романом между молодым заключенным-негром и протестантской миссионеркой — белой женщиной из Калифорнии, сорока с лишним лет, со взрослыми детьми. Мне не удалось узнать, сдержал ли он свое обещание стать по выходе протестантским пастором. Да это и не имело значения.
В американском протестантизме есть так называемое движение вновь рожденных. Проповедники его требуют повторного крещения и упор в своих богослужениях делают на коллективный экстаз. В тюрьме такие вещи падают на благодатную почву. В Ривервью практиковалось «говорение языками», то есть экстатическое выкрикивание внешне бессвязных сочетаний звуков и слогов. Хотя организаторы и ссылались на послание апостола Павла коринфянам, впечатление это производило странное. В тюрьме Фишкилл я слышал сотрясавшие всю часовню религиозные композиции в стиле рэп, с барабанами и электрогитарами. Аудитория с воздетыми к небу руками скандировала: «Иисус! Иисус!» Что-то вроде хлыстовских радений на бейсбольном стадионе. Впрочем, на воле собрания «вновь рожденных» и вправду случаются на стадионах, с такими, к примеру, речевками в мегафон: «Fife, four, three, two, I love Jesus, and how about you?» («Пять, четыре, три, два, я люблю Иисуса, а ты?»). Как говорят телекомментаторы, на трибунах творится невообразимое — метафизический оттенок этого штампа здесь вполне уместен.
Католические службы гораздо более благостны. В Ривервью я любил слушать проповеди капеллана Дюпре. Этот толстенький лысеющий человек, как оказалось, получил теологическое образование в Бельгии, и его называли здесь монсеньором. Он говорил с необыкновенной силой и красноречием, и часовня всегда была полна. Нужно сказать, что этим обстоятельством пользовались латиноамериканские банды, устраивавшие сходки в задних рядах. Иногда во время проповеди сзади велись какие-то расчеты по-испански. Часто доносилось слово «monteca», означающее масло, но на тюремном жаргоне также и героин. Отец Дюпре переносил все это терпеливо, но однажды прервал проповедь и закричал: «Помните, что это дом Божий!» Кто-то выругался по-испански, но его одернули.
Среди заключенных-негров очень распространен ислам. Нужно сказать, что движение черных мусульман началось в Америке именно в тюрьмах. Основатели его — такие, как бывший грабитель Малькольм Икс, — отвергли христианство как «проповедь покорности и бессилия», намеренно внушенную белыми плантаторами черным рабам. Понятия об исламе у большинства негров, впрочем, очень размытые: мало кто из них знает разницу между суннитами и шиитами или может сказать по-арабски что-нибудь кроме «Салям алейкум!». Правда, по внешнему виду мусульман распознать легко: они обычно стригутся наголо и носят вязаные шапочки-куфи. На одном заключенном-негре я видел даже ярко-красную феску с кисточкой, точь-в-точь как у короля Марокко. Тюремная мечеть посещается исправно, и лишь изредка можно заметить в толпе чернокожих прихожан сиротливого турка или албанца.
Я уже упомянул о Малькольме Икс: странная его фамилия — конечно же, псевдоним, призванный символизировать обрубленные работорговцами африканские корни. Еще одна негритянская конфессия, официально не признанная властями, но довольно живучая в тюрьмах, тоже практикует смену имен. Это так называемые пятипроцентники, считающие себя наследниками потерянных колен Израилевых, а белого человека — агентом сатаны. К этому у них примешивается вера в свой сверхчеловеческий потенциал — некий отголосок Ницше или Кириллова из «Бесов». Поэтому они берут себе имена типа Майкл Знание или Билл Мудрость. Причем иногда даже регистрируют эти имена через суд. Никто, правда, не слышал, чтобы эти сверхлюди летали по воздуху или проходили сквозь стены. Хорошо, если они могут читать хотя бы по складам.
Многие заключенные — выходцы из Карибского бассейна — исповедуют довольно загадочную религию под названием «растафарианство». Основателем ее был покойный император Эфиопии Хайле Селассие. Его считают потомком царя Соломона в 225-м поколении, хранителем исчезнувшего «ковчега завета» и воплощением Бога на земле. Растафарианцы носят длинные, заплетенные в косички волосы по образцу библейских назореев. Активисты молельни называются у них левитами. Перед началом служб они обильно курят благовония, и проходить мимо растафарианской часовни всегда приятно. Правда, самую чтимую у них траву, марихуану, в тюрьму не пропускают.
В нью-йоркских тюрьмах есть и приверженцы сугубо мистической и колдовской секты «Сантория». Особенно популярна она среди выходцев из Доминиканской Республики. Еще на воле мне попадались их Молельни, называемые почему-то «ботаниками» в доминиканских кварталах Нью-Йорка. «Сантория» широко прибегает к разного рода заклятиям, наговорам, наведедению и снятию порчи. Один заключенный-доминиканец рассказывал о подпольных «ботаниках», где приносят в жертву животных. По его словам, однажды крупный доминиканский наркоторговец достал каким-то образом живого тигра из Санто-Доминго. И лосле жертвоприношения висевшее над наркоимпортером судебное дело лопнуло из-за исчезновения всех улик. Понятно, что тюремные власти не поощряют это потенциально опасное вероисповедание. Но тайные его поклонники есть даже среди испаноязычных католиков.
Заключенные из России почти всегда посещают тюремные синагоги. Хотя далеко не все они евреи, тем не менее именно синагога — традиционный центр тюремного общения и русских, и грузин, и армян. Там можно отыскать русские книги, газеты, календари. А в тюрьме «Фишкилл» — даже выпить стакан чая за общим столом. Объясняется это еще и тем, что никакие другие религии не проявляют особого интереса к русскоязычным узникам. Лишь однажды мне в руки попал настенный календарь на русском языке, изданный в США «Свидетелями Иеговы». Впечатление он производил странное. Казалось, что над иллюстрациями работали американские имиджмейкеры: все библейские пророки и патриархи радостно улыбались, имели великолепный цвет лица и прекрасно развитую мускулатуру.
Ни в одной тюрьме я не видел русских православных служб. Правда, на острове Райкерс к православным заключенным мог приехать на свидание священник Русской зарубежной церкви. Но встречаться между собой вот так, в неформальной обстановке, наши соотечественники на острове могли по «еврейской линии».
— А ты в Бога веришь? — спросил меня как-то Семен Драбин, сосед по этапному корпусу острова Райкерс.
— Верю, конечно, — сказал я, — правда, в детстве были у меня проблемы с конфессией: отец православный, мать еврейка, и справляли мы всегда обе Пасхи.
— Интересно… — Драбин отхлебнул из пластиковой чашки кофе и поморщился. — А я, бля, буддист, вот. Мой отчим покойный все про это знал: переселение душ и все такое. Ох, хороший был человек, с понятиями. Он мне так объяснял: вот умирает человек, и приходит его душа к Богу. И другие души перед Богом стоят. А Бог им говорит: «Ну что, ребята, хотите обратно на землю?» Все кричат, что, мол, конечно, давай нам еще одну жизнь. А Бог головой качает и говорит: «Ладно, что с вами поделать, летите, ничего-то вы не поняли». А я, отчим мой объяснял, я уже понял. Скажу, говорит, не хочу больше на землю, хочу с папочкой быть — с Богом то есть… Устал, говорит, жить уже, вот. И ведь как в воду глядел — месяца не прошло, и скончался. На Брайтоне в карты играл, кто-то вошел и две пули прямо в голову всадил. За что, не знаю — человек два срока в Союзе отмотал, никто пальцем не тронул, а тут…
Мы помолчали.
— Слушай, — добавил Драбин, — я почему этот разговор начал. Сегодня пойдем на еврейский праздник. Я уже мусора предупредил. Там наши будут со всего острова, телки будут. Получишь удовольствие.
По дороге Драбин кряхтел и жаловался на ломку. Он уже неделю сидел без героина. Нас переодели в коричневые тюремные комбинезоны и провели длинным коридором в некое подобие актового зала.

На секунду мне показалось, будто я вижу это все во сне. На столах лежали настоящие бутерброды и стояли прозрачные стаканчики с напитками — как сладкое воспоминание о воле, будто это какой-то фуршет в Нью-Йорке или Москве. Вокруг слышны русские голоса, на сцене играл оркестр любавических хасидов, и несколько заключенных танцевали с чернокожими девушками из женского отделения — наверное, им пришлось назваться еврейками по такому случаю. За одним из столов, поодаль от надзирателей, жарко обнималась пара — экзотической красоты гаитянка и лысый широкоплечий грузин. Оркестр играл что-то трепетное, пронзительное, и я подумал в тот миг, что пути Господни неисповедимы.
От баскетбола до метания подковы
Заключенные американских тюрем, как правило, украшают свои камеры или жилые отсеки по стандарту. Семейные люди с гордостью водружают на видное место фотографии жен и детей. Неженатые обычно довольствуются вырезками из журналов мод, где изображены красиво одетые и раздетые манекенщицы. С ними странным образом соседствует религиозная атрибутика, будь то небольшие распятия и медальоны у католиков, коврики с арабской вязью у мусульман или портреты эфиопского императора у растафарианцев. Активисты любят наклеивать школьные дипломы или грамоты с курсов «Анонимных алкоголиков». Люди, торгующие наркотиками или играющие в тотализатор, часто вывешивают казенные расписки, выдаваемые после обыска шчных вещей, чтобы надзиратель, раздумывающий, кого бы ему в этот день пошмонать, машинально прошел мимо.
Вначале я удивлялся, видя у многих в камерах спортивные вымпелы. Я полагал, что после тяжелого трудового дня у заключенных в лучшем случае остаются силы на прогулку или партию в шахматы. В действительности же работают в американских тюрьмах мало, а тяжелым физическим трудом не занимаются никогда. Кормят там хотя и невкусно, но обильно, и для некоторых заключенных спорт насущно необходим, чтобы не растолстеть.
Наиболее распространенная в тюрьме спортивная игра на первый взгляд довольно странна. На стене тюремного двора рисуют квадрат, а на асфальте перед ним — прямоугольник. Один из игроков бьет об асфальт небольшим резиновым мячиком. Мячик отскакивает и рикошетом ударяет в стену, после чего удар наносит уже второй игрок. Игра несколько напоминает парный теннис «о стеночку», только вместо ракетки используется собственная ладонь. Это немудреное развлечение имеет горячих приверженцев, которые устраивают подлинные тюремные Уимблдоны.
Большого тенниса в нью-йоркских тюрьмах, конечно, нет, а вот настольный — существует. В категорию малоактивных видов тюремного спорта входят также катание шаров и метание подковы. Игра с шарами, называемая «баччи», на воле встречается только в итальянских кварталах Нью-Йорка. А металлические стержни, на которые игроки должны набросить подкову, можно увидеть лишь в штатах так называемого кукурузного пояса. Тем не менее обе эти игры прочно вошли в тюремную субкультуру наряду с игрой типа «Эрудит» («Scrabble»), в которую на воле в США играют только школьники.
Командные виды спорта — баскетбол, волейбол, футбол американский и европейский — также существуют за решеткой. Некоторые матчи, проводимые в тюремном дворе или спортзале, собирают толпы болельщиков. Заключенным запрещено иметь футболки с какими бы то ни было надписями или эмблемами во избежание маскировки под вольнонаемных. Тем не менее перед матчем игрокам выдают под расписку красочную спорт-форму. Команды зачастую носят громкие названия. Например, «Синг-Сингские дьяволы». В печально известной тюрьме строгого режима «Ангола» (штат Луизиана) существует даже команда под названием Lifers, то есть «Приговоренные к пожизненному заключению». Краткосрочники, особенно молодые, часто говорят, что предпочли бы пожизненному заключению смертную казнь. Люди же, реально оказавшиеся в таком положении, нередко смиряются со своей участью и даже начинают ею бравировать.

Попасть в команду может далеко не каждый желающий. Хотя американский тюремный спорт — чисто любительский, к вопросам престижа заключенные относятся серьезно. Но наиболее престижным является вовсе не место форварда или lineback’a в тюремной команде. Самый уважаемый персонаж — это арбитр. Очевидно, человек, много лет находящийся во власти чужой воли, страстно желает хоть на время игры сделаться вершителем чьей-то судьбы — судьей, а не подсудимым.
Силовые единоборства в нью-йоркских тюрьмах запрещены. Любой заключенный может получить сплюснутые боксерские перчатки и лупить по груше сколько душе угодно, но поединок или даже спарринг между двумя арестантами немедленно останавливается, а боксеров запирают в бокс. То же относится к вольной борьбе, дзюдо и особенно карате.
Когда-то нью-йоркские тюремные надзиратели должны были поддерживать хорошую физическую форму и владеть основными навыками бокса. В последние десятилетия эти требования были сняты, и среди надзирателей стали появляться субтильные или, напротив, очень грузные субъекты. В Фишкиллской тюрьме слу: жила лейтенантом невероятных размеров негритянка, которая, когда ее случайно сшибли с ног, не смогла подняться без посторонней помощи. В случае столкновения с физически сильными заключенными надзиратели берут лишь числом. Беглого русского матроса Константина Руденко, который ударил оскорбившего его сержанта, надзиратели Фишкиллской тюрьмы не могли скрутить в течение пятнадцати минут. Руденко дрался, как лев, и был обезврежен только с помощью мощной инъекции транквилизатора, который, изловчившись, вколола подкравшаяся сзади медсестра.
Есть в нью-йоркских тюрьмах и бегуны, и прыгуны в длину. Но самый тюремный вид спорта — это все-таки культуризм, бодибилдинг. В любой здешней зоне есть набор штанг, гантелей и гирь. В последнее время их вытесняют тренажеры, так как гантели легко можно использовать в качестве оружия. Именно это произошло в 1997 году в нью-йоркской тюрьме Mohawk, где нескольким надзирателям разбили головы.
В тюрьмах некоторых южных штатов культуризм вообще пытались запретить. Поскольку там принято считать, что преступники неисправимы, логично было помешать им накачиваться для новых ограблений, изнасилований и убийств. Несмотря на протесты либералов и врачей, из тюрем убрали штанги и тренажеры. Но заключенные и здесь нашли выход. В тренировках увеличилась доля приседаний и отжиманий. Использовались мешки с песком или консервные банки из ларька. Худые и малорослые заключенные начали предлагать свои услуги в качестве штанги — с ними делали рывки и толчки. И тюремное начальство, пожевывая вирджинский табак, удивленно наблюдало за этими сценами из классической Греции, где пастух-атлет, готовясь к Играм, носил теленка вокруг своего села. В конце концов «качалки» вернули. Заключенные южных штатов одержали неожиданную победу на чужом поле.
Мадонна и Содом
Эта женщина появлялась в комнате свиданий тюрьмы «Фишкилл» каждое воскресенье. Худенькая, невысокого роста, с довольно привлекательным южноевропейским лицом. На вид ей было не больше сорока. Приходила она одной из первых, около восьми утра, и Присаживалась за боковой столик. Она глядела на часы, потом, будто спохватившись, открывала портмоне и доставала пригоршню мелочи. Покупала два стаканчика растворимого кофе из автомата, возвращалась к столу, кивая и чуть улыбаясь надзирателям, которые все ей были давным-давно знакомы.
Потом она снова смотрела на часы и на дальнюю дверь, из которой вот-вот должен был появиться ее муж — высокий, мощного сложения сицилиец Де Филиппо. Сидел он уже восемнадцатый год. В 1979 году, совсем молодым, Де Филиппо совершил убийство и получил срок от 10 лет до пожизненного. При хорошем поведении он мог бы выйти на волю еще до своего 30-летия. Но в деле Де Филиппо стоял роковой штамп «ОС» — Organized Crime.[12] В 1989 году, по истечении минимального срока, он предстал перед комиссией по условнодосрочному освобождению и получил отказ. Он явился на комиссию через два года, еще через два, еще через два с тем же результатом. Самым мрачным в его положении было то, что теоретически его могли вообще никогда не освободить.
Все это время жена Де Филиппо, с которой он успел прожить на воле лишь пару лет, его ждала. Каждое воскресенье они пили вдвоем скверный кофе за боковым столиком комнаты свиданий — с трогательной торжественностью, будто получая проценты по отданным судьбе годам. Надзирателям, вероятно, была известна их история. Они выказывали благосклонность, не требуя от Де Филиппо строгого соблюдения тюремной инструкции, запрещающей на свиданиях «чрезмерно длительные поцелуи и объятия повышенной сексуальной напряженности».
Большинство заключенных могут лишь мечтать о такой преданности жен. Даже в Фишкиллской тюрьме, до которой из Манхэттена можно добраться за полтора часа, завидуют тем, кого жены или подруги навещают раз в два-три месяца. Особенно тяжело приходится неграм, у которых 80 процентов детей рождаются вне брака, а понятие супружеского долга развито слабо.
Когда подходит, наконец, день долгожданного свидания, заключенный начинает готовиться доскональным образом. Он непременно идет в парикмахерскую с заранее припасенной пачкой сигарет, которая будет обещана зеку-цирюльнику за старание. Форменные зеленые штаны будут выстираны и выглажены. Казенные ботинки из свиной кожи мажут гуталином и полируют до блеска. Тот, кто не имеет личных вещей, обязательно одолжит опрятную рубашку или свитер. Некоторые натираются ароматическими маслами, приобретенными в тюремной мечети. В назначенный день, уже полностью экипированный, арестант с раннего утра сидит в «комнате отдыха», поближе к посту надзирателя, дожидаясь, когда раздастся телефонный звонок с вахты: «Посетитель к такому-то!»
Неудивительно, что долгая разлука часто побуждает заключенных вести себя на свидании не вполне адекватно. Зная об этом, тюремные власти регламентируют форму одежды для посетителей женского пола. Так, юбка должна быть не выше колен, без каких-либо разрезов или вкраплений прозрачного материала. Запрещаются любые формы декольте. Нельзя носить чрезмерно обтягивающие платья или брюки, а также «неумеренно броскую одежду, оскорбляющую общественный вкус». Под последний пункт попала женщина, которая приехала навестить меня в вечернем платье от Кристиана Диора. Чтобы свидание разрешили, ей пришлось зайти в Первый попавшийся магазин рядом с тюрьмой, где она купила длинный сарафан в цветочек, наподобие тех, которые носили когда-то в российских деревнях.
Впрочем, заключенных, которые по характеру несдержанны, благоразумные уставы не останавливают. Один мой знакомый колумбиец пробрался в женский туалет вслед за собственной женой. Там надзиратели его и поймали in flagrante (на месте преступления. — лат.). Бедняга получил 6 месяцев карцера, а жене его было навсегда запрещено появляться в тюрьме. За попытку полового контакта на свидании тюремные власти карают не менее строго, чем за пронос алкоголя или наркотиков.
При большом наплыве визитеров уследить за всеми, конечно, непросто. Поэтому охрана также запрещает женщинам садиться к заключенным на колени, располагаться спиной к окружающим или приседать под стол. Некоторые все же отваживаются на это, так как риска здесь меньше и в случае чего можно придумать невинное объяснение. Унижения, конечно, все равно не избежать.
Если заключенный ведет себя примерно, ему могут разрешить посещение дома свиданий, или, по-здешнему, «трейлерный визит». Слово «трейлер» в данном случае не имеет ничего общего с дальнобойными грузовиками. Трейлер — это строение, напоминающее по антуражу средней руки мотель или передвижной дом, в котором живут некоторые американские семьи в провинции. Заключенный на двое суток остается там наедине с женой и обязан лишь несколько раз в сутки являться на пересчет.
Условия в трейлере на фоне тюремной обыденности просто райские. Две спальные комнаты с широкими удобными кроватями, торшерами и ночными столиками.

Ванная и туалет, поддерживаемые в чистоте, и некое подобие комбинированной кухни-гостиной, где установлены холодильник, газовая плита, цветной телевизор и кондиционер. В дом свиданий разрешено приносить домашнюю еду (в обычных тюремных передачах пропускают лишь герметические фабричные упаковки). Правда, иные попавшие в трейлер счастливчики уделяют еде лишь второстепенное значение, предпочитая за 48 часов отыграться, насколько возможно, за все долгие месяцы вынужденного воздержания. Один веселый пуэрториканец, возвратившись из трейлера в свой тюремный блок, первым делом закатал брюки и продемонстрировал своим изумленным корешам стертые до крови колени, недвусмысленно давая понять, что не потратил время даром.
Даже обычные свидания регулярно бывают лишь у немногих, а трейлерные визиты и вовсе считаются редкой удачей. Прежде всего, дома свиданий есть далеко не везде. В тюрьмах строгого режима, где сидят с большими сроками, трейлерные визиты предусмотрены всегда; на усиленном режиме они существуют лишь в нескольких местах; на обычном режиме их нет совсем. Даже если заключенный ведет себя безупречно, ему могут отказать в трейлерном визите из-за характера его преступления (например, убийство члена семьи, изнасилование) или из-за проблем психиатрического плана. Предусмотрительная система, однако, тоже дает проколы. В 1996 году в доме свиданий тюрьмы Элмайра какой-то заключенный, ранее к насилию не склонный, поскандалил с женой и заколол ее выданным под расписку кухонным ножом, после чего повесился в ванной на собственном ремне.
Многие заключенные не могут добиться трейлерного визита по заурядной причине: отсутствие официальной регистрации брака. Правила на этот счет очень жесткие и не делают исключений даже для тех, кто до ареста прожил многие годы в гражданском или церковном браке. Правда, тюремное ведомство позволяет заключенным оформить официальный брак в тюрьме, но это сложная и длительная бюрократическая процедура.
Есть, впрочем, способ обойти требование о законном браке. Дело в том, что тюремные власти допускают в дом свиданий не только жен, но и родителей, детей, братьев и сестер, и даже более дальних родственников. Факт родства должен быть подтвержден документально, но проверки далеко не всегда доскональны. Некоторым заключенным удается встретиться в трейлере со своей подругой под видом сестры или племянницы. Правда, способ этот небезопасен. Один грек, вернувшись из дома свиданий, имел неосторожность проболтаться тюремным знакомым, что навещавшая его тетя на самом деле была его незарегистрированной женой. И на следующий же день грек загремел на несколько месяцев в карцер, навсегда потеряв право на трейлерные визиты. Не помогло даже то, что фальшивую тетю сопровождал реальный дядя.
Некоторые заключенные, особенно с большими сроками, интересуются людьми своего пола. Подобные связи в абсолютном большинстве случаев добровольны. Изнасилования, которых более всего страшатся многие заключенные-новички, случаются в нью-йоркских тюрьмах чрезвычайно редко. Отчасти это объясняется жестким надзором охраны за повседневной жизнью зеков, но в еще большей степени — наличием в любой тюрьме пассивных педерастов.
Обычай «опускания» заключенных, серьезно нарушивших понятия или просто зарвавшихся, в нью-йоркских тюрьмах неизвестен. Возможно, потому, что здесь нет никакой общепризнанной воровской этики или уголовной иерархии. Понятия существуют в латиноамериканских бандах, но провинившихся там обычно режут, а не насилуют. Для разнообразия могут поломать пальцы или бросить на лицо лежащего металлическую тумбочку. Интересно, что в одной из нью-йоркских тюрем строгого режима, где сидело довольно много выходцев из СССР, устроено было опускание стукача-бакинца, но чисто символическое: прилюдно ударили по лицу грязным носком.
Пассивные гомосексуалисты в нью-йоркских тюрьмах не являются париями в полном смысле слова. Хотя многие заключенные считают ниже своего достоинства разговаривать с педерастами, но ими никто не помыкает и в открытую не оскорбляет. У большинства пассивных гомосексуалистов есть «мужья» и друзья «мужей», которые в случае неприятностей могут встать на их защиту. Мне приходилось слышать рассказы зеков о знаменитом побоище в тюрьме «Грин Хэйвен». Там довольно мощная и агрессивная негритянская группировка «пятипроцентников» была разгромлена превосходящими силами педерастов и их «мужей». Схватка, в которой несколько человек получили ножевые ранения, продолжалась на тюремном дворе около десяти минут и была остановлена только предупредительными выстрелами с вышки.
В обмен на защиту и покровительство педерасты проявляют чудеса изобретательности, чтобы ублажить своих избранников. Казенное нижнее белье с помощью фруктового сиропа перекрашивают из белого в розовый цвет. Из подручных материалов с большой нежностью и старанием шьются бюстгальтеры. По каким-то непонятным причинам тюремщики разрешают гомосексуалистам их носить, в то время как обычный зек может угодить в карцер за чересчур длинную бороду или самодельные манжеты на брюках. Гомосексуалисты также украшают свои койки рюшками и кружевами, хотя из-за присутствия охраны вынуждены искать уединения с «мужьями» в других местах — душевых кабинках или туалетах. Некоторые «мужья», впрочем, увлекаются настолько, что приползают к своим желанным посреди ночи, иногда через весь барак, скрытые от взглядов надзирателей перегородками спальных отсеков. Кроме сексуального влечения, зачастую имеет место и чисто человеческая привязанность. В одном (правда, все-таки уникальном) случае заключенный полюбил встреченного в тюрьме педераста настолько, что официально разошелся из-за него со своей женой.
Свидетелем любопытного инцидента я стал в тюрьме «Ривервью». Тюрьма эта находится близ города Огденсбурга, у самой границы с Канадой, и в январе 1996 года там стояли морозы, вполне сравнимые с московскими. Для большинства американцев (кроме разве что жителей Аляски) минус 15 по Цельсию — смерть, и заключенные просто перестали выходить на прогулки. Тюремный двор размером с футбольное поле был занесен снегом, и охрана даже не открывала его, зная, что все равно никто не придет.
Мне эта ситуация не понравилась, и я решил написать жалобу начальнику тюрьмы. Я почти не сомневался в бесплодности этой затеи, но через несколько дней по баракам неожиданно расклеили меморандум, подтверждающий, что двор должен быть открыт для прогулок в любое время года. Этим же вечером я оделся потеплее и в сопровождении двух недовольных надзирателей отправился гулять. Открывая замок на воротах двора, один из них пробурчал:
— Слушай, ты, сейчас восемь часов. По распорядку конец прогулки в десять. До десяти тебя в барак не впустим, чтобы знал.
А напарник его, немного подобрее с виду, добавил:
— Можешь сейчас вернуться, еще не поздно.
Я поблагодарил и отказался. Надзиратель пожал плечами, пропустил меня в обледенелые ворота и закрыл их. После этого охранники забрались в фанерную будку у входа, включили прожекторы и начали наблюдать за мной весьма скептически.
Пройдя лишь несколько шагов, я оказался по колено в сугробе. В ботинки сразу же набился снег, и я подумал даже, не зря ли я отказался от джентльменского предложения.
Но в воздухе была такая свежесть и так великолепно искрился освещенный юпитерами снежный наст, что я отбросил все мысли о капитуляции и принялся протаптывать дорожку.
К десяти вечера вдоль изгороди пролегла вполне приличная тропинка. Я начинал уже украдкой поглядывать на часы, когда наконец раздалось уставное скрежетание мегафона: «Двор закрыт, прогулка окончена. Всем построиться у ворот».
Надзиратель, вылезая из будки, только покачал головой. Другой, засовывая в карман колоду карт, осведомился:
— Это откуда ты такой взялся?
— Из России, — ответил я.
— Сибиряк, наверное. Как Иван Драга, — ухмыльнулся он и обратился к напарнику: — Завтра не забудь рефлектор притащить.
— Если этого завтра в психушку не отправят, — кивнул тот на меня и поежился.
Вернувшись в барак, я с удивлением заметил, что заключенные отшатываются от меня в ужасе, а грек Афанасиос, приблизившись, патетически закрыл руками глаза. Только подойдя к зеркалу, я обнаружил, что с бороды у меня свисали сосульки. Разумеется, после подобной картины никого из моих знакомых нельзя было даже и пытаться уговорить составить мне компанию на следующий вечер, и мне пришлось примириться с перспективой прогулок в одиночестве.
Дня через четыре мороз выдался особенно сильным. Выйдя на двор, я сразу же перешел на очень быструю ходьбу. Снег звонко хрустел под ногами, и на небе сверкали звезды, пробуждая в памяти стихи Заболоцкого про созвездья Магадана. Поглощенный созерцанием и сомнительными литературными аналогиями, я не сразу заметил, что этим вечером оказался во дворе не один.
Одного из гуляющих я узнал: это был молодой парнишка-доминиканец, недавно переведенный в наш барак. Сопровождал его белый зек, на вид немного постарше, пухлый, розовощекий и в фиолетовом шарфе. «Странно, что они вышли в такой мороз», — подумал я. Впрочем, не исключено было, что они условились встретиться по какому-то неотложному делу, возможно, связанному с торговлей наркотиками. Из любопытства я попытался прислушаться к их разговору, когда проходил мимо, но говорили они очень тихо, почти шепотом, друг другу в ухо. Шли они очень медленно, поминутно проваливаясь в сугробы: протоптанная мной дорожка Для двоих была слишком узка.

Ветер усиливался; вскоре колкая снежная пыль летела уже со всех сторон. Я подумал, что теперь, пожалуй, двор могут закрыть раньше времени из-за плохой видимости. Такое бывало и раньше — например, при сильном тумане. Видимость действительно становилась все хуже и хуже, вплоть до того, что я уже не различал вдали фигуры двух гуляющих зеков. Но, как часто бывает в тех местах, буран вдруг стал стихать так же внезапно, как и начался. Минуя надзирательскую будку, я оглянулся на ходу — и тут до меня стало доходить, что те двое потерялись из вида вовсе не из-за метели, а оттого, что они куда-то исчезли. Неужели побег? По льду в Канаду? Нет, это было маловероятно. Даже если бы им удалось преодолеть каким-то образом первое ограждение, в предзоннике их бы неизбежно засекли либо телекамеры, либо детекторы движения. Но что же еще? Не в воздухе же они растворились?
Я быстро догадался, в чем было дело. Посреди двора возвышался обрубок бетонной стены, длиной примерно в четыре метра. Летом там играли в игру, которую почему-то называли гандболом — что-то вроде тенниса об стенку с ладонями вместо ракеток. Стена эта была достаточно высока, чтобы загородить стоящих за ней и от надзирателей, и от меня.
Продолжая идти по периметру двора, я увидел, наконец, что же происходило за стенкой. Вначале я предположил, что замерзшие заключенные просто решили справить малую нужду: туалет на зиму был заколочен. По крайней мере, один из них, доминиканец, стоял в соответствующей позе. Но, приблизившись, я заметил и обладателя фиолетового шарфа. Он стоял на коленях в сугробе, вплотную к доминиканцу, и энергично работал.
Презревшие мороз герои-любовники мое присутствие, судя по всему, проигнорировали, а может, и не заметили. Я уже почти поравнялся со стенкой, как вдруг увидел, что с другого конца двора по снежной целине резво чапают оба надзирателя, очевидно, заподозрившие неладное. Предупредить педерастов я не успел бы, да не очень-то и хотел: ситуация была щекотливая. Мне ничего не оставалось, кроме как пройти мимо, делая вид, что продолжаю наслаждаться природой. Вскоре сзади послышались крики, ругань и какие-то возгласы по радии. Надзиратели повели схваченных гомосексуалистов в Управлении ворот.
По возвращении в барак я, к своему удивлению, обнаружил, что голубой доминиканец сидит на своей койке с сигаретой во рту. Карцер в Ривервью всегда был переполнен, и тюремщики, очевидно, решили ограничиться так называемой койко-рестрикцией: заключением провинившегося в своем же спальном отсеке с правом выходить только в столовую или в туалет. Увидев меня, доминиканец махнул рукой, подзывая к себе.
— Слушай, amigo,[13] — зашептал он, — я знаю, что ты был во дворе и все видел. Прошу тебя, не рассказывай никому, что случилось. Я не хочу, чтобы люди узнали, особенно наши».
— Ладно, — сказал я, — не волнуйся.
— Может, тебе что-нибудь надо, ну, там белье постирать?
— Иди ты на х… — неожиданно вырвалось у меня по-русски, но по-английски я добавил только: «Thank you, по». В американской тюрьме вежливость не западло.
Секс на нарах
В тюрьме «Фишкилл» я стал свидетелем совсем уже фантастического эпизода: гомосексуальной свадьбы. Однополые браки разрешены законом лишь в одном американском штате — Гавайи, и нью-йоркским педерастам пришлось довольствоваться неофициальной тюремной церемонией. Выглядело все это тем не менее сногсшибательно. Виновники торжества — негр-жених, одетый в желтое, и латиноамериканец-невеста в розовом трико в обтяжку — прошествовали через весь двор, окруженные плотным кольцом гостей. Известный на всю тюрьму гомосексуалист по прозвищу Зеленоглазый прочитал краткую напутственную речь, после чего молодых осыпали рисом, очевидно, заранее приобретенным в ларьке. Публичных поцелуев и объятий, конечно, не было: надзиратели тут же испортили бы праздник. Зато отыгрались на музыке. Петь во дворе правила не запрещают, и в течение почти двух часов гости-педерасты услаждали слух молодоженов негромким мелодичным пением довольно пошлых песенок на английском и испанском языках. К девяти вечера уже совсем стемнело. Жених и невеста сидели в уголке на скамейке, держась за руки, а чуть поодаль двое оставшихся певцов продолжали самозабвенно тянуть «Mi corazon».[14] Если бы не испанский, можно было представить, что эта сцена происходит под утро в какой-нибудь квартире на окраине Москвы: усталые и счастливые новобрачные глядят друг на друга с грустью и нежностью, гости уже разошлись либо кемарят на сдвинутых стульях, и лишь последняя пара бухих упоенно и печально выводит, обнявшись, старинный романс.
Как и на воле, идиллия зачастую длится недолго. В тюрьме «Ривервью» я знал постоянную пару, у которой «брачный союз» принял форму отношений проститутки и сутенера. Рослый и накачанный негр по кличке Дизель хладнокровно продавал своего пассивного партнера всем желающим по весьма низким ценам. Поразительно, но «избранница» Дизеля совершенно смирилась с необходимостью продавать себя за три пакета картофельных хлопьев, из которых ей доставался в лучшем случае один.

В Ривервью говорили, что Дизель инфицирован ВИЧ. Это вполне могло быть правдой. Тюремные власти не отделяют латентных носителей вируса СПИДа от общей массы заключенных. Этим объясняйся паранойя многих арестантов по поводу даже ничтожных порезов и царапин. Трудно сказать, каково число носителей вируса среди 72 тысяч клиентов исправительных учреждений штата. В отношении городских тюрем Нью-Йорка называлась цифра в 20–25 процентов.
Когда в апреле 1996 года я впервые увидел 4-этажный новый корпус Фишкиллской тюрьмы, то обратил внимание на странную надстройку наподобие пентхауза в манхэттенских элитных домах. От обычных жилых блоков ее отличала лоджия, забранная мелкой решеткой. От старожилов я узнал, что наверху находится специальный блок для больных СПИДом в последней стадии, когда их уже необходимо изолировать по медицинским причинам. Эти люди полностью лишены контакта с внешним миром. Из заключенных к ним имеют доступ только санитары, которым за дежурства в специальном блоке предоставляется право на отдельные камеры и некоторые другие льготы.
В принципе, уголовное законодательство штата Нью-Йорк предусматривает процедуру актировки неизлечимо больных заключенных. На практике же это делается лишь в единичных случаях. К тому же статья 259-R, в которой говорится об актировке, предписывает немедленное водворение обратно за решетку тех, кто стал выздоравливать.
Что же остается тем заключенным, которые не желают или брезгуют пользоваться услугами тюремных педерастов? Полное безразличие к вопросам пола выказывают лишь немногие, в основном пожилые или очень религиозные арестанты. Уделом большинства становится фантазия, объекты которой бывают подчас самыми неожиданными.
Еще в манхэттенской тюрьме «Томбс», а потом и на острове Райкерс меня удивляло, что там довольно много надзирателей-женщин, как правило молодых.
Тогда же мне довелось услышать первые тюремные истории, повествующие в цветах и красках об интимных связях этих женщин с заключенными. В принципе, это не казалось совсем уж невероятным: охранники городских тюрем Нью-Йорка вербуются из того же человеческого материала, что и их клиентура. Некоторые тюремщицы-негритянки знают своих «подопечных» с детства, когда они были соседями по какой-нибудь многоэтажке для малоимущих в Гарлеме или Северном Бруклине.
Несколько более сомнительными казались мне рассказы о надзирательницах, предлагавших себя за деньги. На остров Райкерс довольно легко проникала любая контрабанда, и некоторые «крутые» заключенные действительно держали в хитрых тайниках 50- и 100-долларовые купюры, а иногда даже золотые кольца и часы. Но с учетом относительно высоких зарплат городской тюремной охраны (50–60 тысяч долларов в год) маловероятно, чтобы какая-нибудь надзирательница решилась на такой опасный приработок. Скорее бы она занялась контрабандой наркотиков: на них наживалось довольно много надзирателей обоего пола. Правда, время от времени кого-то из них ловили. Так что истории о том, как «две мусорши-сучки», работавшие в ночную смену, пробирались втихую в камеры состоятельных арестантов, можно наверняка отнести к разряду небылиц.
Самое удивительное, что эти байки перекочевывают и в тюрьмы, подчиненные администрации штата. А там между надзирателями, выходцами из белых городков, и заключенными, в большинстве своем неграми и латиноамериканцами из нью-йоркских гетто, огромный культурный барьер, и ни о каких «неуставных» отношениях и речи быть не может. До некоторых зеков это не сразу доходит. Они околачиваются почем зря рядом с постом охраны, дожидаясь, когда заступит на дежурство приглянувшаяся им надзирательница. Хорошо еще, если эти незадачливые обожатели ограничиваются умильными взглядами или не в меру частыми вопросами о настроении и самочувствии, воспринимаемыми в США как формальность. Но иные горе-влюбленные незаметно для себя становятся чересчур назойливыми и потом долго удивляются, почему же их отправили в карцер и бьют там.
В тюрьме «Фишкилл» был случай, когда заключенный-психопат бросился на надзирательницу, проводившую ночной обход барака, и попытался ее изнасиловать. Все произошло настолько быстро, что женщина не успела даже «выдернуть чеку» — специальное кольцо надзирательской рации, с помощью которого вызывают подмогу. Психа стащили с нее сами зеки, опасаясь, очевидно, повального избиения всего блока тюремным спецназом или обвинений в соучастии. Кто-то, может, и о досрочном освобождении подумывал. Что стало с несчастным безумцем, я не знаю: вообще, за такое гарантирован новый срок, да еще и калекой могут оставить «в порядке самозащиты».
После этого инцидента в Фишкиллской тюрьме запретили показ видеофильмов с эротическими сценами. Реакция вполне типичная: точно так же из блоков убрали тостеры, после того как кто-то во время драки на кухне схватил тостер за шнур и начал им орудовать, как кистенем. У многих надзирательниц развилась паранойя: в самых невинных действиях заключенных они начали видеть сексуальную подоплеку и принимать карательные меры.
Моего знакомого грузина одна такая особа чуть было не отправила в карцер лишь за то, что он ночью в душном бараке сбросил во сне одеяло, открыв для обозрения свои расстегнутые подштанники. Хорошо еще, что за него заступился второй надзиратель, мужчина. Другому нашему соотечественнику, москвичу, повезло меньше: его на 30 дней лишили прогулок и ларька за то, что он в одних трусах поднялся с койки получить письма, которые в тот день разносила женщина. Один пуэрториканец попался на том, что за спиной тюремщицы сочно выразился на испанском по поводу ее прелестей. Оказалось, что надзирательница изучала в школе испанский язык и, видимо, знала достаточно, чтобы понять, что говорится и о каких частях тела.
Полагаться на языковый барьер вообще рискованно. В тюрьме строгого режима «Грин Хэйвен» двое русских арестантов озабоченно обсуждали в присутствии надзирательницы, как надежнее спрятать в подсобке для электриков только что с большим риском изготовленный самогонный аппарат. На следующее утро аппарат из подсобки исчез: тюремщица была польского происхождения и сразу смекнула, какую именно «машину» они имели в виду.
Женщины в нью-йоркских тюрьмах не обязательно носят серую надзирательскую форму. В тюремных коридорах часто можно встретить их в вольной одежде. Это административные работники, учительницы, продавщицы ларьков, медицинский персонал — «вольняшки». Каждую заключенные провожают долгими скоромными взглядами. Обмениваться комментариями начинают лишь после того, как объект их тайных вожделений отойдет на значительное расстояние. За непристойный возглас или откровенный жест в сторону тюремной сотрудницы наказывают еще суровее, чем за приставание к надзирательнице. Вероятно, тюремные власти опасаются, что оскорбленные и перепуганные «вольные» могут возбудить многомиллионный иск против департамента исправительных учреждений — за отсутствие бдительности в отношении сексуальных домогательств.
В жилом блоке «М» тюрьмы «Фишкилл» сидел заключенный-неф по фамилии Стюарт. Этот однофамилец шотландских королей некоторое время спал в соседнем с моим отсеке и доводил меня порой до умопомрачения ночными разговорами и пререканиями с самим собой. Конечно, не я один знал о его помешательстве: господин Стюарт еще любил разгуливать по умывальной комнате в чем мать родила, иногда для разнообразия надевая на руки белые носки. Для меня было загадкой, почему его не поместили в специальный психиатрический блок. Старожилы объясняли, что Стюарт каждую неделю посещал тюремного психиатра, пожилую женщину китайского происхождения. Китаянка прописывала ему лекарства и этим ограничивалась, очевидно, считая безумие Стюарта неопасным для окружающих. Жизнь, впрочем, скоро поставила все на свои места.
В один прекрасный день Стюарт явился на свой обычный психиатрический сеанс. После нескольких рутинных вопросов китаянка принялась делать какие-то записи в его медицинской карте и заполнять бланки необходимых рецептов. Поглощенная этим кропотливым трудом, психиатр и не заметила, как сидевший напротив пациент медленно расстегнул брюки и принялся мастурбировать, не сводя с нее глаз. Возможно, китаянка склонна была считать свой почтенный возраст надежной гарантией против каких-либо поползновений. В опрометчивости этого вывода ей пришлось убедиться, когда заключенный Стюарт, дождавшись кульминационного момента, встал во весь рост и вплотную приблизился к столу. Масштабы нанесенного ущерба точно неизвестны: по одним данным, пострадали лишь медицинские бумаги, по другим — незадачливая китаянка и сама попала в зону поражения. Так или иначе, из клиники Стюарт не вернулся. Я видел только, как два надзирателя быстро и ожесточенно побросали в мешок его барахло.
Конечно, далеко не все заключенные видят в вольной медработнице или учительнице лишь объект своего либидо. Многие арестанты годами не слышат ни единого слова жалости или участия, тяготятся постоянной необходимостью скрывать свою боль, чтобы не показаться слабыми. Такие люди готовы месяцами льстить и угождать даже самой невзрачной вольной женщине, лишь бы только получить в ответ ласковую улыбку или несколько сочувственных слов. В Фишкиллской тюрьме летом 1996 года преподавала арифметику молодая и довольно миловидная девушка, учительница из близлежащей средней школы. Она устроилась подрабатывать на время каникул и не привыкла еще относиться к ученикам-зекам с постоянным презрительным раздражением. В классе, где почти все были ее ровесниками, учительницу совершенно боготворили. В конце августа, вернувшись в свою школу, она прислала самому прилежному ученику и воздыхателю из зеков коротенькое дружелюбное письмецо. Адресат, вне себя от восторга, таскал его по всей зоне и демонстрировал друзьям и знакомым, бережно придерживая за краешек.
Многие одинокие арестанты мечтают завести роман по почте. С кем переписываться — вопрос не столь важный. Некоторые разыскивают адреса своих любовниц из прошлого или даже каких-то случайных знакомых. Другие обращаются за помощью к товарищам по заключению. Любое упоминание о жене или подруге во время коллективного тюремного трепа почти неизбежно влечет за собой чей-нибудь вопрос: — «А сестер у нее нету?» Предоставить приятелю адрес женщины на воле считается в нью-йоркских тюрьмах одним из самых больших одолжений. Разумеется, адреса дают только людям, в надежности которых нет сомнений, а в тюрьме такие встречаются не часто. Памятуя об этом, некоторые «гнилые» арестанты прибегают к недозволенным приемам: подсматривают обратный адрес на чьем-нибудь конверте или пытаются сунуть записочку в комнате свиданий. Такие дела чреваты очень серьезными последствиями. Одному армянину, который всего лишь подмигнул в комнате свиданий сестре какого-то доминиканца, едва удалось успокоить разбушевавшегося блюстителя семейной чести.
Некоторые заключенные публикуют объявления в газетах, в разделе «Знакомства». Этод метод иногда бывает очень успешным. Женщины, романтически настроенные, жалостливые или просто одинокие, могут охотно начать ни к чему не обязывающий роман на расстоянии. Конечно, многое зависит от того, как объявление составлено. Саша, мой приятель из Риги, отбывавший небольшой срок, напечатал такой текст в эмигрантской газете «Курьер»: «Молодой парень, скоро будет 24. Практически один в этой стране, находится в местах лишения свободы. Хочу найти друзей, способных поддержать в тяжелую минуту».
Урожай выдался неплохим: четыре письма в первую же неделю. Откликнулась женщина 45 лет, недавно приехавшая в США, одинокая и сочувствующая Сашиному горю. Второе письмо также содержало слова утешения: его прислал пожилой мужчина, прихожанин нью-йоркской православной церкви, обещавший молиться за Сашино скорейшее освобождение. Третье письмо было очень игривое, от девушки, живо интересовавшейся, что Саша любит носить, на чем ездить и где отдыхать. Мадемуазель, судя по всему решила, что ей улыбнулось весьма перспективное знакомство с крутым авторитетом.
Одновременно с ее посланием пришел конверт, в который была вложена лаконичная записка: «Я тоже из бригады. Держись, браток!» — и квитанция денежного перевода на 50 долларов. Очевидно, это был уже настоящий «крутой». Возможно, имело бы смысл переслать письмо № 3 отправителю письма № 4, но он, к сожалению, не оставил обратного адреса.
Четыре письма, конечно, далеко не рекорд. Сашино объявление все-таки было достаточно сдержанным. Я знал негра, не пожалевшего денег на 20-строчную клюкву о нежном сердце, благородных устремлениях и вечной любви, которая была напечатана в известном еженедельнике для любителей рэпа. На объявление откликнулись полторы дюжины женщин, многие из которых свои письма надушили, напомадили и разукрасили сердечками. Вместе с разномастными негритянками неожиданно отозвалась одна 17-летняя чешка, очевидно, тоже любительница рэпа. Она жаловалась тюремному адресату на свою скучную и беспросветную жизнь в чикагском жилом комплексе для пенсионеров, где она оказалась вместе со своей бабушкой.

Автор столь успешного объявления вообще был довольно любопытным типом. Джеймс Вильямс, уроженец Багамских островов, отбывал свой третий или четвертый срок за вооруженное ограбление. Внешность у него была совсем не преступная: низенький, кругленький, с постоянно растянутым в улыбке пухлым ртом и маленькими ушками, по форме напоминавшими вареники. Вильямсу, судя по всему, надоело постоянно сидеть в тюрьме, и он решил переквалифицироваться в легального бизнесмена. Так как когда-то он работал помощником швейцара, то без лишних колебаний избрал карьеру могущественного риэлтора. Действовал он очень решительно. Первым шагом мистера Вильямса стало обращение в иудаизм — религию, призванную облегчить ему будущее вхождение в круг гигантов нью-йоркской торговли недвижимостью — Рудиных и Мильштейнов.
Вторым шагом предполагался альянс с состоятельной женщиной, которая стала бы по выходе Вильямса из тюрьмы источником первоначального капитала. Для этого и был затеян проект с объявлением в разделе «Знакомства». Вильямс с гордостью демонстрировал мне аккуратно расчерченный лист, где в графе «Дебет» была указана стоимость объявления, конвертов и почтовых марок, а в графе «Кредит» должны были вскоре появиться суммы денежных переводов и долларовые эквиваленты продуктов, одежды и обуви, которыми снабдят его наивные искательницы нежного сердца за тюремной решеткой. Я с содроганием подумал об участи, уготованной бедной чешке и ее чикагской бабушке.
Однако устремлениям мистера Вильямса не суждено было сбыться. Как выразился бы в этом случае Солженицын, «бодливой корове Бог рогов не дает». Возможно, отвечая на письма, Джеймс не сумел скрыть свои истинные намерения, а может, сработало некое женское «шестое чувство». Корреспондентки мистера Вильямса продолжали переписку, но как-то не спешили с посылками и денежными дотациями. Ему приходилось нести расходы на почтовые марки совершенно без всякой отдачи. Предприятие оказалось убыточным. В отчаянии он разослал всем корреспонденткам просьбы предоставить ему свои фотографии в обнаженном виде — не знаю уж, для личного пользования или для продажи на зоне. От двух или трех негритянок без комплексов он и вправду получил эти поощрительные призы, но другие женщины, в том числе и чешка, шокированные подобным оборотом, писать вообще перестали.
Зачатие на почте
Нью-йоркские тюремные власти, в принципе, не запрещают заключенным получать с воли эротические материалы. На журналы типа «Плейбоя» и «Пентхауза», которые считаются «мягким» порно, можно даже оформить подписку. «Жесткое» порно обычно отправляют в цензуру. Любопытно, что цензорами подобного рода продукции и в Ривервью, и в Фишкиллской тюрьме были католический дьякон и раввин. Злые языки утверждали, что некоторые особенно пикантные издания бесследно исчезали в цензуре, пополняя, очевидно, частные собрания священнослужителей. О достоверности этих слухов судить не берусь.
Тюремная цензура иногда «заворачивает» не только порнографию, но и другие подозрительные изделия. Разумеется, не пропускают в тюрьму монографии по изготовлению взрывчатых веществ, строительству тоннелей и производству алкогольных напитков. При этом в тюремной библиотеке Ривервью я однажды наткнулся на изданный в Англии «Иллюстрированный атлас вин». Некоторые радикальные политические издания тоже отбраковывают. В Ривервью я знал ирландца, который чуть ли не через суд отвоевал у администрации право получать по подписке бюллетень партии «Шинн Фейн», связанной с Ирландской республиканской армией. Существует странный запрет на литературу по черной магии и практическому колдовству. Как говорили когда-то советские диссиденты, прибегая к цензуре, власть косвенно признает свою идеологическую уязвимость.

Проявляя либеральность в отношении эротических изданий, тюремщики, очевидно, исходят из того, что заключенным надо хотя бы каким-то образом сексуально разряжаться. Тем более что бром в нью-йоркских тюрьмах вроде бы в пищу не подмешивают. Чуть не каждый вечер какой-нибудь арестант завешивает простынкой туалетную кабинку и уединяется там с пачкой затрепанных «Плейбоев». Во многих блоках существуют своего рода неформальные клубы любителей эротического чтения, где происходят обмен материалами, продажа и покупка редких и ценных экземпляров, а иногда и совместный просмотр новинок с живым обсуждением их достоинств и недостатков.
Вообще, американские заключенные относятся к сексуальным изданиям с большим пиететом: на тюремном жаргоне их именуют «books», то есть не журналы, а именно книги. Поначалу меня это забавляло, особенно в устах тех зеков, которые никаких книг (в обычном значении) не читают.
В тюрьме «Ривервью» был один пуэрториканец, сидевший за очередную кражу со взломом. Взломщик он был высокой квалификации: спускался, используя альпинистское снаряжение, с крыш многоэтажных домов в окна или на балконы богатых квартир. Этот альпинист Держал потрясающую коллекцию эротических журналов: цветных, черно-белых, американских, английских, немецких, с белыми, азиатскими, негритянскими женщинами во всех возможных ракурсах. Коллекция занимала две объемистые картонные коробки и привлекала многих экспертов и просто любителей.
Пуэрториканец своими сокровищами очень гордился и охотно их демонстрировал. Иногда к нему в отсек приходили даже надзиратели, многие из которых в своей глухомани никогда с подобным ассортиментом не сталкивались. Кроме журналов у него было также внушительное собрание футболок и носовых платков, разрисованных тюремными художниками по приемлемым расценкам. За две-три пачки сигарет изображался один из стандартных сюжетов, наиболее популярным из которых были мужчина и женщина, совершающие половой акт внутри гигантского бокала для шампанского. Иногда у какого-нибудь рисовальщика появлялась оригинальная идея: например, кукла Барби, стаскивающая штанишки с Микки-Мауса. Всю новую продукцию обычно первым делом показывали пуэрториканцу-коллекционеру, которого сосед по бараку, поднаторевший в испанском армянин Менукян именовал «Дон Дрочила».
Хотя большинство заключенных время от времени занимаются мастурбацией, к тем, кто делает это слишком часто и слишком явно, относятся с брезгливостью. Несколько таких типов было в Уотертаунской тюрьме, где администрация расщедрилась на кабельное телевидение, довольно часто демонстрирующее эротические фильмы. Одного беднягу просто выгнали с просмотра за непристойное поведение на глазах у публики. Постоянной мишенью для острот был почтенного возраста кубинец, который любил пробираться к телевизору рано поутру и мастурбировать на аэробику. Впрочем, после 16 лет за решеткой и не такое может взбрести на ум.
Там же, в Уотертауне, сидел один вечно немытый и расхристанный негр по фамилии Чемпион, придурок, которого даже арестанты его расы избегали. За глаза, а иногда и в открытую его называли «crackhead» — слово это означает человека, вконец опустившегося от постоянного курения крэка, низкопробной и токсичной разновидности кокаина. Отличительной особенностью этого типа наркоманов считается постоянное попрошайничество по мелочи. На воле, наклянчив медяков, дозу крэка может приобрести любой бомж. В справедливости этой оценки я убедился на собственном опыте. Стоило мне однажды угостить Чемпиона сигаретой, как он начал подкатывать ко мне по нескольку раз на дню, пока мое терпение не лопнуло, и мне пришлось довольно грубо отказать ему в подачках.
Однажды вечером я курил у себя на койке, листая старый номер журнала «Тайм». В какой-то момент мне послышалось не то покашливание, не то мычание. Я взглянул: у моей койки в просительной позе стоял Чемпион.
— Я же сказал: ничего больше не получишь.
— Да нет, что ты, что ты! Мне курить не надо, спасибо, у меня есть курить. Мне бы вот только две марочки на конверт… Да нет, я не за так хочу, я тебе книжку принес — я знаю, ты читать любишь.
Я взглянул на обложку — оказалось, что это Фукидид, «История Пелопоннесской войны». Переплет был казенный.
— Ты что, из библиотеки ее утащил?
— Нет, нет, то есть ты не волнуйся, я страницу со штампом вырвал, видишь, я же не хочу, чтоб у моих друзей были неприятности.
Никакого приличного чтива у меня в тот вечер не было, и я нехотя взял книгу. Заслонив собой тумбочку, я набрал код своего замка, открыл дверцу и достал две марки, которые он тут же с жадностью схватил.
— Спасибо тебе, Россия, спасибо, — забормотал опять Чемпион, — ты понимаешь, мне же для важного, для важного дела: я ребеночка, беби завести хочу.
Я особенно не вслушивался, думая, что эта личность ищет только предлога стрельнуть сигарету. Но Чемпион шакалить не стал и ретировался, продолжая на ходу что-то говорить.
В 10.30 вечера в бараках Уотертауна погасили свет. Стихли крики и гоготание, и в тусклом свечении синих ночных лампочек, словно по коридору плацкартного вагона, лишь изредка проплывали между койками силуэты тех, кто еще не спал. В одном из этих фантомов я узнал Стивена Когана: его гигантская фигура была заметна еще издали. У нью-йоркского еврея Когана были российские корни. Он утверждал, что один из его предков благодаря росту был зачислен в Преображенский полк, оказавшись едва ли не единственным гвардейцем иудейской веры. Самого Когана взяли на нелегальной торговле оружием. При этом полицейский спецназовец, пытавшийся отключить его ударом кулака в живот, сломал себе руку: на Когане оказался бронежилет. Когану впаяли еще и за нанесение увечья полицейскому, и он чудом отделался сроком в четыре года. Защищал его адвокат Барри Злотник, который впоследствии представлял и Вячеслава Иванькова (Япончика).
В Уотертауне Когану не повезло: его соседом снизу оказался не кто иной, как нарком Чемпион. Коган постоянно по этому поводу бранился, но сделать ничего не мог: в нью-йоркских тюрьмах охрана, а не заключенные, решает, кому где спать.
— Ты представляешь, что этот павиан сегодня выкинул?. - начал Коган горячим шепотом. — Ты ведь ему марки продал, да?

— Да, а что он с ними сделал?
— Сейчас узнаешь. Я лежу у себя на втором ярусе, слушаю плейер, расслабляюсь. И тут смотрю, он достает фотку жены, кусок целлофана какого-то и скачет в нужник.
— Так у него жена есть?
— Да, жена не жена, сучка какая-то, он мне уже сто раз ее фото совал. По виду похоже, что тоже с крэка не слезает, — худая как жердь, под глазами круги, двух зубов нету. Но пишет ему часто. Ну так слушай. Минут через пять этот поц возвращается со своим целлофаном, заворачивает его в бумагу, кладет в конверт и адрес пишет.

— А что в целлофане-то было?
— Я сам, дурак, спросил от нечего делать… Лучше бы не спрашивал, теперь всю ночь на блевоту тянуть будет. Он, оказывается, надрочил в целлофан и теперь это дело жене отправляет! Ну представь себе, а? Говорит, написал ей, что ребенка от нее хочет, а трейлеров в этой зоне нету. Вот и придумал выход из положения.
— Ты ему скажи, чтобы экспресс-почтой послал, — засмеялся я.
— Тебе шутки, а я, между прочим, с ним должен почти что в одной кровати спать, — буркнул Коган. — Дожил, называется… То ли дело на Райкерсе: сидишь в одиночке, как король.
Спустя три недели я вернулся из столовой в сильном раздражении. В Уотертаунской тюрьме было много чаек, и я иногда бросал им остатки хлеба. В этот раз меня засек надзиратель, не преминувший вручить мне «ticket» — штрафную квитанцию. Оказалось, что я нарушил режим сразу по двум пунктам, совершив «мусорение» (в прямом смысле) и «разбазаривание государственной пищи». Мне предстоял вызов к сержанту и, по мнению знающих зеков, наряд по очистке стен бараков от птичьего помета.
Я и не заметил, как передо мной возник Чемпион. Он был вне себя от радости, смеялся как ребенок и чуть не бросился меня обнимать.
— Получилось, сработало! Никто не верил, а теперь вот — нате, посмотрите! Письмо только что от жены пришло, поздравляет меня, пишет, что забеременела. К лету будет у нас беби! Вон как, и без меня, то есть без трейлера, обошлось!
Вокруг Чемпиона собралось еще несколько заключенных, которым он, путаясь и размахивая руками, продолжал выкрикивать свою историю. Но арестанты лишь угрюмо молчали, может быть, жалея придурка, а может, вспоминая обо всех тех женщинах, которые в это самое время обходятся без них.
Глава 3
СТАТУЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Клуб иностранных арестантов
Когда я очутился за решеткой, некоторые наивные знакомые на воле начали интересоваться: действительно ли в США существуют тюрьмы «только для белых» и не могу ли я отбывать свой срок именно там? На самом деле таких тюрем в Америке нет уже очень давно, да и в прошлом они были сосредоточены преимущественно на Юге. Я же оказался узником штата Нью-Йорк, где никогда не практиковалась сегрегация.
В Фишкиллской тюрьме мне пришлось прожить около полугода в одной камере с тремя неграми. Вначале соседи мне не понравились, и первые дни я старался быть с ними настороже. Со временем, однако, мы друг с другом свыклись и жили вполне мирно, даже по-приятельски. В нью-йоркских тюрьмах я не встречал сколько-нибудь серьезной расовой вражды. Хотя здесь есть подпольные организации белых и черных расистов («арийские братья», «пятипроцентники»), они редко прибегают к практическим действиям и больше напоминают клубы по интересам. Если на острове Райкерс существовали хотя бы раздельные телефонные аппараты (один для негров, один для всех остальных), то в тюрьмах штата Нью-Йорк нет даже и этого. Заключенные всех цветов кожи пользуются здесь одними и теми же телефонами, электроплитками, душевыми кабинками.
Единственное, что редко здесь бывает, — дружба между арестантами разных рас. Такова уж человеческая натура: на тюремном дворе белые, чернокожие, латиноамериканцы и китайцы прогуливаются, как правило, отдельно. Правда, группы в любом случае небольшие — тюремные правила запрещают более чем шести заключенным собираться вместе. Администрация считает, что этим предотвращается возникновение банд.
Особый «клуб общения» составляют иностранцы. В нью-йоркских тюрьмах сидят много иммигрантов, беженцев и туристов. Иногда между ними завязывается самая неожиданная дружба. В той же Фишкиллской тюрьме совершали вместе ежевечерний моцион израильтянин Давид (участник войны 1973 года), палестинский араб Абдунасер (член боевой организации ООП) и иракский ассириец Амижан (боровшийся когда-то против Саддама Хусейна). Беседовали они, разумеется, по-английски. Политические их разногласия, возможно, сглаживались тем, что в тюрьме все трое оказались по житейским делам: израильтянин попался с крупной партией героина, палестинец похитил ради выкупа иорданского бизнесмена, а ассириец застрелил собственного шурина.
Израильтянин сидел уже не в первый раз. У себя на родине, еще в молодые годы, он отбыл восемь лет за ограбление банка. После освобождения Давид решил заняться более стабильным бизнесом и переселился во францию. Его компаньонами были знаменитые братья Заморы — алжирские евреи, контролировавшие в начале 1980-х годов парижский рынок наркотиков. Со временем с ними начала конкурировать мощная итальянская группировка из Марселя, и по прошествии нескольких лет из пятерых братьев остался в живых один. Давид со своей израильской бригадой оказался внутри быстро сжимающегося кольца. Им удалось скрыться в Швейцарии, но там подозрительная группа израильтян быстро попала в поле зрения полиции. Давид отсидел три месяца в женевской тюрьме, о которой у него сохранились теплые воспоминания: телевизоры в камерах, заказ продуктов в супермаркете вместо ларька и охрана, обращавшаяся к зеку не иначе, как «monsieur».
Так как улик против Давида было недостаточно, власти ограничились его депортацией в Израиль. Там он, устав от бурной жизни, на некоторое время осел. Он женился, купил дом и открыл кафе в старом квартале Яффо — скорее, что-то вроде чайханы, где окрестные жители, в большинстве своем евреи с Востока, могли играть в нарды и курить гашиш. Но через пару лет Давид поддался на уговоры старых друзей-бизнесменов, которые собрались в Америку разрабатывать новые рынки сбыта. С обстоятельностью семейного человека он взял с собой жену и маленькую дочь, но его деловой проект оказался весьма неосмотрительным. Давид уже давно числился в списках Интерпола, и ФБР установило за ним слежку с момента прибытия в международный аэропорт Кеннеди. Всю группу взяли с товаром на квартире в Бруклине, а для верности присовокупили к делу еще и покушение на жизнь агентов ФБР, так как у Давида в руках оказалось помповое ружьишко.
Нанятый за большие деньги адвокат счел положение израильтян очень неприятным: им грозили огромные федеральные сроки без права досрочного освобождения. Давида спасло то, что адвокату удалось добиться выделения его дела в отдельное производство под юрисдикцией штата Нью-Йорк. Свою удачу — десятилетний срок — Давид объяснял действием магического амулета, подаренного ему в свое время высокочтимым марокканским раввином Кадури. Израильтянин был очень искренне верующим человеком.
Абдунасер прибыл в Фишкиллскую тюрьму с огромным мешком мусульманских книг и палестинским флагом, нарисованным на простыне (флаг, правда, отобрали во время обыска). Он сделался завсегдатаем тюремной мечети. Его приняли как подарок судьбы: американские мусульмане-негры в большинстве своем знают по-арабски только «Салям алейкум» и об исламском богослужении имеют примерно такое же представление.
Однажды утром, когда я в довольно унылом настроении шел в лазарет с больным зубом, выбежавший из-за угла палестинец чуть не сбил меня с ног. Он тут же бросился обниматься, хотя мы с ним тогда были едва знакомы. Сияющий Абдунасер потрусил дальше, по направлению к мечети, а я продолжил свой путь, несколько удивленный его неумеренным восторгом. Когда я вернулся из клиники, по телевизору в жилом блоке передавали повтор последних известий: из израильской тюрьмы только что был освобожден духовный лидер «Хамаса» шейх Ахмед Яссин. Абдунасер, вероятно, смотрел утренний выпуск.
Поначалу я думал, что Абдунасер оказался в Америке по каким-то политическим делам. Познакомившись с ним поближе, я узнал, что это совсем не так. Брат его еще в 80-х годах обосновался в Нью-Йорке и открыл небольшую компанию по перевозке мебели. Абдунасер сидел без работы в своем бедном городе Рамалла на Западном берегу и давно мечтал присоединиться к брату. Но перед ним стояло непреодолимое препятствие: получение американской въездной визы. Проблема заключалась в том, что Абдунасер участвовал в интифаде и получил в результате судимость. Поскольку израильские власти не могли лишить бывших мятежников права выезжать за границу (все-таки демократия), они придумали довольно остроумное решение этого вопроса: всем осужденным по таким делам выдавать загранпаспорт особого формата и цвета — своего рода «удостоверение террориста».
Разумеется, что с таким паспортом Абдунасеру можно было в американском посольстве и не появляться. Поразмыслив, он одолжил у родственников 3 тысячи долларов и отнес их какому-то местному каллиграфу, который нарисовал в его злополучном, паспорте американскую визу. Абдунасер со спокойной душой купил билет и вылетел в Нью-Йорк. На пропускном пункте аэропорта Кеннеди над ним долго смеялись, потом показали ему, как выглядит настоящая виза, сняли отпечатки пальцев и посадили на первый же обратный рейс авиакомпании «Эль-Аль».
Абдунасер, впрочем, обладал завидным упрямством (израильтянин Давид, конечно, уверял, что это качество всех палестинских арабов). Через пару месяцев ему удалось получить за взятку въездную визу Панамы — на этот раз подлинную. Он снова пересек Атлантический океан и очутился в аэропорту Панама-Сити. Из вещей у него был только небольшой саквояж, а испанского языка он не знал совсем. Тем не менее Абдунасеру удалось на ломаном английском объяснить местному полицейскому, что ему надо попасть на автобусную станцию. Сердобольный панамец лично посадил бывшего палестинского террориста в автобус, уходящий в направлении границы с Коста-Рикой. Там Абдунасеру пришлось воспользоваться местным рейсом, который по каким-то горным дорогам, в обход паспортного контроля, доставил его на ту сторону границы. Дальше был уже костариканский автобус, в котором Абдунасер, окруженный крестьянами-метисами, а также их курами и свиньями, проклиная все на свете, трясся целые сутки по пути в Никарагуа.
Потеряв уже счет центральноамериканским колымагам, преодолев четыре государственные границы, Абдунасер оказался в конце концов в Мексике. Еще в дороге он подхватил ветряную оспу и вынужден был проваляться две недели в душном и грязном номере дешевой гостиницы в Гвадалахаре, вероятно, призывая на помощь Аллаха. На последние деньги Абдунасер позвонил в Нью-Йорк, где брат ожидал от него вестей. Но попал он не на брата, а на диспетчера компании, тоже араба, который не понял, где именно Абдунасер находится. Когда брат Абдунасе-ра появился в офисе, диспетчер, смущаясь, сказал ему: «Ваш брат просил передать, что он сидит в большой ж…». (Таково значение слова «Гвадалахара» по-арабски.) Брат в конце концов догадался, о чем идет речь, и послал в Гвадалахару денежный перевод до востребования, но Абдунасера там уже не было. Случайно повстречавшийся ему в городе египтянин познакомил его с мексиканскими проводниками, обещавшими за 5 тысяч долларов доставить его в Лос-Анджелес. Вперед потребовали 2 тысячи, которые Абдунасер одолжил у египтянина, торжественно поклявшись вернуть долг. Про другие три тысячи палестинец предпочитал не думать.

До Тихуаны Абдунасер ехал в кузове грузовика, вдыхая мексиканскую пыль в обществе египтянина и еще нескольких искателей счастья из разных латиноамериканских стран. Наконец наступила долгожданная минута: взгляду путешественников открылась возвышенность, на которой начинались южные предместья Сан-Диего. От заветной цели их отделяла проволочная изгородь, возведенная Иммиграционной службой США на границе. Ее предстояло преодолеть на рассвете. Абдунасер и его спутники провели беспокойную ночь в какой-то хижине, дожидаясь контрабандистов, отправившихся на поиски хорошей дырки.
Первая попытка была неудачной: едва перейдя на американскую сторону, группа наткнулась на пограничный патруль. Все стремглав понеслись обратно, юркая один за другим в отверстие забора, как мыши в нору. Египтянин и палестинец продолжили бегство в глубь мексиканской территории, что вызвало у проводников приступ буйного хохота: они-то знали, что агенты Иммиграционной службы США не имеют права преследовать беглецов за границей. Для пущей убедительности они постояли несколько минут около изгороди, обмениваясь с американцами изощренной руганью.
Второй раз границу перешли благополучно. Дальше проводники должны были в условленном месте передать иммигрантов своим коллегам, которым предстояло довести их до Лос-Анджелеса. Им по-прежнему угрожала опасность, так как патрули Иммиграционной службы расставлены на всех крупных магистралях Южной Калифорнии.
«Сменщики» оказались американо-мексиканскими бандитами самой мрачной наружности. Абдунасера без лишних объяснений положили в багажник старого «понтиака» и втиснули сверху еще двух малорослых перуанских индейцев. Египтянина, двоих эквадорцев и одного колумбийца проводники разместили на заднем сиденье, сами уселись спереди — и тяжело нагруженная машина покатила кружным путем в «город ангелов», быстро нагреваясь на июльской жаре.
Примерно через полтора часа до слуха контрабандистов донесся глухой стук из багажника и сдавленные крики: «Uno muerto! Onе dead!»[15] Некоторое время они не реагировали, но в конце концов все-таки остановили машину и вынули из-под индейцев бледно-зеленого Абдунасера, который действительно чуть не умер от духоты. Абдунасер думал, что его через пару минут засунут обратно, но мексиканцы, сжалившись, дали ему место в салоне. В багажник отправили одного из эквадорцев, который перенес это совершенно стоически.
Уже ночью машина остановилась у какого-то склада на окраине Лос-Анджелеса. Иммигрантов завели внутрь. Двое индейцев, как оказалось, за время пути тихо сомлели, и контрабандистам пришлось с руганью обливать их холодной водой из шланга. Абдунасер, набравшись храбрости, сообщил мексиканцам, что денег у него при себе нет, и попросил, чтобы ему дали позвонить знакомым арабам в городе. Контрабандисты, посовещавшись, принесли ему сотовый телефон и сказали, чтобы к 8 часам утра человек с деньгами приехал на близлежащую бензоколонку «Тексако». Абдунасер эту бензоколонку запомнил и решил сыграть ва-банк. Дозвонившись до своих знакомых, он как можно более кратко описал им ситуацию (разумеется, по-арабски) и попросил приехать к четырем часам утра, без денег, но по возможности с оружием. Уже через минуту Абдунасер начал сомневаться в правильности своего поступка. Мексиканцы отвели его в дальний угол склада и приказали лежать тихо до утра, а сами уселись сторожить. На всякий случай с палестинца сняли обувь, а также продемонстрировали ему два огромных мачете. Абдунасер, как уроженец Ближнего Востока, попытался было похвалить качество их клинков, но мексиканцы посмотрели на него очень мрачно и сказали только: «No dinero — uno muerto»[16] Эти слова Абдунасер уже знал.
В итоге расчет Абдунасера все же оказался верным: утомленные долгой дорогой, мексиканцы постепенно начали засыпать. Возможно, они просто его недооценили. К четырем часам утра контрабандисты уже развалились на стульях и громко сопели. Словно Багдадский вор из сказок Шехерезады, Абдунасер босиком прокрался мимо стражи, выскользнул в открытое окно и что есть силы помчался к бензоколонке. «Лэнд-ровер» с тремя нервными арабами дожидался его в предрассветной мгле. Абдунасер распахнул дверь, прыгнул внутрь, и машина рванулась с места, хотя никакой погони не было.
Через несколько часов палестинец, которого друзья снабдили деньгами и парой обуви, сидел на борту авиалайнера Лос-Анджелес — Нью-Йорк. На внутренних линиях США паспорт не требуется, и волноваться Абдунасеру было не о чем. В Нью-Йорке его встретил брат, Абдунасер начал подрабатывать в его офисе, и новые впечатления постепенно стали вытеснять воспоминания о латиноамериканских кошмарах.
Но однажды на пороге конторы появился египтянин, у которого Абдунасер одолжил 2 тысячи в Гвадалахаре. Абдунасер как честный мусульманин слово свое сдержал: он, собственно, и оставил египтянину еще в Мексике адрес компании, а по прилете в Нью-Йорк первым делом занял у брата необходимые деньги. Абдунасер, однако, не мог не заметить разительной перемены в наружности египтянина: лицо его пересекал широкий свежий шрам. Как оказалось, мексиканцы, взбешенные исчезновением Абдунасера, а вдобавок еще и обоих индейцев, набросились на египтянина, отобрали у него все деньги, а в довершение всего и вправду его порезали. Египтянин теперь явился за компенсацией: он требовал, помимо долга, те сэкономленные Абдунасером три тысячи, которые мексиканцы вытрясли из него. Вопреки совету более прагматичного брата Абдунасер повел египтянина к мулле. Нью-йоркский мулла, выслушав обе стороны, объявил, что Абдунасер по справедливости должен компенсировать египтянину не только все пять тысяч, но и его собственные деньги, оставшиеся в карманах мексиканских бандитов. Обескураженный палестинец пытался торговаться, но мулла был неумолим.
Конечно, брат Абдунасера мог заплатить и эти деньги, но ситуация получилась странная: Абдунасер приехал в Америку, чтобы заработать, а в результате только влез в долги. Брат уже начал на него косо посматривать. Откуда было взять деньги? В конторе Абдунасер получал не больше тысячи в месяц. И тут в голове палестинца все более настойчиво стал возникать образ иорданского торговца, хозяина магазина ковров на Пятой авеню, который несколько раз заказывал у них грузовой фургон. Когда иорданец снова появился в офисе — договариваться о доставке ковров с пригородной базы — и заявил, что сам поедет вместе с грузчиками, Абдунасер не смог устоять. Иорданцу пришлось провести неприятные сутки в подвале, а Абдунасер и сообщник-шофер, которых полиция быстро вычислила, загремели на скамью подсудимых. Оба получили по девять лет. Роковой мулла, из-за которого Абдунасер был вынужден рухнуть в объятия уголовной преступности, в качестве утешения присылал ему мусульманские книги по шариату, суфизму и джихаду. Они и составили ту солидную коллекцию, которую я видел у палестинца в Фишкиллской тюрьме.
Гастролер и «белое золото»
Ассириец Амижан очень обижался, когда его принимали за араба. Я был одним из немногих заключенных Фишкиллской тюрьмы, который знал о существовании его нации. В Москве ассирийцев можно было встретить в самых разных сферах: от сапожных будок до Нового дворянского собрания. В Америке также есть община ассирийцев, хотя большинство их до сих пор живет в Ираке.
У них существуют собственное летосчисление (от сотворения мира), свой алфавит (сходный с арамейским) и своя церковь. Амижан как-то раз одолжил мне кассету с ассирийскими песнями, выпущенную на средства одного ресторатора из Лос-Анджелеса. Добрая половина посвящена была борцам с иракским режимом, который в последние десятилетия преследовал ассирийцев немилосердно, вплоть до закрытия их школ и газет. Связь самого Амижана с ассирийским сопротивлением заключалась в дезертирстве из иракской армии, которое и привело его в конце концов в США.
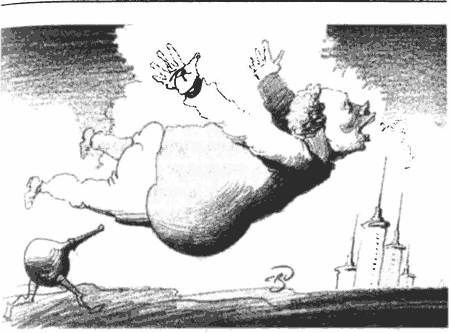
В Нью-Йорке он стал таксистом, купил со временем собственный «медальон» и жил вполне благополучно, пока не случилась трагическая семейная ссора. После горячего спора между Амижаном и его женой, с некоторой долей рукоприкладства, к ним домой приехали на разборку несколько жениных братьев. Темпераментный Амижан встретил их с револьвером в руках и первым же выстрелом убил одного из вошедших. Ассирийцу грозило 25 лет, но суд признал его виновным по не столь серьезной статье — «тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти потерпевшего». Он должен был отсидеть не менее восьми и не более шестнадцати лет, в зависимости от резолюции комиссии по УДО.
В американской тюрьме почти все иммигранты превращаются в горячих патриотов родных стран, и Даже Амижана это не миновало. Он часто вспоминал детство в Басре, где его отец еще при англичанах служил начальником аэродрома. Однако когда израильтянин Давид по-дружески посоветовал Амижану подписаться на депортацию в Ирак (чтобы не сидеть больше восьми лет), ассириец посмотрел на него, как на сумасшедшего.
Зато другой заключенный-иностранец, турок Атилла, только о депортации и говорил. Ему в конце концов действительно удалось добиться досрочной высылки в Турцию — после шести лет вместо присужденных ему восьми. Атилле помогло то, что Турция и США недавно заключили договор, позволяющий гражданину одной из этих стран отбывать наказание у себя на родине за преступления, совершенные в другой. Договор этот был разработан по инициативе Соединенных Штатов, желавших вызволить своих граждан из турецких застенков, знакомых здешней публике по фильму «Полночный экспресс». Американских чиновников весьма удивил турецкий уголовник, желавший по собственной воле туда отправиться. Им, очевидно, было невдомек, что за умеренную плату турецкие полицейские обещали снять с Атиллы наручники немедленно по приземлении в Стамбуле.
Американский срок Атилла получил за совершенную им серию дерзких ограблений нью-йоркских борделей. Действовал он по одной и той же, по-своему элегантной схеме. Атилла был моряком турецкого торгового флота и служил на сухогрузе, периодически совершавшем рейсы в Нью-Йорк. Само собой, товарищи-матросы снабдили его адресами наиболее популярных нью-йоркских «массажных салонов». На стоянке Атилла, однако, не спешил покидать судно. Лишь незадолго до отхода корабля в обратный рейс он и его сообщник сходили на берег, отправлялись в одно из заведений и с оружием врывались внутрь. Брали все подчистую: деньги, драгоценности, личные вещи клиентов и даже некоторые аксессуары «массажисток», которые в Турции тоже можно было сбыть. По завершении налета турки молниеносно возвращались на борт сухогруза и через несколько часов были уже в океане.
Некоторое время нью-йоркская полиция даже не знала об этих ограблениях: большинство заведений, не желая привлекать к себе внимание, ничего не сообщали властям. Однако во время одной из стоянок Атилла с сообщником напали на салон, который любили посещать сотрудники правоохранительных органов. Одного из них, агента U.S. Marshal Service ,[17] матросы застали голым в объятиях «массажистки». Добежать до своей кобуры агент не успел: турки взяли его на мушку. Заинтересовавшись, почему этот человек так резво вскочил, Атилла обнаружил в кармане его пиджака служебную бляху. Турок это очень позабавило, и они в дополнение к обычному набору бросили к себе в мешок всю одежду агента, включая нижнее белье, а также прихватили табельное оружие, которым предварительно еще и съездили хозяину по голове.
Такая удаль туркам дорого обошлась. Агенту ничего не оставалось, как сообщить об этом инциденте своему начальству, которое тут же подключило к расследованию нью-йоркскую городскую полицию. Были записаны все приметы налетчиков и составлены фотороботы. Более того, по несчастному для преступников стечению обстоятельств ограбленный ими агент когда-то служил на американском военном аэродроме в Турции и поэтому узнал язык, на котором они переговаривались между собой. Правда, полицейские не могли вначале предположить, что речь шла о «гастролерах», и без толку ходили по всем турецким ресторанам и ночным клубам Нью-Йорка. Но вскоре Атилла и его сообщник снова прибыли в США на своем сухогрузе и засветились уже совершенно по-глупому.
Атилла перед выездом на очередную «точку» принял изрядную дозу кокаина, и его сдерживающие центры стали отказывать. Налет на бруклинский «салон» проходил оперативно и четко до того момента, когда Атилла вдруг схватил одну из перепуганных женщин, повалил ее на пол и принялся на виду у всех насиловать.
Хотя «массажистке» по долгу службы следовало бы привыкнуть ко всякого рода эксцессам, она начала пронзительно визжать, и несколько ее коллег бросились в разные стороны, к окнам и дверям, с криками о помощи. Второй турок, размахивая пистолетом, пытался их задержать, но тщетно. Остановить не в меру раздухарившегося напарника ему тоже не удавалось. Через несколько минут, когда под окнами завыла полицейская сирена и группа захвата бросилась наверх, отчаявшийся матрос сам швырнул на пол пистолет и стал лицом к стене, подняв над головой руки. Атилла, на бегу застегивая одежду, пытался спастись через черный ход, но его мгновенно схватили и обезоружили.
Атилле с сообщником могли дать и гораздо больше восьми лет, но им опять-таки повезло с юристом, которого подыскало для них турецкое торговое пароходство. Прокуратура согласилась на так называемый plea bargain — признание преступниками вины в обмен на заранее оговоренный срок, возможно, не желая выводить их на суд присяжных, где неизбежно всплыла бы история с федеральным агентом в борделе. Неожиданно для Атиллы опозоренный агент в один прекрасный день появился в комнате свиданий на острове Райкерс. Турок, не поинтересовавшийся у дежурного, кто именно к нему пришел, был совершенно ошарашен, когда через разделительный барьер вдруг перескочил человек и со страшной руганью бросился его бить, пока не вмешались надзиратели. Как ни странно, Атилла в тот момент испытал нечто вроде угрызений совести и крикнул по-турецки: «Извини, друг!» — когда агента повели к выходу.
Когда Атилла рассказывал о своих похождениях, мне вспомнилась история другого моряка — Эдварда Кетчума, который некоторое время спал на соседней койке в тюрьме «Ривервью». Это был довольно странный арестант — наполовину еврей, наполовину пуэрториканец, вечно небритый, с нервным тиком правого глаза и фарфоровыми зубами. Хотя Кетчум уже не в первый раз сидел за торговлю наркотиками, вел он себя в высшей степени неуравновешенно, то впадая в многодневную депрессию и апатию, то принимаясь бомбардировать администрацию жалобами, на которые никогда не получал ответа. Впрочем, он был высокого о себе мнения. Однажды, когда какой-то негр обозвал его бомжом, Кетчум очень этим возмутился. «Что он понимает, — в сердцах сказал мне Кетчум, — меня ведь здесь держат как опасного международного преступника!» Заметив, что я посмотрел на него несколько скептически, Кетчум, горячась и сбиваясь, начал рассказывать мне историю своей предыдущей отсидки.
В Нью-Йорке у него была состоятельная тетя, которой принадлежала небольшая яхта. Тетя давно не виделась с племянником, и Кетчум сумел на какое-то время ее к себе расположить. При первой возможности он Украл ее яхту — наркоманов обычно не останавливает чувство родства.

В планы его входило провести яхту через Панамский канал в Тихий океан, затем подняться вдоль побережья до Сан-Франциско и там ее продать. В юности Кетчум прослужил два года на катере американской береговой охраны и умел с грехом пополам держать штурвал. Хотя мореходных карт у Кетчума не было, он уверенно пустился в путь, запасшись кое-какой едой и дешевым кокаином. Мореплаватель упорно держал курс на юг, предполагая, что канал неизбежно должен показаться справа по борту. Но наблюдение он вел, судя по всему, невнимательно. Через несколько недель голодного и накокаиненного Кетчума сняли с яхты британские военные моряки у побережья Фолклендских островов. Несмотря на свое отчаянное положение, он долго не давался им в руки, предполагая, очевидно, продолжать путь до Антарктиды. Поскольку яхта давно была в розыске, путешественник оказался в тюрьме города Порт-Стэнли, где он в течение полутора лет питался рыбой и чаем.
Хотя я навидался всякого в своих американских скитаниях, этой истории я никогда бы не поверил, если бы Эдвард Кетчум с гордостью не предъявил мне свой официальный «послужной список», где среди семи или восьми его судимостей фигурировал и фолклендский инцидент.
В американских тюрьмах мне приходилось встречать и людей, которые попали за решетку прямо из аэропорта. Наркокурьерами обычно занимаются федеральные власти, но иногда, очевидно, в качестве дружеского презента, они подбрасывают одно-другое дело прокуратуре штата Нью-Йорк.
В тюрьме «Ривервью» сидел один из таких курьеров, израильтянин со странной фамилией Гарнир. Фамилия эта была в какой-то мере симптоматичной: носитель ее, в отличие от своего соотечественника Давида, Действительно не был крупной птицей или, если угодно, крупной рыбой. Уже седоволосый, Гарнир с юных лет прочно сидел на игле и удовлетворял свое пагубное пристрастие комиссионными за доставку героина в различные точки земного шара. Периодически его ловили, в тюрьме всякий раз пытались принудительно лечить и всякий раз безуспешно. К 1996 году, когда я с ним познакомился, Гарнир побывал уже в тюрьмах десяти различных государств. Любимой его темой было обсуждение сравнительных достоинств и недостатков пенитенциарных систем Земли. Больше всего Гарниру понравилось в германской тюрьме неподалеку от Кельна, где в камере у него стоял аквариум с золотыми рыбками, на тюремной фабрике можно было заработать 900 марок в месяц, и каждые два месяца разрешалось свидание в специально оборудованном боксе с проституткой одного из местных борделей.
В этой же тюрьме, кстати, сидел знаменитый израильский гангстер Шец, исполнитель многочисленных убийств, которого ни разу не могла уличить полиция его собственной страны. В Германии Шец единственный раз в своей жизни совершил оплошность, когда застрелил заказанного израильского предпринимателя в машине его любовницы-немки. Женщина эта опознала Шеца в полиции, и показания ее немецкий суд счел достаточными, чтобы наградить израильтянина пожизненным заключением с правом досрочного освобождения не ранее чем через 14 лет. Точнее, через 15 — год Шецу добавили за то, что он швырнул в судью Библию.
Гарнир, который, в принципе, к Шецу относился с большим пиететом, считал, что эта святотатственная выходка на суде была причиной провала предпринятой впоследствии попытки его освободить. Через два года после осуждения Шеца из Тель-Авива в Кельн прибыл под чужим именем его родной брат, сопровождаемый несколькими людьми, недавно демобилизованными из подразделения «коммандос». В назначенный день Шец симулировал сердечный приступ, доверчивый тюремный врач счел необходимым вызвать машину «скорой помощи» и отправить арестанта под охраной в городскую больницу Кельна. За трассой, идущей к городу, вела наблюдение прибывшая из Тель-Авива группа. Как только из-за поворота появилась «скорая помощь», израильтяне блокировали ее грузовиком и, окружив машину с автоматами в руках, вынудили водителя открыть двери. Охранники уже лежали на полу с руками на затылках, а между ними, к ужасу налетчиков, валялся перепуганный толстый немец в тюремной одежде — заключенный, с которым тем же самым утром случился настоящий инфаркт и которого доктор отправил в город за несколько минут до появления Шеца в лазарете. Врач пытался даже задержать «скорую помощь», чтобы она забрала и второго больного, но не успел и вынужден был вызвать другую машину. Когда она подъезжала к тюремным воротам, сообщение о дерзкой и непонятной акции на автобане уже передали по местному радио, и в тюрьме поднялась тревога.
Другой наркокурьер, которого я встретил в Ривервью, был из Колумбии. Молодой парень по имени Фелипе на вид не старше двадцати, уроженец глухой провинции, прилетел в США в качестве «мула». «Мулы» — это курьеры, перевозящие кокаин в собственных желудках.
Колумбийцы, которые издавна держат под контролем импорт кокаина в США, придумывали самые изощренные способы оптовой доставки. Кокаин запаивали в банки под видом консервов, засыпали в автомобильные покрышки, смешивали с пластмассой и фабриковали детские игрушки (которые уже в США расплавляли и химическим способом выделяли порошок). Каждый из этих способов мог применяться лишь до первого прокола (в случае с покрышками это имело буквальный смысл). Потом нужно было изобретать уже что-то новое. Конечно, самые крупные партии, насколько можно было заключить, пересекали границу в кузовах многотонных грузовиков, с ведома подкупленных мексиканских и американских пограничников. Но далеко не все колумбийские наркобизнесмены могли позволить себе такой масштаб деловых операций. Торговцам среднего и мелкого уровня все время приходилось ломать головы над более экономичными вариантами. Так, вероятно, и родилась идея «мулов».
Кокаин в желудке международного авиапассажира нельзя обнаружить с помощью специально обученных собак (как в случае перевозки порошка в кармане или в подкладке) или с помощью просвечивания (ему подвергается только багаж). Бедных людей, которые бы соглашались за 500–700 долларов слетать в качестве живых бандеролей в Нью-Йорк или Майами, в Колумбии достаточно. Авиабилет тоже оплачивали вербовщики. Не брали они на себя только возможные похоронные расходы. Какому-то проценту «мулов» не суждено было добраться до места назначения. Кокаин, который они глотали перед вылетом, был упакован в запаянные презервативы. Проглотить нужно было десяток-другой, иначе бы затраты отправителей себя не окупили. Дальше все зависело от добросовестности упаковщиков и кислотности желудочного сока самих курьеров. Если хотя бы один из презервативов прорывался прежде, чем «мул» добирался до условленной точки вблизи аэропорта, где ждал человек с клизмой, уделом курьера была быстрая, но мучительная смерть. Порошковый кокаин в чистой форме разъедает внутренние органы и ткани; действие его почти равносильно эффекту, который бы произвела попавшая в желудок серная кислота. Поскольку это случалось нередко, один добросердечный нью-йоркский бизнесмен создал даже благотворительное агентство, оплачивающее транспортировку тел погибших курьеров в Боготу. Свой номер телефона агентство предоставило таможне аэропорта Кеннеди и городской полиции Нью-Йорка.
Фелипе перед вылетом в Америку скормили около фунта кокаина, и всю дорогу до Нью-Йорка он провел в страшном нервном напряжении. Обед ему пришлось украдкой сунуть в пакет и вынести под курткой в уборную. Просто отказаться от еды он не мог: стюардессы колумбийских рейсов обязаны сообщать обо всех пассажирах, не принимавших пищу. Фелипе едва не потерял сознание, когда пассажирам вдруг сообщили, что из-за каких-то технических неполадок самолет совершит незапланированную посадку в Филадельфии. Бедняга почти три часа расхаживал взад и вперед по международному залу ожидания и шептал «Отче наш». От предложенной пассажирам рейса бесплатной бутылки «Пепси» Фелипе отшатнулся, как от ядовитой змеи: колумбийским мальчишкам не хуже московских известен опыт с газировкой, разъедающей целлофан. Наконец объявили вылет в Нью-Йорк. Этот последний час Фелипе буквально трясся от страха, рискуя выдать себя на таможне. Досмотр, однако, прошел благополучно.
Фелипе, расталкивая почтенных колумбийских матрон из первого класса, почти что выбежал в стеклянные Двери аэропорта и обнаружил, к совершенному своему ужасу, что его никто не встречает. Получатели груза, очевидно, тоже люди нервные, предположили, что самолет посадили в Филадельфии как раз из-за их курьера, с которым на борту произошла катастрофа. Из этой гипотезы логически следовал вывод, что теперь курьер продолжает путь уже в качестве пассажира багажного отсека с биркой на ноге и путевым листом в благотворительное похоронное бюро, а свое место в салоне он уступил агенту ФБР, который заранее дал команду нью-йоркской полиции отслеживать всех встречающих. Эта логическая цепочка едва не стоила Фелипе жизни уже в самом реальном смысле: он очутился один в чужом городе, не зная языка и не имея ни средств, ни времени обратиться к врачу. Чувство долга все же заставило его проделать несколько сумасшедших кругов по терминалу аэропорта, после чего он в полном отчаянии сделал последнее, что могло его спасти: сдал себя властям.
От страха он не мог даже толком объяснить, что с ним произошло. Полицейские, однако, мгновенно все поняли, оперативно промыли Фелипе желудок и с чувством выполненного долга препроводили его в тюрьму. Колумбийцу дали четыре года с последующей депортацией на родину. Поскольку Фелипе не выдал своих вербовщиков, он надеялся, что его простят и, может быть, даже не заставят расплачиваться за потерянный фунт «белого золота».
Дорогая курва
Еще лет восемь-десять назад американские власти высылали из страны только таких людей, как Фелипе или Абдунасер, то есть иностранцев, совершивших преступления непосредственно при въезде в США или вскоре после этого. Людей, сколько-нибудь укоренившихся в США, на практике почти никогда не депортировали — за исключением разве что нацистских преступников или совсем уже неисправимых бандитов с многочисленными отсидками. Но в 90-х годах американское общественное мнение начало заметно сдвигаться вправо. Конгресс США принял серию законодательных актов, призванных очистить страну от тех самых жалких отбросов (wretched refuse), которых когда-то звала сюда надпись на постаменте статуи Свободы. Самым жестким был принятый в 1994 году «Акт о борьбе с терроризмом и об эффективной смертной казни». Этот зловещий билль содержал множество различных нововведений, и в числе прочего постановил депортировать из США всех иностранцев, осужденных за какие бы то ни было уголовные преступления (felonies), вне зависимости от обстоятельств и от давности их проживания в США.
Либеральная пресса и иммигрантские организации ополчились против нового закона, называя его варварским. В 1996 году Конгресс согласился слегка смягчить свою позицию, но в конце концов принял совершенно аналогичный билль, который на этот раз назидательно назвали «Актом об иммигрантской ответственности». Наименование, кстати, было весьма симптоматичным: в это же самое время группа каких-то активистов начала сбор средств на установку на Западном побережье США монумента, который бы стал символическим дополнением статуи Свободы. Назвать его было предложено статуей Ответственности. Если статуя Свободы была подарена Францией, то статую Ответственности можно было бы заказать в какой-нибудь стране с пристрастием к порядку. Например, в Сингапуре, где не так давно выпороли бамбуковой палкой юного американского туриста за то, что он измазал краской чью-то автомашину.
Результаты новой иммиграционной политики не замедлили сказаться. В библиотеке Фишкиллской тюрьмы я увидел заключенного из моего блока, перед которым лежал том Британской энциклопедии, раскрытый на статье «Гайана». Читал он очень сосредоточенно и даже делал какие-то выписки. Поздоровавшись, я решил поинтересоваться, из какой он сам страны.
Ответ слегка меня озадачил: «Из Гайаны».
— Ты что, так давно здесь живешь? — удивился я. — Забыл уже?
— Да какое там забыл! — воскликнул мой собеседник. — Я ее и не помнил никогда. Мне два года было, когда родители в Америку перебрались. В школу американскую ходил, работал здесь, все дела. Как-то раз пошел на дискотеку, подрался там, покалечил одного типа. Получил срок, думаю — отсижу свое, выйду на волю, никаких проблем. А тут два месяца назад повестка пришла: вызов в Иммиграционный суд. Привезли меня туда — судья даже слушать не стал. «Ты, — говорит, — преступник, и ты гражданин Гайаны — вот и езжай к себе в Гайану совершать преступления». Я апелляцию написал, конечно, а что толку — закон есть закон. Решил вот, почитаю хотя бы про свою страну, а то ведь и не знаю, что в этой Гайане вообще творится. Родственники какие-то у нас там вроде остались, да они живут где-то в лесу. Туда даже почта не доходит.
Вызывать в Иммиграционный суд стали даже заключенных-кубинцев, вьетнамцев и китайцев. Раньше все они могли избежать депортации, объявив себя политическими беженцами. Некоторые русские арестанты тоже это проделывали: один питерский братан написал судье, что отец его, физик-ядерщик, в связи с невозвращением сына в Россию был «брошен в ГУЛАГ», а сам он был вынужден нарушить закон, чтобы за американскими тюремными стенами найти защиту от тайных агентов госбезопасности, «у которых, как известно, длинные руки». Автор также выражал готовность пройти проверку на детекторе лжи или подвергнуться воздействию психотропных средств — в частности, какого-то загадочного препарата под названием «truth syrup».[18]
Новые иммиграционные законы поставили на всем этом крест. Отныне любой иностранец, осужденный на срок с максимальной ставкой выше 5 лет, подлежал депортации даже в том случае, если по прибытии на родину его прямо с самолета отправят на виселицу.
С другой стороны, в это же самое время многие арестанты-иностранцы начали сами добиваться депортации. Новый губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки издал указ, по которому людей, осужденных за преступления, не связанные с насилием, разрешено было депортировать до истечения их минимального срока. В эту категорию попали осужденные за наркотики, иногда с астрономическими сроками. Миша из Душанбе отбывал «от 25 лет до пожизненного» за продажу переодетым полицейским агентам двух унций кокаина. Непомерно жесткое наказание в его случае объяснялось желанием властей отомстить за многомиллионный судебный иск, поданный Мишей против департамента полиции, после того как его отец-таксист был застрелен постовым полисменом не то по ошибке, не то по злому Умыслу прямо в своей машине. Миша, который сел в 20-летнем возрасте, считал свою жизнь загубленной. Он успел отсидеть уже лет восемь, когда губернатор издал тот самый указ о депортации. День этот Миша решил отмечать наравне с днем рождения. Комиссия по досрочному освобождению, спеша выполнить новые разнарядки, быстро согласилась выдать его иммиграционным властям. Перспектива быть депортированным в страну, из которой он уехал в возрасте трех лет и в которой шла гражданская война, Мишу совершенно не пугала — по крайней мере в сравнении с вариантом прожить еще 17 лет, не видя ни деревьев, ни травы. Более того, он в течение нескольких месяцев забрасывал посланиями посольство Таджикистана в Вашингтоне, умоляя как можно скорее выдать ему документы, подтверждающие его подданство.
Мне пришлось встретить и нескольких заключенных, выданных американской юстиции другими государствами. Одним из них был мой приятель Яромир, чешский гражданин, осужденный за убийство. История его была каким-то странным сочетанием греческой трагедии с «Похождениями бравого солдата Швейка». Яромир, сын директора треста деревообрабатывающих заводов Моравии, владел собственной компанией по экспорту древесины и производству мебели. Помимо этого он торговал недвижимостью, автомобилями, кроликами — в общем, был типичным успешным предпринимателем «переходного периода». Но удача Яромира в бизнесе омрачилась несчастьем в личной жизни. Он женился в 18 лет на своей школьной подруге и за 12 лет супружества успел к жене совершенно охладеть. Не разводился из-за детей — двух дочерей. Только из-за них Яромир иногда и появлялся дома, в предместье Брно, предпочитая проводить остальное время в обществе переводчицы своей фирмы, говорившей на нескольких языках, любившей танцы, бильярд и быструю езду на джипе.
Яромир взял ее с собой, когда летом 1997 года отправился в деловую поездку в США. Здесь ему пришлось немедленно убедиться в непостоянстве женской натуры. На шестой день поездки, в среду, вернувшись в квартиру, которую снял для него в Нью-Йорке деловой партнер — словак, Яромир обнаружил свою переводчицу в объятиях этого партнера. Взбешенный, он бросился на словака с кулаками, тот отбивался. Яромир, более сильный и рослый, схватил словака и швырнул его к стене. Словак ударился головой, обмяк, сполз на пол и, несмотря на попытки Яромира привести его в чувство, скончался на месте. Только тут Яромир услышал рыдания переводчицы и финальные аккорды симфонии Дворжака, которую для романтического эффекта поставил покойный.
Преодолевая ужас, Яромир отправил женщину в аэропорт Кеннеди, откуда она первым же рейсом вылетела в Чехию. Сам он решил остаться в Нью-Йорке еще на двое суток, так как должен был получить причитающуюся ему крупную сумму денег за поставки дерева. Ночь со среды на четверг Яромир провел в одной квартире с трупом. Утром он закрыл все окна, задернул шторы, включил на полную мощность кондиционер и отправился в гостиницу. Промедление его погубило. Билетов на прямой рейс до Праги в пятницу не было, и Яромиру пришлось лететь с пересадками в Париже и в Вене. За несколько часов до его вылета из аэропорта Кеннеди труп словака был найден. К моменту прибытия в Париж полиция успела опросить друзей и деловых партнеров убитого, которые знали о Яромире. В аэропорту Вены его уже ждали. После нескольких допросов в полицейском управлении, где Яромира избиениями вынуждали признаться, особо опасного международного преступника препроводили в тюрьму «Корнебург».

Его посадили в одиночную камеру и даже в душевую выводили в сопровождении двух надзирателей. Австрийский адвокат объяснил ему, что выдача в США чревата для него пожизненным заключением или даже смертной казнью, если дело его будет передано в федеральную юрисдикцию. Необходимо было любой ценой добиваться суда в Австрии. Почти не глядя, Яромир подписывал документы о продаже принадлежавшей ему земли, оборудования и складов: нужны были деньги на защиту. Австрийская прокуратура явно не верила его версии событий. Весьма подозрительным представлялось его столь краткое пребывание в Америке, поспешный отъезд и особенно крупная сумма денег наличными, обнаруженная при аресте. Переданная австрийцам чешскими властями полицейская справка, показывавшая отсутствие у Яромира судимостей, только усугубила их подозрения. Там было указано, что в начале 90-х годов он был курсантом Академии Антонина Запотоцкого в Брно. Австрийские прокуроры, а особенно их творчески мыслящие американские коллеги сочли, что в этой наиболее престижной военной академии Восточной Европы специальные инструкторы Statni Bezpecnosti[19] обучали Яромира убивать людей без помощи оружия.
Нанятым его адвокатами частным детективам удалось в конце концов разыскать роковую женщину-переводчицу, скрывавшуюся у родственников где-то в моравских горах. Дать свидетельские показания в Австрии она наотрез отказывалась, опасаясь ареста за соучастие в убийстве. В конце концов ее все же убедили предоставить чешской полиции нотариально заверенное заявление, в котором она подтверждала, что находилась в нью-йоркской квартире вместе со словаком, что словак пытался ее изнасиловать и что Яромир убил его случайно, спасая ее честь, а возможно, и жизнь.
Заявление, очевидно, убедило американцев и австрийцев, что Яромир не является наемным убийцей. После 9 месяцев пребывания в полной изоляции в одиночке его перевели в общую камеру того же Корнебурга, где на пространстве в несколько квадратных метров ютились румыны, болгары и цыгане, обвиненные в кражах электротехники, одежды и велосипедов. Если австрийские граждане в соседнем блоке имели холодильники и цветные телевизоры, то Яромир и его товарищи по несчастью лишены были даже простыней, недоедали и пользовались единственным унитазом, не отгороженным и занавеской. В других камерах для иностранцев положение было не лучше. Любые жалобы или пререкания с охраной заканчивались избиениями. На прогулках можно было видеть арестантов с подбитыми глазами или выбитыми зубами. «Только русских не били, — вспоминал Яромир. — Русских они по каким-то причинам боялись бить».
Его часто навещали родители и брат: от Брно до Корнебурга было два часа езды. Яромир убеждал их не жалеть денег на адвокатов, уверявших его в благополучном исходе дела: скором суде и небольшом сроке в Австрии или даже в Чехии. Тем большим был его шок, когда администрация тюрьмы вручила ему копию распоряжения прокуратуры Австрии, давшей согласие на его выдачу Соединенным Штатам в рамках соглашения, подписанного этими государствами в 1936 году.
Яромир бросился писать адвокатам, настаивал на срочном свидании, умолял, предлагал еще денег, объявил даже голодовку — все было тщетно. В назначенный день, скованный по рукам и ногам, Яромир был доставлен австрийской полицией в аэропорт и передан агентам ФБР. Буквально за день до этого в Корнебург приезжала жена. Она известила его, что адвокат показал ей всю финансовую отчетность его фирм, из которой явствовало, что Яромир зарабатывал на порядок больше, чем приносил домой.
— Дорогая была курва, — заключила жена. — Пусть она теперь выходит за тебя замуж, чтобы не так грустно было сидеть 25 лет.
На этом они простились.
По счастью, американский адвокат Яромира, эмигрант времен «пражской весны», оказался честнее австрийских. Он не пытался одурманивать его несбыточными надеждами, решительно отверг идею игры ва-банк на суде присяжных и за несколько месяцев терпеливых переговоров с прокурорами добился для Яромира срока «от 6 до 12 лет» в обмен на признание своей вины. Самых больших усилий адвокату стоило убедить клиента, что в США такой срок по статье «убийство», каковы бы ни были смягчающие обстоятельства, — весьма умеренный, можно сказать, детский.
Яромира, по крайней мере, выдала американцам третья страна. Бывает, что выдает и своя собственная. Чаще всего это практикуется в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где влияние США очень сильно. Колумбия неоднократно выдавала даже людей, никогда не появлявшихся на американской территории и не трогавших американских граждан за рубежом. Вина их заключалась в экспорте в США крупных партий наркотиков. По мнению американских властей, арестовавшая этих наркодельцов колумбийская юстиция не в состоянии была их покарать с достаточной суровостью. Кампания выдачи была приостановлена лишь после того, как члены медельинского наркокартеля под командованием Пабло Эскобара организовали серию террористических актов и взяли в заложники родственников колумбийских политических деятелей, в том числе Диану Турбай, дочь бывшего президента страны. Группа Эскобара, называвшая себя «Los Extraditables» (буквально — «подлежащие выдаче»), Действовала под лозунгом: «Лучше могила в Колумбии, чем камера в Соединенных Штатах!»
Лидеры наркокартелей отбывают свои 300 и 500 лет в федеральных тюрьмах; в штате Нью-Йорк мне сталкиваться с ними не приходилось. Здесь типичны такие дела, как у Рэнди, жизнерадостного паренька с острова Барбадос. Он попал в Нью-Йорк подростком, вместе с матерью (отец остался на Барбадосе). За несколько лет жизни в негритянском квартале Рэнди успел сменить карибский акцент на бруклинский, приобрести несколько десятков пар кроссовок и широких джинсов, которые носят приспущенными до середины ягодиц, и полюбить толстые самокрутки из марихуаны, называемые blunts. Для поддержания своего имиджа крутого бруклинского парня Рэнди участвовал в нескольких разборках с другими кварталами, и во время одной из них какой-то много о себе воображавший ямаец был ранен выстрелом из пистолета «Tech-9». Рэнди, на которого показал один из задержанных участников стычки, бежал обратно на Барбадос.
По представлению властей США администрация суверенного острова быстро его разыскала и водворила в тюрьму. Рэнди особенно и не пытался сопротивляться выдаче, так как суд на Барбадосе, где сохраняется в неприкосновенности английская колониальная юстиция с розгами и виселицей, казался ему худшим вариантом. Отрицать вину было бесполезно, так как барбадосские власти не могли поставить под сомнение правоту нью-йоркской полиции.

В банальной, в общем-то, истории барбадосца меня удивил один аспект. Хотя Рэнди и пытался скрываться от правосудия на родном острове, задерживаться там надолго он не собирался. Даже отбыв в США шестилетний срок, после которого его должны были депортировать, Рэнди, по его собственному признанию, планировал снова вернуться в США. («А что? Я у двоюродного паспорт возьму, он на меня сильно похож. А можно и на лодочке».) На мое недоуменное «Зачем?» он ответил, что привык, что здесь мать, но звучало это не слишком убедительно. Не думаю, что матери Рэнди очень хотелось бы, чтобы сын жил в США с чужим паспортом или вообще без документов, снова занимаясь сомнительными делами с перспективой внушительного федерального срока в случае поимки. Бедность родной страны, безработица? Но ведь Рэнди мог бы попробовать себя в Канаде или в Англии, где живет много его соотечественников и где над ним, по крайней мере, не висела бы постоянная угроза тюрьмы. Тем не менее Рэнди влекло именно в США, именно в Нью-Йорк.
И намерение Рэнди не было исключительным. Я знал многих заключенных из стран Западного полушария, отчаянно добивавшихся досрочной депортации для того, чтобы, полежав несколько месяцев «на дне», вернуться в пульсирующий энергией мир нью-йоркской улицы. Более всего меня поразила история, мимоходом упомянутая какой-то бульварной газетой. Иммигрант из Доминиканской Республики, осужденный на срок «от 20 лет до пожизненного» за торговлю героином, отсидел девять лет и был досрочно депортирован на родину. Незаконное возвращение в США означало для него возобновление прежнего срока, то есть, возможно, пожизненного заключения. Спустя шесть месяцев после высылки этот доминиканец был задержан в Нью-Йорке полицейским после того, как он попытался бесплатно пройти в метро, перепрыгнув через турникет. По снятым отпечаткам пальцев он был тут же опознан.
Если уж человека так неудержимо манит преступная жизнь, то почему нельзя быть преступником в своей стране? Зачем Нью-Йорк? Специфический уличнокриминальный мир существует и в Доминиканской Республике, и в Мексике, и на Барбадосе. В такой стране, как Колумбия, он и выразительнее, и сильней, чем в США. Как поется в старой блатной песенке, «там дела хватит и бандитам, и ворам».
Ответ, мне кажется, лежит в области мироощущения. Это не покажется странным, если всмотреться в лица бойцов колумбийских картелей на газетных страницах или в телевизионной хронике. Почти всегда бросаются в глаза их отрешенная суровость, печать постоянного присутствия смерти, подстерегающей за углом, в душной и пряной колумбийской сельве, в воздухе, под землей.
Лица скорее наемных солдат, чем гангстеров. Или мексиканские bandoleros, с постоянным выражением обреченного ожесточения, с их пристрастием к ножам, талисманам и сентиментальному фатализму популярных мелодий:
Valentina, Valentina
Rendido estoy a tus pies.
Si me han de matar manana,
Que me maten de una vez.[20]
Гангстеры нью-йоркских гетто не чувствуют и не мыслят так. Там, в Бушвике и испанском Гарлеме, можно убивать и быть cool.[21] Можно воровать, грабить, промышлять наркотиками, не покидая при этом атмосферы подростковой тусовки с ее нелепыми модами, приплясыванием, подпрыгиванием, фамильярными манерами и музыкой хип-хоп. Не признавать авторитетов, не ведать чувства долга — даже бандитского, приличий — даже криминальных. Жить без всякого груза и умереть, ни разу не задумавшись о смерти. Невыносимая легкость бытия.

Похититель из Иерусалима
В конце 1996 года из нью-йоркской иммиграционной тюрьмы был освобожден под залог гражданин Израиля Шломо Хэлбранс. Этот 34-летний раввин провел два года в заключении после нашумевшего судебного процесса по обвинению в киднеппинге, похищении человека. Необычным в деле Хэлбранса было то, что похищенный не испытывал ни малейшего желания быть спасенным государственными властями. Четырнадцатилетний подросток из американской еврейской семьи предпочел связать свою жизнь с общиной сатмарских хасидов, имеющих в США репутацию замкнутой и загадочной секты.
Согласно еврейской религиозной традиции, юноша достигает совершеннолетия и получает право распоряжаться своей судьбой в 13 лет. Американский светский закон считает возрастом совершеннолетия 18. Раввин Хэлбранс, скрывавший подростка в хасидских кварталах Нью-Йорка, а некоторое время даже во Франции против воли его нерелигиозной матери, был признан уголовным преступником.
Наиболее известным прецедентом в деле раввина Хэлбранса было похищение в 1959 году сына иммигрантов из России Иосифа Шумахера, произошедшее в Израиле и едва не приведшее к гражданской войне в этом государстве. Дед Шумахера по материнской линии Нахман Штаркес, бреславский хасид и бывший узник сталинских лагерей, отказался вернуть внука нерелигиозным родителям и организовал его вывоз из страны по поддельному паспорту. После ареста Штаркеса израильской полицией верховный раввин Иерусалима призвал верующих к кампании гражданского неповиновения, а поиски Иосифа Шумахера были поручены премьер-министром Израиля Бен-Гурионом разведслужбе Моссад. Операция «Тигр», задействовавшая едва ли не всю иностранную агентуру Моссада, сравнивалась по своим масштабам с охотой за нацистским преступником Адольфом Эйхманом.
Лишь в июле 1962 года Иосиф Шумахер был обнаружен разведслужбой в Нью-Йорке и с помощью ФБР возвращен в Израиль. Методы конспирации, с помощью которых хасиды прятали Шумахера в Европе и США, были настолько профессиональны, что одному из участников похищения впоследствии было предложено стать агентом Моссада. Предложение это было отвергнуто.
Хасидизм возник в юго-западной России в середине XVIII века и был изначально встречен традиционным еврейским богословием крайне враждебно. Некоторые теологи видели в хасидизме еврейский аналог исламского движения суфиев, искавших мистические пути постижения божества в противовес мертвой догматике. Основоположник хасидизма Израиль Баал. Шем Тов являл собой совершенно иной тип религиозного деятеля, чем ортодоксальные раввины, возглавлявшие в то время большинство еврейских общин Европы. Он приобрел известность как мистик и чудотворец, демонстрировавший горение льда и хождение по водам Южного Буга. Некоторые из его сверхъестественных деяний были зафиксированы свидетелями-неевреями и дошли впоследствии до сведения Екатерины Второй, которая пыталась даже изучать Каббалу — средневековую книгу еврейской мистики, вновь открытую первыми хасидами. Последователи Баал Шем Това долгое время преследовались сторонниками традиционных раввинов, прибегавших для дискредитации хасидов даже к политическим доносам. Основатель любавического хасидского движения Шнеер Залман в 1802 году находился в Петропавловской крепости под следствием по делу о государственной измене.
Тем не менее ошибочным является утверждение, что хасидские мистики «выбросили с корабля современности» 613 религиозных предписаний, которыми традиционное богословие регулировало повседневную жизнь верующего еврея. Скорее, старые формы были в их интерпретации наполнены содержанием космической значимости. Так, чисто этический запрет на злословие против ближнего был истолкован хасидами в том смысле, что подобные слова порождают в высших мирах отягощенных злом духов, которые затем вселяются в рождающихся на Земле людей. Ритуальное предписание об утреннем омовении рук хасиды восприняли как заклятие против потусторонних сил, овладевающих человеком во время сна.
Последователи Баал Шем Това углубили и преклонение традиционного иудаизма перед авторитетом раввинов. Лидер хасидской общины стал играть роль духовного учителя, гуру, которому ученики повинуются беспрекословно и с трепетом, считая за счастье поцеловать его руку или в буквальном смысле собрать крошки с его стола. Любавическое течение, ныне наиболее мощное в хасидизме, прибегло даже к династическому наследованию титула верховного раввина.
Примеры фанатической преданности хасидов интересам своих общин, для которых не существует ни финансовых, ни географических преград, хорошо известны — от нашумевшей тяжбы по поводу любавического архива в бывшей Библиотеке Ленина до недавней попытки вывоза из Умани останков основателя бреславского хасидизма Ребе Нахмана, скончавшегося там в 1810 году. Тени ушедшего мира еврейской черты оседлости Для хасидов живы. В нью-йоркских кварталах ювелиров и оптовых торговцев одеждой можно встретить бородатых людей, одетых в длинные черные сюртуки, гольфы и башмаки с пряжками по моде XVIII века, в круглых меховых шапках и с пейсами длиной в добрых и сантиметров. По вечерам чартерные автобусы отвозят их в бруклинский район Вильямсбург или в северные пригороды, где эти люди живут в некоем подобии отдельного государства со своими магазинами, больницами и религиозными судами.
Именно в этих местах в городке Монси расположена религиозная школа сатмарских хасидов — иешива, директором которой до своего ареста был раввин Шломо Хэлбранс. В получасе езды от Монси находится тюрьма «Фишкилл», где в июне 1996 года наши пути пересеклись.
Внешне раввин Хэлбранс совершенно не напоминал мрачного фанатика. Толстый, подвижный, со спутанной черной бородой и очками, спадающими с носа, этот человек поминутно улыбался, острил и вообще излучал необыкновенное дружелюбие. Наиболее удивительной казалась мне необыкновенная стойкость, с которой он переносил тюрьму, не замыкаясь при этом в себе. Раввин Хэлбранс охотно искал контакта с заключенными, в том числе с русскими, которые собирались послушать его лекции в еврейской часовне.
Переживания заключенных из-за отсутствия женщин, алкоголя и развлечений раввин Хэлбранс воспринимал снисходительно, совершенно их не разделяя. Это было понятно. Но и лишение свободы как таковое, рабство у чужой воли не имело в его глазах мученического ореола. Перед едой или после уборной он с упоением произносил традиционные благословения: «Какую радость это доставляет Создателю!» В пятницу, накануне священного для евреев субботнего дня, Хэлбранс появлялся в часовне в белом одеянии поверх тюремных брюк, торжественный и сияющий, распевая псалмы Давида и приговаривая: «Весь мир — лишь тюрьма».
Согласно мистическим верованиям хасидов, земной мир в своей материальности не способен вмещать божественный свет в его чистой форме. Иначе мир бы просто исчез. Божественное присутствие существует на Земле в изгнании, в виде искр, плененных силами зла и физических страстей. При этом понятие богооставлен-ности совершенно чуждо хасидам. Миссию человека они видят как раз в том, чтобы освобождать эти искры света из материальной темницы. К освобождению света ведет и любовь к ближнему, и талмудическое благословение над стаканом воды. Каждая из 613 заповедей, исполненная по надлежащему канону, приближает в глазах хасидов мессианскую эру, когда мир преобразится и сможет вобрать в себя всю полноту Божьего бытия. Эта мистическая концепция, в которой человек играет роль необходимого для Бога агента, нашла довольно сильное отражение в работах Николая Бердяева, неоднократно ссылавшегося на еврейские тексты. Другой экзистенциальный философ, Мартин Бубер, склонен был даже считать хасидизм единственной духовной надеждой для современного человека, «выходом из тупика западной цивилизации».
Сами хасиды, впрочем, философию не приветствуют так же, как и художественную литературу. Жизнь члена хасидской общины наполнена запретами, барьерами против духовного и физического соблазна, в числе которых запрет читать газеты и слушать женское пение. Большинство хасидов наследует этот образ жизни из поколения в поколение. Раввин Хэлбранс являл в этом смысле исключение. Он родился в Израиле в семье антирелигиозных социалистов.
Рассказ раввина Хэлбранса о своем обращении к религии был одним из самых драматичных его повествований. В возрасте 12 лет, будучи учеником престижной светской школы в Иерусалиме, Шломо Хэлбранс начал мучиться «проклятыми вопросами». Что значили его будущая докторская степень или место в парламентском списке партии Труда перед лицом вечности? Можно ли забыть о бренности человека? Острота этих далеко не новых вопросов в Израиле 1970-х годов усиливалась опытом войны Судного Дня, когда призрак Катастрофы вновь возник в общественном сознании. Чисто религиозный выход тем не менее оставался уделом меньшинства. Хэлбрансу пришлось практически порвать со своими родителями, видевшими в ортодоксальном иудаизме лишь набор суеверий. В течение нескольких лет он вынужден был жить на скудном пансионе хасидской иешивы, а во время каникул тайно ночевал в пустом общежитии и питался один раз в день в иерусалимских синагогах.
К этому времени относился и эпизод искушения, о котором раввин Хэлбранс вспоминал с грустной усмешкой. Родители, пытаясь остановить уход сына в религию, начали уверять его, что хасиды — лицемеры и отвергают материальные соблазны лишь на словах. Шломо, конечно же, с негодованием отверг их утверждения, что иной хасид может из синагоги отправиться прямо в «массажный салон». Выйдя после этого разговора на улицу, мальчик буквально наткнулся на еврея в хасидском костюме, который, будто живой экспонат, стоял у витрины газетного киоска и разглядывал обложки порнографических журналов. Шломо Хэлбранс после минутного оцепенения что есть силы толкнул его в спину и бросился бежать по улице, весь в слезах. Намерения своего он не оставил.
Впоследствии, уже окончив иешиву и приобретя определенную известность в религиозных кругах, раввин Хэлбранс испытал остракизм израильского общества уже по чисто политическим причинам. Сатмарские хасиды примыкают в Израиле к движению «Нетуре карта», которое отказывает в легитимности современному еврейскому государству как таковому. Идеологи этого движения, ссылаясь на Тору и мнения некоторых известных раввинов, считают, что лишь с приходом Мессии еврейскому народу дано будет воссоздать теократическое царство и восстановить Иерусалимский Храм. Немногим за пределами Израиля известно, что «Нетуре карта» неоднократно обращалось в ООН с антисиони-стскими декларациями и выступало с поддержкой Организации освобождения Палестины. Один из идейных предшественников движения, религиозный еврей Яков Де Хаан, был в 1922 году застрелен сионистскими боевиками. Раввин Хэлбранс, опубликовавший книгу с осуждением сионизма, был, по его словам, неоднократно побиваем камнями в самом прямом смысле.
В тюрьме «Фишкилл» я был свидетелем горячих споров между Хэлбрансом и заключенным израильтянином, обвинявшим его в отсутствии патриотизма. Одним из ответных аргументов раввина было то, что в израильском государстве с момента его создания в 1948 году погибло больше евреев, чем в коммунистической России или баасистской Сирии за то же время.
Обосновавшись в США и защищая еврейское изгнание, раввин Хэлбранс осуждал тем не менее любые попытки национальной ассимиляции. Хасиды, в принципе, отвергают участие евреев в политической и культурной жизни других народов. Ротшильд, удостоенный титула барона Британской империи, является для них совершенно чуждым типом. Миссию еврейской нации хасидизм видит в словах Книги Исхода: «А вы будете у Меня царством священников и народом святым».
Кредо это не противоречит в глазах хасидов существованию среди них крупных и успешных предпринимателей. Согласно их специфическому миропониманию, деловая активность также может являться видом божественного служения, если она ведется в соответствии с религиозными предписаниями. Правила такого рода содержит составленный в XVI веке догматический трактат «Шулхан Арух», прозванный светскими историками «смирительной рубашкой на теле иудаизма» и служащий основой хасидской жизнедеятельности. Другим непременным условием для бизнесмена-хасида является безусловное признание авторитета раввина как посредника в любых конфликтах и разногласиях.
Наконец, каждый член хасидской общины должен ежедневно изучать Тору и другие священные тексты еврейской религии. Согласно заповедям бреславского раввина Нахмана, обязательный для прочтения материал составляет в совокупности 30 000 страниц в год. Сам Хэлбранс не расставался с огромным мешком религиозных книг даже в тюремном лазарете.
Во время одной из своих импровизированных лекций раввин Хэлбранс прервался, обвел взглядом собравшихся заключенных и произнес: «Вы сочли бы меня сумасшедшим, если бы я сказал, что сейчас, в этой комнате, плачут, смеются, говорят и поют десятки и сотни людей. Между тем это так. Вспомните о радиоволнах. Просто у нас нет в руках приемника, и голоса эти нам не слышны. Точно так же не слышны нам… точнее, не слышны вам голоса сверхъестественного мира. Но они звучат вокруг каждую минуту».
Тайный каббалистический оккультизм, практикуемый хасидами, вызывал порой мистический трепет даже у тех, кто считал их учение странным анахронизмом.
Незадолго до своей отправки в иммиграционную тюрьму Хэлбранс рассказал историю, случившуюся во время пребывания раввина Залмана Шнеера в Петропавловской крепости. Пришедший в камеру раввина офицер царской жандармерии спросил его: «Когда Адам, вкусив яблоко, спрятался от лица Бога, Бог воззвал к нему: «Где ты?» Каким образом всевидящий Бог мог задать подобный вопрос?»
Залман Шнеер ответил офицеру: «Бог, конечно же, знал, где Адам и что с ним произошло. Вопросом этим Он воззвал к его совести. Такой вопрос Бог может задать каждому из нас: «Где ты находишься в свои 46 лет?» Жандарм был ошеломлен — ему только что исполнилось 46.
Когда раввин Хэлбранс рассказывал эту историю, он, возможно, имел в виду и нечто иное, чем ясновидческий дар хасидских мистиков. Вероятно, в это время ему уже было известно, что «похищенный» им подросток после ареста Хэлбранса отошел от религии, окончил американскую школу и собирался изучать компьютерное программирование. То, что американская пресса сочла торжеством здравого смысла, для раввина Хэлбранса было сомнительной победой секулярной цивилизации, не знающей, ни где она находится, — ни для чего она существует.
Гриша-скрипка
Весной 2000 года я занимался со штангой в «качалке» нью-йоркской тюрьмы «Фишкилл» и не рассчитал веса. После тренировки у меня сильно заболела спина. Я решил записаться на прием к тюремному врачу.
Вызвали меня, по обыкновению, недели через две, когда боль уже давным-давно прошла Но, согласно тюремным правилам, явиться я все равно был обязан. Идти в лазарет нужно было в форме — так же, как в школу, на свидание и в церковь. Я нехотя переоделся и отправился.
Лазарет был переполнен. При входе ждали своей очереди заключенные, которые проверялись на туберкулез. Дальше по коридору сидели простуженные и стояли психически больные, которым выдавали дозы успокоительного или затормаживающего. Медсестра у окошка следила, чтобы таблетки глотали на месте, а не уносили на продажу наркоманам. Для этого каждому психбольному выдавался пластиковый стаканчик с водой, которой они запивали лекарство. Конечно, таблетку легко можно было унести во рту, и медсестра прекрасно об этом знала, но так полагалось.
Из приемной врача вышел знакомый фельдшер и, как всегда, приветствовал меня: «Здоровеньки булы!» Фельдшера звали Богдан Дарнобид. Он обычно делал обход карцера, и познакомился я с ним, когда там сидел. В Америку Дарнобид попал ребенком после Второй мировой войны, по-русски не говорил, но мне и украинский приятно было слышать. Помимо Дарнобида в карцерном блоке Фишкиллской тюрьмы работал еще один славянин. Это был надзиратель-хорват, кстати, довольно вредный тип, участвовавший, как мне передавали, в усмирении «русского морского бунта».
Мне приходилось уже упоминать о Константине Руденко. Это был моряк, который сбежал в 1989 году с советского торгового корабля. Он рассказал обычную историю про шантаж ГРУ и получил политическое убежище. Но пособие беженца ему платили только год. Английский язык Руденко давался плохо, а профессии, кроме морской, у него не было. После нескольких безуспешных попыток завербоваться на судно Константин собрал свои скудные сбережения, купил пистолет и отправился грабить американцев. Через месяц его арестовали, судили сразу по нескольким эпизодам и дали срок «от девяти до восемнадцати лет».
После всего пережитого Руденко стал человеком нервным, а в тюрьме это только усугубилось. В карцер он попадал часто. В последний заход надзиратели выдали ему грязное одеяло. Во время вывода карцерных сидельцев на прогулку Руденко попросил дежурного сержанта поменять одеяло, но тот в ответ только грубо выругался. Услышав это, Константин выбежал из строя и нанес сержанту сокрушительный удар крепким флотским кулаком. Надзиратели бросились на него, но были отброшены. В карцере объявили тревогу, и в течение пятнадцати минут Константин Руденко мужественно сражался с превосходящими силами противника. Когда моряка все-таки удалось повалить на пол с помощью транквилизатора, его избили и отправили в лазарет тюрьмы строгого режима «Грин Хэйвен». Там дисциплинарная комиссия приговорила Руденко к году изоляции, но не в карцере, а в обычной камере-клетке общего яруса. Русские заключенные, которых именно в тюрьме «Грин Хэйвен» всегда было много, ухитрялись регулярно передавать наказанному моряку ядреную брагу собственного изготовления.
Дежурным врачом в тот день был кореец — доктор Сун. Это меня обрадовало: Сун как раз считался хирургом-ортопедом. В обязанности его входило объезжать все окрестные тюрьмы, и в Фишкилле он появлялся в лучшем случае раз в неделю.
— Что у вас такое? Э-э-э. — Сун нахмурился, поморщился и стал смотреть мою медицинскую карту. — Спина болит? Сейчас посмотрим.
Я начал расстегивать форменную рубашку, но Сун, как бы не заметив моего движения, быстро провел мне ладонью вдоль позвоночника, энергично щупая пальцами сквозь ткань.
— Еще болит? Где болит?
— Уже меньше, — сказал я. — С тех пор, как…
— Очень хорошо. Э-э-э, проходит, проходит.
Доктор Сун ловко придвинул к себе карту и принялся азартно писать.
Вдруг он прервался, очевидно, заметив что-то интересное.
— Старостин ваша фамилия. Старостин? Откуда происходите?
— Из России, — ответил я.
Реакция доктора Суна на эти слова была удивительной. Он вдруг застыл, потом мечтательно заулыбался. Секунд через тридцать доктор, не произнеся ни слова, начал вдруг хихикать. Я смотрел на него, не зная, что и подумать, когда доктор вдруг заговорил заговорщическим шепотом:
— Я недавно вел прием в Грин Хэйвене. Знаете, кого я там встретил? Русского. Тоже русский, из России.
Я помотал головой.
— Он по профессии, по профессии… — Доктор Сун опять начал смеяться.
— Моряк?
— Нет, не моряк, не моряк. Он, знаете, ха-ха-ха… — Мне показалось, что доктор смеется от крайнего смущения. — Он русский музыкант.
— Скрипач?
Доктор Сун застыл, и лицо его сделалось очень серьезным, почти скорбным.
— Я о нем слышал. Григорий Гельман, знаменитый музыкант. Его считают виртуозом.
В ответ на мои слова доктор Сун зажмурил глаза и медленно, с упоением, не на выдохе, а на вдохе, произнес:
— Сё-ё-ё.
— Что вы хотите сказать, доктор?
— Я хочу сказать, что этот человек — гений. Я разбираюсь в классической музыке. Я купил его записи, все, которые смог найти. Пришел домой, включил диск и…
Доктор Сун снова рассмеялся, уже каким-то нервным смехом и вдруг, посмотрев на меня, сказал:
— Не говорите мне, за что этот человек сидит в тюрьме. Я не хочу знать.
— Почему же, доктор? Здесь нет никакой тайны. Он не убийца, не насильник. Гельман…
— Оставим, оставим это! — Доктор Сун даже замахал на меня руками. — Вы знаете, что я не имею права обсуждать с вами дела других заключенных. Я могу вам прописать лекарство, физиотерапию, что хотите.:.
Я возвратился к себе в блок, удивленный, что мне снова довелось услышать имя Григория Гельмана, да еще и от столь неожиданного собеседника. Для русских заключенных в Нью-Йорке многолетний сиделец Гельман был почти легендарной фигурой, наподобие Железной Маски. При этом всеобщий интерес к имени Гельмана объяснялся совсем не ролью этого человека в уголовном мире. К уголовному миру Гельман вообще не имел никакого отношения.

Этот знаменитый скрипач окончил Ленинградскую консерваторию и эмигрировал в США в конце 70-х годов. Через несколько лет он уже выступал с лучшими оркестрами Америки. Начали выходить пластинки и магнитофонные записи — «Играет Григорий Гельман». Люди из нью-йоркского высшего света считали за честь обучать у Гельмана своих детей. Все это, помимо морального удовлетворения, приносило скрипачу немалые доходы. В США творческому человеку не возбраняется быть меркантильным, и Григорий Гельман стал искать наилучший способ приумножить свой капитал. В конце концов скрипач решил приобрести недвижимость — многоквартирные дома в бедных кварталах Нью-Йорка.
В 80-х годах нью-йоркские городские власти начали распродавать за бесценок полуразрушенные дома в Гарлеме и Южном Бронксе. Предполагалось, что частные владельцы эти дома восстановят и начнут сдавать их жильцам. С чисто декоративной точки зрения опыт приватизации удался: через несколько лет в Нью-Йорке не осталось кварталов, которые европейские журналисты любили сравнивать со Сталинградом. В зданиях была восстановлена электропроводка, сантехника, вставлены оконные рамы. Но высокую ренту в такого рода кварталах домовладельцы установить не могли. Поэтому неписаным законом риэлторов Гарлема и Бронкса стал следующий: бизнес с покупкой муниципальных зданий доходен лишь при условии, что расходы на ремонт и особенно последующую эксплуатацию зданий сведены к предельному минимуму. Григорий Гельман усвоил это правило очень быстро.
Вскоре в жилищные суды Бронкса начали поступать жалобы жильцов Гельмана, утверждавших, что квартиры их находятся в аварийном состоянии. Но скрипач, слишком вошедший в амплуа крепкого бизнесмена, счел более выгодным нанять хорошего юриста, чем тратиться на материалы и рабочих. После нескольких месяцев судебной волокиты жильцы одного из тельмановских домов забастовали. Означало это, что они перестали вносить квартплату, а площадь освободить отказывались. Скрипач пытался отключать им свет, отопление и газ, но выяснил, что по нью-йоркским законам это запрещено делать без официального ордера о выселении.
В отношении того, что произошло дальше, мнения расходятся. Сам Гельман настаивал, что он, как честный новый американец, занялся изучением Жилищного кодекса и подготовкой встречного иска против неплательщиков. Прокуратура, напротив, утверждала, что Григорий Гельман пошел и нанял двоих людей, которым он выдал по десятилитровой канистре с бензином. В планы злоумышленников входило поджечь ветхие чердаки здания и тем самым вынудить бастующих жильцов эвакуироваться. Кстати, скрипач застраховал дом на довольно крупную сумму.
По версии прокуратуры, причиной разоблачения преступника стало его желание в очередной раз сэкономить. Для организации поджога он использовал не профессионалов, а двух местных бомжей, которым заплатил авансом по тридцать долларов. Эти горе-поджигатели просто разлили бензин по всему чердаку, запалили его и только тогда заметили, что отрезали самим себе дорогу к выходу. Бродяги вынуждены были прорываться сквозь огонь и достаточно сильно обгорели. В больнице, куда они обратились за первой помощью, дежурил полицейский. Он быстро вызвал следователей, которые сказали бродягам, что, если они не назовут организатора поджога, их не будут лечить и они умрут медленной мучительной смертью. Запуганные поджигатели назвали Гельмана.
Григорий Гельман категорически отрицал свою вину на суде, доказывая, что его оклеветали по наущению жильцов-погорельцев. Но участь скрипача была предрешена. Суд над ним проходил в Бронксе, где еще живо было воспоминание о страшном поджоге ночного клуба «Happy Land». Из-за неразделенной любви к официантке этого заведения какой-то кубинец плеснул бензин на лестницу, которая вела в клуб, и бросил спичку. Клуб, расположенный на втором этаже, не имел окон. Спастись удалось лишь нескольким людям, которые успели сбежать вниз, пока огонь еще не разгорелся. В их числе была и официантка, отвергнувшая кубинца. Остальные — более 80 человек — сгорели.
Хотя в деле Гельмана потерпевшими были только сами исполнители поджога, прокуратура внушила присяжным, что лишь счастливая случайность позволила избежать массовой гибели людей. Но самым ужасным для подсудимого было то, что судья разрешил обвинению приобщить к делу жалобы жильцов Гельмана. Прокурор зачитал эти жалобы присяжным хорошо поставленным голосом актера.
Присяжные были по большей части негры и пуэрториканцы, сами живущие в таких же доходных домах, и после зачтения жалоб они просто возненавидели домовладельца. К тому же этническое происхождение Григория Гельмана было худшим из возможных. С одной стороны, это был выходец из жестокой России, где живут Распутин и полковник Зайцын, знакомый присяжным по «документальному» фильму «Рэмбо-3». С другой стороны, это был еврей, Шейлок, сосущий кровь бедняков и жадно гребущий золото своими щупальцами. Григорий Гельман был признан виновным.
По нью-йоркским законам срок заключения объявляется осужденному не сразу. Несколько недель, которые Гельман провел на острове Райкерс, он практически не спал. Гельман надеялся, что поступившие на адрес судьи письма от видных деятелей искусства США смягчат его участь. Но скрипач просчитался и здесь. В популистской Америке любой судья, сказавший что-нибудь вроде: «Юнкеров у нас много, а Чайковский один», быстро бы потерял должность, несмотря на свою так называемую несменяемость.
Григорий Гельман получил срок «от пятнадцати лет до пожизненного». Это означало, что лишь по истечении пятнадцати лет заключения он имел право предстать перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Общеизвестно, что поджог воспринимается комиссарами как одно из наиболее общественно опасных деяний и что в первый раз почти никого с такой статьей не освобождают. Через восемь лет Григорий Гельман подал апелляцию, которая была отвергнута первой судебной инстанцией.
В тюрьме Гельману разрешили играть. Русские заключенные тюрьмы «Грин Хэйвен» уважали его как музыканта, но считали плохим товарищем. Гельман, по их мнению, был лишен душевной широты, которая в уголовных кругах чрезвычайно ценится. Гришу-скрипку называли крохобором и смеялись над его манерностью. Впрочем, в обиду его все равно не давали. Один из авторитетных в «Green Haven» людей, Григорий Злочевский, обвиненный в нескольких убийствах, предложил своему тезке-скрипачу немедленно обращаться к нему в случае каких-либо притеснений или угроз со стороны американских заключенных. Но скрипач держался независимо и воспользовался предложением Злочевского лишь однажды. Это произошло, когда какой-то парнишка, с которым Гельман повздорил, закричал ему в запальчивости: «Поломаю тебе пальцы!»
Глава 4
ЛЮДИ С ДРУГОГО БЕРЕГА
Латинский квартал
Если бы в нью-йоркскую тюрьму попал слепой, он бы решил, что находится совсем не в США, а где-нибудь в Мексике или в Колумбии. Устойчивый звуковой фон здесь составляют выкрики на испанском языке: «Dios mio! Cono! Carajo!»[22] Часто, по латиноамериканскому обыкновению, говорят и кричат несколько человек одновременно. Откуда-то доносятся и песни в стиле румбы, меренге, сальса. Музыка эта, конечно, не столь громогласно-навязчива, как рэп, который выкрикивают негры. Впрочем, латиноамериканский рэп тоже существует.
До ареста я находился в США почти четыре года. Первый год прожил в испанском Гарлеме — районе, населенном почти исключительно пуэрториканцами. Тем не менее познакомиться сколько-нибудь близко с их миропониманием и культурой мне не удалось: тогда я не знал испанского языка. Были, конечно, любопытные эпизоды и в ту пору. Когда я только приехал в Нью-Йорк (в мае 1991 года), поселиться мне пришлось у тети с дядей, в однокомнатной квартире на 96-й улице в Манхэттене. Хотя они были весьма гостеприимны, мне все же казалось неудобным занимать диван в их единственной спальной комнате. Другого места не было: квартира была настолько маленькой, что кухня, спальня и коридор составляли одно целое. Средств на собственное жилье мне не хватало. Что было делать?
Выручил меня «суперинтендант». Этим громогласным титулом в нью-йоркских многоквартирных домах невысокого разряда называется управдом, одновременно выполняющий функции дворника, истопника, электрика, сантехника и так далее. В доме на 96-й улице должность эту занимал пуэрториканец Педро, светлокожий мулат лет около пятидесяти, без переднего зуба, вечно улыбающийся и вечно пьяный. Встретил я его на обычном месте возлияний, рядом с местным пуэрториканским магазинчиком-закусочной (bodega по-испански), где он восседал на старом плетеном стуле. Напивался Педро всегда только пивом, в большой веселой компании таких же завсегдатаев. Перед тем как приступить, каждый отливал немного пива на землю — для усопших.
— Вот что, muchacho,[23] — сказал мне Педро, когда я объяснил ему суть проблемы, — я бедный человек и люблю помогать бедным людям, — тут он понизил голос. — Я тебя впущу в другую квартиру ночевать. Полдома-то пустует у хозяина… — Педро захохотал. — Хозяин жадный, ренту снижать не хочет, вот к нему никто и не идет. А теперь я хозяином буду! Поставишь койку, ключ тебе дам — вечером заходишь, утром спускаешься. А платить будешь, друг, сколько не жалко.
Металлическую кровать я взял со свалки, матрас выделил дядя, и на пару месяцев моя жилищная проблема была решена. Правда, в квартире, которую мне выделил Педро, все время что-то случалось: то отказывал замок, то ломились в дверь какие-то пьяные женщины, то рухнул потолок ванной комнаты. Даже то, что именно во время моего там пребывания в России произошел путч, мне показалось не лишенным внутренней логики. Педро иногда забегал ко мне разбираться с теми или иными безобразиями. Кончалось это обычно совместным распитием пива. Педро, приняв, начинал говорить громче и с более сильным акцентом:
— Я сам из деревни родом, четырнадцать человек нас было у отца с матерью. До двенадцати лет в школу ходил — потом все! На день рожденья, знаешь, что отец мне дарил? Часы? Кроссовки? Ха-ха! Инструменты, muchacho. В этом году лопату, на следующий год — мотыгу, там, топор. И не на стенку чтоб вешал, а чтоб помогал семье. И жили, слава Богу, — знали совесть, знали любовь, помогали нищим, больным. Не было у нас такого, чтобы старик умер один! А здесь… здесь… Говорят, что числом нас больше в Нью-Йорке, чем в Сан-Хуане. Но сколько здесь настоящих borriqua?[24] Они здесь исчезают, друг… они пропадают.
Пуэрториканцы, как известно, имеют американское подданство. Для многих пуэрториканских иммигрантов в Нью-Йорке именно это в конечном счете оборачивается бедой. Как американские граждане, они имеют право на субсидированное государственное жилье в специальных комплексах для неимущих. Эти здания, которые в Нью-Йорке называют projects, — настоящее дно города.
Ничего подобного даже в неблагополучных районах Москвы мне не приходилось видеть. Хотя сами квартиры вполне комфортабельны, со встроенными кондиционерами, холодильниками и другими удобствами, обстановка в этих жилых комплексах совершенно невообразима. Почти во всех зданиях кипит розничная торговля наркотиками, контролируемая молодежными бандами. В сферу влияния одной банды может входить этаж или даже часть этажа; лестницы и шахты лифтов становятся зонами боев. Иногда в здания врываются специальные подразделения полиции и устраивают повальные обыски и аресты всех подвернувшихся под руку подростков.
В этих домах живут много матерей-одиночек, и большинство детей уже с десяти-одиннадцати лет попадают в криминальную орбиту. Поскольку крупной и постоянной прибыли розничная наркоторговля принести не может, охотники до новых кроссовок или стереосистем часто грабят своих же соседей. Постороннему человеку заходить в такие дома чрезвычайно опасно; окрестные закусочные отказываются отправлять туда своих рассыльных. Еще хуже, чем просто физическая опасность, тамошнее мироощущение: грубый материализм и убежденность во всеобщей подлости и коварстве. «Life is a bitch, and then you die».[25]
Один благообразный седой пуэрториканец, встреченный мной в Фишкиллской тюрьме, говорил мне так:
— Попал я с семьей в этот комплекс в Южном Бронксе чуть не с самолета. Ну что, условия великолепные, жаловаться не мог: трехкомнатная квартира, кондиционер встроенный, окна большие. Жена тоже всему рада Одно только в этом доме плохо оказалось — нельзя было с детьми у подъезда вечерком посидеть, как у нас принято.

— А что такое? — спросил я. — Скамеек не было?
— Нет, почему, скамейки были, хорошие даже скамейки. Только в нас из окон все время бутылки бросали — пивные, винные. Один раз кирпич бросили. Почему? А не знаю. Не нравилось кому-то, что мы там сидим. Зачем это, мол, вы тут сидите?
Именно из нью-йоркских комплексов для малоимущих ведут происхождение большинство лидеров и бойцов двух крупнейших пуэрториканских группировок на тюремном острове Райкерс. Одна носит испанское название Netas, другая английское — Latin Kings. Общаются ассимилированные бойцы в основном по-английски, хотя и переходят на ломаный испанский при посторонних. Эти две банды делят между собой различные сектора и блоки городских тюрем, как делили на воле этажи и лестничные клетки.
Любопытно, что именно «Латинские короли», имеющие репутацию группировки эффективной и брутальной, пользуются малодинамичной структурой управления, сравнить которую можно разве что с лестницей родового наследования в Древней Руси. Смотрящим блока или корпуса у них становится, как правило, первый по старшинству, причем учитывается не «членский стаж» в банде, а именно срок пребывания в этом корпусе или блоке. Уму непостижимо, каким образом при такой системе они умудряются сохраняться как боеспособная организация. Американские власти борются с ними беспощадно — впрочем, как и со всеми альтернативными структурами власти. Нередки случаи, когда по показаниям одного осведомителя суды спокойно отправляют за решетку на десятилетия, а то и пожизненно две-три дюжины «латинских королей» или «королев». Последнее — не оговорка: на воле эта группировка довольно активно пополняется девушками.
В отличие от «Латинских королей», Netas иногда принимают в свою среду людей непуэрториканского происхождения. Мне приходилось видеть красно-белочерные ожерелья Netas и на американских неграх, и на итальянцах, и даже на одном армянине из Еревана. Эта группировка утверждает, что хочет защищать всех заключенных от беспредела и произвола. Смотрящий «Латинских королей» в том корпусе острова Райкерс, где я сидел в 1995 году, подытожил разницу между Netas и его бандой так: «They have a heart — we don’t!»[26] Казалось, что он очень гордился этим различием.
Третья крупная группировка в нью-йоркских тюрьмах состоит исключительно из уроженцев Доминиканской Республики. Характерный контраст составляет уже само ее название — «Тринитарии». Так называлось тайное общество испаноязычных патриотов, организовавших в 40-х годах XIX века восстание против креольского господства на острове Эспаньола. После кровавой борьбы остров, как известно, был разделен на два государства: Гаити на западе и Доминиканскую Республику на востоке.
Доминиканцы — народ удивительный. Ни одна другая нация в тюрьме не знает так хорошо свою историю. Доминиканские бандиты весьма охотно, и подробно обсуждают даже события колумбовских времен, когда именно на их острове были основаны первый в Новом Свете университет и кафедральный собор. Каждый знает историю индейского вождя Энрикильо, воспитанного иезуитами и восставшего впоследствии против испанцев. По рукам братвы постоянно ходят книжки о колоритных доминиканских президентах XIX — начала века. Один из них на несколько лет присоединил свою страну обратно к Испании, а другой лично застрелил из револьвера своего предшественника. Самым любимым объектом дискуссий является президент Трухильо, диктатор, правивший в те же годы, что и Сталин. Трухильо, которого величали Отцом Обновленной Родины, переименовал столицу государства — Санто-Доминго — в свою честь (город Трухильо). Все доминиканские дома и учреждения, вплоть до психиатрических лечебниц, должны были вывешивать парадный портрет диктатора с надписью: «Здесь хозяин Трухильо!» Некоторые другие привычки вождя тоже имели аналоги в новой российской истории. Известна, к примеру, история трех сестер Мирабаль, красавиц, казненных диктатором за отказ разделить с ним ложе.
Доминиканские иммигранты в Нью-Йорке сосредоточены в северной части Манхэттена — в районе, который называется Washington Heights. Там, кстати, есть и несколько русских кварталов. В 1991 году, вскоре после моего приезда в Нью-Йорк, в этом районе разразился настоящий бунт, подобного которому не было в городе уже давно. В ответ на убийство полисменами убегавшего от них доминиканского наркоторговца, толпы его соотечественников начали атаковать патрульные машины и строить баррикады. Я хорошо помню, что в те дни у полицейских машин были заклеены крест-накрест задние стекла: каждый уважающий себя доминиканец считал тогда за должное метнуть им вслед камень. Тогдашний мэр Нью-Йорка демократ Динкинс поспешил утихомирить страсти, посетив семью убитого и оплатив за счет города отправку гроба на родину. Но еще несколько месяцев спустя на запаркованные в Washington Heigftts полицейские машины с крыш иногда падали кирпичи. Местные жители называли это «соггео аегео» — воздушная почта.
Сравнительно с численностью их нации в тюрьму доминиканцев попадает очень много. В Фишкилле, по признанию моего хорошего приятеля Хорхе Антонио, в 2000 году находилось около ста заключенных только из одного доминиканского города — Сан-Франсиско-де-Макорис. Для сравнения, китайцев никогда не насчитывалось больше двух десятков, а русских — больше полудюжины. Объясняется это специфической ролью, которую играют доминиканцы в нью-йоркской наркоторговле.
О кокаине и поэзии
Широко известно, что 80 процентов употребляемого в США кокаина попадает в эту страну из Колумбии. Еще в 70-х годах колумбийские производители наркотика сами организовывали и доставку, и расфасовку, и продажу. Габриэль Гарсиа Маркес в своей документальной хронике «Информация о похищении» описывает зоологический сад, устроенный наркобароном Пабло Эскобаром в предместьях родного Медельина. У входа в сад был водружен на постамент легкий самолет, на котором люди Эскобара доставили на побережье Флориды первую тонну кокаина.
В 80-х годах американские власти серьезно взялись за колумбийцев. Стало широко применяться внедрение полицейских агентов в среду наркодельцов. Федеральное агентство по борьбе с наркотиками начало подсылать к ним псевдопокупателей, приобретавших «пробные партии» кокаина на суммы в сотни тысяч, даже миллионы долларов. Если после благополучного исхода первой сделки колумбийцы позволяли себе утратить осторожность, их ловили на второй или на третьей, не считаясь с огромными бюджетными расходами на такие операции. Самих поставщиков хотя и не отправляли в расход (законы США, в отличие от китайских или иранских, не предусматривают смертной казни за наркоторговлю), но пожизненное заключение было им гарантировано.
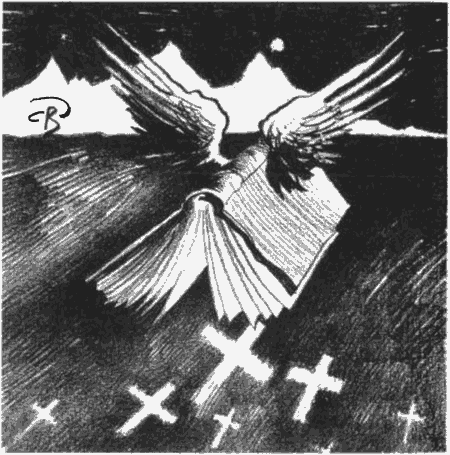
А пожизненное заключение в федеральной тюрьме США не оставляет даже шанса на «выход на поселение» через 25 лет, как нынешний уголовный кодекс России.
В США это означает провести 20, 30, 50 лет за решеткой, наблюдая свое медленное физическое старение и омертвение души среди бетона и железа, торопя безбла-годатную смерть.
Колумбийцы вынуждены были изменить тактику. Они поставили целью предельно сократить свое присутствие на американской территории. Нужны были люди, которые бы перекупали у них оптовые партии кокаина немедленно после доставки. Пуэрториканцам доверять было опасно: их американское подданство давало им право на работу в полиции, а американское воспитание — готовность сотрудничать с полицией. Более надежными посредниками сочли кубинцев в Майами и доминиканцев в Нью-Йорке.
Доминиканцы приобретали кокаин по цене от 15 до 20 тысяч долларов за килограмм. При расфасовке к достаточно чистому колумбийскому кокаину подмешивался тальк или молочный порошок, и из одного килограмма получалось два, а то и два с половиной. Это — стандартная практика наркоторговцев, которую покупатели розничных «доз» считают неизбежной, хотя и предполагают, что это делается еще в Колумбии. Расфасовка идет на пакеты в одну унцию (около 30 граммов), которые обычно перепродаются уже торговцам уличного уровня по цене 1000–1200 долларов. Бывает, что сами доминиканцы осуществляют и мелкорозничную торговлю на граммы по цене 60–80 долларов за грамм.
Процесс этот делает возможными огромные прибыли, но он весьма опасен, и тем опаснее, чем ближе к клиенту. Расфасовка может осуществляться в любой квартире силами двух-трех человек; розничная торговля всегда происходит на виду и требует участия целой группы. Хотя кокаин имеет репутацию аристократического наркотика, который употребляли Фрейд, Луи Армстронг и Шерлок Холмс, вокруг точек его продажи неизбежно начинают появляться люди несколько иного социального статуса — бомжи, проститутки, клиенты проституток, торговцы краденым. Некоторые из них пользуются своей осведомленностью о точке, как картой в рукаве, которую они извлекают в случае ареста. Некоторые пытаются просто ограбить наркоторговца, зная, что он-то в полицию никак обратиться не может. Колумбийские оптовики идут на колоссальный, но кратковременный риск; доминиканцы вынуждены каждодневно испытывать на себе опасности жестокой и бесчестной нью-йоркской улицы.
Тем не менее к началу 90-х годов огромное количество доминиканцев втянулись в это рискованное дело. Нередки были случаи, когда члены одной семьи работали в США по вахтовому методу: год или два торговал кокаином старший брат, затем его сменяли на точке младшие братья, племянники, кузены и так далее. В тюрьме среди доминиканских заключенных, попавшихся на наркотиках, можно встретить и образованных людей, окончивших в Санто-Доминго медицинский факультет или школу бизнеса. Если русские преступники в США, как правило, занимались чем-либо подобным и в России, то многие доминиканцы, прибывающие в Нью-Йорк с честными намерениями, испытав тяготы иммигрантской жизни, соблазняются быстрыми заработками наркоторговцев. Позорным у них это не считается.
Даже среди латиноамериканских заключенных доминиканцы выделяются необыкновенной открытостью: при первом знакомстве могут рассказать всю историю жизни. Между собой они говорят громко, постоянно жестикулируя и наподдавая друг другу локтями. У доминиканцев очень распространен обычай давать друг другу прозвища на основе физических характеристик, например: Flaco (худой), Peludo (волосатый), Morenito (черненький). Эти прозвища никто не воспринимает как обидные, а иногда и сами их носители так сживаются с ними, что начинают даже так представляться. Вместо «Я — Хуан» или «Я — Энрике» он начинает говорить «Я — Толстый» или «Я — Рябой».
Доминиканцы охотно помогали мне в изучении испанского языка. Нужно сказать, что занялся я этим серьезно лишь на четвертом году заключения. В декабре 1998 года, после нескольких месяцев занятий испанской грамматикой, я решил, что пора, наконец, попробовать себя в чтении. Во всех тюремных библиотеках штата Нью-Йорк есть испанские секции. Недолго думая, я выбрал изданную еще при Франко «Антологию испанской поэзии» и отправился с этой книгой в тюремную школу.
Был вечер, и в маленькой классной комнате, кроме меня, никого не было. Надзиратель снаружи нехотя перелистывал старую газету. Было тихо, и за оконными решетками кружился освещенный прожектором снег. Приближалось Рождество.
Я открыл книгу наугад и вдруг замер, пораженный совпадением. «Выходя из тюрьмы», — гласил испанский текст. Это было стихотворение августинского монаха Луиса де Леона, по преданию, написанное им углем на стене подземелья инквизиции в Вальядолиде. Я прочитал первые строки:
Aqui la envidia у mentira
Me tuvieron encerrado..[27]

Я почувствовал строгую и мужественную красоту испанской речи, и внутри у меня что-то дрогнуло от неожиданной горечи возгласа:
Dichoso el humilde estado
Del sabio que se retira
De aqueste mundo malvado![28]
Я сидел, ошеломленный этими строфами, величественными и сухими, как испанские скалы и степь. Но более всего я был поражен нахлынувшим вдруг чувством вечности и ее кругов, на одном из которых я вдруг соприкоснулся с испанским монахом XVI века, моим собратом по несчастью, проведшим четыре года за решеткой. «В хижине со скудным столом, в чудесных полях лишь Богом поверяет он жизнь», — читал я, до предела взволнованный этим чужестранным воплощением извечной тюремной мечты. В тот день я понял значение известных слов Ломоносова: «Испанский язык хорош для разговора с Богом».
Испанская литература с тех пор неизменно скрашивала мое тюремное существование. Латиноамериканские заключенные, конечно, рекомендовали мне тех или иных авторов — например, Сервантеса, которого многие называют своим любимым писателем. Некоторые, конечно, это делают в духе маршала Язова. Он, помню, в каком-то телевизионном интервью еще при Горбачеве ответил после долгих и напряженных раздумий, что очень любит Пушкина. Один перуанец всерьез уверял меня, что величайшей книгой Сервантеса был вовсе не «Дон Кихот», а некий трактат под названием «О любви», который он написал втайне и за огромные деньги продал во Францию. «С тех пор, — заключил перуанец, — французы превзошли все другие народы в искусстве любви».
Среди латиноамериканских заключенных существует традиция писать стихи любимым женщинам, но, в отличие от русских, совершенно не обязательно свои стихи. Мой хороший приятель Эрберто, уроженец колумбийского города Кали, осужденный за торговлю наркотиками и оружием, завел специальный блокнот, в который он записывал понравившиеся ему строки. Каждая из его многочисленных подруг в различных странах Латинской Америки получала к Рождеству, дню рожденья или дню ангела что-нибудь нежное из Кеведо, Бекера или Гарсиа Лорки. В некоторых поэтических сборниках из библиотеки стихи с наиболее романтическими названиями были просто вырваны.
Возможно, латиноамериканцы правы, посылая женщинам стихи чужие, зато хорошие. Среди русских некоторые сочиняют с искренним душевным порывом, но результат получается странный. Один паренек из Белоруссии, вдохновленный примерами других наших тюремных стихотворцев, решился написать элегию своей подруге. Элегия, первым читателем которой удостоился быть я, начиналась такими проникновенными строками:
Родная, ты кушала ль когда-то в туалете?
А может, чай пила когда-то в нем?
В ответ на взрыв хохота, который я не сумел сдержать, поэт смущенно пояснил, что он совершенно не погрешил против истины, чему я сам мог бы быть свидетелем. Человек, сидящий в американской одиночной камере, действительно ест и пьет в двух шагах от унитаза, и размерами своими камера, особенно на пересылках, напоминает санузел. Его любимая девушка, продавщица из Барановичей, вероятно, никогда ничего подобного не испытывала. Я признал, что этот яркий образ поэта должен был вызвать в ней самое живое сочувствие к его участи.
Кабальеро и «Светящиеся кресты»
Теплым осенним вечером 1999 года несколько знакомых доминиканцев пригласили меня послушать латиноамериканскую народную поэзию. Конечно, заранее ничего не организовывалось и не планировалось (в тюрьме это вообще чревато неприятностями). Просто несколько приятелей, повспоминав вдоволь родные города, поля и кофейные плантации, решили почитать старинные баллады. Для современного прогрессивного Человека баллады эти о безумных страстях, рыданиях и крови, вероятно, так же экзотичны, как и прекрасные русские песни о Хасбулате и Стеньке Разине.
Баллады не поют, а именно декламируют (на воле, как мне говорили, возможен аккомпанемент гитары). Душа доминиканского народа как нельзя ярче проявляется в этой декламации — с грозными выкриками, воодушевленными тирадами и горьким смехом. Лучшим чтецом был мой товарищ Хорхе Антонио, отбывавший уже 14 лет за торговлю наркотиками, выходец из семьи скотопромышленников средней руки в Сан-Франсиско-де-Макорис. В этой среде, как я слышал, баллады особенно популярны.
Мне хорошо запомнились две баллады. В одной провинциальный кабальеро обращается к даме своего сердца, но слушателю сразу становится ясно, что происходящее выходит за рамки обычной куртуазии. Он рассказывает, как встретил соперника на безлюдной дороге в горах. Соперник приветствует его, что-то спрашивает и в ответ слышит только: «Los hombres machos no hablan, sino pelean»(«Настоящие мужчины не говорят, а сражаются»).
Начинается схватка. Кабальеро смертельно ранит соперника, и тот, падая, восклицает: «Я все равно люблю ее, я ношу ее образ в моей душе!»
«И тогда, — восклицает кабальеро, — и тогда, сеньора, я бросился на него, и снова, и снова мой клинок вошел в его грудь — сеньора! — ища его душу!» И с безумным надрывом Хорхе Антонио выкрикнул последние слова: «Porque en el alma la llevaba dentro, у yo no queria que se la llevara!».[29]
Притихшие наркодельцы и бандиты потрясенно качали головами, и лишь сам чтец смущенно усмехнулся: «Старая вещь!»

Действие второй баллады происходило в таверне. Крестьянин, собираясь домой, отказывается от предложенного другом стакана. Друг обижается, настаивает. Тогда крестьянин начинает рассказ. «Ты знаешь, — говорит он, — что год тому назад умерла моя любимая жена Хуана, оставив нашего сына сиротой. Я любил ее больше жизни. Каждый вечер я заливал свое горе крепким ромом. И порой, напившись, я видел ее в углу или у окна, и я кричал ей: «Хуана! Хуана!» И мой сын, просыпаясь, бежал ко мне: «Где мама?» А я отвечал ему только: «Так ты не видишь ее, сынок? Вот она!» И пил еще, и смеялся, и рыдал. И вот однажды, придя с поля, я увидел сына, лежащего у порога, едва живого, а рядом с ним была пустая бутылка рома. «Сынок, — закричал я, — зачем же ты пил ром?» «Папа, — ответил мой сын, — когда ты пьешь ром, ты видишь маму, и я тоже хотел увидеть ее!» Выдержав паузу, Хорхе произнес наивно и печально: «Comprendes porque no tomo mas?» («Понимаешь, почему я больше не пью?»)
Как-то раз мы с Хорхе Антонио сидели во дворе Фишкиллской тюрьмы, поедая доминиканский рисовый пудинг его изготовления. Он в тюрьме, как и многие долгосрочники, научился хорошо готовить. Хорхе, у которого приближалось освобождение, стал рассказывать мне о своих планах: открыть небольшой ресторанчик в родном городе. Назвать он его хотел почему-то «Лампа Диогена».
— Готовить сам буду, — сказал Хорхе. — Никакой изысканности, простые наши блюда: лангусты, устрицы и жареные бананы.
— Ты и публику развлекать можешь сам, — пошутил я, — «Баллада о Хуане и бутылке рома»…
— А ты знаешь, — оживился Хорхе, — у нас в городе был очень похожий случай, еще даже пожутче. Я сам все видел и слышал — да что я! Весь квартал сбежался. Девочка восьми лет, у которой недавно умер отец, начала, как будто под гипнозом, разговаривать его голосом! Ты представь, что это такое — восемь лет ребенку, а голос раздается взрослого мужчины?! Говорит, что он — дух ее отца и что ему хочется рома. Так больше того — принесли ром, и девочка, ребенок, начала его пить прямо из горла и всю бутылку выпила! И ей ничего не было — как будто действительно не она, а дух хлобыстал! Я-то, конечно, как человек верующий, думаю, что это не отец ее был, а демон. Но страшно было, так или иначе… И несколько раз это повторялось — потом привели какого-то santero,[30] духа изгонять. Мать на это долго не могла решиться — обидеть боялась покойного мужа…
Латиноамериканцев в целом можно назвать мистически чуткими людьми, но народы карибского региона в этом вообще выделяются особенно. Если бы Христос явился в наши дни, то, вероятно, предпочел бы Доминиканскую Республику или Колумбию. Огромное большинство жителей этих стран верят в Бога, причем не как в идею или принцип добра, а именно как во Вседержителя, доступного приобщению посредством церковных таинств. Ревностный и яркий католицизм латиноамериканцев переплетается с уникальным синкретическим верованием, называемым «Сантория», буквально «поклонение святым». Этот культ, воспринимающий мир как арену борьбы добрых и злых духов, существует в тех латиноамериканских странах, куда ввозили в больших количествах рабов из Западной Африки.
«Сантория» особенно сильна в Доминиканской Республике, Пуэрто-Рико и на Кубе. Духи природных стихий африканского племени йоруба на американском континенте стали отождествляться со святыми католического пантеона. Но если, скажем, на Руси почитание Ильи-пророка лишь на подсознательном уровне сохранило элементы Перуновского культа, то в Латинской Америке маги передавали из поколения в поколение причудливые имена африканских божеств. Больной пуэрториканец или кубинец, ищущий заступничества Богоматери Скорбей (Nuestra Senora de los Dolores), может отслужить Ей молебен в католическом храме, а затем отправиться к служителю «Сантории» (сантеро или бабалао), где перед статуей Богоматери будут курить благовония, принося Ей в жертву фрукты, сладости и даже денежные купюры. Но называть Ее сантеро будет именем африканской богини Огун, искренне веруя, что это один из Ее аспектов. В ритуалах «Сантории» часто употребляется святая вода, и некрещеный человек жрецом «Сантории» быть не может.
Богатство этого синкретического культа, с его сложнейшими ритуалами очищения, жертвоприношения, предсказания будущего, столь же удивительно, сколь и сам факт его выживания вопреки прагматическому духу времени. Доминиканская крестьянка, молящаяся Богу в католической церкви и потом приносящая Ему наивную жертву фруктов, конфет и орехов на тайном алтаре, живет в столь же насыщенном духовном пространстве, что и жители Малой Азии III века, чтившие Богоматерь-Деметру или Христа-Митру.
Однажды другой мой знакомый доминиканец в Фишкиллской тюрьме, добрый и немногословный дядька по имени Эвклид, принес мне великолепно иллюстрированную книжку поэзии под названием «Светящиеся кресты». Хотя книга была современная, большинство стихов имело форму классического испано-итальянского сонета. Стихи почти без исключения были о покойных родителях автора и других умерших родных. Грустная и нежная книга, где сцены из детства соединяясь с раздумьями у смертного одра, постоянно возвращались к теме вечности и смысла человеческой жизни. Вопрошание о бессмертии души являлось в стихах, словно музыкальная тема. Я был совершенно поражен, узнав, что автор «Светящихся крестов» Хоакин Балагер был главой хунты, захватившей власть в стране после убийства диктатора Трухильо. Впоследствии он стал президентом Доминиканской Республики. Страна, в которой мироощущение людей чем-то близко античному, явила даже своего Марка Аврелия.
С книгой Балагера была связана любопытная история. В тот самый день, когда я собирался вернуть ее Эвклиду, у меня в камере был обыск. Хотя по правилам надзиратель обязан после обыска все положить на место, обычно груду книг, документов, одежды, грязного белья просто запихивают под койку. В тот день надзиратель попался особенно ленивый. Книгу Балагера, которую я оставил под подушкой, он после обыска положил на батарею отопления, и книга провалилась. Вернувшись в камеру, я перевернул все вверх дном в поисках книги и решил, что ее просто украли. Перед Эвклидом мне было стыдно. Я встретил его во дворе, под сенью единственного дерева, и предложил возместить потерю книги деньгами, поклявшись при этом, что я ее не украл.
Эвклид действительно принял оскорбленный вид, но совершенно по иному поводу, чем я предполагал. «Как ты мог подумать, — закричал он, обычно такой вежливый и спокойный, — как ты мог подумать, что я тебя заподозрю в краже! Ты умалишенный! Я — человек чести, и вся семья моя по чести живет! Да как же ты… Считай, в общем, что книгу я тебе подарил и ее у тебя украли, а не у меня!»
Этот благородный доминиканец, как я узнал впоследствии, был осужден за торговлю наркотиками и ранение полицейского при задержании. То есть, по классификации нью-йоркского губернатора Патаки, он входил в категорию «особо опасных агрессивных хищников». Комиссия неоднократно отказывала ему в досрочном освобождении.
Колумбия в микрокосме
Следующую по численности латиноамериканскую общину в тюрьме составляют колумбийцы. Это — особенность Нью-Йорка. Во Флориде, к примеру, в тюрьмах очень хорошо представлены кубинцы, а в Калифорнии или Техасе — мексиканцы. В штате Нью-Мексико большинство преступников родом с другого берега Рио-Гранде. Когда я приехал туда в 1994 году, у всех на слуху было побоище, учиненное в одной из тюрем штата конкурирующими мексиканскими бандами, во время которого было убито более 30 заключенных. Но в Нью-Йорке кубинцев и мексиканцев не так много. Колумбийцы же населяют значительный по величине район Джексон-Хайтс в Квинсе, живут и в некоторых других кварталах города.
Колумбия… Нет страны, которую рисовало бы столь же черными красками массовое сознание Соединенных Штатов. Если для россиян известный по газетам образ Пабло Эскобара имел все же противовес в лице нобелевского лауреата Гарсиа Маркеса, то американцы, мало знакомые с иностранной литературой, считают Колумбию исключительно царством наркоторговцев и убийц.
Многогранная сложность жизни, как правило, недоступна американскому менталитету.
В 1990–1991 годах в Медельине совершалось по 20 убийств в день, и Эскобар выплачивал 5 миллионов песо за голову офицера полиции. Тогда же там проходили великолепные фестивали поэзии, собиравшие сотни участников и тысячи зрителей со всего земного шара. В Кали, где боевики Вооруженного революционного фронта Колумбии десятками похищали состоятельных граждан и иностранцев прямо на улицах, находятся один из лучших в Латинской Америке университет и Центр изучения испанской колониальной архитектуры, представленной в городе такими шедеврами, как церковь La Hermita в стиле поздней готики и церковь Святого Антония эпохи зрелого барокко. Столицу Колумбии — Боготу — из-за богатства и разнообразия ее культурной жизни называют Atenas de Sudamerica — «южноамериканские Афины».
Многие заключенные-колумбийцы словно воплощают в микрокосме эту противоречивую природу своей страны. Они, как правило, имеют приличное образование, значительно превосходя в этом отношении среднего южного, а тем более северного американца. Говорят они, почти не употребляя жаргона, на очень литературном испанском языке. Другие латиноамериканцы в тюрьме охотно признают: «В Колумбии говорят правильнее всего». Колумбийцы очень интересуются политикой — как международной, так и внутренней. Они могут часами обсуждать достоинства и недостатки консерваторов («синих»), либералов («красных»), а также различных крайне левых и крайне правых группировок, которые в Колумбии напоминают частные армии. Колумбийцы в тюрьме ведут себя очень сдержанно, почти никогда не кричат. Многие из них даже старомодно вежливы, крестятся перед едой, чтут святых и Матерь Божью.
Но если удается вызвать заключенного-колумбийца на доверительный разговор, то можно услышать вещи весьма мрачные. Например, рассказы об уничтожении их картелями всех родственников доносчика или нечестного партнера, включая стариков и детей. Оптовую торговлю наркотиками многие колумбийцы считают благом для всей их нации. Нынешнюю «великую депрессию» в Колумбии они почти единодушно связывают с арестами лидеров картелей Медельина и Кали, ранее инвестировавших миллиарды наркодолларов в экономику страны. К убийствам, похищениям, террористическим актам, которыми изобилует колумбийская политика, они относятся вполне спокойно, воспринимая все это как неотъемлемый элемент борьбы за влияние и власть. Возможно, основа такого рода стоицизма была заложена в национальном сознании колумбийцев кровопролитной гражданской войной. По расстановке сил война эта напоминала испанскую, но продолжалась десять лет — с 1948-го по 1958 год.
Среди колумбийцев в Фишкилле встречались очень любопытные персонажи. Одним из них был мой приятель Эрберто, уроженец Кали. Семья его владела в этом городе компанией по импорту и экспорту химических продуктов. Фирма была широкого профиля и выпускала, помимо всего прочего, «белое золото». После окончания университета Эрберто был направлен в Соединенные Штаты для изучения рынков сбыта.
На первых порах дела у него шли замечательно. Эрберто арендовал в Манхэттене три квартиры, в одной из которых он отдыхал, в другой — занимался бизнесом, а третью использовал как место для интимных встреч. От желающих разделить его компанию отбоя не было: в модных ночных клубах, где Эрберто появлялся в черном костюме от Армани и с золотой цепью на шее, любительницы кокаина слетались к нему, как пчелки. Эрберто, впрочем, тратил на развлечения лишь небольшую часть своих доходов. По проверенным каналам он регулярно переводил в Колумбию значительные суммы в твердой валюте.
Однажды его клиент, нью-йоркский итальянец, привел с собой молодого пуэрториканца, вальяжного и с иголочки одетого, который без преамбул заявил, что интересуется покупкой крупной партии кокаина. Хотя земляки неоднократно предупреждали Эрберто не иметь дела с представителями этой нации, он, как и многие в его положении, слишком уверовал в свою счастливую звезду. Пуэрториканец исправно расплатился за первую партию, за вторую, за третью. Эрберто был уже вполне спокоен на его счет и не удивился даже просьбе пуэрториканца продать ему также и несколько стволов. Через надежных людей Эрберто достал пятнадцать автоматов Калашникова и договорился еще о ручных пулеметах и гранатах. Тот факт, что подобного рода предметы чрезвычайно редко используются нью-йоркскими бандитами, у Эрберто подозрений не вызвал: в Колумбии боевое оружие — в порядке вещей.
Колумбийца едва не спасла случайность. Накануне дня, когда пуэрториканец должен был приехать за ручными пулеметами, у Эрберто раздался телефонный звонок. Один из его близких друзей, находившийся в Майами, был обвинен в финансовой нечистоплотности и задержан людьми из Медельина на частной квартире. Другу угрожала смерть. Эрберто, никому не сказав ни слова, помчался в аэропорт Ла-Гвардия и вылетел во Флориду. Хотя ему и удалось предотвратить убийство друга, на разрешение чрезвычайно запутанной ситуации и переговоры с представителями различных картелей у Эрберто ушло несколько недель. Все это время особое полицейское подразделение по борьбе с наркотиками, готовившееся захватить колумбийца с поличным в момент передачи оружия их агенту, ломало голову, куда Эрберто мог подеваться.
Когда он все-таки вернулся в Нью-Йорк, нетерпение полицейских достигло такой степени, что они даже не удосужились договориться с ним о передаче товара. Как только телефонный номер Эрберто появился на бипере пуэрториканца, тот немедленно оповестил группу захвата. Встреча с колумбийцем была назначена на Четырнадцатой улице Манхэттена. Последним, что Эрберто видел на свободе, была толпа подростков и матерей с детьми, покупавших в тамошних дешевых магазинах одежду и школьные принадлежности. Эрберто вышел из машины и не успел сделать и шага, когда возникшие отовсюду полицейские в штатском попадали на него кучей, как на футбольный мяч.
В участке, где избитый и расхристанный Эрберто пытался все отрицать, он в первый и последний раз в жизни увидел своего доверенного клиента с полицейским жетоном на шее и услышал его прощальные слова: «Сгниешь в тюрьме, колумбийская сволочь!» После полутора лет на острове Райкерс, после демонстраций видео- и аудиозаписей его встреч с пуэрториканцем, Эрберто согласился признать себя виновным в 24 различных эпизодах торговли наркотиками и оружием в обмен на срок «от 10 лет до пожизненного».
Эрберто как-то предложил мне переписываться с его сестрой в Кали. Сестра недавно потеряла мужа («Уехал в джунгли и не вернулся», — лаконично выразился колумбиец.) Я написал письмецо. Эрберто внимательно прочитал его, поправил несколько грамматических ошибок, но в целом одобрил, что и засвидетельствовал вложенной в конверт запиской от своего имени. Через несколько недель надзиратель выдал мне конверт с колумбийскими штемпелями и маркой, на которой изображена была статуя Cristo El Rey (Царя-Христа), символа города Кали. Сестра наркоимпортера писала мне в красивых лапидарных выражениях XIX века: «Вам трудно себе представить, как близко к сердцу принимаю я участь моего обожаемого брата… Помните, что мудрость является плодом разочарований и горького опыта». Письмо заканчивалось цитатой из Святого Франциска Сальского.

Еще в Фишкилле сидел колумбиец Фернандо Вилья, одаренный писатель из Медельина, публиковавшийся в престижных литературных журналах и получивший во Франции премию за один из своих рассказов. Вилья, сын крупного колумбийского политика-либерала, получил прекрасное образование, хорошо знал европейскую литературу и особенно чтил Достоевского и Чехова. Как многие латиноамериканские интеллектуалы, он ненавидел Соединенные Штаты, «империю потребления с эстетически бесплодным протестантским наследием». Возможно, духовное неприятие американской цивилизации усугублялось для Вильи еще и личным опытом: в 1992 году он был арестован нью-йоркской полицией, имея при себе сумму в 1,5 миллиона долларов наличными. Несмотря на то, что сам он в наркоторговле не был замешан, прокуратура выдвинула против него обвинение в отмывании денег медельинского картеля. Уверения колумбийского литератора, что деньги эти были выделены состоятельными родителями на покупку квартиры в богемном квартале Нью-Йорка, успеха не имели. Вилья получил срок «от восьми с половиной лет до пожизненного». «Вот вам страна неограниченных возможностей!» — горестно восклицал колумбиец, рассказывая мне о своих злоключениях. В 1996 году, когда губернатор штата Нью-Йорк издал указ, разрешающий досрочную депортацию иностранцев, Вилья явился на комиссию. Но и тут его постигла неудача. «Сколько бы я ни убеждал их меня отпустить, — рассказывал Вилья, — в глазах у них я читал одно: этот мерзавец имел больше денег, чем я зарабатываю за 20 лет! Ведь американцы мыслят именно так: они материалисты».
Проверка на анашу
С одним колумбийцем в Фишкиллской тюрьме у меня произошел серьезный конфликт. Летом 1998 года я угодил на неделю в карцер. Поскольку нью-йоркские тюрьмы всегда наполнены под завязку, койку в этом случае за заключенным не сохраняют. После освобождения из карцера меня отправили в другой блок, где моими соседями по камере оказались колумбиец и китаец.

Соседи мне сразу не понравились. Китаец был дурашливый, без всякого повода разражался идиотским смехом и включал на полную громкость магнитофон с записями поп-звезд из провинции Фудзянь. Колумбиец по имени Эдуардо был болтлив и обладал маниакальной страстью к уборке, очевидно, не зная, чем бы еще себя занять. Эдуардо был выходцем из маленького городка в колумбийских Андах и по внешности напоминал индейца. В США он попал нелегально через мексиканскую границу и работал в Нью-Йорке рядовым бойцом какой-то мелкой группировки наркоторговцев.
В тюрьму Эдуардо попал за убийство. Какой-то американец получил от старшего группировки три килограмма кокаина и, не расплатившись, сбежал в Майами. Скрывался он, очевидно, не очень умело: Эдуардо и его коллеги быстро вышли на след мошенника, схватили его и в багажнике автомашины привезли в Нью-Йорк. Убийство, как уверял Эдуардо, было случайностью. «Денег при нем не было. Мы его привезли на квартиру в Квинсе, привязали к стулу и… стали стыдить. Мы тебе, говорим, доверились, а ты нас обмануть хотел. Один парнишка просто хотел его попугать пистолетом. Приставил ему дуло к виску, а пистолет возьми и выстрели. Все из квартиры разбежались, а меня оставили, чтобы труп убрать. Я только начал, а тут полиция. Пистолет-то был «Магнум», пуля, значит, пробила ему голову, пробила стену и к соседу влетела. Сосед полицию вызвал».
Припадки болтливости и глупого смеха случались у Эдуардо и у китайца синхронно. Я быстро вычислил, что они курят анашу. Впрочем, уже через несколько дней они перестали от меня прятаться. Более того, они начали весьма настойчиво предлагать мне выкурить с ними косяк. Тут я уже всерьез забеспокоился, и для беспокойства у меня были веские причины.
Наркотиков в нью-йоркских тюрьмах очень много. Никакими досмотрами и просвечиваниями властям никогда не удавалось ограничить их приток. Устроить надежный тайник для пакета с марихуаной или героином в тюрьме не составляет проблемы. Единственным сколько-нибудь эффективным методом борьбы с наркоманами является анализ мочи, отказаться от которого нью-йоркский заключенный не имеет права. Отказ приравнивается к положительному результату анализа. Заключенный получает за это три месяца карцера и очень неприятную запись в личное дело.
Хотя власти утверждают, что все заключенные подвергаются периодическому тестированию, в действительности это совсем не так. Начальство полагается на сообщения стукачей и наблюдения надзирателей, которых в академии учат распознавать визуальные признаки наркомании. Но если подозревают одного человека в камере, в лабораторию обычно вызывают и соседей. Поэтому для того, кто регулярно курит или ширяется, лучшая мера предосторожности — втянуть в это дело всю камеру. Тогда соседи не пойдут доносить, а другим заключенным прознать о наркомане гораздо труднее.
Так как Эдуардо, очевидно, мне не доверял, он решил ввести и меня в круг повязанных. Разумнее всего мне было попытаться немедленно из этой камеры уйти. Но сделать этого я не успел.
Солнечным октябрьским утром меня разбудил китаец, вне обыкновения серьезный, и сообщил, что Эдуардо только что вызвали в клинику. Я сразу понял, что это означает. Через полчаса в камеру, хлопнув дверью, вошел колумбиец. Он опустился на койку и стал напряженно размышлять. Через несколько минут Эдуардо Достал из тумбочки колумбийский журнал «Semana» (Неделя) и резко поднялся с койки. Приблизившись ко мне, колумбиец недобро ухмыльнулся и сказал: «По-смотри, какая здесь есть фотография».
На журнальном снимке был изображен тучный человек с заклеенными пластырем глазами и ртом, лежащий на обочине шоссе. На громоздящемся животе заметны были кровавые очертания многочисленных ножевых ран.
— Вот так у нас в Колумбии поступают со стукачами, — произнес Эдуардо, делая вид, что ему весело.
Здесь нельзя уже было отделаться вежливой улыбкой. Значение этой выходки колумбийца было для меня слишком явным.
— Ты, стало быть, считаешь, что я — стукач и доношу на тебя? — спросил я.
Не знаю, хватило ли бы у меня решимости ударить его в случае утвердительного ответа, как это полагается по тюремным понятиям. Но колумбийца моя реакция привела в замешательство.
— Да ничего я не считаю! Просто так показал! Ты — параноик какой-то! — закричал покрасневший Эдуардо и, вернувшись на место, надел магнитофонные наушники.
Следующая ночь была для меня тяжелой. Я не мог ни на минуту расслабиться и, лежа на койке без сна, ожидал нападения в любой момент. Эдуардо вряд ли бы решился на что-то сам, но… Камеры на ночь не запирали. Войти в маске и порезать спящего бритвой было бы делом нескольких секунд. Я неоднократно был свидетелем подобных сцен.
Что мне следовало предпринять? Обзавестись оружием? Купить нож в Фишкиллской тюрьме было легко. Но держать его при себе значило бы, что его могут обнаружить при обыске. Это могло обернуться парой лет добавки к сроку. А прятать нож в тайцике — все равно что не иметь его вовсе. Попросить защиты у администрации? Это я считал недостойным. Подключить к делу друзей? Как назло, на тот момент в Фишкилле не осталось, кроме меня, ни одного русского, а остальным я не слишком доверял. К рассвету я уснул, не придя ни к какому решению и мысленно положившись лишь на волю Божью.
Прошел день, а в карцер колумбийца так и не посадили. Это означало, что ему удалось ввести лабораторию наркоанализа в заблуждение. Поскольку перед снятием анализа заключенных не обыскивали, некоторые приносили в пузырьке чужую, «чистую» мочу и, улучив момент, выливали ее в пробирку вместо своей. Русские перед наркоанализом просто пили чифирь — говорили, что все вымывает, но колумбийцу это вряд ли было известно. Ни меня, ни китайца на анализ почему-то так и не вызвали. С китайцем Эдуардо теперь тоже не разговаривал.
В следующую ночь я дремал, просыпаясь при каждом шорохе. Рано утром, по пути в уборную, я увидел одного из заключенных нашего блока с вещевым мешком. Его отправляли на этап: освобождалась койка в другой камере! Соседями выбывающего были два пожилых арестанта, с которыми я ладил. Надзиратель в это утро дежурил не вредный и согласился меня переселить.
— А в чем дело? — лениво поинтересовался он.
— Мне, знаете, нравится со стариками жить. Люди мирные, тихие, я тишину люблю.
— Тишину любишь? А знаешь ты, как они храпят? В общем, завтра чтоб к восьми утра все вещи были собраны, смотри.
Я подошел к Эдуардо после обеда и сказал, что отеляюсь.

— Я уже знаю, — ответил он без всяких эмоций.
— Здесь покоя «нет. Я по-другому живу, — сказал я.
’ — Ну что ж, я тебя не держу, — сказал Эдуардо, не глядя мне в глаза. — Живи как хочешь. Жаль, что все так получилось…
Проснувшись около семи утра, я начал собирать свои пожитки. Колумбиец ушел в столовую на завтрак. Китаец, вопреки обыкновению, остался в камере. В какой-то момент я заметил, что он не спит и странно поглядывает в мою сторону. Вдруг китаец поднялся, мягкими и быстрыми шагами подошел к вешалке и показал пальцем на мою куртку, которая там висела.
— Посмотри в карман, — сказал китаец отчетливым шепотом. — Он ночью что-то положил туда.
Не веря собственным ушам, я сунул руку в правый карман куртки. Там было пусто. В левый — и тут мои пальцы нащупали небольшой туго свернутый пакетик, в котором было что-то хрусткое и сыпучее.
— Колумбия получил трава — положил к тебе, — прошёптан китаец.
Я забыл даже поблагодарить его. В мозгу у меня что-то вспыхнуло, и я сделал несколько шальных шагов по камере, охваченный бешенством. В этот самый миг дверь открылась. Вошел Эдуардо.
— Это что такое? — закричал я, протягивая ему пакет.
Эдуардо молча взял сверток, повернулся к окну и принялся его разглядывать.
— А, так у тебя плохая память! — крикнул я. — Ты за ночь успел забыть, что подложил в чужой карман!
Китаец, сидя на койке и раскачиваясь из стороны в сторону, поднес палец к губам, призывая меня замолчать.
— Мне плевать на мусоров! — заревел я. — Пусть ответит!
В этот самый миг колумбиец разорвал пакет и на пол посыпалась какая-то труха и пыль. Наркотиков в пакете не обнаружилось. Эдуардо, как бы меня не замечая, внезапно повернулся к китайцу:
— Чтобы завтра твоего духу здесь не было, мой маленький брат!
Китаец посмотрел на Эдуардо со странной покорностью, покачал головой и вышел из камеры. В совершенном недоумении я остался с колумбийцем.
— Сейчас ты поймешь, почему с тобой все это случилось, — обратился ко мне Эдуардо. — Этот братишка работал с нами еще на воле и начал помогать мне здесь. Ты знаешь, что мы по всей тюрьме продавали дурь.
— Не знаю и знать не желаю! — прервал его я.
— Мне стали говорить, что братишка ненадежный, — как ни в чем не бывало продолжил Эдуардо. — А тут меня на анализ вызвали. Еще камеру шмонали два раза — ты-то не видел, ты в школе был, книжки читал. Вот я и решил его проверить. Я специально тебе пакет подложил у братишки на глазах. Если ты узнаешь — значит, он стукач. Так и получилось.
— С чего ты взял, что это китаец мне сказал? — возразил я.
— Меня-то дурачком не считай. Все рассчитано было. Как я в столовую пошел, он тебе и стукнул.
— А я, значит, орудие эксперимента? Мне ты не мог сказать заранее, что китайца проверить хочешь?
— Не мог. Я же не знал — может, это ты был стукач, а не китаец.
Прежде чем я успел ответить, в дверь камеры просунулась физиономия надзирателя.
— Языком работаешь, Старостин? А кому было сказано к восьми утра собраться?
— Прошу извинить, — сказал я, снимая с вешалки куртку, которая там все еще висела. — Остальное все готово.
— Давай, давай, пошевеливайся!
Я отнес свои пожитки в новую камеру и пошел назад за матрасом. И тут меня осенила мысль: «Китаец, прежде чем сказать мне, наверняка проверил бы, что именно лежит в пакете. Значит, там действительно были наркотики — наверное, специально на глазах у китайца засыпанные. Если бы он мне не сказал, я бы так и ушел в другую камеру с пакетом в кармане и не знал бы потом, как он там оказался. А если бы мне устроили обыск… Что ж, это был бы прекрасный способ от меня избавиться. Ведь колумбиец предполагал, что стукач — я… Так и в России по понятиям считается: замусорить мусора — не западло. Не зазорно…
Вот почему он подходил к окну! В тот момент, когда он повернулся ко мне спиной, пакет был подменен. Наверное, колумбиец и в столовую не ходил, а стоял за дверью и подсматривал — чтобы войти, пока я не успел открыть пакет. Ведь он понимал, что за наркотики я стал бы ему мстить, а за эту комедию с опилками… так, обижусь, что не поставил в известность… бестактность проявил… Ах, чтобы дьявол…»
— Чего задумался? — знакомый голос вывел меня из оцепенения. Передо мной стоял колумбиец с моим матрасом под мышкой. — Решил вот тебе помочь. Хотя ты зря уходишь. Сейчас мог бы и остаться. Компьютер тебя проверил, — и он, загоготав, похлопал себя по лбу.
— Знаешь что, — сказал я колумбийцу, — послушай один совет на прощание. Ты, вижу, себя очень умным считаешь. Мастер играть людьми. И страха не имеешь. Я таких, как ты, встречал и в моей стране, и здесь. Такие люди долго не живут. Попомни мои слова.
В изжелта-карих глазах колумбийца сверкнули злые искры. Он молча поставил матрас к стене, повернулся и ушел прочь..
Вечером того же дня китаец попросил администрацию о переводе в блок «добровольной изоляции». В одиночных камерах этого блока держали заключенных, которым по разным причинам грозила опасность.
Неделю спустя несколько доминиканцев, желавших взять под контроль наркоторговлю во всем корпусе, напали на Эдуардо, порезали ему лицо бритвой и рассекли голову металлическим штырем. После лазарета колумбийца некоторое время держали в одиночке, затем перевели в другую тюрьму. Как мне передавали, там он был лишен всякой поддержки со стороны прочих колумбийцев, которые считали Эдуардо беспредельщиком, если не прямо сумасшедшим. Эдуардо попытался опереться на пуэрториканскую банду «Латинские короли». Войдя к ним в доверие, он получил в кредит партию героина, продал ее, но отказался расплатиться и был ими убит.
Колумбийцы в Фишкиллской тюрьме считали конец Эдуардо закономерным. Эрберто из Кали говорил мне впоследствии: «Так бывает со всеми негодяями, которые в тюрьме начинают вести себя вызывающе и бравировать тем, что они, мол, из страны Пабло Эскобара». Интересно, что после того как в Фишкилл поступили известия об обстоятельствах гибели Эдуардо, его соотечественники в тюрьме начали отрицать, что он вообще был колумбийцем. На вопросы любопытных они отвечали расплывчато: «Да, был тут, кажется, такой… индеец из Перу или Эквадора, я точно не помню…»
Отрицание это было тоже своего рода убийством. Латиноамериканцы вне связи с родной страной существования человека не мыслят.
В 1991 году я некоторое время был продавцом в магазине на Мэдисон-авеню. Работали там в основном иммигранты из России и из Доминиканской Республики. Я хорошо помню, как были поражены доминиканцы, услышав, что их российские коллеги называют США «нашей страной», а Джорджа Буша — «нашим президентом».
Одна доминиканка, наивная и добродушная толстушка по имени Марисоль, даже попросила меня объяснить ей все это. Я, стараясь оставаться объективным, подтвердил, что действительно многие иммигранты из России так мыслят и что в русских иммигрантских газетах «наши хоккеисты» — это «Нью-Йорк Рейнджере», а «наше Министерство обороны» — Пентагон! Рассказал я и о том, что встречал семьи, где родители учат детей говорить только на английском языке, хотя сами им свободно не владеют и между собой то и дело перескакивают на русский. «В общем, многие из наших стремятся к ассимиляции», — заключил я.
Слова «ассимиляция» Марисоль не знала, но с убеждением ответила, что ее страна — это всегда Доминиканская Республика и что она со своим сыном не только говорит по-испански, но весь год экономит, чтобы на летние каникулы отправить его к бабушке и деду в Санто-Доминго.
В тюрьме патриотические чувства латиноамериканцев проявляются с еще большей силой. Многие из них покрывают казенную тумбочку платком, раскрашенным в цвета национального флага. Флаг рисуют также на кожаных ремнях для тяжелоатлетов — единственном в тюрьме предмете одежды, на котором разрешается делать какие-либо изображения.
Особенно ревностны представители небольших государств. Сальвадорцы, к примеру, очень гордятся победой их страны над Гондурасом в 1969 году — войне, которую обычно вспоминают как исторический курьез, так как произошла она из-за результатов футбольного матча между сборными этих стран. Один сальвадорец обиженно надулся, когда я безо всякого злого умысла упомянул о знаменитом разгроме Сальвадора Венгрией на испанском Чемпионате мира 1982 года со счетом 10:1.
Граждане Панамы, государства, которое принято считать скорее каким-то акционерным обществом, с воодушевлением обсуждали возвращение их стране канала и судьбу генерала Норьеги, которому они сочувствовали, как родному.
В Пуэбле так не судят
Заключенных из Центральной Америки и Мексики в нью-йоркских тюрьмах не очень много. Иммигранты из этих стран в огромном большинстве своем — нелегалы. Они, как правило, оседают в штатах, примыкающих к южной границе США. Те из них, кто нарушает закон, там же и отбывают срок. Но некоторые все же умудряются просочиться в Нью-Йорк. Обычно это простые люди, часто малограмотные, из деревень или маленьких провинциальных городков. Садятся они, как правило, за бытовые преступления. У мексиканцев традиционна ситуация совместной выпивки, ссоры и драки на ножах. Довольно часто поводом к поножовщине становятся азартные игры, в частности любимые всеми в Мексике петушиные бои.
Консервативные американские публицисты, обеспокоенные стремительным ростом нелегальной иммиграции из Мексики, любят риторически спрашивать, не доведется ли читателям дожить до открытия корриды на бейсбольном стадионе Yankee. Любопытно, что союзницей этих блюстителей американской культурной чистоты оказывается как раз либеральная политкоррект-ность. Она осуждает с позиции моральных ценностей бой быков, английскую конную охоту на лис и заклание животных на мусульманских и иудейских религиозных праздниках.
Разумеется, что брутальное зрелище петушиных боев в Нью-Йорке поставлено вне закона. Ареной этого спектакля становятся подвалы и складские помещения Бруклина и Бронкса, где вокруг импровизированного ринга собираются подпольные болельщики. Каждый бой продолжается пятнадцать-двадцать минут. Сумма ставок исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч долларов, и хороший боевой петух ценится едва ли меньше приличной скаковой лошади. При этом лошадь, проигравшая скачки, может взять реванш на следующих, а с петухами это невозможно. Перед началом боя к петушиным шпорам прикрепляют отточенные бритвы, и проигравший петух зачастую умирает на ринге. Интересно, что храбрых петухов, оставшихся искалеченными после боя, мексиканцы обычно выхаживают, а вот тех, кто, испугавшись, убежал с ринга, безжалостно отправляют в суп.
Так как нью-йоркские петушиные бои проводятся подпольно, под угрозой ареста для организаторов и участников, атмосфера этих зрелищ криминализируется.

Аудиторию составляют почти исключительно мужчины. Постоянно звучат изощренные ругательства. Стычки среди игроков и зрителей возникают по несколько раз за вечер. В Мексике петушиный бой обычно проходит в воскресенье на городской площади, под звуки оркестра народной музыки. Именитые горожане с женами и дочерьми попивают прохладительные напитки за столиками, установленными вплотную к рингу. Прочие зрители, среди которых много празднично одетых крестьян из окрестных деревень, сидят поодаль или стоят.
Хотя размеры ставок тоже весьма значительны (100–150 американских долларов — не редкость), игроки и болельщики стараются вести себя прилично.
Исключение, конечно, составляют случаи обмана или подлога. Мой приятель Лопес, фермер из провинции Пуэбла, рассказывал о случае, произошедшем в его молодые годы в городе Пуэбла. Шпора одного из сражающихся петухов застряла вместе с лезвием в гребне другого. Схватку пришлось остановить. Судья должен был расцепить птиц. Между тем сидевший у ринга зритель заметил, что судья, делая это, умышленно рассек гребень лезвием еще глубже. Очевидно, судью подкупили игроки, поставившие большие суммы на другого петуха. «Malparido![31] — закричал зритель. — В Пуэбле так не судят!» Крик возмущения он немедленно сопроводил револьверным выстрелом, и судья упал прямо на ринг. Сторонники противоположной партии открыли ответный огонь из своих стволов. Послышался женский визг, и началось столпотворение. Когда стрельба прекратилась, на ринге и вокруг него остались шесть или семь трупов.
— Полиция, — флегматически заметил Лопес, — даже не появилась.
Женщины кубинского лейтенанта
Среди кубинцев в нью-йоркских тюрьмах большинство составляют так называемые «marielitos», то есть беженцы, приплывшие в США из порта Мариэль в 1979 году, когда Кастро на короткое время открыл границы. Кубинские власти называли их «gusanos» (черви), подразумевая, что это недобитая буржуазия, латифундисты и прочий подрывной элемент. В действительности среди беженцев 1979 года было очень много преступников и психически больных, доставленных под конвоем на суда, уплывающие с Острова Свободы. В разгар «холодной войны» американцы не решились устроить кубинским беженцам фильтрационные лагеря. Даже те, кто прибыл без всяких документов, получили вид на жительство в США. Разумеется, люди преступного склада взялись за дело на новой родине с еще большим энтузиазмом.
Мне приходилось слышать весьма мрачные рассказы о латиноамериканских тюрьмах. Но мрачными они были по-разному. Вероятно, Достоевский был прав, когда говорил, что по состоянию тюрем можно судить о состоянии общества в целом. Например, колумбийские тюрьмы, с приличным питанием и еженедельными «супружескими свиданиями», являются ареной постоянных кровавых разборок между членами конкурирующих картелей. В тюрьмы проникает огнестрельное оружие, даже гранаты. Надзирателей, отказывающихся выполнять требования «авторитетных людей», просто убивают. В колумбийском журнале мне довелось прочесть о записке, переданной надзирателю, который опрометчиво подверг личному досмотру одного из братьев Очоа, знаменитых наркобаронов: «Я хотел бы поставить Вас в известность, что, если Вы погибнете в ближайшие 48 часов, ответственным за Вашу смерть являюсь я. С уважением, Очоа». Надзиратель действительно был убит, а Очоа в тот же день бежал из тюрьмы в мусорном баке, который другие надзиратели по какой-то причине решили не проверять.
В некоторых других латиноамериканских странах, таких, как Венесуэла, надзиратели внутри тюрьмы вообще не появляются, ограничиваясь лишь охраной периметра. Вся территория тюрьмы поделена на фанерно-картонные городки, которые строятся различными бандами и землячествами. В некоторых из них заключенные живут с женами, причем посягательство на чужую жену карается строжайшим образом. У входа в каждый городок стоит охрана с ножами и пиками. Еду заключенным привозят ежедневно в походных кухнях, а вот с лекарствами труднее. Опасно больного или тяжело раненного могут вывезти в госпиталь, остальных же оставляют выздоравливать самостоятельно.
Основная особенность тюрем социалистической Кубы — колоссальная переполненность. Старик из Гаваны, начавший свою криминальную карьеру еще в 50-х годах, рассказывал мне, что в камеры, где при Батисте сидели 30–40 человек, при Кастро набивали по двести. Очереди в отхожее место (отверстие в полу) приходилось ждать несколько часов. Санитарное состояние камеры было неописуемым, а питание — настолько скудным, что без регулярных передач с воли люди просто умирали от голода. Некоторые заключенные пытались своровать съестное у соседей. Если их ловили, то избивали всей камерой до полусмерти или до смерти. Надзиратели ни на какие жалобы не реагировали, а тех, кто настаивал, били. Неудивительно, что старик весьма грубо комментировал расхожие представления других латиноамериканских заключенных о Кубе как о стране, где преступников бережно перевоспитывают. Американскую тюрьму он называл отелем, что, впрочем, не мешало ему регулярно вступать в пререкательства с «коридорными» и «портье», которые сажали его в карцер.
Среди кубинцев в Фишкиллской тюрьме выделялся худощавый энергичный мулат по имени Рикардо, который упорно называл себя марксистом-ленинистом.
Рикардо, он выглядел значительно моложе своих 57 лет, родился в Гуантанамо — городе, ставшем в 50-х годах оплотом революционного движения. В 1958 году Рикардо, когда ему было едва семнадцать, вступил в подпольную группу. Одним из первых его заданий была ликвидация изменника — владельца местного бара, который, войдя в доверие к нескольким коммунистам, выдал их тайной полиции. Рикардо и его товарищи расстреляли предателя из револьверов, когда он поздно вечером закрывал свое заведение. После этого Рикардо вынужден был бежать в горы, где к тому времени уже активно действовали отряды Кастро и Че Гевары. Молодой боец отличился в нескольких операциях, а одной из них, по его собственному признанию, был штурм и разграбление женского католического монастыря. В январе 1959 года Рикардо принял участие в триумфальном входе революционных войск в Гавану. Жители кубинской столицы произвели на него плохое впечатление.
— Все они были за Батисту, а как прослышали, что мы идем, напялили на себя защитную форму и бриться перестали, чтобы вседумали, что они тоже с гор спустились. Правильно Фидель сказал: «Кого поймаем на вранье — наградим так, как он заслуживает. На месте!»
Через несколько месяцев Рикардо вернулся в родной город, где был зачислен в ряды революционной полиции в чине лейтенанта. Вскоре он женился на девушке из приличной семьи, которая родила ему сына и дочь. Но потом в дом Рикардо пришла беда.
Облеченный значительной властью и озаренный ореолом революционного героя, молодой лейтенант пользовался большим успехом у женщин. В скором времени его похождения перешли границы приемлемого даже для Кубы — страны довольно свободных нравов.
В небольшом городе это не могло оставаться секретом. Жена Рикардо переживала измены мужа крайне болезненно, но ее слезы и упреки ни к чему не приводили. За несколько лет у женщины развилась нервная болезнь, приведшая к страшному исходу. Жена Рикардо отравилась, оставив записку, в которой винила мужа во всем случившемся. Я не знаю, была ли в кубинском законе статья, позволявшая в таких случаях уголовное преследование, как в Советском Союзе. По крайней мере, служебная и партийная карьера Рикардо была окончена. Родные от него отвернулись.
Тяжелее всего были его собственные переживания: хотя Рикардо не говорил об этом открыто, тень страдания, омрачавшая его лицо при воспоминании о жене, позволяла предположить, что он ее все-таки любил. После нескольких недель, в течение которых Рикардо, по его признанию, ощущал себя внутри замкнутого круга, лейтенант решился на радикальный способ разрыва с мучительным прошлым. Оставив детей в доме родителей покойной жены, сняв кобуру с табельным оружием, Рикардо в известном ему безопасном месте преодолел ограждение американской военной базы в Гуантанамо и сдался патрулю морской пехоты.
Рикардо долгое время жил в Майами, затем перебрался в Нью-Йорк, где работал в почтовом отделе известной брокерской фирмы «Мэрил Линч». Он неплохо овладел английским языком и женился вторично на американской негритянке. Воспоминания о Кубе отошли куда-то на задворки сознания. Почти отстраненно выслушал он переданные эмигрантами 1979 года вести с Родины: дети его выросли у бабушки с дедом, дочь хочет стать биологом, а сын уже поступил в авиационное Училище и уехал на стажировку в Советский Союз.
Рикардо подумал только, что воевал он не зря: бесплатное образование открывало теперь на Кубе дорогу всем, даже сиротам.
Более насущным был для Рикардо вопрос его собственного выживания в джунглях капитализма. Во время рецессии начала 80-х годов он лишился работы. Банк угрожал отобрать за неуплату процентов его дом в нью-йоркском предместье Йонкерс, приобретенный в кредит. На первых порах положение спасала жена. Обладая, как многие негритянки, хорошим голосом, она исполняла популярные песенки в ресторанах и на небольших концертах, где ей платили какие-то деньги.
Другая сфера занятий приносила жене Рикардо нерегулярные, но более существенные заработки. Она присматривала крупный универмаг, где некоторые стеллажи с продуктами были вне поля зрения кассиров. Подойдя к полке с консервами, которые в американских магазинах любят ставить высокими рядами или пирамидами, женщина обрушивала их на пол и сама падала посреди разлетевшихся жестянок, испуская пронзительный вопль. На ее стоны и крики о помощи сбегались люди, и вызванная приказчиком машина «скорой помощи» с воющей сиреной мчала несчастную в отделение травматологии. Хотя при осмотре никаких ранение у жены Рикардо не обнаруживали, она продолжала громко стонать и плакать, жалуясь на нестерпимую боль в шее и позвоночнике.
Приезжал юрист и составлял иск против магазина В штате Нью-Йорк гражданские дела, как и уголовные, рассматривает суд присяжных. В Йонкерсе и Бронксе, где с женой Рикардо обычно случалось несчастье, большинство жителей — малоимущие негры и латиноамериканцы. Они и оказываются присяжными. Появление в зале суда обаятельной и еще не старой негритянки в гипсовом корсете или воротнике, которая со слезами на глазах говорила о крахе ее вокальной карьеры, производило на присяжных сильный эффект. Даже если вина владельца магазина не казалась неопровержимо доказанной, разве не справедливо было бы обязать этого состоятельного человека поделиться с несчастной женщиной? Некоторые бакалейщики, осведомленные об этой тенденции, предпочитали договориться с юристом потерпевшей заранее и до суда дело не доводить. Компенсационные выплаты в семь-восемь тысяч долларов они воспринимали как неизбежные затраты на данном рынке сбыта, равно как и потери от вооруженных ограблений.
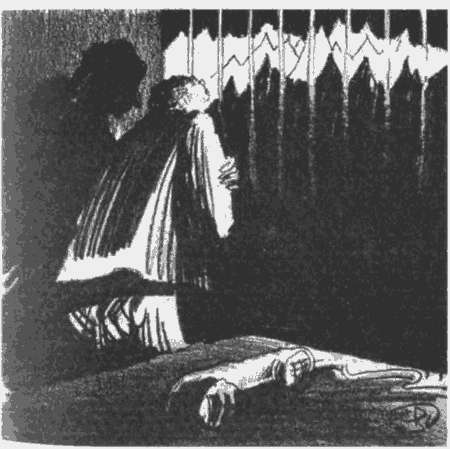
Надолго этих денег, конечно, тоже не хватало. Рикардо необходимо было срочно начать зарабатывать самому. Один его знакомый кубинец иногда ездил в Майами и привозил несколько килограммов кокаина людям, которые его продавали в Нью-Йорке. За эту простую работу курьера знакомый Рикардо получал три-четыре тысячи долларов наличными — деньги, приятно дополнявшие его скромную зарплату продавца жетонов на станции метро. Но бывали случаи, когда отлучиться из Нью-Йорка он не мог и нуждался в помощи дублера. Таким дублером после некоторых колебаний согласился стать Рикардо. Наркоторговля, которую он на Кубе осуждал и по убеждениям, и по долгу службы, среди кубинских иммигрантов в Америке имела даже оттенок какого-то шарма, давала ощущение силы и уверенности в себе. А в таком ощущении Рикардо нуждался.
Несколько лет у Рикардо все шло благополучно. Ему уже доверяли транспортировку значительных партий товара. Взносы за дом в Йонкерсе выплачивались исправно. Жене Рикардо теперь не требовалось тратить время и талант на судебные тяжбы, она увлеклась буддизмом и проводила многие часы за повторением мантры «Ам Ньохо Ринге Кьо», подобно своему кумиру Тине Тернер.
Иногда люди из Майами передавали Рикардо кокаин не в килограммовых пакетах, а уже расфасованный на унции. Как-то раз при получении товара он заметил, что поставщик обсчитался и положил лишний пакет. Для оптовых торговцев тридцать граммов — мелочь, и своей ошибки они так и не заметили. Рикардо, покинув конспиративную квартиру, немедленно извлек лишний пакетик из сумки, а остальное, по обыкновению, положил в багажник машины и отправился в обратный путь.
Наркокурьеры, перевозящие товар в автомобиле, знают, что должны вести машину предельно аккуратно, никогда не превышать скорость и не делать опасных маневров. Это особенно важно, если курьер — латиноамериканец или негр. Полиция штатов, через которые им приходится проезжать, имеет привычку останавливать таких водителей под любым предлогом. Хотя в Америке периодически случаются скандалы по поводу «политики расового профилирования» (иногда активисты даже блокируют шоссе), полицейские так или иначе, продолжают эту практику.
Рикардо, всегда соблюдавший осторожность, в этот раз не удержался от соблазна подзарядиться в долгом пути кокаином из лишнего пакета. В отличие от расслабляющих или галлюциногенных наркотиков, кокаин действительно прогоняет сонливость, но одновременно делает человека более импульсивным, возбужденным и нервно-самоуверенным. У Рикардо, не привыкшего к наркотикам, состояние это проявилось особенно остро.
Уже в Бронксе, почти у самой цели, Рикардо, проигнорировав сигнал «Стоп», выехал на перекресток. Вдруг, к его изумлению, с правой стороны возник облезлый микроавтобус. Несмотря на отчаянную попытку водителя-пакистанца избежать столкновения, микроавтобус со страшным визгом и скрежетом вкатился ему в бок.
Первой мыслью Рикардо было — спасаться. Не обращая внимания на патетические возгласы и причитания пакистанца, который от потрясения забыл английский язык, Рикардо прыгнул к багажнику, выхватил сумку с кокаином и бросился по улице в направлении дома наркодельцов. До него оставалось лишь несколько кварталов.
Примчавшись к порогу, Рикардо забарабанил в дверь, бросил сумку на пол в прихожей и, крикнув, что попал в аварию, стремглав понесся обратно к злополучному перекрестку. Ему не хватило нескольких секунд. Рикардо успел уже вскочить за руль и включить зажигание, когда неожиданно близко заревела полицейская сирена и замигал проблесковый маячок. Уйти от преследователей на полуразбитой машине было невозможно, и Рикардо вынужден был заглушить мотор. Полицейские сразу заподозрили кубинца из-за его крайне взбудораженного вида и немедленно предложили ему проехать в отделение. Только в этот момент Рикардо вспомнил про лишний пакет с кокаином, который так и остался в бардачке. Всю дорогу в участок он ругался про себя и вслух, проклиная судьбу, полицию и собственную глупость. Теперь ему светило уже серьезное обвинение: хранение наркотических веществ.
Спустя двое суток Рикардо вышел из тюрьмы под залог в пять тысяч долларов, который внесла его жена. Положение его было весьма неприятным. Через три недели должно было пройти предварительное слушание, а Рикардо и его адвокат от казны не могли выработать сколько-нибудь внятную версию защиты. Конечно, Рикардо отрицал, что обнаруженный в машине кокаин принадлежал ему, но откуда он мог там оказаться? Тот факт, что сам водитель был «под воздействием», любой судья связал бы с пакетом в бардачке.
Рикардо предложил такой вариант: да, он грешным делом нюхнул немного на вечеринке у приятеля и, когда попал в аварию, убежал за угол в магазин, чтобы выпить воды или сока. Так он надеялся скрыть следы наркотика в крови. Пока он бегал, кто-то (может быть, пакистанец) положил ему в машину пакет с кокаином, чтобы его подставить и изобразить несомненным виновником аварии. Ироническая улыбка, с которой адвокат Рикардо выслушивал эту легенду, повергла кубинца почти в отчаяние.
Рикардо решился прибегнуть к последнему средству: посещению колдуна. Мне приходилось уже писать, что на Кубе весьма распространен синкретический культ «Сантория». К жрецам этого культа часто обращаются люди, которым грозит опасность, поэтому просьба отвратить судебное преследование не вызвала бы у колдуна ни малейшего удивления. Смущение испытывал сам Рикардо, продолжавший считать себя марксистом-ленинистом и воинствующим безбожником.[32] В конце концов душевное побуждение взяло верх, как у тех большевистских командиров, которые, если верить Бердяеву, тайно исповедовались у старцев в разгар «красной бесовщины».
Колдун внимательно выслушал рассказ Рикардо, разложил священные раковины и объявил, что клиент должен снова явиться к нему за день до судебного слушания, одетый в белое и обязательно на автомобиле. С собой он должен был принести несколько живых цыплят. Весьма изумленный этими инструкциями Рикардо сомневался, следует ли ему возвращаться к колдуну, но решил идти до конца.
К назначенному дню Рикардо купил красивый белый костюм и одолжил у приятеля дорогую машину, полагая, что обряд требует во всем максимальной торжественности. В корзине на заднем сиденье ехали цыплята.
Едва Рикардо переступил порог «ботаники», как жрец, облаченный в яркие одеяния африканского стиля, схватил его корзину с цыплятами и принялся передвигаться по залу кругами, приплясывая и произнося слова заклинаний. Затем он, как Рикардо и предполагал, зарезал цыплят над алтарем и собрал хлынувшую кровь в специальный ковшик. А вот дальнейшее было для Рикардо полной неожиданностью. Приблизившись к стоящему в благоговейном смирении клиенту, колдун без всяких объяснений вылил ему на голову еще теплую цыплячью кровь. Затем жрец щедро окропил его элегантный белый костюм и объявил, что Рикардо должен вернуться домой, не моясь и не переодеваясь, и что от выполнения этого условия зависит успех всего ритуала. В заключение он надел Рикардо на шею ожерелье из разноцветных бус и приказал носить его, не снимая, пока не минует опасность.
По дороге домой Рикардо старался избегать взглядов других водителей, лица которых искажались ужасом при виде человека с залитым кровью лицом, очевидно, из последних сил управляющего машиной. Больше всего Рикардо боялся, что кто-нибудь позвонит в полицию, и тогда его заберут уже не в тюрьму, а в сумасшедший дом. Но сотовые телефоны в то время были еще мало распространены, а останавливаться у таксофона вечно спешащие нью-йоркцы, очевидно, все-таки не желали. Правда, жена Рикардо при виде мужа едва не рухнула наземь.
Адвокат, встретивший Рикардо в зале суда, сказал ему, что собирается подать стандартный запрос о прекращении дела «за недоказанностью», но должен как юрист предупредить его, что в успех своего прошения мало верит. А вот прокуратура, со своей стороны, собирается просить судью о повышении суммы залога с пяти до пятидесяти тысяч, и вот такую просьбу судья как раз может удовлетворить.
Как это заведено в нью-йоркских судах, представители обвинения и защиты одновременно подошли к судейской кафедре излагать свои предложения. Хотя сидит при этом только судья, а прокурор с адвокатом стоят в просительных позах, такая процедура носит название «bench conference» — совещания на скамье.
Прокурор, ярко описав подсудимого как крупного наркоторговца и преступно халатного водителя, обратился к судье с риторическим вопросом:
— Неужели можно допустить, чтобы столь опасный индивидуум разгуливал по нашим улицам?
— Спокойнее, вы еще не перед присяжными, — буркнул судья и принялся изучать папку с делом.
Адвокат Рикардо едва успел открыть рот, как судья удивленно взглянул на прокурора и спросил:
— А где протокол обыска автомобиля?
— Сейчас, ваша честь, — промолвил прокурор и принялся лихорадочно рыться в бумагах. — Одну минуточку.
Прошла минута, две.
— Э-э, — промямлил прокурор, — вышло какое-то недоразумение. Вероятно, протокол остался у нас в конторе. Разрешите, я позвоню начальнику.
— Прошу заметить, — вмешался оживившийся адвокат, — что уважаемые коллеги не предоставили нам экземпляр этого протокола, как того требует закон.
Когда обвинитель круто развернулся и побежал к телефону-автомату, Рикардо начал понимать, что происходит нечто странное. Прошло еще пятнадцать минут, прокурор вернулся, и у кафедры начался какой-то спор, из которого до Рикардо долетали лишь отдельные фразы: «…due process… rules of evidence».[33]
Вдруг судья раздраженно заорал:
— Обвиняемый, идите сюда!
Кубинец, вздрогнув, поднялся с места и двинулся к кафедре. Внезапно Рикардо увидел, что с каждым его шагом на пол сыпятся какие-то шарики. Изумленный, он схватился за ожерелье и почувствовал, что оно порвалось и что на пол сквозь брюки падают заколдованные бусы жреца. Рикардо в ужасе упал на колени и бросился их подбирать.
— Обвиняемый, вы что, рехнулись?! — закричал судья. — Я снимаю с вас обвинение в хранении наркотических веществ. Прокурор, вы, очевидно, не выучили в школе правила об уликах… ужасная, безалаберная работа! Адвокат, объясняйте этим вашим… клиентам, как себя вести в суде. Case dismissed!»[34]
Судья раздраженно стукнул по кафедре молоточком.
— Следующий!
Рикардо с того дня свято уверовал в силу «Сантории» и ее амулетов. Но в конечном счете чудодейственное оправдание сослужило ему недобрую службу. Рикардо был теперь убежден, что может продолжать свой доходный промысел, если только будет регулярно посещать «ботаники» и приносить жертвы богу Шанго, патрону опасных профессий.
Я оказался соседом Рикардо по камере в 1997 году, когда он отсидел уже шесть лет по статье «транспортировка и продажа наркотиков в крупных размерах». Ему оставалось еще как минимум пять: срок Рикардо назначили «от одиннадцати до пожизненного». Досрочная депортация ему не улыбалась: предателю социалистической Кубы путь на родину был заказан.

Днем Рикардо был очень подвижен. Он работал две смены — в школе и в мастерской, бегал трусцой, отжимался, препирался с соотечественниками. Ночью боль настигала его. Рикардо ворочался, кряхтел и что-то говорил во сне. Иногда я видел, как он просыпался и неуверенным, почти стариковским шагом подходил к окну, сквозь которое видны были черные очертания Кэтскилльских гор и извилистая дорога. Сгорбившись, Рикардо простаивал у решетки порой до самого рассвета.
Однажды Рикардо открыл мне, что его мучило.
— Американцы, — сказал он, — недавно сняли запрет на телефонные переговоры с Кубой. Я хочу поговорить с дочерью.
В тюрьмах, подведомственных штату Нью-Йорк, звонить по телефону можно только за счет абонента, причем по заранее зарегистрированному номеру. Зарубежные номера телефонный узел тюрьмы не обслуживает. Ценой больших усилий Рикардо удалось уговорить тюремного капеллана разрешить ему пятиминутный звонок из своего кабинета по прямой линии.
Я был в часовне, когда Рикардо, бледный от волнения, вошел в кабинет и протянул капеллану карточку с кубинским номером. Он забыл закрыть за собой дверь, и голоса из кабинета были мне слышны.
— Кто-то отвечает, но почти ничего не слышно, — сказал капеллан, очевидно, протягивая Рикардо телефонную трубку. — Плохое соединение.
— Алло! Алло! — послышались крики Рикардо. Затем наступило странное молчание, которое прервал вдруг отчаянный, сдавленный возглас кубинца:
— Tu по me reconoces? Soy tu papa!»[35]
Я помолился Богу, чтобы дочь Рикардо не повесила трубку. Она ее не повесила. Мне стыдно было прислушиваться к тому, что донеслось из кабинета потом, и я отошел в дальний угол часовни, где из застекленной ниши скорбным и нежным взором смотрела на меня Богоматерь Милосердия — покровительница Латинской Америки.

Глава 5
НЕСЧАСТЬЕ ПО-СВОЕМУ
Суровый и заслуженный
Банда Сохина, которую недавно судили в Москве, занималась захватом автомобилей — как большегрузных, так и легковых. Кто-то из бандитов «голосовал» на шоссе, предлагая шоферу хорошие деньги за небольшой крюк в сторону от трассы. В пути водителю наносили удар ножом или монтировкой. Труп закапывали, машину продавали. На момент задержания за бандой числилось 13 эпизодов. Сохин, главарь, был схвачен в Белоруссии, где он, терзаемый видениями окровавленных жертв, потерял сон и был близок к помешательству. Суд дал членам банды по пятнадцать лет.
Сохин и его сообщники были классическими разбойниками — наподобие тех, что бряцали цепями по Владимирскому тракту и томились вместе с Достоевским в Омском централе. При последних Романовых смертной казни за уголовные преступления не было, как нет ее и теперь в России. В правление Николая I разбойников подвергали жестокому наказанию кнутом, а лицо клеймили каленым железом. Но в 1863 году телесные наказания и пытки были в Российской империи отменены.
Можно предположить, что лет сто тридцать назад разбойники Сохина получили бы примерно те же пятнадцать лет заключения. Здесь опять-таки любопытно вспомнить Достоевского, который в работе над своими романами использовал текущую уголовную хронику. Какие сроки определяли его героям? Парфену Рогожину за убийство любовницы суд назначил пятнадцать лет. Дмитрию Карамазову, обвиненному в убийстве отца, — двадцать. Конечно, бандиты Сохина убили гораздо больше людей, но за молодостью лет они могли бы рассчитывать на некоторое снисхождение. Их ровесник Родион Раскольников, зарубивший топором двух женщин, отделался, как известно, всего восемью годами.
При советской власти банда Сохина, конечно, пошла бы под расстрел. Но теперь уголовные законы вновь несколько смягчились. Все знают, что условия жизни в российских тюрьмах тяжелые, что отсидеть пятнадцать лет непросто. Приговор сохинским разбойникам особого ажиотажа в России не вызвал.
В Тамбове местный «авторитет» предстал недавно перед судом по обвинению в убийстве участкового милиционера, который застал братву на рыбалке в заповедной зоне. Следствие установило, что обвиняемый ранил участкового из ружья, а затем, когда тот пытался отползти в заросли, добил его вторым выстрелом. Приговор — двенадцать лет лишения свободы — российские газеты оценили как суровый и заслуженный…
Мои соседи по американской тюрьме «Фиппсилл», которым я весной 2000 года рассказывал о процессах в Москве и Тамбове, поначалу думали, что я их разыгрываю. Потом они впали в состояние неподдельного умопомрачения.

— Да ведь двенадцать лет — это минимальный срок, наверное? Потом могут еще набавить?
— Нет, в России срок фиксированный. Через двенадцать лет осужденного обязаны отпустить, если, конечно, он не совершит новых преступлений в тюрьме. Бывает даже досрочное освобождение, помилование, но с такой статьей он, скорее всего, отсидит до звонка…
— Ну, а те, что делали carjacking — водителей убивали? Пятнадцать лет — это, наверное, за каждый труп? Пятнадцать умножить на тринадцать… это сколько будет?
— Не грузи напрасно мозги. Пятнадцать лет — это все, по совокупности.
— Быть не может.
— Да ты что, не знаешь, — вмешался в наш спор старый негр по прозвищу Бруклин, — у них в России пятнадцать лет — это все равно что у нас «желтая мама».[36] Представь себе — работаешь четырнадцать часов в день, на хлебе и воде, а к ноге у тебя приковано чугунное ядро. Сколько ты так протянешь?
— Ну, это ты, наверное, в кино видел, — сказал я. — Но, конечно, сидеть в России гораздо тяжелей, чем в США. В следственных тюрьмах бывает, что и спят по очереди. Молоко на завтрак не дают, как на острове Рай-керс. В тюрьмах для осужденных немного лучше, но без подогрева с воли и там очень тяжело жить.
— Да если бы даже и с ядром на ноге, — грустно сказал подвижный коротышка-пуэрториканец по прозвищу Gato,[37] застреливший приятеля во время ссоры за карточным столом. — Предложи только людям в Аттике или в Клинтоне[38] двенадцать лет в Сибири — но потом освобождение, с гарантией. Очередь выстроится, могу поспорить.
— А по мне — дураками будут, если согласятся, — отозвался другой убийца, тоже пуэрториканец, по имени Франсиско. — Здесь тепло, три раза в день кормежка, телевизор можно смотреть. У меня срок — «от двадцати пяти до пожизненного», ну и что? Я вот в парикмахерской работаю, уже классно стричь научился. Это пригодится на воле. Отсижу свои двадцать пять спокойно, не напрягаясь.
— Да кто тебя выпустит через двадцать пять лет? — закричал Gato. — Разбежался! Вот Бруклин стоит, с таким же сроком, как у тебя. Двадцать пять уже отсидел, старый, больной, пошел на комиссию — а они ему еще навешали! И будут набавлять, пока он в инвалидную коляску не сядет. Тогда он уже не будет опасен для общества.
Последние слова Gato произнес с ненавистью.
В штате Нью-Йорк есть три пересыльные тюрьмы, где все без исключения заключенные проходят санобработку Вновь прибывших арестантов поливают жидкостью от паразитов, бреют наголо, проверяют на туберкулез. Заодно с заключенного снимают мерку — чтобы знать, какого размера одежду и обувь выдать ему со склада. Стандартный комплект включает куртку на искусственной вате, три рубашки, три пары брюк, по полдюжины трусов и маек, тоненький пуловер, ботинки и кеды.
На всех предметах верхней одежды пришивают бирку с личным номером осужденного. Поскольку каждому заключенному выдают еще и удостоверение личности, которое он обязан всегда иметь при себе, с одежды номера разрешают спарывать. Но узнать номер другого человека всегда можно: номера эти указаны на большом щите у входа в каждый блок, а также на дощечках у входа в камеру или барачный отсек. Например, табличка на двери моей камеры в Фишкиллской тюрьме в 1998 году выглядела так:
Harris 75А0633
Starostin 95R5373
Fogel 96А4217
Почему эти номера вообще имеют значение? А потому, что по ним можно сразу же узнать, сколько лет тот или иной заключенный находится за решеткой. Как нетудно догадаться, первые две цифры номера означают год, когда человек начал отбывать свой срок. Правда, нужно иметь в виду, что многие арестанты проводят год-два в городских тюрьмах до приговора суда. Вот и мой сосед по камере, задумчивый очкастый негр Хэррис, срок получил в 1975 году, но в тюрьме находился с 1973-го. 1973-й — это год, когда я родился.
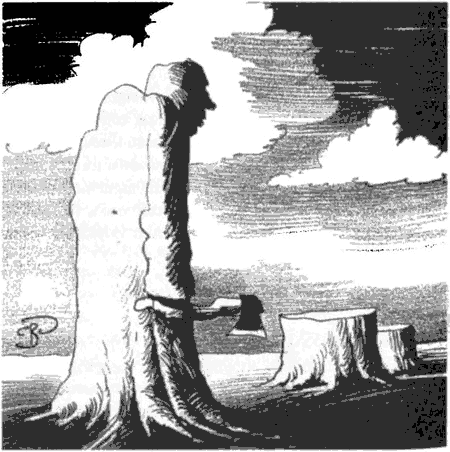
Майкл Хэррис проходил по статье «убийство». Здесь следует заметить, что в уголовном кодексе штата Нью-Йорк существуют две категории этого преступления. Первая по-английски называется «manslaughter» и включает в себя неумышленное убийство, убийство по преступной халатности, а также деяние, которое в российском законодательстве именуется «тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего». Вторая категория называется «murder». Это подразумевает любую форму умышленного убийства.
Грань между двумя категориями на практике весьма нечеткая. Всем понятно, что строитель, уронивший с крыши кирпич на голову прохожему, совершил «manslaughter», а наемный убийца, разрядивший в кого-то рожок автомата, совершил «murder». Но большинство убийств не укладываются точно ни в ту, ни в другую категорию. Американские прокуроры предпочитают для верности паять всем «murder», то есть убийство умышленное. Потом доказывай на суде, что у тебя не было заранее обдуманных намерений.
Соединенные Штаты — государство весьма популистское, и прокуратура работает на публику. Так, по статье «умышленное убийство» в Нью-Йорке привлекли врача, сделавшего поздний аборт со смертельным исходом, и рабочего, бросившего в мусорный бак бутыль с серной кислотой, которая потом взорвалась и убила мусорщика. Об умышленном убийстве в обоих случаях говорить было просто нелепо, но прокуратуре это сошло с рук благодаря поддержке истерической бульварной прессы. Она преподнесла эти трагические случайности как чудовищные злодеяния и смаковала слезы безутешных родственников погибших.
Комиссары и опасные хищники
Майклу Хэррису уже исполнилось два года, когда его мать пришла в муниципальную контору и зарегистрировала его рождение. Отец судьбой сына вообще не интересовался. Юность Хэрриса пришлась на конец шестидесятых — начало семидесятых годов. Это было время последнего цветения нью-йоркского гангстеризма, когда «Крестный отец» воспринимался как фильм на актуальную тему и жителей бедных кварталов каждую ночь будила стрельба.
В одной из таких перестрелок на улицах Бронкса восемнадцатилетний Майкл Хэррис убил человека Предположить заранее обдуманное намерение в этом случае было бы странно. Для нью-йоркских чернокожих подростков при встрече с враждебной группой было столь же естественным снять пистолет с предохранителя, сколь для нас в Измайлове — начать лепить снежки. Вряд ли он даже целился в кого-то конкретно. Тем не менее прокуратура обвинила Хэрриса в полноценном умышленном убийстве. Поскольку у него уже были аресты за кражи, ни на какое снисхождение Хэррис рассчитывать не мог. Суд определил ему срок «от двадцати пяти лет до пожизненного». Хэррису предстояло выйти из тюрьмы уже зрелым человеком сорока трех лет, как ему тогда казалось.
Криминологам известно, что среди отсидевших за убийство процент рецидива — один из самых низких по всем категориям преступлений. Ведь многие убийцы не являются закоренелыми преступниками. Значительная доля убийств во всех странах мира совершается на бытовой почве, часто в состоянии опьянения или под наркотическим дурманом.
Но есть и вторая причина низкого рецидива среди убийц — сроки, которые им дают. Годы, проведенные в неволе, медленно и неумолимо воздействуют на человека По моим наблюдениям, небольшие сроки (год-два) обычно не имеют видимого эффекта, и осужденный в целом сохраняет свой прежний характер и наклонности. Шесть-восемь лет могут или исправить человека, или окончательно его погу бить. Многие из отсидевших такой срок становятся мудрее, у них формируются «понятия». С другой стороны, в этой категории встречаются и крайне ожесточенные люди, которых почти нет среди настоящих долгосрочников.
Двадцать или двадцать пять лет тюрьмы кардинально видоизменяют личность. Осужденный становится медлительным и печальным существом, и даже самое сильное воображение не может узнать в нем молодца, некогда удивлявшего своим буйством. Этот душевный паралич обычно не связан с угрызениями совести. Память об убийстве, как и обо всей дотюремной жизни, у большинства долгосрочников стирается. Исчезает порыв, уходит энергия. Остается лишь инертный газ простейших эмоциональных рефлексов.
Можно, конечно, вспомнить Нельсона Манделу или Николая Морозова, которые, проведя половину сознательной жизни в неволе, не утратили душевной стойкости и жажды действия. Но то были люди исключительные, а Хэррис — обычный человек. Первые годы он сопротивлялся по-своему: бунтовал, не подчинялся приказам, дрался с другими заключенными и с охраной. Около года Хэррису пришлось провести в Саутпорте, штрафной тюрьме для злостных нарушителей режима.
Постепенно Майкл Хэррис присмирел, утих. Речь его стала медлительной, походка — неторопливой. Проведя пятнадцать лет в неволе, Хэррис почти безучастно воспринял известие о смерти матери — единственного близкого человека, который о нем помнил. Конечно, он подал прошение, чтобы ему разрешили присутствовать на похоронах. Обычно даже осужденных за убийство в штате Нью-Йорк допускают на похороны близких родственников — конечно, в наручниках и под присмотром Двух вооруженных конвоиров. Но Хэррису было отказано. Кладбище, где хоронили его мать, находилось в таком районе, где «конвоиры не могли обеспечить безопасную транспортировку осужденного».
Последние годы своего двадцатипятилетнего «минимума» Майкл Хэррис отработал на кухне. Именно с этим видом деятельности он решил связать свою будущую жизнь. Хэррис не мечтал уже, как двумя десятилетиями раньше, о новых дерзких ограблениях, о сверкающих «Мерседесах» и доступных женщинах. Он с безразличием слушал разговоры новичков об этих вещах. Идеал Хэрриса был теперь вполне будничным: выйти на волю и устроиться работать в «Макдональдс». «Хорошая компания, — повторял он. — Дают медицинскую страховку, через два года можешь стать помощником менеджера, потом менеджером, а если будешь очень хорошо работать, пошлют за счет фирмы в Чикаго. У них там целый университет есть, где готовят людей для главного офиса, это уже в галстуках и все такое. Называется Hamburger University».[39]
Другие заключенные, кстати, над Хэррисом не смеялись. Хотя иные считали, что лучше умереть бандитом, чем исполнительным служащим белых эксплуататоров, по-человечески они Хэрриса понимали. Куда уж ему было теперь в бандиты… Казалось, что Хэррис воплощал то смирение, которого система, пусть даже и ценой суровой кары, хочет добиться.

Поскольку у Хэрриса был нефиксированный срок (минимум двадцать пять лет, максимум пожизненное заключение), судьба его была всецело в руках комиссии по условно-досрочному освобождению. Члены комиссии, назначенные губернатором, разъезжают по всем семидесяти тюрьмам штата Нью-Йорк. В каждой тюрьме заключенные, у которых заканчивается минимальный срок, предстают перед комиссарами в течение одного дня.
В семидесятых и восьмидесятых годах большинство осужденных выходили на свободу после окончания минимального срока. Но к концу восьмидесятых общественный климат в США начал меняться. Во время предвыборной кампании 1988 года, когда соперником Джорджа Буша был демократический губернатор Массачусетса Майкл Дукакис, республиканский штаб изготовил рекламный ролик, который впоследствии попал во все учебники политологии.
Республиканские политтехнологи прочли в бостонских газетах об изнасиловании и убийстве белой женщины, которое совершил ранее судимый негр по имени Вилли Хортон. Оказалось, что Хортон, отбывавший срок в одной из тюрем штата Массачусетс, получил краткосрочный отпуск домой «за хорошее поведение». Находясь в отпуске, он и совершил это злодеяние. Республиканцы выяснили также, что временное освобождение заключенных разрешил в Массачусетсе именно губернатор Дукакис.
Спустя несколько дней по всем телеканалам США начали крутить ролик, где первым кадром было зверское лицо негритянского злодея, снятое крупным планом. (Авторы ролика намеренно отретушировали снимок, сделав Хортона чернее, чем на самом деле.) Низкий, почти замогильный голос диктора произносил несколько фраз: как Хортону дали отпуск из тюрьмы и как он насиловал и убивал несчастную жительницу штата Массачусетс. Текст завершался так: «Вы хотите, чтобы этот человек пришел к вам в гости? Тогда голосуйте за Майкла Дукакиса!»
Возможно, Буш выиграл бы и без этого ролика. Но резкое падение рейтинга Дукакиса после истории с Хортоном убедило американских политиков, что обещание не давать спуска преступникам может быть даже не тузом, а джокером в рукаве кандидата.
В 1994 году на выборах в штате Нью-Йорк против действующего губернатора Марио Куомо республиканцы выставили никому не известного Джорджа Патаки, мэра маленького провинциального городка. Большинство аналитиков предсказывали республиканцу верное поражение. Но Марио Куомо, верующий католик, был принципиальным противником смертной казни. Джордж Патаки фактически дал избирателям только одно внятное обещание: «Я включу в штате Нью-Йорк электрический стул!» И одержал победу. Нужно отдать Патаки должное: он не солгал. Смертная казнь была восстановлена первым же указом нового губернатора.
Известие о победе Патаки над Куомо я встретил в баре казино «Тадж-Махал», где расслаблялся после изнурительной игры в двадцать одно. Новость эту я воспринял совершенно равнодушно: какая разница, демократ или республиканец? К моей тогдашней жизни выборы губернатора не имели никакого отношения. Уже полгода спустя, после моего ареста в марте 1995 года, политика «мерзавца Патаки» сделалась для меня постоянным предметом размышлений и разговоров с товарищами по несчастью.
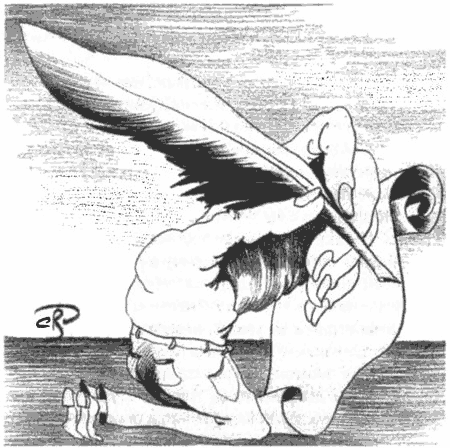
Комиссия по условно-досрочному освобождению очень быстро поняла новую тенденцию. Число освобождаемых стало резко падать. Осужденным за изнасилование, убийство или вооруженный грабеж начали отказывать по одной-единственной причине: «общественная опасность». Даже если человек стал на путь исправления и безупречно вел себя в тюрьме, он был обречен просто из-за своей статьи. Статистику решений комиссии губернатор Патаки публиковал в газетах с комментариями типа: «Пока я у власти, по вашим улицам не будут разгуливать опасные хищники!»
Поскольку не выпускать ни одного человека комиссары все-таки не могли, среди заключенных штата Нью-Йорк сформировалась даже особая мифология: как попасть в число избранных счастливчиков. К примеру, осужденные верят, что лучше всего идти на комиссию в декабре. Считается, что в преддверии Рождества комиссары более милосердны. Некоторые уверяют, что все зимние месяцы хороши, так как в это время в тюрьмы добровольно садятся продрогшие бродяги (как в известном рассказе О’Генри), и Патаки вынужден якобы освобождать для них место.
Время вызова тоже имеет значение. Считается, что лучше всего идти на комиссию в середине дня. Утром комиссары злы, потому что не выспались, а ближе к вечеру — потому что устали и хотят домой.
Легенды возникли и вокруг самой процедуры слушания. Если комиссары кричат и бранятся — это хорошо, значит выпустят. Если спрашивают о том, где собираешься жить и работать, — это плохо, значит оставят в тюрьме. Если человеку напоминают о его дисциплинарных взысканиях — собираются освободить. Кстати, совсем без взысканий идти на комиссию нельзя: «Скажут — маскируешься». Если иностранца извещают о запрете возвращаться в США — значит не отпустят. И абсолютно все убеждены, что самое страшное — это если комиссар говорит в конце слушания: «Желаю вам удачи». Это верный провал.
Отсидевший пожизненно
Мы с Майклом Хэррисом пошли на комиссию по условно-досрочному освобождению в мае 1998 года. Идти нужно было обязательно в форме. Почти все заключенные тщательно гладят рубашку и брюки, чистят ботинки, а многие еще и стригутся. В нью-йоркских тюрьмах разрешено носить бороду, но есть арестанты, которые ее перед комиссией сбривают. Один русский братан, который ходил с бородой весь свой пятилетний срок, поддался на уговоры опытных американских зеков и побрился перед самым слушанием. Как оказалось, борода его скрывала довольно внушительного вида шрам. «Ничего, — сказал он в ответ на мое недоумение, — если на комиссии спросят, откуда шрам, я скажу, что меня омоновец ударил щитом на демонстрации в защиту прав человека».
Очереди на комиссию заключенные дожидаются в узком коридорчике. Перед входом в комнату, где заседают комиссары, всех тщательно обыскивают. Вероятно, власти опасаются, что какой-нибудь арестант, получивший уже пять или шесть отказов (а такие случаи бывают), захочет на комиссаров напасть.
Когда я сидел в коридоре, на тюремном стрельбище начались занятия по огневой подготовке конвоиров. По странному совпадению, всякий раз, когда надзиратель открывал дверь комнаты слушаний и кричал: «Следующий!», за стеной раздавался залп. Дождавшись очереди, я обнаружил, что комиссаров трое и что меня торопят с ответами, так как решение, очевидно, приняли уже заранее. Слушание продолжалось не более пяти минут. Все это вызвало у меня не самые приятные исторические ассоциации.
— Ну, что тебя спрашивали? — поинтересовался я у Майкла Хэрриса, когда мы вернулись в камеру.
— Да я ничего не понимаю. Не про то, как в тюрьме себя вел, и не про то, что на воле собираюсь делать, «Макдональдс» и все такое, а про обстоятельства убийства. Ведь двадцать пять лет прошло! Мне потому судья такой срок и влепил, что убийство, а не карманная кража. Что я изменить-то могу?
— Может, хотели услышать, что ты раскаиваешься?
— Да что ты спрашиваешь? Конечно, раскаиваюсь. Посмотри, скоро уже совсем лысый стану. Я им и так и сяк каялся, а они только: «Почему вы совершили такое чудовищное преступление?» Как роботы.
— Удачи пожелали?
Хэррис помолчал.
— Пожелали. А тебе?
— И мне.
Решение свое комиссары в тот же день не объявляют. Ответ приходит через несколько дней по внутритюремной почте. У нью-йоркских заключенных есть даже выражение: «Получить толстый конверт». Дело в том, что, когда человеку в освобождении отказывают, к письму прилагают бланк апелляции (которая в 99 процентах случаев успеха не имеет). Поэтому судьбу нашу мы с Хэррисом узнали, еще не открыв конверт. На следующую комиссию нам предстояло явиться в мае 2000 года.
Мне было даже неудобно перед Хэррисом за свой мрачный вид и хождение из угла в угол с сигаретой в зубах. У меня-то надежда была. Срок, который мне дали в марте 1995 года за нанесение тяжких телесных повреждений, реально означал гарантию освобождения в ноябре 2001 года «при отсутствии серьезных нарушений режима». Никакая комиссия уже не могла бы этому помешать. А у Хэрриса никакой гарантии не было: его «максимальным сроком» суд назначил пожизненное заключение. Участь его была всецело во власти комиссаров, которые с каждым годом лютели все больше.
В Фишкиллской тюрьме с нами сидел человек по имени Альфред Видзевич, находившийся в заключении с 1965 года. Видзевич, сын польских иммигрантов, в возрасте двадцати лет стал соучастником ограбления и убийства молодой женщины. На Видзевича донесла его собственная подруга, на которую вышли полицейские сыщики. Прокуратура предложила Видзевичу сделку — срок «от семи до четырнадцати лет» в обмен на признание вины. Если бы он согласился сразу, он бы спасся. Но пока Видзевич размышлял, в прокуратуру обратился не кто иной, как губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер. Ему убитая приходилась дальней родственницей. Предложение о сделке моментально было снято, и Альфреда Видзевича отправили на суд присяжных. Срок ему дали «от двадцати до пожизненного» (то есть даже меньше, чем Майклу Хэррису). После первой явки на комиссию в 1985 году Альфреду Видзевичу отказывали в освобождении семь раз.
В тюрьме строгого режима «Грин Хэйвен» находился американский еврей по фамилии Гринбаум, гангстер старой закалки, осужденный в 60-х годах на срок «от двадцати пяти до пожизненного». Гринбаум при облаве застрелил полицейского, а с таким делом его вполне могли держать за решеткой до конца дней. Здоровье Гринбаума было порядком подорвано, и в 1996 году, после восьмого по счету отказа в освобождении, с ним случился инфаркт.
Когда «скорая помощь» привезла Гринбаума в больницу за пределами тюрьмы, у него уже остановилось сердце. Закрытый массаж сердца не дал результата, и последним средством оставался электрошок. Но старика считали настолько опасным, что конвоиры наотрез отказались снять с него кандалы. Врачи, пытавшиеся их переубедить, слышали в ответ, что «инструкция требует непрерывного присутствия ограничителей движения ног». Доктор, видя, что уходят последние секунды, распорядился под свою ответственность применить электрошок, не снимая кандалов. Невероятно, но жизнь Гринбаума удалось спасти: правда, на лодыжках у него остались черные кольца от ожогов.
Вернувшись в тюрьму, старик надолго засел в юридической библиотеке. Заключенные думали, что он хочет судить тюремное ведомство за историю с электрошоком, но у Гринбаума был совсем другой план. Спустя некоторое время в федеральный суд Восточного округа США поступила петиция Гринбаума, обвинявшая власти штата Нью-Йорк в незаконном содержании его под стражей. Так как Гринбаум несколько минут находился в состоянии клинической смерти (прилагались медицинские свидетельства), он потребовал считать его максимальный срок — пожизненное заключение — полностью отбытым и освободить его из тюрьмы.
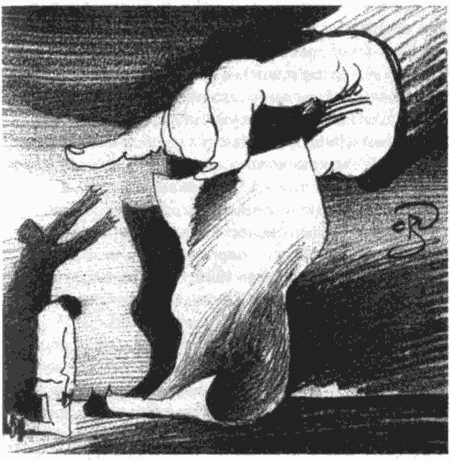
В анналах Верховного суда США был сходный случай, когда человек, которого казнили на электрическом стуле, остался жив вследствие какого-то дефекта машины. Адвокат осужденного потребовал считать смертную казнь совершившейся и освободить его клиента. В старину, когда при повешении рвалась веревка или при расстреле промахивались стрелки, это считали «перстом Господним». Любопытно, что в современном Афганистане, где убийц и насильников ставят под стену, которую затем обрушивают на них с помощью танка, оставшихся в живых вторично не казнят. Но Верховный суд США оказался выше подобных предрассудков и приказал экзекуцию повторить. На этот раз машина сработала безупречно. Не знаю, упоминался ли этот прецедент в деле Гринбаума, но петиция его была отвергнута. Насколько мне известно, он до сих пор продолжает сидеть.
Нью-йоркское тюремное ведомство продолжает называть себя Департаментом исправительных учреждений. Тюремный охранник, даже если он просто стоит на вышке или конвоирует осужденных, числится «исправительным офицером». Между тем общим местом американской криминологии давно уже стала идея о том, что исправление преступника является в лучшем случае побочной задачей пенитенциарной системы. Основными ее функциями стали считать карательные. Результаты этого подхода не замедлили сказаться: только в штате Нью-Йорк с 1980 по 1999 год число заключенных утроилось. В целом по США оно достигло уже умопомрачительной цифры в 2 миллиона человек.
В Фишкиллской тюрьме мне однажды представили человека по прозвищу Сценарист — мулата довольно интеллигентной наружности, который предложил мне стать консультантом его будущего фильма «Американский ГУЛАГ». Сюжет киносценария предполагался следующий. Губернатор штата Нью-Йорк, где тюрем становится все больше и больше, заключает контракт с группой иностранных специалистов — отставных сотрудников МВД СССР. Возглавляет группу бывший начальник магаданского лагеря особого режима полковник Пугачев.
В то время само название сценария показалось мне непозволительной натяжкой. Через два месяца после моего выхода из тюрьмы и возвращения в Россию, в октябре 2000 года, я приехал в Новгород на Всероссийскую конференцию по вопросам помилования, где участникам раздавали дайджест книги известного норвежского криминолога Нильса Кристи. Книга называлась «Борьба с преступностью как индустрия. Вперед к ГУЛАГу западного образца?»
«С окончанием «холодной войны», — пишет Нильс Кристи, — когда у ведущих промышленных стран больше нет внешних врагов, против которых они могли бы мобилизовать свой потенциал… наивысший приоритет будет отдан борьбе против внутренних врагов.
…Гулаги западного образца не будут предназначены для уничтожения. Однако они позволят устранять из повседневной общественной жизни значительную часть потенциальных нарушителей порядка на срок, охватывающий большую часть их жизни».
Опять-таки можно возразить: а далеко ли от «индустрии борьбы с преступностью» успела уйти Россия? Ведь только летом 2000 года, после принятой Госдумой крупной амнистии, наша страна уступила Соединенным Штатам первое место в мире по числу заключенных на душу населения. Вправе ли мы, как норвежский криминолог, обличать пенитенциарную систему США, если у нас до сих пор переполнены СИЗО, если обвиненные в незначительных преступлениях по году и больше сидят в ожидании суда?
Разница между сегодняшней Россией и США — скорее в тенденции, в направлении движения. Когда Путин вскоре после прихода к власти посетил «Кресты» и потребовал от Минюста разгрузить изоляторы, большинство россиян его поддержали. Даже те, кто требует восстановления смертной казни для убийц или насильников, согласны, что укравший курицу или велосипед не должен томиться месяцы и годы за решеткой. В США ни один серьезный политик не может призвать к смягчению законов. Там общество — гораздо более сытое и благополучное, чем российское, — хочет другого. Вот когда губернатор Нью-Джерси Кристина Уитман, одев на шею полицейскую бляху, участвовала в аресте мелких наркоторговцев и лично их обыскивала — американская публика была в восторге.
В 1999 году президент России помиловал 12,5 тысячи осужденных, а американский президент милует в лучшем случае дюжину в год. Согласен, из этого еще рано заключать, что ГУЛАГ теперь у них, а не у нас. Но разница в отношении к преступнику, особенно среди элит, очень бросается в глаза. Вот как описывал некоторые дела выступивший в Новгороде председатель президентской Комиссии по вопросам помилования Анатолий Приставкин:
— …Пили два брата, один похвалил команду «Динамо», второй взял топор и тюкнул его по голове. Пили мать с дочерью, из-за чего-то повздорили, и одна убила другую… Офицер несколько месяцев не получал зарплату, жена стала упрекать его. Доупрекалась до того, что он взял ее и зарезал… Мне попадались люди, которых сам готов был растерзать. Но ведь бывает и просто «бытовуха»: убил мужик по пьянке жену и детей. Так что же — казнить его? Ведь он сам себя больше, чем кто-либо, уже наказал на всю жизнь.
Этот тон сострадательной укоризны в России уместный, или, по крайней мере, приемлемый, американскому «комиссару» мог бы стоить должности.[40] В основе американского менталитета лежит кальвинизм, и разделение на «спасенных» и «проклятых» очень прочно укоренилось в подсознании. Если дочь убила мать или муж убил жену — значит они принадлежат к отбросам, к отверженным, и их участь — пожизненный срок, электрический стул, преисподняя. Обстоятельства не важны. Психологических тонкостей («сам себя наказал») там не надо. Неслучайно английское слово «felon», обозначающее уголовного преступника, имеет и второе значение — «злокачественный нарост».
Мистер робот и гражданин бандит
И Россию, и Америку можно причислить к неблагополучным в правовом отношении странам. Но, по избитой формулировке графа Толстого, каждая из них несчастлива по-своему. Лучше всего это иллюстрируют два недавних примера.
В российских газетах появилось сообщение о дерзкой шайке аферистов, действовавших под видом офицеров ФСБ. Они выслеживали предпринимателей среднего уровня, как правило, связанных с торговлей нефтью или цветными металлами. У выхода из офиса, квартиры или прямо на улице к бизнесмену подходили несколько людей в серых костюмах, предъявляли «корочки» и тоном, не терпящим возражений, говорили, что ему необходимо «проехать» с ними для беседы. Оторопевший коммерсант покорно садился в машину с тонированными стеклами. По пути преступники продолжали ломать комедию — например, звонили куда-то по сотовому телефону и рапортовали: «Товарищ генерал, задание выполнено!»
На загородной «ведомственной» даче коммерсанта встречал пожилой человек в форме генерала ФСБ. После короткой преамбулы он заявлял:
— Органам безопасности России все известно о сокрытии вами доходов и незаконном вывозе валютных средств за границу.
Здесь преступникам не надо было даже проводить расследование: кто из предпринимателей в сырьевой сфере этого не делает? Далее человек в форме информировал коммерсанта о «секретном распоряжении Совета безопасности», допускающем «особые меры» для возвращения вывезенных капиталов в Россию, вплоть до «ликвидации» их собственников.
Когда предприниматель начинал бледнеть, «генерал» несколько смягчался, обращался к нему по имени-отчеству и предлагал «добровольно сдать государству» некоторую часть сокрытых средств. Обычно называлась сумма от 75 до 100 тысяч долларов.
— Если вы докажете таким образом вашу патриотическую позицию, — заключал «генерал», — мы сочтем возможным рассмотреть вопрос об амнистии ваших капиталов. В противном случае пеняйте на себя.
Интересно, что на протяжении всей этой процедуры к коммерсантам не применялось никакое насилие. Тем не менее в девяти случаях из десяти они мчались собирать требуемую сумму и привозили ее по указанному адресу. После приема денег «офицеры ФСБ» брали с них подписку о неразглашении и согласии на дальнейшее сотрудничество.
Люди, которые в январе 1998 года доставили бывшую любовницу Клинтона в номер вирджинского отеля, ни за кого себя не выдавали. Они действительно были сотрудниками ФБР. Откупиться от них за деньги Моника Левински не могла.
Тремя днями ранее адвокат девушки Уильям Гинзбург направил в федеральный суд в Техасе ее заявление, в котором она отрицала интимную связь с президентом США. Между тем ФБР уже располагало записью разговора Моники Левински с ее подругой Линдой Трипп. Во время встречи, на которую Линда Трипп пришла со скрытым микрофоном, Моника подтвердила, что была в близких отношениях с президентом, но вынуждена была солгать, чтобы защитить его.
Агенты ФБР сообщили Монике Левински, что располагают исчерпывающими доказательствами ее связи с Клинтоном, и назвали имя подруги, которая эти доказательства предоставила. Как и предполагалось, девушка была шокирована, узнав, что ее предали. Теперь можно было приступать ко второму этапу. «Мы знаем также, что вы солгали в вашем заявлении для суда. Теперь против вас будет начато уголовное дело по обвийению в лжесвидетельстве и воспрепятствовании деятельности правосудия». Моника Левински, у которой, по ее признанию, в этот миг все поплыло перед глазами, услышала и о сроке, грозившем: 26 лет лишения свободы. На тот момент ей было 24 года.
Как рассказывал впоследствии адвокат Гинзбург, если бы Моника Левински позвонила ему из отеля, он сумел бы спасти ее из западни весьма простым способом. Пока заявление Моники не поступило в суд, с юридической точки зрения оно ничего не значило и обвинить ее в лжесвидетельстве было нельзя. Гинзбург прекрасно знал, что за три дня письмо из Вашингтона в Техас не доходит, и мог бы немедленно послать судье телеграмму с просьбой считать заявление Левински недействительным. Как адвокат Левински он имел на это полное право.
Но бывшая стажерка Белого дома была настолько напугана, что лишилась всякой способности мыслить рационально. Как могла она подойти к телефонному аппарату, если проницательные и неумолимые сотрудники ФБР обступили ее со всех сторон, повторяя, что единственное для нее спасение — дать показания следствию?
Даже согласие сотрудничать с ФБР не избавило Монику Левински от парализующего ужаса. Девушку отпустили домой, а дома у нее хранилось злополучное синее платье — единственное вещественное доказательство ее связи с Клинтоном. Если бы она его уничтожила, ее признания Линде Трипп можно было объявить романтическими фантазиями, и «Моникагейт» не получил бы дальнейшего развития. Почему она этого не сделала?
Ее официальный биограф, британский писатель Эндрю Мортон, так объясняет это в своей книге «История Моники»: «Моника и ее мать были слишком запуганы, чтобы куда-то поехать с платьем, выйти с ним из квартиры, даже чтобы просто кому-нибудь позвонить. Они боялись, что их могут арестовать в любую минуту».
Напомню, что мать Моники, Маршу Льюис, тоже вызывали на «собеседования» в ФБР и угрожали ей столь же астрономическим сроком за то, что она давала дочери советы, а значит, помогала ей лжесвидетельствовать.
Эти два примера весьма показательны. В российском варианте гражданин не без оснований предполагает, что формальная законность — это фикция и что люди, облеченные властью, могут и будут действовать совершенно противоправными методами. Пресс-хата, «ласточка», «конвертик», секретный приказ Совета безопасности… Вряд ли в России кому-то покажется абсурдным выражение Василия Аксенова, который, описывая различные составляющие современной российской элиты, включил туда «круги правоохранительные/правонарушительные». От нескольких московских «братков» мне довелось услышать: «Самая крутая группировка — это власть».
С другой стороны, россиянин склонен считать, что власти не беспредельщики, что у них есть какие-то понятия и что с ними можно договориться. По крайней мере, если у тебя есть деньги, поддаваться отчаянию ты не должен. Мой родственник, который занимался бизнесом во Владивостоке, шутил по этому поводу: «У нас действует Уголовный кодекс, только вместо «лет лишения свободы» там надо читать «тысяч условных единиц». (Например, разбой, совершенный организованной группой, наказывается: от 8 до 15 тысяч условных единиц.)
Американский вариант совсем иной. Да, в Лос-Анджелесе полицейские избили дубинками водителя-негра Родни Кинга. Да, в Нью-Йорке пытали с помощью вантуза гаитянина Абнера Луиму. Но колоссальный резонанс вокруг этих дел и огромные компенсации, выплаченные пострадавшим, свидетельствуют, что полицейский бандитизм — скорее исключение, чем правило, в США.
В России бы такие вещи никакой сенсации не вызвали. Подумаешь, невидаль — одному нос сломали, другому в задний проход деревяшку засунули. Известный своей откровенностью судья Мосгорсуда Сергей Пашин признавался: «На судебном заседании я слышу заявления о применении пыток от четырех из пяти обвиняемых». А один из корреспондентов российского Центра содействия реформе уголовного правосудия рассказал о плакате, который висел в кабинете дознавателя: «Задержанный! Ты можешь кричать, плеваться выбитыми зубами, требовать адвоката, показывать кому угодно свои синяки и ушибы! Но тебя в таком виде уже задержали работники милиции».

Американец не считает, что человек в форме — бандит, с которым нужно договариваться. Он считает, что это робот, которого нужно бояться. Американские правоохранительные органы способны, искусно нажимая на клавиши многочисленных законов и предписаний, «оформить» самый незначительный проступок как чудовищное деяние. Фэбээровцам не нужно было избивать Монику Левински или подбрасывать ей в сумочку патроны и героин. Дача ложных показаний — преступление, воспринимаемое в России как мелочь, — в Соединенных Штатах действительно способна повлечь за собой 26 лет тюрьмы. Тот факт, что речь, по сути дела, шла о молодой девушке, не желавшей признать свою любовную связь с женатым мужчиной, в США никого бы не волновал. Принцип машины означает: сделал — получи. Машина неумолима и неподкупна.
Во многих штатах США в последние годы были приняты законы, предусматривающие колоссальные тюремные сроки за любой рецидив, вне зависимости от тяжести преступления. В штате Калифорния любой человек, в третий раз нарушивший закон, получает срок не менее 25 лет. Эта мера получила название «Three strikes — you are out».[41] (Напоминает «четыре сбоку — ваших нет».)
Во время обсуждения законопроекта прокуроры пугали жителей Калифорнии педофилами и серийными убийцами. В действительности на 25 лет и больше стали сажать наркоманов, совершающих (причем неумело) мелкие кражи из универмагов. В одном случае, который попал в газеты, калифорнийский закон о рецидивистах был применен к человеку, уличенному в лсраже батареек для плейера. Так как у него были уже две судимости за воровство, суд дал ему 25 лет. Несмотря на то, что судья прекрасно понимал несуразную жестокость такого приговора, выхода у него не было: отказ применить действующий закон является в США основанием для снятия судьи с должности.
Журналисты спросили у губернатора Калифорнии Пита Вильсона: «Почему в вашем штате за кражу батареек дают 25 лет?»
Губернатор с железным спокойствием ответил: «Он получил 25 лет не за кражу батареек. Он получил 25 лет, так как продемонстрировал, что является закоренелым и неисправимым преступником. А таких мы изолируем от общества».
Жизнь и смерть
На американском аукционе средней руки был продан за четыре тысячи долларов рисунок, изображающий льва с оскаленной пастью. Выражение бесплодного гнева, безысходной ярости легко представить себе на человеческом лице; для зверя эта гримаса необычна. Рыкающий лев на цепи — все еще лев. Только обезьяна, которую дразнят в ее клетке, демонстрирует порой этот злой и бессильный оскал. Лев, ставший обезьяной, — или лев, ставший человеком? Я увидел этот рисунок в журнале и не удивился, прочитав, что автором его был Джон Готти. Глава клана Гамбино, легендарный уже при жизни черный герцог вырождающейся коза ностры, «последний дон» — по прозванию американских газетчиков.
В 1992 году, с третьей или четвертой попытки, федеральной прокуратуре удалось добиться обвинительного приговора Готти — путем весьма сомнительных манипуляций, как и впоследствии в деле Иванькова.
Главным свидетелем против Готти выступил профессиональный убийца по фамилии Гравано, автор семнадцати трупов, которому за его предательство ФБР выхлопотало срок в 5 лет, с последующим исчезновением под новым именем и с новой внешностью где-то в американской глубинке. Джон Готти — вероятно, последний американский итальянец, веривший в «омерту» — кодекс молчания, — исчез с лица земли. Его отправили отбывать пожизненное заключение в специальном бронированном бункере «супертюрьмы» «Мэрион», штат Иллинойс. Готти был водворен в одиночную камеру, где круглые сутки за ним наблюдает монитор. Еда поступает в отверстие в стальной двери, а душ на пять минут в день выдвигается из стены. Первоначально Готти отказывали даже в прогулках, и лишь многочисленные петиции его адвоката завоевали ему право на ежедневный моцион и упражнения в несколько более просторной клетке. Готти также разрешили свидания — через перегородку из плексигласа.
Прошение Готти о пересмотре дела было отвергнуто вышестоящими судебными инстанциями, включая и Верховный суд США. Единственным шансом когда-либо выйти на волю осталось для Готти президентское помилование. Значит, шансов у него не было вообще.
Судьба была милостивее к его знаменитому крестному отцу нью-йоркских мафиози, которому Готти подражал вольно или невольно. Лучиано по прозвищу «Lucky» (удачливый) был также осужден на пожизненное заключение накануне Второй мировой войны. Война Лучиано и спасла. В 1942 году в контакт с ним вошли люди из Управления стратегических служб (OSS), как называлась тогда американская внешняя разведка. Подпольная империя Лучиано стала приютом и опорой для американских диверсантов, внедренных в Сицилию в преддверии высадки союзных войск. В награду за помощь Лучиано была обещана свобода — с условием, что он навсегда покинет пределы США. Американское правительство свое слово сдержало, и после окончания войны Лучиано был депортирован в Италию. Толпа старых друзей собралась в нью-йоркской гавани прощаться с Лучиано, которого трансатлантический лайнер увозил в Старый Свет. Лучиано дожил до седин «под пленительным небом Сицилии», попивая вино, примиряя врагов, с легкой грустью вспоминая былое — будто император Диоклетиан, удалившийся в родную провинцию растить капусту.
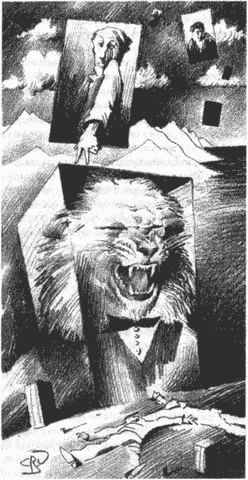
Готти довелось жить в эпоху, когда отсутствие мировых войн и катаклизмов сделало человеческую судьбу более предсказуемой, — и в его случае предсказуемость была обреченностью. Так появился рычащий в бесплодной ярости лев.
Я был знаком с женщиной, которая не могла спокойно слышать имя Джона Готти. Она приходилась племянницей Паоло Кастеллано, которого в 1985 году по приказу Готти застрелили у входа в ресторан «Sparks». Это была четкая и грамотная работа. По специальному сигналу ближайшие улицы были блокированы якобы застрявшими машинами, чтобы преградить дорогу полиции. О приближении Кастеллано сообщалось по радиотелефону. Как только Кастеллано и его телохранитель ступили на мостовую, шесть стрелков в одинаковых меховых шапках (во избежание ошибок) открыли огонь с трех сторон. Фотография двух трупов, лежащих в луже крови у своего «линкольна», обошла все нью-йоркские газеты. Джону Готти, впрочем, не требовалось их читать. Через минуту после того, как все было кончено, он проехал в машине по Третьей авеню и мог полюбоваться издали этим красивым финалом. За рулем был Сэм Гравано.
Рисуя пленного льва в своем федеральном гробу, вспоминал ли Джон Готти тот знаменитый день? Вряд ли он чувствовал раскаяние. Но мне кажется, что он предпочел бы теперь своему медленному угасанию такую смерть — под открытым небом, рядом с верным слугой, от пули сицилийского bravo.
Эпилог
В мае 2000 года, после ходатайства консула России, американские комиссары все-таки решили меня освободить. Еще два с лишним месяца я продолжал находиться в Фишкиллской тюрьме в ожидании передачи меня Службе иммиграции и натурализации США. Условием освобождения была немедленная депортация в Россию.
Я не считал напряженно дни и не прокалывал иголкой календарик, как это делают солдаты перед «дембелем». Вместо этого мне пришлось… сдавать экзамены: в последние месяцы срока я решил закончить высшее образование и начал лихорадочно подписываться на разного рода заочные курсы университета Огайо. Слава Богу, родственники помогли деньгами: бесплатное образование для заключенных в штате Нью-Йорк к этому моменту уже отменили.
Сильное волнение наступало лишь в некие «знаковые» моменты. Например, когда меня вызвали в отдел условно-досрочного освобождения и дали расписаться, что я ознакомлен со специальной инструкцией. «Въезд в США запрещен до 2020 года. Исключение может составлять только личное разрешение Госсекретаря Соединенных Штатов. В случае нарушения мной этого правила обязуюсь немедленно поставить в известность Управление условно-досрочного освобождения». (В смысле — чтобы меня могли немедленно арестовать.)
Или вызов на склад, где заключенный-каптерщик снял с меня мерку и выписал мне «вольную» рубашку и синие джинсы. Переодели меня уже в депо этапа в Федеральную иммиграционную тюрьму города Нью-Йорка на улице Вэрик.
И сильнее всего забилось сердце во дворе Ольстерской пересыльной тюрьмы — той самой, где пятью годами ранее я стригся в парикмахерской, проходил дезинфекцию и сидел в карцере. Конвоиры Управления тюрем штата Нью-Йорк передали меня, нескольких доминиканцев, двух кубинцев и одного невесть откуда взявшегося англичанина федеральным агентам. Мы сидели в микроавтобусе, уже в вольной одежде, но еще в наручниках. Один из агентов, затянувшись сигаретой, сказал:
— Вы более не находитесь в юрисдикции штата Нью-Йорк. Вы в руках Службы иммиграции и натурализации США и, вероятно, на пути к свободе.
Хотя ничего нового он, в общем, не сказал, лица заключенных видимо просветлели, и будто послышался общий вздох облегчения. Остались мрачными лишь кубинцы: они-то знали, что Кастро их обратно не возьмет, а американские власти будут тем не менее держать их в иммиграционных тюрьмах, пока не надоест.
Тюрьма на улице Вэрик была чем-то средним между приемником для бездомных и железнодорожным вокзалом в пору летних отпусков. Заключенных размещали в огромных залах с рядами кроватей, скорее напоминавших нары: перегородки между «спальными местами» были чисто символические.

Здесь мы снова носили форму, только оранжевую.
На улице Вэрик разрешалось иметь наличные деньги, но запрещалось курение. В итоге я и мой сосед-кахетинец Гоча, ожидавший депортации после срока за кражу, покупали за пять долларов одну контрабандную сигарету на двоих и курили в туалете. Впрочем, большой необходимости прятаться не было: отменять депортацию даже за более серьезное нарушение режима «федералы» не стали бы. То, что мы считали избавлением, они воспринимали как наказание.
Надзиратели здесь почти ни во что не вмешивались. По вечерам, даже после отбоя, в разных концах зала шли концерты. Отбивая такт на пластмассовых ведрах, доминиканцы пели свои баллады, а с другого конца зала им отвечали шквалами рэпа и ямайского рэггея. По просьбе публики мы с Гочей иногда пели по-русски.
Каждые несколько дней вся эта огромная разноязычная толпа собиралась около стенда, где вывешивали списки назначенных на рейс. Лаконично — фамилия и страна. Албания… Бразилия… Колумбия… Нигерия… Однажды, в конце августа, я с огромным душевным трепетом увидел: Starostin Russia. Я долго не мог отойти от стенда.
Родители успели передать мне пиджак и галстук, так что в день, когда по мегафону пророкотало: «Старостин — Россия — с вещами», я выглядел вполне прилично. По странному совпадению, это был тот самый пиджак, в котором в марте 1995 года я ходил на суд.
Мои последние часы в Америке были как будто фильмом, который крутили в обратную сторону. Машина Иммиграционной службы везла меня по манхэттенским улицам, где я когда-то гулял, мимо дома женщины, той самой балерины-итальянки, из-за которой шестью годами ранее я ранил человека. И вот перед нами показался аэропорт Кеннеди, где в 1991 году я приземлился, полный надежд.
Говорят, что именно так — быстро и в обратном порядке — видит умирающий человек эпизоды прожитой им жизни. Но когда останавливается сердце и фильм кончается, наступает другая жизнь, другая форма существования.
Всю ночь в полете я не сомкнул глаз. Конвоиры распрощались со мной в Шереметьево, напоследок поинтересовавшись, где в Москве можно увидеть старинные здания и снять красивых проституток. Я отдал свой паспорт пограничнику. Раздался удар печати, и я вышел в иной мир, навечно неся в своей душе цвета и звуки мира прежнего.
