
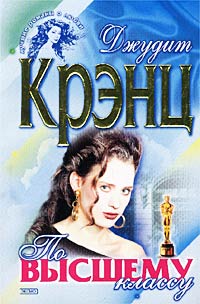
Джудит КРЭНЦ
ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ
За несколько секунд до начала церемонии вручения «Оскара» за лучший фильм года, в тот последний миг, когда напряженное ожидание достигает наивысшей точки и когда те, кто удостоился чести объявить список победителей, выходят из-за боковых кулис и спускаются на сцену, именно тогда Вито Орсини прошиб пот. Что, если Мэгги Макгрегор ошиблась? Что, если «Зеркала» не стали лучшей картиной года? О господи! Тогда по условиям пари, которое он заключил с Кертом Арви, ему придется купить права на «Стопроцентного американца». Да какая разница, черт возьми! Он пожал плечами и улыбнулся. Выиграет он или проиграет — он все равно должен заполучить эту книгу. Она написана словно для него, и он должен поставить по ней фильм. Он знал это.
Билли Орсини еще сильнее стиснула его руку, но, в отличие от Вито, она не испытывала душевного смятения. Сегодня утром, спеша поделиться радостным известием, ей позвонила Долли Мун. Но Билли не хотела заранее сообщать мужу о готовящемся присуждении ему «Оскара»: ей казалось, что если он узнает секрет белого конверта еще до презентации, то радость от одержанной победы уже не будет такой всепоглощающей. Она решила, что не скажет ему и о том, что ждет ребенка. Эту новость она прибережет до завтра, когда сияние славы сегодняшнего вечера станет менее ослепительным. Такое известие для ее мужа, у которого в сорок два года еще нет детей, без сомнения, важнее любого профессионального признания, сколь бы высоким оно ни было. Почувствовав, как напряглась рука Вито, она приказала себе быть честной до конца. Да, она, Уилхелмина Ханненуэлл Уинтроп Айкхорн Орсини, не имеет ни малейшего намерения делить свою славу материнства ни с какой золоченой статуэткой, благосклонно даруемой Академией киноискусства во всей ее бесконечной премудрости.
1
Слегка повернув голову, Билли неохотно открыла глаза. Ощущение счастья, испытанного во сне, было столь пронзительным, что ей не хотелось расставаться с ним. Ей снилось, будто она бежит, нет, не бежит, а легко, едва касаясь ступеней, словно взлетает по спиральной лестнице, ведущей на верхнюю площадку высокой башни, откуда — она это уже знала — видит пронизанную светом весеннюю долину с перемежающимися рощами и лужайками, за которой раскинулось манящее бирюзовое море. Открыв глаза, Билли вздохнула и несколько минут лежала неподвижно, успокаиваясь от пережитого чувства, но радостное состояние не покидало ее.
В блаженном полузабытьи, не понимая, ни где она, ни какой сейчас день, она просто смотрела в белый высокий потолок, пока к ней не вернулось ощущение реальности. Она лежит в своей постели, в своем доме в Калифорнии. Сейчас апрель 1978 года. Вчера Вито получил «Оскара» за лучшую картину года, а ее любимая подруга Долли Мун — приз за лучшую женскую роль. Спустя четыре часа Долли быстро и без суеты родила прекрасную девочку. Билли, Вито и рекламный агент Долли Лестер Уайнсток потихоньку удрали с банкета и поехали в больницу. Затем они вместе вернулись домой и отметили радостное событие яичницей, английскими булочками и шампанским. Билли ясно помнила, как выливала на сковороду яйца, как Вито открывал шампанское, но потом все смешалось — тосты, смех… А что, если Вито и Лестер свалились на постель вместе с ней? Быстро протянув руку, она поняла, что лежит одна, одеяло со стороны Вито было откинуто.
Зевая, потягиваясь и слегка постанывая от удовольствия, Билли медленно приподнялась и села. Часы на столике у кровати показывали начало первого, но это ее нисколько не огорчило. После пережитых волнений женщина может позволить себе подольше поваляться в постели. Особенно в ее положении, в ее удивительном положении, больше того — в исключительно увлекательном положении, совершенно новом для нее положении, о котором пока никто не знает. Но теперь настало время раскрыть секрет. Из гостиной, примыкающей к спальне, донесся голос Вито, он разговаривал по телефону. Прекрасно! Значит, прежде чем он поймет, что она проснулась, она успеет умыться и почистить зубы. Билли прошла в ванную и взглянула на себя в зеркало. Она давно привыкла к тому, что красива той красотой, которая сразу бросается в глаза, но сегодня, расчесывая щеткой волосы, Билли не могла не заметить свежести и упругости своей кожи, естественного блеска серых глаз, пышности густых шелковистых волос, отливающих оттенками темного дерева. В свои тридцать пять она выглядела на десять лет моложе. Должно быть, это гормоны, подумала она, от них можно ждать чего угодно.
Выйдя из ванной, она услышала, что Вито по-прежнему разговаривает по телефону, значит, у нее есть время принять душ. Ведь как только она скажет ему о ребенке, он от радости потеряет голову, эта новость его настолько взволнует, что все остальное покажется ему просто несущественным и даже на время забудется. Они будут говорить об этом часами, будут строить планы… Так почему бы не воспользоваться возможностью и не принять душ?
Через несколько минут, пританцовывая от нетерпения, Билли накинула тонкий шелковый пеньюар на еще влажное тело и, как была босиком, распахнула двери в гостиную, но тут же инстинктивно отступила назад в спальню. Интересно, с какой стати тут сидит секретарша Вито Санди Стрингфеллоу, да еще на любимом стуле Билли, в ее личной, принадлежащей только ей гостиной, и очень по-деловому разговаривает по ее, Билли, личному телефону, который к тому же взяла с ее стола? Но Санди и Вито были так поглощены разговором, который вели с разных аппаратов, что даже не заметили ее появления. Сбросив свой далеко не деловой пеньюар, Билли надела шлепанцы и толстый махровый халат.
— Доброе утро! — проговорила она, улыбнувшись Санди и Вито сияющей улыбкой. Сделав извиняющуюся гримасу, Санди продолжала беседовать по телефону. Вито, быстро взглянув на Билли, помахал рукой, улыбнулся и, неопределенно чмокнув воздух, также продолжал внимательно слушать.
— Да, мистер Арви, как только мистер Орсини закончит разговаривать по другому телефону, он тут же возьмет трубку, — вновь послышался голос Санди. — Да, я знаю, что вы долго ждете, в таком случае, может быть, он вам сам перезвонит? Нет, в том-то и дело, что не могу точно сказать когда. В доме нет переключающей панели, а все утро телефон буквально разрывается. У мистера Орсини даже нет времени одеться и поехать в офис. Думаю, что уже недолго, мистер Арви, но на этом аппарате нет кнопки ожидания. Конечно, нелепо, но я сама говорю по личному телефону миссис Орсини.
Билли вывела вопросительный знак на листочке бумаги и положила его перед Вито. Покачав головой, он молча указал на Санди.
— С кем он говорит? — спросила Билли.
— С Лью Вассерманом о «Стопроцентном американце», — прошептала Санди, прикрыв рукой трубку.
Женщины сделали большие глаза, как бы поздравляя друг друга. То, что Вито разговаривал с самым влиятельным и могущественным человеком в Голливуде — при том что муж, как она знала, мечтает снять новый фильм, для которого надеется заполучить Роберта Редфорда и Джека Ни-колсона, — объясняло его сосредоточенность.
— А где Джози? — поинтересовалась Билли. Уж конечно, всеми этими делами должна была бы заправлять Джози Спилберг, ее личная секретарша.
— Ужасный желудочный грипп. Она звонила и сказала, что заболела.
— Великолепно, — произнес Вито, — просто великолепно, Лью. Да… да… угу… Я вас понимаю… Правильно. Еще раз огромное спасибо за совет. Позавтракать завтра утром? Договорились. В семь тридцать? Нет проблем. До свидания, Лью.
Положив трубку, он порывисто обнял и крепко поцеловал Билли. От того, что он чувствовал себя победителем, Билли был заметно возбужден.
— Хорошо выспалась, дорогая? Даже не могу поболтать с тобой: просто обязан поговорить с Кертом Арви, он ждет на другом телефоне. Не стоило этому несчастному сопляку спорить, что «Зеркала» не получат «Оскара». И теперь, чтобы купить права на «Стопроцентного американца», ему придется раскошелиться на полтора миллиона долларов, а я хочу быть уверенным, что он подпишет контракт с литагентством из Нью-Йорка. Книгу просто на части рвут… — Он подошел к личному телефону Билли и с головой ушел в разговор, в то время как Санди подбежала к другому аппарату, который зазвонил сразу же, как только Вито положил трубку.
Глядя на них, Билли поняла, что они про нее уже забыли. Ну что ж, ее секрет подождет, подумала она, и к тому же ей надо позавтракать. Она легко сбежала по лестнице и пересекла разделенную раздвижными дверями залитую солнцем большую гостиную своего огромного, но очень удобно спланированного дома.
Это был старый дом, каких немало в Калифорнии, еще довоенной постройки, 30-х годов, но, несмотря на свои внушительные размеры, обладавший своим особенным, неповторимым духом. В этом доме чувствовалась личность его теперешней хозяйки. Глаз радовали непринужденно расположенные островки диванов и кресел, обтянутых полосатой французской тканью и слегка поблекшим английским вощеным ситцем с цветочным рисунком ненавязчивых благородных оттенков; паркетные полы покрывали красивые ковры ручной работы, и в каждой комнате были действующие камины с подготовленными для топки горками дров. Но ничто не придавало дому такой теплоты, как цветущие растения, папоротники и даже небольшие деревья, которые располагались в углах и нишах, около высоких стеклянных дверей, ведущих на веранду. Внимание вошедшего также неизменно привлекали книги, заполнявшие шкафы, и множество картин на подрамниках и просто прислоненных к стенам. Во всех комнатах — на столиках, комодах, бюро — маленькие изящные бронзовые статуэтки, старинные серебряные подсвечники, большие шкатулки и пустые птичьи клетки; на полу, рядом со стульями, — корзины, набитые журналами, и повсюду — самые, разнообразные антикварные вещи, купленные потому, что они просто красивы и неповторимы и так красноречиво говорят о характере их обладательницы. Во всей обстановке не чувствовалось ничего показного, никакого стремления к пышности, среди множества необычных предметов, так естественно наполнявших огромный дом, не было ни золота, ни осыпанных драгоценными камнями табакерок, и все же было ясно, что Билли никогда не сопротивлялась соблазну купить то, что ей хотелось. Сами комнаты были настолько просторны, что, несмотря на их сумбурно-очаровательную обстановку, в них царила атмосфера чистого пространства, свежести и какой-то внутренней беззаботности. Без сомнения, этот дом принадлежал женщине, которая прежде всего хотела порадовать самое себя, и только огромные деньги позволяли поддерживать в нем состояние изумительного совершенства при том не поддающемся логике беспорядке, который Билли так любила.
Устремившись в буфетную, она быстро прошла через библиотеку, музыкальную комнату и столовую, весело улыбнувшись на ходу трем служанкам, занятым своими повседневными делами. Две из них приехали несколько минут назад и уже принялись расставлять в вазы свежие цветы, в руках у третьей она заметила огромную пачку телеграмм.
Повар Билли Жан-Люк, увидев на кухне свою хозяйку, постарался скрыть удивление: дважды в неделю он обсуждал меню с мисс Спилберг, но сама миссис Орсини редко появлялась здесь, и уж, конечно, не в халате. Билли попросила его приготовить тарелку сандвичей для Санди и Вито, а для себя то, на что она отваживалась лишь в особых случаях — три тонких куска белого хлеба с толстым слоем ее любимого клубничного джема и кусочками сильно зажаренного бекона. По вкусу такое сочетание напоминало кисло-сладкую китайскую еду для младенцев, а по отсутствию калорий являло собой верх кулинарного искусства.
Соленое, сладкое, белый хлеб, мясо… Пока, дожидаясь завтрака, она сидела в столовой, у нее буквально текли слюнки при мысли о хрустящем, покрытом прозрачным жиром беконе. Да, прежде чем сесть на диету, подобающую ее положению, это будет ее последнее «прости», своего рода безудержное пиршество. Такое может понять только женщина, как она, привыкшая к ограничениям, женщина, знающая, во что обходится каждый лишний грамм съеденного, женщина, как она, в восемнадцать лет сбросившая весь лишний вес и решившая всю жизнь оставаться стройной.
Сегодня вечером — только дыня, жареные помидоры и паровая рыба, без сожаления подумала Билли, потягивая апельсиновый сок и оглядывая гостиную. Эти непрерывные телефонные звонки скоро прекратятся. Ведь, судя по тому, что Вито до сих пор не успел побриться и одеться — а он всегда, что бы ни случилось накануне, вставал очень рано, — телефонная эпопея длится уже давно. Еще немного — и все успокоится, начнется обеденный перерыв, и Санди с Вито уедут в офис, чтобы нормально работать. Конечно, в дом еще будут звонить, будут приносить цветы и телеграммы, но свистопляска, связанная с «Оскаром», пойдет на убыль. Такая победа — большое событие в ее с Вито жизни, но, в конце концов, у людей масса более важных дел.
Билли закончила свой греховный завтрак и, уже поднимаясь по лестнице в жилую часть дома, поняла, что, занятая другими мыслями, так и не почувствовала вкуса еды. Подходя к двери своей гостиной, она надеялась, что там уже никого нет: Санди наверняка уехала, а Вито одевается у себя в гардеробной, но, войдя в комнату, увидела ту же картину, что и полчаса назад. «Какого черта?» — написала она на листке бумаги и сунула его под нос Санди. На лице секретарши появилось выражение, близкое к отчаянию, и, зажав плечом трубку, она написала: «Он разговаривает с Редфордом, а я держу Николсона».
— Вот это да! — вырвалось у Билли. Она была озадачена и раздражена. Боже мой! Что происходит? Ведь у таких актеров прекрасные агенты. Почему же Вито должен разговаривать с ними напрямую? А может быть, они сами звонят ему? В списке бестселлеров «Стопроцентный американец» занимает первое место уже семь месяцев, это лучшая книга, и все хотят принять участие в фильме, все понятно, но такое нарушение принятого в Голливуде протокола просто неслыханно! Билли уже села поблизости, чтобы послушать разговор, когда Санди протянула ей еще один листок.
«Сюда едет Мэгги со съемочной бригадой, готовит специальный выпуск для сегодняшних вечерних теленовостей. Может быть, вам одеться?»
У Билли изумленно округлились глаза. Какое право они имеют вторгаться в ее личную жизнь? В заключительный период работы над «Зеркалами», когда необходимо было сделать окончательный монтаж и свести звук так, чтобы студия не вмешивалась, она с готовностью предоставила Вито и его ораве свой дом на полтора месяца. Все полтора года, что ушли на создание фильма, она работала по восемнадцать часов в сутки, без конца перепечатывая сценарий; во время этого сумасшествия ни разу не упрекнула Вито в том, что пачкают и царапают паркетные полы и ломают хрупкие безделушки, а теперь еще сюда мчится эта Мэгги Макгрегор со своими ненормальными операторами! Да Билли абсолютно не волнует, что ее телешоу из Голливуда в первую и последнюю неделю каждого месяца — одна из пяти самых популярных программ в Америке. И что из того, что Мэгги предупредила Вито о присуждении «Оскара»? Она — подруга Вито, а не ее, и никогда не будет ее подругой. С каждой встречей их взаимное недоверие лишь возрастало. Они не могут позволить себе быть врагами: слишком на виду в городе и в Голливуде, но и ближе они тоже никогда не станут. И вообще, о чем тут говорить! В конце концов, ее дом — не съемочная площадка, и она не хочет видеть здесь посторонних, она не пускает сюда даже фотографов из журналов, и Мэгги это прекрасно известно.
В течение последних трех лет, с тех пор как Билли купила Холби-Хиллз на Черинг-Кросс-роуд, проходящей по южной стороне бульвара Сансет сразу за Беверли-Хиллз, куда все так стремились, дом круглосуточно охранялся частной охраной; декоративный кустарник скрывал колючую проволоку, натянутую по всему периметру участка в четыре с половиной гектара; в начале подъездной аллеи, у высоких ворот дежурили два человека в форме, и если останавливалась машина с желающими поглазеть, то их просили проехать дальше. Такое было по карману лишь одной из самых богатых женщин мира и воротилам преступного бизнеса, для которых подобные меры просто необходимы. И вдруг Мэгги Макгрегор, даже не дождавшись, пока она уйдет, ломится сюда со своей съемочной бригадой. Почему она не хочет взять интервью у Вито в его офисе?
По-прежнему не желая беспокоить мужа, Билли на том же листке вывела вопросительный знак и вновь пододвинула его Санди, которая, на мгновение перестав любезничать с Джеком Николсоном, прошептала: «Публике интересно, поэтому Мэгги всех снимает в домашней обстановке».
Ничего не ответив, Билли вернулась в свою комнату, примыкавшую к спальне, и села на широкий подоконник, где так долго просидела вчера, когда поняла, что беременна. Сначала она не могла поверить в это, но потом, разобравшись в своих душевных переживаниях, наконец осознала, что всю жизнь мечтала забеременеть именно так, неожиданно, ничего не рассчитывая заранее.
Прошло уже больше суток, а она все еще ничего не сказала Вито. Об этом не знает никто. Этот секрет, словно маленький дрожащий бубенчик, звуки которого слышны только ей, уже жил в ней, заставляя учащенно биться сердце и не находить места от сдерживаемой радости, а Вито невозможно оторвать от телефона, чтобы он узнал об этом первым, раньше других, как положено отцу. Значит, пока она должна молчать. Ей уже становилось трудно скрывать переполнявшее ее счастье, тот необыкновенный секрет, превратившийся из мечты в реальность, и внезапно она поняла, что должна сейчас сделать. Уже два часа, она поедет в «Магазин Грез» и проведет там остаток дня. Если она не увидит, как чужие люди заполнят ее дом, значит, для нее, в ее жизни, их просто не будет.
Быстро одевшись, она вышла из дому. Ни Вито, ни Санди даже не заметили этого.
От Холби-Хиллз до Родео-драйв, на которой располагался ее магазин, где продавались только роскошные, дорогие вещи, было всего несколько минут езды на машине, но даже за это короткое время Билли успела почувствовать, насколько восхитительно свежий, будоражащий кровь воздух ранней весны соответствует ее настроению. На погоду в дни присуждения «Оскара» всегда можно было положиться. Мировая телевизионная аудитория наблюдала Калифорнию только при прекрасных погодных условиях. Никто не видел бесконечных хмурых туманов по утрам в июне, когда у солнца словно нет сил пробиться сквозь плотные облака и оно появляется над городом лишь в полдень; никто не видел холодного, льющегося с темного январского неба дождя или, хуже того, белого слепящего солнца позднего лета, безжалостно палящего землю и вызывающего лесные пожары… Нет, Голливуд всегда умел продемонстрировать себя миру в самом выгодном свете. В этом весь Голливуд, думала Билли. В Билли все еще оставалось достаточно от жительницы Бостона, чтобы она могла с легкой насмешкой относиться к городу, который столь уверенно и долго надувал публику.
Проехав вниз по Родео-драйв, она свернула на подземную стоянку возле своего магазина, ощутив приятное чувство гордости, знакомое всем, у кого есть собственность. «Магазин Грез» — так назывался торговый центр — появился четыре года назад и являл собой воплощение ее самых невероятных и экстравагантных фантазий. Это был самый дорогой и роскошный магазин, какой только можно себе представить, и дела в нем шли очень успешно. Вчера, во время церемонии вручения «Оскара», Билли приняла решение открыть филиалы «Магазина Грез» во всех больших столицах мира. Там живут богатые женщины, жизнь которых состоит в том, чтобы развлекаться и ни в чем себе не отказывать; именно они олицетворяют собой тот очень ограниченный, но безгранично ненасытный класс потребителей, для которых и существуют такие магазины, как ее.
И все же, напомнила она себе, не стоит слишком торопиться и предпринимать какие-то важные шаги, не посоветовавшись прежде всего со Спайдером Эллиотом и Вэлентайн О'Нил. В новой компании, созданием которой займется ее юрист Джош Хиллман, она хотела сделать их своими партнерами. Спайдер, в прошлом фотограф, работавший в журналах мод, был теперь ее управляющим, и именно благодаря его идеям и безграничной фантазии им удалось придать магазину необходимый беззаботно-непринужденный стиль, обеспечивший успех. И уж конечно, она не смогла бы обойтись без Вэлентайн с ее врожденным парижским вкусом: она делала основные закупки и одновременно была модельером великолепных туалетов, которые шили на заказ — еще одна особенность «Магазина Грез». Несколько секунд, пока Билли ехала в лифте на третий этаж, где помещались офисы, показались ей вечностью: ей не терпелось поделиться с ними своими планами.
Как ни удивительно, она не нашла ни Спайдера, ни Вэлентайн. Секретарша Спайдера предположила, что они уехали за покупками. Вот уж в высшей степени странно, подумала Билли. Зачем куда-то ехать, если они находятся в «Магазине Грез», этой Мекке всех покупателей? Пережив еще одно разочарование, но упрямо настроившись не терять хорошего настроения — а может, они ищут подарок для Вито, что-то особенное, чего не купишь в женском магазине, — Билли решила обойти свои владения, притворившись, как часто делала, обычным посетителем, впервые попавшим в магазин. Стараясь держаться незаметно, она отправилась вдоль прилавков и витрин первого этажа, пытаясь взглянуть на все глазами какой-нибудь женщины из Питсбурга, но стоило ей пройти несколько метров, как ее тут же окружили человек десять. С кем-то она была знакома, а кого-то видела впервые в жизни. И все они шумно поздравляли ее, желая разделить с ней радость победы Вито, чтобы потом, придя домой, рассказать своим многочисленным знакомым: «Сегодня я встретила Билли Орсини и сказала, как я рада за нее и Вито!» Вежливо улыбаясь направо и налево, она поспешно скрылась у себя в офисе и заперла дверь.
Усевшись за рабочий стол, Билли решила обдумать ситуацию. Совершенно определенно, что домой она вернуться не может. Сесть в «Бентли» и поехать кататься? Но куда? Получается, что она вынуждена оставаться здесь, в офисе, в противном случае ей вновь придется принимать назойливые поздравления. А как бы на ее месте поступила другая женщина? Неужели в подобной ситуации ей доставило бы удовольствие слушать всю эту трескотню, пусть даже приятные, но пустые слова? Нет уж, увольте!
Да когда же наконец она избавится от своей дурацкой застенчивости? В который раз Билли задавала себе этот вопрос, постепенно понимая, почему не может принимать комплименты и поздравления, не испытывая при этом какой-то болезненной неловкости. Да, когда-то у нее были причины смущаться, стесняться самой себя. Это началось еще в детстве, когда она была полной, нелепо одетой бедной девочкой, сиротой, росшей на попечении своих богатых бостонских родственников, потомственных аристократов Уинтропов, среди счастливых, не знавших горя кузенов и кузин, которые в лучшем случае не замечали ее, а как правило, не упускали случая сделать из нее посмешище. Еще больше причин чувствовать себя неловко появилось после того, как ее отправили в академию Эмери, элитарный женский пансион, где она провела шесть бесконечно долгих и одиноких лет: ведь там она сразу стала чужой, объектом шуток и жестоких насмешек всего класса — девочка ростом метр семьдесят пять и весившая восемьдесят восемь килограммов.
Но затем она провела год в Париже, год, изменивший и ее, и ее жизнь. Из Парижа вернулась уже стройная и поразительно красивая девушка. Она поехала в Нью-Йорк и получила место секретаря у Эллиса Айкхорна, загадочного мультимиллионера, имевшего предприятия и бизнес во всех странах мира. Там же, в Нью-Йорке, она познакомилась с Джессикой Торп, с которой они вместе снимали квартиру и которая стала ее первой в жизни подругой. Сейчас Джессика по-прежнему жила в Нью-Йорке, но дважды в неделю они с Билли перезванивались. Джессика и Долли Мун были ее единственными настоящими друзьями.
Всего две близкие подруги, подумала Билли, не очень-то много, если тебе уже тридцать пять. В двадцать один она вышла замуж за Эллиса Айкхорна, и в течение семи лет, пока с ним не случился удар, их жизнь была заполнена делами и поездками по разным странам. За это время она, обладая поразительным вкусом и драгоценностями, которыми осыпал ее муж, прочно заняла место в списке самых изысканно одетых женщин мира. Если они не находились в разъездах, то отдыхали на вилле на Кап-Ферра или на ранчо в Бразилии, иногда проводили несколько недель в Лондоне, живя в отеле «Клэридж», где за ними был постоянно оставлен номер, а затем летели на Барбадос, в свой дом на океанском побережье, или, если хотелось, в Италию, где среди виноградников Неаполитанской долины у них был особняк. В Нью-Йорке они имели свои апартаменты в высотной башне отеля «Шерри Нидерланд». Их фотографии постоянно появлялись на страницах журналов, они входили в число избранных, тех, кого называют сливками высшего общества, и всем вокруг казалось, что их окружает масса друзей.
Но лишь сами Эллис и Билли знали, что в действительности скрывает от постороннего глаза недосягаемая привилегированность их положения: близость собственных отношений — вот то единственно важное, что имело в их жизни реальную ценность. Принимая гостей, общаясь с окружавшими их людьми, они тем не менее не искали и не заводили новых привязанностей — так велика была их поглощенность друг другом. Они словно очертили вокруг себя некий магический круг, переступить который не мог никто.
Когда в 1970 году с Эллисом случился удар, Билли исполнилось двадцать восемь. В течение пяти лет, до самой его смерти, она жила в Бель-Эйр в полном затворничестве, посвятив себя заботам о полупарализованном муже. Ее общение с внешним миром составляли лишь женщины из спортивного класса, чье плохо скрываемое любопытство по отношению к ней исключало любую возможность более близких отношений. Да и неудивительно, что их разбирало любопытство, вспоминала Билли: разве не оставалась она по-прежнему нелепой? Великолепно одетой, стройной, красивой, но нелепой — именно благодаря своему несметному богатству?
Так посмотри же правде в глаза: ты словно родилась, чтобы быть всем чужой. Да, она не вписывалась ни в одну из групп, существующих среди женщин этого города, где все занимаются только одним делом. Она была слишком поглощена своим умирающим мужем, чтобы сплетничать вместе с ними на их роскошных завтраках, которые устраивались под предлогом организации очередного благотворительного бала. Она не принадлежала к кругу женщин, чьи мужья работали на студиях и в котором положение каждой строго определялось возможностями и влиянием мужа в кинобизнесе. Этот круг был уменьшенным, но очень жестким голливудским подобием структуры, существующей среди жен политиков вашингтонского общества, где все строго подчинялось лишь табели о рангах. Она, безусловно, не могла принадлежать к кругу так называемых жен-бойцов, этих молодых — чуть за тридцать, крепких, сильных и исключительно расчетливых красоток, которые вышли замуж за мужчин в два раза старше них, богатых и разведенных. Главная цель этих женщин, подписавших брачный контракт, исключающий разделение общей собственности, состояла в том, чтобы забеременеть и таким образом сделать своих мужей заложниками, когда те, желая обладать более молодым телом, захотят избавиться от них. И уж никак она не могла обрести друзей среди немногочисленных женщин-писательниц, продюсеров и кинозвезд, уважающих и считающихся только с равными себе и не имеющих времени на всех прочих.
Возможно, думала Билли, ей удалось бы найти друзей среди тех, кто живет в Хэнкок-Парк или Пасадене. Там, как правило, обитали изысканно-элегантные, респектабельные семьи, обладатели потомственных состояний, редко удостаивавших своим вниманием Вестсайд, где обосновались разбогатевшие на кинобизнесе. Но даже и не зная их, она была почти уверена, что найдет там тех же, только в калифорнийском варианте, консервативных и вполне предсказуемых кузенов и кузин Уинтропов, из-за которых так страдала в детстве.
После смерти Эллиса, когда закончилось ее вынужденное одиночество, Билли отвергла перспективу стать просто молодой вдовой или еще одной кандидаткой в жены и с энтузиазмом принялась за создание «Магазина Грез», во что бы то ни стало решив добиться успеха. Так продолжалось два года, пока она не встретила Вито и не вышла за него замуж, после чего с головой окунулась в работу над его новым фильмом «Зеркала». Познакомившись на съемочной площадке с Долли Мун, она не испытала неловкости или смущения, потому что та понятия не имела о ее прошлом, а когда узнала, то в их отношениях ничего не изменилось.
Долли и Джессика. За всю жизнь только эти две настоящие, преданные подруги. Ну что ж, и это немало. Возможно, так оно и бывает, возможно, большинство женщин просто ошибаются в отношении тех, кого считают своими верными подругами? Упершись ногами в стол, Билли обхватила колени и закрыла глаза. Она чувствовала себя не в своей тарелке. Еще совсем недавно она мечтала, как начнет день с того, что скажет Вито о ребенке, но вдруг, совершенно неожиданно, все пошло не так. Как глупо было опять вспоминать о прошлом, о потраченных впустую годах! Она не должна позволять призракам вторгаться в ее новую жизнь и омрачать чудо, которое скоро произойдет. А то, что она не вписывается в общество голливудских женщин, вовсе не означает неспособность иметь друзей. Билли сняла ноги со стола, мысленно отметив, что в этой ситуации тетушка Корнелия непременно сделала бы ей замечание. Но к черту прошлое! Ее стол завален бумагами — достаточно работы до конца дня, когда путь домой будет свободен. И очень хорошо, что у нее столько дел: хоть ненадолго можно забыть о нестерпимом желании вновь оказаться рядом с Вито, почувствовать его объятия, рассказать о ребенке и увидеть, как он обрадуется. И оторвать его наконец от проклятого телефона!
Когда в половине шестого Билли подъехала к воротам своего дома, один из охранников сказал ей, что телевизионщики только что уехали. Но приехали какие-то другие люди, и мистер Орсини велел их впустить.
«Да кто же еще, черт возьми?» — с досадой подумала она. Уже вечер, она отсутствовала более четырех часов, рабочий день кончился даже для тех, кто получил «Оскара». И еще какие-то посетители! Да она выгонит их в два счета, кто бы они ни были! Пусть хоть сам Вассерман, Николсон, Редфорд и призраки Луиса Б. Майера, Ирвина Тальберга и Жана Хершолта заодно с Гарри Кохом и братьями Уорнер. Ноги их не будет в ее доме!
Все еще не веря своим глазам, она оглядела десятка три машин, припаркованных перед домом, открыла дверь и в изумлении замерла на пороге: человек сорок народу, громко смеясь и разговаривая, заполнили огромные смежные гостиные. Она просто отказывалась верить тому, что видела. Шумное сборище, которое вскоре превратится в кубинский карнавал, набирало силу, и центром всего этого был Вито. В толпе она успела заметить режиссера «Зеркал» Файфи Хилла, кинозвезд, редакторов, композитора и всех остальных, кто с самого начала принимал участие в создании фильма. А сзади, оттеснив ее от двери, входили еще люди — актеры и члены съемочной группы, и каждый, быстро обняв и поцеловав ее, устремлялся в гостиную, к Вито.
Пробившись сквозь толпу, она подошла к мужу.
— Как… почему… Вито, что все это значит, черт возьми?..
— Дорогая! Ты как раз вовремя! Где ты была? Сегодня у нас «отвальная» по поводу фильма. Помнишь, первая прошла как-то наскоро, вот я и решил повторить. У всех все еще так живо в памяти! О еде не беспокойся, Санди позвонила в «Чейзен», и они все пришлют. Ну разве я не здорово придумал? Подожди, мне нужно найти Файфи, я еще не поздравил его, он получил «Лучшего режиссера».
— Да, конечно, — отозвалась Билли в пространство, где только что стоял Вито.
Наверное, сам Александр Македонский не чувствовал себя столь триумфально-уверенно, не был таким энергичным и возбужденным после очередной победы, подумала Билли, провожая глазами мужа, который в этот момент врезался в самую гущу шумной толпы гостей. Она вышла за него замуж, находясь в пылу страсти, совсем не зная его. И только став женой, поняла, сколько собственной страсти и чувств он отдавал работе, насколько был поглощен своими фильмами. Теперь, спустя десять месяцев совместной жизни, десять месяцев компромиссов, адаптации и узнавания, она думала, что примирилась с этим. Ну конечно, она должна была примириться с этим, уверяла себя Билли, пробираясь к лестнице; она принимала его таким, какой он есть, и сегодня все проходит так, как и должно быть, — шумное, безудержное веселье. Они празднуют достижение, в возможность которого верил только Вито: потрясающий фильм при малых затратах.
Проходя по гостиной, примыкающей к ее спальне, она заметила пачки нераспечатанных телеграмм, рассыпанных повсюду между корзинами цветов, которые стояли на столах, диванах и даже на полу. Завтра телеграммы надо будет собрать и отправить в его офис, и завтра же Джози просмотрит все визитные карточки, прикрепленные к корзинам, и составит список людей, которых надо поблагодарить. А сейчас ей предстоит одеться и спуститься вниз к гостям. Рано или поздно они уйдут, и тогда она останется наедине с Вито и с тем единственно важным, что он должен узнать за этот долгий день, в котором было столько шума и веселья.
Устало улыбаясь, Вито и Билли уже прощались с последними гостями, как вдруг позвонил охранник и сказал, что к дому подъехал еще один человек и спрашивает мистера Орсини.
— Джо, кто бы там ни был, скажите, что уже слишком поздно и прием окончен, — ответил Вито. — Что? Кто вы сказали? Вы не ошиблись? Да, да, все правильно, пропустите такси.
— Нет, это просто невозможно, — еле ворочая языком, возмутилась Билли, — здесь были даже повара и официанты, работавшие на картине. Вито, извинись, но не пускай больше никого. Я ложусь спать, если найду силы подняться по лестнице, я действительно с ног валюсь.
— Ну, конечно, дорогая, я сам управлюсь.
Минут десять спустя, когда она уже сидела перед зеркалом в ночной рубашке и начала снимать косметику, в комнату вошел Вито и закрыл за собой дверь.
— Так кто же это был, скажи на милость? — Она в изнеможении оперлась о туалетный столик.
— Э-э-э… это долгая история.
По его интонации и голосу она поняла, что он чем-то потрясен и что это не связано с только что закончившейся вечеринкой.
Она повернулась на банкетке и вопросительно взглянула на него.
— Неприятные новости, да?
— Не пугайся, Билли. Это не имеет отношения к нам, не имеет отношения к тебе.
— Значит, к тебе! Вито, так в чем же все-таки дело?
— О господи, — он со вздохом опустился на стул и, избегая смотреть на нее, уставился в стену. — Я тебе еще столького не сказал… непростительно с моей стороны. Как только мы поженились, я сразу же закрутился с этой картиной, не было буквально ни одной минуты. Я дал себе слово, что, как только закончится это безумие, как только выдастся свободное время, чтобы спокойно поговорить, я все тебе расскажу… Мне надо было тебе об этом сказать, когда мы познакомились, но я просто забыл. Думал, что это неважно, ведь я же не знал, что мы поженимся… тогда я думал только о настоящем, прошлое есть прошлое, и потом все у нас произошло так быстро…
— Вито, если ты не скажешь, в чем дело…
— Приехала моя дочь.
— У тебя не может быть дочери, — едва слышно вымолвила Билли.
— Может. У меня есть дочь. Я был женат. Это продолжалось меньше года. Мы развелись, и ребенок остался с матерью.
Билли потрясенно молчала. С трудом сдержавшись, чтобы не закричать, она прошептала:
— Ребенок? Мне неважно, даже если бы у тебя до этого было десять жен, но ребенок, Вито? Боже мой, неужели ты хочешь убедить меня, что за тот год, что мы женаты, у тебя не нашлось ни одной-единственной минуты, чтобы сказать об этом? Господи, да что с того, что ты развелся, но как можно забыть о ребенке! Да у нас была масса времени, мы могли бы поговорить за завтраком, за обедом, за ужином, перед сном, утром… И не надо говорить мне, что у тебя не было времени!
— Я все время собирался сказать, но как-то не получалось, — запинаясь, промямлил он.
— Вито, ты недооцениваешь мои умственные способности. Сначала ты тянул, а потом вообще решил промолчать. Ты должен был сказать об этом до женитьбы, для меня это не сыграло бы никакой роли, но просто ставить меня перед фактом, сейчас, вот так? Не могу в это поверить. Как ее зовут?
— Джиджи.
— Почему она приехала сегодня? — ровным голосом спросила Билли, хотя готова была перейти на крик. Надо оставаться спокойной, у Вито такой вид, будто он сейчас упадет в обморок. — Из-за того, что ты получил «Оскара»?
— Ее мать… умерла… вчера похоронили. В Нью-Йорке. Джиджи прислала телеграмму. Должно быть, телеграмма была там, среди других. А когда я не ответил… она просто села в самолет и прилетела.
— Где она сейчас?
— На кухне. Я дал ей стакан молока и кусок торта и велел подождать, пока не поговорю с тобой.
— Сколько ей лет?
— Шестнадцать.
— Шестнадцать! — воскликнула Билли. — Шестнадцать лет! Боже мой, Вито, она уже не ребенок, она девушка! Молодая женщина. Ты что, ничего не знаешь о шестнадцатилетних? Вито, налей мне бренди, и побольше. Не ищи стакан, просто принеси бутылку. — Стерев с лица остатки крема, она встала и поспешила к двери.
— Билли…
— Что?
— Может, мы поговорим перед тем, как ты познакомишься с Джиджи?
— О чем, Вито? — Она удивленно взглянула на него. — Ведь она бы не приехала сюда, если бы ей было еще куда ехать, верно? Она не видела тебя по крайней мере год, иначе бы я знала. И если, даже не дождавшись от тебя ответа, она проделала такой долгий путь через всю страну, значит, твой дом — ее последнее пристанище, разве не так?
— О господи! Билли, ты просто меня ни в грош не ставишь. Это давняя история, она закончилась еще пятнадцать лет назад, а ты судишь так, будто это случилось сейчас.
— Я исхожу из реальности. Это действительно случилось только сейчас — для меня. — И, повернувшись, она быстро направилась в кухню. Лишь секунду поколебавшись перед дверью, она решительно распахнула ее и вошла. Сзади послышались шаги Вито, спускающегося вслед за ней по лестнице.
На высоком табурете, за большим разделочным столом она увидела маленькую съежившуюся фигурку. Девочка сидела очень тихо. Перед ней стояли пустой стакан и пустая тарелка. Рядом на полу — небольшой потрепанный чемодан. Услышав, что кто-то вошел, Джиджи подняла глаза, не говоря ни слова, соскользнула с табурета и замерла рядом. Сначала Билли подумала, что Вито что-то напутал, на вид девочке нельзя было дать шестнадцати. И она была на него совсем не похожа. Хотя спутанные прямые темно-русые волосы почти полностью закрывали лицо, то, что Билли смогла разглядеть, показалось ей нежным и странно-необычным, каким-то неуловимо призрачным. Что-то в облике девочки напомнило ей маленького эльфа. Несколько мешковатых, не по размеру и кое-где разорванных свитеров, высовываясь один из-под другого, свисали на такие же видавшие виды джинсы. В огромной, залитой светом кухне девочка казалась бездомной бродяжкой, призраком, обрывком другого мира, занесенным бог знает каким ветром.
Во время этой затянувшейся паузы Джиджи стояла не шевелясь и молча терпела взгляд Билли. Она держалась прямо, чуть расставив ноги в ковбойских сапожках, словно стараясь казаться выше. В ее позе не было ничего извиняющегося или вызывающего, и все же, несмотря на небольшой рост и непрезентабельную внешность, в ней определенно ощущалось присутствие духа и достоинство. Видно было, что она устала и очень опечалена, и тем не менее в ее облике не проступало ничего жалостного, она была одинока, но потерянной не выглядела. От нее исходило нечто такое, что тотчас привлекало внимание. Глаза Джиджи встретились с глазами Билли, затем она слегка улыбнулась, и какая-то часть сердца Билли, о существовании которой она не подозревала, наполнилась любовью.
Как только они поздоровались и были произнесены подобающие случаю слова сочувствия, Билли решила, что все объяснения, обсуждение происшедшего и планов на будущее — одним словом, все необходимо отложить на завтра. И она, и Джиджи находились в таком состоянии, что вряд ли могли что-то соображать. Вито, постоянно прикладываясь к коньяку, молчал и пребывал в полной растерянности, а уж это, насколько Билли его знала, было ему совсем несвойственно. В ее же собственной душе бушевали настолько противоречивые чувства, что она никак не могла преодолеть замешательства, не подействовала даже внушительная порция бренди, которую она перед тем выпила. Что же касается Джиджи, то, выпив спиртного впервые в жизни, она просто с ног валилась от усталости и обрушившегося на нее горя.
— Нам всем необходимо выспаться, — объявила Билли, выпроваживая их из кухни. — Джиджи, хочешь перед сном принять ванну или ты слишком устала?
— Да, пожалуйста, ванну.
Какой у нее юный голос, подумала Билли. И никакого акцента, просто чистый невинный голос. В нем, несмотря на усталость, звучали звонкие мелодичные нотки.
— Вито, бери чемодан, — бросила Билли, не оборачиваясь, и, обняв девочку за тонкую детскую талию, повела в одну из комнат для гостей.
Когда они поднялись по лестнице, Вито, поставив чемодан, тупо уставился на него, не зная, что делать дальше.
— Я покажу Джиджи ее комнату. Попрощайся с дочерью, Вито, и иди спать, — сказала Билли.
Пока Джиджи распаковывала свой незамысловатый багаж, Билли приготовила ванну и затем, когда девочка уже мылась, разобрала постель, приоткрыла окна и задернула шторы. Устало опустившись в глубокое кресло, она задумалась над тем, что еще полезного и разумного могла бы сделать в подобной ситуации, ведь нельзя же было просто оставить девочку вот так одну.
Закрыв глаза, Билли на минуту забылась. Она была не готова столкнуться с проблемами, которые возникали с приездом Джиджи. «Что бы мне сейчас не помешало, — мелькнуло у нее в голове, — так это лечь в клинику и пройти французский трехнедельный курс лечения усталости. Все время спишь, просыпаясь только для еды, но зато потом выглядишь на двадцать лет моложе. Но, кажется, такие клиники уже закрыли. Может, они обнаружили, что длительное потребление сильных снотворных препаратов вредно для организма? А что, если поехать в одно из лечебных заведений на водах? Там, наоборот, жесточайший режим: с утра заставляют бежать в гору километров восемь и на завтрак дают только сок, а в течение дня — горстку мелко порубленных овощей, которые надо есть палочками, и тогда создается иллюзия, что еды очень много. В любом случае надо как-то выйти из этого состояния», — подумала она.
— Билли?
Приоткрыв глаза, она увидела маленькую фигурку, закутанную в большой белый халат, в котором Джиджи выглядела как смешной добрый гном.
— Вы пели.
— Правда? — удивилась Билли. — Я, наверное, опьянела.
— Вы напевали «Ищите луч надежды». Моя… моя мама тоже любила эту песню и часто напевала ее.
— Ну еще бы, все женщины любят ее… Те, кто написал ее, наверняка хотели, чтобы она служила поддержкой.
— Ага, Джером Керн и еще кто-то.
— Откуда?
— Что «откуда»?
— Откуда ты знаешь это?
— Моя мама была бродячей артисткой.
Билли широко раскрыла глаза.
— А у вас есть… м-м-м… разве у вас не существует… ну, что-то вроде табора, или как это называется?
— К сожалению, нет. Она ведь не была цыганкой. Она танцовщица. Она выступала с одной гастролирующей шоу-группой, они ездили по разным городам… У нее была пневмония, а она танцевала и никому не говорила, даже к врачу не обращалась… старалась забыть об этом, потому что не хотела лишиться своего номера, а когда уже нельзя было скрыть, то принимать антибиотики было слишком поздно… Знаете, артисты… они часто поступают так глупо… — Джиджи пыталась говорить спокойно, но из-за пережитого горя и напряжения слова словно выплескивались из нее.
— О, Джиджи! — воскликнула Билли и, обхватив ее, притянула к себе на колени. — Мне так жаль, даже не могу сказать тебе, как мне жаль. Если бы только я знала! Я ведь и понятия не имела! А если бы знала, то непременно помогла бы, ты же понимаешь, что помогла бы.
Джиджи вся напряглась и сидела очень прямо. Когда она вновь заговорила, голос ее дрожал и чувствовалось, что она изо всех сил старается сдержать себя.
— Мама была уверена, что вы ничего не знаете о нас, она говорила это. Она была очень независимая… никогда не рассчитывала на папу, даже не пробовала связаться с ним. Он уже давно нам ничего не писал.
— Сколько… сколько ей было лет?
— Тридцать пять.
«Мой возраст, — подумала Билли, — и мне столько же». Она почувствовала, как ее охватывает ярость. Да, в карьере Вито были взлеты и падения, временами он находился, как говорят продюсеры, на нулях, но ничто, ничто на свете не могло оправдать его. Забыть о своем ребенке!
— Джиджи, обещаю тебе, так больше не будет, — произнесла она, гладя девочку по волосам.
Позволив приласкать себя, Джиджи по-прежнему сидела прямо, стараясь не давать волю эмоциям. Ее мокрые волосы были накрыты полотенцем, и теперь Билли смогла рассмотреть ее лицо. Маленький прямой нос с чуть вздернутым кончиком; маленькие аккуратные ушки, заостренные, но тоже чуть-чуть; светло-коричневые четкие брови, красиво очерченные веки и большие глаза, цвет которых она затруднилась определить, потому что в комнате горела только настольная лампа. Рот девочки тоже был маленький, с более полной нижней губой. Уголки верхней губы чуть загибались кверху, и даже при том, что сейчас она была очень серьезна, возникало впечатление, что она вот-вот улыбнется. Лоб и подбородок имели милые округлые очертания, овал лица — чуть вытянут. Вся ее небольшая головка была словно тщательно вылеплена искусной рукой. А ведь она хорошенькая, решила Билли, и еще сама не знает этого, а может, просто равнодушна к себе. Сейчас, когда волосы не закрывали ее лица, Джиджи напоминала Билли молоденьких девушек с картинок двадцатых годов, чистеньких, очаровательно-элегантных и немножко проказливых.
— Джиджи твое настоящее имя? — спросила она, переходя на нейтральную тему и уважая желание девочки быть взрослой.
— Меня все так зовут. Я никогда не говорю своего настоящего имени.
— Например, мое настоящее имя — Уилхелмина, так что хуже не бывает, — продолжила Билли, заинтригованная.
— Правда? А как звучит Гразиелла Джованна?
— Гразиелла Джованна, — медленно повторила Билли. — Но оно звучит так красиво, так мелодично, похоже на имя итальянской принцессы времен Ренессанса.
— Для вас — может быть, но только не для школы, и вообще не для нашего века. Так звали папиных бабушек. Не знаю почему, но мама настояла, чтобы у меня было такое имя. Ее бабушек звали Мойра и Мод. Представляете, Мойра Мод… Как из ирландской любовной песенки: «Приходи вечерком, дорогая, приходи ко мне в сумерки…» Нет, пусть лучше называют Джиджи.
— Гразиелла… Гразиелла… Интересно, как же мне назвать своего ребенка? — мечтательно проговорила Билли. — Осталось месяцев семь, чтобы придумать имя.
Джиджи спрыгнула на пол.
— У вас будет ребенок! — вскрикнула она.
— Боже мой! Проговорилась! Я никому не хотела рассказывать раньше Вито. И я только вчера об этом узнала. Джиджи, что случилось? Почему ты плачешь?
Встав с кресла, Билли решительно обняла девочку и, опустившись обратно, крепко прижала ее к себе. Хорошо, что она плачет, пусть выплачет, что наболело. Девочка долго всхлипывала у нее на груди. Потом, когда она успокоилась, Билли вытерла ее мокрое от слез лицо.
— Я никогда не плачу, — пробормотала Джиджи, отчаянно шмыгая носом, — только тогда, когда узнаю что-нибудь хорошее. Мне всегда хотелось иметь братика или сестренку.
К тому времени, когда Билли, уложив Джиджи, вернулась в спальню, Вито, раскинувшись на постели, уже спал крепким сном. Уперев руки в бока, она молча смотрела на него, чувствуя, как в ней вновь закипает ярость. Он вдруг показался ей совсем чужим. И это был ее муж, который почти за год их совместной жизни не удосужился сказать, что у него есть дочь! Нет, это не забывчивость, такое ничем нельзя объяснить. Она его совершенно не знает и никогда по-настоящему не знала. Целый год он не только не видел Джиджи, но даже словом не обмолвился о ней. Означает ли это, что он не обрадуется и их ребенку?
Распаленная выпитым бренди, она поняла, что должна поговорить с ним сейчас же, немедленно. Она выяснит все, даже если для этого потребуется целая ночь. Если он не хочет иметь ребенка, значит, их дальнейшая жизнь вместе просто невозможна. До утра она ждать не может. Потом остаться с ним наедине будет так же трудно, как и в течение сегодняшнего безумного дня, который, казалось, никогда не кончится. Даже еще труднее, поскольку он будет намеренно избегать этого разговора. Она уже представляла, как Вито отгораживается от нее разными совещаниями и встречами, так может продолжаться неделю, месяц, полгода, а потом начнется подготовительный период съемок, потом сами съемки, затем монтаж и озвучание. Он сможет уделить ей свое драгоценное внимание лишь после окончания работы над «Стопроцентным американцем», после очередной заключительной вечеринки, но даже и это короткое время в отдаленном будущем нельзя гарантировать, думала она, намеренно больно ударяя его по рукам, тыкая в плечи, дергая за уши, зажимая ему нос и изо всех сил колотя по груди, уже не в состоянии совладать с захлестнувшей ее злостью. Ее не заботило, что она делает ему больно, ей и хотелось сделать ему больно. В тот момент, когда она решила, что от выпитого он вообще ничего не чувствует, Вито, еле приподняв голову от подушки, открыл один глаз и, сощурившись, уставился на нее.
— Вито, у нас будет ребенок. Я беременна! — в исступлении закричала Билли.
Глаз закрылся, голова вновь упала на подушку и перед тем, как вновь провалиться в хмельной сон, он заплетающимся языком с трудом произнес:
— Да, Лью… конечно, Лью… в семь тридцать…
2
Билли вела себя так, словно он был какой-то профессиональный убийца, растлитель малолетних, человек, занимающийся вивисекцией, в бешенстве думал Вито, торопясь на ранний завтрак, о котором договорился вчера. Он гнал машину быстрее обычного. На светофорах с трудом различал цвета: глаза застилал туман, в голове ухало. Такого тяжелого похмелья он еще не помнил. Ну даже если он забыл рассказать ей о Джиджи, что с того? Да есть масса вещей, о которых он еще не успел ей сказать и никогда не скажет. Ну ладно, это было необдуманно с его стороны, можно назвать это беспечностью, ситуация действительно ужасно неловкая, но это же не какой-то злостный поступок или намеренный обман, он же не перекладывает свои проблемы на кого-то другого, он просто был слишком занят. Как все мужчины, занят делом, самым важным для него делом на свете. Почему, черт возьми, ни одна из его знакомых женщин не может понять слово «занят»?
Вито попытался взглянуть на создавшееся положение со стороны, но это ему не удалось. Да, сказал он себе, он платит слишком высокую цену — что еще унизительнее, поскольку это неизбежно, — за то, что женился на богатой женщине. Когда весной прошлого года они познакомились на Каннском кинофестивале и так неожиданно влюбились друг в друга, когда, несмотря на свои убеждения, он позволил Билли уговорить его жениться, он преследовал только одну цель — удовлетворение своей похоти. Да, факты — упрямая вещь: его способность сопротивляться и здравый смысл отступили под напором жаждущей плоти. Он слишком хорошо помнил, как дал Билли убедить себя в том, что если бы был так же богат, как она, то их брак был бы вполне обычным. Конечно, черт побери, он был бы обычным. И таким бы и оставался! Но за эти десять месяцев, с первого дня их жизни вместе, когда они почти все время занимались его «Зеркалами», в их отношениях возникло и сформировалось нечто такое, чего он — сознательно или бессознательно — не замечал, не замечал до сегодняшнего утра, когда не замечать этого стало уже невозможно.
Только сегодня утром, подумал Вито, он вдруг со всей ясностью осознал, что живет в великолепном доме, который смог бы себе позволить, только если бы принадлежал к гигантам кинобизнеса еще старых времен; живет в доме, даже недельное содержание которого обходится в огромную сумму, и он к ней не имеет никакого отношения, а о величине ее не может даже догадываться. Прислуга, включая второго повара, в чьи обязанности входило готовить еду только для персонала, который живет в специально отведенном для него крыле, оплачивалась Билли, так же как и счета из ресторанов, от цветочников, счета за развлечения, билеты при разъездах, страховка, даже химчистка. Чьи-то невидимые руки каждый день заливали бензин в его машину и содержали ее в безукоризненном состоянии. Он даже не помнит, когда в последний раз заезжал в аптеку и платил за лезвия для бритья. Они с Билли так недавно женаты, что еще не представили даже налоговую декларацию, а поскольку его доходы в этом году составили смехотворную сумму, а ее исчислялись десятками миллионов, то декларация о совместных доходах, которую они должны подписать в следующем месяце у нее в бухгалтерии, будет просто-напросто фарсом, разыгрываемым лишь в угоду ее прихоти. Они ведут такой роскошный образ жизни, в котором учтено все до мелочей, лишь потому, что она так хочет, с горечью признал Вито. Хочу — вот ее второе имя. Еще тогда, когда она впервые попросила его жениться на ней, он заявил, что их брак невозможен, потому что это означает, что они будут жить по ее правилам, а не по его. Когда же он позабыл об этом? Неужели он так быстро привык к жизни, которой живет теперь? И когда же он смирился с негласным, но ощущавшимся во всем, правлением Билли?
Сегодня утром он почувствовал его в полной мере. Ее гнев не знал границ, словно она была королевой, а он — предавшим ее вассалом. Неужели она не понимает, что его давнишний брак с Мими О'Брайен, матерью Джиджи, был всего лишь мимолетным увлечением? Да, конечно, результатом их быстротечного романа явился ребенок, но ведь она сама пожелала оставить его, он же никогда не хотел ребенка. Спустя несколько месяцев после того, как этот брак, о котором он так быстро пожалел, все-таки состоялся, она объявила о своей беременности. И тогда же он сказал ей, что темп его жизни совершенно не позволяет ему заводить детей. Он убеждал ее, что это невозможно, абсолютно исключено, что с ее стороны это будет величайшей ошибкой. Но она со своим проклятым ирландским упрямством настояла на своем, считая, что ребенок продлит их союз. И все. Несмотря на его предупреждение, что шантаж здесь не поможет. Ее желание назвать девочку именами его бабушек — Гразиелла и Джованна — также было своего рода шантажом. Все родственники Мими умерли, некому было ее образумить, и она, даже не сказав ему ни слова, мигом окрестила ребенка. Он считал это совершенно бессмысленным и даже смешным, так как и в глаза не видел ни одну из своих бабушек.
Но при разводе он по отношению к Мими вел себя правильно, более чем правильно, что бы там Билли ни думала. Развелся он лишь после того, как девочке исполнилось полтора месяца и Мими встала на ноги, и всегда платил алименты. А уж оказываясь в Нью-Йорке, заходил проведать их, если не забывал, конечно, хотя для него это было чертовски неудобно. Не то чтобы трудно, но, честно говоря, как-то некстати. Половину времени Мими проводила в разъездах с шоу, и тогда Джиджи жила в семье кого-либо из временно безработных артистов. Все они были друзья и при необходимости присматривали за детьми друг друга. Ну что ж, считал Вито, ничего особенного, обычная жизнь… Девочка росла в своего рода артистической общине, в одной большой семье, и детям там жилось совсем неплохо.
Когда сегодня он с таким трудом встал с постели, Билли была уже в полной боевой готовности. Она, наверное, и не ложилась, обдумывая, как бы обвинить его во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях всех отцов на свете. Счастье, что ему надо было мчаться из дома на этот ранний завтрак с Лью Вассерманом, а то бы и сейчас сидел и выслушивал, какие же он совершил ошибки, и так до бесконечности. И это после такого блистательного дня! Она испортила ему всю радость, все наслаждение славой, которую он заслужил, с горечью думал Вито. Он получил награду, ради которой трудился всю жизнь, он почти заключил контракт, которого так добивался, сейчас решается вся его карьера, он вырвался вперед, и будущее распахнуло перед ним свои горизонты.
Теперь он может взойти на вершину Олимпа, а Билли все испортила своими ядовитыми упреками в грехах, которые он не совершал. Она ничего не знает, а рассуждает без тени сомнения. Нет чтобы дать ему возможность хоть что-то объяснить, он и слова вставить не мог! За одну ночь она превратилась в грозного судью. Он всегда знал, что Билли может быть сукой. Впрочем, женщины все такие. Будь он проклят, но он больше не потерпит ее нотаций, вроде того, что кто-то должен взять на себя ответственность за Джиджи, даже если он сам не обладает элементарной человеческой порядочностью и не ведет себя, как подобает отцу. Все это она прошипела ему, пока он брился, вернее, пытался побриться. Безусловно, Джиджи может пожить с ними какое-то время, пока не оправится после смерти матери, а потом ее надо отправить обратно в Нью-Йорк, где она будет прекрасно себя чувствовать в какой-нибудь семье этих бродячих артистов. Она снова пойдет в школу и будет жить той жизнью, к которой привыкла. Ведь она родилась и выросла в Нью-Йорке. Но в его жизни нет места для подростков, господи помилуй! Ему навязали это отцовство, что отнюдь не означает, будто оно должно ему нравиться — тогда или сейчас. Неужели Билли считает, что может выносить решения относительно судьбы его дочери? Ей самой еще предстоит многому научиться, мрачно рассуждал Вито, заворачивая на платную обслуживаемую стоянку, и в первую очередь тому, что ее власть над ним вовсе не безгранична.
Когда на следующее утро часов в десять Джиджи проснулась и открыла глаза, на ковре рядом со своими тапочками она увидела записку: «Джиджи! Я очень рада, что ты приехала. Я буду дома весь день. Когда тебе захочется позавтракать, пообедать или еще чего-нибудь, набери 25 по интеркому (он стоит рядом на столике). Целую — Билли».
Сев на постели, Джиджи с удивлением и почтительностью разглядывала записку. Это был вполне ощутимый листок бумаги, и когда она, послюнив палец, провела им по строчкам, чернила даже размазались, так что, рассуждая логически, все остальное в комнате тоже было настоящее и реальное. Такие комнаты она видела в старых фильмах, только девушка, актриса, которая играла светскую даму, обычно была одета в шелковую или полупрозрачную ночную рубашку. В руках она небрежно держала чашку чая и маленький тостик, а на коленях у нее стоял поднос, почтительно поданный лакеем. Если бы ей до смерти не хотелось писать, она бы весь день пролежала в этой шикарной постели под обшитыми кружевами простынями с монограммами. Постель и в самом деле настоящая, да еще под балдахином из тончайшего цветастого хлопка, правда, слишком роскошная, чтобы просто спать в ней, ей бы стоять в театре, на сцене. Можно даже позвонить лакею, который наверняка где-то поблизости, подумала Джиджи, прекрасно зная, что никогда в жизни не осмелится сделать это. Но сначала то, что не терпит, и она проскакала в ванную. На ней была рваная водолазка, в которой она спала. Через несколько минут она вышла уже умытая, смутно припоминая, что вчера, кажется, принимала ванну, — значит, на утренний туалет времени тратить не придется, — и осторожно приблизилась к интеркому, с которым имела дело впервые в жизни. Как она и ожидала, телефон оказался белый. Нет, в отличие от Алисы, она не станет проглатывать содержимое никакой бутылочки с надписью: «Выпей меня», она и без того находится в Стране чудес.
— Потрясающе, Джиджи, ты уже встала! Хорошо выспалась? — неожиданно раздался голос Билли.
— Изумительно, но я ничего не помню. Я вчера действительно пила бренди или мне приснилось?
— Ты выпила совсем немножко… чуть-чуть, исключительно в медицинских целях, — виновато оправдывалась Билли.
— Надеюсь, я еще кое-что помню, но все-таки где я? И где вы? Что мне сейчас делать?
— Надень халат, и скоро я буду у тебя.
Оглядев свой старый халат, Джиджи торопливо натянула свитер и джинсы, в которых приехала. Одежда для нее ничего не значила, но халат показался ей действительно грязноватым. Приглядевшись поближе, она поняла, что он неприлично грязный. В Нью-Йорке он выглядел вполне нормально, но в золотистом свете этого солнечного утра, льющемся сквозь высокие окна и отражавшемся от стен, расписанных голубыми, белыми и желтыми цветами, на нем вдруг проступили жирные пятна, которых она раньше не замечала. И вообще все в этой великолепной огромной спальне было из другой реальности, находящейся словно в ином, совершенно невообразимом измерении. Такая неописуемая роскошь была для нее шоком, обострила ее чувства: словно до этой минуты она жила, вернее, существовала в сумеречном черно-белом мире и вдруг оказалась в суперсовременной Стране Оз. «Да, я в Стране Оз», — подумала Джиджи, испытывая легкое головокружение, но в этот момент послышался стук в дверь, и в комнату вошла Билли.
— Что из еды ты хочешь сейчас больше всего на свете? — спросила она, крепко обнимая девочку.
— Все, что угодно, я умираю с голоду, — ответила та, стараясь незаметно отодвинуть халат в сторону.
— Нет, правда, у нас есть все.
— Тогда, пожалуйста, рогалик, сливочный сыр и копченую лососину.
— Сейчас я слышу речь истинного ньюйоркца. В таком случае у нас есть не все. Давай еще раз, — рассмеялась Билли: Эллис Айкхорн всегда утверждал, что копченая лососина лучше икры.
— Кукурузные хлопья, яичницу-глазунью и поджаренный белый хлеб, годится? И апельсиновый сок, — не задумываясь выпалила Джиджи, поскольку это был самый обычный завтрак.
— Принято. — Билли сняла трубку и передала заказ Джози Спилберг, которая уже выздоровела и вышла на работу. — Пойдем, Джиджи, позавтракаем на террасе.
— А вы разве еще не завтракали?
— Я просто посижу, а Джози тем временем позвонит в «Арт-Дели» и закажет лучшую лососину, какая есть к западу от Манхэттена.
— Я не хочу, чтобы вы так беспокоились, честное слово, — проговорила Джиджи, к своему удивлению, почти не смутившись. Она часто пыталась представить, как выглядит новая жена отца, но к тому, что увидела, была совершенно не готова: рост Билли, ее захватывающая красота, неотразимое обаяние, поистине королевская манера поведения и вроде бы небрежная, но непререкаемая уверенность в себе. Таких, как Билли, Джиджи еще не встречала, но тем не менее в присутствии этой женщины она чувствовала, что здесь ей очень рады. Огромная разница между ними, казалось, не имела значения.
— Мне интересно побыть с тобой, — просто сказала Билли. Ей ужасно хотелось, чтобы Джиджи хоть немного поправилась. Конечно, в шестнадцать лет она еще растет, но даже при ее теперешнем небольшом росте девочка выглядела слишком хрупкой.
Пока Джиджи ела, она ненавязчиво задавала ей вопросы и к концу завтрака поняла, что в Нью-Йорке нет никого, кто мог бы позаботиться о дочери Вито. Джиджи никогда не видела никого из родственников отца, а из родственников матери в живых никого не осталось. Она второй год посещала бесплатную среднюю школу, и, хотя была знакома со многими парнями, романов у нее еще не было. Джиджи поведала ей, что еще ни в кого не влюблялась, за исключением Джеймса Дина в фильме «К востоку от Эдема», который смотрела пятнадцать раз. Ей нравились три-четыре семьи, в которых она жила, пока мать ездила с концертами, но ни одной из них она предпочтения не отдавала. Карту нью-йоркской подземки она знала наизусть и, кроме того, поразила Билли своими обширными познаниями в области кулинарии и насчет того, где и как покупать продукты: этим она начала заниматься по крайней мере лет пять назад, освободив от домашних обязанностей мать.
— Бродячие артисты неправильно питаются, — объясняла Джиджи. Ей было приятно, что Билли проявляет к ее любимому занятию неподдельный интерес. — У них никогда нет времени, чтобы покупать продукты и нормально готовить. Как правило, почти все они живут на кока-коле и сигаретах, как балерины. Мама всегда беспокоилась, что я не получаю правильного питания, вот я и решила, что хоть в чем-то могу помочь ей. А потом я поняла, что мне это нравится и я это умею. В Нью-Йорке я знаю много рынков, где можно купить дешевле, а вообще я знаю итальянскую, американскую и очень хорошо китайскую кухню, научилась от друзей и по книгам. Французскую кухню пока не начала, но хочу изучить. Дело в том, что даже если я не сделаю на этом карьеру, то все равно повара нужны везде. А кроме того, готовить — мое хобби.
— У тебя есть и другие увлечения? — Билли была поражена рассудительностью Джиджи.
— Люблю старые фильмы и еще — петь, хотя слух у меня не очень хороший. Я с детства слышала музыку, которую исполняют артисты, в основном из музыкальных альбомов к фильмам, действительно к старым фильмам, — музыку Роджерса, Харта, Лернера и Лоу, хорошую музыку. Знаете, в школе я больше всего люблю занятия по искусству, мне нравится рисовать.
— А ты когда-нибудь думала заняться шоу-бизнесом, Джиджи?
— Ни за что. Мама… умерла, потому что была артисткой, да и у папы жизнь не слишком сладкая. Вы же видите: он — жертва своей работы. Его жалко.
— Да, наверное, это так, — пробормотала Билли. Продумать только, Вито — жертва! Ну и обманывал же ее этот подонок!
— Он потрясающий человек, — продолжала Джиджи, подавив вздох. — Конечно, я понимаю, он должен жить здесь, здесь его работа. Ему часто приходится выезжать на места съемок, поэтому и в Нью-Йорк он приезжал, лишь чтобы повидаться со мной. Они с мамой никогда не ладили, с самого начала, я всегда это знала. Как только я подросла, мама объяснила мне, что папа очень любит меня, но у него ужасно трудная жизнь. Иногда он опаздывал переводить нам деньги, потому что в тот момент ему надо было собрать на финансирование картины, но все равно, несмотря ни на что, он приезжал ко мне. Я так рада, что все у него наконец хорошо. Наверное, это его первый настоящий дом.
— Да, наверное, — ответила Билли, понимая, что мать Джиджи создала для нее прекрасный, но ложный образ Вито, не желая, чтобы дочь догадалась, какое ничтожно малое место она занимает в его жизни. Совершенно очевидно, что для этой женщины психическое здоровье дочери было гораздо важнее ее собственных горьких переживаний и разочарований. Билли мысленно содрогнулась, представив себе жизнь матери Джиджи: годы постоянно подавляемой обиды и гнева, который невозможно сравнить с ее, Билли, состоянием после того, как Вито пулей вылетел из дома. Только необходимость защитить Джиджи давала ей силы на время забыть о нем, но этот сдерживаемый гнев всегда был при ней, он тлел, в любой момент готовый вырваться наружу. Нет, пока они с Вито хоть как-то не закончат разговор, отложенный из-за его ранней встречи, она не сможет сказать ему о ребенке.
— Я и не знала, что можно действительно жить так, как вы. — Быстро закончив есть, Джиджи огляделась вокруг. В голосе ее звучало наивное, искреннее удивление и ни единой нотки зависти.
— Знаешь… Калифорния… это как бы другой мир, — задумчиво произнесла Билли, вдруг взглянув на привычную обстановку глазами Джиджи.
Подойдя к краю террасы, Джиджи, не в силах подавить восхищенного возгласа, залюбовалась раскинувшейся перед ней панорамой — миром незнакомой ей природы и сказочной свежести. Дом стоял на самой высокой точке участка и был расположен таким образом, что с того места, где они находились, других домов не было видно. Повсюду, насколько хватал глаз, перед ней простирались тонущие в легкой дымке лужайки и кроны деревьев, и утреннее солнце словно пронизывало все это буйство зелени самых различных оттенков. В нем сквозила какая-то мягкость и полнота весеннего цветения, присущая лишь европейскому пейзажу. После того как Билли купила этот очаровательный, но несколько неуклюжий старый особняк из белых кирпичей, обвитых диким виноградом, и довольно лесистый, но запущенный участок, ей удалось убедить величайшего мастера паркового дизайна Рассела Пейджа взяться за перепланировку ее огромной, в четыре с половиной гектара, территории и разбить на ней гармонично сочетавшиеся сады, отвечающие ее настроению. Об этом англичанине ходили легенды, а фраза, что «он талантливее самого господа бога, только в два раза страшнее», вполне себя оправдывала. Было перекопано и перенесено множество тонн земли, гигантские краны доставили взрослые деревья, и спустя некоторое время, словно по мановению волшебной палочки, вокруг появились леса и разделенные просеками оливковые рощи; ручейки, романтические водопады и зеркальные пруды будто бы издавна существовали в изумительных садах; цветы окаймляли весь этот зеленый рай — символ триединства неба, воды и деревьев.
— А вот эти люди, — обернувшись, спросила Джиджи, указывая на группу садовников в отдалении, которые как раз пересекали аллею, образованную двумя рядами величественных платанов и прорезавшую лужайку. — Что именно они сейчас собираются делать?
— Что именно? — улыбнулась Билли столь наивному вопросу. — Думаю, соберут опавшие листья, оборвут увядшие цветы на клумбах, выдернут выросшие за ночь сорняки, выкопают однолетние цветы, которые уже отцвели, и посадят новые.
— Откуда они знают, что надо сажать? — Лицо Джиджи выражало неподдельное любопытство. Ее познания в области флоры ограничивались лишь городскими парками и ящиками с цветами вдоль тротуаров.
— Главный садовник говорит им, что надо делать. Раз в неделю мы встречаемся с ним, обходим участок и составляем план. Всегда надо что-то сделать. Много лет назад эта часть Калифорнии была пустыней, и если не заботиться о земле, то она мгновенно превратится опять в пустыню. — От этой мысли Билли даже содрогнулась.
— Эти люди приходят каждую неделю?
— Вообще-то… каждый день. — И это только основная бригада, подумала Билли. Главный садовник, которого учил сам Рассел Пейдж, и его помощник жили здесь же, в доме. Другие два человека занимались оранжереей, в которой росли орхидеи, и теплицами, где в межсезонье помещались цветущие домашние растения; еще один человек заботился только о лужайках; кроме них, были еще специалист, занятый неполный рабочий день, который следил за капризными розами, и две женщины. Три раза в неделю они приходили для того, чтобы поливать, подкармливать и ухаживать за сотнями домашних растений. На это уходил полный рабочий день. Билли не могла даже представить, чтобы ее цветы и сады хотя бы на несколько дней оставались без тщательного ухода. Но это трудно объяснить, особенно Джиджи.
— Ух ты! Вот это порядок! Чтобы ни одного засохшего листочка? — Джиджи улыбалась. Теперь, когда ей казалось, что она поняла, как все устроено, она улыбалась зачарованно и удивленно, как ребенок, которому впервые подарили огромный, настоящий, готовый вот-вот улететь в небо, воздушный шар с Микки-Маусом.
— Верно, — ответила Билли, — мы должны трудиться, чтобы в Холби-Хиллз стало еще красивее. — Она вспомнила указание своего юриста Джоша Хиллмана всем основным агентам по продаже недвижимости в городе: немедленно сообщить в первую очередь ему о возможной продаже собственности в ее районе. Она хотела скупить участки, снести дома и уговорить Рассела Пейджа заняться расширением ее садов. Помимо того, что жизнь в созданном им мире доставляла ей огромную радость, скупив дополнительные участки, она сможет еще больше отдалиться от особняка «Хэфнер Плейбой», который располагался ниже по ее же улице Черинг-Кросс-роуд. Билли не могла слышать шума, который создавали его обитатели, чем бы они там ни занимались, но, поскольку ее дом стоял на той же узкой извивающейся улице, она готова была заплатить любые деньги, лишь бы расширить свой зеленый кордон.
Разговаривая с девочкой, Билли незаметно старалась получше рассмотреть ее. Она вдруг заметила, что глаза Джиджи, вчера казавшиеся ей неопределенно-серого цвета, на самом деле светло-зеленые, словно молодая свежая почка, только что распустившаяся в Нью-Йорке на каком-нибудь дереве, которого еще не успела коснуться городская пыль. Такой оттенок зеленого цвета существует в природе всего один день. Он запомнился ей еще с тех пор, когда они с Джессикой жили в Нью-Йорке. Возвращаясь на рассвете домой со своими кавалерами, они вдруг осознали, что в эту ночь в город пришла весна. Но, к сожалению, у Джиджи были светлые ресницы, и поэтому глаза на лице почти не выделялись. Кроме того, прямые спутанные волосы почти все время падали на лоб и скрывали глаза. Значит, так, во-первых — стрижка, решила Билли, мысленно принимаясь за преображение Джиджи. Во-вторых — светло-коричневая тушь. Пусть ей только шестнадцать, преступлением будет не красить ресницы. Потом — одежда. Все, начиная с кроссовок. Неважно, что она предпочитает все время ходить в джинсах и потрепанных свитерах, но девочке определенно надо купить новые или, по крайней мере, такие новые, чтобы выглядели поношенными и потертыми в нужных местах, а не где попало. Билли затруднилась бы ответить на вопрос, откуда ей известно, что одежда Джиджи потерта не там, где надо, подростков она не понимала, зато разбиралась в одежде и никогда не ошибалась. Она была уверена, что, пройдясь по улицам, скажем, Пекина, не колеблясь бы указала на китаянок, которые незаметно для глаза — и, может быть, даже в нарушение какого-нибудь закона — внесли изменение в свой традиционный жакет, придающее ему дополнительный шарм.
Но не все сразу, безусловно, придется подождать. Она не хотела ничего навязывать Джиджи, не хотела, чтобы девочка почувствовала, что что-то в ней необходимо изменить. Билли попробовала поставить себя на ее место. Допустим, она — девушка, которая только что потеряла мать и, собрав все мужество, старается не показывать своей боли незнакомым людям; девушка, которая вдруг неожиданно попадает в обстановку, подавляющую ее своим великолепием; даже не попрощавшись, отец оставил ее одну на целый день, наедине с незнакомой женщиной старше ее. Из газет Джиджи, должно быть, знала, что эта женщина известна тем, что не просто богата, а безумно, невероятно богата. Известна именно в силу своего богатства, а не из-за того, что владеет «Магазином Грез» или что она жена Вито Орсини.
И все же… и все же. Вдруг Билли поняла, кого ей напоминает Джиджи. Ну конечно, Спайдера Эллиота! Он всегда относился к ней так же, как и ко всем остальным, словно у нее за душой и гроша нет. И говорил с ней так же открыто, как Джиджи. Ее деньги ничего не значили для него, и она чувствовала, что и Джиджи относится к ним так же. Она знала, что это так. Дом и участок произвели на нее впечатление, ей было интересно узнать в подробностях, как все устроено, но благоговейного трепета она не испытывала. Она не чувствовала себя морально ущемленной и в то же время не старалась вести себя так, словно все вокруг для нее не в новинку. И это было странно, если не сказать больше.
— Джиджи, — неожиданно для самой себя произнесла Билли с вкрадчивой обстоятельностью, словно небезызвестный змей в Эдемском саду, соблазняющий Еву яблоком, — а ты всегда носила длинные волосы?
Сара, самая модная парикмахерша в салоне Видала Сассуна в Беверли-Хиллз, была счастлива принять миссис Орсини через полчаса. Билли знала, что любому другому пришлось бы ждать неделю.
— Боже милосердный! Что же у нас тут такое? — скороговоркой произнесла она на типичном лондонском кокни, когда Джиджи села в кресло.
— Блестящая возможность показать, на что ты способна, детка, — парировала Билли. Она не позволит этим дерзким англичанам, которые приехали из Лондона от Видала, мордовать Джиджи, как они это делают с половиной населения города, неважно — мужчины это или женщины. — Я хочу, чтобы моя юная подруга выглядела так, как она того заслуживает. И не надо демонстрировать на ней ваши с Видалом любимые теории. Если ты хоть чуть переборщишь, у нас могут быть неприятности.
— Я поняла вас, миссис Орсини, — сказала Сара, беря обеими руками голову Джиджи и наклоняя ее вперед, чтобы рассмотреть линию волос на шее. — Как много волос, правда? Нет ничего невозможного, если есть с чем поиграть.
— Сегодня ты не играешь, детка, сегодня ты работаешь, — мрачно отреагировала Билли, усаживаясь рядом.
Искоса взглянув на нее, Сара стиснула зубы. Суровое, как у полицейского, выражение лица Билли напомнило ей о собственной матери. Мать смотрела так же, когда Сара начинала учиться на своих младших сестрах. Хуже бывает только мамаша с хорошеньким мальчиком, подумала она. Отложив ножницы в сторону и вооружившись расческой и щеткой, она в течение получаса по-разному укладывала волосы Джиджи. Словно загипнотизированные, Джиджи и Билли смотрели на отражение в зеркале. Ничего не получалось.
— Миссис Орсини, мне придется состричь немного, чтобы хоть что-то понять, — наконец произнесла Сара. — Состричь и сделать филировку.
— По сантиметру, Сара, и, пожалуйста, без сюрпризов.
— Поняла. — И она, словно скульптор, держащий в руках бесценный кусок мрамора, принялась за работу.
Постепенно стала видна шея Джиджи, она была очень белой и тонкой, но, несмотря на это, прекрасно соответствовала ее головке. Все больше и больше волос падало на пол. Несколько раз Сара смачивала и высушивала волосы Джиджи, чтобы оценить, как продвигается дело. Эти едва заметно вьющиеся волосы просто необходимо чуть подкрутить с боков, пришла она к выводу. С тех пор, как Видал Сассун открыл свой первый салон, а впоследствии — целую сеть во всех странах, Сара не могла припомнить, чтобы кто-нибудь выходил оттуда с завивкой. Его стиль — это прямая, строгая, геометрическая стрижка, которая принесла ему славу и состояние. Но, с другой стороны, от Видала ее отделяют сейчас тысячи километров, а эта наводящая страх миссис Орсини сидит, можно сказать, у нее на голове.
— Миссис Орсини, единственное, как можно удержать волосы, чтобы они не падали на глаза молодой леди, это сделать их пышнее. Их слишком много, и иначе ничего не получится. И их нужно чуть-чуть подкрутить с боков и сзади.
— Именно это я и имела в виду, — улыбнувшись впервые за все время, ответила Билли. — Чтобы слегка развевались. Как у Луиз Брукс.
— Луиз Брукс?
— Нас с вами тогда еще не было. Давнишняя кинозвезда, сошедшая с экрана после нескольких фильмов. Ее прическу знали во всем мире.
— Да что вы говорите! — с облегчением вздохнула Сара. Получив согласие Билли, она вновь склонилась над головой Джиджи. А еще говорит, чтобы без сюрпризов! Пусть теперь с ней работает моя конкурентка Дасти Флеминг.
Через десять минут стрижка была закончена. Зеленые глаза Джиджи смотрели на мир из-под пышных прядей, обрамлявших округлый лоб. Когда она резко поворачивала голову, волосы свободно развевались в такт движениям, открывая и закрывая маленькие ушки. Если же она держала голову прямо, то волосы словно застывали, чуть закручиваясь кверху, и каждая прядь вспыхивала в лучах солнца более светлым оттенком.
— Ух ты! — Джиджи задохнулась от восторга. — Я выгляжу… ну просто… даже не знаю, как сказать! Но лучше… настолько лучше, что даже не верится. О, Сара, спасибо!
— Моя лучшая работа, — гордо произнесла Сара. — Не возражаете, если я сниму на «Полароид»? Хочу послать Видалу. Жаль, что не сделала снимок до стрижки.
— Ну, конечно, нет, — просияла Билли, давая ей пятьдесят долларов на чай.
Джиджи выглядела просто великолепно. Прелестная в своей миниатюрности, она еще больше напоминала эльфа. Девочку нельзя было назвать хорошенькой в обычном, заурядном смысле этого слова, но в ней было что-то интригующее. Или очаровательно-озорное? Эльф-озорник? В любом случае в ней вдруг появилась эффектная притягательность и шик, чего Билли никак не могла предположить. Ей-богу, шик, в шестнадцать-то лет! Она вспомнила, какая Джиджи была за завтраком. Невероятно! Шик — это великое, удивительное природное качество невозможно купить ни за какие деньги. С такой головкой она может пойти в любой самый роскошный ресторан и будет так же выглядеть еще лет сто, если не обращать внимания, как она одета. А теперь — обед.
— А сколько сейчас времени? — внезапно почувствовав голод, поинтересовалась Билли.
— Почти два, — сообщила Сара.
— О господи, прости меня, детка! — воскликнула Билли и протянула ей еще пятьдесят долларов за то, что та не роптала, хотя имела на это полное право. — Пока, Сара, и большое спасибо. Возможно, я загляну на следующей неделе и дам тебе возможность еще раз постараться.
Билли и Джиджи вышли из салона, а Сара, которая была рада щедрым чаевым — она все равно никогда не обедала, — твердо решила, что больше никогда в жизни не примет заказ лично от миссис Орсини. Но эту девочку она готова стричь в любое время.
— У меня такое чувство, будто это не я, а кто-то другой, — сказала Джиджи, вытирая рот. После парикмахерской они забежали на Пятую авеню в универмаг «Сакс», где в маленьком уютном кафе на третьем этаже с жадностью проглотили по два небольших сандвича. — Как жаль, что мама не видит меня сейчас. — Голос ее звучал печально.
— Мне тоже очень жаль, Джиджи.
А ведь это было бы вполне возможно, с грустью подумала Билли. Если бы только ее суперэгоистичный муж догадался привезти сюда девочку, пока ее мать была жива. Но нет, нельзя позволять Джиджи думать о прошлом, а то она может начать задавать вопросы о своем отце, а Билли знала, что, в отличие от матери Джиджи, не сможет лгать так красиво, как та это делала всю жизнь. Билли все еще была слишком сердита на мужа.
— А знаешь, Джиджи, ты и впрямь стала другой, — сказала она, протягивая ей меню с десертными блюдами, — или начинаешь становиться другой. Ты можешь представить Мэрилин Монро брюнеткой, с пучком и пробором посередине? Так вот ты преобразилась гораздо кардинальнее. Волосы… это… судьба. — Последние слова Билли произнесла очень серьезно.
Джиджи хихикнула.
— Послушайте, я хоть еще не взрослая, но понимаю, что вы это не всерьез.
— Конечно, но девяносто девять процентов моих знакомых восприняли бы это именно так, — задумчиво произнесла Билли.
Она вдруг осознала, что с того момента, как Джиджи проснулась, она перестала думать о ссоре с Вито, их первой ссоре. И необходимость рассказать ему о ребенке тоже отошла на второй план. Все ее внимание теперь было приковано к Джиджи. Эта девочка, такая честная и умная, притягивала ее.
— Знаешь, Джиджи, а почему бы нам не посидеть здесь еще немного и не поговорить?
— О чем?
— О твоих планах на будущее. Когда вчера ты села в самолет и прилетела сюда, то сделала это потому, что инстинктивно хотела быть с отцом. И это естественно: ведь он единственный близкий тебе человек. Вряд ли ты думала о том, что будет дальше. Я права?
— Я знала, что должна сообщить ему. Даже не помню, о чем я думала в самолете… только о том, чтобы добраться сюда.
— Но теперь ты здесь, и он знает. А ты подумала, как жить дальше?
— Вообще-то нет, — Джиджи покачала головой, удивляясь, что под влиянием новых впечатлений мысли о будущем так легко вылетели у нее из головы. — Я просто действовала автоматически. Может быть, если вы не возражаете, я могла бы провести здесь несколько дней, а потом вернусь домой. Позанимаюсь и быстро наверстаю пропущенное в школе. Если хоть что-то соображаешь, это нетрудно. А дальше… скорее всего, буду жить у Химмелей. Жена господина Химме-ля — бывшая артистка, а он режиссер. Их дочери примерно моего возраста, и все мы очень дружны. Пока не исполнится восемнадцать лет, мне хватит и алиментов, но к тому времени я уже окончу школу и устроюсь работать помощником повара. Могу даже походить в школу летом, на следующий год добавлю еще несколько предметов и в семнадцать с половиной уже получу аттестат.
— А что, если ты не вернешься в Нью-Йорк?
— Как это?
— Что, если ты останешься с нами? Будешь у нас жить и здесь же ходить в школу?
Джиджи не могла вымолвить ни слова. С тех пор, как она приехала к Билли, все, что она видела и делала, было сном, который не имел ничего общего с реальной жизнью, которую она знала. Алиса, оказавшись в Стране чудес, не осталась там, и Дороти также вернулась домой из Страны Оз.
— Джиджи, но ведь это же разумно! — воскликнула Билли. — У тебя есть отец, нельзя же вот так взять и уехать жить к чужим людям, если у тебя есть прекрасный отец. Уверена, что он даже и слушать не захочет об этом. — Увидев, что выражение лица Джиджи не изменилось, она предприняла новую атаку, вложив в голос всю убедительность, на которую была способна: — И потом, у тебя скоро будет братик или сестренка. Вчера ты говорила, что всегда мечтала иметь братика или сестренку. Ты полюбишь Калифорнию, хоть это и не Нью-Йорк, и ты можешь учиться французской кухне у моего повара и…
— Но… — Да как же сказать Билли, соображала Джиджи, что она не хочет быть нахлебницей, потребительницей? Она догадывалась, что «Зеркала» принесут Вито немалые деньги, и, может быть, когда-нибудь он позовет ее, но сейчас он живет на деньги Билли, это очевидно. Ее мать не раз говорила с ней о том, как богата новая папина жена, но Джиджи не могла себе даже представить, что в реальности стоит за цифрами, о которых пишут в газетах и журналах. Да и никто не мог бы.
— Но что?
— Все это… вы так… великодушны, просто невероятно, но ведь это так много… наверное, вы даже не понимаете, как это много… другого слова я подобрать не могу. — Джиджи запнулась. Но она понимала, что должна высказать все, что думала. — Ваша жизнь… ваши сады, постели, простыни! Даже то, как вы разговариваете с парикмахерами… Я хочу сказать, что просто выпадаю из всего этого, ведь верно? Я нью-йоркский ребенок, рабочая пчела, и это окружение — для меня чужой мир.
— Великодушна! — Билли повторила главное и единственное слово Джиджи, которое имело для нее значение. Она не зря жила двадцать один год бедной родственницей, испытывая ежедневно это ненавистное чувство — о, как это было больно! — зависимость от чужого великодушия. — Чепуха! Великодушие здесь ни при чем. Это нормально, Джиджи, абсолютно нормально, что ты приехала и теперь останешься жить с нами! И обещаю тебе: ты привыкнешь, ведь это только пригород, пусть и роскошный, и все дети здесь ходят в нормальную школу, как в Нью-Йорке… — Билли замолчала, представив себе молодежь школы в Беверли-Хиллз, известную своей избалованностью. Но тут же вздохнула с облегчением, вспомнив, что живет не в Беверли-Хиллз, так что Джиджи не обязательно учиться там.
— Билли, ваша идея… — Джиджи соображала, что бы еще такое возразить. — Мне придется совершенно изменить жизнь. Как я могу решиться на это?
— Твоя жизнь изменилась после того, как умерла мама, — тихо сказала Билли. — Она была твоей семьей. Теперь ты приехала к отцу, и потом… ну, послушай, я тоже не посторонний человек, все-таки я твоя злая мачеха.
— А я — забитая падчерица? — Не удержавшись, Джиджи прыснула.
— Серьезно, Джиджи, получается, что так. Ты же не будешь отрицать, что жена твоего отца приходится тебе мачехой?
— Я не воспринимаю вас как мачеху.
— А как?
— Как друга.
Глаза Билли наполнились слезами, и она отвернулась, чтобы девочка не заметила. Несколько минут они сидели молча, затем она сжала руку Джиджи.
— Пожалуйста, Джиджи, останься. Ради меня. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Я очень хочу иметь друга. Мне это необходимо.
— Вот оно что. — Голос девочки изменился и звучал очень тихо.
— Что «что»? — смутившись, повторила Билли.
— Это меняет дело. Совершенно. Я не знала, нужна ли вам я или вы просите меня остаться потому, что считаете это своей обязанностью.
— Обязанность здесь ни при чем. Я никогда ничего не делаю по обязанности.
— Серьезно?
— Джиджи, перестань мучить меня. Да или нет?
Быстро повернувшись, Джиджи крепко прижалась губами к щеке Билли.
— Да! Я, наверное, сумасшедшая, но разве я могу сказать «нет»?
Проведя полтора напряженных часа в отделе молодежной одежды универмага «Сакс», Билли подобрала для Джиджи новые вещи и распорядилась доставить все покупки домой. Теперь, как предписывала мода, девочка была одета в вылинявшие джинсы, глядя на которые создавалось впечатление, что она годами не снимала их, катаясь на яхте и совершая верховые прогулки в компании Ральфа Лорена, Келвина Кляйна, Глории Вандербильт и старого доброго мистера Ливая из фирмы «Ливане». Любой мог сказать, что объемный кардиган невероятного цвета — смесь шалфея с изумрудом — достался ей еще от прабабки, тогда юной герцогини, и связан в свое время каким-нибудь умельцем-фермером из ирландской деревни, а белая, с открытым воротом рубашка почти наверняка куплена на блошином рынке где-нибудь в окрестностях Портобелло-роуд. Наряд довершала слегка потрепанная черная бархатная жилетка с металлическими пуговицами, штуки две из которых болтались на нитке. По задумке художника эта часть туалета должна была принадлежать одному из дядюшек ее владельца, по всей видимости, весьма эксцентричному. Все, кроме джинсов, было чуть-чуть великовато, а сами джинсы — тесноваты, причем ровно настолько, насколько нужно. Создавалось впечатление, будто юная девушка не только не помнит, как она одета, но что ее это не заботит, никогда не заботило и, более того, ничто на свете не заставит ее обратить внимание на одежду — она просто натянула первое попавшееся под руку в куче вещей, которые свалены на пол, поскольку она не может оторваться от телефона, чтобы аккуратно их сложить. Билли решила, что холщовая сумка через плечо и старые спортивные тапочки Джиджи замене не подлежат, так как имеют истинно дешевый и утилитарный вид — поносил и выбросил, а такое сымитировать невозможно. Если для женщины прежде всего важны хорошие туфли и хорошая сумка, то они же являются признаком чрезмерного внимания к своей внешности у тинейджеров. Поэтому новые спортивные тапочки могут все испортить.
— Вы уверены? — спросила Джиджи, зачарованно, но в то же время с сомнением разглядывая себя в зеркало.
— Абсолютно.
Побродив минут десять по молодежному отделу универмага, Билли быстро поняла, что модно у подростков. Имея за плечами богатейший опыт в подборе одежды, она наметанным глазом выделила главное, мысленно отбросив все, что не подошло бы Джиджи, а также то, что смотрелось бы явно преувеличенно. Сейчас, в магазине, Джиджи надела самые оригинальные вещи; большинство остальных представляло более или менее обычный набор молодежной одежды, хотя Билли, не устояв, все-таки купила несколько супермодных аксессуаров.
Взглянув на часы, Билли удивилась: всего лишь половина пятого. Она только что позвонила Долли в больницу, и ей сказали, что та просила пока ни с кем ее не соединять, а обычные посещения начинались только с семи вечера. Билли хотела вместе с Джиджи навестить подругу и показать ей малышку. До семи еще оставалось достаточно времени, но разве можно ехать домой в таком приятно-возбужденном состоянии? И она решила непременно показать Джиджи кому-то, кто бы по достоинству мог оценить ее. А кому же еще, если не Вэлентайн и Спайдеру? К тому же ей так и не удалось вчера повидаться с ними, больше того, они даже не позвонили и не поздравили Вито. Ей не терпелось узнать, чем же таким они были заняты, если не появились в «Магазине Грез» и вообще позабыли об элементарной вежливости. Ну что ж, можно ненадолго заглянуть туда, хотя сегодня утром она и решила пока не делать этого, опасаясь, что для Джиджи это будет уж слишком.
Но тогда была одна ситуация, а сейчас совсем другая. Билли переполняла радость, к тому же избыток новых впечатлений отрицательного эффекта на девочку не произвел, так что от короткой поездки в «Магазин Грез» хуже не будет.
— Ты знаешь, мне надо заглянуть в «Магазин Грез», — сказала она Джиджи. — Ты ведь не устала?
— Устала? Да я так взволнована, что не смогу спать всю ночь, а может, и неделею. — И, засунув пальцы в карманы джинсов, Джиджи согнулась. Вот так!
Они пешком прошли два квартала до магазина, притягивая к себе восхищенные и любопытные взгляды десятков прохожих — высокая, роскошная женщина и маленькая грациозная девочка-подросток. Наверняка с Родео-драйв. По дороге Билли рассказала Джиджи о Спайдере и выросшей в Париже Вэлентайн, о том, как в 1972 году они познакомились и работали в Нью-Йорке и с тех пор стали друзьями. Она объяснила, что Вэлентайн по профессии художник-модельер, а Спайдер — фотограф, и два года назад она взяла их на работу в «Магазин Грез».
— Спайдер — калифорниец до мозга костей. У него типично калифорнийские золотистые волосы, и он высокий и сильный, как спасатель. И кроме того, у него неприлично-синие глаза, синие настолько, что его нельзя воспринимать серьезно. У Спайдера тонкий вкус, но часто он ведет себя как большой капризный ребенок, хотя мы почти ровесники. И все равно ни одна постоянная покупательница «Грез» не купит ни одного туалета, пока Спайдер не одобрит и не подтвердит, что он ей идет. Вэлентайн совсем другая, она по-настоящему увлеченный, серьезный художник и очень скрытная. Последнее время они почти не разговаривают друг с другом, почему — не говорят, видимо, какая-то размолвка, как это нередко бывает между коллегами. А вообще они старые приятели и отличные профессионалы.
Билли решила не говорить Джиджи, что за Спайдером, негласно и прочно, укрепилась репутация соблазнителя и дамского угодника, который знает — и хранит — интимные секреты по крайней мере сотни женщин.
Когда они вошли в торговый центр, Билли быстро провела ошеломленную Джиджи мимо соблазнов первого этажа и направилась прямо в офис.
— Так они уже закончили делать покупки? — спросила Билли секретаршу Спайдера.
— Да, миссис Орсини, они оба у себя.
Отойдя от стола секретарши, Билли, прежде чем открыть дверь, на секунду остановилась. Да, Спайдер и Вэлентайн действительно вот уже несколько недель почти не разговаривали, и это было заметно всем. Она не хотела, чтобы Джиджи стала свидетелем их похоронного юмора, но, с другой стороны, кто еще, как не они, может по-настоящему оценить ее? И потом, разве им не надо немножко отвлечься? А Джиджи нуждается в отвлечении даже больше. И если подумать, то ей самой это тоже не помешает. Все от этого только выиграют. Без стука Билли открыла дверь в кабинет, где Спайдер и Вэлентайн делили один старинный, огромный, обтянутый кожей стол. Сделав несколько шагов, она остановилась, словно вкопанная. Следовавшая за ней Джиджи едва не сбила ее с ног.
— Ой! Извините, — машинально пробормотала Билли и, схватив Джиджи за руку, бросилась было вон. Боже всемогущий! Вэлентайн сидела на коленях у Спайдера, и он, страстно сжав ее в объятиях, целовал в губы. Господи Иисусе! Она видела это собственными глазами, и Джиджи тоже. А девочка такая впечатлительная. О господи!
— Билли, да вернись же ты, идиотка! — крикнул Спайдер, затрясшись от смеха так, что Вэ-лентайн чуть не свалилась на пол.
— Потом, не хочу мешать вам, — смутилась Билли, пытаясь сделать вид, будто не находит в этом ничего необычного. — Зайду попозже и предварительно постучу.
— Да войдешь ты, наконец, или мне силой тебя втаскивать? — заорал Спайдер. Плечи Вэлентайн тоже тряслись от смеха.
— Я думала, вы ушли за покупками. — Билли неохотно вернулась.
Боже мой, Вэлентайн все еще сидит у него на коленях. Билли никогда не видела у нее такого блаженно-счастливого выражения, ее живое лицо, русалочьи глаза буквально светились от радости. Неужели им не стыдно?
— Да что, черт возьми, происходит? — Билли уже начала приходить в себя, но все еще держала Джиджи за руку. Для моральной поддержки.
— Мы вчера поженились, — сказала Вэлентайн.
— Какая чушь, — возмутилась Билли.
— Ну что я говорила? — обрадовалась Вэлентайн. — Я же знала, что именно так она и скажет! Спайдер, гони, двадцать долларов.
— Поздравляю, — вежливо, но несколько неуверенно произнесла Джиджи. — Не сомневаюсь, вы будете очень счастливы.
— Но ведь ты даже не знаешь этих людей! — еще больше возмутившись, воскликнула Билли. — Почему ты так говоришь?
— Они выглядят как муж и жена.
— Неужели?
— Точно.
— Но не могут же они просто взять и пожениться, вот так, не сказав мне. Они сто лет знакомы, они не влюблены… они… они… Они поженились. — Билли бессильно опустилась на стул.
«Почему я говорю, обращаясь к Джиджи, а не к Спайдеру и Вэлентайн?» — подумала она, словно это был самый важный вопрос из всех, возникших у нее в данную минуту.
— Мы поехали в Лас-Вегас, мы просто удрали, не сказав никому ни слова. Ты — первая, — объяснила Вэлентайн, спрыгивая с колен Спайдера. Она подошла к Билли и поцеловала ее. — Ты и…
— Джиджи Орсини, дочь Вито.
— Ну да, конечно, — поспешно сказал Спайдер.
— Гразиелла Джованна Орсини, дочь Вито и моя падчерица. Джиджи переехала к нам. — Билли произнесла эти слова многозначительным тоном и сопроводила взглядом, который был хорошо знаком и Спайдеру, и Вэлентайн. Им обоим мгновенно стало ясно, не только что эта девочка действительно дочь Вито — хотя они до сих пор слыхом не слыхали о ней, — но и что не следует задавать никаких вопросов и удивляться ее внезапному появлению.
— Я очень рада познакомиться с тобой, Джиджи, — сказала Вэлентайн, здороваясь с девочкой за руку и, после секундного колебания, поцеловав ее в обе щеки. — Добро пожаловать в «Магазин Грез».
Встав со стула, Спайдер поспешил навстречу Джиджи с непринужденностью мужчины, который знает о женщинах все.
— Привет, — и с неприкрытым интересом, ласково глядя на нее сверху вниз, осторожно взял ее за руки. — Я счастлив, что ты пришла к нам. И я знаю, что мы не смутили тебя. Чутье подсказывает мне, что здесь ты разбираешься лучше Билли.
— Ну что вы, — улыбнулась Джиджи. — Просто я выросла в Нью-Йорке.
— Тогда понятно. — Спайдер удивился странной, необъяснимой печали ее глаз, легкой дрожи в руках, и вообще она показалась ему какой-то ранимой. — Билли показывала тебе город?
— Мы сделали мне прическу и полностью сменили гардероб. Если в этом городе есть что-то еще, то я к этому не готова.
— Да, к нему надо привыкнуть. Но раз ты собираешься здесь жить, то у тебя впереди масса времени, Джиджи. А однажды утром ты проснешься и удивишься, что могла жить где-то еще, и, взглянув на туристов, выходящих их автобуса и снимающих друг друга на Родео-драйв, будешь недоумевать: зачем они это делают? Ведь все вокруг так обыкновенно.
— Вы меня вроде как агитируете, — рассмеялась Джиджи в ответ на его болтовню. Почему рядом с этим потрясающим мужчиной она чувствовала себя такой уверенной, защищенной и хорошенькой? Ведь, разговаривая с красивыми парнями, она обычно нервничала, удивилась Джиджи, не зная, что сотни женщин задают себе тот же вопрос. Может быть, потому, что он часто смеется и в уголках глаз затаились лучистые морщинки, а может, из-за сломанного носа или из-за маленькой щербинки на переднем зубе? А может, это голос, то, как он говорит? Так или иначе, но, словно по волшебству, все напряжение дня вдруг исчезло.
— Да, я агитирую, только мы предпочитаем называть это калифорнийским образом жизни. Джиджи, мне кажется, ты хочешь есть и Билли тоже.
— О, Спайдер, — запротестовала Билли, — женщины всегда кажутся тебе голодными. Представляешь, Джиджи, первое, что Спайдер заставил меня сделать в «Магазине Грез», — это организовать кухню, чтобы покупатели могли поесть, не уходя из магазина и не отвлекаясь от покупок.
— И разве это не сработало?
— Доходы возросли втрое, а затраты окупились за два месяца, — согласилась Билли, — но меня здесь морят голодом. То, что мы с Джиджи поели, нельзя назвать обедом, так, поклевка, а потом мы были заняты покупками и теперь просто умираем с голоду.
— Я сейчас упаду в обморок, — с надеждой в голосе произнесла Джиджи.
Спайдер позвонил на кухню и заказал чай и сандвичи для всех.
— Спайдер, ты забыл заказать шампанское, — напомнила Билли. — Хочу поздравить вас и Вэ-лентайн, хоть никак не могу понять, когда вы это все успели и почему мне никто не сказал. Это меня действительно расстраивает.
— О, Билли, это долгая история, и во всем виновата я, — радостно сказала Вэлентайн. — Он вызывал у меня такое подозрение, эта белокурая бестия, этот распущенный, большой, типично американский кутила! Всегда такой самоуверенный, окруженный обожательницами! Поэтому я решила, что он может быть только другом.
— Нет, это я виноват, — возразил Спайдер. В этот момент открылась дверь и официант вкатил тележку, уставленную едой. Посередине красовались четыре бутылки шампанского. — Она отпугнула меня своим французским высокомерным превосходством, и мне ничего не оставалось, как общаться с другими людьми, потому что к ней и подступиться нельзя было.
— Чепуха, на самом деле первое, что ты мне заявил, — это что я взбалмошная сучка, лишенная всякого чувства благодарности. Как по-вашему, мог такое сказать напуганный человек?
— Да нет же, это ты сказала, что я считаю тебя такой. Не приписывай мне того, что я не говорил, — уточнил Спайдер.
— Похоже, я присутствую при чтении первого варианта сценария, который мне предстоит выслушивать ближайшие пятьдесят лет, — скептически произнесла Билли. — Или это иллюстрация к статье из журнала «Космо»? «Мужчины и женщины: трудность общения»? А мы не можем продолжить обсуждение вашей дивной взаимной близорукости после тоста?
Открыв и разлив шампанское, Спайдер, вопросительно глядя на Джиджи, тоже предложил ей бокал. «Сколько ей лет? — подумал он. — Может, четырнадцать?»
— Вчера я начала пить бренди, — сообщила она, — так что в этом деле я уже не новичок.
— За мистера и миссис Спайдер Эллиот, которые — не прошло и ста лет, — слава богу, наконец соединились. Но не будем вдаваться в детали. Я люблю вас обоих и всегда буду любить. Долгих лет и огромного счастья! — Подняв бокал, Билли сделала большой глоток.
Несколько минут они молча пили шампанское «Дом Периньон», наслаждаясь разливающимся по телу теплом. Затем Спайдер вновь наполнил бокалы, отметив про себя, что никогда еще не видел Билли такой ослепительно красивой. Может, тому причиной была Джиджи, хотя сама мысль, что Билли страстно желала иметь падчерицу, показалась ему, мягко говоря, притянутой за уши, даже учитывая поразительную способность Билли жаждать того, чего у нее еще нет.
Как только другие окружили тележку с закусками, Билли подошла к телефону и позвонила домой своей секретарше. Джози сообщила, что мистер Орсини пока не звонил. Правда, ее ждет множество другой информации и сообщений, но от мистера Орсини — ничего.
— Если он позвонит, я в магазине, — коротко сказала Билли и, повесив трубку, налила себе еще шампанского, чтобы заглушить закипающую злость. Обычно они с Вито связывались по телефону дважды в день, независимо от того, насколько он бывал занят. Значит, решил обидеться? Ну что ж, из-за этого она не собирается портить себе настроение. Джиджи остается, и Билли будет о ней заботиться, а Джиджи будет заботиться о ней; Спайдер и Вэлентайн, как они утверждают, наконец-то нашли друг друга, и, кроме того, приехал Лестер Уайнсток. Личный пресс-агент ее дорогой подруги прибыл как раз вовремя, чтобы принять участие в их маленьком торжестве. Сияя от счастья — а он того заслуживал, — Лестер бережно держал в руках помятый узел сверкающей материи.
— Меня прислала Долли, — оглядывая собравшихся, произнес он чуть неуверенно, но, как всегда, весело и дружелюбно улыбаясь. — Я привез платье, которое Вэлентайн сделала ей специально для церемонии «Оскара». Оно наконец высохло, и она подумала, что если его отдать в чистку, то, может быть…
— Ну конечнр, его можно спасти, — перебила Вэлентайн, — и к тому же на него пошло столько ткани, что теперь выйдет целых два — короткое и длинное, уж это я вам обещаю.
Билли вспомнила, как во время того торжественного вечера у Долли начали отходить воды и ее спешно увезли в больницу, пока телевидение снимало и транслировало на весь мир мокрые пятна на этом фантастическом по красоте платье. Билли выпила еще один бокал шампанского за талант Вэлентайн.
— Она взяла с меня слово, что я отдам его лично вам, — добавил Лестер.
— И правильно, такое платье надо отдавать только в те руки, которые знают, как с ним обращаться. Лестер, а как малышка и Долли? — Вэлентайн поклялась никому не говорить, что они со Спайдером не смотрели вручение «Оскаров».
— Прекрасно! Просто превосходно! В жизни не видел ничего более совершенного. — Он стоял перед ними, опустив руки, невысокого роста, в очках, полноватый, в эту минуту он был похож на плюшевого медвежонка.
Но есть в нем что-то особенное, подумала Билли, отличающее его от того молодого и незрелого пресс-агента, которого по настоянию Билли студия пригласила для Долли за полтора месяца до номинации. Откуда вдруг в нем эта уверенность и нескрываемое восхищение жизнью, всем, что в ней есть, включая и самого себя?
— Лестер, садитесь, налейте себе шампанского, познакомьтесь с дочерью Вито — Джиджи Орсини и подробнее расскажите о Долли, помимо того, что все хорошо, — приказала Билли. — Еще недавно я не могла связаться с ней по телефону, меня не соединили. Она спала или устала. Можно ли навестить ее сегодня вечером?
— Она совсем не чувствует себя усталой. Мне пришлось отключить телефон. Сотни, буквально сотни репортеров из разных стран мира хотят взять у нее интервью. У больницы дежурят десятка два фотокорреспондентов, но их не пускают. Обычно к получившим «Оскара» проявляют огромный интерес, но в случае с Долли…
— Да, обстоятельства необычные, — согласилась Билли, и на лице у нее появилась улыбка: она вспомнила историю, известную только ей и Долли. О Саншайне, гонщике, с которым у Долли год был роман, прежде чем они расстались. Результатом их примирения в День независимости и явилась дочурка Долли.
— Как ее пресс-агент считаю, что с ее стороны было бы ошибкой давать интервью и вообще разговаривать с кем бы то ни было. Она же не замужем.
— Ну вы же знаете, что ей невозможно запретить. Она такая искренняя, говорит все без утайки…
— Ну да, и вполне может рассказать им и про Саншайна, — уверенно произнес Лестер. — Если только я не запрещу.
— Она рассказала вам про Саншайна? — Билли была ошарашена.
— Мы рассказали друг другу все, — сияя от гордости, ответил Лестер.
Билли пристально вгляделась в его близорукие глаза за толстыми стеклами.
— Лестер Уайнсток, мне кажется, вы хотите мне что-то сказать, так что хватит ходить вокруг до около, выкладывайте начистоту. Речь идет о моей лучшей подруге.
— Я люблю Долли и она любит меня, и мы решили пожениться как можно скорее, — провозгласил он.
— Боже милосердный! Вы все с ума сошли? Вы знаете ее всего полтора месяца, и она была беременна. Лестер, вы решили ее спасти?
— Нет, это она спасла меня. Разве вы не рады за нас?
— Я… больше чем рада… это так прекрасно, что у меня нет слов, — вымолвила Билли, чувствуя, что у нее вот-вот брызнут слезы. Да что с ней происходит сегодня? Она, которая почти никогда не плачет, готова лить слезы по любому поводу.
— Долли уже знает, как назовет малышку, — сказал Лестер, обнимая ее за плечи. — Венди Уилхелмина Уайнсток. Уилхелмина в вашу честь, потому что вы крестная мать, а Венди потому, что хорошо сочетается с Уайнсток. Вы одобряете?
— В.У. Уйансток, — медленно произнесла Билли. — Похоже на директора студии. Очень по-голливудски, Лестер, в лучших традициях. Ну конечно, я одобряю. Вы женитесь на лучшей девушке в мире.
Билли встала.
— Тихо, призываю всех к порядку! Сейчас я предлагаю тост за помолвку Лестера Уайнстока и Долли Мун и за их дочь и мою крестную Венди Уилхелмину Уайнсток.
Среди общего шума и радостных возгласов, которые за этим последовали, Джиджи размышляла над особенностями калифорнийского образа жизни. Мачеха, ставшая подругой, потрясающая прическа, новая одежда, обещание покинуть Нью-Йорк, чтобы жить за пять тысяч километров от него в самом красивом доме, который ей приходилось видеть, тайная свадьба, помолвка, ребенок, четыре бокала шампанского — и это всего за один день! Она обожает здесь все. В голове немного кружилось, когда она чокалась с Лестером и Долли и пила за новорожденную с таким звучным именем. Да эти люди еще более ненормальные, чем бродячие артисты.
Билли налила себе еще один бокал шампанского. Все-таки Долли — удивительный человек, размышляла она, настоящая загадка природы. Такие люди, как она и Лестер, созданы друг для друга. А теперь, когда доказательства налицо, получается, что Спайдер и Вэлентайн тоже. Наверное, она не обладает каким-то природным чутьем, а иначе давно бы все поняла. Если бы не Джиджи, то, пока другие пьют за новобрачных, за помолвку, за новорожденного, она со своей тайной чувствовала бы себя здесь просто не к месту.
Разве можно представить себе мужа, который после того, как ты ему на чистом английском языке сообщила, что беременна, тут же засыпает! И за целый день Вито даже ни разу не позвонил. Если бы ей передали, что он звонил, она бы поняла, что он хочет загладить их ссору. Билли свято верила и готова была поспорить на какие угодно деньги, что если человек действительно хочет позвонить, то, как бы занят он ни был и какое бы высокое положение ни занимал, он обязательно сумеет это сделать, если где-то поблизости существует телефон. Тем, кто говорит: «Я собирался позвонить, но у меня не было свободной минуты», — она давно перестала верить. Но, с другой стороны, имеет ли она право судить? Она ведь сама еще не извинилась перед Вэлентайн, которая два дня назад предположила, что Билли беременна, потому что не могла застегнуть на ней платье, специально сшитое для церемонии вручения «Оскара». Она задумчиво пила шампанское, в то время как Спайдер, Вэлентайн и Лестер обсуждали, как отметить свадьбу и где провести медовый месяц, а Джиджи слушала их, раскрыв рот. С детства вращаясь среди артистов, Джиджи привыкла к их импульсивному поведению, но по сравнению с людьми, окружавшими ее сейчас, их жизнь показалась ей скучной и однообразной. Спайдер Эллиот, это… если бы ее любимый Джеймс Дин вдруг стал взрослым, сантиметров на шестьдесят выше и двигался бы, как Фред Астер, и если бы он к тому же походил на молодого Гэри Купера в одном из старых фильмов, которые она так любила, то… да, он был бы почти как Спайдер Эллиот, мелькнуло в мыслях Джиджи, затуманенных парами шампанского. От него исходило какое-то неуловимое благородство, которое ассоциировалось у нее почему-то с образом «Мальборо кантри» и викингами или, на худой конец, звездами футбола, но никогда с обычными людьми из реальной жизни. А Вэлентайн… Джиджи трудно было себе представить что-то более французское, чем Вэлентайн. Ее огненно-рыжие волосы, сияющие зеленые глаза, такое выразительное лицо… все в ней — само совершенство, даже веснушки, думала Джиджи, не отрывая от нее восторженных глаз.
Пока Джиджи переводила взгляд со Спайдера на Вэлентайн и обратно, Билли решила, что есть вещи, о которых непременно должны узнать. Наступает момент, когда их больше нельзя скрывать, иначе они потускнеют. В определенный момент секрет достигает критической массы и им обязательно надо поделиться. Так бывает, когда вдруг оказываешься в нужном месте, в нужное время и с нужными людьми или хотя бы со всеми ними, кроме одного. Во всяком случае, Джиджи уже знала, а Вэлентайн догадалась, так что это на самом деле больше не секрет.
— Я хочу предложить еще один тост, — сказала она, вставая. — За Вэлентайн О'Нил, которая два дня назад сообщила мне нечто, чему я сначала не поверила. Вэлентайн, дорогая моя Вэлентайн, как всегда, ты оказалась права.
— Билли! Это так прекрасно! — Подбежав к Билли, Вэлентайн порывисто обняла ее, вызвав недоуменные взгляды Спайдера и Лестера. — А вы так и не поняли, дурачки? У нее будет ребенок! Так что можете поцеловать ее! — И Вэлентайн рассмеялась, глядя на лица мужчин: до них начал доходить смысл сказанного ею.
В тот момент, когда все окружили и шумно поздравляли сияющую от счастья Билли, открылась дверь и на пороге появился Вито. Нахмурившись, он молча взирал на общее веселье. Когда он вернулся домой и не застал там никого, кроме обслуги, Джози направила его в «Магазин Грез», где, как и ожидал, он увидел Билли и, как всегда, в центре внимания.
Маленькая и какая-то смутно знакомая фигурка метнулась ему навстречу с радостным криком:
— Папа, я уже не буду единственным ребенком и теперь буду жить вместе с тобой и Билли!
— Вито, фантастическая новость! Кого вы больше хотите: мальчика или девочку? — обратился к нему Лестер. — Надеюсь, что будет мальчик, поскольку у вас уже есть Джиджи.
Подойдя к Вито, Спайдер хлопнул его по спине:
— Молодец, Вито! Джиджи, ребенок Билли — и все за один день. А ты шустряк, парень!
— Это потрясающе, Вито! Я так взволнована, что у вас будет ребенок! А Джиджи просто восхитительна. Ты — самый счастливый человек! Тебе Билли не сказала, что я первая догадалась? — спросила Вэлентайн.
— Вито, тебе надо выпить, — медленно произнесла Билли. — Догоняй.
Он машинально взял бокал шампанского и, автоматически растянув губы в улыбку, потряс головой, показывая, что не в силах устоять перед таким натиском и что у него нет слов, чтобы сказать, как он счастлив. Сев наконец на стул с видом человека, полностью владеющего ситуацией, он подумал: что же это за ведьма, на которой он женился? Совершенно неожиданно эта женщина становится будущей матерью, даже не сказав ему об этом, не посоветовавшись, не предупредив, не придя к взаимному согласию насчет того, что оба хотят иметь ребенка. Да разве так узнают об этом? Из бессвязной болтовни кого угодно, но только не от Билли? И одновременно только ей известными методами и всего за несколько часов она ухитряется изменить Джиджи, причем настолько, что сразу видна ее рука! Слава богу, он еще узнает ее, потому что она называет его папой. Не считаясь с ним, Билли устраивает жизнь его дочери да еще громогласно объявляет о своих планах на будущее.
— Поздравляю, — произнесла Билли так тихо, что, кроме него, ее никто не услышал.
— Поздравляешь? — отозвался он. — Поздравляешь победителя? Я, наверное, здесь единственный, кто не знает об этом соревновании.
3
Неделю спустя Мэгги Макгрегор и Вито сидели за ленчем в ресторане «Поло-Лаундж» отеля «Беверли-Хиллз». В зале, где столики были отгорожены друг от друга невысокими перегородками, Мэгги заказала свое обычное место слева от двери, своего рода «обзорный пункт», откуда она могла видеть всех входящих и выходящих. Когда же она не хотела отвлекаться на приветствия, то садилась спиной к двери, что означало, что она занята интервью и просит не беспокоить. Пока они с Вито поглощали фирменный салат, запивая его белым вином, в ее голове происходил очень напряженный умственный процесс, причем в двух направлениях сразу. Она внимательно слушала, устремив свои круглые карие глаза на Вито. С одной стороны, благодаря своему положению в журналистике Мэгги имела право первой узнать о предварительных планах съемок его нового фильма «Стопроцентный американец», особенно теперь, после того, как был подписан контракт на покупку авторских прав на книгу и студия Керта Арви выдала чек для немедленной выплаты полумиллиона долларов. С другой стороны, как женщина, да еще такая, которая четыре года не оставляла его в покое после того, как их роман закончился, она сейчас пыталась выяснить истинную причину его сегодняшнего настроения. Слишком уж она была искушенным журналистом, слишком проницательной женщиной, обладающей тонкой интуицией, чтобы до конца поверить в то, будто он хотел поговорить с ней исключительно о своем новом проекте.
Сегодня она почувствовала в нем и нечто другое. И это маленькое нечто, а также несколько преувеличенная, даже напряженная сосредоточенность на теме разговора насторожила Мэгги, и она, как ищейка, взяла след. Физически перед ней был все тот же Вито Орсини, с которым она впервые познакомилась в Риме четыре года назад и который сразил ее непреклонной убежденностью в собственной непобедимости, но по духу он явно изменился. Что-то с ним было не так, как говорится, со сдвигом, и она заподозрила, что к фильму это не имеет никакого отношения. Вито обладал колоссальной энергией, гораздо большей, чем другие мужчины, но сегодня она как-то рассеивалась. В голосе чуточку недоставало привычных рокочущих обертонов, словно с утра он недополучил обычной порции подзарядки. Он по-прежнему излучал уверенность маэстро, виртуоза своего дела, человека, в отношении которого слова «спешите не торопясь» просто-напросто теряют смысл, но была в нем сегодня какая-то… горечь? Горе или мрачность? А может, разочарованность?
Но возможно ли это? — спрашивала себя Мэгги. Он получил безоговорочное признание, а при том, что его новая картина находится на ранней безоблачной стадии развития, ничто пока не может омрачить его славы. Если «Оскар» за лучшую картину года не может создать хорошего настроения хотя бы на неделю, то что же тогда, черт побери, может? А теперь он собирается делать фильм по книге, за которую студия Арви заплатила сумму, побившую все рекорды, — полтора миллиона долларов. Да он должен быть на седьмом небе! Значит, она не самая сильная женщина-репортер, раз не решается задавать неприятные вопросы, подумала Мэгги, и выпалила со свойственным ей тактом:
— Вито, что, черт возьми, с тобой происходит?
— Ничего! Не болтай чушь, Мэгги.
— Послушай, дружок, за время нашего знакомства я когда-нибудь говорила чушь?
— Глупости — да, фантастические глупости. А чушь… ну, знаешь, всегда бывает первый раз.
— Может быть, но пока этого еще не случилось. В чем дело? Что происходит? Я спрашиваю не как корреспондент, а как твой друг.
Сделав глубокий вдох, Вито отложил вилку, и за столом надолго воцарилось молчание. Наконец он заговорил изменившимся голосом, раздраженным и исполненным жалости к самому себе:
— Мэгги, объясни мне, почему в какой-то определенный момент, когда что-то одно наконец идет хорошо, то что-то другое обязательно идет плохо?
— Первое и основное правило жизни. Теория двойного удара. По-моему, мне было лет десять, когда я ее усвоила. Тебе не кажется, что ты несколько староват для подобных открытий?
— Очевидно, нет.
— Итак, это связано с Билли.
— Я этого не говорил!
— А что же тогда еще? У тебя нет времени, чтобы одновременно заниматься и одним, и другим. Его хватает только на одно и на половину другого. Раз это не связано с новым фильмом, значит, связано с семейной жизнью.
— Хочешь знать, в чем ее проблема? — взорвался Вито. — Она до сих пор не поняла, что мужчина не может добиться успеха в своей профессии, не будучи при этом эгоистом, не имея личного интереса, который заставляет его ежеминутно и каждодневно работать, не проявляя жесткости, жестокости и безоглядной решимости отметать все, что ему мешает. Мэгги, ты знаешь этот город, знаешь, что здесь надо быть именно таким, мало того — это лишь минимум, с которого можно начать. Но Билли никогда и ни за что не приходилось бороться. Господи, Мэгги, да она чуть ли не самая богатая женщина в мире! И, естественно, она считает, что заботливость, теплота, чувствительность и тому подобные телячьи нежности для мужчины вполне обычное явление, а если это не так, то, значит, так должно быть. Удивляюсь, как ее первому мужу удавалось поддерживать подобные заблуждения. Конечно, к тому времени, как они встретились, он уже сделал себе состояние, ему было шестьдесят, а ей двадцать один, и у него оставалась одна цель — баловать и ублажать ее. До меня Билли не знала мужчин, которые в жизни добились всего сами и чья карьера только начала идти вверх.
— Она скандалит, потому что ты с головой ушел в новый фильм? Брось, Вито, я же знаю, сколько усилий потребовалось, чтобы добиться успеха с «Зеркалами». И она так ничего и не поняла?
— Думаю, что нет, — неопределенно ответил Вито, пожимая плечами.
— Значит, дело не в невнимательности, — рассудительно изрекла Мэгги. — Секс? Я никогда не исключаю, хотя, зная тебя, думаю, проблема вряд ли в этом. Главное, ищи главное, Вито. Деньги? Едва ли. Послушай-ка, а если отбросить деньги, секс и внимание, то что остается? Ей не нравится твой характер? — Мэгги усмехнулась. По собственному опыту она знала, что жены продюсеров быстро усваивали основной урок: не слишком-то строго судить о характерах своих мужей.
— Она считает меня плохим отцом.
— Ой, Вито, погоди! Я не успеваю за тобой.
— Это серьезно. Я сделал глупейшую ошибку. Я никогда не говорил ей, что у меня есть ребенок от первого брака и…
— Ты и мне не говорил, — удивленно перебила Мэгги. — Ни о браке, ни о ребенке, но я, в конце концов, тебе не жена. Представляю, как Билли разозлилась.
— Черт возьми, Мэг, зачем было ей это знать?! Это ни на что не влияло, а тот брак с самого начала оказался ошибкой, единственная проблема в том, что родился ребенок. Ей сейчас шестнадцать, она хорошая девочка, но, поверь мне, она никогда не входила в мои планы. Джиджи — так ее зовут — появилась здесь совершенно неожиданно, на следующий день после того, как Билли обнаружила, что она беременна. Настолько это все не вовремя, что хуже не придумаешь.
— Ты определенно плохой отец, Вито. — Мэгги с силой тряхнула хорошенькой головкой. — В этом я должна согласиться с Билли.
— И, значит, поэтому я полное дерьмо?
— Нет, не полное. Не настолько, чтобы это серьезно обеспокоило меня. Но, возможно, Билли ожидала от тебя большего.
— Она ожидает всего, Мэгги, всего, что только можно себе вообразить, а также, чтобы я был примерным папочкой в прошлом, настоящем и будущем. А «ожидать» для Билли означает «хотеть». Ее желания для нее закон. Допускаю, что мои объяснения выглядят неубедительно, но я же не чудовище! И что происходит? Теперь я чувствую в ней какую-то подозрительность. Она как курица на яйцах: готова броситься на каждого, кто сделает хоть шаг в ее сторону. Жаль, что я не могу не обращать на это внимания, такая ситуация нужна мне меньше всего, но на меня это действует, даже ты заметила!
— А что, Билли такая хорошая, что имеет право ожидать большего? — вкрадчиво спросила Мэгги.
— Прекрати! Я знаю, она тебе не нравится, и я не должен был рассказывать всего этого даже тебе, но кому еще я могу довериться? Конечно, Билли не совершенство, никто не совершенен, видит бог, я тоже не сахар, но она моя жена и должна принимать меня таким, какой я есть.
— Должна или не должна, но факт тот, что не принимает.
— Ты считаешь, я требую слишком многого?
— Откуда мне знать, Вито? Я никогда не была замужем.
— Вот и оставайся такой, в этом положении много плюсов. О, черт возьми, Мэгги, давай прекратим, и не заставляй меня лишний раз чувствовать, что я не прав. Даже если так оно и есть.
— Я обожаю тебя, Вито! Не много найдется мужчин, которые могли бы сказать это. Ты дерьмовый отец, но по крайней мере ты честен. Когда Билли должна родить?
— Месяцев через шесть-семь. Насколько я понял, срок еще очень маленький, но уже столько разговоров, что можно подумать, будто это произойдет сегодня.
— К тому времени у тебя появятся отцовские чувства, поверь мне. Я уже не раз наблюдала такое, даже в этом городе.
И Мэгги решила на досуге переварить информацию, касающуюся лично Вито. Он впервые рассказал о себе так много. Раньше он если и говорил о своей женитьбе, то лишь вскользь и весьма поверхностно. То, что она узнала сейчас, просто клад, настоящая «клубничка» и требует тщательного обдумывания. Но, во всяком случае, не сейчас. И, как опытный корреспондент, она поняла, что пора сменить тему.
— Расскажи мне подробнее о разговоре с Джоном Хьюстоном, — попросила она, плавно переводя разговор в другое русло. — Как получилось, что ты не взял Файфи Хилла режиссером новой картины? Он великолепно поработал над «Зеркалами». В конце концов, он тоже получил «Оскара».
— «Зеркала» обошлись мне в два миллиона долларов, «Стопроцентный американец» будет стоить около двадцати, если повезет. Мне нужен другой режиссер, с более громким именем. У Файфи с десяток хороших предложений, так что ему не на что жаловаться. Но если мне удастся заполучить Хьюстона — вот это будет настоящая удача.
— Зануда. И много хлопот.
— Я с ним справлюсь.
«Еще не факт, — подумала Мэгги, чувствуя, как в ней разгорается жгучее любопытство и предвкушая удовольствие позлорадствовать. — Как бы не так. Ты даже не можешь сладить с Билли Айкхорн, этой избалованной богатой дылдой. И надо же было тебе жениться на ней, когда ты мог бы иметь меня!»
— Я выяснила, как обстоят дела со школами, миссис Орсини, — сказала Джози Спилберг после того, как Билли вернулась с прогулки. Она любила в одиночестве побродить по платановой аллее, восстанавливая таким образом душевное равновесие. — Для Джиджи есть только два варианта. Она может ходить в школу Вестлейк в Бель-Эйр или в университетскую, ближайшую к нам общественную школу. Я бы, конечно, порекомендовала Вестлейк.
— А примут ли ее в середине второго семестра?
— Для вас они сделают исключение, но лишь после того, как побеседуют с Джиджи и она пройдет их обычные тесты. Знаете, эта школа считается лучшей женской частной школой в Лос-Анджелесе. Мне кажется, это то, что надо.
— А как обстоят дела в университетской?
— У них около трех тысяч учеников и очень высокий процент стипендиатов. Ученики в основном местные, по большей части из Брентвуда, но немало и из города, почти всех привозят на автобусе. Школа, конечно, совместного обучения. — При этом Джози многозначительно фыркнула, показывая тем самым неприемлемость такого разгула демократии. Что бы ни решила миссис Орсини — для нее закон и всегда было законом с тех пор, как она впервые поступила к ней на службу в то время, когда Эллис Айкхорн медленно умирал в особняке в Бель-Эйр, но она сохраняла за собой право намекнуть на свое мнение. Открыто она выражала свое мнение лишь тогда, когда ее об этом просили.
— Джиджи будет лучше в университетской, — тут же решила Билли. — В Вестлейке она может чувствовать себя не в своей тарелке. Школа небольшая, с прекрасным кампусом, но там учатся девочки из богатых семей, местная элита. Разве не там учились Ширли Темпл и Кэнди Берген[1]?
— В Вестлейке, как и в любой частной школе, тоже есть девочки, получающие стипендию.
— Нет, Джози, только университетская школа. Где останавливается школьный автобус?
— Он здесь не ходит, миссис Орсини. Когда я позвонила в школьное управление Лос-Анджелеса, оказалось, что они даже не знают о Холби-Хиллз. Никто из этого района не учится в университетской школе, ну просто никто. В управлении наконец согласились взглянуть на карту и сказали, что Джиджи придется ездить на городском автобусе! — Джози буквально кипела от негодования.
— Значит, ее будут отвозить. Подберите надежного человека из персонала и скажите, чтобы он брал для этого какую-нибудь машину из гаража, — сказала Билли, имея в виду один из микроавтобусов, на которых привозили провизию для кухни и все необходимое для сада. — Как только Джиджи научится водить, она сама будет ездить в школу. Я куплю ей маленькую машину.
— Конечно, миссис Орсини.
Интересно, что в ее представлении значит «маленькая», подумала Джози. Обычно местные парни старше шестнадцати ездили на любых, начиная с подержанных «Фольксвагенов» и кончая новыми «БМВ», но девочки? Лично она считала, что глупо иметь такой роскошный особняк и не иметь шофера, но тем не менее жители Лос-Анджелеса, за редким исключением, предпочитали ездить сами. В Гроус-Пойнте, где Джози начинала свою карьеру личного секретаря, шоферы без дела не сидели.
— Джиджи может начать посещать школу с понедельника? — спросила Билли, выходя из комнаты.
— Конечно. Я позабочусь обо всем.
Кто же будет отвозить Джиджи в школу? — задумалась Джози. Ехать туда не больше десяти минут, но все равно кто-то должен отвечать за то, чтобы девочка была там вовремя, и потом забирать ее обратно. Каждый день. Взяв со стола список людей из персонала, живущих в доме, она погрузилась в его изучение. Когда после смерти Эллиса Айкхорна Билли переехала в этот дом, всех людей нанимала она, Джози, и теперь сама же и руководила ими…
Уильям, лакей, должен быть в доме, чтобы подать завтрак и чай, стало быть, он отпадает. Жан-Люк, повар, тоже не может отлучаться. Молодой Гэвин, главный садовник, вставал на рассвете и тут же принимался за дела: вместе с бригадой садовников он занимался поливкой сада, которая должна быть закончена прежде, чем солнце начнет палить в полную силу. Помощник Гэвина Диего тоже не мог отойти, так как помогал ему общаться с рабочими, говорящими на своем родном языке — испанском. Из тех, кто занимался садом и оранжереей, в доме жили только Гэвин и Диего, все остальные приезжали, и Джози не хотела нарушать их распорядок дня. Не так-то просто было подыскать знающих добросовестных работников, а хозяйка — далеко не ангел — моментально обратит внимание даже на один-единственный увядший лепесток. Кто-то из трех живущих в доме служанок или женщина — второй повар, или работница, которая занималась стиркой и починкой белья и приходившая на полный рабочий день, — любая из них могла бы отвозить и привозить Джиджи, но раз миссис Орсини имела в виду мужчину, значит, это должен быть мужчина.
Оставался только Берго, выполнявший при доме самую разную работу. Он мыл машины, заливал в них бензин и поддерживал в гараже безукоризненный порядок; почти каждый день он что-то подкрашивал; Берго всегда знал, как устранить неисправность в водопроводной системе или электропроводке, а если это оказывалось выше его разносторонних познаний и возможностей, он знал, кого вызвать. Каким-то образом он ухитрялся тут же доставить в дом вечно перегруженного работой телефонного мастера — исправить неполадку в устаревшей телефонной системе, на модернизацию которой после нового замужества у миссис Орсини никак не находилось времени; он смазывал начинавшие скрипеть двери, менял перегоревшие лампочки и каждую неделю вызывал бригаду рабочих для мытья окон. В доме Берго фактически был самым нужным человеком, а о том, как другие обходились без такого человека, как Берго, дай бог ему здоровья, Джози и подумать боялась. И тем не менее, с тех пор, как она переманила его из особняка «Плейбой», дав весомую прибавку к жалованью, Берго был вполне доволен и отведенной ему комнатой, и едой, и обществом тех, с кем ему приходилось жить и работать. Значит, Берго О'Салливан. В конце концов, для чего тогда существует мастер на все руки?
— Ну скажите, Берго, ведь правда нет ничего хуже, чем идти в новую школу? — Джиджи сидела грустная: ее вдруг охватил приступ тоски по Нью-Йорку.
Берго, веселый, с выцветшими рыжими волосами мужчина средних лет, от которого веяло домашним уютом, ласково улыбнувшись, постарался вернуть девочке уверенность в себе, которой ей сегодня явно не хватало.
— Школа большая, и народу там много, — спокойно произнес он.
— Я знаю, что такое большая школа. Каждый новичок выделяется, будто его освещают прожектором. Так что не надо меня успокаивать.
— Вы выглядите так же, как все, и, наверное, ничуть не отстали.
— Прекрасно. Думаете, мне от этого легче?
— Да нет, но и не труднее. Я знаю, что новая школа — это непросто, но с завтрашнего дня вы больше не новичок, вот так и относитесь к этому. Достаточно подружиться с одним человеком, а потом все пойдет как надо.
— Ах, Берго О'Салливан, вы настоящий ирландец.
— А что вы знаете об ирландцах, позвольте спросить?
— Моя мать была О'Брайен. И она пела ту же песню.
— И разве она была не права?
— Права, как правило. Ну ладно, Берго, добрый вы человек, мне уже лучше. Вы довольны? Просто не дождусь, когда меня начнет разглядывать класс, где все только и мечтают, чтобы подружиться со мной. Была бы я хоть сантиметров на десять повыше, блондинка и такая, как они…
— Ага, но только у маленьких больше ребят, — задумчиво проговорил Берго. — Обычно ребята вашего возраста кажутся девочкам недостаточно высокими, зато вы сможете выбирать.
— Мне мальчики не нравятся, — с досадой ответила Джиджи. — Прыщавые, пахнут пбтом, и с ними не о чем разговаривать.
— Понравятся. Готов поспорить. Ну вот мы и приехали. — И, свернув к тротуару дороги, ведущей к школе, Берго остановил машину. — Вон там стоянка, видите? Буду ждать вас ровно в три тридцать. — Выглянув из окна, он поздоровался с каким-то рабочим, стоящим поблизости.
— А я и не знал, что ты начинаешь так рано, Стэн. Это — Джиджи Орсини, сегодня она идет в новую школу.
— Доброе утро, юная леди! Берго, когда ты успел стать шофером?
— Новая должность. Расту. Как насчет покера сегодня?
— Разве я когда-нибудь пропускал?
— Никогда.
— Покер! — воскликнула Джиджи. — Как я люблю покер! И я хорошо играю! Мне можно прийти?
— Только мужчины, Джиджи, и вам придется немного подрасти, — добродушно усмехнулся Берго. По крайней мере, настроение у нее заметно поднялось. — А теперь — идите. Желаю удачи!
— И вам всего самого доброго, мистер О'Салливан! — Наморщив лоб и подняв брови, Джиджи показала ему нос и изобразила бодрую улыбку. Затем она выпрыгнула из машины, постояла на месте и, несколько раз пожав плечами и сделав глубокий вдох, медленно поплелась к зданию школы.
Спустя неделю рано вечером Билли вернулась домой после визита к своему гинекологу доктору Аарону Вуду. Ее постоянная усталость — абсолютно нормальное явление, успокоил ее он. Первая треть беременности часто бывает самой утомительной, а насколько он мог определить, у нее было не больше трех месяцев. Он также предупредил, что поскольку она не может точно сказать, когда забеременела, то предполагаемая дата родов может колебаться в пределах нескольких недель.
Билли опустилась в шезлонг в своей любимой золотисто-бежевой гостиной в той части дома, где жили они с Вито. Сегодня эту небольшую уютную комнату, стены которой были задрапированы мягкой тканью, наполняло множество только что распустившихся весенних цветов: на столах стояли корзины с бледно-желтыми жонкилиями, нарциссами и благоухающими желтыми и белыми фрезиями, в горшках, по обеим сторонам растопленного перед ее приходом камина, красовались белоснежные азалии. Закрыв глаза и сбросив туфли, Билли постаралась расслабиться, вдыхая теплый ароматный воздух, но, несмотря на усталость, тело отказывалось от предлагаемого отдыха, а мысли неизменно возвращались к одному — к тому, что произошло между ней и Вито.
С того самого утра после приезда Джиджи Билли старательно избегала каких-либо намеков на его прошлое отношение к девочке. Какой толк пускаться в бесполезные разговоры и выяснять, что он мог бы для нее сделать и чего не сделал. Она вынуждена была признаться себе — и частично этим объяснялось ее молчание, — что тогда в «Грезах» ее, мягко говоря, занесло. Ни шампанское, ни даже те вынужденные два дня, в течение которых Билли не могла поделиться с ним своей тайной радостью, не извиняли ее поведения: она должна была сказать Вито о ребенке раньше, чем всем остальным. Но разве это что-нибудь изменило бы? — спрашивала она себя уже в сотый раз. В тот вечер, когда они вернулись домой, он выразил положенную радость по поводу ее беременности, но, увы, для нее это прозвучало всего лишь как пустые слова. Она сама не знала, чего ждала от мужа, с горечью думала Билли. Вито по характеру такой непредсказуемый: он мог бы плясать от радости или заплакать, или… да что угодно, но только не произносить этих формальных слов. И с тех пор он был так занят, что возвращался домой практически только к ужину, когда они с Джиджи садились за стол. Несколько раз он не приходил и к ужину, ссылаясь на неотложные встречи со сценаристами, агентами и другими нужными людьми. Затем он, как правило, садился за телефон в своем кабинете и звонил тем, с кем не успел переговорить в течение дня. Его работа или то, что он называл «быть в процессе», казалось, свелась к бесконечным телефонным разговорам, за одним следовал другой, эти разговоры прерывались лишь встречами, которые, в свою очередь, порождали новую серию телефонных звонков, во время которых он договаривался о следующих встречах. Когда в последний раз они могли спокойно побыть вместе? — пыталась вспомнить Билли как раз в тот момент, когда Вито вошел в комнату.
— Я не ожидала тебя раньше восьми, — удивилась она.
— Агенту Редфорда надо было успеть на самолет, — объяснил Вито. — Хочешь выпить? — И он направился в буфетную.
— Нет, спасибо. От алкоголя у меня начинает болеть голова. Да и доктор не советует. Как дела с картиной?
— Пока все в порядке. Радоваться еще рановато, но почти уверен, что заполучил Николсона и Редфорд вот-вот даст согласие. Сейчас как раз обсуждается распределение прибыли, так что фактически это уже вопрос денег, и я готов дать им то, что они заслуживают, просто не хочу сразу соглашаться. И, конечно, обоим не терпится узнать, кто же будет играть главную женскую роль.
— И кто же? — поинтересовалась Билли, хотя знать ей это абсолютно не хотелось. Единственное, чего ей хотелось, — это не чувствовать такой смертельной усталости, избавиться от постоянной тошноты, которую она ощущала теперь не только по утрам, хотелось, чтобы Вито спросил, как она себя чувствует, хотелось, чтобы исчезла меду ними эта неестественная холодная вежливость, хотелось, даже несмотря на усталость, чтобы они собрались и поехали бы в гости — лишь бы не продолжать этот формальный обмен новостями, когда они вдвоем сядут ужинать. Джиджи сегодня ночевала у подруги — самой близкой из ее пяти — а может, пятнадцати? — новых лучших друзей.
— Может быть, Фэй Донауэй или Джейн Фонда, — ответил Вито, — либо Мерил Стрип. Пока не будут подписаны контракты с актерами на главные мужские роли, не хочу даже разговаривать с их агентами, но уверен, что смогу получить, кого захочу. Вопрос в том, кто больше подойдет на роль жены для Редфорда?
— Да, проблема, — согласилась Билли, считая, что на самом деле не подходит никто из названных им актрис. Вито же заботило только, чтобы это была одна из крупнейших звезд кино. Но, с другой стороны, разве это имеет значение? Совершенно очевидно, что в фильме «Какими мы были» Стрейзанд меньше всего подходила на роль жены для Редфорда, а Билли тем не менее после фильма рыдала в три ручья.
— Может быть, Стрейзанд? — предложила она, изображая заинтересованность.
— Стрейзанд! — Вито со стуком поставил стакан. — Боже мой, Билли, ты что, не читала эту проклятую книгу? Редфорд женится на девушке из своего окружения, она должна быть большей американкой, чем он, если такое возможно, конечно. Стрейзанд! Скажешь тоже!
— Я пошутила.
— Черта с два ты пошутила, — обиделся он. — Ты даже не слушаешь.
— Ты прав. Наверное, я думала о чем-то другом, — холодно ответила Билли.
— И что ты хочешь этим сказать? Будто я сам не вижу.
— Не видишь чего, Вито?
— Что ты сидишь здесь и дуешься на меня, — в голосе его вдруг послышалась злость. — С тех пор, как приехала Джиджи, ты раздуваешь в себе обиду, лелеешь ее. Вито Орсини — ужасный отец, Вито безответственный, Вито бессердечный, Вито плохой, надо спасти его бедную, несчастную дочь, и вот, взмахнув волшебной палочкой, ты превращаешь ее в принцессу. Вито такой-сякой, потому что не бросил все на свете, не потерял голову и не распустил слюни, хотя обязан думать только о тебе и о твоей беременности, известие о которой должно потрясти весь мир; Вито наверняка будет ужасным отцом твоему ребенку, таким же ужасным, каким был и для Джиджи…
Так вот, значит, в чем дело, подумала Билли. Могла бы догадаться. Он чувствует свою вину и теперь обращает это против нее. Внезапно ее усталость исчезла, и она выпрямилась.
— Я все поняла, Вито, — сдержанно произнесла Билли. — Можешь больше не продолжать, не стоит тратить энергию. Ты и представить не можешь, как смешно и нелепо то, что ты сказал.
— Это ты не можешь взглянуть на себя со стороны. — Задетый ее словами, он заговорил еще громче. — Ты почему-то воображаешь, что сначала ни свет ни заря можешь визжать на меня, обвинять, а потом две недели относиться ко мне с прохладцей, разговаривать в эдаком спокойно-снисходительном тоне, будто ничего не случилось: все хорошо, жизнь продолжается. Так вот, хочу сказать тебе кое-что. Я этого не потерплю! Я не намерен с этим мириться! Я не хочу больше так жить!
— У нас небольшая истерика? Почему бы тебе не броситься на ковер и не подрыгать ногами? — Встав, Билли окинула его ледяным взглядом. — У меня нет желания разговаривать с тобой в таком тоне.
— Нет, мы поговорим сейчас, так что сядь, черт тебя возьми! — И вне себя от ярости Вито силой заставил ее сесть. — А теперь ты выслушаешь меня. Я не обязан перед тобой извиняться. Я все тот же, каким был, когда мы познакомились, с тех пор ничего не изменилось, и я отказываюсь извиняться за свои прошлые поступки. Существуют объяснения — не извинения, а объяснения, — которые я мог бы тебе дать, чтобы ты наконец поняла, почему я не был Джиджи идеальным отцом, но ты никогда об этом не спрашивала, даже не дала мне возможности объясниться. Зачем? Ты моментально сделала свои суровые выводы и, как пожарник, бросилась спасать ее, заботиться о ней, облизывать ее, превращать в своего ребенка…
— Извини, что перебиваю, но это просто…
— Заткнись, я еще не закончил. Итак, ты беременна. Со мной не посоветовались, не спросили, что я по этому поводу думаю. Ну ладно, прекрасно. Когда ты захотела ребенка, тебе даже в голову не пришло узнать мое мнение, это для тебя нормально. Все, что ты хочешь, ты получаешь, это твой девиз. Я попробую быть хорошим отцом, но и ты по крайней мере постарайся поверить мне. Мне не понравилось, что я узнал об этом после всех. Ладно, черт с ним, что сделано, то сделано. Не перебивай! Но я хочу, чтобы ты поняла, больше того — настаиваю, чтобы ты поняла, что твоя беременность не означает, будто все остальное в моей жизни становится неважным. Вот здесь ты глубоко ошибаешься, Билли.
— Вито, я думаю…
— Замолчи, я еще не договорил! — заорал он. — Мне предстоит сделать фильм. «Стопроцентный американец» должен стать гвоздем сезона, большой картиной, самой главной из всех, что будут выпущены в этом году. С первых дней, как я начал заниматься этим делом, я боролся за такой шанс. И я вынашиваю этот фильм точно так же, как ты вынашиваешь своего ребенка — двадцать четыре часа в сутки, я так же поглощен им, как ты своей беременностью. Вот и все. Любой в моем положении вел бы себя точно так же, поэтому ты должна смириться с этим и перестать требовать, чтобы к тебе относились как к священному сосуду, черт бы его драл! Из-за своих денег ты не видишь, что происходит в мире. Ты живешь на другой планете и, видимо, не понимаешь или даже не хочешь понять, насколько это важно для меня. Мой фильм для тебя — тьфу, что бы ни случилось, твоя жизнь от этого ничуть не изменится, не так ли? Скажи на милость, уж не думаешь ли ты, что быть продюсером — мое хобби? Вот уже восемнадцать лет это моя жизнь, моя жизнь, понимаешь? Советую тебе сбросить свою роскошную золотую оболочку, в которой ты ничего не видишь и ни о чем не думаешь, кроме себя, и вновь стать живым человеком, иначе у нас будет не жизнь, а черт знает что.
Билли встала и спокойно, не выдав волнения, посмотрела ему прямо в глаза.
— Похоже, именно это уже началось, не так ли? — сказала она негромко и вышла из комнаты, заперев за собой дверь в спальню.
Оказавшись у себя, она прошла в гардеробную и села у окна. Тирада Вито привела ее в состояние шока, она словно окаменела. Прошел час. Наконец она сняла трубку и позвонила Джози домой.
— Джози, совершенно неожиданно оказалось, что мне завтра надо быть в Нью-Йорке по делам «Магазина Грез». Хочу попросить вас об одолжении. Не могли бы вы пожить в одной из комнат для гостей, пока я не вернусь? Мистер Орсини может задерживаться, и мне бы не хотелось, чтобы Джиджи оставалась одна в доме после того, как вы закончите работу.
— Конечно, миссис Орсини. Никаких проблем. О Джиджи не беспокойтесь. Жан-Люк ею просто очарован. Теперь после школы она под его руководством осваивает приготовление французских соусов. И кроме того, она часами разговаривает по телефону со своими друзьями. Ума не приложу, когда она находит время делать уроки, но как-то находит. Я буду вместе с ней ужинать, а потом прослежу, чтобы она вовремя ложилась спать.
— И еще. Свяжитесь, пожалуйста, с моим пилотом. Скажите ему, что я хочу вылететь в девять, и пришлите машину с шофером в восемь. К этому времени я буду готова. И закажите машину для встречи в Нью-Йорке.
— Забронировать ли номер в отеле?
— Не надо. Я, наверное, остановлюсь у миссис Страусе. Меня можно будет найти там.
— Хорошо, миссис Орсини. Приятного полета.
— Спасибо, Джози. Спокойной ночи.
Затем Билли набрала номер Джессики Торп Страусе в Нью-Йорке.
— Джесси, дорогая, извини, что звоню тебе так поздно… Слава богу, а то я боялась, что ты уже спишь. Послушай, мне необходимо повидаться с тобой. Могу я приехать завтра и остановиться у тебя на несколько дней? О, прекрасно! Буду как раз к обеду. Нет, сейчас не могу говорить. До завтра.
Эти простые действия помогли ей немного прийти в себя, и, достав чемодан, она принялась укладывать вещи. Собрав все необходимое, она распахнула дверь. В гостиной никого не было. Налив томатного сока и прихватив немного фруктов и крекеров из буфетной, она вернулась к себе, оставив дверь открытой. Ее не заботило, где будет сегодня ночевать Вито. Уж конечно, не в одном с ней доме после того милого спектакля, который он ей устроил, решила Билли.
… — Да я бы стукнула его по башке чем-нибудь тяжелым, — воскликнула Джессика, — а если бы случайно и убила, то любой суд присяжных оправдал бы меня. Да как ты только смогла выслушать весь этот злобный вздор и остаться спокойной?
— До сих пор не понимаю, — ответила Билли с какой-то неестественной безучастностью. — Чем больше он распалялся, тем спокойнее я становилась. Мне казалось, что каждое его слово действует как анестезия, отключая все чувства, одно за другим, разрывая все, что связывает нас. Я смотрела на него и словно пробуждалась от сна. Все, что было, начало представляться в другом свете, и потом между нами возникла невидимая стеклянная стена… как будто мы находимся в разных комнатах… у меня появилось ощущение, что он стоит на сцене, а я сижу в зрительном зале. Передо мной был Вито, но это был не он. Я не могла поверить, что вышла замуж за этого человека. Я и сейчас не верю. Это так страшно. Даже не представляю, что мне следовало бы чувствовать. Мы никогда так раньше не ссорились. Я и сейчас нахожусь в каком-то столбняке. Единственное, на что я была способна, — это поднять его на смех, у меня не было сил возражать. Я и теперь не чувствую злости, а знаю, что должна бы. Как ты думаешь, может, это из-за ребенка? Чувство самосохранения?
Билли сделала несколько глотков ментолового чая, приготовленного для нее Джессикой в роскошном будуаре, который она называла «кабинетом». В ее большой квартире на Пятой авеню, выходящей окнами на Центральный парк, эта комната была, что называется, под запретом, сюда не разрешалось входить никому, особенно детям Джессики — а их у нее было пятеро, — докучавшим ей своей беготней, да и Дэвиду, ее мужу, тоже. Накануне он отправился в Бостон по делам инвестиций своего банка. Джессика внимательно посмотрела на подругу своими близорукими глазами, растерянность, прозвучавшая в последних словах, насторожила и обеспокоила ее больше, чем все, рассказанное до этого.
— А ты помнишь, — начала Джессика, тщательно подбирая слова, — что, когда я приезжала к тебе летом прошлого года, ты сказала, как тебе противно играть роль идеальной, незаметной, ни во что не вмешивающейся жены продюсера? Вито снимал тогда «Зеркала» на натуре.
— Конечно, помню.
— Я еще спросила, почему ты не разведешься, и ты ответила, что абсолютно без ума от него, а точнее, что «просто не можешь жить без этого паршивца».
— Тогда ты сказала мне, что это депрессия, которая обычно наступает после медового месяца, и что скоро все пройдет. Может быть, мне не всегда следует обращаться за советом именно к тебе?
— Возможно, но тогда к кому?
Билли, вопросительно взглянув на подругу, улыбнулась. Милая, хрупкая Джессика Торп была ее неизменным советчиком уже многие годы. Джессика Торп, происходившая из одной из старейших семей Род-Айленда; женщина с волосами, отливающими медью, как на картинах прерафаэлитов, с глазами цвета лаванды, с умом, отточенным в колледже Вассара, и неотразимой мягкостью в каждой миниатюрной черточке очаровательного личика. Она стала лучшей подругой Билли через пять минут после их знакомства, восполнила недостаток ее знаний по части мужчин и секса и избавила от многих любовных неприятностей в тот период жизни, когда Билли еще не встретила Эллиса Айкхорна.
— Больше не к кому. Только ко мне, — тут же ответила Джессика на свой вопрос. — Тогда скажи мне, если в тебе не было злости, зачем же ты приехала? Мы могли бы поговорить и по телефону.
— Нет. Я должна была увидеть тебя, должна проверить свое чувство реальности. Действительно ли я такая, какой он меня представил? Я знаю: ты единственная, кто честен со мной до конца, ты и, может, еще Спайдер Эллиот, но его я спросить не могу. Конечно, деньги ограждают меня от проблем, с которыми приходится иметь дело всем остальным, но… неужели Вито прав? Неужели я такая самоуверенная и эгоцентричная?
— Твои деньги не лишают тебя ничего человеческого, Билли. Перестань думать так. Деньги лишь избавляют от повседневных материальных забот, от которых не застрахованы другие, деньги дают тебе возможность думать о главном.
— Ах, Джесси…
— Нет. Я говорю это просто для утешения. Я знала тебя, когда ты была бедна, как церковная мышь, и в главном твой характер не изменился, разве что с тех пор ты немного повзрослела. Да, теперь у тебя свой самолет, и сто двадцать пять садовников, и огромный шикарный гардероб, и самый роскошный магазин. Да, ты стала требовательной, стремишься, чтобы все было по высшему классу, ты поглощена идеями, но ты и была такой же, когда мы познакомились, просто тогда ты не имела возможности действовать так, как считала нужным. Ты все та же Билли Уинтроп, щедрая, великодушная, твои желания вполне достойны, и ты никогда не была самоуверенной и самодовольной. Ты была прекрасной женой Эллису и делала все, чтобы быть прекрасной женой и Вито. Конечно, временами ты эгоистична, но в таком случае скажи мне: кто, черт возьми, не считает себя центром мира, по крайней мере своего собственного? Я сама такая и горжусь этим. При наличии пятерых детей мой здоровый эгоизм — это единственное, что не дает мне свихнуться. Неужели ты думаешь, что для всех остальных есть что-то важнее их самих? — И Джессика откинула со лба длинный завиток. — Когда женщина беременеет первый раз в жизни только в тридцать пять, — продолжала она, — вполне естественно, что она только и думает о своих ощущениях. А вот злость Вито — это неестественно. Это-то меня больше всего и беспокоит. Все, что он сказал, продиктовано злостью, и я не понимаю, какое право он имеет на тебя злиться. А может… может, он чего-то боится и прикрывает это злостью?
— Сейчас для него не существует ничего, кроме новой картины… Почему он должен чего-то бояться?
— Восемнадцать лет он снимал фильмы, не требующие больших затрат, правильно? Когда вы с ним познакомились, у него уже были и успехи, и неудачи, ну а по большому счету, никакой стабильности. Помнишь, как ты сказала мне, что чуть ли не в самом начале он весело заявил, что на трех последних фильмах он понес убытки? «Зеркала» неожиданно оказались удачей, эта малобюджетная прелестная картина принесла ему «Оскара». Представляешь, внезапно, буквально за одни сутки, на Вито обрушился ошеломляющий успех. Может быть, дело в этом? Он боится, что все вдруг изменится, боится принять вызов?
— Значит, страх вызвал злость, а она породила низость… по отношению ко мне? Мелочную, подлую низость? Может ли успех быть этому причиной? Разве это логично?
— Не знаю. Я совсем не знаю Вито. У Дэвида наверняка была бы другая реакция, я ведь просто задаю вопросы, пытаюсь рассуждать.
— Нет. — Билли решительно покачала головой. — Вито всегда был бесстрашным. Первое, что я в нем заметила, это бесстрашие. Он человек, который никогда не боялся никаких «если», он всегда действовал. Именно так он работает над «Стопроцентным американцем» — только вперед, без оглядки, он чувствует, что его час наконец настал. Нет, это не страх, жаль, что все не так просто. Тогда я смогла бы понять его.
— Возможно, мы никогда не узнаем, что с ним происходит, человек — не животное, которое общается лишь с ему подобными, — уклончиво ответила Джессика. Она была слишком сердита на Вито и боялась, что если продолжит рассуждения на его счет, то может не удержаться и сказать такое, чего Билли ей никогда не простит. — Расскажи мне подробнее о Джиджи.
— Я вижу, что она очень печалится о матери, хотя старается занять себя разными делами, так что кто-то другой может этого и не заметить, — медленно начала Билли. — Еще очень не скоро она оправится от этой потери… бывает, что это не проходит всю жизнь. Я не помню своей матери, но испытываю огромное уважение к матери Джиджи… Она приучила девочку полагаться только на себя, не рассчитывать на других, воспитала прямой, открытой, научила интересоваться происходящим вокруг, быть самой собой со всеми. С первого же дня Джиджи вписалась в новую школу. Она уже стала всеобщей любимицей, и, слава богу, мальчики пока ее не интересуют. Так что беспокоиться пока рано.
— Только не спрашивай у меня совета относительно подростков, — перебила ее Джессика. — Каждый из моих собственных детей представляет уникальный, неповторимый набор проблем, и это ужасно. Они непременно должны познакомиться с Джиджи, возможно, это приведет их в чувство.
— Постой, Джесси! Ведь Дэвид-младший будет как раз подходящего для Джиджи возраста, нет, не сейчас, а к тому времени, когда она начнет обращать внимание на мальчиков? Они могли бы пожениться, иметь кучу детей, а мы бы стали счастливыми бабушками!
— Если только она согласится избавить меня от Дэвида, считай, что дело решенное, — засмеялась Джессика, радуясь, что Билли хоть ненадолго отвлеклась от своих проблем с Вито. Она встала и пошла приготовить еще чаю, вспоминая, насколько была обеспокоена решением подруги выйти замуж за человека, которого та знала всего неделю. Недаром говорят: знать бы, где соломки подстелить!
Летом прошлого года, во время работы Вито над «Зеркалами», когда Билли, чувствуя себя чужаком на съемочной площадке, была так несчастна, Джессика глубокомысленно внушала ей, что компромиссы в семейной жизни неизбежны, даже приводила цитаты из Эдмунда Берга. Но теперь, в бешенстве думала Джессика, она не станет советовать Билли пойти на компромисс с человеком, который, по словам самой Джиджи, за всю ее недолгую жизнь почти не уделял ей времени. Если ему было наплевать на своего первого ребенка, почему вдруг он станет хорошим отцом ребенку Билли? Да он просто грубый подонок, если оскорбил ее в такой сложный период ее жизни. Почему Билли, в отличие от нее, так спокойна? Или она подсознательно сдерживает гнев, чего не сделала бы в другое время, потому что беременна от этого сукина сына и не хочет признаться, что дела неважные?
Если бы она могла быть откровенна с подругой до конца, подумала Джессика, выключая чайник, то пришлось бы сказать ей, что Вито на поверку оказался дерьмом и повел себя как подонок именно из-за успеха, а не потому, что испугался его. Ей пришлось бы сказать, что он вел себя пристойно, пока был никем, а теперь, возвысившись над другими, почувствовал себя вправе дать волю злости и обиде за то, что Билли так богата. Не много найдется мужчин, если вообще таковые имеются, которые, женившись на женщине намного богаче себя, не говоря уж о такой богатой, как Билли, могут вести себя достойно. Но нет, она не скажет ей этого. Ведь, может быть — а вдруг? — она ошибается и все будет хорошо. Может быть, «Оскар» здесь ни при чем.
— Билли, тебе ментоловый или ромашковый?
— К черту осторожность. Сделай мне эспрессо, дорогая. Но, конечно, без кофеина.
По отношению к Санди Стрингфеллоу, секретарше Вито, Джози Спилберг вела себя весьма осторожно. Санди работала у Вито семь лет — почти столько же, сколько и Джози у Билли, но в общении между собой они соблюдали все тонкости протокола, принятого у послов соседствующих стран, живущих в мире и согласии, однако же зорко следящих друг за другом на случай малейшей группировки сил и каких бы то ни было посягательств на суверенность границ. Обе проявляли полную — даже чрезмерную — лояльность к своим боссам, а потому не возникало и почвы для сплетен, которые обычно делали позиции мафии голливудских секретарш столь сильными. Но тем не менее даже без специальных на то распоряжений они держали друг друга в курсе относительно местонахождения Вито и Билли. Секретари Голливуда должны знать, где при необходимости можно найти нужного человека в любое время суток, и поэтому, переговорив с Билли после ее прибытия в Нью-Йорк, Джози позвонила Санди и сообщила, что ее хозяйка пробудет там еще несколько дней.
— Покупает одежду на период беременности? — поинтересовалась Санди.
— Полагаю, миссис Орсини закажет ее в «Магазине Грез», — невозмутимо ответила Джози.
— Действительно, почему бы и нет? — съехидничала Санди.
— Если бы я уже не вышла из этого возраста, то в случае беременности непременно сделала бы то же самое.
— Жду не дождусь, когда можно будет не думать об этом, как тебе, Джози. До смерти надоело всякий раз беспокоиться, как бы не залететь, даже с таблетками.
— Не вешай нос, уже недолго осталось волноваться. Год-два, ну максимум три, верно?
— Я тебе это припомню. Пока, Джози, не пропадай.
Через три дня Джози вновь позвонила Санди и сообщила, что Билли приезжает вечером.
— Миссис Орсини планирует вылететь где-то после ужина, так что, даже учитывая разницу в три часа, она будет поздно. Она просила меня остаться на ночь с Джиджи. Думаю, она не хочет, чтобы мистеру Орсини пришлось ее дожидаться. Во всяком случае, она ничего не сказала.
— Его все равно не будет. Он ужинает с Мэгги Макгрегор.
— Хорошо. Пока, Санди.
Джози положила трубку, отметив, что небезынтересно было узнать — для разнообразия, — где на этот раз ужинает мистер Орсини. С тех пор, как Билли уехала в Нью-Йорк, он еще ни разу не ужинал дома, хотя не предупреждал об этом Жан-Люка, и тот каждый день готовил и на него. Во время отсутствия Билли каждое утро, спускаясь к завтраку, Джози обнаруживала, что Вито уже уехал в офис. Один раз он зашел, чтобы сказать два слова Джиджи, но в остальные вечера она не видела, когда он возвращался домой, по крайней мере до того, как устраивалась смотреть телевизор, пока Джиджи готовила уроки в своей комнате. Служанка, убирающая наверху, сообщила ей, что мистер Орсини перебрался из супружеской спальни в одну из комнат для гостей, а их в доме слишком много, так что Джози с ним не сталкивалась.
Хотя миссис Орсини никогда не говорила об этом, но, должно быть, она плохо спит, подумала Джози. Родители Джози всегда спали в разных комнатах, за исключением разве что медового месяца: отец слишком громко храпел. Насколько она себе представляла, спальни королевы Англии и принца Филиппа располагались вообще на разных этажах Букингемского дворца. Даже для королевских особ такое положение выглядело несколько странным, но раздельные спальни, по ее мнению, — это была роскошь, которую она понимала и одобряла, неважно, крепкий ли у человека сон или нет. И Джози пришла к выводу, что ничто так не сохраняет романтический элемент в браке, как раздельные спальни, и еще, пожалуй, раздельные ванные. Если бы она была замужем, то обязательно настояла бы на раздельных ванных, ради этого можно пожертвовать и гардеробной.
Как только Вито узнал, что Билли улетела в Нью-Йорк, он тут же позвонил Мэгги и пригласил ее поужинать. Он не собирался вечером садиться за стол с Джиджи и Джози и разыгрывать из себя папочку, не испытывал желания есть в одиночку, у него на этот вечер не было запланировано никаких других встреч, и он всегда мог рассчитывать, что Мэгги угадает его настроение и не станет задавать вопросов, на которые он не хочет отвечать.
Они отправились к Доминику, в темный, прокуренный, тесный, неудобный, ничем не примечательный ресторан-гриль, даже без вывески над дверью, который был одним из самых засекреченных злачных мест в Голливуде. Меню у Доминика разнообразием не отличалось: подавали несколько видов бифштексов и рубленого мяса, хотя изредка любимый завсегдатай мог получить и жареного цыпленка. Все знали, что мятые скатерти на столах когда-то были в красно-белую клетку, что здесь платили либо наличными, либо имели персональный счет, и если ты не постоянный клиент, заранее заказов на столик не принимали; после посещения этого заведения волосы пропитывались запахом пищи, а в голове возникал вопрос, почему ты пошел именно сюда, но тем не менее каждый вечер у Доминика собирались завсегдатаи, среди которых встречались и известные в Голливуде лица, а вот посторонних здесь никогда не было. Подобно «Поло-Лаундж», это было некое место, где о твоем приходе наверняка становилось известно, и, когда Вито и Мэгги появились здесь три дня подряд, никому, даже Доминику, или, как его называли, Дому, это не показалось странным. Здесь нельзя было заниматься тем, чем тебе не положено, потому что это место являлось частью деловой и профессиональной индустрии города, и по этой причине предполагалось, что встречи Вито с Мэгги Макгрегор могут объясняться только прагматичными соображениями…
Так, по крайней мере, по мнению Вито, рассуждали люди. В первый же вечер после совместного посещения Дома, Вито зашел к ней выпить, и тогда же они возобновили отношения, из-за которых осенью 1974 года она задержалась в Риме на две недели, объяснив это записью интервью для журнала «Космополитэн». Уже во время ужина они оба знали, что это произойдет, и свободная откровенная атмосфера, всегда царившая у Дома, лишь усиливала их уверенность. Вопросов и ответов им не требовалось.
Еще с того раза, когда Мэгги впервые разделась перед ним, Вито запомнил ее бьющую через край эротичность. За прошедшие четыре года, с тех пор, как он последний раз видел ее обнаженной, она научилась одеваться, но любвеобилие ее от этого не уменьшилось. Груди ее остались такими же полными и тяжелыми, округлая, аппетитная попка — мягкой и гладкой. Мэгги удивительно быстро достигала оргазма и затем настойчиво требовала, чтобы он взял ее быстро и грубо, без слов поощряя откровенными движениями, отдавая без остатка свое жаждущее, готовое принять его тело. Для Вито заниматься любовью с Мэгги было все равно что находиться в постели с первоклассной проституткой, с ней он испытывал оргазм чаще, чем с Билли, именно потому, что мог удовлетворить ее быстро, уделяя минимум внимания, не расходуя себя на предварительные ласки. В перерывах между любовью они могли сплетничать, бездумно смеяться и вести себя по-товарищески бесцеремонно, и ему это нравилось, так как придавало особую остроту сексу. Они обходились без нежностей, которые неизменно присутствуют, если люди влюблены. Но главное, основное чувство, которое никогда не покидало Вито, — безграничная уверенность в том, что, если он захочет и когда он захочет, мягкие губы Мэгги всегда окажутся там, где надо, стоит ему лишь положить ей руку на шею и потянуть вниз. И ей нравилось, что он поступает именно так, она любила это делать и тогда, когда он был готов войти в нее, и когда его возбуждение было недостаточно, и она с радостью доводила его до нужного состояния. Воспоминание о ее постоянном желании и готовности доставить ему удовольствие приводило его в возбуждение в течение дня, порой в самое неподходящее время, и тогда желание становилось острым и настоятельным, причиняло неудобства. Такого с ним не случалось уже давно, со времени окончания школы. Одним словом, лечь в постель с Мэгги Макгрегор не представляло никаких проблем, и именно это, как считал Вито, делало весь процесс столь невыносимо притягательным.
Когда Санди сообщила ему, что Билли возвращается в Калифорнию поздно вечером, он уже знал, что будет у Мэгги. Поскольку однообразная кухня Доминика уже порядком надоела, они сегодня решили поужинать у нее дома. Сидя за столом, он размышлял, как ему потом поступить: уйти потихоньку, пока Мэгги спит, как он делал перед этим, и вернуться домой в комнату для гостей на Черинг-Кросс-роуд, где он по-прежнему ночевал, одевался и завтракал, поздно или же прийти домой в разумное время. В Голливуде любой, кто ужинал не дома, под «разумным» временем понимал одиннадцать, самое позднее одиннадцать тридцать. Люди здесь не засиживались в ресторанах, как в больших городах всего цивилизованного мира. Ужинали обычно не позднее половины восьмого, а приемы и вечеринки заканчивались вскоре после одиннадцати; даже с больших приемов, устраивавшихся в уик-энды, где веселились от души, гости, как правило, расходились не позже полуночи.
Вито не знал, как поступить. Если он вернется домой к половине двенадцатого, то, вероятно, столкнется с Билли, если это произойдет, то придется разговаривать, а если они начнут разговаривать, то неизвестно, чем это закончится. Если же он вернется в три утра, то объяснения не потребуется, оно будет очевидным. Может, за день и случится нечто такое, что заставит его принять решение, подумал он, а пока лучше оставить все, как говорится, на волю богов, если они существуют. И, успокоившись на этом, Вито снял трубку телефона, по которому его терпеливо вызывала Санди.
Когда Билли наконец вошла в спальню, часы уже показывали девять. Вито дома не было, да она и не имела желания узнавать, где он. Полет прошел хорошо, она просто сидела и читала, но, приехав домой, почувствовала себя настолько усталой и опустошенной, что не могла даже зайти к Джиджи. Она была слишком измотана, и у нее хватило сил лишь на то, чтобы раздеться, натянуть ночную рубашку и забраться в постель. В Нью-Йорке уже полночь, подумала Билли, но ее организм жил по своим особым часам, и для него наступило такое время, когда силы были на исходе. Неужели такой пустяк, как трехчасовая разница, может вызвать подобную реакцию? — удивилась она и погрузилась в сон.
Через несколько часов — было еще темно — она вдруг проснулась, проснулась внезапно, как от дурного сна, с убежденностью, что с ней что-то не так. Сердце бешено колотилось. Сев на постели, она секунду настороженно прислушивалась: может, в доме пожар? Просидев так еще несколько минут, она с ужасом почувствовала, как в животе нарастает глухая, словно скручивающая боль. Крепко обхватив себя руками и согнувшись, Билли сжалась. Боль постепенно утихла. Теперь Билли знала, что заставило ее проснуться, и волна страха заставила ее вскочить с постели и зажечь свет. На простыне она увидела пятна крови, и в животе опять нарастал приступ боли. Глухо застонав, она закрыла глаза и опустила голову, подождала, пока боль пройдет и она снова сможет двигаться. Надо срочно в больницу. Вито! Но она не знает, где он. Сделав несколько шагов, она по интеркому набрала номер Джиджи.
— Алло… алло, кто это? — послышался в трубке сонный голос.
— Джиджи, это я, Билли. Я вернулась, но у меня беда. Разбуди по интеркому того, кто отвозит тебя в школу, и скажи, чтобы немедленно подогнал машину. Мне надо в университетскую больницу, ты поняла? Скажи, что поедем в больницу при университете, она ближайшая.
— Я сейчас приду, Билли!
— Нет, Джиджи, не надо. Я не хочу!
— Билли, наденьте тапочки и теплый халат. — И взволнованная Джиджи положила трубку.
Через минуту, когда Билли была в ванной и одевалась, она услышала, как Джиджи вошла в спальню.
— Вам нужна моя помощь?
— Нет, я сейчас.
Выйдя из ванной, она увидела, что Джиджи стоит уже одетая, в джинсах и свитере.
— Обопритесь на меня. Берго уже ждет внизу. Думаю, ему незачем подниматься сюда.
— О, Джиджи, Джиджи, у меня, наверное, выкидыш.
— Еще рано говорить. Пойдемте осторожно, нам надо спуститься вниз и добраться до врача.
— Господи, ну почему это случилось?
— Пойдемте, Билли. Вот так, потихоньку. Опирайтесь на меня, я сильная.
— Постой… постой… Я не могу идти. Так… сейчас лучше. Давай скорее, пока не начался новый приступ.
Вместе они довольно быстро спустились по лестнице и прошли через дом, остановившись всего раз, чтобы переждать еще один приступ боли. Как только они вышли, сразу же подбежал Берго и помог Билли сесть в машину. Джиджи устроилась рядом, обняв ее за плечи. Через несколько минут они были уже в отделении неотложной помощи университетской клиники. Но хотя они не потеряли времени и приняли необходимые меры, чтобы предотвратить выкидыш, через час все было кончено. Прибывший вскоре доктор Вуд, личный врач Билли, уже не смог ничего сделать, ему оставалось лишь констатировать факт.
— Но почему, почему? — снова и снова спрашивала Билли сквозь слезы.
— В этом нет ничего необычного, миссис Ор-сини. Срок был небольшой, всего три месяца, может, неделей больше. Если происходит выкидыш, то чаще всего это случается в первые три месяца. Что совсем не говорит о вашей неспособности иметь детей в будущем. Значит, была какая-то причина, чтобы эта беременность прервалась. Доктора считают, что таким образом природа исправляет ошибку.
— О господи, — только и могла вымолвить Билли. Зачем только она задавала этот вопрос?
— Если у вас есть силы, то я посоветовал бы вам сесть в «Скорую помощь» и вернуться домой. Больница подействует на вас угнетающе. Я пришлю сиделку. Полежите несколько дней, и все будет в порядке.
— Не стоит просить «Скорую помощь». Со мной Джиджи, и Берго ждет. Они привезли меня сюда, отвезут и обратно.
Доктор пристально взглянул на девочку. Она по-прежнему крепко держала руку Билли в своей, и никто не смог уговорить ее оставить Билли.
— Прекрасно, миссис Орсини, но пробудьте здесь по меньшей мере еще час. Я подожду на улице, и мы вместе поедем к вам домой. Кто эта юная леди, позвольте спросить?
— Моя дочь, — без колебаний ответила Билли.
— Слава богу, у вас уже есть дочь и наверняка еще будут дети. Вам только тридцать пять.
— Да, — согласилась Билли, — дочь у меня есть…
4
Вернувшись домой из больницы, Билли погрузилась в глубокий сон. Изредка она открывала глаза в полудреме, но потом вновь засыпала. В течение следующих двух дней она несколько раз звонила, чтобы принесли апельсиновый сок и тосты с джемом, иногда читала, но усилием воли заставила себя ни о чем не думать и погрузиться в полузабытье, которое стало для нее душевным убежищем. Лежа на прохладных простынях, она ничем не отягощала свою память, даже несколько прочитанных страниц книги тут же забывались. Ее крепкий организм быстро восстанавливал свои силы.
Спустя два дня, глубокой полночью, Билли вдруг проснулась и открыла глаза. Спать совсем не хотелось, и, почувствовав себя вполне окрепшей, она поняла, что больше не может оставаться в постели ни минуты. Она встала и, подойдя к окну, выглянула наружу. В ночном безоблачном небе сияла полная луна, дорожки сада, подсвеченные скрытыми фонарями, светлыми ленточками убегали вглубь, пропадая между темными очертаниями деревьев и кустов. Билли торопливо натянула свитер, брюки и плащ, надела непромокаемые ботинки и, прихватив ключ, вышла на улицу. Она решила, что небольшая прогулка по саду поможет прогнать неожиданно наступившую бессонницу, и она снова заснет до утра.
Медленно выйдя на террасу, она чутко прислушивалась к себе и с радостью поняла, что двигаться ей не трудно, а даже приятно, больше того — необходимо. Она пошла увереннее, потом ускорила шаг, с удовольствием ступая на пропитанную росой дорожку, глубоко вдыхая влажный океанский воздух. Дорожка проходила вдоль внешних границ ее участка, мимо лужаек, извивалась между грядками и теплицами, огибая теннисный корт и бассейн. Иногда кивая головой попадавшимся по пути охранникам, Билли направилась к потаенному саду, ключи от которого находились только у нее и Гэвина, главного садовника.
Через десять минут она уже отпирала деревянную дверцу в каменной стене, скрытой среди обступивших ее кипарисов. Это был необычный сад: в любое время года здесь росли только белые цветы. Сегодня ночью распустились первые весенние розы, распластав вдоль высокой каменной стены буйные зеленые побеги, переплетающиеся местами с диким виноградом и уже пышно цветущими жасминовыми ветками. Этот небольшой квадратный сад был специально разбит Расселом Пэйджем по ее просьбе. Впервые она побывала в белом саду в замке Сиссингхерст, в Кенте, куда приезжала ранней весной еще с Эллисом Айкхорном. Там, в Англии, она увидела единственные цветущие в то время года цветы — клумбу огромных белых анютиных глазок с ярко-лиловыми сердцевинами. Их необычная красота глубоко поразила ее — гораздо сильнее, нежели просто сад, пышно цветущий в середине лета.
Билли закрыла калитку и прошла в глубину, минуя чередующиеся волны бурачков и примул, окинув взглядом нарциссы, ирисы, тюльпаны, нежные анемоны и цикламены — все весенние цветы, которые под лунным светом словно светились изнутри. Почувствовав легкую усталость, она с удовольствием присела на старую деревянную скамейку, почти скрытую разросшимся кустом глицинии. Эта скамейка была ее самым любимым местом, она приходила сюда, когда хотела побыть одна, подальше от людей, не слышать телефонных звонков, шума, суеты.
Только сейчас Билли осознала, как давно не была здесь. Она вспомнила, что, когда последний раз сидела на скамейке, садовники еще не подрезали розы, как они это обычно делали после Рождества, теперь же их едва распустившиеся белоснежные бутоны уже слегка покачивались на длинных стеблях. Конец апреля — самое благодатное время, и скоро, передохнув после короткой калифорнийской зимы, которая длится всего три месяца, они зацветут в полную силу, источая нежный аромат.
Розы говорили ей о том, что подсознательно давно зрело в ней: настало время остановиться и задуматься, а неподвижность — самое нетипичное ее состояние. Пришло время основательно пересмотреть свою жизнь, а не продолжать мчаться вперед, время сбросить защитную пелену и вернуться в реальность.
Начни сначала, мысленно сказала она себе, начни с приема у Сьюзен Арви, который она давала всего год назад в «Отеле дю Кап»; с того момента, как ты познакомилась там с Вито Орсини и влюбилась в него; вспомни короткие часы его настойчивого ухаживания, и как быстро ты объявила о своем желании выйти за него замуж; вернись к обеду, где ты вела себя столь решительно, что потом он без колебаний ответил согласием. «А помнишь ли ты, — спросила себя Билли, — ваше возвращение домой? Одиннадцать часов полета, самый продолжительный отрезок времени, проведенный вместе до тех пор, пока… да, самый продолжительный отрезок времени, когда мы были вдвоем».
В тот же день, когда они вернулись из Канн, Вито с головой ушел в работу над «Зеркалами». А уже через полтора месяца, прошедших в бешеном темпе, когда был почти готов сценарий и утвержден актерский состав, он уехал отбирать натуру для съемок и оставил ее одну. Как только Вито определился с натурой, она тут же приехала к нему, и сразу же начались эти доводящие до исступления своей рутиной, сводящие с ума лихорадочным бешеным темпом съемки фильма, наполненные спешкой, суетой и ожиданием. Она увидела и почувствовала, как Вито почти не замечает ее, не обращает на нее внимания, едва терпит ее присутствие, и то лишь в том случае, если она не слишком досаждает ему. И тогда, охваченная яростью и жалостью к самой себе, она, как всего несколько дней назад, полетела к Джессике в Нью-Йорк.
Но все остальное время между этими поездками, когда Билли могла пожаловаться и выплеснуть свои проблемы на терпеливую Джессику, ее мучил вопрос, повергавший в тоску и отчаяние: во что же она превратила свою жизнь? Она успела подружиться с Долли Мун, наблюдала, почти не вмешиваясь, как Спайдер и Вэлентайн умело руководили и вели дела в «Магазине Грез», прекрасно обходясь без нее, и была девочкой на побегушках при завершении сценария «Зеркал», когда в ее доме заканчивалась работа над фильмом. Тогда ей пригодился опыт секретарской работы, и участие в создании окончательного варианта сценария было, пожалуй, ее единственно полезным делом за год. Это и еще то, что, потребовав нанять пресс-агента для Долли, Билли невольно помогла подруге встретить Лестера Уайнстока. Кроме этого, похвастать больше нечем, разве что еще тем, что она помогла Джиджи. Но в реальности именно Джиджи пришла ей на помощь.
Долгие, казавшиеся бесконечными месяцы она проявляла терпение и временами теряла его, но, если у Вито выдавалась свободная минута, всегда была рядом. Она поддерживала его, подбадривала, развлекала — одним словом, была преданной, любящей женой, чья жизнь неразрывно связана с успехом мужа, и в то же время… полным ничтожеством. Он смотрел на нее как на удобную подпорку, не больше, а то и как на досадную помеху. С первым еще можно было смириться, но со вторым…
Получалось, что Вито был ей не мужем, а скорее постояльцем, который, снимая комнату в очень дорогом престижном пансионе, иногда занимался любовью с хозяйкой, правда, особенно не задерживаясь, но зато добросовестно и со знанием дела. Этого у него не отнимешь. В постели он был великолепен, если находил время и если они отключали телефон. Почему, когда он сразу же после этого вновь включал его, она никогда не возражала? А как она просила, уговаривала его пойти с ней в белый сад, ну хотя бы раз! Но он не мог выкроить даже полчаса, хотя больше и не потребовалось бы. Почему она не настояла и не привела его сюда?
Почему, почему… Бесполезно теперь задавать этот вопрос, анализировать, что сделала неправильно она, а что он. Надо просто признать, что ее чувство к Вито было не любовью, а страстным, безрассудным увлечением. Если бы она любила его, то не сидела бы сейчас здесь, анализируя свое прошлое. Если бы любила, то не думала бы о нем так хладнокровно и равнодушно, не испытывая ничего, кроме презрения. Увлечение прошло, осталась лишь боль в сердце, опустошенность и душевная рана. Как тогда образно выразилась Джессика, ее страсть не что иное, как «безрассудное сумасбродство». Да, действительно, по-другому и не назовешь, спокойно заключила Билли. Верно говорят: каждый в жизни должен съесть положенную ему ложку дегтя, и, как ей представлялось, каждый должен хоть раз переболеть подобным увлечением. Она только жалела, что это не случилось с ней раньше, когда ей было четырнадцать, а не тридцать пять.
Но есть одно «но». Его дочь. Джиджи. Билли вдруг почувствовала, как ее охватил безудержный гнев. Она больше не могла сидеть спокойно. Она встала и, сорвав розу, быстро пошла по дорожке вокруг цветочных клумб, дрожащими пальцами обрывая и бросая лепестки в маленький фонтанчик. Джиджи. Отношение Вито к ней непростительно, такое не забывается и не прощается. Даже сейчас она словно не существовала для него, он всего раз или два разговаривал с ней по телефону. Здесь не может быть никаких «но», никаких смягчающих обстоятельств, никаких оправданий. Только богу известно, что случилось бы с Джиджи, не будь у нее такой великолепной, мужественной матери. Да, Вито очень занят, поглощен своей карьерой, но разве можно этим объяснить столь пренебрежительное отношение к дочери? Единственное объяснение — не оправдание, а именно объяснение — заключается в том, что Вито, по большому счету, просто плохой человек. Плохой человек и плохой отец. Хороший, порядочный человек не обязательно обладает качествами, делающими его хорошим отцом, но порядочный человек не позволит себе быть плохим отцом.
Выйдя через деревянную калитку в каменной ограде, Билли заперла ее и самым коротким путем направилась к дому, не замечая мягкого лунного света, пробивающегося сквозь ветви старых деревьев, не обращая внимания на аллеи, пруды, поляны, кустарниковые изгороди и лужайки, мимо которых проходила. Она приняла решение и теперь почти бежала, сгорая от нетерпения осуществить его. Когда будет прилично позвонить Джошу Хиллману? Сейчас почти четыре часа утра, ее адвокат всегда встает рано. Но все равно придется ждать по крайней мере еще несколько часов, прежде чем она сможет позвонить ему и дать указание начинать бракоразводный процесс, а самое главное — готовить документы, которые позволят ей стать законным опекуном Джиджи. По законам Калифорнии на развод уйдет шесть месяцев, и в октябре следующего года она, слава богу, вновь станет Билли Айкхорн. Часы ожидания послужат хорошей проверкой ее выдержки, но, по крайней мере, в главном она была уверена: Вито не окажет сопротивления. Не посмеет.
* * *
Весь следующий год Билли была всецело занята созданием новых «Магазинов Грез» в Нью-Йорке и Чикаго. Сдержав данное себе слово, она сделала Спайдера и Вэлентайн своими партнерами. Их вкладом в дело был только их талант. Так она показала, насколько ценит своих друзей, получив наконец возможность достойно отблагодарить их за помощь, которая принесла «Магазину Грез» в Беверли-Хиллз такой успех. Кроме того, она хотела быть уверенной, что ее завистливым конкурентам никогда не удастся переманить их. Правда, Джош Хиллман утверждал, что с юридической точки зрения у нее не было нужды проявлять подобную щедрость, но Билли стояла на своем, а кто, как не Джош, знал лучше, что спорить с ней бесполезно.
Теперь, чтобы магазины как можно быстрее начали работать, Спайдер проводил буквально дни и ночи с архитекторами и дизайнерами, которых наняла Билли. Для частых командировок в Нью-Йорк и Чикаго он пользовался ее самолетом: Спайдер предпочитал лично убедиться, что основная концепция «Грез» — идеальное место для покупателя, огромный выбор, неисчерпаемый источник, способный удовлетворить все вкусы и желания, как реальные, так и самые фантастические, — соблюдались до мельчайших деталей. У Вэлентайн же теперь был целый штат закупщиков, которые помогали ей отбирать лучшее из европейских коллекций, но окончательное решение при отборе моделей в Париже, Милане и Лондоне принадлежало ей. Покупатели «Магазина Грез» отдавали предпочтение готовым вещам европейских модельеров, и, будучи строгой и требовательной в своих оценках, Вэлентайн никому не могла доверить такие важные центры моды. Присутствие ее и Спайдера также часто требовалось в магазине на Беверли-Хиллз: она рисовала эскизы моделей на заказ, а самые важные клиенты требовали одобрения Спайдером своих наиболее дорогих приобретений и не могли обойтись без его решающего совета.
Поскольку Билли решила открыть сеть филиалов и за границей, ей самой теперь часто приходилось бывать в Европе, на Гавайях и в Гонконге. Она вкладывала огромные суммы денег, приобретая наиболее престижно расположенные торговые точки, где немедленно приступали к перепланировке для будущих «Магазинов Грез». Она была настолько занята, что, возвращаясь в Калифорнию, старалась как можно больше вечеров проводить с Джиджи, хотя время от времени заставляла себя ходить в гости. А о том, чтобы познакомиться с новым привлекательным мужчиной — если вдруг такая редкая пташка ненароком залетит в Лос-Анджелес, — у нее не было и мысли. Эмоционально Билли ощущала себя так, словно оказалась в комнате с идеальной для жизнедеятельности температурой и с облегчением уединилась в ней. Если процесс ее душевного выздоровления продолжался, то она о нем не знала: Билли считала, что ее брак с Вито изначально был настолько непрочным и безосновательным, что никакого выздоровления после него не требуется. В душе осталась скорее пустота, нежели горечь. Открытая связь Вито с Мэгги Макгрегор ее не волновала, а это — верный признак, что она им переболела. Само сердце ее, казалось, высохло, теперь она довольно скептически рассматривала саму возможность супружеского счастья, но рассудок подсказывал ей, что в своем решении она не ошиблась. Относительно безболезненно расставшись со своим и Вито Орсини общим прошлым, она всецело погрузилась в интересную и увлекательную деятельность — расширение своей торговой империи.
Спайдер и Вэлентайн не хватало времени, чтобы подыскать подходящее жилье, поэтому Спайдер продал свою холостяцкую квартирку и переехал в квартиру Вэлентайн в Западном Голливуде. Примерно раз в два месяца Вэлентайн сетовала, что они не живут нормальной семейной жизнью, как порядочные буржуа, что специи ее сохнут и теряют запах и что она не готовила ему настоящее жаркое в горшочке с тех пор, как уехала из Нью-Йорка. Спайдер же, напротив, был очарован жилищем, где Вэлентайн воссоздала неповторимую атмосферу своей манхэттенской квартиры, в которой он впервые ее увидел. Все годы, что они были просто любящими друзьями, а не любовниками, они изливали там друг другу душу и делились своими амурными разочарованиями.
Та крошечная квартирка с мебелью, обтянутой выцветшим розовым с белым шелком, ее полумрак, светильники с красными колпачками, записи песен Эдит Пиаф, исполненные тоски и страдания, которые так часто звучали там, всегда напоминали ему Париж. Теперь в Лос-Анджелесе у него тоже был кусочек Парижа, место, где можно представить, что ты в Париже, и самой подлинной и неповторимой его принадлежностью была Вэлентайн — колдунья с зелеными глазами, в которых искрилась фантастическая, причудливая, непредсказуемая жизнь; Вэлентайн, с удивительным, неуловимо меняющимся выражением лица и шапкой мягких, мелко вьющихся медных волос. Он до конца дней готов есть в ресторанах и покупать готовую еду, уверял жену Спайдер, ведь он женился на ней не из-за ее кулинарных талантов — во всяком случае, не только из-за них — и уж, конечно, не для того, чтобы жить, как буржуа. И вообще, вопрошал Спайдер, чего ей не хватает, ведь оба они напрочь лишены того, что подразумевается под буржуазностью? Комфорта, отвечала Вэлентайн, размеренной жизни, ощущения надежности и защищенности. Вовсе не этого полубогемного существования, не постоянных разъездов и, уж конечно, не готовых к употреблению магазинных продуктов.
Впервые зрители смогли увидеть «Стопроцентного американца» в конце апреля 1979 года. Сьюзен Арви раздобыла копию картины для предварительного показа на вечере Женской лиги. Цена билета доходила до пятисот долларов. Подобного рода мероприятия, проводившиеся ежегодно и неизменно существенно пополнявшие фонды лиги, начинались, как правило, с официального ужина, за которым следовала премьера фильма, еще не получившего рекламы, не разжеванного критикой, но отнесенного уже к разряду самых значительных. Приглашения раскупили мгновенно, поскольку каждый, кто взял на себя труд прочитать роман — а в числе их оказались все, кто так или иначе следил за литературными новинками, — жаждал, естественно, увидеть и фильм, съемки которого проводились при столь скромной рекламе, что любопытство алчущих от этого только усиливалось.
Когда торжество было наконец позади, Сьюзен, собравшись смыть перед зеркалом макияж, поймала себя на том, что машинально до сих пор напевает мелодию из только что виденной ленты. Освободив от шпилек длинные, от природы светлые волосы, уложенные в пучок, чья элегантная простота неизменно выделяла ее в городе, полном женщин с крашеными, завитыми, взбитыми волосами, она тщательно изучала в зеркале свое отражение, вглядываясь в него столь же пристально, как и перед премьерой, — по неписаному, но строгому правилу ее макияж по возвращений домой должен был оставаться столь же безупречным, как перед самым выходом. Разочарование ее не постигло — в чем она, собственно, не сомневалась, хотя никогда не упускала случая лишний раз убедиться в своей привлекательности — столь совершенной и непогрешимой, что нередко и подлинные красавицы казались рядом с ней грубоватыми или блеклыми. Ее черты, мелкие, тонкие, изящно вылепленные, подчеркнутые нежным овалом лица, достались ей от матери, актрисы из Миннесоты, которой кровь нескольких поколений шведских предков позволила в свое время быть одной из немногих натуральных блондинок, попадавших когда-либо под голливудские небеса.
В свои сорок лет Сьюзен выглядела как женщина, чью тридцать пятую весну скрывало не самое близкое будущее; но уже в полную силу давали знать о себе ум и воля к власти — наследство отца, Джо Фарбера, грозного некогда владыки индустрии большого кино. Сьюзен была его единственной дочерью, ребенком от второй жены; она родилась, когда Джо было уже около шестидесяти. Родители с детства готовили ее к трону — еще совсем ребенком слышала она от отца невероятные истории о золотых днях Голливуда; мать, с готовностью оставившая ради нее свою мало кем замеченную карьеру, неустанно следила за тем, чтобы ее малышка извлекала из своего положения престолонаследницы всю возможную выгоду. Искусству хозяйки Сьюзен обучали с утонченностью, достойной по меньшей мере герцогини Виндзорской, и с постоянством монаршей воли внушали ей мысль о том, что следует выйти замуж как можно скорее, выгодно и ни в коем случае не за «ушибленного талантом».
Поэтому в девятнадцать она приняла предложение Керта Арви, тридцатитрехлетнего сына владельца студии, сделавшего к тому времени в отцовском предприятии стремительную карьеру. И сейчас, более двадцати лет спустя, Сьюзен располагала всем необходимым для того, чтобы держаться на самом верху голливудского общества. Она была одной из самых почитаемых и заметных фигур в кинобизнесе. Приглашение на любой из ее официальных приемов, на которых еда и напитки подавались в бесценных сервизах китайского фарфора, доставшихся ей от матери, автоматически обеспечивало удостоившейся паре место в кругу, который здесь, в Голливуде, вполне мог считаться чем-то вроде двора ее величества. Но с этого момента жизнь неофитов проходила под дамокловым мечом, потому что после нескольких лет самой интимной дружбы Сьюзен могла неожиданно и полностью разорвать отношения без каких-либо объяснений. Собственно говоря, она никогда не нуждалась в обоснованиях своих поступков — ей лишь хотелось доказать еще раз неограниченность власти, которой она обладает, — чего, увы, ей не позволялось открыто демонстрировать на площадках студии, принадлежащей ее супругу.
Мог ли кто-нибудь из присутствовавших на сегодняшней премьере заподозрить хотя бы на миг, что, хотя ей было достаточно мановения руки, чтобы получить для себя копию фильма, попытки ее влиять на решения мужа, касающиеся его дел, пресекались немедленно и безжалостно? Об этом думала Сьюзен, продолжая изучать в зеркале свое отражение. После Билли Айкхорн ее гардероб был лучшим в Лос-Анджелесе; ее удар слева был признан самым сильным среди игроков на теннисных кортах Бель-Эйр, а с ее коллекцией импрессионистов не могло сравниться ни одно собрание ни на Восточном, ни на Западном побережьях. И все же сейчас, поворачиваясь перед зеркалом и разглядывая свой профиль, она знала, что видит перед собой женщину, так и не добившуюся того, чего более всего хотела.
Дни ее были заполнены до отказа. Каждое утро в семь — урок тенниса; в восемь пятнадцать она принимала душ, и в половине десятого, бегло просмотрев «Нью-Йорк таймс» и «Лос-Анджелес таймс», она в сопровождении секретаря вступала в двухчасовую баталию с телефоном — обзванивала дам, приглашенных ею на ленч, на благотворительные вечера, на обеды; послеполуденное время целиком уходило на поиск новых нарядов для тех же ужинов, обедов и вечеров, на подгонку вещей уже купленных, за чем следовали изнурительные — и ежедневные — занятия по два часа в собственном гимнастическом зале, заканчивавшиеся сеансом массажа.
И несмотря на эту жизнь, в которой не было ни минуты для уединения или блаженного безделья, разочарование не оставляло ее — ибо правом, ей по наследству доставшимся, была неудержимая тяга к делу, делу, от которого ее отлучили — и не столько из-за ее пола, сколько по воле собственного отца. Когда ей исполнилось двадцать шесть, родителей уже не было в живых; но громадное состояние, унаследованное ею, было помещено под опеку — и с таким расчетом, что прорваться сквозь нее возможности не было. Опекуны же вложили немалую часть ее наследства в студию, перешедшую к тому времени от ее родителя к ее мужу, и, когда Керт наконец обнародовал свои дела, Сьюзен с изумлением обнаружила себя в роли крупнейшего держателя акций собственного супруга. Однако главные, подлинные бразды правления в кинобизнесе от нее ускользнули, поскольку в праве распоряжаться собственными деньгами отец, как выяснилось, ей отказал. Лишь на правах супруги хозяина могла она пытаться хотя бы приблизиться к делам студни — положение, которое даже в самом лучшем случае не могло дать ей равенства, в котором она нуждалась.
Тщательно расчесывая волосы, Сьюзен вновь и вновь задумывалась об этом постоянно терзавшем ее запрете, досадной, изнурявшей, бесившей несправедливости — бессилия, от которого не существовало средства. Положение супруги босса — а, увы, не его самого — заставляло ее всемерно смягчать нараставшие требования, а еще чаще — отказываться от них, за исключением самых главных. Если бы не брак с Кертом, ее деньги обеспечили бы ей признанное, если не главенствующее положение в руководстве; но коли есть нужда сохранить союз с мужчиной упрямым и своенравным — а именно таким был Керт, — приходится оставаться в своих, четко обозначенных рамках — ведь самое невинное ее вмешательство способно было вызвать у него самую яростную обиду. Перспектива развода, однако, никогда не привлекала ее: крепкий брак необходим женщине, вознамерившейся занять место в верхах мира кинобизнеса.
Хотя доходы Керта сейчас далеко превосходили даже самые успешные финансовые сделки ее отца, Сьюзен частенько и с неудовольствием себе напоминала, что цена им — нынешний обесцененный доллар, отец же ее делал деньги в те времена, когда сбережения что-то значили. На двадцать первом году устои совместной жизни супругов Арви начали заметно пошатываться. Керт, разумеется, не мог не замечать странных, хотя и умело скрываемых реакций жены на его решения. Порой они чувствовали себя как солдаты двух враждующих армий, заброшенные волей судьбы на пустынный остров; но их вылазки друг против друга неизменно приносили им гораздо большее удовольствие, чем могли бы дать мирные посиделки у лагерного костра.
За то время, что Вито Орсини пришлось затратить на постановку «Стопроцентного американца» для студии Керта Арви, внимание, с которым Сьюзен наблюдала за его работой, сильно превосходило ее обычные общие замечания. С того дня, как Вито чуть ли не силой увел Билли Айкхорн с приема на фестивале в Каннах, Сьюзен стойко и открыто не доверяла ему. Даже развод Орсини с супругой, несомненно доказывавший ее правоту, не смог вернуть Вито ее былое расположение. Поэтому за каждым этапом его работы над фильмом она следила властно и придирчиво.
Отбросив назад волну длинных светлых волос, Сьюзен направилась в ванную, чтобы умыться на ночь. Радостное волнение, вызванное событиями нескольких последних часов, переполняло ее, — она даже приплясывала на ходу, тихонько напевая про себя мелодию из фильма. Усевшись перед зеркалом и смывая грим, Сьюзен Арви снова и снова сравнивала сегодняшний вечер с другими благотворительными премьерами, на которых ей приходилось бывать. Обед в танцевальном зале отеля прошел, как и было задумано; еда полностью соответствовала надоевшим, но вполне великосветским традициям; обслуживали прекрасно, а дамы, не знавшие толком, как одеться ради такого события, перещеголяли самих себя по части вычурности нарядов — шлейфы их платьев мешали проходу; всеобщий же восторг по поводу фильма вообще превзошел всякие ожидания.
Даже саму Сьюзен немало тронула книга, по которой сняли «Стопроцентного американца». И когда Керт назвал ей невероятную сумму, которую ему пришлось уплатить за авторские права, ответом ему было лишь легкое покачивание головой, означавшее уверенность жены в том, что ее супруга крепко надули. На самом же деле она была рада, что фильм будут делать не конкуренты, а именно его студия. Сюжет романа был сам по себе несложен — и это одно из явных достоинств его, подумала Сьюзен, ровными движениями нанося на лицо слой крема.
Действие в книге разворачивалось на протяжении четверти века, начинаясь в 1948 году, когда этот самый американец, которого звали Джосайя Дафф Сазерленд, прибыл в Принстон. Происходил он из зажиточного семейства с Род-Айленда и среди предков имел нескольких сенаторов, университетских деканов и даже президента Соединенных Штатов Америки.
Сазерленду, ветерану корейской войны, от природы наделенному приятной внешностью, живым умом, доблестным сердцем и добрым нравом, случилось по ходу действия снимать одну комнату с парнем по имени Ричард Романос — отпрыском одной из самых влиятельных и старых семей местной мафии, которого его гордый и властолюбивый отец решил избавить от мафиозного прошлого, уготовив ему место в самых высших аристократических кругах.
Рик Романос, бойкий на язык и пробивной, обладал к тому же умом, дававшим Сазерленду большую фору; тем не менее он и Джош сразу стали друзьями — их, как видно, привлекла друг к другу именно эта разница в характерах. Так, рука об руку, они поступили в Гарвард на факультет права, вместе жили в общаге, вместе ухлестывали за девицами — в общем, делились всем, кроме тайны подлинного происхождения Рика. После окончания Гарварда они вместе устроились в преуспевающую юридическую компанию и вместе строили планы — что нужно сделать для того, чтобы Джош стал сначала членом Нью-Йоркского совета, затем — конгресса, потом — сената и, наконец, — президентом Соединенных Штатов Америки.
Сазерленд меж тем женился на милой и вполне подходящей девушке по имени Лора Стэндиш, наследнице одного из влиятельных семейств в Чарлтоне, Романос же остался холостяком и вел жизнь богатого кутилы. В течение двадцати пяти лет, прошедших между окончанием колледжа и тем днем, когда Сазерленд сел наконец в президентское кресло, Рик, против своей воли, все больше и больше завидовал успехам своего друга, уверенный, что их причина — лишь в том, что товарищ его был типичным стопроцентным американцем. Не меньше завидовал он и счастливому браку приятеля. Между Риком и Лорой все эти годы продолжался тот легкий, ни к чему не обязывающий флирт, который способен расцвести под самым носом супруга — если он к тому же настолько слеп, чтобы сохранять уверенность в преданности своей половины.
Постепенно Романос начал копать под Сазерленда, изыскивая способы использовать деньги мафии для финансирования его предвыборных кампаний и все больше опутывая его обязательствами по отношению к преступному миру — так, что выхода из создавшегося клубка для преуспевающего политика уже не было. И, закончив плести свою паутину, он увел Лору из-под носа супруга в самый разгар его очередных выборов.
Когда Джосайя Сазерленд проснулся в день своей инаугурации, единственное, в чем он не был уверен, — увидит ли он сегодня с собой рядом свою жену. В последний момент она все же появилась. Но даже в момент принесения торжественной клятвы он не знал, что связывает его супругу с Риком Романосом, его ближайшим преданным другом, и какой жертвы потребует тот от него — первой в ряду многих жертв, которыми придется ему расплачиваться.
Действительно, лучший состав актеров просто невозможно было подобрать, в который раз подумала Сьюзен, осторожно стирая влажным тампоном тени с век. Дайан Китон была единственной подходящей кандидатурой на роль девушки и несравненно лучшей партнершей для Редфорда, чем, скажем, Фонда или Донауэй; в роли жены преуспевающего политика она выглядела абсолютно достоверно. Да, на тернистом пути создания «Стопроцентного американца», пути, который Вито Орсини суждено было пройти и за каждым этапом которого она следила со все нараставшим изумлением, первый шаг был сделан правильно — подобран хороший состав актеров.
Первая неудача постигла их тогда с «домиком» в Ньюпорте — тем самым, что должен был изображать загородную виллу Сазерлендов и где предстояло отснять большинство сцен. Разъевшиеся ньюпортовские богатей наотрез отказались сдавать свои обители кинокомпании за какую бы то ни было плату, и Вито пришлось довольствоваться домом, который оказался попросту мал. Декорации танцевального зала и других помещений большой площади пришлось строить в павильонах Голливуда, но в итоге даже эксперты не могли сказать точно, в какой момент актер переходит из настоящей, реальной комнаты в декорацию, построенную за три тысячи километров от дома, где велась съемка. Правда, дом потерял свой характерный «ньюпортовский» облик, но неужели кто-нибудь из зрителей смог бы заметить разницу? — подумалось Сьюзен.
Но именно тогда, после прокола в Ньюпорте, бюджет начал перехлестывать смету — и это еще до того, как был закончен сценарий. Вернее, в то время первый — в итоге их оказалось пять — сценарий еще находился в стадии доработки.
Сьюзен отняла руку от лица — на одном веке остался грим, и вспомнила четырех известнейших сценаристов, которых Вито пригласил для работы над фильмом. Разумеется, каждый из них, получив в руки книгу, из которой надлежало сделать сценарий, собирался изложить эту историю под несколько другим углом, чем это виделось автору; у каждого были собственные соображения, которые он собирался отстаивать до конца. Однако Вито Орсини не предоставлял им даже этого, самого необходимого минимума творческой свободы. Любовь Вито к самому себе росла день ото дня, и день ото дня он защищал неприкосновенность содержания книги все более яростно, как будто сам написал в ней каждое слово.
И все же, напомнила себе Сьюзен, Вито в конце концов — после последовавшего с неизбежностью разрыва с четырьмя самыми известными сценаристами Англии и Соединенных Штатов — удалось выкопать невесть где никому не ведомого писателя, который и создал точный и простой в работе сценарий; этого она не могла не признать. Конечно, к тому времени бюджет фильма неимоверно разросся, но сценаристы, к счастью, не составляли в нем основную статью расходов — в особенности когда вдруг появился сценарий, понравившийся сразу и всем.
Убрав косметику с лица, Сьюзен потянулась к флакону с розовой водой, которую специально для нее готовили в ближней аптеке. Никакому другому средству не удавалось с такой легкостью удалить с кожи тонкую пленку, остававшуюся после косметики. Да, а режиссеры — она не без удовольствия вспомнила, какие неимоверные страдания доставляло общение с ними Вито, — режиссеры, разумеется, оказались еще более невыносимы, чем все сценаристы, вместе взятые. Она с сомнением воспринимала попытки Вито подписать контракт с Хьюстоном, и, когда сделка развалилась в конце концов, Сьюзен не очень этому удивилась. Им все равно ни за что не удалось бы поладить — даже Керт разделял ее мнение на сей счет.
В кинобизнесе немало субъектов, страдающих манией величия, но режиссеры, безусловно, из них наихудшие. Но могла ли ты подумать — на сей раз она обращалась к своему безупречно красивому лицу, отражавшемуся в зеркале, — что один из этих типов подойдет-таки Вито, при всем его чудовищном самомнении? Милош Форман, Джон Шлезингер, сэр Кэрол Рид — каждый из них ознакомился со сценарием, каждый выражал готовность и желание делать картину, пока они не поняли, что в процессе этого будут всецело зависеть от Вито, что этот продюсер — обыкновенный продюсер! — всерьез намерен заявляться с первыми лучами солнца на съемочную площадку и каждую минуту дышать им в воротник, вместо того чтобы посиживать где-нибудь в своем офисе, желательно под землей — и поглубже, и прилагать все усилия, чтобы облегчить им тяжкую ношу творчества.
Сьюзен, конечно, не удержалась от того, чтобы не заметить в разговоре с супругом, сколь выигрышной для Вито оказалась в конце концов его неудачная попытка подписать контракт с Файфи Хиллом — тем самым, что снял «Зеркала» и получил в прошлом году «Оскара» за лучшую режиссуру. Когда Вито попытался заполучить его, тот был, разумеется, уже недосягаемым. Но даже тогда — воспоминание об этом неизменно вызывало у Сьюзен невольную улыбку — Вито сумел приберечь на последнюю минуту очередной финт. Вновь откуда-то из небытия он извлек молодого, мало кому известного режиссера по имени Дэнни Сигел, успевшего до этого снять всего две картины со смехотворным бюджетом, неплохо, однако, принятые критикой; в кино он был еще человеком настолько новым, что с радостью ухватился за предложение поставить крупную ленту, даже не смутившись неотступно маячившей за его спиной тенью Вито Орсини.
Да, припомнила Сьюзен, тогда даже она решила, что картина наконец преодолела все опасности подготовительной стадии. Гарантированное участие звезд, крепко сбитый сценарий, талантливый, пусть еще и не успевший заявить о себе режиссер и, наконец, опытный продюсер, только что получивший приз Академии, казалось, снижали шансы на неудачу. Когда же проблемы под опытной рукой Вито явно пошли на убыль, ее благодушно-скептическое отношение к фильму постепенно сошло на нет.
К тому времени все, конечно, уже и думать забыли о первоначальном бюджете. Поскольку неимоверное количество времени было убито на переписывание сценариев и поиски режиссера, Сигелу пришлось «выстрелить» фильм в рекордно короткий срок — то, что на языке кинематографистов именуется «платиновой неделей»: отсчет ее начинается обычно тогда, когда расчетное расписание просрочено уже как минимум дважды. Чтобы уложиться в срок, Сигелу приходилось платить всей съемочной группе втрое, работать по ночам, по воскресеньям и в праздники. Но что значат несколько дополнительных миллионов долларов для картины, которая имела все шансы стать лучшим фильмом года? Во всяком случае, разве не это говорил о ней Керт? Ее отец, возможно, отозвался бы обо всем этом с меньшей помпой; может быть, Джо Фарбер и вообще не пожелал бы мириться с таким порядком вещей, но что поделаешь — режиссеры в его времена не обладали таким могуществом.
Сьюзен начала медленно расчесывать волосы. Весь этот ежевечерний ритуал перед сном ее успокаивал, и поэтому она даже в самый поздний час выполняла его медленно, обстоятельно. Тщательно расчесывая пряди, она подмигивала своему отражению в зеркале, вспоминая, с какой поразительной быстротой удалось Дэнни Сигелу расположить к себе Николсона и Редфорда, убедить их довериться ему. В этом молодом человеке таилась какая-то взрывная сила, воображение столь непосредственное и юное, что устоять перед ним было невозможно, и такая потрясающая изобретательность, что, когда в очередной раз его осеняло и он с ходу предлагал актерам абсолютно новые, неожиданные ходы, они были готовы сделать для него все, что угодно.
В памяти ее вновь ожил тот день, когда Керт, вернувшись домой, известил ее, что по предложению Сигела Редфорд и Николсон решили ПОМЕНЯТЬСЯ ролями, и теперь Редфорд будет играть принца мафии, а Николсон — заглавного героя, стопроцентного американца. На Вито, по словам Керта, их энтузиазм тоже подействовал — Вито полностью согласен с Сигелом и считает его идею блестящей. Вито уверен, что лишь зеленый юнец с последнего курса киношколы способен предложить Редфорду роль «стопроцентного», и лишь самый безмозглый продюсер рискнет втиснуть Николсона в тип опереточного мафиози, — а вот заставить их в корне поменять амплуа может только человек по-настоящему смелый, творческий, блестящий режиссер, и этого Голливуд не забудет долго.
Гримеры приложили максимум усилий — особенно если учесть, что по ходу действия оба актера должны были постепенно состариться на двадцать пять лет, а также то обстоятельство, что звезды ранга Николсона и Редфорда, как правило, позволяли накладывать на свои всемирно знаменитые физиономии лишь минимальное количество грима. Войдя в будуар, чтобы надеть пеньюар, Сьюзен Арви плотно затворила за собой дверь и дала наконец волю приступу рвущегося наружу безудержного смеха, который у женщины с меньшим самообладанием наверняка перешел бы в истерику.
Бог мой, Редфорд, с его соломенной шевелюрой, выкрашенной в черный цвет, но голубыми, как небо в раю, очами, неистребимой улыбкой хорошего парня, поколениями англосаксонских предков за спиной и лучащимся изнутри обаянием, пытался плести интриги против своего лучшего друга в компании мрачных типов, каждый из которых с немалым усердием изображал члена обширной мафиозной семьи; Николсон — великолепный англосаксонский чуб над изломом подкрашенных, но узнаваемо сатанинских бровей, хитрый блеск глаз, губы, кривившиеся в инфернальной усмешке, и короткий поскрипывающий смешок — с открытой душой завоевывал доверие избирателей… Оба актера, господь свидетель, работали на износ, но оказались бессильны преодолеть магию тех главных, личных, неотъемлемых от них качеств, благодаря которым, собственно, каждый из них и стал в свое время звездой первой величины. Сьюзен же во время премьеры не осмеливалась даже взглянуть на экран, боясь, что будет застигнута врасплох припадком неудержимого хохота.
Ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы изобразить соответствующее почтение перед собравшейся на премьеру толпой аристократов самого разного толка. Они же были в таком восторге от того, что смогли получить эти бешено дорогие и оттого еще более желанные приглашения, что не осмеливались доверять собственным внутренним оценкам игры главных звезд — если, конечно, на эти оценки вообще кто-нибудь отважился. Критики, сказала она себе, — дело другое. Они — настоящие знатоки — скажут свое слово очень скоро.
Теперь тебе место только на свалке, Вито, удовлетворенно констатировала Сьюзен Фарбер Арви и послала воздушный поцелуй своему отражению в зеркале.
— Сьюзен? Где ты, черт возьми, прячешься? — Голос мужа раздался за самой дверью ванной — в святая святых супруги он все же входить не осмеливался.
— Я сейчас, — отозвалась она. При всем при том, подумала она про себя, после двадцати лет совместной жизни этот несчастный придурок, как именовал его до самой своей смерти ее отец, нуждается в снисхождении. Сегодня, по крайней мере. — Устал? — спросила она сочувственно, появляясь из ванной и затягивая на ходу поясок шелкового халата.
— Да, зверски. Эти предварительные просмотры черт знает как выматывают, — а представь, ведь ее еще не видели газетчики…
— Но, по моему мнению, игра Дайан Китон — настоящее откровение, дорогой. И я никак не думала, что она может быть такой потрясающе сексуальной. Поверь, уж если женщина может убедить в своей сексуальности особу своего пола…
— Да, помнишь, та сцена, где Романос соблазняет ее в гостиной в «Мариотте», в то время как Сазерленд произносит предвыборную речь в банкетном зале.
— По-моему, это была самая гнусная и грязная сцена, которую только можно снять, и о ней все будут говорить, можешь не сомневаться… Она у меня до сих пор стоит перед глазами.
— Я никогда не думал, что мы сможем уговорить ее снять с себя почти все, — заметил Керт Арви.
— О, это был триумф, милый. По правде говоря, всем тем, кто готовил ей гардероб, стоит повысить жалованье.
— А музыка, Сьюзен, музыка потрясающая… правда?
— Поверишь, до сих пор в голове — главная тема особенно!
— А декорации, Сьюзен? Я говорил тебе — все сработает, даже несмотря на то, что мы не смогли снять эти чертовы дома в Ньюпорте!
— Да кто заметит? Если бы мне самой там не приходилось бывать, я могла бы поклясться, что снимали именно Ньюпорт! Вито нашел великолепного художника, Керт; не только Ньюпорт, вся картина смотрится на одном дыхании.
— Но эта Дайан! — Керт Арви присвистнул. — И ведь подумать, что Вито хотел взять Фонду… Я дьявольски рад, что отговорил его от этого.
— Но только от этого, милый; вся картина, надо признать, его, от первого до последнего кадра. Продюсер Вито Орсини — и забывать об этом не следует. Его взгляд, его манера, все эти завершающие штришки… его ответственность, наконец, за каждое принятое решение. — Сьюзен передвигала подушки, пока они не легли наконец так, как ей нравилось; ни одна из горничных так и не смогла освоить это искусство. Она повернулась к Керту, с отсутствующим видом сидевшему на краю кровати.
— Ты ведь понимаешь, Керт, я, менее чем кто-либо, склонна преуменьшать важность твоего предприятия, твоей студии — ты финансировал фильм, это твоя продукция… но давай, мой милый, смотреть правде в глаза: фильм — заслуга Вито Орсини, и он достоин всяческой похвалы. Мне самой нелегко признать, что именно он с начала до самого конца стоял за всем этим, и неважно, как я при этом сама к нему отношусь, но какой бы успех ни ожидал картину, я все равно не люблю его, Керт. Вито собрал все мыслимые почести после работы над «Зеркалами», и я думаю, что все повторится и в этот раз. А нам, как всегда, придется стоять и смотреть, как он купается в лучах славы, и никто, уверяю тебя, не вспомнит даже название студии, которая сняла фильм.
— Да, тут ты, кажется, права, Сьюзен. — Керт Арви улыбнулся — в первый раз за последние пять часов. — Картина — детище Вито, точно, с начала и до конца, до самых, так сказать, титров. Ладно, я, пожалуй, отправлюсь спать.
— Приятных снов, дорогой. — Сьюзен Арви нежно чмокнула мужа в щеку. За сегодняшний вечер, рассеянно подумалось ей, она достойна места в специальном раю для любящих жен — впрочем, мысли ее уже были заняты предстоящим завтра визитом на показ коллекции Джеффри Бина у Мэгнйнас. Бин был ее любимым кутюрье, и она решила, что, пожалуй, закажет несколько новых моделей, скорее, она была в этом уже уверена.
В тот день, когда Керт, вернувшись домой, объявил ей о решении Николсона и Редфорда поменяться ролями, в день, когда окончательно была утверждена кандидатура Дэнни Сигела и Вито, со своим чудовищным самомнением, не заметил ямы, в которую ему предстояло упасть, и оказался настолько ослеплен иллюзией собственной исключительности, что без колебаний взошел на борт построенного малюткой Дэнни корабля недоумков, — в тот самый день Сьюзен Фарбер Арви убедила своего мужа в необходимости составить единый контракт на доходы с «Зеркал» и будущие доходы от «Американца», и сделать это немедленно. Керт выслушал ее без каких-либо возражений, Вито же сравнительно легко согласился на новые условия, уверенный в том, что не может совершить ошибки, а также приняв во внимание обещание Керта прекратить в противном случае работу над картиной, объявив ее закрытой по причине проблем с налогами.
Сегодняшний провал, доставивший ей к тому же столько удовольствия, нисколько не отразится на годовом балансе студии «Арви», беспечно подумала Сьюзен, — ведь расходы на «Американца», тридцатимиллионный фильм, который ожидает впереди полное и безоговорочное фиаско, с лихвой будут покрыты доходами от «Зеркал», которые ежедневно и ежеминутно продолжали поступать со всех концов мира.
По мере того как эта приятная финансовая ситуация приобретала все более реальные очертания, Сьюзен решила, что завтра она непременно, воспользовавшись одним из собственных самолетов студии, вылетит в Нью-Йорк и как следует пройдется по магазинам — скорее всего, антикварным; деньгам, которые можно потратить пусть и на самые дорогие тряпки, существует все же предел. Может, отделать дом по-новому… По зрелом размышлении сделать это просто необходимо. Утром она свяжется с Марком Хэмптоном. Это маленькое удовольствие она вполне заслужила.
Редфорд и Николсон внакладе тоже не останутся. Посмеются над собственным сумасбродством, и все дела… для каждого из них это так, мелкая неприятность, не более. Но Вито! У Вито была возможность в зародыше похоронить идею смены ролей. Вито в любой момент мог уволить этого социально опасного кретина — малютку Сигела, заменить его любым, пусть тоже неизвестным, но знающим дело парнем — и фильм, с его сценарием и первоначальной труппой, стал бы классикой и принес бы им всем невероятную прибыль.
Ах, Вито! В своем вечном стремлении ухватить как можно больший кусок ты сделал наконец ту ошибку, которую Голливуд никогда не простит тебе и никогда не забудет… твой первый крупный фильм, первый реальный шанс, возможность закрепить успех дутого «Оскара», — и ты полностью провалился. Никто, никто во всем этом городе не упустит возможности поплясать на твоих костях. Но разве не сам ты долгое время шел к этому? Мысленно Сьюзен Арви вычеркнула имя Вито Орсини из списка тех, отношения с кем могли хотя бы остаться ровными. Все зло, которое она могла пожелать Вито, он уже причинил себе сам.
Сможет ли Керт, подумала она, когда-нибудь признать в открытую, что именно она с самого начала настаивала на изменении условий контрактов, что именно она первая заметила айсберг, грозивший их кораблю, и тем самым спасла его? Наверняка она никогда не дождется от него должной благодарности. Слишком поздно поняла она, что вышла замуж за человека, лишенного этого простого чувства почти в той же степени, что и ее отец; но это отнюдь не делало ошибку менее горькой.
Как бы то ни было, за последние три-четыре года она сумела взять над ним верх — и он, конечно, знал это. Когда дело доходит до того, что двое наперебой объясняют друг другу, как хороша была музыка в только что увиденной стряпне, — значит, один из них уже на лопатках. Когда Сьюзен Арви, счастливая, устраивалась в кровати, ей хотелось лишь одного — чтобы ее отец, эта до слепоты самовлюбленная старая сволочь, оказался бы здесь и видел бы ее сегодня во всем блеске. Да нет, он, наверное, здорово занят — переворачивается в гробу. В его времена за тридцать миллионов можно было купить немалый кусок Лос-Анджелеса… Что он, кстати сказать, и сделал.
5
Мэгги Макгрегор толкнула кресло, мягко откатившееся назад, и закинула ноги на край заваленного бумагами стола. Только что закончилось еженедельное совещание, на котором составлялся план ее очередного шоу; ее исполнительный продюсер, линейный продюсер, ассистент продюсера, сценаристы и весь прочий сброд, благодаря которому, однако, еженедельно выходила в эфир ее программа, три минуты назад покинули ее кабинет, унося с собой вечные фаянсовые кружки с кофе и дожевывая на ходу горячие пончики.
Оставшись — впервые за несколько часов — наконец одна, Мэгги мгновенно выкинула из головы предстоящее шоу и целиком сосредоточилась на том, что показалось ей главным на этой встрече. А главным было то, что никто из присутствовавших даже вскользь ни разу не упомянул о «Стопроцентном американце» — ни единым словом.
Более того, на фильм не появилось еще ни одной рецензии, даже в голливудских листках, которые принимаются перемывать новым картинам косточки задолго до официальных рецензий в большой прессе. Между тем рекламные объявления размером в две полосы начали появляться в газетах еще две недели назад, а ведущие кинотеатры крутили анонсы «Американца» уже несколько месяцев. Через три дня премьера картины должна была состояться одновременно в восьми сотнях залов по всей стране — и тем не менее никто из сидевших на совещании, до самой последней студийной крысы, как будто и знать не знал о ее существовании.
Мэгги готова была поклясться, что никто из ее команды и не слыхивал про такую невидаль, как такт, — и, видно, была не права: похоже, что именно такт и некая вынужденная деликатность заставляли всех собравшихся в этой комнате делать вид, будто они не замечают разлагающейся посреди нее туши гигантского монстра, весившей больше, чем все они, вместе взятые, — и смрад ее внушал ужас.
Конечно, если бы актерских способностей было в них чуть-чуть больше, то они, возможно, и могли бы себе позволить небрежно, вскользь, упомянуть о картине, как будто сама Мэгги не имеет ровно никакого отношений к ней, но, не обладая такими талантами, они попросту решили притвориться слепыми. Неужели собрались перед совещанием и обсудили, как себя вести? Наверняка, подумала она, ведь никто из них ни на йоту себя не выдал, а подобное единодушие среди ее обычно неуправляемой и склочной оравы было немыслимо, если только не имел место сговор. Обычно эти совещания превращались в настоящее буйство — самое грязное белье киношного мира подавалось в виде невинной салонной истории, ни один артист не подлежал помилованию, как бы он ни был велик, ни одна самая вульгарная и скандальная сплетня не казалась настолько мерзкой, чтобы не подвергнуться сладострастному смакованию.
Мэгги понимала, конечно, что они знают все о ней и Вито уже по меньшей мере несколько месяцев — а может, и дольше, с самого начала всей этой истории, — разве удастся скрыть секрет подобного рода от тех, с кем она работала, кого она сама воспитала. Ее же собственная, хорошо организованная шпионская сеть, нити которой уходили в самые потаенные углы кинобизнеса, с готовностью известила бы их об этом — это не подлежало сомнению. Не предполагала она лишь того, что даже без единого внутреннего показа новость о провале «Американца» распространилась гораздо шире, чем она могла догадываться.
Если бы «Стопроцентный американец» оказался пусть несколько разочаровывающим, но, в общем, приемлемым фильмом, способным получить обычное количество хороших и плохих отзывов, смотреть его отправилась бы тьма народу — привлеченные актерским составом, именем продюсера, и, невзирая на грызню критиков, упоминание о фильме не стало бы запретным — даже в том случае, если бы она вышла замуж за Вито.
Ее команда работала на нее слишком давно для того, чтобы заподозрить Мэгги в способности обидеться на их пересуды о фильме и его будущем — более того, они бы сами наперебой бросились предлагать ей всевозможные способы обеспечить ему хоть какую-нибудь благоприятствующую рекламу.
А значит, молчание их могло означать только одно — дела еще хуже, чем ей казалось. «В доме повешенного не говорят о веревке» — кажется, эту присказку употребляют в подобных случаях? Но кто мог подумать, что ее обормоты способны на такую вот деликатность? Да… Картина Вито станет очередной лягушкой, собравшейся выпить море; и на этом Голливуд поставит жирную точку.
Мэгги была удивлена — но лишь тем, что по поводу случившегося у нее отсутствовало всякое удивление. Любовь к Вито, к счастью, не смогла размягчить ей мозги. Слушая в его весьма живом пересказе историю о сварах со сценаристами, режиссерами и актерами, она надеялась, что Вито в конце концов сможет все-таки все это преодолеть. Организационные проблемы — вещь для любого фильма столь же нормальная, как срыгивание — для грудных детишек.
Но когда он заявил ей, что главные исполнители собрались меняться ролями, она с трудом смогла скрыть граничившее с шоком недоумение. Лишь позже, вечером, она заметила как бы невзначай, что ей трудно было бы представить, как в «Унесенных ветром» Лесли Говард вдруг собрался бы играть Ретта Батлера, а Кларк Гейбл — Эшли Уилкса.
— Да, это бы у них не прошло, — согласился Вито. — Но тут — дело другое. — И больше об этом не заговаривал, поскольку его увлеченность этой, как он считал, принадлежавшей ему идеей не позволяла ему хотя бы на секунду задуматься над ее предостережением.
Не тогда ли, подумала Мэгги, вслушиваясь в непривычную тишину здания — персонал в полном составе ушел обедать, — не тогда ли, не в тот ли момент и начала тускнеть ее любовь к Вито?
Наверное. Она знала, что не способна на дикие страсти и безумные увлечения. Самый сильный ее инстинкт — инстинкт самосохранения; и никогда бы она не продвинулась так далеко в своем бизнесе, никогда не достигла бы того, чего хотела, если бы все время неустанно и тщательно не оберегала себя самое.
Любовь — это роскошь, которую при ее работе позволять бы себе не следовало, но, когда Вито и Билли разошлись, она не могла отказать себе в искушении воспользоваться ситуацией. Любовь — как роскошное платье, которое тебе не вполне по средствам, которое, как ты знаешь, не настолько красиво, чтобы оправдать затраченные на него деньги, и которое лучше оставить в магазине на вешалке для какого-нибудь богатого сумасброда, но ты все же купила его, потому что жизнь коротка и ты бы вечно жалела, если бы не сделала этого.
Влюбиться — это себе позволить Мэгги могла, но любить неудачника — такое было не в ее стиле. Есть два вида публики, сказала она себе, — телезрители, которые не узнают — да им и плевать, — если Вито Орсини положат-таки на лопатки, и свои, киношные, которые стали бы уважать и побаиваться ее куда меньше, чем следовало, если она и Вито остались бы вместе, несмотря на существование «Стопроцентного» и прием, который его ожидает.
Слава богу, вздохнула она про себя, Вито никогда не заговаривал о женитьбе. Ведь она могла бы и согласиться — и что бы сейчас с ней стало? Она вздрогнула — ведь есть женщины, которым приходится такое сносить — и улыбаться, и быть верной мужу. Нет, жизнь такого рода не для нее.
Сняв трубку, Мэгги набрала номер нью-йоркского офиса всемогущего вице-президента телекомпании Фреда Гринспена. За десять минут они набросали примерный план передач, которые она будет вести из Манхэттена. На улицах всех пяти районов Нью-Йорка фильмов снималось достаточно, чтобы обеспечить ее материалом не на один месяц. Так когда она могла бы начать?
— Бог мой, Фред, ты же знаешь… если мне в голову что взбредет, я, пока не сделаю, не успокоюсь. Думаю… я сегодня вечером успею собраться и ночным уже вылечу. Пришлешь машину в аэропорт, ладно? Да, да, тем же самым рейсом. Поужинать с тобой вечером? Ну, ясное дело! Только о работе — заклинаю, ни-ни! Ловлю тебя на слове! Я ведь знаю, тебе меня ничего не стоит достать… но в этот раз, не надейся, ничего у тебя не получится.
Джиджи в компании лучшей подруги Мэйзи Голдсмит восседала на подоконнике занавешенного ситцевыми шторами эркера своей комнаты — обе в джинсах, облегающих длинные ноги, в майках, чья поношенность свидетельствовала о доблестной и долгой истории — как у знамен некогда славного, но забытого ныне полка. На тарелке постепенно уменьшалась горка печенья — особого, с кокосовой трехслойной начинкой, только что испеченного Джиджи в этот субботний день середины апреля.
С недавних пор жизнь Мэйзи и Джиджи протекала по своеобразному расписанию, которое устраивало и Голдсмитов, и Билли. По пятницам они ночевали в Брентвуде — усадьбе Голдсмитов, в которой отец Мэйзи, занимавший высокий пост на киностудии «Метро Голдвин Мейер», нередко собирал на уик-энд небольшую компанию и показывал в просмотровой комнате какой-нибудь новый фильм, за чем следовал легкий ужин и, по желанию, — просмотр другой картины, обычно иностранной или из классики. В субботу утром девочки уезжали к Билли и проводили у нее весь день. Мэйзи, как правило, оставалась ночевать, а возвращалась домой к обеду в воскресенье.
Мэйзи Голдсмит принадлежала к тому типу молоденьких девушек, которые, по единодушным прогнозам взрослых, обещают вырасти в классического облика черноволосых красавиц, хотя ее сейчас в этом вряд ли удалось бы убедить — нескладная, довольно высокая, еще по-детски пухленькая — лишних пятнадцать фунтов, — в роговых очках, которые она из упрямства никак не желала заменить контактными линзами. Училась Мэйзи отлично — почти как Джиджи, что, как видно, и помогло им в первый же день пребывания Джиджи в университете разглядеть друг в друге родственные души.
Джиджи к семнадцати годам вытянулась на пять сантиметров, и рост ее составлял теперь метр шестьдесят. Фигурка ее сохранила нежную плавность линий, отчего казалась на первый взгляд даже хрупкой, но произошла неуловимая перемена в ее манере держать себя: задиристая прямота, столько времени служившая надежной защитой при ее маленьком росте, превращалась мало-помалу в спокойную уверенность. И хотя сама она никогда не стремилась «высовываться», скрытые в ней решимость и воля, неуловимо проявлявшиеся даже в ее движениях, неизменно привлекали к ней внимание, которого она пока, впрочем, не замечала.
В любую, даже самую, казалось бы, невыигрышную позу Джиджи умудрялась вкладывать естественную грацию — как балерина, чьи самые обыденные движения исполнены изящества, ставшего привычкой. Ее каштановые волосы, которым ножницы Сары после долгих трудов придали наконец единственно возможную и совершенную форму — короткие прямые пряди, чуть загибающиеся наружу, переливались всеми оттенками червонного золота, от светло-апельсинового до старой терракоты. Джиджи довольно быстро овладела искусством при помощи коричневого карандаша менять цвет своих узких, четко очерченных бровей на более темный, а черная тушь восхитительно оттеняла ее длинные, но светлые от природы ресницы.
Более же всего и сразу привлекали ее глаза, полуприкрытые тяжелыми веками и окаймленные темной бахромой ресниц. Каждый, кто встречал ее в первый раз, не мог подавить в себе невольного желания придвинуться к ней поближе, чтобы рассмотреть наконец, какого же в точности цвета ее глаза. Изумрудно-зеленые глаза Джиджи были способны выразить самые глубокие чувства, но их взгляд был еще застенчив, а выражение трудно было назвать даже чуть-чуть кокетливым. Эмоции ее передавала пока с большей точностью нежная, молочно-белая кожа щек — краснела Джиджи мгновенно и ослепительно. Воспитание в актерской среде, однако, давало о себе знать — облик стильной девушки двадцатых годов, о котором, увидев девушку, сразу подумала Билли, теперь проступал в Джиджи еще явственнее. И в любой момент Джиджи, казалось, была готова взорваться смехом — даже в минуты серьезности с губ ее не сходила легкая, как запах мирта, блуждающая улыбка.
В тот самый день Джиджи и Мэйзи единодушно решили, что для прогулки на пляж на улице еще сыровато и, в общем, холодно, приниматься за домашнее задание по математике, которое они собрались сделать вместе, еще слишком рано, и им слишком весело вдвоем для того, чтобы обзванивать всех и каждого, выясняя, что собирается народ делать вечером. Наверняка их многочисленные друзья и подружки уже слетаются стайками в какое-нибудь излюбленное местечко — ходить на свидания и прогулки парами было не принято. Под уик-энд шумные компании учеников обоего рода неизменно наводняли окрестности, влекомые соблазнами взрослой жизни, как жители тропической чащи — призывным голосом барабанов.
— По-моему, папа вчера вечером немножко напрягся — он, видно, не думал, что полная копия «Последнего танго в Париже» такая крутая, — промурлыкала Мэйзи. — Мы там сидели, он нервничал. Но что ему было делать, не останавливать же ленту, раз она уже началась. И не мог же он выставить нас при всех из комнаты. Знаешь, он так посмотрел на меня, когда свет включили. Но мама ничего, полное спокойствие.
— По-моему, фильм потрясный, — отозвалась Джиджи. — Тебе как?
— Я, боюсь, не все поняла, там такие моменты были… неясные… Но Брандо, конечно, такой… Он просто потрясный мужик! Джиджи, Брандо ведь классный мужик?
— Конечно. В первой десятке.
— Ты уверена? Фильму-то, вспомни, уже лет семь — он с тех пор в весе тонну прибавил. Играет теперь крестного отца. Так что можешь передумать, — временами Мэйзи свойственно было великодушие.
— Мэйз, неужели ты не понимаешь? Мы с тобой говорим об одном из самых великих актеров, при чем тут его вес, его возраст… ты подумай про его талант!
— Не забывай, что для первой десятки и отобрать можешь всего десятерых, — ехидно напомнила Мэйзи.
— Ладно, теперь в моей десятке будет он. А у тебя кто?
— Подожди, я подумаю. Может… может быть, Бельмондо. После того как папа показал «Бездыханного», я от него просто балдею. Вот он — по-настоящему сексуальный, у него такие губы, такое тело, что… неужели он, по-твоему, хуже, чем Брандо? — спросила Мэйзи серьезно, темные глаза выжидающе поблескивали за толстыми стеклами.
— Да ну, — бросила Джиджи. — Я могу себе представить, чем он тебя так пленил, но тратить на него место в моей десятке — да ни за что. Но ты, конечно, считаешь его классным кадром — если по-французски такое слово, конечно, есть. Чего бы тебе не сунуть его во вторую десятку?
— А-а, во вторую… — Мэйзи оживилась.
Сняв очки, она задумчиво потерла бровь. Кандидатов для второй десятки Мэйзи любила отбирать даже больше, потому что они не очаровывали ее так сильно, как первые. Во вторую можно было включить и мужчину с огорчительно маленьким пенисом, не беспокоясь особенно из-за места, которое могло бы быть занято каким-нибудь действительно потрясающим членом. Подобно дотошному коллекционеру, который, придя в антикварный магазин, сделал наконец наиболее затруднительный выбор и теперь может свободно осмотреться по сторонам, Мэйзи, решив проблему второй десятки, могла теперь спокойно заняться отбором в первую.
— Вуди Аллен, — провозгласила она.
— Минуту, Мэйзи, только одну минутку, — запротестовала Джиджи. — Вуди Аллен в моем списке уже несколько месяцев! Ты не можешь так вот взять и захотеть его — это нечестно!
— А почему? Ты же можешь первая все про него выяснить и не говорить мне ничего.
— Ну да. Я его как следует рассмотрю, может, даже на фотографии, а тебе, естественно, не скажу ни слова. Хорошо же ты, подружка, обо мне думаешь! — Джиджи с лукавой усмешкой взглянула на свою слишком рассудительную собеседницу и протянула ей последнее оставшееся печенье.
— То есть… ты хочешь со мной поделиться? Ты не против этого?
— Ну конечно. Ты подумай, какой будет кайф, когда мы вместе будем смотреть его фильмы, отлично при том зная, что на самом деле там у него, под этими его мятыми боксерскими трусами! Он ведь потому, наверное, никогда не носит бриджи.
— Но делиться — это же не по правилам, — вспомнила Мэйзи их давнюю договоренность.
— Ну и пусть. Эту игру я придумала, я и ввожу туда сегодня новое правило — будем делиться. Тогда и возможностей у каждой из нас станет вдвое больше.
— Но ведь список тогда уменьшится!
— Мэйз, ты как-то слишком серьезно все это воспринимаешь. Расслабься! Все равно по-настоящему увидеть их шланги у нас никогда не получится, чего мелочиться? Ну, давай! В мою первую — Фрэнк Синатра! — Джиджи торжествующе щелкнула пальцами при виде выражения неподдельного ужаса, появившегося у Мэйзи на лице.
— Бог мой, Джиджи, у тебя там скоро будет дом престарелых! Ты хохмишь или решила в извращенки заделаться?
— Мой интерес, — нацепив на нос взятые у подруги очки, Джиджи стала похожа на Глорию Стайнем, — сугубо исторический. Может, у Старого Синеглазого такой же старый и синий… Когда он был помоложе, женщины, говорят, из-за него чуть не вешались.
— Ну, в таком случае у меня — Ричард Никсон.
— Это уже глупо, Мэйз, — я всерьез советую тебе не делать этого. Считай, что я никогда не слышала от тебя этого имени, — серьезно сказала Джиджи.
— Ладно. А я тогда не слышала про Синатру. Ну, давай дальше. Вот, Дастин Хоффман, я хочу на него посмотреть! Дастин Хоффман — в первую!
— Да, я тоже, еще с тех пор, как вышел «Выпускник», — согласилась Джиджи. — Дастин Хоффман — для нулевой десятки, если такая бывает, на него посмотреть бы стоило. Ладно, теперь поищем у писателей… Норман Мейлер?
— Вот уж никогда! И в пятую не годится.
— Да я просто тебя проверяла, не дергайся. Он со своей драгоценной спермой вообще ни в одну не войдет — разве только из жалости к его возрасту.
— Филип Рот?
— Никаких сомнений, — кивнула Джиджи. — Выбор, правда, слабоват — кандидатура больно известная. А после «Портного» все эти его рогатые ужасы так приедаются, что уже как-то и не по кайфу. Нет, не трать голоса. А старик Сэлинджер как — подходит?
— Ой, Джиджи, прекрати! Он же живет монахом!
— Да, но писать он мог. Старые, но золотые, Мэйзи. Старые — но самые лучшие…
— Джиджи, если ты опять назовешь сейчас Уолтера Кронкайта, я больше играть не буду.
— А я уверена, что он — полный отпад… Я его впишу в свой Зал славы. Там хоть столетним будь — остаешься пожизненно.
— Вот, снова новое правило! — пожаловалась Мэйзи.
— Я вообще сегодня что-то склонна ломать устои. Если бы могла, отменила бы к чертям конституцию и начала все в этой стране по новой. Выбираю Энди Уорхола — в первые десять!
— Джиджи! Мы про художников не договаривались!
— Нет, Уорхол, и все! Мой выбор, мое право, моя десятка!
— Нет, это просто невыносимо! Джиджи, ты меня хочешь вывести из себя!
— А ты бы сама никогда про него и не подумала — нет, скажешь? — В голосе Джиджи звучал явный триумф. Реакцией Мэйзи она явно наслаждалась не меньше, чем своими сумасбродными номинациями. — Накинешь мне пару очков — за оригинальность? — Джиджи грозно сдвинула брови в выражении мрачного упоения — трюк, который нервы Мэйзи редко когда могли выдержать.
— Иногда я просто беспокоюсь за тебя. — Озабоченно вздохнув, Мэйзи рассеянно дожевала последнее печенье.
За последние две недели Джиджи успела много чего натворить — без всякого предупреждения высветлила волосы, вылив на них целую бутыль перекиси; выкрасила в кричащий цвет новенький белый «Вольво», который ей подарила миссис Айкхорн — ей рекомендовали эту машину как самую безопасную; теперь же фантазии Джиджи уже явно переполняли чашу. Синатра… Уорхол… Бред какой-то!
— Джиджи, — осторожно спросила Мэйзи, — а как тебе футболисты — ну, наши, из школьной команды?
Джиджи в ответ громко фыркнула.
— Тьфу! Никаких парней! Мы же договорились — никаких парней! Тьфу, тьфу и еще раз тьфу!
— Ну ладно. — Мэйзи вздохнула на этот раз с облегчением. От их основного принципа Джиджи еще не отказалась. — А тренер? — внезапно покраснев, снова спросила она.
— Да, с ним проблема, старушка Мэйз, все та же вечная проблема — стоит кадрить этого тренера или нет… Я, честно тебе сказать, еще не решила. В том, чтобы подцепить тренера, есть, согласись, что-то до жути банальное… но он и вправду потрясный. Хотя я сама толком не знаю, охота ли мне посмотреть эту штуку у живого мужика — который ходит по кампусу, которого я знаю, и все такое; боюсь, здесь не обойтись без… ответственности.
— Не пойму, при чем тут какая-то там ответственность? Другое дело, если бы тебе предстояло признаться ему, скажем, в том, что ты ее уже видела…
— Ах, Мэйз, здесь дело в искушении — ужасном искушении, понимаешь… Допустим, я смогу увидеть ее — и она мне понравится. И я ее захочу… И тогда ответственность будет в том, чтобы попытаться этого самого тренера соблазнить, вызвать на настоящий… контакт, так скажем.
— Захочешь? Разве мы когда-нибудь говорили о таком?! — воскликнула Мэйзи уже в неподдельной тревоге.
— Но придется же делать следующий шаг. Увидишь — захочешь, захочешь — потрогаешь…
— Нет, нет! — Мэйзи яростно замотала головой. — Нет, никогда… ты выдумываешь слишком много новых правил, Джиджи! Ты зашла слишком далеко, слишком! Потрогать! Мы же договорились — никаких троганий!
— Да нет, не буду, обещаю тебе. — Джиджи поспешила ее успокоить, перепугавшись уже сама. — Вообще о тренере больше ни слова — даже и не напоминай мне о нем!
— Уж не беспокойся, не буду.
— Девочки! Как там ваша математика? — послышался с другой стороны двери голос Билли.
— В порядке, миссис Айкхорн, — поспешно ответила Мэйзи, — мы все уже почти сделали.
— Хорошо, если дело у вас действительно двигается, можете передохнуть немного. Хотите поехать в город — перехватить по гамбургеру у «Гамлета», а потом посмотреть «Крамер против Крамера» — вам ведь, по-моему, нравится Дастин Хоффман?
— Да! — немедленно взвизгнула Джиджи. — Еще как нравится! Мы вот-вот закончим, Билли, можешь уже собираться!
* * *
За время долгой карьеры у Вито Орсини случались и взлеты, и падения — но вот на лопатках его еще не видел никто. Напористое, энергичное выражение его лица трудно было представить сменившимся усталой гримасой; и невзгоды он встречал с той же неизменной самоуверенностью, с которой нес свой успех. Благодаря его ярко итальянскому облику — аристократическому орлиному носу и чувственному изгибу крупных, выразительно очерченных губ — и беззаботной легкости, с которой он проворачивал свои начинания, неудовлетворенность собой или разочарование казались абсолютно чуждыми ему. И когда он позвонил Мэгги, чтобы сообщить ей, во сколько и где они будут сегодня ужинать, и бесстрастный автоответчик, известив его, что абонент временно выехал, предложил оставить свое имя и номер, у Вито лишь досадливо покривились губы и на лице промелькнула гримаса раздраженного недоумения.
Никто, наблюдавший за ним в этот момент, не смог бы догадаться, что полчаса назад он получил наконец авторитетное заключение — фильм обречен; заявлено это было так же ясно, как если бы он прочел об этом в редакционной статье «Нью-Йорк таймс». Более чем очевидной была и причина внезапного исчезновения Мэг — то есть была бы для каждого, кроме самого Вито.
Мэгги, всю жизнь считавшая себя такой умной, на самом деле редкая дура, подумал Вито, опуская трубку на рычаг; и она поймет это, когда картина станет-таки фильмом года. И еще поймет, что она — трусиха и предательница; да он сам дурак — чего еще можно было ожидать от двадцатисемилетней шлюхи с телевидения, которая еще пять лет назад жила тем, что строчила статейки для женских журналов? Ладно, черт с ней, решил он; выкинуть ее из головы большого труда не составит. Он никогда, собственно, ее не любил, но она — или так ему казалось — была из той редкой породы баб, которым можно довериться; любовница-друг, которую можно трахать и исповедоваться перед ней. Но он, как видно, ошибся. С бабами ошибиться вообще легко — но проиграет от этого на сей раз сама Мэгги.
Последующие несколько дней, когда в газетах в нарастающем количестве стали появляться рецензии, Вито, по многолетней привычке, избегал их читать или обсуждать с теми, кто уже успел с ними познакомиться; еще в начале карьеры, в Италии, выпустив в прокат ворох «спагетти-вестернов», каждый из которых был разгромлен в пух и прах критикой, Вито решил раз и навсегда: публика всегда знает сама, что она хочет смотреть и что не хочет, и никакие газетчики в этом ей не указ. Потому что деньги каждый из разгромленных вестернов принес весьма и весьма немалые. А вот несколько его последующих картин, которые сам он считал своими лучшими и отзывы о которых превосходили все его ожидания, не смогли собрать и мало-мальски приличной аудитории. Так что все это — дребедень, сказал он себе, и на этот раз ему повезет непременно — он чует, чует успех, в который никогда не переставал верить с того самого момента, как взялся продюсировать «Стопроцентного американца».
К концу первой недели проката Вито уже не надеялся на успех. Он вообще не ощущал ничего, кроме полной и постоянно растущей паники. Надежды его рухнули так стремительно, что времени на постепенное разочарование просто не оказалось. Никакого медленного, вызывающего досаду осознания того, что неплохая картина почему-то более не в фаворе. Провал был просто мгновенным — так под ножом гильотины падает голова казненного.
В первый день, в пятницу, очереди у касс кинотеатров были внушительные — толпы фанатов Николсона и Редфорда вознамерились сами увидеть, так ли ужасно созданное их кумирами, не доверяя единодушным заверениям критиков в том, что не стоит тратить и минуты на этот бред, созданный, увы, по великолепной книге. Книга же, видно, так нравилась всем без исключения газетным волкам, что они не упомянули ни об одном даже самом малом достоинстве картины — главной их целью было вскрыть святотатство, которое купленные на корню демоны Голливуда учинили над гениальным произведением. Это была просто бойня, мгновенное кровопускание, подобного которому не ожидала и Сьюзен Арви. Однако и на второй день, примерно до шести вечера, билеты раскупались исправно, и появилась надежда, что в субботу дела поправятся.
Но слухи — таинственная сила, более мощная, чем любая рекламная кампания, и более притягательная, чем прелести любой кинозвезды, — сделали свое дело. Казалось, что каждый, кто смог посмотреть в те пятницу и субботу «Стопроцентного американца», считал своим долгом обзвонить всех своих знакомых только затем, чтобы расписать им все недостатки фильма, а каждый из этих знакомых позвонил еще десятерым — в результате же этой цепочки в кинотеатрах не было ни одного зрителя, кроме редких стервятников от кино, которые спешили посмотреть фильм до того, как он окончательно сойдет с экранов, чтобы потом обстоятельно доложить окружающим, насколько эта лента оказалась хуже самых отрицательных отзывов о ней.
Буквально всем, кто отважился заплатить за билет, активно не понравился Редфорд в роли нехорошего парня, а уж от Николсона в роли славного парня их просто тошнило. Каждая сцена фильма воспринималась ими как личное оскорбление — их так бессовестно обманули, заставив их любимцев поменять амплуа, а их самих усомниться в своей несокрушимой вере в доблестное редфордство Роберта и хитрую николсоновость Джека. Наверное, если Вито попытался бы в канун Рождества в ограбленном сиротском приюте снять скальп с Санта-Клауса, предварительно выпустив ему кишки, — и то реакция не была бы столь агрессивной.
К исходу воскресенья все было кончено; картина шла в пустых залах, и владельцы их уже рассылали в студии заказы на замену. Вито, отдав распоряжение не соединять его ни с кем из его команды, провел оба эти дня, колеся из Лос-Анджелеса в Сан-Диего, из Санта-Барбары в долину Сан-Фернандо в тщетной надежде найти хотя бы один кинотеатр, где шел фильм, вокруг которого толпились бы зрители; сознавая, что занятие это бесполезное и нелепое, он ничего не мог с собою поделать. К полудню в воскресенье он уже точно знал — у него остался один, только один выход.
— Ваш папаша звонит, мисс, — сообщил дворецкий Уильям, подзывая к телефону Джиджи.
— Привет, па. — Джиджи старалась, чтобы голос не очень выдавал ее удивление. — Как дела?
— Лучше не бывает. Слушай, если у тебя никаких особых планов на вечер, как насчет того, чтобы поужинать со мной?
— Ой! Да… классно… конечно! Я с удовольствием! А куда мы пойдем — в смысле, что лучше надеть? — Джиджи понимала, что интонация у нее сейчас весьма озадаченная. Это и понятно — ведь отец не звонил ей уже по крайней мере месяца два.
— Да не очень беспокойся об этом. А лучше спроси Билли, скажи, что мы пойдем в «Доминик», она тебе подскажет. Я за тобой заеду — ровно без четверти семь.
Прежде чем Джиджи успела сказать еще что-нибудь, Вито положил трубку. Джиджи некоторое время изучала себя в стекле венецианского зеркала, висевшего над телефонным столиком в холле, куда Уильям вызвал ее. Состроив отражению большие глаза, она отвела взгляд и задумалась, машинально покачивая головой в такт собственным мыслям.
В этот уик-энд она и Мэйзи сидели по домам — в понедельник предстоял серьезный экзамен по английской литературе, который был слишком сложным для того, чтобы заниматься вместе. Всю субботу Джиджи прокорпела над книгами, решив просмотреть все еще раз вечером в воскресенье. Дневное же время она собралась провести с Жан-Люком на кухне, готовясь к торжественному ужину — вечером должна была приехать Билли из Нью-Йорка, где она пробыла большую часть недели, и они с поваром решили по такому случаю приготовить цыпленка а-ля Франсуа-премьер, с яйцами-пашот, лесными грибами, трюфелями и под сметанным соусом.
Черт с ним, с цыпленком, сказала себе Джиджи — можно еще посидеть за книжками примерно до без четверти шесть, а там уже и одеваться.
— Жан-Люк, — спросила она повара после бесконечных извинений по поводу того, что им придется отложить назначенный на сегодня урок кулинарии, — ты когда-нибудь слышал о ресторане под названием «Доминик»?
— Здесь, в Лос-Анджелесе?
— Ага.
— Нет, никогда не слышал. Так, значит, ты бросаешь меня ради этого Доминика?
— Ты же знаешь, что я могу бросить тебя только ради папы, Жан-Люк.
— Желаю приятно провести время, Джиджи, — улыбнулся повар, в душе посылая в адрес Вито проклятия — надо же было ему похитить самую многообещающую ученицу Жан-Люка как раз сегодня, когда он собирался раскрыть ей десять главных тайн о трюфелях и посвятить в небывалые возможности, раскрывающиеся при сочетании нежного трюфеля с мясом цыпленка…
Джиджи не удалось не отрываться от учебников до половины шестого. Тратить час на одевание ей еще ни разу не приходилось, но она была взволнована предстоящим свиданием с отцом и слишком беспокоилась о своем внешнем виде для того, чтобы потратить хотя бы еще минутку на изучение елизаветинской поэзии. Она встала под душ и вымыла шампунем волосы. Когда они высохли, она, критически осмотрев себя в зеркале, попышнее взбила челку. Перебрав свой гардероб, Джиджи сразу отложила в сторону вещи, выглядевшие либо слишком шикарно, либо подходившие только для скромницы-школьницы. Перепробовав самые разные сочетания, она в конце концов остановилась на том, которое, по ее мнению, подходило для любого ресторана — даже такого, о котором не слышал знающий все лучшие кухни города Жан-Люк. Свитер из тонкой белой шерсти с высоким, под горло, воротом отлично сочетался с юбкой из мягкой замши, цвет которой к тому же подходил к цвету ее волос. Заправив свитер в юбку, она потуже затянула широкий пояс и надела ковбойские сапоги из мягкой, красноватого оттенка телячьей кожи.
И никаких клипс, подумала Джиджи, колдуя с косметикой: клипс для выбора у нее было пар, наверное, десять, но их сложный и тонкий язык она еще усвоила не полностью. Клипсы могут подчеркнуть ваш наряд — или совершенно его разрушить. И в разных случаях их так по-разному носят — тут нужен был кто-нибудь, обладавший опытом Билли, чтобы объяснить, какие надевать, почему и когда. Хотя существовал простой, ни к чему не обязывающий выход — проколоть уши и носить маленькие золотые или серебряные шарики, — но Джиджи бросало в дрожь при одной мысли о прикосновении иглы к мочкам.
Накинув на плечи просторную кожаную куртку, Джиджи вышла в полукруглый вестибюль и села на стул у двери, откуда можно было сразу увидеть машину Вито. Вито был точен, и при виде его остановившейся у дома машины Джиджи кинулась из дверей и, скользнув на переднее сиденье, приложилась к отцовской щеке быстрым, порывистым поцелуем. Можно было подумать, что для обоих такие встречи — дело вполне обычное, хотя на самом деле Джиджи ехала ужинать с отцом в первый раз в жизни.
За болтовней о погоде они почти не заметили, как преодолели и без того недлинный путь до «Доминика», находившегося на бульваре Беверли. Вито сразу отыскал место на стоянке, позади ресторана, знакомый только завсегдатаям и, взяв за руку Джиджи, провел ее через черный ход в небольшую кухню, а оттуда в зал. Они с Джиджи, как он и хотел, оказались в этот вечер здесь первыми. Вито заказал особую кабинку — чуть поодаль от остальных, в самом конце, справа, так что Джиджи видела весь зал со своего места, Вито же сидел, напротив, к залу спиной.
Потягивая настоящий, в стиле сороковых годов мартини с джином, который приготовил для него в баре Доминик, Вито неторопливо рассказывал Джиджи о ресторане, о том, какую интимную, клубную — а лучше сказать, семейную — атмосферу гарантировал он своим посетителям. Зал позади него заполнялся довольно быстро — Голливуд рано ужинает по воскресеньям, но Вито ни разу не обернулся посмотреть, кто пришел.
Все его внимание, казалось, приковано было к Джиджи — крупная голова с густой шапкой коротких, жестких, вьющихся волос постоянно склонялась к девушке. Он подробно расспрашивал Джиджи об учебе, с вниманием слушал ее ответы; хотел знать все о Мэйзи и других ее подружках и друзьях по школе — и Джиджи то и дело хихикала над шутками, которыми он сопровождал ее короткие, живые реплики. Когда подали бараньи отбивные с жареным картофелем, он уже знал ее жизнь во всех мельчайших подробностях, но продолжал засыпать Джиджи вопросами, неожиданными, нередко весьма забавными. Он будто растворялся в ней, был глух ко всему остальному, как только может быть глух мужчина при встрече с красивой, влекущей женщиной — для него перестает существовать все, кроме желания видеть ее, слышать ее голос.
Джиджи словно отогревалась в лучах его галантного, мужского и ей одной предназначенного внимания. Ее глубокий, по-девичьи радостный смех звенел снова и снова, прорезая плотную завесу сигаретного дыма, сплетен и приглушенного гомона, повисшую в низком сумрачном зале; ему вторил довольный, снисходительный смешок Вито. Джиджи склонила к отцу свою точеную, очаровательную изящную головку; строгая простота свитера подчеркивала переливы ее волос, ворот охватывал кольцом стройную шею, подчеркивая изящную линию ее маленького подбородка, которому позавидовала бы любая женщина. Джиджи столь всецело, не обращая ни на что внимания, отдалась удовольствию говорить, быть рядом с Вито, что сидевшие по соседству в кабинках и за столиками могли лишь изумляться странному ореолу беззаботного, праздничного веселья, витавшего над столом Вито Орсини — веселья, отделявшего эту пару от всего зала.
Покончив с десертом, они собрались уходить — прежде чем кто-либо другой в этом храме бифштексов закончил трапезу. Подписав чек, Вито поднялря, и они с Джиджи продефилировали, держась за руки, через весь зал; Джиджи краснела и была очень собой довольна, хотя старалась не показать этого. На пути к выходу Вито останавливался у каждого стола, чтобы коротко представить ее; гордая улыбка, счастливый блеск глаз, как всегда, придавали Вито вид конкистадора, стоящего на пороге новых побед. «Сид, Лоррейн, моя дочь, Джиджи Орсини… Шерри, Дэнни, моя дочь, Джиджи Орсини… Лью, Эдди, Джиджи Орсини, моя дочь… Барри, Сэнди, Дэйв — моя дочь, Джиджи Орсини…» Когда они наконец пробрались к кухонной двери, а оттуда — на улицу, Джиджи уже была знакома с немалой частью самых важных боссов в мире кино, каждый из которых за час до того готов был побиться об заклад на весьма солидную сумму, что менее всего в этот вечер можнр было ожидать визита Вито Орсини в любимый его ресторан — да еще в таком беззаботном, почти мальчишеском настроении; ну да, но они же не знали, что у Вито такая ослепительно прелестная дочь и между ними такие теплые и близкие отношения…
И потому они вот уже несколько минут обменивались многозначительными взглядами, в которых читались изумление по поводу беззаботности, с которой Вито принял то, что уже расценивалось как провал года, и неясное, но почти благодарное осознание того, что есть в жизни нечто более важное, чем провал или успех очередной ленты. У всех у них были семьи, у многих дети — и разве не это, по большому счету, имело самое большое значение? И что в таком случае думать о том, кто никаким, даже самым серьезным напастям не позволил помешать ему провести вечер с дочерью — такой, как Джиджи? Только снять перед парнем шляпу — ничего более. И даже после того, как за Джиджи уже закрылась дверь «Доминика», кое-кто из сидевших за столиками голливудских дельцов то и дело ловил себя на странной мысли — какой же все-таки везучий тип этот самый Вито Орсини.
Всю обратную дорогу Вито мрачно молчал, но Джиджи этого не заметила. Мысли ее занимал прошедший вечер — ничего подобного она никогда не испытывала и даже представить себе не могла, что такое может устроить ей ее отец.
Когда они уже подъезжали к дому, Джиджи заметила отъезжавший от ворот лимузин, доставлявший обычно Билли из аэропорта.
— Ой, Билли дома, — встревоженно сказала она.
— Что ж, тогда я не буду заходить, — отозвался Вито. — Попрощаемся здесь, идет? Я ведь завтра уезжаю из города.
— Надолго?
— Да. Может быть, на несколько месяцев.
— Ой, па… — Джиджи вдруг почувствовала себя одинокой.
— Я тебе не хотел говорить раньше, чтобы не портить вечер. Мне придется поехать во Францию, по одному договору… я его заключил еще до того, как вышли в свет «Зеркала». Я тогда подписал контракт на два фильма, с иностранцами… дельцы из Ливана, денег — куры не клюют, и они решили с их помощью завоевать местечко в ки-ношном бизнесе. Вот мне и придется сделать им эти самые фильмы — пока с этим не разберусь, ничего нового начать не удастся. Послезавтра я встречаюсь с ними в Париже. И снимать будем тоже, скорее всего, в Англии и во Франции.
— До чего же жалко, что ты уезжаешь!
— Да, я понимаю. Мне вовсе не хочется ехать туда, но, сама понимаешь, дела. Как говорил Вилли Саттон, я граблю банки лишь потому, что там деньги лежат… а тут они лежат, скажем так, в Париже. Но было бы здорово, если бы ты смогла приехать туда летом на пару недель… я бы, может, даже подыскал тебе какую-нибудь работенку — ввел бы, так сказать, в курс наших дел. Я позвоню из Парижа Билли, и мы с ней это обсудим, ладно?
— Ой, только не забудь, пожалуйста, я так хочу поехать — правда хочу!
— Не забуду, — пообещал Вито. Открыв дверцу, он быстро и нежно поцеловал Джиджи и, отъезжая, помахал ей.
Возбужденная и одновременно расстроенная, Джиджи вошла в дом и поднялась по лестнице в комнату Билли.
— Дорогая моя! — обернувшись, Билли крепко обняла дочь. — Ты, должна тебе сказать, потрясающе выглядишь! Но… почему вдруг такая грусть? Что случилось? Отец сказал тебе что-нибудь ужасное? Уильям сообщил мне, что ты ездила ужинать с ним.
— Он сказал только, что уедет бог знает на сколько времени — будет делать во Франции новый фильм.
— Но его можно понять, ведь так? — осторожно спросила Билли.
— Да, это все, наверное, здорово. Только мне не хочется, чтобы он уезжал.
— А он говорил что-нибудь о своей новой картине?
— Ни слова, слава богу! Я так боялась, что он меня спросит!
— Значит, и тебе можно было о ней не говорить, — Билли пристально посмотрела на девушку.
— Я и не говорила. Мне вообще было очень неловко вначале, когда мы только пришли, но потом я поняла, что он решил вести себя так, будто ничего не случилось, — и успокоилась. Знаешь, так замечательно мы с ним никогда не разговаривали! Ой, Билли, он так подробно выспрашивал все-все про меня… ну, как будто он впервые открыл меня для себя! А мне так много нужно было ему рассказать, и он так потрясающе слушает… и я напрочь забыла про этот фильм, как будто его и не было. Он просто вылетел у меня из головы.
— Гм-м. — Билли задумалась.
Когда им с Мэйзи и Джиджи так и не удалось заказать билеты на «Крамер против Крамера», они в ту пятницу попали в Вествуд, на один из первых сеансов «Стопроцентного американца». Никто из девушек не решался предложить уйти, даже когда фильм со всей очевидностью явил свою полную несостоятельность, пока Билли, искренне переживая за Джиджи, не додумалась сослаться на головную боль и вывести их из зала. После Джиджи снова и снова, словно заучивая наизусть, читала многочисленные рецензии и мучилась так, что Билли наконец пришлось забрать у нее вырезки и порвать их.
— А где же вы ужинали? — спросила Билли.
— В ресторане под названием «Доминик». Потому от меня, наверное, и пахнет, как от жаровни. Зато, когда мы уходили, я познакомилась там с кучей папиных друзей… он, по-моему, там всех-всех знает. И они все так мило вели себя — как будто и правда ничего не было. Никто ни слова не сказал отцу о его фильме.
— Так обычно и бывает… на публике. Ведь никто из них не может заранее знать, когда и ему выпадет оказаться в том же положении, что и Вито, — поэтому это нечто вроде правила поведения, — объяснила Билли, обняв и крепко прижав к себе девушку.
«Ты подлая дрянь, Вито, — с горечью думала Билли, — на этот раз ты прятался за спиной дочери, о которой до того ни разу не вспомнил, вытащил ее в самое людное место, вскружил ей голову своим обаянием, разыгрывая из себя любящего отца, и выставил ее на обозрение перед всем Голливудом, зная, что она сможет разрядить напряженность момента, — сбил с толку толпу, швырнув ей в глаза горсточку звездной пыли. Я представляю, как ты увивался вокруг нее весь вечер — ведь однажды сама клюнула на это. Ты заставил собственную дочь влюбиться в тебя — в своих корыстных интересах. Что же теперь ты собираешься делать с ней — теперь, когда овладел ее душой?» Билли сокрушенно качала головой, не замечая слез, катившихся из глаз.
6
Сидя за рабочим столом в своем кабинете в «Магазине Грез» и потягивая крепкий французский кофе, который сама варила себе каждое утро, Вэлентайн О'Нил размышляла о многих вещах. Шла весна 1980 года, и именно в эту весну она была необыкновенно, полностью счастлива. Интересно, подумала она, много ли найдется в мире абсолютно счастливых женщин? Да еще в таком безалаберном возрасте — в двадцать девять лет? У нее лично создавалось впечатление, что большинство женщин в двадцать девять заняты в основном тем, что волнуются — из-за любовников, мужей, детей, работы, из-за отсутствия одного, второго, третьего или четвертого или из-за желания получить это все разом. И большинство женщин не достигают полного счастья, а оно в первую очередь означает некую безмятежность, позволяющую наслаждаться своим счастливым состоянием — разве не так? — до тех пор, пока, уже в возрасте милых бабушек, не получают возможность удалиться на покой и наконец заняться собою; по крайней мере, в этом всегда пыталась убедить ее мать. Бедная мама, подумала Вэлентайн, такая умница — и умерла так рано; и ведь работала до последней минуты — и не кем-нибудь, а портнихой в Доме моделей самого Бальмэна.
Нет, подумала Вэлентайн, все же она не полностью счастлива — она ведь до сих пор не может примириться со смертью матери. Когда-то ее мать, француженку, встретил в день освобождения Парижа на улице американский солдат; она стала его женой, и он увез ее жить в Нью-Йорк, где и родилась Вэлентайн. Однако после безвременной смерти мужа молодая вдова увезла дочь — полуфранцузских-полуирландских кровей — обратно в родной Париж, где второй школой для юной Вэлентайн стали гардеробные огромного салона Бальмэна. Именно там Вэлентайн сумела усвоить так много, что после смерти матери в 1972 году решилась вернуться в Нью-Йорк и начать там карьеру дизайнера.
И теперь, спустя восемь лет, она не только супруга Эллиота, что само по себе невероятно, но и — что еще невероятнее — вместе с Билли Айкхорн владеет двумя самыми престижными и популярными салонами мод — «Магазином Грез», в Чикаго и здесь, в Нью-Йорке! Если бы только мама могла увидеть, как она счастлива, подумала Вэлентайн, все еще не в силах поверить в это самое счастье — нужно было с кем-то поделиться, с кем-то еще, кроме Эллиота, который частенько подтрунивал над неспособностью Вэлентайн до конца осознать, какой удивительной стала вдруг ее жизнь.
Вместе с тем Вэлентайн продолжала заниматься своим любимым делом — моделировать платья по индивидуальным заказам, неброские, но до мельчайших деталей выдержанные в традициях высокой моды. Никакая иная работа не могла заставить ее отказаться от руководства отделом женской одежды, и поэтому такие платья можно было заказать только в калифорнийском «Магазине Грез», и многие даже очень богатые женщины могли лишь втайне надеяться когда-нибудь получить их. От размеров капитала это не зависело — просто времени на всех у Вэлентайн не хватало, предпочтение она неизменно отдавала своим первым и постоянным заказчицам. Список клиентов ее салона был заполнен на год вперед, хотя, как в любом до отказа забитом списке, в нем непременно находилось место для женщин, к которым она относилась по-особому.
Например, для Джиджи Орсини. Безусловно, эскиз ее бального платья для школьного выпускного вечера она разработает сама — никому и ни за что не доверит она эту работу, даже если Билли, как всякая беспокойная мамаша, будет считать, что для Джиджи это — излишнее баловство. Как можно избаловать девушку, которая потратила целый выходной, чтобы приготовить обед из пяти блюд — в подарок на вторую годовщину их свадьбы, и обед, к изумлению и радости Вэлентайн, получился более чем превосходный — даже она сама при всем старании вряд ли сумела бы приготовить нечто подобное. Увы, ее кулинарные способности, хотя унаследованные от француженки-матери, не простирались далее нескольких аппетитных, по-домашнему милых, но вполне обычных блюд. Джиджи же обучалась у настоящего шеф-повара француза, и приготовленные ею аристократические, тонкие кушанья примерно так же походили на обычную французскую кухню, как модели Вэлентайн — на обноски из секонд-хэнда.
Если бы даже Джиджи была нескладным, угловатым подростком, разве не постаралась бы она соорудить платье, которое подчеркивало бы ее даже самые минимальные достоинства — тем более для такого события, как бал старшеклассников школы? Но любой модельер, привыкший работать с женскими фигурами, достоинства и недостатки которых приходилось скрывать, оттенять или подчеркивать, отдал бы полжизни за самую мысль о возможности придумать что-нибудь из ряда вон выходящее для этой восхитительной юной особы, в которой женская капризная манерность удивительным образом сочеталась с пылкой девичьей непосредственностью, — Джиджи Орсини. Вэлентайн казалось, что везде, где бы ни появлялась Джиджи, начинала звучать тихая, едва слышная музыка — фрагменты плавных, полных неги мелодий, которые сыграл впервые неведомый музыкант в некое бесконечно далекое и столь же прекрасное время. Джиджи будто скользнула в этот мир из иной эпохи, уже почти полвека ушедшей в прошлое, скользнула изящным, гибким движением под колеблющийся ритм джаза; эпохи, в которой она целовалась на задних, крытых кожей сиденьях длинных машин с парнями из Йейля, пила самодельный джин в подпольных погребках сомнительной репутации, курила контрабандные сигареты и сводила с ума целые эскадроны неотразимых мужчин — эта девушка, едва начавшая выезжать и у которой не было, по словам Билли, ни единой дурной привычки — а этого само по себе было довольно, чтобы Билли забеспокоилась.
Быть может, та половина ирландской крови, что текла в жилах и Джиджи, и Вэлентайн, была причиной того, что Вэл ощущала такую близость с девушкой? Или, думала она, дело в характере — ведь обе они принадлежали к породе трудолюбивых, разумных натур. Они и внешне были чем-то похожи — обе белокожие, с зелеными глазами, рыжие — неважно, с помощью каких ухищрений давался этот сочный оттенок Джиджи, неважно, что ростом Вэлентайн была повыше — Джиджи, очевидно, уже перестала расти. Делать платье для Джиджи — все равно что шить для себя самой, как если бы это у нее был бал в школе, хотя в парижском лицее, где училась в свое время Вэлентайн, ничего подобного бы точно не допустили — если вообще когда-либо о таком слышали.
Но сейчас нельзя думать о платье для Джиджи, поняла Вэлентайн, мельком взглянув на часы. Через две минуты встреча с новой клиенткой, как раз из тех, для кого в заполненном до отказа списке заказов делались исключения. Она слегка поморщилась, вспомнив просьбу Билли, которой она не могла отказать: заняться гардеробом Мелани Адамс, которая должна была сниматься в новом фильме Уэллса Коупа «Легенда».
Коуп, самый известный, удачливый, но в то же время надежный и обладавший безукоризненным вкусом продюсер в Голливуде, провел целый год в поисках выигрышной «последебютной» ленты для этой самой Мелани Адамс, которой ее первый фильм, вышедший в прошлом году, принес заслуженное признание и мировую известность.
«Легенда», в сюжете которой искусно переплетались биографии Марлен Дитрих и Греты Гарбо, была в самом деле предназначена для актрисы, которой не могло повредить сравнение — по крайней мере, чисто внешнее — с двумя бессмертными дивами. Сама Вэлентайн безоговорочно отказала бы Мелани Адамс, несмотря на всю рекламу, которую получила бы при этом, — она не нуждалась в дополнительных восхвалениях в прессе и обычно не поддавалась на просьбы, сколь настойчивыми они ни были.
Потому что для Вэлентайн Мелани Адамс навсегда оставалась бывшей манекенщицей, которая четыре года назад оставила, уходя, в руинах душу и сердце Эллиота — и Вэлентайн пришлось немало тогда потрудиться, чтобы восстановить разрушенное.
Дело в том, что Эллиот, ее Эллиот, всегда был самым искренним почитателем женского пола. Сама мысль о том, что в мире есть женщины, вызывала в нем чистейший восторг — и он дарил им себя с тем же теплом и нежностью, какими неизбежно встречала его прекрасная половина, лечил их раны и согревал их души. Но еще до того, как расцвела его любовь к Вэлентайн, он имел несчастье любить другую женщину — Мелани Адамс.
А она — она была с ним жестока до крайности, безжалостно использовала его, лгала бесконечно; чувство Эллиота вызывало у нее лишь презрение. Эллиот ни в чем не обвинял Мелани, когда ему случалось заговаривать о ней с Вэлентайн — наоборот, он старался понять ее, объяснить как-то ее поступки, но Вэлентайн сама понимала все, и в душе ее крепло желание наказать женщину, осмелившуюся причинить ее Эллиоту столько боли, унизить человека, которого любила она, Вэлентайн. Эллиот был настоящим джентльменом. Встреть он сейчас Мелани Адамс — и он был бы добр к ней, не допустил бы и мысли о мести; но женская натура Вэлентайн требовала отмщения.
И к тому же, говоря откровенно, — Вэлентайн невольно качала головой, словно ее изумляла собственная догадка, — не любопытно ли ей просто взглянуть на эту самую Мелани Адамс? Увидеть собственными глазами во плоти ту единственную женщину, кроме нее самой, которую когда-то так сильно любил Эллиот?
Мелани Адамс прибыла в студию как раз в ту минуту, когда Вэлентайн застегивала последнюю пуговицу простого белого халата, который при встречах с клиентками всегда надевала поверх костюма. Мелани сопровождала целая свита: собственной персоной Уэллс Коуп, красивый блондин лет сорока, стройный и ухоженный, исполнительный продюсер, два рекламщика, личный парикмахер Мелани Адамс и секретарь. Все шестеро, разумеется, кругами ходили вокруг звезды, так что вначале Вэлентайн просто не разглядела ее — мадам стояла с отсутствующим видом среди своих клевретов, словно жрица среди покорного племени, а они по очереди представлялись тем временем хозяйке салона.
— Мне искренне жаль, мистер Коуп, что я не могу пригласить вас в студию, — объявила Вэлентайн, когда церемония окончилась. — Я понятия не имела, что вы лично собираетесь сопровождать мисс Адамс, и я, право, не могу понять, к чему здесь все эти люди.
Уэллс Коуп рассмеялся — холодный тон Вэлентайн, как видно, ничуть не задел его.
— Разумеется, мне следовало предупредить вас, мисс О'Нил, но костюмы к «Легенде» слишком важны для Мелани, чтобы она могла приехать сюда одна. Мы здесь лишь для того, чтобы облегчить вам вашу работу, помочь вам, и…
— Со своей работой я справлюсь сама, мистер Коуп. Я читала сценарий и, думаю, весьма точно представляю себе, какие именно костюмы вам требуются. Мне нужна только мисс Адамс.
— Но… вы, видно, не понимаете. Мисс Адамс… Мелани… взяла нас с собой, чтобы мы, так сказать, проторили ей путь, обеспечили тыл, и…
— И все это время держали бы ее за руку? Если она не находит возможным мне на это время довериться, не стоит и начинать, уверяю вас. Разумеется, в будущем ваше участие будет необходимо — ваши суждения о подобранных моделях, замечания, корректировка — с моим, разумеется, участием, — но сегодня мне нужна мисс Адамс, и только она. И, к сожалению, именно сегодня я не могу уделить ей более двух часов. Итак, вы оставите ее здесь со мной или предпочитаете вместе с ней покинуть студию?
— Видимо, вам следовало меня предупредить. Я никак не ожидал, что вы столь… э-э… — Уэллс Коуп больше не улыбался.
— Столь?.. — подняла брови Вэлентайн, в душе довольная его замешательством, что, однако, никак не отразилось на ледяном выражении ее лица.
— Столь… решительны.
— Нравится это вам или нет — вам виднее; а теперь, мистер Коуп, извините, но вы отнимаете мое время.
— Мелани? — Коуп вопросительно посмотрел на нее.
— Бог мой, Уэллс, неужели вы все не можете выкатиться отсюда к чертовой матери? — В голосе Мелани Адамс до сих пор слышались отзвуки нежных провинциальных переливов говорка ее родного Луисвилла, штат Кентукки; однако интонация была уже здешней — резкой.
Уэллс Коуп сам нашел ее, придумал ее, сделал ее актрисой, подписал с ней контракт на четыре фильма. Поклонение, потоком обрушившееся на нее после первой картины, сделало для нее опеку Уэллса достаточно тягостной, но она пока не видела способа вырваться.
— Ладно, — объявил он, слегка поморщившись, — к обеду я заеду за тобой. Пошли, — бросил он остальным, — дамы сами разберутся со своими делами.
— Ну вот, — кивнула Вэлентайн, когда они наконец остались вдвоем, — так, по-моему, гораздо лучше.
— Я восхищена вами, мисс О'Нил. Никогда не видела раньше, чтобы Уэллса кто-нибудь вот так выставил. Здорово, честное слово!
— Зовите меня Вэлентайн. И обычно я вовсе не такая колючая, но их присутствие было совершенно излишним. Удивительно, что они не догадались об этом сами.
— Я и сказала Уэллсу, что вы не работаете с кем-либо сообща, но они так волнуются из-за этих костюмов, ну, чтобы они соответствовали времени; «Легенда» — это ведь костюмный фильм…
— Для которого я, разумеется, ни за что не стану делать костюмы, которые точно соответствовали бы тому времени, — боюсь, то, что действительно носили женщины в те годы, сегодня могло бы показаться нам странным.
— Точно! Когда я разглядывала все эти старые фотографии Гарбо и Дитрих — ну, когда они еще только приехали в Голливуд, — подумала то же самое. Одеты обе черт знает как, прямо пугала какие-то, все или слишком длинное, или слишком громоздкое, или, наоборот, чересчур в обтяжку… и эти кошмарные шляпы, бог мой! Я сначала хотела даже отказаться от роли — такое мне вовсе не улыбалось носить.
— На этот счет не беспокойтесь, — заверила Вэлентайн, все это время пристально наблюдавшая за Мелани Адамс — как она двигается, всплескивает руками, пожимает плечами, вскидывает голову… Она выглядела более миниатюрной, чем на фотографиях, но еще красивее, даже красивее, чем на экране, — если такое вообще возможно, подумала Вэлентайн. — Я постараюсь лишь сымитировать стиль того времени, — продолжала она, повернувшись к Мелани, — изменю его, подгоню под вашу внешность, но тем не менее у публики останется впечатление, что вы одеты по самой большой моде тех лет. И в первую очередь я намерена избежать — и за это мистер Коуп мне хорошо заплатит — слепого подражания реальности.
— Подражания реальности… мне нравится; я, кажется, понимаю, — медленно произнесла Мелани.
Именно эту реальность ей никак не удавалось почувствовать — как бы она этого ни хотела. Всю жизнь, сколько бы ни говорили ей, как она красива, какие бы мужчины ни любили ее, ей никогда не удавалось внутренне ощутить себя всамделишной, действительно живущей Мелани Адамс. Порой с капризной досадой избалованной девочки она сетовала про себя на то, что ощущение реальности ей давал, к сожалению, только внезапный насморк.
Но когда Мелани Адамс переступила с подиума на подмостки, она вдруг поняла, что стрекот съемочной камеры рождает у нее именно это самое ощущение. Чувство того, что она, как и все вокруг, здесь, среди них, живая… Но камера замолкала — и Мелани снова тщетно пыталась вырваться из обступавшей ее пустоты, разорвать невидимую, но прочную пуповину, привязавшую ее к созданному ею образу, и шагнуть в большой мир; так птенец изо все сил пробует разбить скорлупу — но скорлупа слишком толстая. Чтобы удержать это зыбкое, неверное чувство самой себя, Мелани научилась мгновенно влюблять в себя любого мужчину, но даже самое пылкое обожание не могло помочь ей сбросить цепи, сковывавшие ее «я» — тяжкие оковы вечного самолюбования.
— Я сказала — слепого подражания, — мягко поправила ее Вэлентайн.
— Н-но… это ведь почти одно и то же, правда? — рассеянно отозвалась Мелани, перебирая рулоны материи, прислоненные к стене у рабочего стола Вэлентайн; на ее тонких пальцах словно оседала на миг величавая плотность бархата, невесомая легкость кашемира, холодок атласа. Внезапно Мелани, словно очнувшись ото сна, повернулась к Вэлентайн. — Ведь вы — жена Спайдера Эллиота, верно? — с любопытством спросила она. Она, конечно, видела фотографии Вэлентайн в «Женской моде», но ни разу не встречалась с ней лично. И никак не ожидала, что Вэлентайн окажется такой искренней и внимательной. По правде говоря, Мелани вовсе не хотелось встречаться с женой Спайдера и приехала она сегодня сюда только по настоянию Уэллса.
— Да, мы с Эллиотом женаты уже два года, — отсутствующим тоном отозвалась Вэлентайн.
— Я когда-то была близко знакома с ним… собственно, это он сделал мне первые пробы, когда я решила стать манекенщицей. Можно даже сказать, наверное, что это он помог мне начать… мою карьеру.
— Можно сказать и так, — согласилась Вэлентайн, — но фотографировать вас мог и любой другой — Эллиот утверждает, что с вас просто невозможно сделать неудачные снимки. Помню, он рассказывал, что когда Хэрриет Топпинхэм увидела ваши первые фотографии в «Фэшн энд Интериорз», то сказала, что вы «красивы убийственно» — вы этого не знали?
— Нет, — Мелани рассмеялась, довольная. — Хэрриет ведь всегда была на самом верху, всегда до нее не достать, но редактор она, конечно, великий. Бог мой, вы, должно быть, не один пуд соли съели со Спайдером, если он рассказал вам это — ведь сущий пустяк и прошло уже четыре года, а он, надо же, помнит до сих пор!
Вэлентайн извлекла сантиметр.
— Давайте я сниму мерку, пока мы не забыли, — произнесла она. — Стойте спокойно, пожалуйста.
Ловкими движениями она принялась обмерять самые важные расстояния — от затылка до верхнего позвонка, от него — да края плеча, потом — до локтя, от локтя — до запястья, от запястья — до кончика среднего пальца; это было только начало — но именно это начало она бы не доверила никому.
— Нет, не то чтобы он это вспомнил, — продолжала Вэлентайн, орудуя сантиметром. — Просто мы жили по соседству тогда, в крошечной меблирашке, и у Эллиота вошло в привычку вечером рассказывать мне все, что с ним случилось за день. Я, знаете, легкомысленно взяла на себя обязанность готовить ему, если вечер у него оказывался свободным, — но, уверяю вас, без этого бедняга просто умер бы с голоду. А в тот день, когда он впервые встретился с вами, он с порога заявил мне, что объяснился вам в любви, хотя даже не знал тогда вашего имени! И еще, помню, сказал, что вы очень удивились — до того, что удержать вас в студии ему удалось только при помощи кольца печеночной колбасы и сандвича из швейцарского сыра и черного хлеба! — Голос Вэлентайн дрогнул от сдерживаемого смеха. — А меня очень впечатлило, что даже при таком, казалось бы, взрыве чувств ему хватило присутствия духа, чтобы соорудить вам приличный сандвич; вот когда я однажды приплелась искать у него утешения после одного неудачного романа, он не придумал ничего лучше, как накормить меня консервированным супом «Кэмпбелл» и галетами!
— Он вам рассказал, что в меня влюбился?!
— Ну конечно! — пожала плечами Вэлентайн. — У нас ведь секретов не было. Я понимаю, звучит это, возможно, странно, даже наверняка — мужчина и женщина, не скрывающие ничего друг от друга… но именно так и случается, если все начинается не с любви, а с простой, самой обыкновенной дружбы.
— Простой дружбы? Мне кажется, тут все же нечто большее!
— Совсем нет, уверяю вас. На самом деле Эллиот сначала мне не понравился — или, возможно, я просто не одобряла его привычки по уши, безоглядно влюбляться во всех хорошеньких манекенщиц Нью-Йорка. Вы, наверное, уже поняли, что именно так выглядели его отношения с женщинами к тому моменту, когда он встретил вас. Представляете, могла ли я доверять мужчине с таким списком… блужданий от женщины к женщине; любовь до гробовой доски могла возникнуть у него где и когда угодно — и совершенно неважно к кому, лишь бы была красива. Поэтому ему пришлось немало над собой поработать, прежде чем он завоевал мое доверие… ну и привязанность потом.
— А как… как он убедил вас… что ему можно довериться? — вопрос Мелани словно позвучал откуда-то издалека — таким тихим был ее голос.
— О, этого мне лучше вам не говорить, — Вэ-лентайн слегка улыбнулась. — Получится, что я хочу польстить вам, а если мы собираемся работать вместе, в этом качестве от меня вряд ли будет толк.
— Значит, это имеет ко мне отношение? Ну, Вэлентайн, тогда вы тем более должны мне сказать! Скрывать это от меня теперь просто нечестно, и вы сами это знаете. Если не хотели говорить, не нужно было и упоминать об этом…
Вэлентайн отложила сантиметр в сторону.
— Знаете, Мелани, вы, наверное, правы. И Эллиоту, пожалуй, тоже не следовало об этом мне говорить. А мне вам — тем более.
— Нет, теперь я настаиваю! Обещаю вам, что правильно все пойму… и потом, если он говорил вам все-все, почему он должен был скрывать это? Ну, скажите, Вэлентайн!
— Ну, хорошо… помните, после того, как вы снялись в первом фильме, вам пришлось довольно долго ждать, прежде чем мистер Коуп наконец решил, каким должен быть следующий шаг в вашей карьере?
— Еще бы, такое не забывается! От этого ожидания я чуть не сошла с ума… Но какое отношение это имеет… ну, к тому, что вы стали доверять Спайдеру?
— Тогда вы внезапно пропали из поля зрения Эллиота, уехали в Голливуд, и он долго вас не видел — с тех самых пор, как вы вдруг исчезли в Нью-Йорке среди бела дня; ах, Мелани, знали бы вы, чего мне стоило помочь ему справиться с этим ударом. Бедняга Эллиот долго не мог отойти от этого — несколько недель по крайней мере, до тех пор, пока не встретил очередную любовь, но вообще для его мужского «я» это было невредно — узнать, что нашлась по крайней мере одна девушка, сумевшая сказать «нет»… Так о чем я? Ах, да, так вот, когда уже немало времени спустя вы появились вдруг в его доме, здесь, в Лос-Анджелесе, и… — Голос Вэлентайн дрогнул. Краска бросилась ей в лицо, и она поспешно отвернулась от Мелани.
— Ну так и что? — Голос Мелани звучал требовательно.
— И… Мелани, вполне естественно, что вы двое в тот день занялись любовью, ведь верно? И это было замечательно — так? Так, конечно. Поверьте, я вполне понимаю, почему вы решили вдруг возобновить роман с Эллиотом — многие, очень многие женщины не могли его забыть, но… Когда он рассказал мне о том — как бы это выразиться? — о том, что ему пришлось дать вам понять, что его чувства к вам прошли, кончились — какой бы восхитительной ни была ваша близость… так вот то, что он от вас полностью освободился — а я думаю, что очень немногие мужчины, вас любившие, могут про себя такое сказать, — наверное, и позволило мне понемногу, исподволь начать ему верить, верить в то, что он, может быть, и вправду подрос и избавился от привычки виснуть на любой симпатичной девушке, которую видел на горизонте. Вот так… Я ответила на ваш вопрос, Мелани?
— Полностью, — Мелани попыталась выдавить из себя улыбку.
— И не очень польстила вам?
— Еще не знаю, Вэлентайн. Об этом мне надо подумать.
— Браво! Тогда начнем. Я набросала здесь несколько предварительных эскизов — так, идеи, — которые не хотела показывать мистеру Коупу, пока не выскажете свое мнение вы. Ведь вам, а не ему носить эти костюмы, поэтому и делаю их я для вас, а не для него. Пойдемте за мой стол, и я все покажу вам.
Пока Мелани переворачивала листы, внимательно их рассматривая, Вэлентайн думала, слегка удивленная и в то же время довольная собой, как же мало до сих пор знает она о собственных возможностях и чувствах. Оставив Мелани восторженно ахать над эскизами, Вэлентайн, откинувшись в кресле, наслаждалась редким удовольствием — сигаретой. У себя в кабинете она всегда держала пачку «Голуаз Бле» — на тот случай, если ей понадобится собраться с мыслями; сейчас же, пытаясь справиться с внезапно нахлынувшими эмоциями, она ощущала в этом особенно острую потребность. Во-первых, никогда не могла она представить себе, что ей с такой легкостью удастся представить ее Эллиота в виде волокиты, влюблявшегося во всех встречных женщин — хотя на самом деле за всю жизнь Эллиот любил всего двух. А во-вторых, до сегодняшнего дня она и не думала, что до сих пор так яростно ревнует его к Мелани Адамс. Тогда, во времена его романа с Мелани, Вэлентайн почти удалось убедить себя, что она думает о нем только как о друге, хотя теперь она понимала, что полюбила его с первого дня, как увидела. А главное — несмотря на всю эту путаницу давних чувств, она знала, что сделает этой столь ненавистной ей некогда Мелани действительно великолепные костюмы, на этот раз она превзойдет самое себя.
Вэлентайн решила, что новые костюмы помогут милой несчастной Мелани хотя бы на время позабыть про свою печаль. До сегодняшнего дня она бы ни за что не поверила, что самым сильным чувством, которое вызовет у нее встреча с Мелани Адамс, будет жалость.
* * *
Из кабинета Марка Хэмптона Сьюзен вышла, напевая; настроение было беззаботным, как у молоденькой дебютантки. Как только у знаменитого дизайнера появится время, он немедленно вылетит в Калифорнию, чтобы осмотреть ее дом, а потом вернется в Нью-Йорк и придумает, как этот дом переделать — от подвала до крыши, от носа до кормы, от гостиной до ванных комнат. А какой он внимательный! Его знаниям об интерьере прошлых эпох могла позавидовать любая энциклопедия — однако и требования сегодняшнего дня он чувствовал так тонко, что для клиентов, подобных ей, тяготевших к роскоши, но роскоши уютной, домашней, в которой все подчиняет себе комфорт, более подходящего мастера сыскать было трудно. Экстравагантность и величие он чувствовал до мельчайших оттенков. В мозгу Сьюзен до сих пор звучала фраза, сказанная им во время их последней встречи: «Единственная догма, которой стоит следовать, — догма, придуманная тобой». Фраза эта касалась всего лишь украшения спален, но Сьюзен чувствовала, что она годится и для многих других жизненных случаев.
Ожидая в обычной для раннего нью-йоркского вечера толпе зеленого сигнала светофора на переходе через Пятую авеню, Сьюзен почувствовала ту необычную, сходную с легким опьянением невесомость, которая всегда по приезде из Лос-Анджелеса охватывала ее на нью-йоркских улицах. Она часто приезжала сюда, но никак не могла привыкнуть к этой толпе на Манхэттене, где каждый неустанно отвоевывал себе маленький кусочек пространства — как вот сейчас, боясь, что красный свет загорится прежде, чем она успеет пересечь улицу.
Благодарение господу, подумала Сьюзен, — и эта мысль всегда посещала ее в первый день на Манхэттене, — что она все-таки родилась на побережье. В Нью-Йорке даже дочь и единственная наследница Джо Фарбера стала бы лишь одной из сотен богатых дам, вся жизнь которых проходила в непрерывной борьбе за общественное внимание. Если бы она жила здесь, то непременно оказалась бы в толпе таких, как она сама, и так же, как эти люди вокруг — за свое право перейти улицу, боролась бы сейчас за место в здешнем бомонде. Пришлось бы год за годом пробиваться в этот круг — круг женщин, наследниц состояний старинных семей, еще больше, чем она сама, гордящихся своим происхождением, и тех, кто разбогател недавно — в банковском бизнесе, на бирже, в промышленности, в издательском деле — короче, на всех тех золотоносных жилах Америки, чьи владельцы осели наконец здесь, в Нью-Йорке.
В Голливуде, городе индустрии — индустрии кино, одним из немногих финансовых гигантов которой считался в свое время ее отец, — она просто не могла не достичь вершин. Успех ее был предопределен — избежать его удалось бы лишь при большом желании. Сьюзен знала это; да и любая женщина, обладавшая в расчетах таким же холодным, трезвым умом, могла лишь смириться с непреложностью этого факта. Тем не менее она прилагала все усилия, чтобы вершина, на которой она была, оставалась всегда самой высокой, сражаясь за очередную ступень, даже когда прямой нужды в том не было, и ища власти, власти гораздо большей, чем та, которую мог предоставить ей Голливуд — ведь в нем правили мужчины.
Но зато здесь, в Нью-Йорке, женщинам удавалось иногда добиться власти самим — и такой, которая не оставалась бы им в виде напоминания о величии отца или мужа, как это почти всегда случалось в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке женщина могла издавать журнал, возглавлять рекламное агентство или салон моды и не быть при этом обязанной ничем ни одному мужчине.
Но взяться за это означало бы стать женщиной работающей, строящей карьеру, рискующей, подумала Сьюзен Арви, а подобная жизнь отнюдь не привлекала ее. Встать утром, чтобы отправиться на урок тенниса — это одно, но идти в такую рань в офис! Как говорят французы, «негоже лилиям прясть».
Оказавшись наконец в номере отеля «Шерри Нидерланд», еще давным-давно откупленным для себя семейством Арви, она позвонила домой. В Нью-Йорке только миновал полдень — значит, в Лос-Анджелесе день уже клонится к вечеру.
— Да, Керт, у меня все в порядке. Я только что от него… о, он просто божественный. Да, дорогой, мы решили переделать все… во всем доме. После этого, согласись, будто молодеешь… да, и есть шанс не состариться. Не захочешь же ты, чтобы я продала наши картины и начала собирать эту… современную живопись? О, нет, уехать отсюда я смогу еще только через три дня… так много дел, представляешь. Как ты себя чувствуешь, милый? Лучше? Ну, хорошо. Постарайся забыть об этом ужасном фильме. Нам всем придется… Сегодня вечером? Как всегда. Натали обнаружила потрясающий спектакль… Нет, не на Бродвее, а как раз очень от него далеко, чуть не в Ньюарке. Не беспокойся, разумеется, я закажу машину. Не думаешь же ты, что я поеду в нью-йоркском такси? Это все равно что запереться в шкафу с маньяком. Завтра позвоню. Береги себя, милый, постарайся выспаться как следует. Всего доброго, дорогой.
Покончив с супружескими обязанностями, Сьюзен Арви сняла украшения и положила их в сейф, который по ее заказу был вмонтирован в шкаф с одеждой. Сняв снова телефонную трубку, после короткого разговора назвала время — чуть позже, сегодня же вечером.
Блаженно вытянувшись в теплой воде ванны, она, как всегда, с нежностью подумала о Натали Юстас, подруге, с которой они жили в одной комнате, когда учились на первом курсе; потом она вышла замуж и колледж оставила. Керт терпеть не мог театральные пристрастия Натали, ее склонность к пьесам, которые, по его мнению, не стоило и писать — не говоря уже о том, чтобы ставить. И был неизменно благодарен Сьюзен, если она избавляла его от вечера в ее обществе. Собственно говоря, он уже несколько лет с ней не виделся — Сьюзен щадила его, встречаясь с Натали, только если Керт не приезжал с ней вместе в Нью-Йорк. При этом Керт понимал, что Сьюзен необходимо ездить туда чаще, чем ему самому, — как же, ее увлечение искусством, огромная коллекция… Там ведь было столько выставок, галерей, не говоря уже о любимых музеях, в которые можно ходить снова и снова. Сам он не раз говорил ей, что прекрасно без всего этого обойдется — но если Сьюзен любит, то почему бы и нет?
Почему бы и нет, в самом деле? — подумала Сьюзен Арви, рассматривая себя в зеркале. Ей только что исполнилось тридцать восемь — и необычайно симпатично и молодо выглядела она в эти тридцать восемь, — когда она впервые решила подтянуть кожу на лице.
Этот момент она старалась не упустить годы — момент, когда на подбородке появится первая предательская складочка; и поэтому оттягивала каждое утро к ушам кожу на щеках и на подбородке, а затем давала ей вернуться в нормальное состояние. В день, когда кожа показалась ей чуть более свободной — чуть более, чего не смог бы заметить никто, кроме нее самой, — она назначила на вечер консультацию с пластическим хирургом в Палм-Спрингс, который был гораздо опытнее и гораздо дороже, чем любой врач такого рода в Беверли-Хиллз.
Добрый Доктор, как мысленно она назвала его, сразу сообщил ей, что очень немногие женщины на его памяти проявляли такую сообразительность и приходили к нему на такой ранней стадии, как это сделала она. Обычно ждут до тех пор, пока необходность в… э-э… реставрации становится видна невооруженным глазом. А раньше — в голосе его зазвучала печаль — еще каких-нибудь десять лет назад доктора и сами считали, что операцию следует делать лишь тогда, когда эффект от нее будет налицо. Что означало — результат будет заметен; но ведь все дело именно в том, что заметным он как раз не должен быть. В ее же случае подтяжка будет сделана как раз в нужный срок, до того, как она действительно стала бы необходимой, объяснил он, обрадованный — здоровье пациентки во многом облегчало его задачу. Добрый Доктор заверил ее, что все будет сделано так тонко и незаметно, что даже самые дотошные из ее друзей и знакомых не смогут уловить разницы. Кроме того, неизбежные после этого кровоподтеки и припухлости пройдут очень быстро.
Добрый Доктор сдержал все обещания до единого.
Керту Сьюзен сказала, что собирается пару недель отдохнуть и поправить здоровье диетой и курсом гимнастики. Время это она провела в закрытом послеоперационном стационаре Доброго Доктора, в компании его самого и предупредительных сестер; а когда вернулась, Керт отметил, что после отдыха у нее снова блестят глаза. И сейчас, в сорок один, она выглядела точно так же, как в тридцать четыре. И надеется, что будет выглядеть так всегда — конечно, эти неизбежные морщинки «от характера» появились снова, но они, по правде говоря, довольно симпатично смотрятся, и она умело пользуется ими, когда нужно улыбнуться или нахмуриться. К тому же Добрый, Доктор сам ненамного старше ее, и под его началом трудятся сейчас два многообещающих молодых хирурга, и если она не будет в дальнейшем пренебрегать еще и теннисом, гимнастикой и массажем, то почему бы ей всегда не выглядеть на тридцать четыре?
Сьюзен Арви изучала в зеркале свое обнаженное тело — как всегда, придирчиво, внимательно и сурово, не упуская самых мельчайших подробностей. Для начала она окинула взглядом точеный, классических линий торс; благодаря неустанной заботе кожа ни на йоту не утратила свежести, оставаясь все такой же нежной, гладкой, ровного тона. Слава богу, что у нее не было детей — последствия были бы непоправимыми. После окончания утренней партии в теннис ни один луч солнца не смел коснуться тела Сьюзен — поэтому кожа у нее была как у девочки. Казавшаяся хрупкой, Сьюзен обладала в действительности почти неженской силой — многолетние упражнения сделали тело упругим, плоский живот, гибкие руки и длинные мускулистые ноги говорили о том, что ее ежедневные два часа в гимнастическом зале не проходят даром.
Укладывая светлые волосы в неизменный пучок и накладывая почти незаметную, но изысканную косметику, Сьюзен еще некоторое время посмаковала идею выглядеть на тридцать четыре в пятьдесят с хвостиком. Конечно, к тому времени все вокруг уже поймут, что какую-то «работу над собой» она делает, — просто потому, что слишком давно ее знают, но вот посплетничать о том, какую именно, когда в точности и у какого врача, что они неизменно делали по поводу каждой женщины, которая вдруг начинала выглядеть «отдохнувшей» — этой возможности у них не будет.
Пройдя в кухню пятикомнатного номера, Сьюзен достала из холодильника салат с цыпленком, заранее приготовленный для нее горничной, и быстро, не замечая вкуса, опустошила тарелку. Затем, выбрав самое простое из заполнявших шкаф роскошных дорогих платьев, оделась и вышла из гостиницы, бросив на ходу обычное приветствие услужливому швейцару. Убедившись, что отошла достаточно далеко, Сьюзен подозвала такси и назвала водителю адрес на Второй авеню. Вскоре машина подъехала к довольно бесцветного вида современному зданию; у дверей никого не было, и, войдя внутрь, Сьюзен сама вызвала лифт. Поднявшись на одиннадцатый этаж, она ключом открыла дверь небольшой квартирки, владелицей которой была уже многие годы. Квартиру, по ее просьбе, приобрели для нее опекуны, по ее же просьбе обставили стильной мебелью от «Блумингдейл дизайн» и все эти годы за ней присматривали. Назначение этого тайного прибежища заботило их настолько же мало, насколько ограничены были их контакты с супругом Сьюзен — Кертом Арви.
Гостиная вполне симпатичная, подумала она, — эта мысль возникала у нее всякий раз, как она сюда входила, — уютная, обставлена не без вкуса — в общем, такая, которую могла позволить себе любая одинокая работающая женщина. Включив кондиционер — воздух явно слегка застоялся, — Сьюзен быстро прошла в смежную с комнатой спальню. Перешагнула порог, и сердце ее забилось еще сильнее, чем в тот момент, когда она выходила из отеля «Шерри Нидерланд».
Спальня, в отличие от гостиной, не казалась ни обычной, ни недорогой, ни даже со вкусом отделанной. От окружающего мира ее отгораживали целиком закрывавшие стены и окна длинные и плотные шторы изысканно-женственного светло-розового оттенка, переходившего кое-где в более глубокие красные тона. На стенах — зеркала, несколько китайских экранов и в центре — огромная кровать со сложными переплетениями кованых спинок, горой подушек и шелковыми простынями. Спальня, хозяйке которой не чужд гедонизм и изыск. Спальня, хранящая тайны.
Через эту спальню Сьюзен быстрыми шагами вышла в обширную гардеробную, где сбросила наконец с себя надоевшую ей одежду. Придирчиво перебрав дюжину висевших в шкафу длинных, до пола, пеньюаров, она выбрала свой любимый — нежно-сиреневый, с широким поясом и глубоким вырезом. Сделанный из легкой, но очень дорогой ткани, на вид он был почти прозрачен, но сшит так искусно, что складки почти целиком скрывали фигуру Сьюзен. Из стоявшего рядом небольшого шифоньера Сьюзен извлекла на свет пять длинных рыжих и черных париков, из которых выбрала один, с длинными черными локонами. Распустив пучок, она закрепила волосы шпилькой на затылке, а затем прикрыла их сверху париком, стараясь закрепить его как можно прочнее. Парик словно сбросил с нее десять лет — теперь ей смело можно было дать двадцать четыре. Косметика дополнительного внимания не требовала — ее простота лишь подчеркивала неожиданно юный облик Сьюзен.
Во второй раз за сегодняшний вечер она встала перед высоким, хорошо освещенным зеркалом и снова пристально, изучающе себя оглядела. И при всей своей склонности к критике не могла не признать — перед ней стояла девица, совсем юная, необычайно привлекательная, с умопомрачительным телом; худшее, что о нем можно было сказать, — грудь великовата и, быть может, слишком вызывающе напряглись соски, но это, в конце концов, дело вкуса. Никто из тех, кто когда-либо знал Сьюзен, не смог бы узнать ее сейчас: темный парик невероятным образом изменил ее внешность — черные локоны спадали на лоб, скрывали скулы. Обхватив ладонями груди, она подняла их — так, что вырез халата, словно драгоценное обрамление, подчеркнул их жемчужную, рубенсовскую наготу. Полуприкрыв грудь длинными локонами парика, она раздвинула вырез пеньюара ниже талии, так, что стал виден светлый треугольник волос внизу, и стояла несколько сладостно долгих минут, слегка покачивая бедрами, в восхищении глядя на свое отражение и ощущая, как внутри ее поднимается теплая волна, нарастает обволакивающая истома, наполнявшая тело все увеличивающимся, властным желанием, Наконец, почти с неохотой запахнув пеньюар, она вышла в спальню, зажгла скрытые в углах лампы, дававшие приглушенный, неяркий свет, и убедилась, что подушки на кровати разложены по ее вкусу.
Звонок в дверь раздался, едва она успела закончить все эти приготовления. Не без внутренней дрожи она направилась в прихожую. В этих вечерних визитах ее особенно волновало то, что она никогда — никогда — не заказывала одного и того же мужчину дважды. Самого партнера это оберегало от излишнего любопытства или случайной привязанности, ее же — от скуки: каждый новый визит оказывался сюрпризом, что лишь усиливало волнение. Но все работавшие в этом агентстве мужчины, без исключения, знали толк в своем деле — именно в этом и уверяла ее пьяная в дым актриска, у которой на одной вечеринке она раздобыла телефон этого заведения.
— Уродов они, будь спокойна, не присылают — но тут дело даже не в морде; он у них как встанет, так и стоит, и дело они — ну, ты поняла, я про что, — знают отлично… хочешь верь, хочешь нет, но тут просто талант, прямо, скажу тебе, самородки… Все молоденькие, разумеется, иначе ни черта бы у них не вышло, у них же притворяться, как у девок, не получится, но они и зарабатывают потому, уж ты мне поверь, немало. Чистенькие, без грубостей и влетают, конечно, в копеечку… но клянусь тебе, дело стоит того — ну, ты поняла, про что я…
Сьюзен, конечно, притворилась, что ничего про это «что» не поняла, но карточку с телефоном агентства, которую вконец упившаяся дива сунула ей, сохранила. Дама, естественно, напрочь забыла, о чем они со Сьюзен в тот вечер беседовали, и поэтому за отношения с ней она могла не бояться: Сьюзен хорошо знала, что содержание разговоров быстро пропадает из женской памяти, если им о нем не напоминают.
Не снимая цепочки, она приоткрыла дверь. Несколько раз ее не удовлетворяла внешность присланных ей мужчин, и она, отослав их назад, тут же звонила с требованием замены. Сегодня, однако, придраться было не к чему. Впустив пришедшего, она немедленно окинула его оценивающим взглядом. На симпатичном, открытом, чисто выбритом лице молодого человека застыло неловкое, чуть виноватое выражение. Явно новичок, подумала Сьюзен, наметанным глазом сразу отмечая его рост — чуть выше ее самой, — ровный загар, светло-каштановые вьющиеся волосы, широкие плечи, весь его пышущий здоровьем и юностью вид. Одет, как и все они, под студента — рубашка «Оксфорд», перекинутый через руку светлый спортивный пиджак. Более строгих костюмов на них она никогда не видела — да и к чему бы, ведь агентство поставляло партнеров для танцев…
Заперев дверь и повернувшись к юноше, Сьюзен медленно, с расстановкой сказала:
— Ты здесь только для того, чтобы во всем мне повиноваться. Я не разрешаю задавать вопросов, что-либо говорить — полное молчание, что бы там ни было. Твое дело — чтобы я осталась довольна, а для этого ты будешь делать то, что скажу тебе я. — Хотя говорила она ровным, почти бесцветным голосом, вряд ли кто-нибудь, кто мог бы услышать ее, усомнился бы в ее серьезности.
Она прошла впереди него через гостиную в спальню, краем глаза заметив, что смущение молодого человека растет — он явно не ожидал, что клиентка так молода и привлекательна. Спальня, в которую они вошли, показалась Сьюзен огромной, розового цвета пещерой. Забрав у молодого человека пиджак, Сьюзен швырнула его на стоящий рядом стул.
— Сними с себя все, — приказала она, опускаясь в кресло около двери и разглядывая мужчину, пока он, повинуясь ее приказу, почти дрожа, спускал с крепких, стройных ног штаны, переступая по ковру босыми ступнями.
— Теперь встань спиной к двери и смотри прямо вперед; на меня не смотреть! — Не обращая внимания на его удивленный взгляд, она рассматривала загорелое обнаженное тело юноши. На его груди и бедрах густо росли волосы — такого же светло-каштанового оттенка, как и на голове. Крепко сложен, мускулы сильно развиты; тяжело свисавший меж бедер пенис показался ей короче, чем у большинства его предшественников, но зато чуть ли не вдвое толще.
Сидя в кресле, чтобы лицо ее не выражало ничего, кроме спокойного, почти бесстрастного интереса, Сьюзен чувствовала, как возрастает в ней желание при виде этого неудержимо влекущего к себе мужского тела. Да, это непременно должен быть незнакомец, лишенный всякой возможности обнаружить перед ней собственное «я», полностью подчиненный ее желаниям и не смеющий сделать ни малейшего движения, если она не позволит. Сьюзен вдруг захотелось новых, необычных ощущений; цветущая юность незнакомца и его очевидная неопытность подтолкнули ее на приказание, никогда не отдававшееся ею раньше:
— Повернись к двери, прислонись к ней; стой прямо, ноги вместе.
Когда он повиновался, она снова принялась разглядывать его. Крепкая спина юноши круто переходила в упругие округлые ягодицы, светлым пятном выделявшиеся на покрытом темным загаром теле. Поднявшись, она встала позади него, стараясь не касаться его краем пеньюара, и Легонько провела пальцем по позвоночнику до самого крестца, с удовольствием ощущая дрожь упругих молодых мускулов, которую он не смог подавить. Стараясь по-прежнему нигде более не касаться его, она начала водить кончиком пальца по его ягодицам, лаская их легкими, плавными движениями вверх-вниз. Не убирая руки, она снова приказала:
— Стой не шевелясь. И ни на дюйм от двери. Ты думаешь, что знаешь, чего я хочу, — но на самом деле в этом ты ничего не смыслишь. Тебе кажется, ты можешь дать мне это, но на самом деле я сама возьму его у тебя — возьму у тебя, ты понял?
Накрыв тугую округлую поверхность ягодиц руками, она начала легонько их растирать — плавные, проникающие в самую плоть медленные круговые движения.
— Нет! — почти со злобой крикнула она, когда почувствовала, что он слегка к ней подался. — Не сметь! Стоять на месте; ноги раздвинь — ни на дюйм от двери! — Когда он повиновался, она так же медленно — так медленно, что ему едва удалось сдержать стон — просунула руку между его бедрами и осторожно, кошачьим движением обхватила мошонку. Несколько минут, пока он, дрожа, изо всех сил пытался удержаться от малейшего движения, она, обхватив яички, взвешивала, перебирала их в пальцах, пленяясь в душе их округлой прохладной тяжестью, пробуя на ощупь жесткие курчавые волоски у основания разбухшего, вздыбившегося пениса, тесно прижатого его телом к двери.
— Возьми в руку! — задыхаясь, простонал он.
Сьюзен улыбнулась про себя, но в голосе ее, когда она заговорила, он не услышал ничего, кроме гнева.
— Я велела тебе не говорить ничего, не так ли?! Ты не смеешь просить меня ни о чем! Теперь я до него никогда и ни за что не дотронусь — и ты заслужил это наказание, ты ослушался меня!
Облизав кончики пальцев, она снова обхватила ими яички, увлажняя нежную кожу, легонько сжимая их в пароксизме охватывавшего ее наслаждения, прислушиваясь к прерывистому дыханию мужчины, в то же время словно пробуя на нем новые, сводящие с ума ласки, чувствуя, что ему вот-вот станет совсем не под силу сдерживаться.
— Ты что же, совсем не можешь справиться с собой? — спросила она презрительно. — Повернись и посмотри на меня. Тебе должно быть за себя стыдно, милый мой, ты ведешь себя как животное. Ты забыл все, о чем я предупреждала тебя. Иди и ляг на постель, на спину — и приготовься нести наказание. Я предупредила тебя один раз — и этого должно было быть достаточно.
Повинуясь, он, словно вслепую, двинулся к кровати, подошел, лег — не двигаясь, вытянув и прижав к телу руки. Сьюзен склонилась над ним, слегка распустив пояс пеньюара; груди ее нависли над лицом юноши. При виде их он лишь закусил губу, но по-прежнему не шевельнулся. Увидев, что он изо всех сил пытается подчиняться ее приказам, она раздвинула вырез пеньюара, явив глазам лежащего свое межножье, и медленно повела бедрами, пока рвущееся наружу желание не заставило его приподняться на дюйм над кроватью. Сьюзен с презрением взглянула на его пылающее лицо, и то же презрение звучало в ее низком голосе:
— Я хотела дать тебе самый последний шанс, — она запахнула пеньюар, — но ты сам от него отказался. Я хотела научить тебя… о, таким прекрасным вещам… но нет, ты потерял эту возможность… все кончено… а знаешь ли ты, чего лишился, несчастный? Все! Руки на голову, вытяни ноги, и — не двигаться!
В глазах молодого человека метнулся страх — он увидел, как рука ее поднимает с ночного столика два длинных шифоновых шарфа.
— Не волнуйся, — коротко бросила она, — я не люблю причинять боль. — Ловкими движениями она привязала его запястья и лодыжки к изгибам кованых спинок, зная, что разорвать эти шарфы, на вид такие тонкие, практически невозможно. Длинным концом третьего шарфа она завязала ему глаза — сквозь плотный шифон ему были видны лишь туманные очертания ее фигуры. Встав, Сьюзен шагнула назад с видом гурмана, предвкушающего редкое блюдо, глядя на своего пленника. Его член был похож на вздыбленный пылающий факел; и он никак, ценой даже самых невероятных усилий не мог до него даже дотронуться. Он был целиком в ее власти, возбужденный до того состояния, которое не может долго вытерпеть нормальный мужчина; но агентство не присылало клиенткам обычных мужчин, и она знала, что может делать с этим мальчиком все, что захочет, — и так медленно, как только ей вздумается.
Пеньюар, шурша, медленно упал на пол; вытащив из-под головы юноши все подушки, она швырнула их на ковер и, пробравшись на освободившееся место между спинкой и копной его коротких курчавых волос, встала на колени, глядя прямо ему в лицо, — он же старался увидеть ее открывшуюся мраморную наготу хотя бы краем глаза. Да, он хочет ее, снова подумала она, он так ее хочет… Но его неподвижность абсолютно необходима для того, что она собиралась с ним сделать. А ведь даже самые опытные из мужчин, которых присылало агентство, могли бы не выдержать того наказания, которое ей пришлось применить к нему… Стоя на коленях, она медленно наклонялась над ним, пока кончики ее потемневших сосков не оказались у самых губ юноши — но слишком высоко, чтобы он мог их коснуться. Его язык тщетно тянулся к ним, глаза сверкали под светлой пеленой шарфа. Наконец она позволила ему захватить ртом сосок и потянуть его, но тут же отдернула, несмотря на его протесты, продолжая так до тех пор, пока он не взмолился, — потеряв надежду умилостивить ее послушанием и покорностью, он униженно просил ее. Сьюзен же продолжала игру, пока ее соски совсем не отвердели, а затем все чаще стала позволять ему охватить то одну, то другую грудь алчущими губами, содрогаясь от наслаждения, пока он сосал. Лишь пресытившись этим, она, отняв грудь, подалась вперед и, отдыхая, замерла, опершись о кровать коленями и локтями, широко распахнув бедра прямо над его головой.
Затем медленно, очень медленно, зная, что он лишь беспомощно наблюдает за ней — сводящее с ума желание лишило его дара речи, — она начала опускаться к его губам, скорее чувствуя, нежели видя его жаждущий язык, устремленный навстречу ей, — влажный, твердый, — и, поколебавшись, она позволила наконец ему войти меж раскрытых бедер, коснуться ее мягких, полураскрытых нижних губ. Она позволила ему раздвинуть языком эти губы, тронуть волосы, слизывая вокруг ее влагу, задирая подбородок так высоко, как он только мог. Позволила даже попробовать на ней несколько нехитрых приемов — и чувствовала, как растет и ее возбуждение, ловя краем глаза вздымающийся перед ней его короткий, разбухший пенис, которым он жаждал и не мог воспользоваться. Оторвавшись наконец от его пылающих прикосновений, она приподнялась и отодвинулась назад на локтях и коленях, так что он не мог не только дотянуться, но и видеть ее.
— О нет! Прошу тебя! — застонал он.
В ответ она, рассмеявшись, протянула ему свой палец. Затем снова опустилась над его ртом, на этот раз низко — так, что он смог дотянуться до ее клитора и, обхватив его губами, дать волю своему языку, в то время как она медленно раскачивалась, то на секунду прижимаясь, то поднимаясь так, что он снова не мог до нее дотянуться. Снова и снова отрываясь от его рта, она слушала с нарастающим сладострастием его мольбы позволить ему войти в нее, дать лишь только войти в нее…
— О нет, — мурлыкала она, — никогда… ты гнусный мальчишка, тебе нельзя доверять, ты гадкий, ты просто гадкий… Я предупреждала тебя… я даже дала тебе возможность исправиться… но теперь тебе ничто не поможет… ты будешь сурово наказан… — Теперь она подалась так далеко вперед, что — и он знал это — могла, если бы захотела, с легкостью коснуться его пениса языком. Однако она не двигалась, позволяя ему все глубже забираться языком и губами в темную благодать между ее ног. Язык его дразнил ее быстро набухающий клитор; член же достиг вершин возбуждения — она даже почти его пожалела, почти дотронулась языком… но тут же переборола в себе это секундное искушение. Вскоре она поняла, что он более не может справиться со своим состоянием — лишенный возможности притронуться к члену или сжать его бедрами, сильными движениями мышц он заставлял его двигаться вверх и вниз — и был уже на пределе. Лишь тогда она отдала во власть его языка и губ отяжелевший, жаждущий росток своего естества, лишь тогда позволила взять над собой верх волнам похоти, быстро вынесшим ее к долгому, вздымающемуся из самых глубин оргазму, еще более сладкому из-за горячих брызг его семени, выплескивающихся в воздух — но не в нее, о нет, не в нее, это запрещено, этого не будет, пока она — наверху, пока она главная, пока она у власти…
На следующий день, встретившись за обедом с Натали Юстас, Сьюзен Арви внимательно выслушала подробный отчет о лучшей из идущих на Бродвее пьесе. Эти обеды всегда пользовались любовью Натали — приятно насладиться превосходством над старой подругой, чья жизнь, хоть и весьма интересная, не связана с театральным искусством.
— Чем ты занимаешься здесь по вечерам, Сьюзен? — Описав свой досуг во всех возможных подробностях, Натали соблаговолила наконец осведомиться и о ее.
— О, ничего особенного, в основном ужинаю с партнерами Керта; типы малоинтересные, но могут в будущем пригодиться. Ах, как я завидую тебе, Натали, — всюду, всюду-то ты успеваешь… но, понимаешь сама, на некоторые вещи у меня просто совершенно нет времени.
— Ну, может быть, когда ты наконец скупишь у Хэмптона все его антикварные побрякушки, у тебя найдется вечерок для меня? Только давай оставим Керта дома — ну… м-м… как обычно?
— Можешь на это рассчитывать, хотя после этих антикварных магазинов я, по правде сказать, всегда чувствую себя выжатой, как лимон.
— Выжатой ты не выглядишь, — заметила Натали; бьющему через край здоровью Сьюзен она всегда тайно завидовала.
— Это, подружка, все Калифорния. Я ведь говорила всегда, что там, быть может, и скучновато, но для здоровья есть что-то, безусловно, благоприятное — может, что-нибудь в составе местного смога. — Сегодня вечером парик будет рыжим, думала она, и двое парней… да, сейчас, сразу после обеда, она позвонит и закажет двух самых молодых и зеленых мальчишек, которые у них только есть… и заставить одного из них, нагого и связанного, смотреть, как она будет учить повиновению другого. Повяжет ему глаза шарфом, чтобы ничто не стесняло ее, и он будет смотреть… смотреть, пока не поймет, что свои приказы она отдает не впустую. И если усвоит свой урок правильно, может быть, она и дотронется до него языком, или даже губами… а может, и нет. Столько всего можно выдумать с двумя — вместо одного — этими мальчишками… столько же, сколько возможностей в мире, где единственная догма, которой стоит следовать, — догма, придуманная тобой.
7
— Да, Жан-Люк, вы хотели видеть меня? — Джози Спилберг подняла голову от стола в своем офисе. Интересно, для чего повару понадобилось вдруг просить ее о личной встрече?
— Я должен, мадемуазель, предупредить вас, что собираюсь уволиться… к сожалению, — спокойно сказал стоявший перед ней высокий плотный мужчина.
— О нет, Жан-Люк, вы этого не сделаете!
— Сделаю… сделаю, мадемуазель. У меня прекрасное место, слов нет, вы так добры, и мне не на что жаловаться, но посмотрим на вещи трезво. Через год Джиджи уезжает учиться в колледж. Она — самая лучшая из всех моих учениц, и, говоря откровенно, я оставался здесь все это время только для того, чтобы успеть обучить ее всему, что умею сам. Что же до мадам Айкхорн, то она никогда по-настоящему не нуждалась в поваре.
— Но, Жан-Люк, повар у нее был всегда, с тех самых пор, как она вышла за мистера Айкхорна, — конечно, вы нужны ей! — Перспектива поисков другого, столь же опытного повара приводила Джози Спилберг в ужас — и как раз тогда, когда на кухне все наконец наладилось настолько, что она начала даже забывать о ее существовании.
— Позвольте с вами не согласиться. Когда мадам ест одна, то так заботится о фигуре, что весь свой опыт я вынужден использовать для приготовления… ну, скажем, диетического бульона. Это очень питательно, я понимаю, но зачем же здесь я? А если мадам решит вдруг принять гостей, она прекрасно может сделать это с помощью квалифицированной кухарки. И ей вовсе не обязательно держать французского повара, которому совершенно нечего делать. Так я скоро забуду, куда кладут масло и каковы на вкус взбитые сливки, мадемуазель.
— Может быть, дело в деньгах… если вас приглашает к себе кто-то другой, то я…
— Нет, мадемуазель, дело вовсе не в этом. Просто мне наконец подвернулась возможность, о которой я давно, очень давно мечтал. Мой друг открывает ресторан в Санта-Барбаре, и ему… ему нужен шеф-повар. Тонкая кухня, вы понимаете, ресторан для избранных… и, кроме того, он предлагает мне стать его партнером. Я думаю, вы согласитесь, что я был бы круглым дураком, если бы не ухватился за такой шанс.
— Я не отрицаю, что мы не очень здесь увлекаемся тонкой французской кухней, Жан-Люк, но… Могу ли я сделать хоть что-нибудь, чтобы заставить вас переменить решение?
— Кроме как оставить Джиджи дома — увы, ничего, моя дорогая мадемуазель. К своим новым обязанностям я должен буду приступить только через два месяца. Я думаю, этого времени вам будет достаточно, чтобы найти мне подходящую замену. Может быть, человека более… э-э… в возрасте, который обрадуется, если ему будут платить за приятное времяпрепровождение и минимум работы, может быть, кого-то, кто не так привязан к делу, может быть… американца, наконец?
— О, Жан-Люк, что вы говорите!
— Возможно, я излишне прямолинеен, мадемуазель, но то. что я говорю, справедливо, — с этими словами, галантно раскланявшись, повар вышел.
Уход Жан-Люка вынудил Джози искать нового повара буквально и на небе, и на земле, но в конце концов замена была найдена: Квентин Браунинг, молодой человек двадцати шести лет, отец которого владел в Котсуолдсе загородной гостиницей, известной своей великолепной кухней. «Эш-Гроув», старинный постоялый двор недалеко от Стратфорд-на-Эйвоне, предлагал путешествующим двадцать обычных номеров, пять люксов, но секрет круглогодичного процветания гостиницы крылся в ее приличного размера ресторанчике, где столы обычно заказывались за много недель вперед, причем заказы поступали не только из окрестных городков, но и из самого Лондона, — здешняя кухня нравилась и в столице.
Окончив школу в Регби, Квентин Браунинг отправился оттуда в Швейцарию обучаться гостиничному делу. Он знал, что в один прекрасный день станет наследником весьма и весьма доходного семейного бизнеса, гостиничным делом интересовался искренне и в Швейцарии преуспел. После чего всерьез решил обучаться кулинарному искусству. Хотя персонал на кухне «Эш-Гроув» был обширен и заслуживал всяческой похвалы, ему было необходимо научиться всем нюансам искусства первоклассного шефа, приобрести необходимый опыт, прежде чем начать критиковать старые порядки и вводить новые. При отсутствии же таких знаний он всегда должен будет полагаться на милость гостиничного шеф-повара, а такого положения Квентин Браунинг сносить не собирался.
Квентин работал на кухнях знаменитейших ресторанов Лиона, Парижа, Рима и Милана, начиная с самых низких должностей и поднимаясь постепенно вверх по служебной лестнице; залогом успеха ему служили талант и труд, а также и немалое личное обаяние, действие которого усиливается дважды, если исходит оно от англичанина — представителя этого странного островного народа, который обычно не считает обаяние критерием квалификации. Только что истек его годичный контракт в должности помощника главного повара шикарного французского ресторана в Хьюстоне, такое же место предложили ему и в Сан-Франциско, но он отклонил это предложение, предпочтя ему работу повара в частном поместье.
Отсутствие начальников, решил он, — вот что нужно ему после долгих лет подчинения, в течение которых он осваивал секреты поварского искусства. Отец в его услугах нуждался пока не очень и не подозревал, что его всегда такой деловой и обязательный отпрыск отыскал работу, схожую с хорошо оплачиваемым отпуском — если учитывать немалые деньги, которые он получал за сравнительно простое занятие. В самом деле, почему бы раз в жизни не попробовать пожить по-калифорнийски — серфинг, солнце и, главное, женщины — крупные, роскошные, полногрудые блондинки, предпочтительно сразу десятками, — прежде чем похоронить себя в глуши шекспировской родины на службе семейному делу, спрашивал себя Квентин, понимая, что ответ заложен уже в самом вопросе.
Печальное расставание Джиджи с Жан-Люком, другом и бесценным учителем, который был все эти годы частью ее юной жизни, превратилось в целое событие, в котором участвовали Билли, Спайдер, Вэлентайн, Долли и Лестер, Сара, парикмахерша из салона Сассуна, все жильцы дома по Черинг-Кросс-роуд и половина персонала «Магазина Грез». Вито Орсини был где-то на юге Франции, и скучала по нему одна Джиджи.
Чтобы взбодрить себя после отъезда Жан-Люка, Джиджи решила испечь праздничный торт в честь прибытия нового повара, ожидавшегося не далее как завтра. Разумеется, ничего вычурного, напоказ, ничего вульгарного, но такой, который устроил бы новичку хорошую проверку познаний в выпечке. Поэтому Джиджи решила остановиться на ванильном «женуаз» — короле французских бисквитов, для приготовления которого требовалось такое умение, что оценить его по достоинству мог лишь столь же опытный кулинар. Этот торт послужит для него испытанием, ловушкой, которую она приготовила ему, потому что менее всего склонна была доверять претензиям какого-то там англичанина на познания во французской кухне.
— Но почему именно бисквитный, Джиджи? — спросил Берго О'Салливан, с любопытством наблюдая за ее священнодействиями в пустой кухне. — Чего бы не приготовить что-нибудь… ну, чтобы, может, выглядело посолиднее?
— Берго, я знаю, как адски трудно было тебе научить меня водить машину; когда мы с тобой попадали на автостраду, если бы не ты, нас бы в живых уже не было, но даже у тебя, могу поспорить, не хватило бы храбрости взяться за этот торт, хотя он, как видишь, кажется вовсе не сложным. Тут можно столько напортачить, что я бы не посмела за него и браться, если бы не была таким классным поваром, вот так вот!
— Восхищен вашей скромностью.
Джиджи улыбнулась.
— Скромности, Берго, в кухне делать нечего. Это как коррида — не умеешь, не выступай. — Громкие фразы не мешали ей энергично взбивать венчиком яйца с ванилью. — Вот этого всего тут должно быть ровно по четверти — ровно, мой друг, и главное — взбить все сильней, чем обычно, и здесь нужна такая точность, что сердце замирает, уверяю тебя!
Берго откинулся на стуле, наблюдая за Джиджи, ушедшей с головой в дело; облачившись в накрахмаленный белый фартук, доходивший почти до полу, и стянув волосы, чтобы не падали на глаза, черной бархатной лентой, она стала похожа на хлопотливую няньку, и он подумал, как подошла бы она в качестве иллюстрации к кулинарной книге викторианских времен.
— Пока выглядит не очень, — покачал он головой, — но это, как я могу понять, вопрос времени. Ну, и уж если ты все равно об этом начала, то для чего взбивать сильней, чем обычно?
— А потому что весь секрет этого — этого торта, который так легко испортить! — в том, что он должен быть воздушным, а когда я добавлю топленого масла, как обычно делаю, то масло уплотнит тесто, и поэтому, — Джиджи сделала величественный жест венчиком, — дабы этого не случилось, нужно все взбить посильнее, чтобы в конце концов получился как следует пропитанный и божественно воздушный «женуаз»!
— Что ж, — хмыкнул Берго, — звучит логично.
— Подожди, Берго, еще не все! Если я вдруг увлекусь и взобью даже чуть больше, чем следует, тесто получится слишком мягким — и тогда торт тоже не пропитается.
— Значит, если меньше — будет сухой, и если больше — что, сухой тоже?!
— В том-то и дело, Берго, одно неверное движение — и все кончено, — с притворной мрачностью изрекла Джиджи, засыпая муку во взбитую смесь, готовность которой, видно, достигла уже степени полного совершенства. — С другой стороны, поскольку я пользуюсь содой, то если не засыплю в тесто эту муку особым и единственно верным способом — чтобы как следует все смешалось, — торт получится тяжелым и липким, не торт, Берго, а здоровенная сырая лепешка!
— И всегда это такая вот мука? Вроде готовый «Бетти Крокер» из магазина печь не в пример приятнее.
— Берго, я желаю приготовить неземной торт — такой, от которого поросячьи глазки этого нашего нового кулинара должны выскочить из его башки! С «Бетти Крокер» это получится вряд ли.
— По-моему, ты выпендриваешься.
— Хорошая кухня — всегда чуть-чуть выпендреж, милый Берго, — подмигнула Джиджи. — Но если бы не кулинарный инстинкт, мы бы до сих пор сидели в пещерах и лопали сырое мясо и корешки. Дома существуют в основном для того, чтобы было где устроить кухню. Без кулинарного инстинкта не было бы цивилизации!
— Я всегда подозревал, что цивилизация принесла людям не только блага, — буркнул Берго, в то время как Джиджи, переложив тесто в форму, поставила ее в заранее нагретую печь и приступила к изготовлению заварного крема, которым намеревалась переложить слои торта. — Хотя я уже столько живу в этом доме, — добавил Берго, — что мне порой кажется, будто цивилизацию создал другой инстинкт — делать покупки… Встречаешься с кем-нибудь сегодня, Джиджи?
— Разумеется, — не без самодовольства улыбнулась Джиджи. — И все пойдем на «Панораму ужасов века рок-н-ролла».
— Кто — «все»?
— Ах, Берго, ну какой ты непонятливый! Вся наша компания — я, Мэйз, Сью, Бетти и еще пара ребят. А что?
— Вы эту «Панораму» уже двенадцать раз видели, — пробурчал Берго, понимая, что они успеют посмотреть ее еще двенадцать, прежде чем она окончательно надоест им. Спрашивал же он потому, что хотел узнать — встречается ли Джиджи с каким-нибудь одним парнем.
По вечерам, во время покера, он нередко заводил со своим приятелем Стэном, который работал в школе охранником, долгие беседы о феномене групповых свиданий. Берго считал, что Джиджи давно пора завести себе приличного парня, чем шататься со своей компанией попусту, ведь ей, в конце концов, уже восемнадцать — в этом возрасте его мать была беременна второй дочерью. Но Стэн, который знал о молодежи гораздо больше, объяснил ему, что это абсолютно нормальное явление.
— Вот если бы она все время ходила только с одним каким-нибудь говнюком, тогда тут было бы о чем беспокоиться. А поедет она в колледж осенью — увидишь, еще не раз эту ее здешнюю компанию вспомнишь добрым словом.
Некоторое время, пока торт остывал — его еще нужно было разрезать на слои и смазать приготовленным кремом, — оба сидели в дружественном молчании.
— Берго, теперь посмотри, — сказала Джиджи, когда все наконец было готово. — Взгляни, как он тебе нравится?
— Так ты же и говорила, что хочешь чего попроще.
— Попроще, но не такой унылый! А это — самый унылый торт, который я когда-либо видела. Белый, круглый — все, больше о нем ничего не скажешь. Он с таким же успехом мог быть сыром «бри» — а ведь это, Берго, самый сложный бисквитный торт в мире!
— Ну, так укрась его.
— Но я же замыслила его как непогрешимый, простой, внешне ничем не примечательный торт, который этот островитянин должен оценить только по его внутреннему качеству! Украсить торт, как елку, может любой, но тогда, Берго, его совершенство будет разрушено… но если его не украсить вообще, его никто не станет и пробовать…
— Да, Джиджи, у тебя, я вижу, целая творческая проблема. И как же ты собираешься ее решать?
— Путем компромисса, Берго, только путем компромисса. Я изображу на нем послание — самое простое, какое только можно придумать!
Довольная собственной идеей, Джиджи, поставив таять на плиту белый шоколад, начала сворачивать из бумаги длинный конус. Залив в него жидкий шоколад, она отрезала самую вершину конуса и вывела на поверхности торта «Добро пожаловать, Квентин Браунинг» — округлыми буквами, добавив затем по всему их периметру сложные украшения из завитков и петелек.
— Здорово! — восхищенно покачал головой Берго. — Белое на белом — как рубашка и галстук у гангстера.
— Теперь ему придется попробовать его хотя бы из вежливости. А когда попробует, я замечу эдак невзначай, что я — всего-навсего повар-любитель и приготовила его так, смеха ради. А вот потом пусть этот Браунинг попробует испечь лучше. Жан-Люк говорил мне, что печь англичанам просто не дано… что-то у них там неладно с генами. А теперь, Берго, давай помоем посуду.
— Нет уж, Джиджи, посуду всегда моют повара. Или ты думаешь, что я совсем ничего не соображаю?
— Я не думаю — это непреложный факт. Вот, можешь для начала облизать крем с миски.
В воскресенье после полудня, когда Квентин Браунинг с багажом прибыл на Черинг-Кросс-роуд, огромный дом спал. После того как у Джиджи кончились занятия, Билли уехала в Мюнхен, где дамы, знающие толк в одежде и нашпигованные немецкими марками, изнывали в ожидании, когда же и у них откроется отделение «Магазина Грез» — а открытие меж тем все затягивалось. И поскольку почти все, кто обслуживал дом, были в этот день распущены на выходной, делегировать для встречи нового повара пришлось Берго, для чего Джози отдала соответствующее распоряжение. Берго же проводил Квентина в его комнату, расположенную в крыле для персонала.
— Показать вам дом или желаете сначала разложить вещи? — спросил Берго.
— Благодарю, разложу потом. Я бы, если не возражаете, хотел сначала посмотреть кухню. Мы уже беседовали с мисс Спилберг, но времени показать мне дом у нее, к сожалению, не было.
— Да уж понятно. Если хотите, я вам согрею чаю.
— Спасибо, это было бы очень кстати. Знаете, мне много-много лет готовила чай исключительно матушка… А вы сами чем занимаетесь здесь?
— Да всем — только не готовлю, не убираю и за садом не ухаживаю.
— У меня дома дядя — совсем как вы, — улыбнулся Квентин. — Без его заботы вся лавочка развалилась бы за несколько дней, это точно. И вы, видно, из тех, кому замену трудно найти.
— Можно и так сказать, — согласился Берго, исподтишка разглядывая вновь прибывшего. Для англичанина вроде нормально выглядит. Может, он и в покер играет.
После подробного осмотра кухни, кладовой, буфетной, винного погреба и столовых для обслуги и членов семьи Квентин и Берго расположились в летней столовой с горячим чайником и тортом, который принес Берго, строго следуя инструкциям Джиджи. Квентин сразу же прочел надпись.
— Это не только очень мило с вашей стороны, но я и на самом деле чертовски проголодался, — признался он, польщенный таким вниманием.
— А я как раз спросил Джиджи — вон, по интеркому, — не хочет ли она к нам присоединиться.
— Джиджи?
— Приемную дочку миссис Айкхорн. Она там, наверху, читает.
— Совсем крошка, наверное?
— Да не то чтобы так… но и большой не назовешь, это точно, — ответил Берго задумчиво. — Для Калифорнии так, пожалуй, и маловата.
— А сколько ей?
— Молоденькая. А, вот и она сама. Джиджи Орсини, Квентин Браунинг.
Джиджи с заученной любезной улыбкой пожала протянутую ей руку, таким же заученным движением опустилась на стул. С живым англичанином во плоти ей еще не приходилось сталкиваться, хотя образцов породы она видела немало — от Лоренса Оливье до Алека Гиннеса, от Алана Бэйтса до сэра Ральфа Ричардсона, а еще были Рекс Харрисон, Дэвид Нивен, Джон Гилгуд, Джон Леннон… Англичанин в любой его разновидности вряд ли мог бы чем-то ее удивить — в этом Джиджи была уверена. Однако среди тех, кого ей довелось видеть на кинопленке, она не могла вспомнить никого, кто мог бы хоть как-то подготовить ее к встрече с этим молодым человеком. Высокий, худощавый, с искоркой в глазах… он был похож скорее на исследователя верховьев Нила, чем на обыкновенного повара, однако его быстрая, слегка смущенная улыбка вызвала вдруг у нее мысль о школьнике, вернувшемся домой после долгих каникул. Крупный нос, уши, пожалуй, великоваты, прямые светлые волосы с аккуратным пробором — и тем не менее со лба он то и дело их откидывает. В нем чувствовалась некая застенчивость, но выражение серых глаз было самым что ни на есть дружелюбным.
— Ну, теперь попробуем торт, — это пришлось произнести Берго. Джиджи сидела молча, с отсутствующим видом глядя в сторону, не притрагиваясь даже к заваренному им чаю.
— Торт? — недоуменно переспросила Джиджи, как будто впервые слышала это слово.
— Ну да, вот, на столе — белый, круглый, — кивнул Берго, нетерпеливо орудуя ножом — мысленно со вчерашнего вечера он уже раз сто его попробовал. Да, не нужно ему было долизывать этот крем.
Теми же заученными движениями Квентин и Джиджи положили себе каждый по порции. Берго к тому времени откусил огромный кусок — и ему показалось, по его любимому выражению, что у него сейчас съедет крыша. Мало того, что торт превзошел все обещания Джиджи — Берго вообще не подозревал, что нечто подобное может существовать на свете.
— Ничего, — заметила Джиджи как можно более равнодушно.
— Помилуйте, это же поистине великолепный торт! — поднял брови Квентин, рассеянно откусывая еще один кусок, — все это время он не отрывал от Джиджи взгляда. Конечно, не столь милый ему тип крупной блондинки, но, в конце концов, из любого правила бывают исключения, а эта крошка, с ее морковными волосами «под панка», маленькими изящными ушками и губами, казалось, готовыми вот-вот улыбнуться, могла кому угодно дать сто очков вперед. — Ваш прежний повар, видимо, был просто художник.
— Был, — с тяжким вздохом ответствовала Джиджи.
— Хотел бы я готовить хотя бы вполовину так замечательно.
— Джиджи, — встрял Берго, — а когда, не помнишь точно, приготовили этот торт?
— Кто его знает, — Джиджи пожала плечами.
— А ты… ты разве не помнишь? Джиджи, ты разве не…
— Нет, — Джиджи кинула на Берго угрожающий взгляд.
— А вы, простите, сами готовите? — Квентин чувствовал, что нужно перехватить инициативу и что-то сказать этой милой и почему-то такой равнодушной молчунье.
— Да нет, — досадливо поморщилась Джиджи, — у меня учиться времени не было — совсем, ни минуты.
— Но, может быть, хотя бы основы…
— Нет, я была очень-очень занята. Верно, Берго?
— Что? А, конечно, конечно…
— А вы не хотели бы освоить это искусство? Может быть, именно основы — чтобы было, с чего начать? — спросил Квентин. Уроки кулинарии для молоденьких девиц ему всегда удавались.
— Гм-м… ну, наверное… вроде неплохая идея; ведь пригодится на всякий случай, Берго, как ты думаешь?
— Да, Джиджи, на всякий случай может, конечно. На необитаемом острове, например.
Взгляд Берго был мрачным. Какую бы ни готовила Джиджи Квентину новую ловушку, на сей раз она, очевидно, была столь дьявольской, что Берго не мог в этом разобраться. Но уж могла бы предупредить его-то о своей новой хитрости.
— Мы можем опустить ту стадию, на которой обычно учат снимать кожуру с луковиц и чистить картофель, и переходить сразу к… к приготовлению яичницы, — предложил Квентин, изо всех сил стараясь создать о занятии кулинара самое приятное впечатление.
— Нет-нет, давайте с самого начала, — возразила Джиджи, серьезно глядя в глаза Квентину. — С самого-самого начала, а потом дойдем до этой самой… яичницы, чтобы ничего не упустить. У меня масса времени и совершенно нечего делать… целое лето, по крайней мере.
— Съем-ка я еще кусочек, — Берго потянулся к торту, хотя неизвестно откуда нахлынувшее вдруг дурное предчувствие едва не лишило его аппетита, — вы-то оба, по-моему, вовсе даже не голодны.
Вечером Джиджи возила Квентина по Лос-Анджелесу — от моста Санта-Моника до Беверли-Хиллз, от бульвара Сансет до «Пинка» — знаменитой некогда закусочной, давно уже, впрочем, успевшей сменить живую привлекательность бойкого места на убогое бытие туристской достопримечательности.
— Расскажите мне еще про Котсуолдс, — попросила Джиджи, когда они стояли с Квентином у стойки, дожидаясь второй порции сосисок с убийственной приправой из соуса чили, горчицы и свежего лука.
— Послушайте, Джиджи, так нечестно — вы задаете мне вопросы с той минуты, как мы сели в ваш автомобиль, а сами мне про себя еще ничего не рассказали.
— Ну… — Джиджи изрекла это с такой непроницаемой и томной загадочностью, что ей могла бы позавидовать сама Бетт Дэвис. — Я даже не знаю, с чего начать… у меня была такая непонятная жизнь, Квентин… ни здесь, ни там, между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Оба эти города я знаю, наверное, наизусть. Меня наверняка многие считают девицей с претензиями, и я признаю, что я, конечно, безнадежно испорченный ребенок, но, черт возьми, Квентин, не моя вина в том, что я родилась такой непоседой. Это неизлечимо — все время ищешь чего-то нового, даже если оно тебе не совсем подходит, ждешь каких-то новых переживаний — даже если они не слишком приятные. А хуже всего то, что я сама точно знаю, что именно во мне не так. Вроде бы в двадцать один уже можно было бы найти для себя хоть что-то — да, да, Квентин, не смотрите на меня так удивленно; этот мой детский вид на мне как проклятие — он, знаете ли, отпугнул не одного мужчину. —Джиджи встряхнула головой, с преувеличенной — и рассчитанной — театральностью сокрушаясь по поводу своей обманчивой внешности, затем нетерпеливым жестом прервала тему. — Но, понимаете, Квентин, что бы я ни пробовала, где бы ни бывала, мне все время кажется, что какая-то подлинная, настоящая жизнь все равно ускользает от меня, хотя она совсем близко — протянуть руку…
— А почему же тогда вы проводите именно здесь лето? Когда я приехал, мне показалось, что место тут как раз весьма тихое…
— А-а… понимаете… прошлый год для меня выдался очень… ну, как бы это сказать… беспокойным… лихорадочным каким-то, я бы даже сказала, самоубийственным. Все равно вам насплетничают, так что лучше скажу сама… я была близко связана — очень, очень близко — с одной рок-группой… эпизод, что говорить, чудовищный, но в нем были свои… привлекательные моменты. — Джиджи улыбнулась той лукавой, медленной, едва заметной улыбкой, которая скрывает обычно какой-нибудь пикантный секрет. — Ну, и в общем, — продолжала она, — Билли решила — то есть она настаивала, — чтобы я в это лето осталась здесь, а я ее люблю и не стала спорить поэтому. И уж, конечно, не догадывалась, что это даст мне возможность научиться… готовить. — Во взгляде, брошенном на Квентина из-под полуопущенных темных ресниц, сквозило нечто настолько большее, чем милая домашняя испорченность, что Квентин невольно подумал — видно, эта крошка способна кому угодно дать сто очков не только своей улыбкой.
— Понятно, почему у вас не оставалось времени учиться готовить.
— Да, это занятие не казалось мне самым важным.
— Охотно верю. А как, говорите вы, называлась эта рок-группа?
— Я… лучше не буду называть вам этого, Квентин. Я сама стараюсь забыть… — Она слегка отвернулась, и он увидел, как от внезапно вернувшегося воспоминания краска постепенно заливает ее шею, которую оставлял открытой глубокий вырез белой шелковой кофточки, заправленной в ее любимые, тоже белые, джинсы. Джиджи покраснела до самых корней волос — даже позвяки-вание ее длинных индийских серебряных с бирюзой украшений выдавало волнение, которым она пыталась скрыть нахлынувшие чувства.
— Простите, Джиджи, с моей стороны было глупо задавать такие вопросы. Я и сам не понимаю, для чего я спросил.
— О нет, не беспокойтесь. Это ведь все равно уже давно кончилось.
— Правда, кончилось?
— Абсолютно.. И я уже успела прийти в себя, а что до опыта, то приобрела его на всю жизнь — чего еще требовать от такой ситуации? Non, je ne regrette rien, Квентин, помните эту песню Пиаф — «Ни о чем не жалею»? Это мой девиз. Ну, нам пора, поехали?
Домой, на Черинг-Кросс-роуд, Джиджи вела свою вызывающе-розовую спортивную машину в полном молчании. Весь прошедший год она отчаянно, изо всех сил пыталась повзрослеть хоть немного, тщетно ища хотя бы маленькую лазейку из кокона юности, но, увы, ничто пока не давало ей такой возможности. Парни из школы по сравнению даже с самой инфантильной из ее подруг — сущие дети, им лишь бы потусоваться вместе; в их довольно большом выпускном классе они все время держались тесной маленькой кучкой, и никто из них не желал высовываться за борт устойчивого, надежного семейного корабля — по крайней мере, пока не останется позади учеба. Конечно, наличествовала среди ее одноклассников и необходимая доля поцелуев, легкого подросткового флирта и неуклюжих интриг, но все равно, эта орава мальчишек вся на одно лицо, и волновали они ее не больше, чем если бы были ее братьями.
Машинально поворачивая руль, Джиджи в который раз изумлялась, как же могла она столько времени вести эту тихую и спокойную жизнь, из которой давно выросла, как змея из прошлогодней кожи, как могла оставаться так долго под неусыпной опекой Билли, Джози и Берго, за надежными стенами старого дома и своей дружбы с Мэйз. С таким же успехом, подумала она, ее и Мэйз могли послать в какую-нибудь монастырскую школу — там жизнь наверняка от здешней мало чем отличается.
Но сейчас с каждой милей, уходившей под колеса ее авто, она словно въезжала в незнакомый, пугающий мир взрослой жизни. Каждый взгляд, брошенный искоса на строгий профиль Квентина, заставлял руки ее плотнее сжимать руль, и сама она чувствовала себя тверже, увереннее — и взрослее. Он — мужчина, а она — женщина, отдавалось в ушах Джиджи, она стала ею в тот самый момент, когда сказала ему, что не умеет гот товить. Но из всей этой восхитительной кучи вранья, которую она успела наплести Квентину, одно было правдой — Джиджи не жалела никогда ни о чем. И, поняв, как надежно была все эти годы защищена, никакого желания вернуться назад она не испытывала.
Поздоровавшись с привратником, Джиджи миновала длинный и плавный въезд и вскоре уже ставила машину в гараж; в доме, насколько подсказывала ей интуиция, все спали. Осторожным движением она открыла входную дверь, чувствуя, что слегка дрожит от волнения при мысли о задуманном.
— А разве на ночь дверь не запирается? — спросил Квентин.
— Нет, кругом ведь охранники. Вы потом к ним привыкнете.
— Да, но вот мне бы добраться до комнаты… Без Берго я определенно здесь потеряюсь.
— Я провожу, никаких проблем. Но сначала предлагаю осмотреть мою — она стоит того, это еще одна местная достопримечательность, вроде «Пинка».
— А, понимаю — это как пробраться тайком в спальню королевы в Букингемском дворце.
— Если судить по тому, что я о ней слышала, в моей спальне куда уютней.
Джиджи уверенно пробиралась по темному дому, ведя Квентина вверх по лестнице. В прошлом году ее спальню отделали заново и расширили, убрав стену соседней комнаты — так что она превратилась в настоящую квартиру, с просторной гостиной, небольшой кухней и гардеробной, обставленными с тем сочетанием блеска и роскоши, при помощи которого Билли собиралась соблазнить Джиджи поступить все-таки в Лос-Анджелесский университет и прожить годы студенчества дома.
— Настоящий… Голливуд, — в восхищении вымолвил Квентин, когда она провела его внутрь, к piece de resistance — самой большой кровати, которую он когда-либо видел, завешенной с потолка несметным количеством светло-зеленого, розового и белого шелка; сама императрица Екатерина Великая вполне могла бы пользоваться ею в качестве походного шатра.
— Так и было задумано. Выпить что-нибудь хочешь?
— Нет, спасибо.
— А как насчет поцелуя?
— О да, пожалуйста.
Джиджи потянулась к нему и, обхватив его шею руками, быстро и горячо поцеловала в подбородок.
— Ну, я пойду к себе, — решительно качнув головой, сказал Квентин.
— Торопишься?
— Джиджи…
—Да?
— Я никак не пойму, чего ты хочешь? Ищешь новых знакомств ради очередного уникального опыта?
— Именно! — Джиджи с облегчением рассмеялась — наконец он перехватил инициативу из ее неопытных рук. — Но только если ты тоже хочешь. Это не входит в твои обязанности.
— Джиджи, игра словами — опасное дело!
— У тебя ровно пять секунд на решение, — сообщила Джиджи, сжимая за спиной кулаки и затаив дыхание в страхе и нетерпении.
— Ах, Голливуд…
Квентин Браунинг сдался. Через секунду он уже держал ее в объятиях, легонько приподнимая и подталкивая к кровати. Он снова и снова целовал ее податливые, приоткрытые в улыбке торжества губы, передвигаясь все ниже, пока она расстегивала рубашку и высвобождала маленькую упруго-розовую юную грудь. Требуя большего, нежели поцелуи, как бы восхитительны они ни были, Джиджи потянула его за волосы, вынуждая оторваться от ее губ и склониться ниже, к подрагивающей груди. Взяв ее в руки, она приложила набухшие острые соски к его рту, словно заставляя укусить их. «Подожди», — задыхаясь, простонал он, но Джиджи, не слушая, стягивала поспешно джинсы и трусики, в то время как губы Квентина трудились над ее сосками, словно проверяя, насколько еще могут потемнеть и разбухнуть эти ярко-розовые лепестки. «Ах ты, сластена, — шептал он, охватывая взглядом ее обнаженное тело, — ты маленькая ненасытная сластена, ты…» Быстро, как только мог, он сбросил одежду. Обхватив его руками, она прижалась всей плотью к его обнаженному естеству — так, будто кожа ее горела и только прохлада его кожи могла остудить этот жар, — покрывая его поцелуями везде, куда только могли достать ее жаждущие влажные губы.
— Подожди, — уже приказал он, отводя ее руки так, чтобы видеть все ее тело — глубокий изгиб талии, плавные линии бедер, нежную округлость живота и манящую тайну темного мыска под ним.
Джиджи зажмурилась изо всех сил, задыхаясь и вздрагивая от нетерпения, не зная, как освободиться от его изучающего взгляда, пока древний инстинкт не воспламенил ее бедра и их ритмичные движения не пробудили в нем страсть, перед которой меркло всякое любопытство.
Почувствовав, что руки его ослабли, она освободилась и, разведя ноги, подалась вверх — он почувствовал, как его пенис оказался меж ее ног. Улыбнувшись ее нетерпению, он отодвинулся и, протянув руку, стал ласкать ее, чтобы она раскрылась перед ним полностью, водил пальцем по влажным курчавым волоскам, касаясь теплых нижних губ, которые хотел увидеть, прежде чем войти в них. Джиджи снова зажмурилась, вздрагивая и закусывая губы при его прикосновениях. Ее нетерпение, которое выдавали непрерывные, энергичные движения ее бедер, наконец передалось и ему — и он не мог больше сдерживаться. Взяв в руку отвердевший, подрагивающий член, он вошел в нее одним быстрым, резким толчком, позабыв обо всем, кроме бушующего в нем желания. А она тугая, пронеслось в его голове, потому что молоденькая, — и это была последняя его мысль, ибо в следующую секунду ее тело отозвалось ему, горячо и с готовностью. Уже не осознавая, что делает, она до крови укусила его плечо, отвечая на его яростное желание собственной неистовой страстью, вынуждая его двигаться все ближе, ближе к концу — с пылом, изумившим даже Квентина со всем его опытом. Он пытался остановиться, не зная, готова ли она, но она сама отвергла его колебания, ее тело требовало его — властно, почти безжалостно, и вскоре он уже задыхался и стонал в вихре бешеного, сметавшего все оргазма.
Обессиленный, он вытянулся рядом с ее неподвижным телом; наконец через несколько секунд выдохнул в восхищении: «Ты всегда добиваешься того, чего хочешь, верно, Джиджи?» Она не ответила, и он, повернувшись, взглянул на нее из-под полуопущенных век — и увидел на лице ее безошибочно узнаваемое, ждущее и вместе с тем разочарованное выражение неудовлетворенной женщины.
— О, черт… Так ты не… Прости, я…
— Еще нет, но все впереди — я тебя никуда не отпущу отсюда, — Джиджи повернулась и обняла его. — Прости, я нечаянно укусила тебя.
— Ладно, только больше не делай так. Больно.
— В следующий раз не придется… это я от боли, наверное… чтобы не закричать.
Квентин резко сел в кровати.
— Что? От какой боли? Подожди, а это… а это что? — Он указал на темневшее на простыне небольшое пятнышко крови.
— А на что это похоже, по-твоему? — спросила Джиджи, страшно собой довольная.
— На то, что ты… ты самая большая лгунья, какую я когда-либо видел! — Квентин был в ярости.
— Весьма возможно, — улыбаясь, кивнула Джиджи, — весьма.
— А эта твоя чертова рок-группа? Она что, была женская?
— Квентин, ну не надо все понимать так буквально. — Джиджи хихикнула, поправила упавшие на лоб волосы. — Честно говоря, я рок ненавижу.
— Бог мой, во что же я влип? — Он уже не сдерживался. — Сколько тебе лет, ты, маленькая ненасытная сучка, — четырнадцать?
— Ну сказал! — Теперь в ее голосе слышалось неподдельное возмущение. — Криминальный возраст я уже миновала, так что можешь не беспокоиться. А сейчас, милый, почему бы тебе не вздремнуть? У тебя такой вид, как будто ты в этом крайне нуждаешься. Я вернусь через минуту.
Джиджи позаботилась о том, чтобы запереть обе двери в свои апартаменты и спрятать ключ. Еще до того, как она на цыпочках перешагнула порог комнаты, направляясь в ванную, Квентин крепко уснул — с выражением полнейшего довольства на длинной, худощавой и такой симпатичной физиономии. Стоя под теплым душем, Джиджи мурлыкала «Бульвар разбитой мечты» Тони Беннета. Нет, пожалуй, Мэйз она в это посвящать не станет. Она теперь слишком взрослая, чтобы выкладывать все, что с ней случится. К тому же ночь только начинается…
Если Джиджи именно так представляет себе то, что называется флиртом, то он пас, думал Берго, глядя, как она с усердием первой ученицы чистит морковь, режет зелень и перед тем, как снять кожу с помидора, опускает его в горячую воду — прием, которому она сама года три назад научила Берго. Да, он — пас полностью; весь этот детский сад совершенно его не касается, и уж если Джиджи настолько глупа, что считает, будто можно, изображая дурочку на кухне, добиться внимания парня, он умывает руки. Хотя и беспокоиться, в общем, не о чем. Сначала он боялся, что Джиджи научилась кое-каким штучкам у миссис Айкхорн — женщины, которая, если бы захотела положить парня к себе в постель, не стала бы чистить с ним брюкву на кухне, — по крайней мере, судя по тому, что он слышал о ней; но малютка Джиджи в этом направлении не продвигалась нисколько. И уж он менее всего собирается указывать ей, что именно делает она неправильно.
Джози Спилберг, хоть и сидела в своем офисе, однако знала обо всем, что происходит в доме, и была благодарна новому повару, узнав, что он продолжил уроки с Джиджи. В таком изменчивом искусстве, как кулинария, всегда есть чему поучиться — к тому же у каждого повара свой, индивидуальный почерк, и заинтересованная ученица вроде Джиджи без труда сможет отыскать что-то новое для себя в манере каждого повара, который окажется у них в доме. Жалко, Жан-Люк не видит этого — что с его отъездом интерес Джиджи к кулинарии не пропал, а, наоборот, удвоился. Сама-то она всегда знала, что незаменимых нет.
Что же касается остальных, то они настолько привыкли видеть Джиджи на кухне, что никому и в голову не приходило спросить, над чем она в данный момент там колдует. Волновал их только конечный результат.
Билли, вернувшись из Мюнхена, провела в Лос-Анджелесе несколько дней, прежде чем отправиться на Гавайи, где очередной филиал «Магазина Грез» уже был готов к открытию — толпы отдыхающих, и в их числе охочие до моды и набитые деньгами туристы из Японии, обещали ее бизнесу солидный прирост.
В это путешествие Билли собиралась взять с собой и Джиджи, а потом заодно навестить вместе с ней отделение «Магазина Грез» в Гонконге. Билли вообще не любила надолго расставаться с Джиджи, но после всего этого долгого и нелегкого выпускного года бедной девочке явно пойдет на пользу побыть дома, как курочке в курятнике, — можно полениться, утром подольше поспать, повозиться в кухне, поплавать в бассейне в свое удовольствие и постепенно оправиться от напряжения, с которым, несомненно, далось ей поступление в университет. Ее с радостью приняли бы и Смит, и Вассар, и Беркли, но она, к облегчению и радости Билли, из всех университетов выбрала Лос-Анджелесский.
За завтраком, исподтишка внимательно разглядывая Джиджи, Билли подивилась, как повзрослела девушка после окончания школы. Конечно, окончание — это, так сказать, веха, размышляла Билли, замечая новую, незнакомую ей еще живость в манерах Джиджи, счастливый блеск глаз и румянец на щеках, проступавший даже сквозь загар. Джиджи словно выросла за несколько последних недель, что было в принципе невозможно — какой-то обман зрения, но после возвращения из Мюнхена он постоянно преследовал Билли. В Джиджи появилась некая непривычная кокетливость, игривость, какой раньше у нее не замечалось, вкрадчивая мягкость движений — женственность, которой раньше у нее не было.
— Джиджи, — вдруг спросила Билли, и страшное подозрение внезапно шевельнулось в ее душе, — мне кажется или ты действительно ешь больше обычного?
— Может быть, — кивнула Джиджи. — Я, по-моему, вообще в последнее время только это и делаю. Уж на что я, ты знаешь, ленива, но поесть не забываю, поверь.
— Дорогая моя, нужно бы последить за этим! Тебе ни в коем случае нельзя толстеть — при твоей тонкой кости сразу дадут о себе знать даже несколько лишних килограммов. Конечно, это твое дело, но поверь мне, если ты не занимаешься гимнастикой, а ешь в обычном режиме, все это накапливается, пока в один прекрасный день… — Билли поежилась, ужаснувшись одной лишь мысли о возможности когда-нибудь увидеть Джиджи располневшей. — Сейчас ты выглядишь просто восхитительно, моя милая, но созреть и перезреть — это, знаешь ли, разные вещи, а грань между ними тонкая — так вот обещай мне, что никогда ее не переступишь.
— Обещаю, Билли, клянусь тебе, с сегодняшнего дня буду считать калории. И если ты не поедешь сегодня в «Магазин Грез», я тебя точно обыграю в теннис — исключительно чтобы показать, что и я в нем кое-чего стою.
— Заметано, — немедленно согласилась Билли.
Если она и боялась чего-то в отношении Джиджи — так это что она в первый же год поправится, как большинство первокурсниц. Она когда и приехала из Нью-Йорка, не была миниатюрной, карманной или крохотной — или какие там еще есть утешительные прозвища для тех, кто не вышел ростом, — подумала Билли с обычной беспристрастностью, которой неизменно придерживалась в подобных оценках. А теперь Джиджи подросла достаточно, вполне достаточно для того, чтобы выглядеть безупречно — в той неброской, изящной манере, которая ей была свойственна. Важен ведь не рост, а пропорции, а пропорции фигуры Джиджи были столь совершенны, что позволяли ей казаться выше, чем она на самом деле была, особенно с тех пор, как в осанке ее стала чувствоваться эта небрежная уверенность — уверенность королевы. И при всем при этом в еде она до сих пор себя не ограничивала, а это могут позволить себе лишь совсем-совсем юные. Но Билли знала, что из этого возраста, как это ни печально, Джиджи уже выросла.
В отсутствие Билли местом встреч Квентина и Джиджи были ее комнаты, куда они пробирались по задней лестнице для прислуги и по длинному коридору. Пока Билли не уехала, они находили для утоления своей страсти другие места — пустой павильон для тенниса, где постелью им служили набросанные на пол толстые мохнатые полотенца, кладовку в оранжерее, в которой было так мягко на мешках с торфяным мхом, а влажный теплый воздух, сохранявшийся здесь в любое время года, словно переносил их, нагих и истомленных любовью, в вечно-зеленый тропический лес.
Джиджи переживала пору сладкого тумана первой влюбленности, небывалого и казавшегося вечным восторга, кружившего голову и заставлявшего сердце биться в истоме тревоги и ожидания. Днем, не в силах даже читать, позабыв обо всех прежних подругах и увлечениях, она, затаив дыхание, ждала очередного урока на кухне, зная, что не пройдет и пяти минут от начала, как Квентину придется вновь наклониться над ней, чтобы показать, как правильно пользоваться ножом или картофелечисткой, потому что она старательно изображала самую неуклюжую и неумелую из учениц, которую только можно было представить.
Ему приходилось сотню раз брать ее руки в свои, чтобы научить, как разбить яйцо, не запачкавшись и не проткнув желток скорлупою, а когда дело дошло до яичницы, то ему пришлось встать позади нее и вооружиться терпением, прежде чем она наконец смогла повторить последовательность движений.
Даже к самым простым операциям Джиджи не решалась приступить сама, пока Квентин не подходил к ней и в который раз не брал ее руки в свои, после чего начинал тяжело дышать и путаться в собственных инструкциях. Затем оказывалось, что ей для чего-то требуется пройти в кладовую, и он шел за ней, беспомощный, зная, что там, в темноте, они будут снова стоять, держа друг друга в объятиях и теряя голову от неистовых поцелуев, пока урок кулинарии вовсе не исчезнет из памяти, и весь оставшийся день они будут думать лишь об одном — о будущей ночи.
Джиджи влюбилась по уши, но Квентин любил лишь вполсердца, и с высоты разницы в возрасте в восемь лет, разделявшей их, отлично сознавал это. Но за прошедший с начала их безумного романа месяц он ни разу не смог даже как следует обдумать происходившее. Он не узнавал сам себя — покорный раб восемнадцатилетней колдуньи, повелевавшей им с такой уверенностью в своем полновластии, что ему не приходило в голову даже попытаться оспорить это. Каждую ночь, и ночь за ночью, он парил в заоблачных высях невиданного плотского наслаждения, равного которому, казалось, уже не будет, и тем не менее на следующий день Джиджи снова без усилий будила в нем неистовое желание, хотя он клялся, что однажды сможет устоять перед нею, однажды ей не удастся снова увлечь его.
Для Джиджи, думал он, не существовало предела, но он, взрослый, двадцатишестилетний мужчина, знал, что пределы есть, и сейчас он перешел максимум допустимого.
По утрам, вернувшись в свою комнату, торопясь одеться и потом — вниз, чтобы готовить завтрак, Квентин Браунинг с тревогой думал, что он вскоре может забыть не только свои стройные планы на будущее, но и собственное имя. Он твердил себе об этом, он предостерегал себя, но пришедший день разрушал все его благие намерения, а к ночи в ушах его звучал уже только низкий смех Джиджи и ее зеленые глаза дразнили его, лишая и осторожности, и остатков разума.
Однажды, ранним утром, Квентин вывел из гаража одну из машин и отправился в «Джелсонс» — купить продукты для ужина, который Билли устраивала перед отлетом на Гавайи, вечером следующего дня. Эти несколько часов одиночества были очень кстати — для того, чтобы обдумать наконец положение, в котором он так неожиданно оказался.
Да, Джиджи — настоящее чудо, но… но. Этих «но» набиралось много. Дело даже не в том, что ей нет еще девятнадцати, а во всем остальном: в ее матери-танцовщице с ее бродяжьим прошлым, ее папаше-продюсере, сумасшедше богатой мачехе, всех тех, кто был вокруг нее, в той жизни, которая создала эту девушку — экзотическое растение, цветущее только в климате Голливуда.
Ведь у них, если подумать трезво, нет никакого совместного будущего — даже если вообразить, что он отважится предложить ей таковое. Перед ним — маячившая с детства жизнь владельца гостиницы, большую часть года живущего в ритме потребностей и пожеланий клиентов. Надежная, налаженная жизнь, спокойная, обеспеченная и, главное, интересная для него, но Джиджи в ней места нет, да и быть не может.
Если ему нужна жена, то такая, на которую можно положиться всегда, везде, которая вместе с ним бы несла их общее семейное бремя. Она должна уметь все, что умела его мать, — обслужить, приготовить, нанять, уволить, позаботиться о каждой мелочи — от количества чистых салфеток до приветствия почетных гостей; а главное — делать это все с удовольствием, год за годом, вести такую же жизнь, как он сам, — честную, полную забот и, в общем, счастливую, но начисто лишенную фантазии и почти — свободы. Иного пути просто не могло быть.
И представить в этой роли Джиджи? Джиджи, его капризную, порывистую, полную грез маленькую возлюбленную? Джиджи, которая могла и хотела делать только одно — то, что привлекало ее безудержное воображение? Джиджи, у которой все только начиналось и которой жизнь обещала столь многое, — разве могла она даже подумать о том, чтобы вот так осесть где-то, осесть, как придется ему — плотно и навсегда? Впереди у нее — годы студенчества, у ног ее — весь мир, открытый и такой манящий…
И если даже у него хватило бы глупости увязнуть в ней всем своим сердцем — до того, чтобы думать о женитьбе на ней, и даже если она согласилась бы вдруг стать его супругой, из этого все равно ничего бы не вышло — да, черт возьми, совсем ничего, в который раз сказал он себе; и он с самого начала знал это.
И некому было предупредить его, с горечью подумал он, ставя автомобиль на стоянку у магазина, что единственная его попытка отведать калифорнийской жизни так вот закончится. Ну почему на дороге его оказалась не вожделенная англосаксонская блондинка, а эта живая комета полукельтских-полуитальянских кровей, с глазами малолетней преступницы и милой улыбкой начинающего карманного воришки?
Даже сейчас, по прошествии месяца, он не мог сдержать ее безумную страсть — она же сама, разумеется, даже и не помышляла об этом. Его поцелуи были для нее слишком желанными, чтобы, утопая в них, пытаться внимать при этом тому, что он ей говорил — а он просил опомниться, остыть немного, взглянуть на все трезво. Для Джиджи не существовало ни границ, ни запретов — была лишь потребность прикасаться к нему, ласкать его, и для этого она использовала любую возможность, — словно пьянея от сладостного риска, ранее неизведанного и оттого еще более манившего ее, если бы кто-то был рядом с ними в комнате. Квентин же знал, что их все равно раскроют, рано или поздно, — и с неизбежностью, если роман их останется таким же безрассудным, каким был до этого.
Впереди еще целое лето, больше двух месяцев до начала занятий в сентябре — и ведь даже тогда Джиджи будет жить дома… Квентин Браунинг в который раз напомнил себе, что риск, на который пошел он очертя голову, увеличивается день за днем, каждую минуту, и если — нет, только не это — в один прекрасный день все вдруг выплывет, виновным окажется он: он взрослый мужчина, а Джиджи, когда он появился в их доме, была еще нетронутой девочкой, почти ребенком, любимицей всех и каждого — и величайшим сокровищем своей всесильной мачехи, миссис Айкхорн, чья месть вполне способна разрушить до основания всю его дальнейшую жизнь.
Взяв две проволочные тележки, он покатил их в мясную секцию, где ему предстояло дать продавцу подробную инструкцию по поводу обработки телячьей вырезки, необходимой ему на завтра, а затем отправиться за остальными покупками — вырезку он заберет на обратном пути… Джиджи вышла, как из небытия, из-за громадной башни банок с маринованными помидорами, своей обычной пританцовывающей походкой, в волосах — золотистые отблески от ярко освещенных витрин, и вообще создавалось впечатление, что весь огромный супермаркет построен лишь как подмостки для нее одной. Подойдя почти вплотную к нему, она остановилась как вкопанная и с изумлением на него взглянула.
— Вот не ожидала тебя тут встретить! — Она нагнулась, чтобы взять с нижней полки банку с консервами, и, прежде чем бросить ее в одну из его корзин, ухитрилась, конечно же, наградить его поцелуем.
— Джиджи! Ну будь же благоразумной, ради Христа! А если нас увидит кто-нибудь из друзей миссис Айкхорн?
— Друзья Билли сами по магазинам не ходят, — ответила она, улыбаясь и подходя к нему совсем близко, в зеленых глазах — настойчивая решимость. — Ну, родной мой, поцелуй же меня как следует, здесь ведь никого нет! Я просто с ума схожу без твоего поцелуя, ты должен мне его…
— Прекрати! — Квентин оттолкнул ее гневным, ледяным взглядом и, оставив тележки, скрылся за стеллажами — так быстро, как только длинные британские ноги могли унести его.
— Квентин меня ужасно разочаровал, — тяжело вздохнув, Джози Спилберг жалобно взглянула на Джиджи, пришедшую к ней в кабинет с просьбой продлить ее карточку Американского автомобильного клуба.
— Что-нибудь не так со вчерашним ужином?
— Да он уволился — вот в чем дело. Завтра уезжает — даже без недельного уведомления. С его стороны это, по-моему, просто свинство — попробуй найди подходящую замену в это время года; но он — как кремень, как я ни пыталась его уговаривать.
— Уговаривать? — потрясенная, Джиджи могла лишь повторять, словно эхо, слова Джози.
— Я попросила его назвать хотя бы одну причину, по которой он так поспешно это все делает — особенно если учесть, что нанимался на год, не меньше; так он мне говорит — и притом не прямо, намеками, но я, слава богу, разобралась, — что он спутался с какой-то девицей, не знает, как из этого всего выбраться, и решил, что единственный способ — это поскорее сматываться домой, в Англию. Я предложила ему миллион способов, как безболезненно избавиться от нее, не уезжая отсюда, но он — ни в какую: должен уехать, и все. Может, она даже беременна — готова спорить, что так оно и есть… Не знаю еще, что скажет миссис Айкхорн, когда вернется из Гонконга и обнаружит на кухне очередную новую физиономию — если, конечно, я к тому времени смогу найти таковую. Ну не безобразие, когда тебя так вот подводят, а?
— Я… просто не могу этому поверить!
— Именно это я ему и сказала… Джиджи, подожди, оставь свою старую карточку! Джиджи… — Джози поняла, что обращается к пустой комнате. Ну почему, почему все вокруг такие неорганизованные? Почему все осложняют ей жизнь? Носятся как сумасшедшие и при этом бестолковы, как стадо баранов! Ах, вот если бы она управляла этим миром…
Запершись в комнате, Джиджи полностью отдала себя во власть обрушившегося на нее горя — столь глубокого, что, почти не осознавая, что делает, она сжала зубами край простыни — ее рыдания могли привлечь внимание горничных. Тело ее сжалось на краю кровати в дрожащий от тоски и боли комок; она пыталась закрыться простыней, теснее прижимала к животу колени, сжимала плечи изо всех сил, только чтобы сдержать рвущееся изнутри страдание, которое, как спущенный с цепи дикий зверь, грызло ее. Рассудок ее, однако, не переставал работать. Она ни на секунду не сомневалась, что Квентин действительно уедет завтра… Значит, если бы она сегодня не зашла к Джози, он бы так и исчез навсегда, ни слова не сказав ей…
Он не любил ее. Не любил никогда, ни одной секунды. И теперь хочет от нее освободиться, но слишком труслив, чтобы сказать ей об этом в открытую. Боится, что она устроит сцену, будет его удерживать — даже не позаботился хотя бы из жалости солгать ей, придумать какую-нибудь историю, семейную неприятность — она бы поверила. Ну почему он не сказал, что ему позвонили из дома, что ему нужно срочно лететь туда на помощь отцу, сестре, матери? Думает, что она бы тоже с ним напросилась? Хотя, возможно, именно так он и думает… Значит, он не законченный трус — так, меры предосторожности, чтобы избежать ненужного… внимания с ее стороны. Ненужного, да, именно ненужного — об этом убедительно поведал ей его холодный взгляд тогда, в «Джелсонс»… Она бы все вынесла, даже признание, что он не любит ее, если бы у него хватило уважения к ней — да-да, элементарного уважения, — чтобы сделать это признание. То, что она до безумия его любила, не значит ведь, что к правде она глуха. В конце концов, любить ее он не обязан.
Джиджи наконец перестала всхлипывать и лежала тихо, пытаясь сообразить, что же теперь делать. Если бы удалось просидеть в комнате до самого его отъезда, остаться здесь и не впускать никого, но, если она это сделает, неважно, под каким предлогом, Джози мигом прикинет одно к одному и поймет, что случилось в действительности. А это — унижение, худшее, чем что-либо другое, хотя она и была уверена в том, что Джози не выдаст ни за что ее тайну, словом не обмолвится с ней и даже вида не подаст, что она о ней знает.
Через четыре часа у нее очередной урок с Квентином, и если он хочет избежать лишних вопросов, то будет, как обычно, дожидаться ее. Конечно, урок можно отменить, и даже Джози ничего не заподозрит, но все в Джиджи восставало против такого решения. Последнее, что осталось у нее, — это гордость, уважение к себе самой, которое пытались у нее отнять, но не отняли. Нет, подумала Джиджи, отправляясь в ванную, чтобы умыться холодной водой — глаза застилали слезы, — отменять урока она не станет и тоже будет вести себя как обычно… или, по крайней мере, почти так.
Приведя себя в более-менее презентабельный вид, Джиджи незамеченной выскользнула из дома и отправилась в рыбный магазин в Санта-Монике. Вернулась она довольно скоро, рассчитав, что Квентина в кухне в этот час быть не может — наверняка где-то от нее прячется, но скоро должен начаться урок, и придется ему, хочешь не хочешь, спуститься обратно в кухню…
В кухню она втащила четыре здоровенных пакета, надела фартук и начала точными, как у операционной сестры, движениями раскладывать на столе все, что ей было нужно, радуясь, что может занять чем-то свой вконец измученный ум. Решив, что к началу урока приготовит только самое необходимое, она взялась за рыбный бульон с чабрецом, для чего ей понадобились мелко резанные овощи, специи, чуть-чуть вина, сок мидий и кастрюля с водой, в которую она свалила все кости, хвосты, головы, чешую и плавники, срезанные с великолепных рыбин — палтусов, трахинотусов, красных лютианусов и морских окуней, которые привезла с собою из магазина. В другой кастрюле отдельно варились креветки, мидии и морские гребешки прямо в раковинах, в то время как она погружала в третий кипящий чан великолепного, алого, как кровь, омара.
Джиджи дала бульону кипеть полчаса, после чего, остудив, слила в самую большую кастрюлю и вновь поставила на плиту. Вылила воду из кастрюли с омаром и, когда он остыл, разделила на небольшие кусочки; затем, еще раз для проверки осмотрев кухню, глянула на часы. Потом подошла к интеркому и позвонила Берго, который в это время всегда — она знала — сидел, задрав ноги на стол, наверху, в своей комнате.
— Берго, придешь сегодня ко мне на урок?
— Боюсь, Джиджи, что я этого больше не вынесу. Все, что угодно для тебя, моя радость, но это — уволь.
— Да нет, ты не понял; я сегодня сама буду давать урок. — Тон Джиджи заставил Берго с грохотом спустить ноги со стола на пол.
— А-а, ирландская кровь заговорила? А кто еще тебе нужен из зрителей?
— Все, кого найдешь, — плюс Джози и оба садовника.
— Будет сделано.
— Ты только сам приходи чуть пораньше, и если Квентин попытается улизнуть — держи!
— Долг платежом, значит? Давно, давно пора!
— Ты же знаешь, я ученица ленивая.
— Но не самая глупая, моя радость.
— Так я на тебя рассчитываю.
— И можешь всегда. — Берго отключился, впервые с памятной даты рождения круглого торта испытывая полное умиротворение. Джиджи, подумал он, потребовалось немало времени, чтобы разобраться в мужчинах, но она была еще просто слишком наивной и молоденькой, чтобы понять, что прикидываться дурочкой — не единственный и не самый лучший способ привлечь к себе чье-то внимание.
Последние два часа Квентин Браунинг провел на пляже Санта-Моники, мрачно взирая на лизавшие гладкий песок зеленые волны Тихого океана. Нет, он больше не вернется сюда. Станет затворником за холодными морями, и от Джиджи в его сердце останутся лишь воспоминания. Когда-нибудь, конечно, он женится, будет счастлив, и все события этого месяца поблекнут и исчезнут из памяти. Да, еще более мрачно подумал он, и вот это всего хуже. Он не мог себе позволить любить Джиджи — и не мог сказать ей об этом. Да, может быть, он дерьмо — говоря по совести, так оно и есть, — но дерьмо сообразительное, и это даст ему возможность выбраться из всего этого быстро, безболезненно и без особых усилий.
Когда он подъехал наконец к дому и пошел на кухню, его удивил доносившийся оттуда непривычный гул голосов. Слава богу, подумал он, значит, наедине с ней ему не грозит остаться. Он не представлял, как справился бы еще с одним уроком, но в любом случае у него бы не было выбора. Войдя в комнату, он в изумлении увидел Джиджи у стола в белом фартуке, вокруг — волнующиеся в ожидании чего-то слуги.
— Что происходит? — спросил он одну из горничных, но она лишь улыбнулась ему, не ответив. Для нее это был только перерыв в нудной каждодневной работе — шоу, устроенное Джиджи, вроде тех, что давала она еще при Жан-Люке. — Осторожнее! — вскрикнул Квентин, когда Джиджи схватила со стола самый острый нож.
Но прежде чем он смог подскочить к ней, она уже нарезала на тончайшие лепестки дольки порея; нож мелькал с неимоверной быстротой — и, мгновенно распознав руку профессионала, он остановился, пораженный настолько, что утратил способность и говорить, и двигаться.
В течение нескольких секунд дольки порея для жюльена были готовы, а Джиджи уже чистила помидоры, шинковала чеснок, мелко рубила укроп, опрыскивала лавровые листья, резала лук, скоблила лимонную цедру и молола перец. Получалось у нее все это одновременно — или так, по крайней мере, казалось всем тем, кто завороженно смотрел на ее руки, порхавшие над столом в ореоле радужных бликов от больших и маленьких приспособлений и инструментов. Напряженный ритм ее движений не ослабевал ни на секунду — мерка сельдерея, пачка шафранового семени, ложка редкой приправы, банка томатной пасты, и наконец все с триумфом ввергается в огромнейшую кастрюлю, в которой постреливает горячее оливковое масло. Затем с беззаботностью, которую может дать только полная уверенность в невозможности сделать ошибку, сверху были засыпаны несколько ложек соли — и начался долгий процесс помешивания.
— Джиджи… — начал было Квентин, чувствуя, что должен сказать хоть что-нибудь, но она, не обратив на него внимания, начала боевые действия против подноса со свежеочищенной рыбой, с рассеянностью виртуоза превратив ее в филе — экономные движения тонких рук и веер ножей, которыми она манипулировала с холодным профессионализмом мастера и небрежным мастерством профессионала. Когда с рыбой было покончено, она нарезала куски, которые надлежало готовить дольше, на сантиметровые кубики, а остальные — на двухсантиметровые дольки, и с такой быстротой, что два килограмма купленной утром рыбы заняли у нее около трех минут.
И, только сбросив рыбу в стоявший на плите горячий бульон, Джиджи соблаговолила наконец мельком взглянуть на Квентина. Он стоял, скрестив на груди руки, в упор глядя на нее и безуспешно пытаясь скрыть гнев — праведный гнев простака, ставшего жертвой едкой и хорошо задуманной шутки. Но при этом в глазах его было неподдельное, затмевавшее все восхищение профессионала талантами более юного коллеги, и одно лишь это было нужно Джиджи.
— Знает ли кто-нибудь из вас, — Джиджи обратилась к собравшимся, — что буайбес был — или, по крайней мере, так утверждают — впервые явлен этому миру добрыми ангелами, которые накормили им трех святых Марий, попавших в кораблекрушение у южных берегов Франции? Я, правда, не знала, что святым, так же как и простым смертным, свойственно чувство голода, но, в конце концов, почему бы и нет? Конечно, этот суп не будет столь прекрасен, как был бы, без сомнения, если бы я, согласно оригинальному рецепту, готовила его из средиземноморского карася, — а именно его добрые ангелы поймали в то утро; но я решила приложить все возможные усилия и готова поспорить, что супчик выйдет на славу, и его, безусловно, хватит на всех. Ой, Квентин, принеси тарелки, пожалуйста, только нагрей их сначала, и порежь еще вон тот французский батон, а я приготовлю чесночный майонез — ведь без него, месье повар, не бывает настоящего бай-беса?
Одеревенело повернувшись на каблуках, Квентин направился к выходу из кухни.
— На вашем месте я бы принес тарелки, — тихо сказал Берго, загораживая ему дорогу, — и хлеб тоже порезал бы.
Квентин удивленно взглянул на Берго, и то, что он видел на его круглом добродушном лице, заставило его опрометью броситься к буфету, где хранились нож и доска для хлеба. Осел! Кретин! Идиот! Бог мой, какого дурака делала она из него все это время. Он, должно быть, служил посмешищем всему этому проклятому дому, твердил он себе, почти ослепнув от ярости и с трудом различая даже длинные батоны свежего хлеба, которые Джиджи разложила на боковом столике. Окинув из-под бровей взглядом собравшихся, он увидел их улыбающиеся лица — они явно ожидали хорошо знакомого представления, как публика на спектакле начала старой любимой пьесы.
— Как раз вовремя, — одобрительно заметила Джиджи, разложив нарезанные куски хлеба по тарелкам и водрузив на середину блюдо с моллюсками. — Ну, а теперь, пока суп еще не готов, у нас есть время выпить, но предупреждаю, перед байбесом нельзя пить вино, а только пиво, по какой-то причине, понятной лишь французам. Или шеф-повар может нас просветить на этот счет? Вы можете это объяснить, Квентин? Нет? Что ж, очень плохо. В таком случае открывайте пиво, и мы выпьем без всякого повода.
Берго помог достать кружки и разлить пиво, сам не зная, почему, жалел Квентина, этого несчастного стервеца. Может, потому, что Джиджи его доконала, как и должно было произойти. Скоро все, кто был в кухне, держали в руках кружки с пивом.
— Подождите! — воскликнула Джиджи, вспрыгнув на стол. — Подождите! Мы должны провозгласить тост! Прощальный тост в честь нашего друга Квентина Браунинга. Завтра он уезжает. Эй, вы, прекратите! Он должен уехать, вот и все, так что давайте выпьем скорее и нальем еще. — Она высоко подняла свою кружку и посмотрела Квентину в глаза. Ее тонкие брови поднялись в знак приветствия, губы расплылись в открытой улыбке, на лице отразилось понимание и сочувствие, но пронзившая сердце боль осталась никем не замеченной. — Прощай, Квентин, счастливого пути! Возвращайся домой и не жалей ни о чем. Ты знаешь, таков мой девиз, и я готова поделиться им с тобой, если ты готов взять его на вооружение. Никогда ни о чем не жалей, Квентин! Никогда!
8
Графиня Робер де Лионкур, урожденная Кора Мидлтон из Чарлстона, Южная Каролина, была jolie laide. Как часто бывает с французскими выражениями, буквальный перевод может только запутать дело. Женщина, которую назвали бы «симпатичной дурнушкой», на самом деле не является ни симпатичной, ни дурнушкой в полном смысле слова. Она может быть соблазнительной, если умеет стрелять глазками, может быть неотразимо модной, если умеет одеваться, может приобрести известность, если обладает индивидуальностью и талантом, но в целом внешность ее такова, что не претендует на привлекательность, но и не является в достаточной степени отталкивающей. Барбра Стрейзанд, Бьянка Джаггер, герцогиня Виндзорская и Палома Пикассо — вот лучшие представители jolie laide в своем наиболее выразительном, доведенном до абсолюта воплощении.
Когда Кора Мидлтон, принадлежащая по материнской линии к известному в Цинциннати роду Чэтфилдов, вышла замуж за графа Робера де Лионкура, она еще не успела осознать, что в зрелом возрасте приобретет некоторое обаяние. Взвесив все «за» и «против», она здраво оценила собственные достоинства и поняла, что при всем своем уме и хорошей родословной не отличается красотой, поэтому никогда не будет пользоваться успехом у мужчин и в конце концов может остаться старой девой.
Отсутствие внешней привлекательности, особенно заметное в южном городе, славящемся обилием юных красавиц, привело к тому, что еще в отрочестве Кора стала замкнутой и застенчивой. Она так и не научилась пользоваться тем, что составляло ее истинное очарование, — красивым голосом, ровными зубками и совершенной формы ртом, который она ненавидела, считая слишком большим и тонкогубым. На самом же деле, когда она улыбалась, ее рот был просто неотразим, но она старалась говорить как можно меньше и еще реже улыбаться. Став к девятнадцати годам закоренелым циником, она приняла предложение сорокадевятилетнего мужчины, человека эгоистичного, которому в голову не пришло бы жениться на Коре Мидлтон, если бы не ее годовой доход в семьдесят тысяч долларов. Она же согласилась на этот брак, сочтя, что выйти замуж за настоящего графа несравнимо лучше, чем не выйти замуж вообще. Кроме того, у него была роскошная квартира в престижном районе Парижа и положение в обществе, где его с радостью приглашали на обеды в качестве незаменимого статиста. Он мог предложить ей такую жизнь, которая показалась бы роскошной всем ее чарлстонским одноклассницам, а ведь прежде она сама отчаянно завидовала им.
Граф был последним в роду и мечтал лишь о том, чтобы жить легко и беззаботно, проводя время в погоне за красивыми вещами. Единственной его страстью было коллекционирование антиквариата, которому он отдавал все свое свободное время и на которое угрохал большую часть состояния. Деньги Коры могли продолжать обеспечивать ему комфорт до тех пор, пока у них не было детей, и они легко пришли к соглашению по этому вопросу, поскольку Коре совсем не хотелось остаться вдовой с ребенком на руках, что вполне могло случиться, учитывая возраст ее супруга.
Кора познакомилась со своим мужем в 1950 году в Париже, куда ее отправили изучать французский; там и состоялась свадьба. Молодые поселились в доставшейся Роберу по наследству огромной квартире на третьем этаже старинного частного особняка на Университетской улице. Шесть месяцев в году они путешествовали, используя любую возможность пожить у друзей. Эти скитания по свету совершались не столько для осмотра достопримечательностей, сколько для пополнения коллекции — Кора заразилась от мужа страстью к антикварной мебели, а также старинному фарфору, стеклу и слоновой кости: дорогие вещи стали ее религией, ее детьми, смыслом ее жизни.
Покупка вещей, причем вещей самых разных, лишь бы они были красивыми или, на худой конец, достаточно оригинальными, и составление из них коллекций, дополняющих друг друга, сделалось главной целью ее жизни. И еще она любила знакомиться с людьми, занимающими высокое положение в обществе, в каждом городе, куда попадали Лионкуры. Она не собиралась оставаться вдовой с кучей детей, но еще меньше ей хотелось остаться вдовой без широкого круга знакомств.
У Коры имелись и собственные связи, поскольку у Чэтфилдов и Мидлтонов было много приятелей в Европе, несмотря на то что ее родственники редко покидали родные города, оба — едва ли не самые красивые в Штатах, и предпочитали их остальному миру. Мать Робера была англичанкой, третьей дочерью баронета, и он был знаком со всеми, кого, по его мнению, стоило знать, как в Лондоне, так и в Париже. Кроме того, такие люди, как чета Лионкур, которые постоянно рыскали по Европе в поисках антиквариата, не могли не завести знакомых среди коллекционеров Нью-Йорка. Лионкуры снискали себе уважение людей, в миллионы раз богаче их самих, принимая гостей в Париже с истинным размахом и устраивая обеды в обстановке, несравненной по своему шарму.
Куда бы гость ни кинул взгляд, его окружали десятки вещиц, которые он сам мечтал бы заполучить; Лионкуры же покупали их по баснословно низким ценам, никогда не совершая ошибок. Антиквары всей Европы вздрагивали, когда эта парочка входила в магазин, поскольку Лионкуры выбирали всегда именно то, что продавец, изменяя собственным принципам, собирался оставить для себя: антикварные безделушки, которые только-только входили в моду, или же вещи настолько диковинные и необычные, что на них никто просто не обращал внимания до тех пор, пока наша славная чета не ухитрялась сунуть свой нос в самые потаенные уголки магазина. Коре с Робером ничего не стоило пролететь из конца в конец всю Европу, чтобы попасть на похороны какого-нибудь антиквара, поскольку в такие моменты алчные родственники усопшего готовы были за полцены уступить что-нибудь весьма ценное, лишь бы получить за это наличными. По умению приобретать вещи на аукционах они мало чем отличались от профессиональных торговцев, потому что в любой ситуации умели сохранять хладнокровие, не позволяя себе полностью отдаться азарту торгов. Они никогда не пренебрегали аукционами по продаже недвижимости и были знакомы с десятком сухоньких пожилых дам, которые в молодости собирали коллекции антиквариата, а теперь вынуждены были потихоньку их распродавать, чтобы как-то поддержать себя на старости лет.
Лионкуры не покупали ни живопись, ни скульптуру. Они с легкостью решили для себя этот вопрос: полотна признанных мастеров были им не по карману, а покупать что-то современное, не получившее еще всеобщего признания и оттого доступное по цене, было слишком рискованно. Стены их дома украшали восхитительные гравюры и зеркала, и все помещения были так обильно уставлены дорогими безделушками, что отсутствия картин никто не замечал.
Любой иностранец, посещавший квартиру Лионкуров, считал их несметно богатыми людьми. Чувство глубокого удовлетворения, возникавшее от подобного мнения, как ничто другое, духовно сближало Кору и Робера. И в то же время во всем Седьмом муниципальном округе не было человека, который с такой неохотой оплачивал бы счета, как Кора де Лионкур. Она придиралась к каждой мелочи, когда приходилось что-то отремонтировать или подновить, находила недостатки в каждой из вещей, которые покупала для дома или для себя лично. Она всегда ужасно жалась, держала в томительном ожидании клерков и продавцов, насколько можно оттягивала время оплаты, а ее денежки тем временем обрастали процентами в банке, что на улице Камбон. В конце концов она все же платила, если можно, наличными, поскольку за это полагалась скидка. Во Франции, стране с очень высокими налогами, где принято расплачиваться чеками даже за скромный обед в бистро, наличные, которые там называют liquide[2], не подлежат налоговой декларации и потому ценятся очень высоко. И надо ли говорить, что пачка хрустящих банкнот у Коры в руках раскрывала перед нею все двери, сводя расходы до минимума.
Робер де Лионкур умер в 1973 году. Коре тогда было сорок два, как раз столько, чтобы можно было начать долгожданную жизнь вдовы. Она испытала глубокую благодарность мужу за то, что он так вовремя ушел из жизни, без ненужного промедления. Когда она выходила замуж, секс мало значил для нее, и жизнь с Робером де Лионкуром особенно не способствовала повышению ее интереса к данной стороне жизни, поэтому она не стала терять времени на поиски нового мужа. И не только из-за того, что хорошо знала цену своего титула, но и потому, что сочла, что любой холостяк ее возраста или старше станет искать другую жену, возможно, помоложе, посексуальнее, да и просто посимпатичнее. Гораздо лучше оставаться титулованной вдовой со знаменитой коллекцией, чем превратиться в бесплатное приложение к мужчине.
Графиня Кора де Лионкур не сбрасывала со счетов и тот факт, что многому научилась за двадцать три года жизни с человеком, у которого не было никаких иных достоинств, кроме безупречного вкуса. Когда-то Робер настоял, чтобы она посещала самого дорогого парикмахера в Париже; он подбирал для нее наряды, пока она не научилась делать это сама; именно он научил ее пользоваться косметикой, лично проверяя результаты каждого урока, поскольку его жена, как и его квартира, должна была подтверждать изысканность вкуса.
В свои сорок два Кора превратилась в jolie laide: длинный нос, маленькие глазки, прямые волосы и слишком высокий лоб озарились наконец светом улыбки, а опыт и безупречный стиль в сочетании с внешностью сделали Кору в высшей степени интересной, необыкновенной женщиной, на которой невозможно было не задержать взгляд. Когда она входила в комнату, все присутствующие неизменно начинали спрашивать друг друга, кто она. Одевалась она строго: в черное с белым зимой и в белое с черным летом; носила стрижку под пажа на прямой пробор и неизменно появлялась на приемах в старинных драгоценностях, перешедших к ней от матери Робера. Ее стройные ноги были обуты в туфли ручной работы от Массаро, впервые создавшего туфли-лодочки Шанель; она обладала высокой, стройной фигурой, на которой идеально сидел любой наряд, и длинными пальцами с безукоризненными ногтями, всегда покрытыми бесцветным лаком.
Единственная проблема заключалась в том, что в 1973-м на семьдесят тысяч долларов нельзя было жить с тем же размахом, что в пятидесятых или шестидесятых годах. И она поняла, что придется искать работу.
И вот, сидя в постели, Кора нацепила очки и взяла в руки блокнот, желая прояснить для себя сложившуюся ситуацию. О том, чтобы найти себе место в Париже, не могло быть и речи, поскольку она сохранила американское гражданство и не могла рассчитывать на соответствующее разрешение. Возможно, с большими бюрократическими проволочками ей удалось бы открыть здесь антикварную лавку, но все ее существо протестовало при одной только мысли о том, чтобы стать владелицей магазина. Она принадлежит к классу тех, кто покупает, а не тех, кто продает.
Естественно, что перспектива работы в каком-нибудь офисе, которая отнимала бы по восемь часов в день, также была для нее неприемлемой. Ей претила не только необходимость проводить так много времени в казенной обстановке. Она не могла позволить себе поступить на работу, которая поставила бы под сомнение ее богатство в глазах навещавших ее друзей. Такого ни в коем случае не должно было произойти.
Кора де Лионкур записала в блокноте: Нью-Йорк.
Она всегда любила этот город и неизменно чувствовала, что живет полной жизнью, когда находилась там. В Нью-Йорке ей нравилось буквально все, а особенно знакомые и друзья, которые чрезвычайно мало знали о мире, в котором она вращалась, и вне зависимости от размеров собственного богатства всегда восхищались окружающей ее роскошью. Любой из них мог легко позволить себе иметь в Париже просторную квартиру или даже дом с парком, но их почему-то так пугал языковой барьер и неизвестно откуда взявшееся представление о снобизме и высокомерии французов, что они восхищались уже самой способностью Коры жить там и радоваться жизни.
Действительно, потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, подумала она, вспоминая первые годы замужества. Но вскоре она начала пользоваться услугами прачки, обстирывающей семейство де Лионкур, а затем и семейного поставщика продуктов, семейного электрика, сантехника и уборщицы, которые были для Коры не меньшим приобретением, чем родословная мужа, поскольку содержание дома в Париже сопряжено со множеством мелких, выводящих из себя неудобств. Разговорный французский — это цветочки по сравнению с тем, что надо пережить, чтобы заставить электрика починить неисправный щиток.
«Незаметная работа», — написала она в блокноте.
Чем бы таким незаметным можно было бы заняться, размышляла она, перебирая про себя свои сильные стороны. Например, она знакома почти со всеми людьми из высшего света. Это значит, что она знает ключевые фигуры, которые способны вывести ее на любого нужного человека. Приглашая гостей, Кора с Робером всегда имели свой расчет. Они проводили строгий отбор и принимали лишь тех, кому было приятно находиться в компании друг друга. Без лишнего тщеславия они тем не менее весьма высоко оценивали собственную значимость, поэтому никогда не предлагали свою дружбу, предварительно не взвесив все «за» и «против», и допускали в свой круг лишь тех, кто мог украсить это избранное общество. Впрочем, им так и не удалось стать своими в высшем свете Франции, и Кора никак не могла с этим смириться.
Муж и жена давно поняли, что поговорка «лесть никогда не ведет к успеху» весьма далека от действительности. Сказанными к месту сладкими словами можно добиться всего, за исключением разве что близкой дружбы. Кора твердо знала, что умение льстить составляет ее главный талант. Именно благодаря лести ей удалось заполучить большинство самых ценных своих знакомств, и поддерживала она их исключительно благодаря той же лести. Дело в том, что льстила она незаметно, никогда не ограничивалась одними комплиментами. Она просто проявляла живейшее участие в человеке, в его делах, поступках, делая вид, что желает разделить его радость и печаль. Ее искренняя заинтересованность и неизменная улыбка, очарование которой она наконец осознала в полной мере, открывали даже сердца тех, кто считал себя невосприимчивым к лести. Ведь никому и в голову не могло прийти, что столь богатой даме, обладающей таким количеством ценнейших вещей, что-то нужно от них. Ни один человек из ее окружения не отдавал себе отчета в том, что его отношения с графиней де Лионкур строятся исключительно на ее лести.
Кора медленно вывела в блокноте еще несколько слов и поставила вопросительный знак. Связи с общественностью?
Нет, пожалуй, не совсем то, но что-то в этом все-таки есть… по крайней мере, над этим стоит подумать. Она ни за что не согласилась бы стать сотрудником по связям с общественностью: им приходится работать день и ночь не покладая рук, чего Коре вовсе не хотелось, и к тому же главное, чего они добиваются, — это каких-то услуг для своих нанимателей. Но Кора как следует не знала правил этой игры.
Она хотела оказывать услуги сама и получать за это деньги. А существует ли название для подобной профессии? Она улыбнулась ледяной улыбкой, которую не видел ни один из ее друзей. Нет, проститутки получают деньги за услуги другого рода, то же самое можно сказать и о сводниках… но в Нью-Йорке наверняка найдется место для женщины, которая способна облегчить осуществление каких-то проектов. Для женщины, способной сделать то, что без нее было бы попросту невозможно, — умной, элегантной женщины с положением в обществе, которая — за вполне разумное вознаграждение — может сотворить нечто невероятное.
Вне всякого сомнения, рассуждала Кора, в шумном и незатейливом Нью-Йорке, где столь многие мечтают преуспеть в жизни и лишь нуждаются в мудром руководстве, всегда существует потребность в такого рода женщине. Только в Нью-Йорке она сможет получить именно те деньги, которых стоит подобная услуга. Французы слишком прижимисты, чтобы заплатить достаточно высокую цену, которую она предполагала установить. Англичанам же она просто не нужна: у них существует собственный, традиционный механизм, который используют те, кто нуждается в чьей-то милости и высоком покровительстве.
Готово. Она выбралась из постели и медленно прошлась по квартире, нежно прикасаясь к мебели и безделушкам, то и дело останавливаясь, чтобы насладиться видом, открывающимся из той или другой комнаты. Она смотрелась в зеркала, и они, вместе с ее обликом, отражали такую красоту вокруг, что у нее защемило сердце, — ведь никто, кроме нее, и не подозревал о плачевном состоянии штукатурки на стенах. Впрочем, продать эту квартиру не составит труда, учитывая ее местоположение и размер. А на вырученные деньги можно будет купить что-нибудь поновее в каком-нибудь приличном районе Нью-Йорка. Она заберет с собой все — каждую мелочь, каждый предмет обстановки. Больше всего ей хотелось расположить их по-новому в новом доме, чтобы они повернулись самой выигрышной своей стороной. К сожалению, она никогда не сможет помочь кому бы то ни было в обустройстве интерьера, потому что профессиональным декораторам часто приходится идти на компромисс с клиентом, а она не потерпела бы возражений ни в чем, что касается убранства квартиры. К тому же ее не покидало ощущение, что стоит художнику уйти, как хозяева тут же бросаются все переставлять.
Будет ли она скучать по своим французским друзьям? Кора фыркнула. У того, кто не родился французом и не прошел через французскую систему образования, во Франции никогда не будет настоящих друзей. Француженки из общества обзаводились подругами еще на школьной скамье, чаще всего за монастырской стеной, где получали образование большинство из них. А укреплялась их дружба в специальных клубах, куда мамаши начинали водить их практически сразу после рождения. Она знала сотни две людей, которые с восторгом приняли бы ее приглашение на званый обед и с радостью пригласили бы ее в ответ, но, коли ты с рождения не принадлежишь к их кругу, ты для них всегда останешься не более чем гостем. Все знакомые французы появились у них в доме благодаря семейным связям Робера, и всем им было прекрасно известно, что до женитьбы у Робера не было ни копейки. Во французском обществе Лионкуры не могли считаться богатыми людьми, да и высоким положением семейство Робера похвастаться не могло. Они с Робером так и не достигли самого верха общественной лестницы, не сумели в этом преуспеть, честно признала про себя Кора. И она никогда не простит этого французам. Она с радостью уедет из Парижа, который, честно говоря, знавал лучшие дни.
Но прежде ей еще придется иметь дело с французскими носильщиками! За что ей такое испытание?
* * *
Спайдер и Билли сидели в «Ле Трэн Бле», недавно открывшемся дорогом ресторане, расположенном чуть в стороне от Мэдисон-авеню, поджидая Кору де Лионкур. Она пригласила их на обед. Они приехали в Нью-Йорк по делам всего на несколько дней, пока «Магазин Грез» в Беверли-Хиллз, успевший уже отметить свое четырехлетие, был закрыт на ремонт. В июне розничная торговля замирала, поскольку те, кто одевался у них, покупали одежду к весенне-летнему сезону в конце зимы, а осенний гардероб подбирали в июле. Вот Билли и решила, что закрытие магазина в начале лета не принесет ни малейших убытков.
— А зачем нам эта женщина? — поинтересовался Спайдер.
— Она может нам пригодиться, вот и все. Я часто встречала ее, когда наведывалась в Нью-Йорк, причем у самых разных людей, и она само очарование. К тому же она всех знает… когда я в последний раз приезжала сюда, она устраивала скромный обед в мою честь, и я получила удовольствие, какого давно не получала.
— А что она еще умеет, кроме как втираться в доверие?
— Спайдер, не будь таким подозрительным!
— Миссис Айкхорн, выражение вашего лица подсказывает мне, что вы замышляете что-то нехорошее.
— Мистер Эллиот, а когда это я замышляла что-нибудь хорошее?
— Билли, спроси что-нибудь полегче! — Спайдер одарил ее очаровательной чувственной улыбкой, против которой она давно и тщетно пыталась выработать иммунитет.
Соглашаясь на работу в «Магазине Грез» четыре года назад, Вэлентайн уговорила Билли нанять Спайдера. Билли разгадала замысел Вэлентайн еще до того, как встретила Спайдера, но он все же убедил Билли испытать его в деле. Первое, что она подумала, увидев Спайдера, — это то, что никогда не позволит себе сблизиться с подобным мужчиной. С тех пор каждый раз, оставаясь с ним наедине, она неустанно вколачивала это себе в голову. В разговоре с ним она неизменно принимала шутливый тон, стараясь тем самым преодолеть притяжение его обаяния — а за эти годы он стал еще привлекательнее — и держать дистанцию.
Потягивая белое вино, Билли размышляла, что именно в характер Спайдера, равно как и ее адвоката Джоша Хиллмана, заставляет ее полностью им доверять. В нем не было ни капли притворства, его грубая мужественность, бьющая через край мужская сила, созидательная энергия казались врожденными чертами. Он был по-мужски деятельным, по-мужски нежным и открытым, обладал надежностью и добротой — качествами, казавшимися неотъемлемой частью его существа. И еще в нем было обаяние, эта проклятая сексуальная привлекательность, которая ни одну женщину не могла оставить равнодушной, но все это было имманентное, естественно, а не нарочно выработано им, чтобы покорять женские сердца. Билли не могла представить себе, чтобы он мог ей солгать, но, главное, за всем его обаянием, всей неотразимостью скрывались искренность и простота, которые он так и не смог изжить, несмотря на весь свой жизненный опыт, вероятно, потому, что так никогда по-настоящему и не повзрослел.
Билли сидела спокойно, разглядывая недавно обновленный, довольно оригинальный интерьер, а Спайдер смотрел на нее и размышлял. Когда он познакомился с нею, она показалась ему в высшей степени привередливым заказчиком, так что ему и в голову не могло прийти, что через какие-нибудь четыре года они станут близкими друзьями. Впрочем, порой она по-прежнему могла быть невыносимой: по-королевски нетерпеливой, требовательной, импульсивной, вечно стремящейся настоять на своем и неожиданно впадающей в ярость, если ее указания не выполнялись с точностью, до самых мелочей.
Спайдер чувствовал, что многие побаиваются ее, но чаще всего это были люди, которые ее плохо знали. Бездарные архитекторы и декораторы, не умеющие наладить работу подрядчики и бригадиры по всему миру — в Гонконге, Мюнхене, Гонолулу, Рио-де-Жанейро, Цюрихе и Монте-Карло — при одном упоминании ее имени чуть не падали в обморок.
Ему было также известно, что когда Билли находилась с инспекционной поездкой в Нью-Йорке или Чикаго, то персонал магазинов пребывал в постоянном напряжении, пока она не отправлялась в обратный путь. Спору нет, Билли была строгим шефом, но всегда проявляла понимание, если у подчиненного возникали какие-то объективные трудности. Она неизменно старалась быть справедливой и держала себя в руках даже в тот момент, когда у них не ладилось с обустройством первого «Магазина Грез». Она давала людям возможность исправиться, и те, кому удавалось хорошо себя зарекомендовать, получали в награду симпатию и великодушное отношение с ее стороны.
Спайдеру было страшно любопытно, что это за новая приятельница появилась у Билли. Их с Вэлентайн всегда удивляло, прочему у нее так мало подруг. Она старалась держать дистанцию с любой из известных ему женщин; исключение составляла разве что Сьюзен Арви, да и ее Билли все же недолюбливала, хотя и уважала за ум.
За последние годы Билли очень сблизилась с Вэлентайн.
— Сегодня Билли сказала, что считает меня, Долли и Джессику Страусе своими самыми близкими подругами, — сообщила ему накануне вечером Вэлентайн. — Я была так тронута, так польщена, но мне стало ее немного жаль, даже не знаю почему. Может, потому, что у меня муж — лучший друг, а она пока не нашла мужчину, который стал бы ей близким человеком.
Действительно печально, подумал Спайдер, что такая богатая женщина, как Билли, не может вести жизнь обычного человека, поддерживая с другими отношения, которые приняты между людьми. По крайней мере в том, что касается отношений с представителями мужского пола. Она пыталась общаться с мужчинами, которые проявляли к ней интерес, но в последнее время вела себя достаточно настороженно. Впрочем, можно ли ее за это винить?
Выйдя замуж за этого красавца Вито Орсини, она немного оттаяла, но после развода стала относиться с подозрением ко всем мужчинам. Трудно предположить, какие еще последствия мог бы иметь этот развод, если бы не Джиджи. Этой девушке удалось пробудить в Билли нежность и настоящую женскую теплоту, которые Спайдер в ней и не подозревал. И все же Билли была подвержена резким сменам настроения, часто впадала в депрессию, причин которой Спайдер никак не мог понять.
Сейчас Билли выглядела даже моложе, чем тогда, когда они познакомились, но он знал, что ей тридцать семь, ровно столько же, сколько и ему. Может, причина в прическе, подумал он. Вскоре после развода Билли отрезала свои роскошные темно-каштановые волосы и сделала короткую стрижку с небрежным завитком на затылке. Теперь голову украшали густые крупные локоны, и казалось, будто так устроила сама природа, — обманчивое впечатление, особенно если учесть, что для поддержания этой естественности нужно было каждые две недели посещать парикмахерскую. Стрижка открыла длинную красивую шею, и от этого Билли казалась еще более властной, чем когда волосы ниспадали на плечи, обрамляя лицо. Ее по-прежнему пухлые, сочные, розовые губы были покрыты бесцветной помадой, лишь придававшей им блеск, глаза с поволокой не утратили налета загадочности, но теперь в них читался какой-то таинственный, решительный вызов. Достаточно взглянуть на Билли, чтобы понять, кто она такая, думал Спайдер. Ее глаза таили в себе целый мир; ее красота — поскольку Спайдер не мог не признать, что она умопомрачительно, дико, безумно красива, — сохранила силу, граничащую с мужественностью, которая ставила ее в один ряд с богинями-охотницами. Сейчас, в своем хорошо подогнанном жакете с поясом и облегающих брюках, сделанных для нее Вэлентайн, Билли, не отдававшая себе отчета, что все в переполненном ресторане ощущают ее присутствие, выглядела так, словно она вот-вот вскочит на коня и поведет свое войско в атаку под звуки боевой трубы. Ей не хватало только сабли.
— Мадам опаздывает, — заметил Спайдер.
— Это мы рано пришли, — ответила Билли, взглянув на часы. — Она явится через минуту, чтобы ровно на одну минуту опоздать. А вот и она, нытик несчастный. Ты просто хочешь есть.
Билли представила их друг другу. Спайдер встал, приветствуя даму, а затем снова сел, с любопытством разглядывая ее. Странная и своеобразная личность, решил он, приберегая окончательное суждение на потом, поскольку, как правило, ему нравились все женщины и он хотел дать ей возможность проявить себя; но что-то в самой глубине души подсказывало ему, что эта женщина скорее всего станет для него исключением из правила. И все же она была само очарование: так и сыпала забавными историями и в то же время внимательно слушала собеседников. Спайдеру показалось, что она относится к общественному положению Билли без всякого пиетета; ему крайне редко доводилось встречать такое среди знакомых ему людей.
— У Коры самая восхитительная квартира из всех, какие мне доводилось видеть, — сообщила Билли. — И уставлена, пожалуй, самыми изысканными вещами во всем Нью-Йорке.
— Спайдер, а вы любите вещи? — поинтересовалась Кора де Лионкур.
— Что конкретно вы имеете в виду? — переспросил Спайдер.
— Антиквариат, необычные предметы, безделушки, разное старье, всякую мелочь, — пояснила она нежным голосом, в котором до сих пор слышался южный акцент.
— Что вы называете «мелочью»?
— Англичане так называют безделушки, которые с первого взгляда покоряют сердце. Вы вроде и не собираетесь покупать подобную «мелочь», она вам вовсе и не нужна, но в конце концов вы отдаете за нее огромные деньги и уносите с собой, дрожа от счастья, что заполучили ее.
— Я балдею от всякого старья, но «мелочь» — это что-то новенькое и, пожалуй, слишком дорогое. Что касается антиквариата, то я к нему не привык и мало в нем понимаю… а безделушки я обычно бью.
— Тогда вы просто обязаны побывать у меня. Я покажу вам мои вещи, и вы будете обращены, — сказала Кора, вроде бы задетая его равнодушием. — У меня с десяток приятельниц, которые утверждают, что ваши удивительно тонкие советы относительно стиля одежды буквально перевернули их жизнь. И надо сказать, опыт подсказывает мне, что художественный вкус не может ограничиваться какой-то одной областью. Я уверена, что вы сразу же разберетесь во всем. Готова поспорить, что вы с первого взгляда отличите великолепный антикварный стул от просто хорошего антикварного стула, сами не зная почему. Вам подскажет это ваш вкус. Обещайте, что навестите меня!
— Весьма признателен за приглашение, — ответил Спайдер, — но я не большой любитель магазинов. Я даю советы женщинам, чтобы они могли максимально реализовать себя, и мне доставляет это удовольствие, но ходить по магазинам — нет уж, увольте!
— Спайдер, Кора не имеет в виду хождение по магазинам, она говорит о коллекционировании, — засмеялась Билли, зная его манеру делать вид, будто он не понимает, о чем идет речь. Иногда, хотя и очень редко, Спайдер вдруг начинал злиться.
— Кстати о магазинах, — заметила Кора. — Вчера перед сном мне в голову пришла любопытная мысль. Я даже записала, чтобы не забыть. Я подумала, что знаменитую рекламу «Магазина Грез» можно сделать еще интереснее. Конечно, я мало разбираюсь в рекламе, так что сразу остановите меня, если я скажу глупость, но почему бы вам самой не сняться в каком-нибудь ролике? Женщинам будет гораздо интереснее увидеть вас, настоящую владелицу магазинов, а не каких-то абстрактных манекенщиц, одетых в те вещи, которые у вас продаются. Вы ровесница большинства ваших покупательниц, хотя и выглядите лет на десять моложе их. Я видела много ваших фотографий и уверена, что у вас хорошо получится. Скажите, это совсем никчемная идея или в ней что-то все-таки есть?
За столом воцарилось молчание; Спайдер и Билли даже перестали есть. Идея была смелой и оригинальной. Им такое никогда и в голову не приходило.
— Да… — пробормотала Билли, стараясь не подать виду, насколько соблазнительной показалась ей эта мысль. Ей было неловко оттого, что она до такой степени дорожит своими магазинами. Она отождествляла себя с ними до мозга костей. Магазины были ее гордостью. К тому же Билли прекрасно знала, насколько фотогенична, как на ней смотрятся вещи… Так почему бы и нет? — Я даже не знаю, — медленно произнесла она. — Просто никогда об этом не думала… Спайдер, а каково твое мнение?
— Прямо так, с бухты-барахты? Боюсь, это… рискованно.
— Почему? — удивилась Билли.
— Не думаю, что ты хотела бы стать воплощением покупательницы «Магазина Грез», — ответил Спайдер, тщательно подбирая слова. — Видишь ли, Билли, я постоянно имею с ними дело и могу сказать, что девяносто девять и девять десятых процента наших клиентов не умеют носить вещи так, как это делаешь ты. Конечно, они привыкли видеть манекенщиц, на которых одежда сидит лучше, чем на них, но ты… Понимаешь, ты реальный человек, и это может произвести на них неприятное впечатление, даже оттолкнуть их. Но что еще хуже…
— Что? — нетерпеливо перебила она.
— Ты частенько говорила мне, будто тебя смущает, что ты входишь в десятку самых богатых людей Америки, тебе не нравится, когда твое имя упоминается в средствах массовой информации. Будто бы ты вздрагиваешь каждый раз, когда упоминают твое имя… Я прав?
— Да.
— А если ты появишься в рекламе, да к тому же с последними моделями, то привлечешь к себе повышенное внимание. Тебе станут завидовать больше, чем завидуют сейчас. Честно говоря, это не самая лучшая идея. В конечном итоге она может обернуться против тебя… Посмотрев на тебя, женщины скажут: «Ну вот, опять на Билли Айкхорн платье, которое стоит целое состояние… ей это раз плюнуть — у нее магазин, черт бы его побрал, и фигура, а мне оно не по карману, я не смогу себе такого позволить…» И все в таком роде…
— Ты прав, Спайдер, — согласилась Билли, с трудом скрывая сожаление.
— Я знаю, вы правы, — сказала Кора де Лионкур. Ей гораздо лучше удалось скрыть свое разочарование. — Именно эта тонкость чувств, глубина проникновения в психологию женщины делает вас столь необычным, Спайдер, отличает от других. Теперь я вижу, что ошибалась… Идея годится лишь для мусорной корзины.
— Кора, но, возможно, для кого-то другого это просто блестяще, — запротестовала Билли. — Например, для модельера, женщины, которая разрабатывает одежду на свой тип фигуры… Однажды кто-нибудь наверняка сделает подобное. Я знаю, вы очень мудрый человек!
— Что ж, спасибо, — ответила Кора, демонстрируя безупречные зубы. — Возможно, стоит приберечь эту идею на будущее.
— Как бы то ни было, я просто счастлива, что вы готовы помочь нам в организации осеннего бала, который я намереваюсь провести сразу после Дня труда, — произнесла Билли.
Спайдер продолжал невозмутимо поглощать палтус. Он впервые слышал про бал, не не собирался задавать вопросов, по крайней мере сейчас, когда он только что расстроил козни этой Коры-как-ее-там.
— Боюсь, будет трудно превзойти бал, устроенный в честь открытия первого «Магазина Грез». Я знаю, что тем грандиозным успехом вы были обязаны Спайдеру, — то был незабываемый бал. Спайдер, я сомневаюсь, что мне удастся хотя бы частично повторить ваш успех, но все же готова рискнуть. Жители Нью-Йорка не переживут, если Лос-Анджелес затмит их родной город… Они рассчитывают, что осенний бал будет необычным, восхитительным, а они привередливы, Билли, очень привередливы. И терпеть не могут, когда их обходит провинция. Если Нью-Йорк не является центром вселенной, то какой смысл здесь жить, — вот как они рассуждают.
— Видишь ли, Спайдер, я не успела рассказать тебе об этом до обеда, — поспешила вмешаться Билли. — Кора предложила идею с балом, когда я последний раз приезжала в Нью-Йорк.
— Понятно. Значит, Кора берется помочь?
— В конце концов, это не такая плохая идея. Мы никогда не устраивали официальных торжеств по поводу нашего открытия, а стоило бы, хотя бы ради рекламы. Нью-Йорк не твой город, равно как и не мой, а Кора здесь как рыба в воде. Нам как раз нужен человек, который знает, к кому обратиться по поводу угощения, цветов, музыки, оформления, — человек, благодаря которому список гостей пополнится новыми интересными именами… Вне всякого сомнения, это просто блестящая идея!
— Для меня это будет истинным удовольствием, — заметила Кора. — И я мечтаю лишь об одном: чтобы Спайдер помог мне выбрать платье для бала. Я очень ценю авторитетное имя мистера Спайдера Эллиота.
— Полагаю, Кора, у вас имеется собственное представление о совершенстве, и вы не хуже меня знаете, что моя помощь вам ни к чему, — сказал Спайдер мягко, но без улыбки.
«Нет никакой нужды устраивать этот бал, — думал он про себя. — Он обойдется в кругленькую сумму, а между тем нью-йоркский филиал „Магазина Грез“ и так дает в три раза большую отдачу на каждый квадратный метр площади, чем любой другой магазин. Если уж ей нужна реклама, в которой они на самом деле не нуждаются, то можно было бы придумать что-нибудь подешевле, но раз Билли желает швырять деньги на ветер, что ж, ее дело. Ничего плохого в этом бале, пожалуй, нет. И раз он не принесет такого вреда, как идиотская затея сняться в рекламном ролике, так зачем же ее разубеждать?»
Интересно другое: у Билли была уйма времени рассказать ему об этой задумке. Если быть абсолютно точным, несколько недель, но она специально ждала этого момента, чтобы Кора была рядом и могла ее поддержать. Нет, ему совсем не нравится эта госпожа де Лионкур. И лесть вряд ли ей поможет.
После обеда за который ей, как всегда, не выписали счета, Кора зашла в пару антикварных магазинов. Конечно же, она не обнаружила там ничего достойного ее внимания, но ей хотелось отвергать, отвергать и еще раз отвергать, произнося резкие, язвительные, презрительные слова, — так она могла дать выход ярости, которую разбудил в ней Спайдер Эллиот. Господи, как же она ненавидела таких мужчин! Красивых какой-то бесполезной красотой, поверхностных и себе на уме.
Мужчины, имеющие влияние на богатых дам, были ее естественными врагами, а такие, как Спайдер, неприступные и не принимающие ее всерьез, которые к тому же не стеснялись открыто высказывать свое мнение, были хуже всех. Богатые женщины — ее добыча, а Билли Айкхорн — это самая большая ставка в ее жизни. Кора раскручивала ее медленно и осторожно, с самой первой встречи, и сегодня пригласила Спайдера пообедать с ними, чтобы присмотреться к нему. И он произвел на нее крайне неприятное впечатление, размышляла Кора, вернувшись домой и готовя себе чай, прежде чем приступить к проверке счетов.
Она рассеянно просматривала список дорогих, недавно открывшихся ресторанов, с которыми вела дела. Ей платили наличными — она всегда настаивала на liquide — за то, что она приводила на обед или ужин большие компании друзей. И счета оплачивали сами владельцы. «Ле Трэн Бле» целых два месяца ждал, чтобы она привела сюда Билли Айкхорн, и завтра заметка об этом появится в разделе светских новостей, так что ей еще причитаются приличные премиальные. Хотя Кора всегда требовала плату за год вперед, она никогда ничего не обещала владельцам ресторанов. Конечно, она гарантировала, что приведет нужных людей сразу после открытия и потом еще раз, немного погодя, но успех заведения зависел от факторов, ей неподвластных. Если дела ресторана шли ни шатко ни валко, она немедленно прекращала с ним всякие отношения, поскольку не могла позволить себе приглашать друзей в полупустой зал.
Рестораны давали относительно небольшой, зато стабильный доход. Их открывалось огромное количество, и ровно столько же закрывалось, но она соглашалась сотрудничать только с лучшими, которые ей рекомендовали люди, входящие в агентурную сеть, созданную ею за семь лет жизни в Нью-Йорке.
Первый год был просто невыносимым, и Кора сохраняла спокойствие только благодаря тому, что неизменно повторяла про себя: сначала необходимо сделать капиталовложения, нельзя рассчитывать ни на один цент, пока она не заявит о себе. Труднее всего было смириться с тем, что в Нью-Йорке покупательная способность ее долларов была меньше, чем франков в Париже, и в результате для поддержания достойного уровня жизни ей пришлось залезть в основной капитал. В Нью-Йорке никто не давал скидку за плату наличными — ни обувщик, ни декоратор, ни зубной врач. Странно, ведь американцы должны были платить налоги, как и все люди на земле! Но она продолжала придерживаться своего плана. Пока в ее квартире шел ремонт, ее приютили друзья, и, как только квартира была готова, она начала устраивать ответные приемы, тщательно продумывая состав гостей и неизменно приглашая новых знакомых, отдавая предпочтение тем, кто был связан со средствами массовой информации.
В Париже средства массовой информации не играли той роли, что в Нью-Йорке. Французские газеты печатали рецензии на книги, фильмы и спектакли, но в том, что касается светской жизни, они находились на уровне каменного века. В газетах и журналах не было колонки светской хроники и сплетен, где рассказывалось бы о том, кто какой прием устроил, кто и в каком наряде появился по этому случаю, кто какую недвижимость приобрел и как хочет обустроить новое жилище. Их не интересовало, куда поехала отдыхать та или иная компания мужчин из общества или какой благотворительный бал замыслила та или иная компания великосветских дам.
Французы уделяли мало внимания благотворительности; их частные приемы были закрыты для прессы; дамы обедали исключительно дома, и все прекрасно знали, где одеваются те немногие счастливцы, которые могут позволить себе вещи от известных кутюрье.
Но Нью-Йорк — это совсем другое дело! Если не появилось сообщения в прессе, можно считать, что событие не состоялось; газеты и журналы так и пестрели сплетнями, и Кора де Лионкур изучала печатные органы, освещавшие жизнь богачей, с усердием истинного ученого. Познакомившись с Хэрриет Топпинхэм, могущественной и внушавшей страх издательницей «Фэшн энд интериорз», Кора поняла, что поймала удачу за хвост, и с тех пор знала, что счастье ей уже не изменит.
Они несколько раз встречались в Париже, куда издательница приезжала за новостями моды, и у них было много общих знакомых, но только в Нью-Йорке их дружба окрепла — к обоюдной выгоде. Хэрриет была одержима коллекционированием не менее Коры и не хуже ее разбиралась в этом деле. Во время субботних обедов они прониклись друг к другу истинным уважением и симпатией. Обычно после трапезы они вместе шли на аукцион или же отправлялись в глубинку — обследовать провинциальные антикварные магазины. Даже распродажа в каком-нибудь пригородном гараже возбуждала в них охотничий азарт, ибо они твердо знали, что никогда нельзя угадать, где именно подвернется достойная внимания вещь.
Они сразу распознали друг в друге родственные души. Обе в детстве были малопривлекательными, но полными амбиций, обе в конце концов неплохо устроились в жизни, исправив благодаря уму и изысканному вкусу неблагодарный исходный материал. Обе были достаточно циничны, не доверяли мужчинам и ненавидели хорошеньких женщин, которые легко порхали по жизни в облаке обожания. Обе были саркастичны, одиноки и непреклонны. Обе нуждались друг в друге.
Хэрриет Топпинхэм и Кора де Лионкур собирали совершенно разные коллекции и по-разному использовали их в своем обожаемом интерьере, поэтому между ними не было и намека на соперничество, которое могло бы осложнить их отношения. Как только Кора закончила отделку квартиры, Хэрриет сразу же посвятила ей девять страниц иллюстраций в одном из ежемесячных номеров «Фэшн энд интериорз».
В тот день, когда номер увидел свет, Кора не просто состоялась — она была возведена в ранг непогрешимых. Теперь все, кто мог что-то значить для Коры, были в курсе появления в городе блистательной графини Робер де Лионкур, хранительницы мира сокровищ, обворожительной женщины с прекрасной родословной из Чарлстона, чьи предки жили в Чэтфилде, штат Цинциннати, женщины, которая покорила Париж и вот теперь вернулась на родную землю, чтобы создать у себя в доме обстановку стильную и утонченную, пронизанную настолько своеобразным духом и настолько неповторимую, что ни один из декораторов города не мог себе ничего подобного даже вообразить. На второй год ее пребывания в городе фотографии ее квартиры появились в воскресном выпуске «Нью-Йорк тайме мэгэзин», в журналах «Нью-Йорк» и «Таун энд кантри».
Жители Нью-Йорка, которым уже начала надоедать их собственная довольно предсказуемая живопись и скульптура, соревновались за право получить приглашение на устраиваемые Корой небольшие приемы, где они чувствовали себя словно в другой стране, вне времени и пространства, в стране, созданной руками Коры, которая блестяще воспроизвела свою парижскую квартиру, внеся в интерьер немного новшеств. Она стала знаменитостью в том узком кругу людей, благодаря которым собиралась нажить состояние. Да, милая Хэрриет сыграла здесь ключевую роль, но все же не стоит недооценивать себя, думала Кора. Просто невероятно, как точно Кора выбрала для себя вид деятельности. Она встала из-за стола, переоделась в халат и прилегла на кушетку с гобеленовыми подушками, которую про себя называла своим кабинетом, — именно здесь она устроила свой командный пункт, оборудованный всем необходимым: рядом разместились три телефонных справочника, записная книжка, авторучки и телефон.
Первыми ее клиентами стали антиквары, поскольку это были люди, с которыми она умела вести дела. Выполняя страстные просьбы недавно обретенных друзей «провести их по антикварным лавкам», она отправлялась с ними в самые дорогие магазины, с владельцами которых сговорилась заранее, и в результате получала большие комиссионные с каждой, весьма недешевой покупки. Впрочем, она гордилась тем, что не позволила ни одному из своих клиентов купить что-то, не заслуживающее внимания. Если они вдруг выказывали желание купить какую-нибудь никчемную вещь, она мягко, но настойчиво объясняла, почему не стоит этого делать.
Затем она составила протекцию молодому и талантливому художнику-оформителю из Чарлстона, дальнему родственнику, который никого не знал в Нью-Йорке и надеялся с ее помощью получить хорошие заказы. Тщательно наведя справки, она сосватала его недавно разведенной подруге, которой как раз нужен был неизвестный, но оригинальный декоратор, чтобы оформить ее новый пентхауз. Благодаря этой и десяткам других подобных сделок с отобранными ею декораторами, Кора получала десять процентов суммы, которую художник получал от заказчика. Впрочем, художники считали указанный процент вполне разумным, поскольку графиня поставляла таких клиентов, которые были убеждены, что интерьер их дома просто не может обойтись без антиквариата. Подобная убежденность в конце концов приводила к тому, что они тратили целые состояния, в восторге предвкушая великолепие осуществляемого замысла.
Приемы, которые устраивала Кора де Лионкур, были настолько хороши, что это открывало для нее новую статью дохода. Женщины неизменно расспрашивали ее, как добиться успеха в проведении приемов, и она щедро делилась с ними своими секретами, прекрасно сознавая, что к тому времени, когда они успеют применить что-либо из ее арсенала, она уже придумает нечто новое. Цветочные магазины, ставшие модными благодаря ей, найденные и введенные ею в обиход фирмы по обслуживанию приемов, выбранные ею музыканты, — все платили ей дань, ибо свет следовал за Корой по проторенной ею дорожке.
Впрочем, было несколько областей, куда Кора решила не соваться. Это касалось парикмахерских, которые были непредсказуемы, и ей совершенно не улыбалось из-за плохой стрижки терять друзей. Еще она не доверяла ювелирам и скорнякам, за исключением всемирно известных, которые не нуждались в ее услугах, и никогда не давала женщинам советов относительно того, в каком магазине одеваться, поскольку подобное было чревато ошибками, которые могли дорого обойтись.
После того как она в течение трех лет весьма успешно вела дела с антикварами, оформителями, владельцами ресторанов и фирм, связанных с устройством банкетов и приемов, Кора де Лионкур наконец сочла, что готова вводить людей в свет. В столь деликатном деле требовались весь ее вкус, вся проницательность, весь ум.
Большинство из тех, кто мечтал попасть в высший свет, — а это чаще всего были недавно приехавшие в Нью-Йорк провинциалы или внезапно разбогатевшие жители Нью-Йорка, которых становилось все больше день ото дня, — были совершенно безнадежны: в них не хватало крайне необходимых для этого качеств. Ей нужны были люди, которых требовалось лишь слегка подтолкнуть, а уж дальше они пустятся в автономное плавание. Как и в случае с ресторанами, она ничего не гарантировала, но требовала деньги вперед. Когда же появлялся надежный клиент, думала Кора, улыбаясь про себя, например, какая-нибудь пара из глубинки или подходящая, недавно ставшая одинокой женщина с большим состоянием, это было поистине золотое дно. Эти люди готовы были все отдать, лишь бы зацепиться в высшем обществе Нью-Йорка, и после того, как Кора де Лионкур приглашала их на свои знаменитые обеды, затем постепенно вводила в более широкий круг и в конце концов помогала им принять гостей у себя, в апартаментах, отделанных названными ею людьми, им было не на что жаловаться, если они в конце концов все же приходились не ко двору.
В этом танце каждое движение приводило к тому, что она получала солидный куш, пополняла свой быстро увеличивающийся в объеме портфель акций и других ценных бумаг. Но в этом танце, поставленном Корой, постоянно требовались новые солисты, звезды типа Билли Айкхорн, которые могли бы добавить блеска высочайшей роскоши тому миру, которым Кора окружила себя.
Коре крайне нужна была близкая дружба с Билли Айкхорн, даже если бы та не потратила ни цента: Кора знала, что при грамотном руководстве Билли может потратить больше, чем любая другая женщина, с которой Кора так щедро делилась опытом проведения приемов. Идея рекламы «Магазина Грез» не дала бы ничего Коре, кроме благодарности Билли. Порой с некоторыми людьми Кора бесплатно делилась своими идеями, позволяя себе небольшие финансовые потери, которые называла про себя расходами на рекламу.
Осенний бал в честь «Магазина Грез» будет только началом. Ясно, что Билли придется закрепиться в Нью-Йорке. Для Коры было абсолютно непостижимо, почему Билли снимает скромные четерыхкомнатные апартаменты в «Карлайле» и имеет лишь один дом в Калифорнии. По мнению Коры, столь богатой женщине просто неприлично жить так скромно, если не сказать скудно, так просто, так незамысловато. Но уж Кора позаботится о том, чтобы торговцы Нью-Йорка немного растрясли этот денежный мешок.
Разрабатывая планы для Билли, Кора де Лионкур убеждала себя, что тем самым послужит обществу, ни больше ни меньше, даже если не завоюет этим общественного признания.
Когда Спайдер уезжал по делам, Вэлентайн мучила бессонница. Она всегда плохо засыпала, но, когда можно было бродить по дому, зная, что Спайдер мирно спит в соседней комнате, ей было гораздо легче. Сейчас же, в полном одиночестве, она испытывала беспокойство. Слава богу, завтра Спайдер уже возвращается из Нью-Йорка, подумала она, включая телевизор в гостиной. В два часа ночи лежать в постели с широко открытыми глазами и ждать, когда придет сон, было совершенно невыносимо. Уж лучше чем-нибудь заняться.
Можно было поехать в Нью-Йорк вместе со Спайдером. Он даже просил ее об этом. Но Вэлентайн решила воспользоваться случаем и, пока магазин закрыт на переоформление, подыскать дом.
Ни у одного мужчины не хватило бы терпения осматривать один дом за другим в компании агента по продаже недвижимости. Однако Вэлентайн еще весной с энтузиазмом включилась в это дело в надежде, что где-то их ждет дом ее мечты. Кажется, сегодня ей удалось наконец найти подходящий вариант, и возбуждение при мысли о том, что завтра она сможет показать его Спайдеру, только усиливало бессонницу.
Она с отвращением выключила телевизор. Нет, это невыносимо. Есть лишь одно проверенное средство, к которому она часто прибегала до замужества, а иногда и теперь, когда Спайдер уезжал: работа до изнеможения, пока не начнешь валиться с ног от усталости. Но для этого надо пойти в «Магазин», в ее студию. В доме, который она присмотрела сегодня, было помещение и для студии, а вот в ее нынешней квартире — нет. Вэлентайн начала быстро одеваться, повторяя про себя: помещение для оранжереи, для библиотеки, детская… там так просторно и чудесно… там они заживут по-новому, хотя лучше, чем сейчас, как будто жить невозможно.
До «Магазина Грез» было недалеко, и скоро она уже входила в его двери. Ей часто приходилось наведываться сюда ночью, поэтому у нее был ключ от служебного входа и она знала код сигнализации. В магазине пахло краской, деревом и стружкой; без мебели, которую временно отнесли на склад, помещение казалось огромным и немножко чужим. Торговые залы были абсолютно пусты, что позволяло штукатурам и плотникам быстро делать необходимый ремонт, — бригады рабочих часто работали и во внеурочное время, чтобы уложиться в срок, но территория ее студии была для них запретной зоной. Помещение не нуждается в ремонте, и ее нельзя отвлекать, потому что она по горло занята подготовкой костюмов к «Легенде», гневно заявила Вэлентайн бригадиру штукатуров.
Она включила свет в студии и с облегчением огляделась вокруг. Здесь можно плодотворно провести ночь и даже вздремнуть в видавшем виды стареньком шезлонге, заваленном журналами мод и старыми подшивками «Вуменз веэр дейли». Она обожала листать старые номера журнала, рассматривать фотографии друзей и подруг, вспоминая, что происходило некоторое время назад в безумном мире Седьмой авеню; она была рада, что больше к нему не принадлежит. Частенько во время рабочего дня она сворачивалась калачиком здесь, в шезлонге, и проглядывала газеты, хотя в последнее время подобное редко удавалось: она была слишком завалена работой.
Придется все-таки потребовать, чтобы ей дали более просторное помещение для студии, если Билли снова попросит ее разработать костюмы для фильма, как это случилось с «Легендой». Раньше студия никогда не была так заставлена и захламлена, но сейчас, когда понадобилось подготовить наряды для Мелани Адамс, Вэлентайн была вынуждена заказать дюжину манекенов — точно по меркам Мелани.
У актрисы никогда не хватало ни времени, ни терпения для примерки тех шестидесяти с лишним платьев, которые Вэлентайн делала для нее. Сейчас манекены были наряжены в тонкую ткань, нечто вроде тяжелого, но податливого тюля, который Вэлентайн использовала вместо традиционной кисеи, слишком жесткой, чтобы шить из нее костюмы 20—30-х годов — они должны лежать красивыми, изящными складками.
Помимо толпы манекенов, мастерская была завалена фотографиями кадров из фильмов с ранними Дитрих и Гарбо, пожелтевшими от времени газетами, где они были изображены сходящими с трапа трансатлантических лайнеров или позирующими для журналистов, а еще книгами по истории кино, которые принесли Вэлентайн в мастерскую, чтобы она могла их изучать.
В ее всегда аккуратной студии сейчас полный бардак, с раздражением подумала Вэлентайн. Впрочем, это не надолго. Здесь все же достаточно места, чтобы свободно перемещаться между манекенами, примеряя, прикидывая, закалывая податливую мягкую ткань; молчаливые безголовые фигуры были для нее более приятным обществом, нежели герои ночных телесериалов.
В течение нескольких часов Вэлентайн трудилась не покладая рук. Самая сложная часть работы была уже позади, Уэллс Коуп одобрил все эскизы, так что на следующей неделе предстояло разработать еще всего лишь шесть костюмов, а потом перевести их из тюля в настоящую ткань. Придется Мелани Адамс явиться сюда собственной персоной для последней примерки, но пусть уж решением этой проблемы займется мистер Коуп, сонно думала Вэлентайн, довольная проделанной работой. Утомленная, она опустилась в старый шезлонг и закурила «Голуаз», запах которого всегда напоминал ей о Париже. Она неизменно держала в мастерской пачку этих сигарет. Лежа в шезлонге и пуская время от времени дым, Вэлентайн чувствовала восхитительное расслабление… да, в своем новом доме она определенно отведет место под студию, подумала она, погружаясь в сон.
Горящая сигарета выпала у нее из рук, оказавшись на пачке старых фотографий, которые немедленно загорелись. От фотографий занялись подшивки газет, и через несколько секунд пылала уже вся студия. Тонкая ткань на манекенах и кипы бумаг дали шанс огню разбушеваться вовсю, и он быстро пожирал студию. Дальше пламя перекинулось в недавно отделанные кабинеты, затем на только что отремонтированную центральную лестницу и по ней — вниз, к разбросанным тут и там грудам строительных отходов. Банки с краской, стоящие на каждом углу, еще больше усилили пожар: многие из них были неплотно прикрыты, поскольку наутро штукатуры предполагали продолжить работу. Огонь моментально уничтожил полы, стены и витрины, потом принялся за деревянную обшивку зимнего сада, а уж затем перекинулся на оклеенные обоями примерочные, двери которых были широко распахнуты для удобства рабочих.
В какие-нибудь считанные минуты, задолго до прибытия пожарной команды Беверли-Хиллз, «Магазин Грез» выгорел до основания, и лишь пепелище осталось посреди садов, отделявших магазин от Родео-драйв. Вэлентайн погибла. Она задохнулась мгновенно, даже не успев понять, что происходит.
9
Почти год спустя после пожара, весной 1981-го, Джош Хиллман, несмотря на всю свою скрупулезность, вынужден был признать, что в делах фирмы «Магазин Грез» не осталось непроясненных моментов. Он был слишком взволнован, чтобы усидеть на месте, поэтому ходил взад-вперед по своему кабинету в роскошной юридической конторе «Страссбергер, Липкин и Хиллман». Он вовсе не испытывал того облегчения, которое должен испытывать человек, сбросивший с плеч тяжкий груз трудной работы.
Билли с тех пор так ни разу и не побывала на том месте в Беверли-Хиллз, где когда-то стоял сгоревший «Магазин Грез». Джош вспомнил, как она приехала к нему в контору прямо из аэропорта и в полном отчаянии начала отдавать распоряжения. За все годы их тесных деловых отношений он никогда не видел ее в таком состоянии.
— Снесите все до основания, — приказала она тогда срывающимся, изменившимся до неузнаваемости голосом. — Разровняйте газоны и парк, расчистите землю и немедленно продайте.
Джош кивнул и сделал пометку в блокноте, но ее дальнейшие указания показались ему лишенными всякого смысла.
— Продавайте магазины в Чикаго, в Нью-Йорке, Мюнхене, Гонолулу и Гонконге; прекратите начатое строительство и продайте все участки, предназначенные для будущей застройки. Избавьтесь от них как можно скорее, Джош!
— Билли, я понимаю ваши чувства, — мягко сказал он, — но зачем же продавать магазины в Чикаго и Нью-Йорке? Мне кажется, вы заходите слишком далеко. Как ваш адвокат, не могу не предупредить вас, что это самое неудачное решение, какое вы только можете принять. Дела в этих магазинах идут просто блестяще, и расположены они так удачно, что вам уже никогда не удастся найти для них подобного места. Никто в здравом уме не стал бы продавать их в момент, когда они находятся на подъеме. Знаю, вам тяжело, но поверьте, сейчас не время принимать далеко идущие решения. Давайте отложим этот разговор на пару недель, если вы все еще…
— Джош, замолчите, прошу вас! Я уже приняла решение, и меня не волнует, понесу я убытки или, наоборот, что-то от этого выиграю.
— Послушайте, должно пройти какое-то время, чтобы вы оправились от шока. Вы пока не можете рассуждать здраво. Это вполне объяснимо. Но если исполнить ваши нынешние распоряжения, мы можем просто-напросто разрушить империю «Магазинов Грез».
— Чем скорее, тем лучше, — заявила Билли бесстрастно, но решительно, так что он с удивлением посмотрел на нее. Ведь он как никто другой знал, что значат для нее «Магазины Грез» и их колоссальный успех.
— Простите меня, Билли, но я просто отказываюсь вас понимать! — в полнейшем отчаянии воскликнул он.
— Если бы я не попросила Вэлентайн разработать костюмы для «Легенды», она сейчас была бы жива. Я уверена, что именно ради этих костюмов она пошла в мастерскую. Ей приходилось работать до изнеможения, чтобы поспеть к сроку. Это полностью моя вина, Джош, хотя я не собираюсь рассказывать об этом никому, кроме вас. А вам я говорю это только для того, чтобы вы перестали со мной препираться и приступили к работе. Это была моя вина. То, что я делаю с магазинами, — это единственный выход. Конечно, ее уже не вернешь, но… как бы там ни было, так надо.
— Билли… — начал было он, но ее мертвенный, бесцветный голос прервал возражения.
— Джош, надеюсь, вы свяжетесь с моими адвокатами по вопросам недвижимости в Нью-Йорке. Такова моя воля, и я поручаю вам ее исполнение. Прошу вас выплатить жалованье за шесть месяцев вперед тем, кто работал в Беверли-Хиллз, и за два месяца — персоналу чикагского и нью-йоркского филиалов. Немедленно, без всяких возражений оплачивайте все счета. Повторяю: без всяких возражений. Я больше не собираюсь обсуждать эту проблему. «Магазины Грез» должны прекратить свое существование. — С этими словами Билли покинула контору, так что он даже не успел сказать ей, что выполнит все ее распоряжения от начала до конца.
Он заразился ее безумной спешкой, ее иррациональным чувством вины, но действовал со свойственными ему взвешенностью и расчетом. Потребовался год, чтобы осуществить задуманное Билли — все, вплоть до последней запятой на последнем юридическом документе. Джош Хиллман ликвидировал все имущество фирмы вне зависимости от местоположения магазинов, действуя не спеша и весьма эффективно. Он знал, что в тот момент спрос на хорошие участки земли был высок и продолжал расти. Закончив распродажу магазинов и земли, он вынужден был с мрачным удовлетворением признать, что разрушение империи «Магазинов Грез» принесло солидный доход, особенно в части чикагского и нью-йоркского филиалов, которые ему удалось быстро и выгодно продать. Сейчас вся работа была завершена, и единственным, что осталось от фирмы, был кусок розового мрамора с названием магазина, закрепленный когда-то у входа в здание на Родео-драйв. Мраморная табличка была доставлена ему как адвокату Билли пожарной командой Беверли-Хиллз, и он никак не мог с ней расстаться.
Это все, что осталось ему от Вэлентайн, женщины, которую он полюбил с первого взгляда, ради которой развелся с женой после долгих лет брака и которая собиралась выйти за него замуж. По крайней мере, он так считал, пока не появился Спайдер Эллиот. Никто не знал о его любви, даже Джоанна, его первая жена. Джош Хиллман вынужден был принять известие о замужестве Вэлентайн с тем же стоицизмом, с каким принял теперь ее смерть. Вот и все, что он мог сделать для женщины, подарившей ему безмерное счастье.
Джош Хиллман посмотрел в окно — его кабинет располагался на двадцать втором этаже. Был ясный день, и он мог различить очертания дома, где жила Вэлентайн, сначала одна, а потом вместе со Спайдером. Интересно, где сейчас Спайдер, подумал он.
Пока Спайдер находился в Лос-Анджелесе, специальный посыльный доставил ему чек на десять миллионов долларов — их с Вэлентайн долю в империи «Магазинов Грез», но со времени поминальной службы по Вэлентайн его никто не видел. От торговца яхтами в Марина-дел-Рей, который позвонил Джошу накануне того, как он получил чек для Спайдера, поспешно выписанный на местный банк, Джош узнал, что Спайдер купил океанское судно, подержанный, третьесортный, но еще крепкий корабль простейшей конструкции; его можно было назвать как угодно, начиная от яхты и кончая плавучей тюрьмой. Оно достигало двадцати пяти метров в длину, было снабжено довольно надежным мотором в дополнение к парусам и имело четыре каюты — вполне достаточно, чтобы вместить небольшой экипаж. За неделю Спайдер перенес на борт кое-какие вещи, нанял двух матросов, подготовил судно к плаванию и отчалил, взяв курс на Гавайи. Пару раз Джош слышал, что кто-то видел его, но от самого Спайдера не было никаких вестей. Сначала он бросил якорь где-то в районе Кауай, а затем исчез из виду и только несколько месяцев спустя объявился у Райатеа, на островах Сасайе-ти во Французской Полинезии. Поскольку новых сведений о нем не поступало, Джош решил, что Спайдер так и осел в том регионе, по площади едва ли не превосходящем всю Западную Европу.
Господи, если бы он мог поступить так же, думал про себя Джошуа Исайя Хиллман. Если бы он мог бросить мир катиться к собственной гибели, отчалить куда глаза глядят и попытаться каким-то образом смириться со случившимся. Но ему было сорок семь, он был старшим партнером в крупной юридической фирме, имел троих детей и кучу обязанностей перед обществом. Единственным романтическим увлечением всей его размеренной, упорядоченной жизни, основанной на надежности и неподкупности, была страсть к Вэлентайн, и теперь, когда она ушла, он станет жить так же, как жил до встречи с ней, рассчитывая только на силу привычки.
Слава богу, подумал он, что никому не пришло в голову попросить его сказать несколько слов во время заупокойной службы по Вэлентайн, состоявшейся в парке дома Билли. Скорее всего он бы просто расплакался, так же как Билли и Спайдер, которые сидели поодаль друг от друга, в стороне от остальных. Он не решался взглянуть на Спайдера, только украдкой посмотрел на Билли и увидел, что лицо ее почти полностью скрыто полями черной шляпы, которой она словно бы отгородилась от окружающего мира. Несколько слов сказала Долли Мун, которая поведала о своих восхитительных встречах с Вэлентайн — она говорила с такой безмерной любовью и в то же время сдержанно, как умеют только великие актрисы, так что ее речь успокаивала. Потом выступил Джимбо Ломбарди, большой друг Вэлентайн еще с тех времен, когда она работала модельером в Нью-Йорке; вспоминая ее с юмором, спасительным в тот момент, он рассказал несколько любопытных историй о тех временах, когда Вэлентайн была наиболее ярким членом кружка, возникшего вокруг ее бывшего шефа Джона Принса. Уэллс Коуп дал высокую оценку дарованию Вэлентайн, а в заключение своим чистым, твердым голосом несколько кратких фраз произнесла Джиджи, хотя было заметно, как она волнуется. Она рассказала о первой встрече с Вэлентайн и о тех моментах, когда они были вместе, вспоминая только счастливые дни, дни, наполненные радостью. А потом все разошлись.
Билли уехала из дома на Черинг-Кросс-роуд, оставив Джози Спилберг и Берго О'Салливана следить за поддержанием чистоты и порядка. Раз в неделю приходили уборщицы и садовники, которые убирали в комнатах и ухаживали за садом, но Билли, похоже, навсегда оставила Калифорнию, поскольку не появлялась здесь с тех пор, как год назад отправилась вместе с Джиджи провести остаток лета в Ист-Хэмптоне, к Джессике Торп Страусе.
А он, Джош Хиллман, пойдет сейчас домой, чтобы переодеться для очередного званого обеда у Сьюзен Арви, поскольку она считала его самым привлекательным свободным мужчиной во всем Голливуде. Он никому бы не пожелал такой безрадостной, никчемной, жалкой судьбы.
— Просто не могу поверить, что День труда уже на носу, — мягко произнесла Джессика. Ее грустные лавандовые глаза были широко открыты, очаровательные губки надуты самым обворожительным образом. Кончалась последняя неделя августа. Джессика подняла от книги голову в обрамлении облака волос, по-прежнему сохранявших воздушность, как на картинах прерафаэлитов. Они с Билли читали, сидя на крыльце под навесом. Все два месяца, пока Билли и Джиджи гостили у нее — а приехали они сразу после похорон Вэлентайн, — Джессика избегала задавать Билли вопросы относительно ее будущего, но лето подходило к концу и надо было что-то решать.
Джессика была на три года старше Билли и наблюдала важнейшие этапы становления ее личности, но никогда за шестнадцать лет их знакомства Билли не отгораживалась от нее такой непроницаемой стеной грусти, превращаясь в холодную статую и отчасти оживая лишь за греблей и теннисом, которыми занималась с Джиджи и детьми Джессики. Казалось, Билли приехала не в Ист-Хэмптон, а в спортивный лагерь, поскольку искала здесь лишь веселую компанию и молодой задор. Она как могла старалась не оставаться с Джессикой наедине.
«Как будто я задавала ей какие-то вопросы, — думала Джессика, — как будто я надоедала ей советами! Будто я не знаю, что есть вещи, о которых не принято говорить вслух, и мне неизвестно, что я ничем не могу ей помочь!»
Но после Дня труда семье Страусе пора было собираться в дорогу и возвращаться в Нью-Йорк, на Манхэттен, поскольку в сентябре младшим членам семейства предстояло разъехаться по своим школам, а до этого надо было купить кое-какие вещи и сделать массу других необходимых приготовлений.
— День труда?.. О, Джесси, только не это… Неужели лето кончается? Никогда я не любила этот праздник, а в этом году… — медленно произнесла Билли, с неохотой откладывая книгу. — Не припомню, чтобы меня так раздражало приближение какого бы то ни было праздника.
— Гм, — неопределенно промычала Джессика. Она не хотела перебивать Билли сейчас, когда, казалось, та наконец готова обсуждать вещи, которые просто необходимо обсудить.
— Джесси, — продолжала Билли, садясь прямо и кладя книгу на крыльцо. — Я все лето злоупотребляла твоим гостеприимством. Только не говори, будто это не так, и прочие сладкие слова: ведь мы обе знаем, что я только и делала, что пыталась прийти в себя. Я страшно устала от детей, поэтому, полагаю, нам с тобой следует поговорить.
—Гм.
Билли едва заметно улыбнулась.
— Можешь хоть весь день повторять свое «гм», мне все равно, так что не утруждай себя, а действительно лучше побереги силы для магазинов — ведь ты собираешься покупать обувь близнецам. Кстати, они сообщили мне, что намерены всю зиму проходить в кроссовках. О, я знаю все их секреты, в частности, что Дэвид-младший по уши влюблен в Джиджи, но, поскольку они одного возраста, он с тем же успехом мог бы влюбиться в Жанну Моро. Только я обещала ничего тебе не говорить, так что уж сделай вид, будто ничего не знаешь. Хорошо?
— Гм-м-м.
— Но он такой симпатяга, что она позволяет ему заниматься с нею любовью.
— Что?
— Я знала, что смогу вывести тебя из равновесия. — Билли рассмеялась, глядя на то, как Джессика переменилась в лице. Но, услышав смех, Джессика успокоилась. Если Билли может подшучивать над ней, значит, все не так плохо. — Итак, что я думаю по поводу моей дальнейшей жизни? Кажется, именно этот вопрос ты задаешь себе.
— Да, не без этого, — осторожно произнесла Джессика, стараясь вызвать Билли на разговор.
— Вот, послушай это, — сказала Билли. — «Нужно продолжать жить, даже если очень тяжело и положение кажется безвыходным… Есть единственный выход — всегда и во всем идти до конца, невзирая ни на что». Правда, неплохой совет?
— Для чего? Для плавания по Амазонке?
— Такой совет дали Фрэнсису Скотту Фицджеральду, когда у него не ладилось с романом «Ночь нежна». Думаю, он годится для всего, за исключением разве что поедания шоколадного торта. Так что я собираюсь последовать ему и «идти вперед, невзирая ни на что».
— А куда именно?
— Вперед по жизни. Ты прекрасно знаешь, что я имела в виду именно это. — Билли говорила с таким вызовом, что голос ее зазвучал пронзительно. — Буду притворяться, что я потрясающе богатая, недурна собой, одинокая и вполне еще молодая женщина, которая может купить себе буквально все, что захочет. Обзаведусь домами в престижных районах, буду вращаться в престижном обществе, спать с престижными мужчинами, устраивать престижные приемы и фотографироваться в престижных местах в нужное время года. — Она помолчала, внимательно разглядывая лицо сбитой с толку Джессики, а затем продолжала, уже тише: — Лишь очень немногие будут знать, что жизнь моя не удалась, поскольку отныне я отказываюсь участвовать в собственном провале. То, что думают о тебе окружающие, полностью зависит от того, что ты думаешь о себе, поэтому я не признаю теперь ничего, в чем не было бы вкуса, запаха, ощущения триумфа.
— Боже мой! — пробормотала Джесси.
— Ну, что ты об этом думаешь? — В вопросе Билли слышались смущение, дерзость и испуг.
— Зачем тебе мое мнение? Столь блистательной особе оно ни к чему.
— Правда, Джессика, я хочу воплотить в жизнь этот план, потому что не могу придумать ничего другого, что не ущемляло бы кого-либо, кроме меня. Понимаю, что подобное решение не открывает дорогу в рай…
— На самом деле оно включает только три из семи смертных грехов, — задумчиво вымолвила Джессика. — Похоть, жадность и гордыню.
— А какие остальные?
— Зависть, обжорство, праздность и гнев. Это согласно Фоме Аквинскому, хотя и не знаю, кто надоумил его… Но если посмотреть с этой точки зрения, то ты находишься чуть ближе к раю, чем к аду.
— Я бы не стала переживать, даже если бы речь шла о шести из семи смертных грехов. Единственное, на что я, пожалуй, не способна, — это на обжорство. Я просто хочу освободиться от наваждения, которое постоянно преследует меня, но светская жизнь — это все, что я в состоянии придумать. Понимаю, что должна была бы посвятить свою жизнь совершенствованию человечества, но не могу обманывать себя: долго на этом поприще я не протяну… Я позволила Джошу управлять моими деньгами по своему усмотрению, так что он будет делать это за меня. Он хорошо разбирается, как направить деньги туда, где они нужнее всего.
— А что будет с Джиджи?
— Мы уже с ней немного потолковали. Она на самом деле не очень-то хочет поступать в колледж, и я не могу ее за это винить. Я и сама никогда там не училась, поэтому не мне ее заставлять. Она так хочет поскорее стать самостоятельной, вот и подыскала себе простенькую работу в самой модной фирме по обслуживанию банкетов во всем Нью-Йорке. Называется «Путешествие в изобилие». Ее нам порекомендовала Кора Мидлтон. Конечно, мне было бы спокойнее, если бы я могла держать девочку возле себя, но разве я могу ей возразить, особенно если учесть способности Джиджи?
— Но где она будет жить?
— Я сняла для нее квартиру в доме с самой лучшей охраной, какую только могла найти. Вместе с ней будет жить девушка по имени Саша Невски. Это взрослая и очень ответственная девица двадцати двух лет, к тому же ее мать была дружна с матерью Джиджи. Я обо всем договорилась с миссис Невски по телефону… Она была очень довольна, потому что Саша жила в квартире без лифта в сомнительном районе. Теперь же девушки будут жить в двух шагах от тебя, и я хоть буду спокойна, зная, что Джиджи в любой момент может обратиться к тебе за советом. А во время отпуска она сможет приезжать ко мне, или я буду наведываться в Нью-Йорк.
— Наведываться — откуда? Почему бы тебе не начать свою светскую жизнь прямо на Манхэттене? — спросила Джессика, впервые за все время разговора по-настоящему встревожившись.
— Хочу немного пожить за пределами Штатов, — тихо сказала Билли.
— О, Билли, пожалуйста, не уезжай! — взмолилась Джессика. — Зачем тебе покидать Нью-Йорк?
— Бог с тобой, успокойся. Просто я хочу начать все заново, в Нью-Йорке слишком многолюдно. Мне кажется, я по горло сыта этим городом, в нем все все про меня знают. Надеюсь, ты меня понимаешь?
— К сожалению, да.
— И я буду ничуть не дальше, чем тогда, когда жила в Калифорнии. — Билли старалась, чтобы голос ее звучал как можно убедительнее. — По крайней мере сначала. Это все те же четыре с половиной тысячи километров — что до Лос-Анджелеса, что до Парижа.
— Париж? Неужели ты собираешься снова поселиться в Париже? Уилхелмина Ханненуэл Уин-троп, я просто не могу в это поверить!
— Французский — это единственный иностранный язык, на котором я говорю. К тому же мне надо уладить там кое-какие дела.
— Могу поспорить, что знаю, о чем идет речь!
— Джесси, ты не знаешь всего, ты знаешь лишь почти все… Ну и что же, может, ты и права. Да, я уехала из Парижа, когда была бедной и отвергнутой, сбежала, поджав хвост, и теперь особенно соблазнительна мысль о триумфальном возвращении… И если собираешься начать светскую жизнь, не лучше ли поискать место, где на протяжении уже многих веков знают, как это лучше всего делать.
— Полагаю, это тоже была Корина идея. Я права?
— Она просто в ужасе и хотела бы, чтобы я осталась здесь, прямо как ты.
— Господи, вот опять меня бросают. Как будто недостаточно того, что общество постепенно перестает признавать, что я существую.
— То есть?
— Я же не соответствую стандарту! Слишком миниатюрна. Первыми исчезли из продажи перчатки моего размера, — печально вымолвила хрупкая Джессика. — Или это был мой размер лифчика? Все это было так давно, что уж и не вспомнишь. Но могу поспорить, что больше никто не носит лифчики размера 34А. Потом настала очередь трусиков… промышленность перестала выпускать трусики четвертого размера, а меня даже не потрудились предупредить — я хоть накупила бы впрок. Я уж не говорю о туфлях. Туфли для взрослых пятого размера не выпускаются вот уже много лет. Даже гольфы для тенниса я вынуждена покупать в детском отделе. Что касается одежды, то бывший восьмой размер ныне переименован в четвертый или шестой. Ты бы не поверила своим глазам, если бы увидела счета от портнихи, подгоняющей мне одежду по фигуре. Вот я и не могу понять, то ли это я уменьшилась в размерах, то ли в обществе растет предубеждение против изумительно изящных женщин. Единственная вещь, которую я еще могу подобрать по размеру, — это очки для чтения. Можно быть богатой, как ты, или слишком миниатюрной, как я, но очков для чтения все равно никогда не будет хватать. Они перестали выпускать губную помаду моего цвета и мою любимую тушь для ресниц… О, а вот и дети!
— Если можно назвать ребенком могучего детину почти двухметрового роста. А что это Дэвид-младший поет?
— Новую оду Джиджи. Исполняется на мотив песни «Я привык к ее лицу…»: «Я привык к ее туфлям, ее каблукам, ее подошве, ее шлепанцам, ее бесконечное разнообразие подходит к концу, пора подыскивать себе новую цыпочку; я привык к ее туфлям». Мило, хотя и не очень складно, — пропела Джессика высоким, чистым сопрано, наслаждаясь своей местью Билли за шутку относительно Дэвида и Джиджи.
— Цыпочку? Джессика, да как он посмел?! И где он только услышал это слово? Джиджи не говорила, что они занимались любовью, но она не говорила и обратного! — прошипела Билли.
— Боюсь, мы так и не узнаем правды.
— Матери мальчиков недопустимо самодовольны!
— У меня есть и дочери! И я волнуюсь за них.
— Из-за них волноваться — только время терять, — сказала Билли неожиданно серьезно. — Вряд ли это поможет. То, что тебя по-настоящему беспокоит, редко случается на самом деле, и в конце концов жалеешь, что не произошло того, чего ты боялся, поскольку лучше уж это, чем то, что на самом деле произошло.
* * *
Саша Невски сидела на полу в окружении чемоданов и предавалась мрачному отчаянию, предвидя неприятности. Было много причин, по которым она не хотела покидать свою небольшую квартирку, где царил художественный беспорядок и из окна которой открывался вид на убогую улочку в стороне от Вест-Энд-авеню. Но ее заставили отказаться от такой близкой и дорогой сердцу квартиры и переехать на другой конец города в недавно обставленные, роскошные апартаменты в самом центре самого престижного района Ист-Сайда, где ей придется жить вместе — вместе! — с Джиджи Орсини, которая почти на четыре года младше ее. Саша смутно помнила ее неуклюжим подростком с копной каких-то ужасных волос, девочкой, явно не достигшей половой зрелости. Саша полностью отдавала себе отчет, что мамаша запродала ее с потрохами Билли Айкхорн, и все из-за надежного швейцара, дежурящего в подъезде день и ночь, из-за охраняемого черного хода и лифта, которым управлял настоящий лифтер, а не какой-то там набор кнопок. Ей придется отказаться от уединения, завоеванного с таким трудом и столь необходимого ей в ее сложной, запутанной жизни. И все из-за того, что мамаша хочет, чтобы она жила в хорошем квартале, в доме с надежной охраной.
Если матери Саши, Татьяне Орловой-Невски, этой мучительнице-танцовщице, что-то приходило в голову, никто из членов семьи не отваживался перечить ей. Сашу весьма удручал этот факт. Ей стоило большого труда получить разрешение отделиться, и она до сих пор тоже старалась помалкивать — из-за своей профессии. Целый год мать противилась выбранной ею работе, но в конце концов сдалась и разрешила Саше реализовать свои способности, хотя и не уставала повторять дочери, что та получила лишь временное разрешение.
Саша не могла понять, как такой хрупкой и ясноглазой женщине удавалось быть столь властной, что она могла так долго препятствовать самореализации дочери. Что давало матери такую непререкаемую и абсолютную власть в довольно широком семейном кругу? Если бы Саша только могла понять эту невидимую, но мощную внутреннюю силу, которая делала ее мать бесспорным авторитетом среди шести семейных кланов, каждый из которых возглавляла одна из младших сестер матери, урожденных Орловых, то она бы отыскала такие качества в себе, развила бы их и применила к окружающим.
Угрюмо сортируя колготки по цветам, Саша окидывала мысленным взором свою двадцатидвухлетнюю жизнь. Она была белой вороной в семье Невски, позор для всего тесно сбитого русско-еврейского клана сестер Орловых, единственная из всех своих талантливых кузин, которая не умела ни петь, ни быть актрисой, ни играть на музыкальных инструментах, ни, что хуже всего, танцевать. Она не умела отбивать чечетку, исполнять бальные па, не могла освоить самые простые движения и не чувствовала ритма — и это в семье, где младенцы годились для первого прослушивания буквально уже в момент своего рождения.
Но хуже всего были семейные торжества по случаю Дня благодарения, подумала Саша. Она сидела за столом, ненавидя себя, слишком длинную, слишком худую и бесталанную, и слушая рассказы о мюзиклах, которые ставились когда-то давно, ставятся сейчас или будут ставиться в будущем на Бродвее или вне его, разговоры о возобновленных спектаклях и гастролях, потому что старые мюзиклы никогда не умирают. Когда кончались разговоры про мюзиклы, начинались бесконечные рассказы о занятиях и концертах ее кузин, об их бесподобных успехах в музыкально-хореографической школе, о планах, которые ее тетушки связывали с детьми. И все неизменно интересовались, а что же она будет делать в жизни, поскольку школьными достижениями она похвастаться не могла. Ее природная сметка и быстрый ум почему-то никогда не проявлялись в хороших оценках, которые могли бы снискать ей хотя бы минимальное уважение к себе.
Она прекрасно знала, что именно думают про нее родственники. Если они вообще о ней вспоминали, то шумно жалели ее в свойственной им добродушной манере. В семейной кругу ее видели в образе воробья, продрогшего и одинокого на своей ветке; она была безобидным ничтожеством, Татьяниной единственной неудачей, которую старались не замечать, ребенком, лишенным тех животворных соков, которые бурлили в роду Орловых-Невски. Глядя на свое отражение в зеркале, она убеждала себя, что с внешностью у нее все не так уж и плохо, но стоило ей оказаться в кругу семьи, как она тут же смущалась и старалась вести себя как можно незаметнее, забившись в самый укромный уголок. Она старалась спрятать даже свои достоинства, сутулясь и передвигаясь тяжело и неуклюже, пытаясь сделаться маленькой и плоской, мимикрировать в условиях враждебной среды. Она знала, что, если кто-нибудь из семьи увидит, что она старается казаться привлекательной, это станет главной новостью дня, которая будет широко обсуждаться с бурными изъявлениями восторга, словами ободрения и многочисленными советами. Лишь неизменная поддержка Захарии, ее блестящего и талантливого брата, который был пятью годами старше, поддерживала в Саше чувство собственного достоинства все те годы, пока формируется личность.
Пока. Пока она не приобрела набор замечательных качеств, хотя случилось это в более старшем возрасте, чем обычно. Возможно, в клане Орловых-Невски, все представители которого были обычно худыми и плоскогрудыми, со свойственными настоящим танцорам сильными ногами и гибкой спиной, и не считались достоинствами прелестнейшая, идеальной формы грудь, исключительной округлости попка и восхитительная, тончайшая талия, но другие отдавали им дань и даже готовы были за них платить. Вот так она, прежде бесталанный и безнадежный гадкий утенок, превратилась в самую модную манекенщицу, демонстрирующую нижнее белье на Седьмой авеню.
Самая модная. Зал для демонстрации моделей нижнего белья, конечно, не театральные подмостки. Саша это понимала, но если бы был жив Зигфелд, то она стала бы его примой, потому что обладала божественной походкой. Саша Невски, думала она о себе в третьем лице, ходила по подиуму с истинным вдохновением, которого не добьешься никакими танцевальными уроками, — она шла, естественно и неподражаемо сочетая развязность, сексуальность и чувство собственного достоинства в точно необходимых пропорциях для того, чтобы демонстрировать дорогие трусики, лифчики, комбинации и ночные рубашки от «Херман Бразерз». В ее задачи входило, чтобы зрители немедленно повскакали со своих мест и бросились в ближайший универмаг или разбежались по специализированным магазинам по всей Америке.
Тот факт, что «Херман Бразерз» были производителями со столетним стажем и зарекомендовали себя как самая солидная и респектабельная фирма по производству нижнего белья в Соединенных Штатах, не мог убедить Сашину мать, что работа на них не является разновидностью белого рабства. Только посещение их впечатляющей конторы и длительная беседа с мистером Джимми, сыном одного из основавших фирму братьев Херман, полноватым седовласым старичком-жизнелюбом, нынешним владельцем, известным своей щедростью и добротой, заставили Татьяну Невски позволить дочери работать у него. Причем работа эта оплачивалась получше, чем работа танцовщицы, и, самое главное, оплачивалась регулярно.
Саша работала на мистера Джимми почти год, постепенно начиная переносить в реальную жизнь ту броскость и эффектность, которые служили ей на подиуме. Она распрямилась, не стесняясь своего роста — метр семьдесят два, — расправила плечи, узнала необходимый минимум об уходе за волосами и косметике, чтобы заставить свою природную красоту проявиться в полной мере, и принялась осторожно покупать себе одежду, о которой мечтала всю жизнь, разглядывая журналы мод. Однако она не позволяла новой Саше являться на семейные торжества, поскольку самые худшие опасения ее матери относительно безнравственности мира манекенщиц, демонстрирующих нижнее белье, только подтвердились бы, стоило лишь родственникам увидеть разительную перемену, произошедшую с ее забитой, но невинной, беспорочной дочуркой.
И вот теперь, когда она наконец освоилась с работой, не отнимавшей много времени, нашла сложившееся там общество приятным, а разговоры в высшей степени поучительными, когда ее цветы привыкли к полумраку маленькой квартирки, а сама она уже почти собралась навести порядок в шкафах; когда ее кот Марсель наконец научился ходить в туалет, а трое ее любовников приходили к ней точно по графику, она, неотразимая Саша Невски, должна вырвать себя с корнем из привычной среды и переехать в столь фешенебельный район, что там даже нет метро!
Конечно, можно на автобусе доезжать до Восьмой авеню, а уж там садиться в метро, в конце концов, на свою зарплату она может позволить себе и такси, но она страшно экономила, потому что мечтала когда-нибудь в будущем открыть собственный магазин по продаже белья. Вот уж что Саша Невски твердо знала, так это какое белье женщина мечтает носить.
Она не умеет танцевать, но все же у нее есть будущее. Саша готова была поспорить, что оно связано с розничной торговлей. Еще она могла поспорить, что Джиджи Орсини носит белые хлопчатобумажные трусы и нуждается в лифчике. Это же очевидно, что Билли Айкхорн, в качестве приемной матери, то унылое ничтожество, которое она когда-то встретила, превратила теперь в избалованное, обожающее командовать существо. К тому же наверняка еще не утратившее невинность.
Джиджи осмотрела свою новую квартиру, заглянула в буфеты и комоды, полные незнакомых предметов, среди которых были сервиз чистого серебра на двенадцать персон и лиможский чайный сервиз. Полки на кухне ломились от припасов, холодильник был забит. Билли что, вообразила, будто она будет здесь устраивать приемы?
Джиджи чувствовала себя скорее взломщиком, забравшимся в чужую квартиру, чем полноправной хозяйкой. Прошлой ночью, проводив Билли в Париж, она ночевала здесь одна, и никогда раньше ее так не пугала тишина, хоть она и знала, что здание охраняется не хуже гарема времен расцвета Оттоманской империи. Она вдруг поняла, что впервые в жизни провела ночь под крышей собственного дома, и с тоской подумала, когда же прибудет Саша Невски.
Последний раз они виделись пять лет назад, вспомнила Джиджи, возвращаясь мыслями в прошлую жизнь. Помнила она Сашу потому, что та была очень молчалива, чувствовала себя явно не в своей тарелке и в ней не было ничего от привлекательности и живости сестер Орловых.
Саша, по крайней мере, была такая тихая и незаметная, а эти качества очень пригодятся для совместного проживания, раз уж Билли постановила, что Джиджи нельзя жить в Нью-Йорке одной. Джиджи надела самые поношенные джинсы и майку и выбрала самые старые кроссовки, чтобы не испугать скромную девушку одним из сногсшибательных нарядов, купленных ей Билли перед отъездом. Правда, из уважения к себе она положила косметики больше обычного и чуть подкрасила волосы — все-таки это Нью-Йорк, и Саша, при всей своей скромности, его жительница.
Жить надо с кем-то незаметным, чье присутствие почти не чувствуется… с тенью, с привидением, которое тебя не беспокоит и которое ты не беспокоишь, с кем-то, кто будет уважать твою личную жизнь. В 1980 году сама идея заставить двух девушек, у которых нет ничего общего, жить в одной квартире казалась ужасным анахронизмом. Единственное, что их связывало, так это покойная мать Джиджи, которая когда-то была подругой Татьяны Невски. Раз в год миссис Невски звонила Джиджи в Калифорнию справиться, как она поживает.
Джиджи невольно тряхнула головой. Она была уверена, что Билли решила поселить с ней Сашу Невски, чтобы Джиджи была под присмотром. Понимая ее желание самой зарабатывать на жизнь, Билли, найдя ей подходящую квартиру, тут же подкинула ей Сашу, девушку, которую наверняка попросили помогать Джиджи, хотя бы на правах старшей. Кто знает, может, Саша будет докладывать Билли о каждом ее свидании, если, конечно, они у нее будут. К счастью, места в квартире достаточно и их спальни и ванные далеко друг от друга. Ей просто придется научиться держать Сашу Невски на расстоянии.
Чтобы зря не нервничать — а до прихода Саши оставался еще целый час и делать было нечего, — Джиджи занялась первым, что пришло в голову в такой неестественно чистой квартире, — замесила тесто для шоколадного печенья и поставила его в новую духовку. Джиджи как раз решила ознакомиться с содержимым холодильника, когда раздался пронзительный звонок в дверь.
— Да? — с раздражением сказала она стоявшей на пороге роскошной брюнетке, высокой и надменной.
Ее иссиня-черные волосы были зачесаны наверх, на ней был отлично сидящий черный костюм — этакая эдвардианская красавица стояла и в нетерпении постукивала каблучком, а на руке у нее сидел огромных размеров белый ангорский кот.
— Джиджи Орсини здесь живет?
— Ну? — процедила Джиджи.
— Так здесь или не здесь? — спросила Саша.
— А кто ее спрашивает?
— Саша Невски.
И Джиджи с упавшим сердцем поняла, что это правда, разглядев в чертах непрошеной гостьи нечто знакомое. У нее был высокомерно задранный красивой лепки нос, чуть приподнятая полная верхняя губа, говорившая о врожденном чувстве достоинства, и благородных очертаний высокий лоб.
— Я Джиджи, — с неохотой отозвалась она.
— Быть не может, — отрезала Саша.
— Это я, — настаивала возмущенная Джиджи.
— Докажи. Назови девичью фамилию моей матери.
— Орлова. И ты такая же невозможная, как она.
— Вероятно, мы поладим. — Саша рассмеялась и, не дожидаясь приглашения, вошла в квартиру. — Если ты любишь кошек.
— О кошках не было сказано ни слова, — бросила Джиджи. — Кошки в соглашение не входили.
— Еще чего! Эти две конспираторши, моя матушка и твоя мачеха, согласились бы, чтобы я с тобой жила, даже если бы я привезла с собой целый домашний зоопарк. Тебе повезло, что это всего-навсего мой милый маленький котик.
— Ха! Да эта зверюга размером с хорошего пса и уже расхаживает, как у себя дома.
— Ну да, кошки всякое место, где оказываются, считают своим. А зовут его Марсель. Где ты красила волосы?
— Сама… перекись и расческа.
— Потрясающе! А муфточку тоже подкрашиваешь?
—Что?
— Волосы на лобке, чтобы мальчики думали, что ты от природы рыжая?
— Нет… но буду… черт! Как же я раньше об этом не подумала! Это же меня выдает!
— Так ты не девушка?
— Конечно, нет! — с негодованием ответила Джиджи. — А ты?
— Дорогая моя, — торжественно произнесла Саша, — предпринимаешь жалкую попытку оскорбить Великую Вавилонскую Блудницу.
— Ого! Отличная дуэнья. Ты занимаешься этим ради заработка?
— Исключительно по зову сердца.
— А почему считаешь себя такой великой?
— Отзывы… только восторженные. — Саша села и жестом хозяйки салона пригласила Джиджи последовать ее примеру. — Если бы отзывы на Сашу Невски были напечатаны, я бы стала мировой знаменитостью. Боже! Ты понравилась Марселю! Он так никогда не делает!
Джиджи взглянула на лохматого зверя, запрыгнувшего ей на колени. Урчал он скорее агрессивно, нежели дружелюбно. Она понадеялась, что не страдает аллергией на кошек.
— Сколько мужчин надо иметь, чтобы быть Великой Блудницей? — с любопытством спросила Джиджи.
— Троих. Всегда троих, не больше, не меньше. Надо знать, где проходит граница, иначе превратишься в обычную шлюху.
— Троих одновременно?
— Ты что, Джиджи! Одного за другим, и не в одну ночь. Каждому по две ночи в неделю, а по воскресеньям я сплю одна.
— Активная сексуальная жизнь. Но что делает тебя именно Великой Блудницей, а не просто шлюшкой или потаскухой?
— Все дело в собственном отношении. Это же полностью умственная установка. Я сама устанавливаю правила. Я капризна и своевольна, и даже в лучшем расположении духа я остаюсь непокорной и сумасбродной.
— Непостоянная, переменчивая, импульсивная — может быть, порой… жестокая?
— Правильно понимаешь, — одобрительно кивнула Саша. — Джиджи, мужчины должны страдать. Запомни эти слова. Без них ты просто еще одна девушка, признаюсь, очаровательная, даже более чем очаровательная, неповторимая, оригинальная, но все же просто девушка. А Великая Блудница всегда побеждает. Кстати, что это за дивный запах?
— Черт, совсем забыла! — Джиджи бросилась на кухню и успела-таки спасти печенье.
Заинтересованная Саша пошла за ней, а Марсель запрыгнул на кухонный стол и стал понимающе обнюхивать противень.
— Сейчас они остынут, и мы сможем их по-пробовать, — сказала Джиджи.
— Как же я не догадалась! Марсель к тебе по-тянулся, потому что почувствовал запах теста. Слушай, а… ты их из пакетика делала?
— Из пакетика? Слушай, Саша, может, ты и знаешь, как стать Великой Блудницей, но неужели ты не можешь отличить домашнее печенье от покупного? Я великолепно готовлю, но говорю тебе это только потому, что ты и сама, видно, не любишь скромничать.
— Неужели правда так уж великолепно?
— Да уж получше многих.
— Отличная кулинарка, овладевшая наукой Великой Блудницы, будет Непревзойденной Блудницей, — задумчиво произнесла Саша. — Научи меня готовить, а я научу тебя, как стать Блудницей… Существует множество тонкостей, которых самой тебе не освоить, но тебе придется приодеться.
— Одежды у меня полно. Я вырядилась в старье, чтобы тебя не напугать.
— Может, я и не умею танцевать, Джиджи, но не забывай, ты разговариваешь с Невски, дочерью Орловой. Мы не из пугливых.
— Я заметила, — ответила Джиджи. — Это трудно не понять.
— Ты мне нравишься, — сказала Саша. — А если мне кто-то понравился, то это надолго. Я никогда не заставлю тебя страдать.
— Ты мне тоже нравишься, — сказала Джиджи и, обхватив Сашу за талию, поцеловала ее в плечо.
— Думаю, это будет забавно.
— Это уже забавно, — заявила Джиджи. — У какой-нибудь из твоих жертв найдется дружок для меня? Я потеряла столько времени до встречи с тобой.
Может, когда-нибудь, подумала она, в далеком будущем, она совсем доверится Саше и расскажет ей про Квентина Браунинга. Она поведает ей, как кровоточит ее сердце. Когда он смылся, Джиджи обнаружила, что утратила веру в себя, потеряла нечто важное, о существовании чего раньше не подозревала. Теперь она понимала, что сама напросилась на пощечину, которую получила: она отдалась незнакомцу, забыв о броне, которая помогает девушке защищаться, не прикидывалась, не таила ничего в себе, не заманивала и не кокетничала, не делала ничего такого, чему учат в фильмах и в школе. Она буквально бросилась ему в объятия, присосалась, как пиявка, и он в конце концов был вынужден дать ей понять, сколь мало она для него значит и сколь мало он ее уважает. Да, она уже не невинная девушка и хотела бы преуспеть в искусстве доставлять мужчинам страдание, но невозможно представить себе, что она сможет когда-нибудь снова им доверять. Она может стать Великой Блудницей и без секса. Правильно говорит Саша, все зависит от твоего отношения к этому. Она рано получила урок, возможно, слишком, рано, но он был необходим — на будущее. Девиз ее остался прежним, она не жалела ни о чем.
На Рождество Билли вернулась в Нью-Йорк, чтобы провести праздники с Джиджи. Она была приглашена к Невски на скромный семейный ужин, на котором было человек двадцать, не больше, и там обнаружила, как ей повезло, что именно скромная, молчаливая и совершенно безопасная Саша поселилась с Джиджи. Билли решила, что эта девушка могла бы быть сногсшибательной красавицей, осознай она свои возможности; но она вела себя тихо, как мышка, и совершенно терялась на фоне своих блестящих кузин. Саша зажималась всякий раз, когда Билли пыталась втянуть ее в разговор, и льнула к Джиджи, словно та была ее опекуном даже в ее собственной семье, все члены которой уже считали Джиджи членом клана Орловых-Невски. Такая бесцветная и зависимая соседка явно была для Джиджи более подходящей компаньонкой, чем любая бывалая нью-йоркская девица. Чем позже Джиджи повзрослеет, тем лучше, считала Билли.
Билли ходила по квартире Джиджи, пыталась, задавая непрямые вопросы, выяснить, как обстоят дела с кавалерами, но обе девушки, казалось, довольно счастливо пребывали еще в том периоде невинности, который длится от последнего посещения педиатра до первого визита к гинекологу за противозачаточными таблетками. От Марселя у Билли случился приступ крапивницы, поэтому она не могла провести более детального расследования, но осталась довольна тем, что Джиджи многому научилась в «Путешествии к изобилию». А Саша явно получала удовольствие от своей работы, вроде бы связанной с ведением учета в магазине дамского белья на Седьмой авеню. Квартиру девушки содержали в безупречном порядке, будто там почти не бывали.
В самом начале 1981 года, вскоре после Нового года, Билли вернулась в Париж, где она занимала на втором этаже отеля «Рид» просторный четырехкомнатный номер, не уступавший по размерам солидному дому, — номер, в котором герцог и герцогиня Виндзорские прожили столь долго, что он теперь носил их имя. Билли сидела, поджав под себя ноги, на диване в той из двух гостиных, которая нравилась ей больше, и размышляла о том, что, кажется, она уже готова заняться поисками собственного дома. В каминах горел ровный жаркий огонь, но все же это были гостиничные комнаты. Ей удалось привнести в них нечто свое: на письменном столе лежали ее блокноты, ручки, записные книжки; фотографии Джиджи, Долли и Джессики в массивных серебряных рамах стояли на столе и на каминной полке; повсюду лежали кипы книг, журналов и газет; огонь отражался в темных до прозелени бусинах ожерелья из черного жемчуга, которое она только что сняла и теперь задумчиво перебирала в руках, — но она не чувствовала себя дома. С Лос-Анджелесом покончено, с Нью-Йорком покончено, и именно Париж должен дать ей новый дом.
Хорошо, что Кора Мидлтон тоже оказалась в Париже. Прилетев день назад по какому-то делу, связанному с имением мужа, она позвонила Билли и тотчас получила приглашение на чай. Тогда она и предложила помочь Билли найти агента по торговле недвижимостью.
— Их такая уйма, — сказала Кора, — что просто невозможно понять, кто из них плох, а кто хорош. Но, к счастью, есть один человек, которому я полностью доверяю. Ее зовут Дениз Мартен, и, если хотите, я помогу вам с нею связаться. Лучше всего при покупке или продаже недвижимости держаться одного агента. Если она узнает, что на вас работают еще трое, то уж ни за что не станет расшибаться в лепешку. Если вы покупатель серьезный, то и один агент покажет вам все, что продается на сегодняшний день, даже если ему придется делиться комиссионными с другими агентами. Она считает, что верные пятьдесят процентов лучше проблематичных ста.
За последующие несколько недель, когда они с Дениз Мартен прочесывали Седьмой округ, Билли убедилась, что совет Коры был, как всегда, бесценен. Этот престижный старинный квартал на левом берегу Сены был единственным местом, где Билли хотела бы жить. Подобно мадам де Сталь, которая однажды сказала, что с радостью променяла бы свой чудесный загородный дом с видом на горы в Швейцарии на «сточную канаву на улице Бак», Билли чувствовала, что только в Седьмом округе она найдет тщательно скрываемое от постороннего взгляда, загадочное очарование того Парижа, где еще живо минувшее. Однако те немногие частные дома, которые освобождались в этом районе, продавались только в своем кругу и на рынок недвижимости не попадали. Люди, чьи предки жили в предместье Сен-Жермен задолго до времен Людовика XV, десятилетиями ждали своей очереди, чтобы заполучить квартиру в этом районе.
Тем не менее месяца через два до Дениз дошел слух о частном доме на улице Вано, хозяин которого недавно умер. Ни один из полудюжины наследников был не в состоянии выкупить у остальных их долю и получить право на владение всем домом. Это бьш не дворец — всего двадцать комнат, — однако владельцы запросили цену дворца — восемь миллионов долларов. И уже через несколько дней после того, как Билли осмотрела дом, она оказалась в какой-то обшарпанной конторе в компании двух нотариусов, один из которых действовал с ее стороны, а другой — со стороны владельца. Еще там находились двое агентов по торговле недвижимостью, которые с трудом скрывали нетерпение.
У Билли был богатый опыт покупки недвижимости, и обычно она вела себя как знающая толк в жизни, цепкая, деловая женщина. Правда, раньше все проекты договоров просматривал для нее Джош Хиллман, хотя она и сама отлично знала всю процедуру и гордилась тем, что ни разу не переплатила ни цента. Но сейчас, сидя за огромным столом с ручкой наготове и чувствуя на себе взгляды всех присутствующих, она вдруг заколебалась.
Ей предстояло подписать чек на восемьсот тысяч долларов, составлявших задаток в размере десяти процентов от цены, который ей не был бы возмещен, если бы сделка по какой-либо причине не состоялась. Первая цена, как это всегда бывает при покупке недвижимости, была непомерно высока, и предполагалось, что из-за нее можно поторговаться. Кроме того, обычно, а точнее всегда, покупатель обращался к услугам эксперта, который проверял обоснованность условий договора. Лишь после этой процедуры покупатель ставил свою подпись. Никакой самой богатой и экстравагантной француженке ни при каких обстоятельствах и в голову бы не пришло покупать по завышенной цене дом, который она увидела всего несколько дней назад. У нотариусов и агентов будут все основания считать ее самой большой разиней, какую им только доводилось встречать. Идиоткой. Она как бы сама позволяла себя надуть, обмануть, провести, короче, обставить, обштопать, обдурить.
— Если вы не подпишете сегодня, завтра этим домом уже заинтересуется кто-то другой, — прошептала Дениз на ухо неподвижно сидевшей Билли. — Если наследники принимают задаток, это значит, что при всех условиях они обязаны продать дом именно вам. А что, если сегодня кто-то еще посмотрит дом — а в Париже хватает богатых людей, интересующихся недвижимостью, — и предложит им более высокую цену? Без задатка вы рискуете упустить этот вариант. Такое случается довольно часто, если покупатель колеблется.
Какая чушь, подумала Билли. Она особо не цоверяла мнению Дениз и сейчас понимала, что была права. Доверие к ней Коры было не вполне обоснованным, это было мнение женщины, привыкшей покупать всякую мелочь, а не крупную собственность. Никакой частный дом, даже в самом лучшем районе, нельзя продать за один день; содержание здания встанет в копеечку, поскольку предыдущий хозяин его запустил, и понадобятся месяцы дорогостоящего ремонта, прежде чем можно будет заняться интерьером. Она спокойно могла затянуть переговоры на несколько недель.
Да, именно этот дом, и не просто дом, а особняк на улице Вано был построен словно специально для нее столетия назад. Он прождал ее больше двух веков. Едва привратник распахнул перед ней ажурные чугунные ворота в стене, густо заросшей плющом, она почувствовала, что исполняются ее самые заветные желания. Билли оказалась в просторном дворе, вымощенном булыжником, и увидела прелестный дом, так и манивший войти. Она подошла к гостеприимным дверям, к которым вели четыре полукруглые ступени, бросив взгляд на оба боковых крыла дома, одно из которых, судя по статуе гарцующей лошади, служило конюшней. Несмотря на нетерпение, она обратила внимание на отлично отесанный серый камень, из которого был сложен этот непритязательный двухэтажный дом, на серо-белые ставни с облупившейся краской, на лепнину над окнами. Едва за ней закрылись ворота, она окунулась в атмосферу деревенской тишины и покоя. Как во сне вошла она в круглый вестибюль с просевшими полами из наборного паркета. Его размеры точно соответствовали существовавшим где-то в подсознании Билли представлениям о том, каким должно быть человеческое жилище. Снаружи не доносилось ни звука, пока она бродила по анфиладе порядком обветшавших комнат, которые радовали своим простором, обилием окон и каминов. Она сразу поняла, что когда-то дом стоял среди деревенских садов. Когда-то это был действительно прекрасный дом, не холодный величественный дворец, а именно дом, где в благородстве и достоинстве жили многие поколения людей.
Билли окунулась в славное прошлое, в котором каждая комната говорила о неторопливом ходе времени: паутина проблескивала по углам, как сплетенный из серебряных нитей геометрический узор; в высоких потускневших зеркалах она видела себя словно в золотистой волшебной дымке; каждый оконный проем манил подойти поближе, хотелось опуститься на колени и рассматривать замысловатую игру трещин на рамах. Казалось, стоит только выглянуть наружу — и она увидит смелых и дерзких всадников в широкополых шляпах с перьями, прекрасных дам в напудренных париках, чьи пышные юбки скрывают веселое беспутство, а имена и титулы украшают страницы старинных книг. Ее не пугало, что в доме, возможно, придется заменить каждый дымоход, что крыша, наверное, течет, что в винных погребах водятся крысы, а на чердаке — мыши, что лепнина вот-вот готова осыпаться.
Ее охватило желание все это купить, купить немедленно, дорого, безрассудно. А ведь еще совсем недавно она думала, что ей уже не суждено пережить ничего подобного, что она преисполнилась пустого и холодного равнодушия человека, пережившего собственные страсти. Но теперь она чувствовала, как ею овладевает былая мания иметь, распоряжаться, приобретать; ее переполняла былая алчность, к ней вернулось то прежнее лихорадочное нетерпение сделать что-то своим — и немедленно. Осторожность, здравый смысл — какая ерунда, главное — она вновь испытала желание, которое одно только давало жизненную силу; желание — тот импульс, который не остановишь усилием воли; желание — то, что когда-то определяло ее жизнь; желание — наслаждение, покинувшее ее после развода.
Билли медленно подписала чек, со все возрастающим удовольствием выводя каждую букву своей фамилии. Она была совершенно равнодушна к тому, что плата за услуги нотариусов непомерно высока, намеренно не выяснила ничего о дюжине налоговых обязательств, о комиссионных на комиссионные, от которых у Джоша встанут волосы дыбом, когда он увидит документы.
Боже, как упоительно вновь совершать безрассудные поступки!
С улицы открывался вид на неприступный фасад, такой же строгий и серый, как и фасады всех домов XVIII века, расположенных неподалеку. Как и другие старинные особняки по соседству, особняк Билли имел двор и сад — парадный дворик спереди и сад позади. Все задние окна выходили на парк перед отелем «Матиньон», официальной резиденцией премьер-министра Франции, расположенным в нескольких сотнях метров дальше по улице Вано. Великолепный парк Матиньон — ибо он был слишком велик, чтобы называться садом, — простирался на многие гектары, и лишь стена отделяла владения Билли от раскидистых деревьев и обширных лужаек парка премьер-министра. На плане Тюрго, составленном в 1738 году, не было ни особняка Билли, ни самой улицы Вано. Весь этот участок занимали раньше деревья, поляны и цветники. Потом парк Матиньон стал меньше, и несколько престижных вилл образовали улицу Вано, аристократическую улочку, передвижение по которой было возможно только пешком, на велосипеде или на собственном автомобиле.
Ремонт особняка уже начался, но, прежде чем решить вопрос, кто будет заниматься интерьером, Билли отправилась к месье Мули, специалисту по пейзажной архитектуре и владельцу «Мули-Савар», самого роскошного цветочного магазина на площади Бурбонского дворца. Она попросила забавного, вертлявого и мило кокетливого месье Мули перепланировать ее заросший сад и сделать из него что-нибудь необычное и изысканное; она знала, что вековые деревья придется осторожно, стараясь не повредить корни, проносить через дом, и делать это надо до того, как займутся интерьером. И месье Мули создал для нее сад, подобрав такие деревья и кустарники, которые остаются зелеными всю долгую, но с редкими морозами парижскую зиму, пока не зацветут умело посаженные виноград и цветы.
Билли продолжала жить в «Рице», но большую часть дня проводила на улице Вано, следя за ремонтом. Она знала, что работу строителей здесь, как и во всем мире, нужно проверять. В случае с французскими подрядчиками, чьи бригады по решению профсоюза работали не больше тридцати девяти часов в неделю, дело усложнялось тем, что большинство рабочих заканчивали работу в пятницу до обеда, а простои по праздникам затягивались на несколько дней, поскольку законодательство разрешало устраивать дополнительные выходные в канун праздника и на следующий день после него.
Особняк на улице Вано занимал все ее мысли. Она вникала в мельчайшие детали, влекомая желанием сделать все возможное, чтобы вдохнуть в дом новую жизнь. На строительство десятка новых магазинов в разных странах она не потратила и десятой части энергии, которую сейчас отдавала этому дому.
По вечерам она возвращалась в «Риц», сбрасывала одежду и залезала в горячую ванну. Устало осматривая белый мрамор с кранами и сливами в виде золоченых лебединых шей, проводя взглядом по кипе махровых полотенец персикового цвета, Билли признавалась себе, что если бы она вела себя разумно и сразу наняла какого-нибудь известного дизайнера, вроде Анри Самюэля, Франсуа Катру или Жака Гранжа, то ему сейчас пришлось бы взять на себя часть ее забот. Он поставил бы кого-нибудь следить за ремонтом, еженедельно лично бывал бы на стройке, а к ней обращался бы только в случае необходимости. И она смогла бы отправиться на лыжный курорт, или к морю, или в Англию — присмотреть себе загородный дом, — или заняться покупкой скаковых лошадей… впрочем, нет, если быть честной перед самой собой, больше всего ей хотелось сейчас оставаться в Париже.
Одеваясь к ужину, Билли взглянула на себя в зеркало и расхохоталась — такой у нее был сияющий вид. Она выглядела как счастливая молодая мать. Ей еще не хотелось отдавать дом в руки дизайнера, ей не хотелось делить его ни с кем, ей не нужны были советы, даже самые дельные, ей не нужна была помощь, даже самая необходимая. Это был ее собственный дом, и она с радостью тратила все силы на то, чтобы возродить его к жизни. Она ехала в Париж вовсе не затем, чтобы следить за ремонтом заброшенного дома на левом берегу Сены. Когда она говорила с Джессикой, то называла совсем иные причины. До того как она нашла этот дом, у нее и в мыслях ничего подобного не было, но сейчас она знала, что, даже если захочет отказаться от постоянного наблюдения за его перестройкой, у нее ничего не выйдет. Она попалась.
10
Парижская жизнь бурлила вокруг Билли, выманивала ее из уютного гнездышка в «Рице», где можно было получить все мыслимые удобства, просто нажав на кнопку звонка, заставляла разъезжать туда-сюда в неприметном черном «Ситроене», незаменимом в Париже, — за рулем его сидел шофер Робер, так умело маневрировавший по парижским улицам, словно его движениями управлял радар.
Приглашения стали приходить, едва она успела распаковать чемоданы. О ее приезде было известно заранее только потому, что она забронировала апартаменты Виндзоров, но каким-то образом это попало еще и в популярную англоязычную газету Мегги Нолан. Покупка ею одного из последних старинных особняков, до сих пор остававшегося в частном владении, удостоилась заметки в «Интернешнл геральд трибюн». Билли подозревала, что парижские сплетни шли от Дениз Мартен и кого-то из администрации отеля.
Первые приглашения пришли от крупных бизнесменов и светских знаменитостей, которым Эллис представила ее во время предыдущих посещений Парижа, а также от американского посла. После каждого приема число гостеприимных знакомых росло, и скоро вся каминная полка была заставлена «фанерками» — это выражение Билли услышала от одной англичанки, которая так называла пригласительные открытки. Ее часто приглашали на ленч — в это время строители все равно устраивали перерыв. Сидя за импровизированным столом в ее будущей кухне, они основательно подкреплялись, запивая еду изрядным количеством красного вина.
Французский вариант дамского ленча представлял собой собрание восьми-десяти приятельниц, которые сходились, чтобы посплетничать о новых лицах. Придерживаясь своего решения посещать все престижные сборища, Билли принимала приглашения отовсюду, не соглашаясь лишь проводить выходные в загородных домах под Парижем. Бывая на двух-трех ленчах и четырех ужинах или балах в неделю, выходные Билли предпочитала приберегать для себя.
У нее появились десятки новых престижных знакомых. Потомки самых знаменитых фамилий, некоторые из которых, правда, старательно избегали общаться с Корой Мидлтон де Лионкур, от всего сердца приветствовали появление Билли Айкхорн. Ее известность подогревала их интерес; знаменитые иностранцы еще задолго до Бенджамина Франклина пользовались у парижан популярностью; ее деньги их завораживали, ведь людей, более меркантильных, чем французские аристократы, во всем мире трудно отыскать. Красота Билли и ее безупречный французский тотчас сделали ее лучшей новинкой сезона.
Одна или две действительно умные и блестящие женщины, которых она встретила, могли бы стать ей больше чем приятельницами, но ее светская жизнь была столь бурной, что времени на дружбу не оставалось. Кроме того, она была слишком поглощена своим домом, на котором просто помешалась, а близкие отношения требуют сил. Теперь ей не хватало самой малости, чтобы жизнь ее превратилась в триумф, о котором она говорила Джессике, — достаточно времени для совершения покупок и престижного мужчины для постели. Секс и покупки… где она слышала это захватывающее словосочетание? В какой-то песенке? Или в книжке прочитала?
Секс? Может, она слишком многого хочет? Мужчины, которых она встречала в Париже, разочаровали ее. Все они были либо женаты и верны своим женам, либо женаты и имели любовниц, либо женаты и искали мимолетной связи. Еще ей попадались холостяки, рассчитывающие найти богатую невесту, и профессиональные «свободные» мужчины. Для женщины тридцати семи лет шансы подыскать подходящий вариант были здесь столь же малы, как и в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Ничего, думала иногда Билли, отрываясь от строительных лесов и груды новых труб. на улице Вано, чтобы успеть на примерку у Сен-Лорана или Живанши, ничего, воздух Парижа тянет на покупки, а коли есть покупки, то скоро появится и секс.
В выходные, которые Билли оставляла для себя, она отдавалась новому увлечению, непосредственно связанному с будущей жизнью в новом доме. Без похода на Блошиный рынок суббота и воскресенье казались ей прожитыми зря. На Блошином рынке у Порт-де-Клиньянкур она могла найти те милые и приятные мелочи, которых не подобрал бы ей никакой декоратор.
Опыт научил Билли, как следует одеваться, отправляясь на рынки Бирон, Вернезон, Серпет — те самые районы Блошиного рынка, где можно было найти маленькие сокровища. Она надевала заляпанные краской джинсы, в которых обычно ходила в доме, где шел ремонт, натягивала грубый серый свитер, купленный из-за своего откровенно дешевого вида, и закутывалась в потрепанный бежевый плащ. Никакой косметики, на голову — блеклый бордовый платок, на ноги — старые теннисные туфли, в руку — пластиковый пакет фирмы «Монопри», чтобы было в чем нести покупки. Во внутренний карман плаща она клала гигиеническую помаду и пачку денег, а сумочку оставляла в «Рице».
Вид самый непрезентабельный, думала Билли, с удовольствием рассматривая свое отражение в зеркалах «Рица», покидая его по утрам в выходные дни. Портье, югослав-охранник, оберегавший отель от любопытствующей публики и не позволявший посторонним проникать внутрь, швейцары и рассыльные, которые могли достать такси хоть из-под земли — даже если у входа не было ни единой машины, давно привыкли к такому маскараду своих постояльцев, отправляющихся на Блошиный рынок.
А маскарад был просто необходим, иначе невозможно было ничего купить по сходной цене. Билли, часто позволявшая себе безрассудные траты, что давало ей ощущение всемогущества, вдруг обнаружила, что жизнь во Франции позволила ей по-новому взглянуть на деньги и приобретения. Она была очарована Блошиным рынком, потому что там можно было тратить деньги с осторожностью бедняка, с неохотой скряги, мелкие суммы мелкими купюрами — с чувством вины за то, что расстаешься с реальными деньгами, которые, как ей удавалось верить до самого последнего момента торговли, она не может позволить себе потратить. В этом было сладостное ощущение греха — ощущение, которое она испытывала только в юности. Выписывая чек, она черпала из бездонного источника, поэтому это были как бы не настоящие деньги. Реальность денег она чувствовала, лишь расплачиваясь наличными, когда каждую купюру разглядывали, щупали, и это было заключительным этапом долгих переговоров, обязательно включавших в себя длительную торговлю.
Она была не настолько глупа, чтобы считать, будто платит за вещь ее реальную цену, однако она настолько не походила на богачку, что могла торговаться до самой низкой цены, за которую продавец мог уступить товар без убытка для себя, и уходила с ощущением, что оба остались довольны друг другом — сделка прошла по всем правилам, и она вела себя как настоящая француженка.
Ясным прохладным апрельским утром 1981 года Билли выбралась с заполненного рядами лавок рынка Бирон, утомленная многочасовыми бесплодными поисками. Торговцы антиквариатом в предвкушении первых весенних туристов, легко расстающихся с деньгами, были сегодня на редкость несговорчивы, и она отреагировала на это с упрямством коренного жителя, оскорбленного тем, что его держат за простофилю в родной стране. Она купила только один крошечный флакончик из слоновой кости и теперь сидела в переполненном уличном кафе, потягивая кофе с рогаликом. Развернув покупку, Билли осторожно поставила ее перед собой на стол, чтобы полюбоваться хоть на эту малость. Она распустила пояс плаща, откинулась на спинку стула, вытянула ноги и принялась внимательно рассматривать флакончик. Тут вдруг она поняла, что вовсе не в восторге от своего приобретения. Вне всякого сомнения, вещица была старинной, но ее предназначение было неясно, впрочем, Билли это не очень и волновало. Пусть это будет память о ее свободе; вот она сидит здесь, человек без имени, не привлекает ничьего внимания, и это дает ей свободу — свободу быть частью толпы, где ее никто не знает, свободу быть чужой в чужой стране, но именно там, где она чувствует себя как дома. Так легко она давно себя не чувствовала, спокойно размышляла Билли, скользя взглядом вокруг. Чувствовать себя свободной — все равно что чувствовать себя молодой.
— Удивительно правильная форма, — раздался мужской голос из-за столика у нее за спиной.
— Это вы мне? — устало отозвалась Билли, не поворачивая головы.
— Да. Вы позволите рассмотреть поближе?
— Ради бога, — ответила она.
Незнакомец был американцем. Должно быть, турист. Билли обернулась и протянула ему бутылочку. Мужчина был высокого роста, на столике перед ним стояла пустая чашка из-под кофе. Он надел очки и стал медленно и внимательно ощупывать сужающийся кверху предмет. Потом повернул маленькую круглую пробочку, открыл и снова закрыл пузырек.
— Красота. Как вам удалось найти здесь китайский аптечный пузырек? Судя по пробке, в нем наверняка держали какое-то смертоносное снадобье.
— Вы коллекционируете флаконы? — спросила Билли, решив, что раз она провела четыре часа на самом большом рынке Парижа и ухитрилась купить пузырек из слоновой кости, который оказался даже не французского происхождения, то либо обладает каким-то тайным чутьем, либо совсем ничего не соображает.
— Коллекционирую? — Его низкий голос звучал задумчиво, иронично и несколько лениво. — От случая к случаю я собираю всякую ерунду, или, вернее, она собирается вокруг меня, но я ничего не коллекционирую. Я скульптор — меня заинтересовала форма этого флакона… в ней есть что-то удивительное.
— Пожалуйста, оставьте его себе, — вырвалось у Билли.
—Что?
— Правда… мне будет приятно. Вам он нравится больше, чем мне.
Он вернул ей флакон и покачал головой.
— Спасибо, крошка, спасибо, — не надо. Ты, по-моему, немного с приветом. И выглядишь такой измотанной, будто пробивалась в поисках этой штуки по траншеям ничейной земли. Ты не можешь так просто ее отдать. — В его голосе звучала уже не ирония, а забота.
— Кажется, я проголодалась, — сказала Билли, вдруг смутившись. Она слишком хорошо представляла себе, как выглядит со стороны.
— Я угощаю. Тебе сандвич с ветчиной или с сыром? А может, ты хочешь пирожное?
— Нет, спасибо, — автоматически отозвалась Билли. Пирожное! Еще не хватало!
— Ты не против, если я пересяду к тебе? Позволь, я хотя бы куплю тебе кофе. — Он встал и, не дожидаясь приглашения, пересел за ее столик.
Она так быстро съела свой рогалик, должно быть, умирает с голоду, подумал он. А еще — до смешного великодушная. Ведь явно туристка, работающая девчонка, копила целый год, чтобы приехать в Париж в апреле, а такая штучка из слоновой кости стоит не меньше пятидесяти долларов. Она что, не понимает, что лучше потратить эти деньги на приличный свитер, чем купить бесполезный пузырек, а потом подарить его незнакомому человеку? Скульптор в нем негодовал оттого, что столь прекрасное тело втиснуто в такую ужасную одежду.
Билли пила заказанный им кофе и искоса разглядывала его. Она никогда раньше не разговаривала в кафе с незнакомыми мужчинами, никогда не позволяла втянуть себя в беседу, даже тогда, когда жила в Париже двадцатилетней девчонкой. Тогда она была слишком застенчива, а потом бывала в Париже с Эллисом. Хотя для чего же еще существуют французские кафе?
Этот скульптор, так непринужденно назвавший ее крошкой, был заметно худ и чуть угловат. Лет под сорок. Густые темно-рыжие волосы были коротко подстрижены, что подчеркивало форму головы. Щеки у него были впалые, и ему шла эта благородная изможденность. Нос длинный, с горбинкой — в профиль он выглядел очень мужественно. Он снял очки в роговой оправе, которые надевал, чтобы рассмотреть флакон, и Билли увидела густые брови над глубоко посаженными серыми глазами, глядевшими на нее с легкой иронией. Даже вроде бы с насмешкой. У него были подвижные губы, и он выглядел человеком довольно добродушным, но таким, который в драке может постоять за себя. Более того, даже когда он просто сидел, его физическая сила настолько бросалась в глаза, что, возможно, порой он и сам нарывался на драку. С другой стороны, в нем было что-то от ученого, он был похож на профессора Гарварда, поняла вдруг Билли и вспомнила годы, проведенные в Бостоне, и надменных молодых людей, которые носили исключительно спортивные куртки, настолько поношенные, что они не сгодились бы даже для благотворительной распродажи. Потрепанный пиджак, рубашка и джинсы сидели на этом человеке так, что было ясно: это его повседневная одежда, а не маскарад специально для Блошиного рынка, но носил он их с изяществом. В нем было что-то хулиганистое, но, безусловно, он принадлежал к интеллектуальной среде.
— Сэм Джеймисон, — представился он и протянул руку.
Билли пробормотала слова приветствия, пожала ему руку и произнесла:
— Ханни Уинтроп.
Рассмотрев его повнимательнее, она решила, что не может признаться этому человеку, что она Билли Айкхорн. Любой американец знает это имя. Назваться Билли Орсини она тоже не могла, поскольку еще слишком недавно была известна под этой фамилией. Ханни[3] — так ее называли в детстве, и она ненавидела эту кличку, но ничего другого в этот момент ей в голову не пришло, а ей хотелось, чтобы он знал о ней только то, что видит сам. Ей было любопытно, каково разговаривать с мужчиной, который и не подозревает о длинном шлейфе богатства, который незримо, но и неотступно тянется за ней.
— Откуда вы, щедрая мисс Уинтроп?
— Из Сиэтла, — сказала Билли. — А вы?
— Округ Мэрин, неподалеку от Сан-Франциско. Вы здесь надолго?
— Да, наверное… у меня годичный отпуск… я — учительница. — Боже, зачем она это говорит! Она же почти ничего не знает об этой стороне жизни! Почему она не сказала, что работает продавщицей?
— Что ты преподаешь? — спросил он, пристально глядя на нее близорукими глазами.
— Французский?
— Это что, вопрос? Если да, то я не завидую твоим ученикам. Слушай, ты не обиделась, что я назвал тебя крошкой? Когда мы познакомимся поближе, я стану называть тебя Ханни, но сейчас… это как заклинание… как ласковое прозвище… будто мы давно знаем друг друга.
— Нет, то есть нормально, «крошка» — нормально. Я действительно преподаю французский. Поэтому годовой отпуск я провожу здесь. Но давай не будем об этом говорить… это никому, кроме меня, не интересно… Жизнь Вольтера, его время — занимаюсь в Национальной библиотеке… зачем это тебе? Ты живешь в Париже или приехал как турист?
— Сам не знаю, крошка. Я давно мечтал сюда приехать, а в этом году даже предпринял некоторые действия — снял мастерскую в Маре, рядом с площадью Вогезов. Назад возвращаться не хочу. Мне это место по душе. Жаль, правда, что я плохо говорю по-французски. Тебе, наверное, легко здесь. А я даже объясняюсь с трудом.
— Научиться говорить не так уж сложно, — успокоила его Билли. Она стянула с головы платок и стала поправлять примятые волосы. «Да я готова дать этому парню интенсивный урок французского арго, только бы он перестал молоть языком и затащил меня в койку».
— Ты не похожа на учительницу, — сказал Сэм Джеймисон и, к ужасу своему, почувствовал, что краснеет — проклятье всех рыжих, хотя он и считал, что избавился от него. — Ну и глупость я сказал, правда? — поспешил добавить он. — Как, собственно, должны выглядеть учительницы? Женщины терпеть не могут, когда мужчины отпускают подобные фразочки.
«Как может такая красавица тратить свою жизнь на то, чтобы учить детей языку, который, возможно, им никогда не пригодится? Как она предлагала ему свой бесценный флакон, под какой ужасной одеждой скрыла свое тело! Да она даже сандвича от незнакомого принять не может, не то чтобы о своей работе рассказывать. Ее надо научить быть уверенной в себе, даже эгоистичной, добиваться всего, чего хочет, и знать, что заслужила это. Такая женщина должна жаждать оказаться в постели с мужчиной — иначе в мире нет справедливости, и нет смысла находиться в Париже, да еще весной».
— Вовсе не всегда, — пробормотала Билли.
— Что не всегда? — Что же он такое сказал? Он, кажется, потерял нить разговора.
— Не всегда женщины терпеть не могут, когда им говорят, что по их виду не скажешь, чем именно они занимаются.
Она раньше никогда не видела, чтобы мужчина краснел. А если и видела, то не обращала внимания. Будет просто чудесно, если ей удастся снова этого добиться. Просто чудесно. Такой суровый с виду — и такая нежная кожа.
— А что женщинам нравится, чтобы им говорили?
У нее что, помады нет или она так ходит нарочно, чтобы соблазнять всех вокруг своими натурально алыми губками? Интересно, сможет ли он ее об этом спросить, не покраснев?
— Извечный вопрос. Даже Фрейд не знал… то есть Фрейд-то как раз и не знал.
Зачем это она о Фрейде? Если он хотел с ней о чем-то поболтать, то уж никак не о старике Фрейде, который недооценивал клитор, потому что у него самого его не было.
— Он говорил, что не знает, чего женщины хотят, детка, — поправил ее Сэм.
— Это все слова. Хотеть, говорить — какая разница?
— Твоя взяла. Ну ладно, а как насчет обеда? Рестораны уже открываются.
— Но… в этих кроссовках…
— Можно пойти в бистро. Какое-нибудь маленькое бистро. Или маленький отель с маленькой комнатой и огромной кроватью. Или тебя ждут? Муж? Друг?
— Ни тот ни другой. Я, к счастью, разведена.
— И я. Дети есть?
— Маленькая падчерица, она живет в Нью-Йорке. А у тебя?
— Никого… только я, моя работа, Париж и щедрая мисс Уинтроп. Позволь пригласить тебя на обед, — попросил он и, надев очки, посмотрел ей в глаза так же пристально, как рассматривал флакон из слоновой кости.
— Я пока что не голодна, но мне интересно… то есть… мне интересно, чем ты занимаешься… хочется посмотреть твои работы, — тихо и беспомощно произнесла Билли и, не выдержав его взгляда, опустила глаза.
— О! Конечно. Непременно. Точно. Отличная идея. В мастерской… да… именно там. — Черт! Он понял, что опять покраснел.
— Это далеко отсюда?
— Нет. Совсем нет… Мы можем поймать такси.
Сначала они молча ехали в машине, потом молча вошли в большую светлую мастерскую, так же молча проследовали мимо стоявших повсюду геометрической формы фигур, не обратив на них никакого внимания, и молча направились прямо в маленькую полутемную спальню, где обнялись и начали целоваться — жадно, безудержно и страстно, почему-то совсем этому не удивившись.
Они целовались долго, обоих трясло от возбуждения, и так продолжалось, пока Билли не сбросила плащ, не скинула кроссовки и не выскользнула из его объятий, чтобы он смог снять пиджак. Но времени на раздевание у них уже не осталось — желание охватило их с такой силой, что они, не в состоянии совладать с собой, немедленно бросились на кровать. Билли, все еще в свитере, расстегнула джинсы и стала их стягивать, а Сэм избавлялся от своих джинсов и ботинок. Он вошел в нее молча и решительно, а она приняла его, растворившись в неизбежности, с бесстыдной открытостью, желая одного — чтобы он был с ней и брал ее безо всякой нежности. Он не заботился о ее удовольствии, а она — о его, они сошлись только ради удовлетворения собственного желания, получили то, что было им так нужно, и растворились полностью в этом едином порыве. И когда удовлетворение пришло одновременно, это было так неожиданно, что после всего они долго лежали рядом и хохотали, потому что так не должно было произойти — сразу, бездумно. А потом они сняли оставшуюся на них одежду и заснули в объятиях друг друга, так и не произнеся ни слова.
— Детка моя дорогая, если ты и сейчас не голодна, в тебе нет ничего человеческого.
Билли открыла глаза, снова зажмурилась и поняла, что лежит в теплой постели рядом с замечательно пахнущим обнаженным мужчиной, с которым познакомилась всего несколько часов назад. Вот это да, подумала она лениво, ну и история. Сэм нежно терся о ее губы, пробуждая ото сна.
— Я и тогда была голодная, просто не хотелось ждать… я бы не смогла… так долго терпеть… — Она дважды зевнула, с удовольствием постанывая. — Как ты мог столько говорить о еде?
— Но я же не мог просто сказать «давай трахнемся»?
— Почему? Это я не могла, а ты мог.
— А ты почему не могла? — спросил он, лаская под простыней ее грудь.
— По доброй американской традиции первым предлагает мужчина. Теперь моя очередь. Давай трахнемся.
Билли Айкхорн, бедовая, разведенная, богатая, знаменитая, предмет всеобщего внимания и обсуждения, не могла сказать «давай трахнемся», а Ханни Уинтроп, учительница, живущая в Париже, могла говорить все, что ей вздумается. Ее ученики в Сиэтле не станут возражать.
— Давай трахнемся, — радостно повторила она.
— Ох, детка, дай я на тебя сначала посмотрю. — Он откинул простыню и одеяло и стал с наслаждением любоваться ее телом, восхитительным женским телом, близким к совершенству.
Билли обычно скрывала некоторую излишнюю пышность своих форм — правильно подобранная одежда и рост помогали ей в этом. Без одежды ее роскошная фигура, полные налитые груди, сладострастная линия бедер, белизна кожи были неотразимы. Соски у нее были такими темными, что казалось, она их подкрашивает. Тело ее было симфонией невозможно сладостных округлостей, линий и изгибов. Долгие мгновения Сэм благоговейно водил пальцами по ее телу, наслаждаясь его мягкими и упругими участками, щедрым даром, разглядеть который раньше он не успел.
— Ох, Сэм, не мог бы ты этим заняться чуть позже или ты меня обмеряешь, чтобы решить, хочешь ли ты меня лепить? — Билли гордилась своим телом и от ложной скромности не страдала, но, потрогай он ее чуть дольше, она могла бы сойти от возбуждения с ума.
— Я… занимаюсь… абстрактной скульптурой, — ответил он, полностью сосредоточившись на изучении ее пупочной впадины.
— Повернись на живот, — пробормотала Билли пересохшими губами. На нее вдруг нашло вдохновение безумства.
— А? Что?
— Давай по-честному. Теперь я хочу тебя рассмотреть.
Он уступил ее желанию, и, действуя как во сне, Билли села на него верхом и провела руками по голове, постепенно переходя к позвоночнику. Кончиками пальцев она ощущала его бока, гладя упоительно гладкую кожу от подмышек до талии, пока от ее ласки он не задышал быстро, тяжело. Тогда она спустилась ниже, на бедра, легко водя рукой от талии к копчику и обратно. Он со стоном приподнялся и, чуть раздвинув ноги, снова лег. Билли спустилась еще ниже; теперь она сидела у него на икрах, заглядывая ему между ног. Он уже настолько возбудился, что пенис его прижимался к животу, но тяжелые полушария яичек покоились на простыне. Тут она наклонилась вперед и приблизилась к ним, осознав вдруг, насколько полностью он ей доверяет. Она принялась слегка дуть на яички, согревая их и наблюдая, как сокращаются мышцы ягодиц, а сам он стонет от желания.
— Теперь перевернись, — прошептала она, освобождая его от веса своего тела.
Он повиновался и лежал теперь с закрытыми глазами, вытянувшись во всю длину. Билли собиралась медленно и нежно пройтись по всем самым чувственным местам — по лбу, шее, соскам, ведь мужчины не меньше женщин любят, чтобы их ласкали. Однако увидев, как он напряжен, она отказалась от этой идеи. Ей было необходимо снова ощутить его внутри себя, немедленно. Она перекинула через него ногу, встала на колени и взяла обеими руками его член, чтобы направить его. Он открыл глаза и смотрел на нее, пока пенис не коснулся ее лона, куда он так грубо вошел в первый раз. А она продолжала продвигать его дальше в теплую, трепещущую плоть. Сэм лежал не шевелясь, а Билли медленно опускалась на него, пока он не почувствовал, что полностью вошел в нее. Она склонилась к нему, положив голову ему на грудь. Он позволил ей установить свой ритм, приподниматься и опускаться, как ей нравилось, как будто его пенис был ее игрушкой, ее собственностью. Он сдерживался как мог, полностью отдаваясь ее воле, наслаждаясь все нарастающей быстротой движений, видя, как напрягается ее тело, как она все ближе подходит к долгожданному и неизбежному моменту. Наконец она в экстазе откинула голову, дрожа от наслаждения, не в силах вздохнуть, а потом припала к его груди, продолжая содрогаться от оргазма. Тогда он наконец перевернул ее, положил на спину и с благоговением язычника, поклоняющегося богине, вновь вошел в нее и сосредоточенно и страстно снова овладел ею.
— Закажи что-нибудь, что сможешь есть одной рукой, — сказал Сэм Билли, — потому что эту я не отпущу.
— А если я пообещаю, что потом ее верну?
— Нет, настолько я тебе не доверяю. Ты, детка, очень любишь командовать.
— Ты поэтому повел меня в пиццерию?
— Возможно. А может, потому, что здесь поблизости их четыре. В эту я хожу почти каждый вечер.
— Французы назвали бы ее твоим cantine, твоим буфетом.
Билли выглядела очаровательно растрепанной, хотя и пыталась при помощи расчески Сэма привести себя в порядок. Она почистила зубы его щеткой и помылась в его крохотной ванне. Потом надела его старый, с треугольным вырезом желтый пуловер, который сползал у нее с плеч, и подпоясалась найденным у Сэма в шкафу синим галстуком. Однако ничто не могло скрыть следов недавнего наслаждения — щеки ее горели, губы припухли, а темные глаза сияли от удовольствия.
— Я не знал, что в конце концов ты будешь давать мне уроки французского.
— И не рассчитывай, у меня другие планы на твой счет.
— Может, поделишься?
— Не здесь, Сэм, не на людях.
— Никто не слышит. Да и вообще они французы.
— Хочешь снова возбудиться? — Голос Билли звучал тихо, но твердо.
— Ты неправильно ставишь вопрос. Мне необходимо съесть две-три пиццы… а вот после ужина… Да я только этого и хочу.
— Хорошо, после ужина — если ты чувствуешь, что потянешь.
— Это правда, что ты в отпуске или тебя выслала полиция нравов?
— Не скажу, — засмеялась она. — Должны же у меня быть свои маленькие тайны.
— Детка, давай сначала отправимся к тебе и заберем все, что понадобится, чтобы провести здесь еще одну ночь, а потом еще и еще…
— Ой… нет… не надо. Это… знаешь… это займет слишком много времени. За углом есть аптека. Мне нужны только зубная щетка и расческа. Я очень непритязательна.
— Моя одежда тебе идет больше, чем твоя.
— Я не всегда так одеваюсь. В джинсах и кроссовках на занятия не пойдешь.
— Тогда давай завтра заедем в твою гостиницу забрать твои вещи.
— Сэм, подожди минуту! Я не собираюсь к тебе переезжать.
— Почему?
— Ну… это не самая удачная идея. Прежде всего не стоит принимать скоропалительных решений, а кроме того, я хочу быть независимой. Такая уж я уродилась.
— Ты хочешь сказать, что я тебя тороплю.
— Вроде того. Это просто неразумно.
— Ты довольно неразумная женщина, детка.
— Да, это верно, и всегда такою была. Это один из моих роковых недостатков… а если я к тебе перееду, ты узнаешь и об остальных.
— Ну ладно, мечтаю в один прекрасный день узнать обо всех. Но приглашение остается в силе. Мой дом — твой дом, моя одежда — твоя, и моя постель тоже.
— Сэм, как какая-то женщина могла тебя отпустить? Почему ты развелся?
— Мы поженились слишком молодыми, сразу после колледжа. У меня не хватило ума понять, что скульптура денег не приносит, если только не попадешь в струю… а к тому времени, когда у меня наконец появился агент и работы стали продаваться, она уже потеряла терпение. Я ее ни в чем не виню. А ты, Ханни, милая — нет, никак не привыкну к этому имени, — детка моя, ты почему избавилась от мужа?
— Я выяснила, что он просто дерьмо. Первостатейное дерьмо, прошу заметить. Наверное, нельзя упрекать человека за его характер, надо винить себя за выбор. Но не будем о нем, потому что, если бы мы все еще были женаты, я бы здесь не оказалась. А мысль о том, что я могла бы оказаться в этот день в другом месте, она… невозможна… совершенно исключается! Ой, Сэм, а если бы я не купила этот флакон? — спросила Билли, вдруг ужаснувшись, как много зависело от этой случайной покупки.
— Не волнуйся, я бы нашел способ с тобой заговорить, раз уж увидел, как ты сидишь там совсем одна. Флакон был просто хорошим предлогом.
— Так это не китайский аптечный пузырек, Сэм?
— Почему бы и нет? Но если тебе действительно хочется это знать, лучше спросить у специалиста. Я не имею об этом ни малейшего представления.
Билли вернулась в «Риц» рано утром в понедельник, оставив Сэма в мастерской за работой — он вставал на рассвете. На столе в гостиной она обнаружила кучу приглашений и сообщений о телефонных звонках. Просмотрев, она швырнула их обратно на стол и в задумчивости присела на кушетку. Все эти листочки бумаги напоминали о той жизни, которую она не могла бы вести, оставаясь с Сэмом. Он думал, что она пошла в Национальную библиотеку, и она обещала вернуться с халатом и всем необходимым к четырем часам — в это время он всегда заканчивал работу.
Она взяла со стола путеводитель по Парижу, который держала под рукой, чтобы выбирать, какие музеи ей посетить. Правда, на это у нее пока не хватало времени. На одной из первых страниц она обнаружила нужную карту. Билли отметила красными крестиками площадь Вогезов, Вандомскую площадь, где находились «Рид» и улица Вано. Получился вытянутый треугольник, с самой отдаленной вершиной у площади Вогезов, расположившейся к северу от Сены. Это была самая восточная часть исторического Парижа, одинаково удаленная как от «Рица» на правом берегу, так и от улицы Вано на левом. Она обвела кружком Маре, не захватив Новый мост — одно из самых популярных мест во всех туристских маршрутах. Множество знакомых с наступлением весны обязательно будут прогуливаться там. Господи, как бы она хотела, чтобы посещение Парижа по весне не считалось хорошим тоном в определенных кругах.
Интересно, известно ли всем, думала про себя Билли, что в моду вошло жить в старом квартале Маре, там, где раньше жили только короли? Слава Маре как квартала резиденций достигла пика в XVII веке, но во времена Людовика XVI аристократия стала селиться к западу от этого места. После Французской революции Маре почти на два века был забыт. И, конечно, как назло, когда она нашла мужчину, который любил ее ради нее самой, оказалось, что он живет именно в самом центре этого вновь входящего в моду квартала, где можно найти старую квартиру и отремонтировать ее.
Правда, интерес к Маре только возник, и нельзя сказать, чтобы мастерская Сэма находилась рядом с Домом Диора, кроме того, он говорил, что у него под боком вполне достаточно кафе и бистро, где можно проводить время после долгого рабочего дня, — он не любил покидать квартал в основном потому, что добираться из Маре в другую часть города автобусом или метро было довольно трудно, а на такси — практически невозможно. Сегодня утром таксист вез ее от улицы Риволи до «Рица» минут сорок пять.
Уилхелмина Ханненуэлл Уинтроп, думай, велела она себе. Ложь втянула тебя в двойную жизнь, и теперь придется к ней приспосабливаться. Если бы только у нее не кружилась так бездумно голова, если бы она не пребывала в такой эйфории, не была бы поглощена сексуальным возбуждением, когда не заботишься о последствиях. Но надо перестать думать о Сэме, о его дорогих, упругих губах, медленной, завораживающей музыке его голоса, о неотразимых ямочках на щеках, — перестать немедленно, сию же секунду, и попытаться решить, что делать дальше.
Женщина, которую Сэм повстречал два дня назад, была такой, какой ее не видел ни один мужчина со времен знакомства с Эллисом Айкхорном, но тогда она была двадцатилетней секретаршей. Сэм же увидел женщину, которая была просто человеческим существом. Такой ее знали семнадцать лет назад и помнили теперь лишь Джессика и Долли… и, если быть до конца честной, Спайдер Эллиот, который никогда не придавал значения тому, что она Билли Айкхорн, которая могла бы купить даже «Рид», если бы его владелец, самый богатый человек в мире, султан Брунея, решил бы его продать.
Билли Айкхорн, жизнь, которую она вела, и весь мир, который олицетворяла, — для Сэма Джеймисона всего этого не должно существовать. Узнай он, кто она, он, должно быть, не нашелся бы что сказать и уж, конечно, не подумал бы вступать с нею в связь.
Вступить в связь. Вот что произошло — они вступили в интимную связь. Полюбили друг друга? Полюбили любовь? Влюбились в неумирающую легенду о Париже в апреле? Она не могла точно определить, она боялась стать еще более импульсивной, чем сейчас, — она и так провела, пожалуй, самые импульсивные сорок восемь часов своей импульсивной жизни, — но ничто на свете не могло заставить ее отказаться провести с ним сегодняшнюю ночь, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю, и пока что этого достаточно. В Сэме Джеймисоне ее интересовало абсолютно все. И дело тут не только в сексе. После развода она сделала несколько осторожных попыток найти в этом удовлетворение, но секс не помог ей изжить, страх стать целью, мишенью. Секс не мог удержать ее рядом с мужчиной, в котором она чувствовала чужака. Но, Уилхелмина Уинтроп, если вы не прекратите думать о предстоящей ночи с Сэмом, то не сможете необходимым образом распланировать свою жизнь.
Раздался тихий стук в дверь, и Билли тотчас вскочила. Почти сразу дверь распахнулась, и вошла администраторша, держа в руках большую вазу с первыми бледно-розовыми тюльпанами из Голландии, которые «Риц» закупает сотнями каждую неделю. В каждой части отеля был свой администратор — обычно молодая, хорошо одетая и вышколенная женщина, говорящая по меньшей мере на шести языках, в чьи обязанности входило следить за тем, хорошо ли работает весь персонал и получают ли постояльцы все, что им нужно.
— О, простите меня, мисс Айкхорн, я думала, в комнате никого нет. Горничные сказали мне, что только что закончили здесь уборку и что некоторые цветы завяли.
— Я недавно пришла, мадемуазель Элен, — ответила Билли. — Спасибо. Поставьте их, пожалуйста, на стол. — Взгляд мадемуазель Элен остановился на розах на каминной полке, и Билли поняла, что в другой ситуации Элен проверила бы, насколько свежи цветы во всех вазах Виндзорских апартаментов. Но она была отлично вышколена и догадалась, что Билли хочет побыть одна, поэтому мило улыбнулась и вышла.
Едва дверь за ней закрылась, Билли принялась ходить взад-вперед по комнате, переходя от одного окна с видом на Вандомскую площадь к другому. «Риц», думала она, этот чертовски замечательный «Риц»! Жизнь здесь напоминает жизнь у себя дома с любящими родителями и двумя сотнями слуг, единственное желание которых — тебе угодить, правда, для этого им требуется каждую секунду знать, где ты находишься.
Она жила здесь уже восемь месяцев, с прошлого сентября, уехав только однажды — на Рождество — в Нью-Йорк, и в это время ее апартаменты, естественно, пустовали. А сегодня утром горничные, убирающиеся у нее в номере, наверняка заметили, что она не ночевала у себя. Должно быть, они решили, что она уезжала к кому-то погостить на выходные. Если она будет проводить ночи с Сэмом, экономку уведомят об ее отсутствии примерно через неделю, возможно, быстрее. Еще через несколько дней мадемуазель Элен забеспокоится. В ее обязанности входит беспокоиться о клиентах. В поле ее зрения непременно попадет все необычное, а плата за четырехкомнатные Виндзорские апартаменты была столь высока, что немногие оставляют их пустовать даже одну ночь. Мадемуазель Элен, конечно, очень тактична и не спросит мадам Айкхорн, почему она тратит несколько тысяч долларов в день за номер, которым не пользуется, но никакой такт не помешает ей прийти к верному выводу. Билли тяжело вздохнула, поняв, что скоро выводы Элен неминуемо станут достоянием всего отеля.
Привычные ко всему официанты, приносящие по утрам завтрак, а вечером, когда она одевалась к ужину, крепкий чай, станут обмениваться предположениями. Портье внизу, в чьем ведении находятся сейфы, начнет удивляться, почему она, нарядно одетая, перестала по вечерам выходить из лифта и брать из сейфа драгоценности, которые хранила там. Робер, водитель, который в эту минуту находился перед отелем, будет ждать, что она, как обычно, отправится на улицу Вано, а потом вернется в «Риц», чтобы переодеться. А вечером он будет готов отвезти ее на ужин и обратно в «Риц». У портье станет скапливаться ее корреспонденция: записки, письма, приглашения будут отсылать наверх и подсовывать ей под дверь. Три дневных портье и три ночных, каждого из которых она видела ежедневно, рано или поздно поделятся друг с другом наблюдениями. Через неделю все, от управляющего отделом до повара, который по утрам жарил ей яичницу именно так, как она любит, будут знать, что она загуляла.
Никто и слова не скажет. Даже вида не подаст. Пока она оплачивает счета, «Риц» предоставляет ей полное право приходить и уходить, когда ей угодно, и одеваться, как заблагорассудится. Не было такого удобства для души или тела, которого нельзя бы было получить в «Рице», кроме, пожалуй, двух вещей. Если ты хочешь получить традиционный американский обед в День благодарения, поваров следует предупредить за несколько часов, потому что во Франции редко едят индейку, клюквенный соус и сладкий картофель. И ни за какие деньги не купишь возможность жить не на виду.
Что же делать, спрашивала она себя, нюхая тюльпаны и, как всегда, убеждаясь, что они не пахнут. Конечно, можно исчезнуть из «Рица» и переехать без объяснений в другой роскошный отель. Но портье всех лучших отелей друг с другом на «ты», и все они являются членами организации «Золотые ключи», так что персонал обоих отелей довольно быстро поймет, что с ней происходит.
Да и как бы она перевезла свой багаж — а это дюжины чемоданов, — чтобы никто об этом не узнал? Более того, ей бы пришлось предупредить Джиджи, Джессику, Джоша Хиллмана, своего подрядчика и хотя бы нескольких новых знакомых, иначе, не имея возможности с ней связаться, они бы решили, что она исчезла с лица земли. Джош стал бы пытаться получить информацию в отеле и, если бы заподозрил что-то неладное, примчался бы сюда ближайшим самолетом. Другой отель — это только дополнительные сложности. Но! Но можно найти гостиницу, где никто не обратит на нее внимания, где фамилия в паспорте, который требуют во Франции при регистрации, никому ничего не скажет. Так что надо искать либо очень большой отель, либо совсем маленькую неизвестную гостиницу где-нибудь на тихой улочке.
Билли рассматривала все возможности. Рано или поздно Сэм должен будет узнать, где она живет; она же не могла каждый раз ускользать, как сделала сегодня утром, в какой-то отель, название которого ей удалось скрыть. Учительница, находящаяся в годовом отпуске, вряд ли стала бы жить в каком-нибудь большом отеле типа «Хилтона» или «Софителя». Слишком дорого, даже если снимать маленький номер, кроме тощ, большинство крупных отелей — в центре. Так что возрастала опасность столкнуться с кем-нибудь из знакомых, которые удивились бы, увидев ее здесь. Если она встретит Сьюзен Арви в «Рице», это будет вполне естественно, но что, если повстречается с ней, выходя из «Софителя»? Придется полчаса выкручиваться, подыскивая объяснения!
Почему люди хотят быть богатыми и знаменитыми? На самом деле это кажется приятным лишь до тех пор, пока не возникает потребность сбежать — и просто любить, и быть любимой, и чтобы твой возлюбленный не знал, кто ты на самом деле.
Итак, маленькая гостиница. Она снимет номер в гостинице, где так мало персонала, что за перемещениями клиентов не следят, в гостинице, где, по представлениям Сэма, она и должна жить. А номер в «Рице» она оставит за собой, чтобы получать корреспонденцию и сохранять видимость жизни, которую с самого начала вела в Париже. Сэму можно будет сказать, что она живет в маленькой гостинице, а «Риц», где она будет проводить две ночи в неделю, будет ее базой.
Ей действительно безразлично, знает ли персонал «Рица», что она редко появляется в Виндзорских апартаментах, которые держит за собой. Здесь она будет вести светскую жизнь, сократив ее до минимума. Правда, ее могут обвинить в снобизме или, по крайней мере, в разборчивости. Но какая разница, что про нее станут говорить! Ее мир только что создан, и ей нет никакого дела до окружающих. А уж персонал «Рида» видывал и не такое! Обсудив между собой, что она слишком много ночей проводит на стороне, все сочтут это очередным сексуальным капризом постоялицы и забудут о нем.
Маленький отель будет чем-то вроде костюмерной, пересадкой на пути от одного образа к другому. Здесь она будет держать костюмы и косметику учительницы, и, если Сэм захочет там побывать, визит в такое место не вызовет у него ни удивления, ни подозрения. Там она оставит и книги, и журналы, безделушки, белье и обувь… все, подходящее к новой роли, все, что купит за ближайшие часы.
Вздохнув наконец с облегчением, Билли разделась — ей хотелось понежиться в ванне. Она стояла в пеньюаре и смотрела, как ванна наполняется водой. Решение было найдено, и она расслабилась, молча наблюдая, как льется из золотых лебедей вода, но вдруг вспомнила о доме на улице Вано, о котором в последние два дня и думать забыла.
Черт, не может быть! Она пропустила встречу с подрядчиком, а должен был прийти человек с окончательным рисунком пола на кухне; через час ждали специалиста-реставратора, который должен заняться лепниной; сегодня же должны появиться инспектора из городской электросети — проверять новую проводку, и их проверки все боялись. К тому же. именно сейчас начиналось оформление интерьера, за которым она собиралась лично следить.
Билли быстро закрыла краны и бросилась к телефону. Она побаивалась вмешательства специалиста по интерьеру, хотя и имела на примете одного человека. Это был некий Жан-Франсуа Делакруа, несколько лет назад после обучения у Анри Самюэля, патриарха парижских декораторов, открывший собственную фирму. Несколько дам, чьему вкусу она доверяла, весьма восторженно отзывались о нем. Через несколько минут с помощью своей любимой телефонистки она уже говорила с ним.
— Месье Делакруа, это Билли Айкхорн. Я… О, раз вы знаете, кто я, это упрощает дело. Скажите, смогли бы вы взять на себя работу по оставшемуся ремонту и всему внутреннему оформлению двадцатикомнатного особняка на улице Вано? И вы можете начать немедленно? Уже сегодня?
— Но, мадам… мадам Айкхорн, необходимо сначала встретиться, осмотреть дом, понять, совпадают ли наши взгляды…
— Вовсе необязательно, — решительно возразила Билли. — Я слышала о вас много хорошего. Вопрос только в том, можете ли вы немедленно приступить? Если вы сейчас работаете над чем-то еще, просто скажите мне об этом.
— Мадам, время я найду, но существует множество вопросов, на которые может ответить только заказчик: сколько денег он собирается вложить, какой интерьер ему нравится больше — старинный или современный, сельский или городской, минималистский или классический, элегантный или неформальный, оставлять ли место для произведений искусства — перечисление можно продолжать без конца…
— Не надо, прошу вас. Я не хочу обычной французской мебели, позолоты или чего-то вызывающе современного. Что касается суммы, руководствуйтесь своим здравым смыслом. Тратьте столько, сколько сочтете нужным. Я скажу своим банкирам, у вас будет открытый счет. Более того, месье Делакруа, постарайтесь меня удивить.
— Но, мадам…
—Да?
— Когда-нибудь… мы… сможем увидеться?
— Конечно. Скоро, очень скоро, но… заранее я ничего сказать не могу. Главное, чтобы вы приступили немедленно, сегодня же. Я позвоню своему подрядчику, он будет вас ждать. Должна вас предупредить, сегодня придут инспектора из электросети.
— Чиновники меня не пугают, мадам.
— Значит, вы именно тот, кто мне нужен. До свидания, месье.
— До скорой встречи, мадам, — с надеждой в голосе отозвался Жан-Франсуа Делакруа, и Билли повесила трубку.
«Этот человек наверняка решил, что я весьма взбалмошна», — сказала она себе, снова включая воду. Интересно, какие из ее брюк и юбок подошли бы для учительницы? Какие кофты и свитера не вызовут подозрения? Не слишком ли элегантно ее нижнее белье или можно сказать, что это прощальный подарок сослуживиц? А обувь? А как объяснить, откуда у нее деньги на такую дорогую косметику? Может, сказать, что она получила небольшое наследство? Или ей стоит купить пластиковые пузырьки и баночки и свалить их в один пакет, а часы, несколько пар простеньких сережек и жемчужное ожерелье списать на завещание тетушки Корнелии? Тетя Корнелия поняла бы. Да, она понимала… Господи, Робер!
У Билли дыхание перехватило, когда она вспомнила об этом слабом звене. Робер, ее шофер, который проводил свободное время за разговорами с другими шоферами и швейцарами у «Рица». Ведь надо же ей как-то передвигаться по городу от маленького отеля, который еще предстояло выбрать, до Маре, потом опять в «Риц», а иногда и на улицу Вано, ведь не могла же она допустить, чтобы месье Делакруа начал вслух удивляться поведению своей психованной клиентки.
Господи, приходилось ли какой-нибудь другой женщине бороться с таким количеством осложнений? Как кому-то удается заводить тайные романы? Как было бы просто, если бы она могла оставаться самой собой, а не Ханни Уинтроп. На минуту Билли даже попыталась представить, что будет, если она скажет Сэму правду, но картинка в голове не складывалась, не находилось нужных слов.
Когда-нибудь придется ему сказать, не может же так продолжаться вечно, но не сейчас, позже; сначала надо получше друг друга узнать, и правда уже не будет иметь значения. А может, этой любви, если это любовь, не суждено продлиться долго, и проблема отпадет сама собой. Как бы то ни было, сейчас сделать ничего нельзя, значит, надо избавиться от Робера. Только шофер мог бы знать, чем, где и с кем она занимается. Он быстро обо всем догадается, и где гарантия, что он не поделится своими наблюдениями с друзьями-шоферами?
Бедняга Робер! Она не поскупится на выходное пособие, но придется немедленно уволить его. Надо будет найти агентство, где можно нанять шофера с машиной, чтобы он ждал ее там, где она укажет, отвозил по месту назначения и видел лишь, как она скрывается за углом. А если он проявит излишнее любопытство или попробует за нею следить, она сразу заметит и в тот же день сменит шофера. Платить она будет наличными, имени ее он знать не будет. Проблема решена, с облегчением вздохнула она.
Билли вдруг поняла, что стоит перед наполовину наполненной ванной и не помнит, помылась она или нет. Да какая разница! У нее кружилась голова, ее раздирал голод всепоглощающего желания, и утолить его мог лишь Сэм Джеймисон, только его уверенная рука и нежные губы могли ей помочь, только его тело могло принести успокоение.
11
Печеночный паштет. Долли Мун стояла на кухне перед закрытым холодильником, глубоко задумавшись о печеночном паштете. Нет, она ни за что не станет пробовать печенку, которая стоит в миске на второй полке холодильника, потому что это приготовлено на вечер — они с Лестером устраивали традиционный ужин на Йом-Кипур, вечер после поста Судного дня. Лестер с родителями был в синагоге, молился, слушая раввина; все продолжали держать пост, который начался вчера после заката. И как ей только не стыдно думать о паштете, спрашивала себя Долли. Как можно пасть так низко, чтобы стоять здесь и мечтать о печенке, приготовленной утром?
Руководствуясь своей любимой поваренной книгой «Кошерная кухня знаменитостей», она слегка поджарила на курином жиру килограмм печени, пережарила девять мелко порезанных луковиц, потом порубила все это с дюжиной крутых яиц в деревянной миске, стараясь, чтобы получилась масса нужной консистенции.
Какая же она праведница, подумала Долли, и слезы навернулись на ее огромные голубые глаза, затуманив обычно исполненный удивленной радости взор. Она даже не попробовала печенку, чтобы решить, достаточно ли соли, поручив это кухарке, ибо знала, что произойдет, если она начнет пробовать. Половина приготовленного исчезнет в считанные минуты, жалобно подумала Долли. В считанные минуты.
На ней был бледно-лиловый атласный пеньюар, отделанный старинным кружевом, в светлых волосах — бигуди и никакой косметики. Уголки ее всемирно известного необъятного рта были опущены, даже ее необъятные груди и необъятная попка, без которых она бы не была обожаемой всем миром комедийной актрисой Долли Мун, грустно обвисли. На огромной кухне кипела работа, и никому не было дела до ее молчаливого бдения: ведь сегодняшний ужин был праздничным, и еще предстояло приготовить говяжью грудинку, нафаршировать цыплят, сделать множество закусок и напечь пирогов и тортов. Долли и Лестер пригласили на разговление всю семью Лестера и множество друзей.
Десять дней, говорила себе Долли, представляя себе миску с печенкой, посыпанной мелконарезанным чесноком, десять долгих дней, с момента начала Рош Хашана, еврейского Нового года, ее новые родственники, которые соблюдали все религиозные обряды, обращались в глубины своих душ, моля об искуплении грехов и прощении обидевшим их.
Она надеялась, что свекровь не относит ее к числу последних. Да и как она могла, если Долли произвела на свет двух близнецов, продолжателей рода Вайнштоков, двух мальчиков, Лестера-младшего и Генри. Она знала, что, когда она вошла в их семью вместе с новорожденной Венди Уилхелминой, крестницей Билли, старшие Вайнштоки приняли ее с вполне объяснимой сдержанностью. Не о такой невестке они мечтали. Она не шла на сближение. У них вообще было мало общего. Ну и что, что она только что получила «Оскара», — они не выказывали особой радости, оказавшись на свадьбе единственного сына, чья невеста нянчила младенца от какого-то наездника с родео, за которого даже не удосужилась выйти замуж.
Правда теперь, в сентябре 1981 года, трехлетняя Венди стала их обожаемой крошкой, а Лестер и Генри маленькими принцами. И они любили Долли, любили и гордились ею, в этом она не сомневалась. Ее последний фильм, где она снялась вместе с Дастином Хоффманом, дал в нынешнем году самые большие сборы, и ее родственники тоже внесли в это свой вклад. Они смотрели фильм по меньшей мере шесть раз, стоя в очереди в кинотеатре Вествуда как обычные зрители — им нравилось сидеть вместе с публикой и собственными ушами слышать, как смеется зал. Нет, они действительно ее любили. И уж никак не отношения с родителями мужа были причиной того, что она стоит сейчас перед холодильником, борясь с искушением его открыть и чуть-чуть, на самом кончике вилки, попробовать паштет.
А вдруг кухарка недосолила? Конечно, все промолчат, но когда они вернутся домой из храма, радостные, очистившиеся от грехов, голодные, выпьют по стаканчику апельсинового или томатного сока, чтобы восполнить минеральные вещества, утраченные за сутки поста, и набросятся на паштет, не будут ли они горько разочарованы, если он окажется недосоленным?
— Долли, ты опоздаешь. — Уверенный, не терпящий возражений голос исходил от молодой женщины, решительно вошедшей в кухню.
— Пожалуйста, оставь меня в покое еще хоть на несколько минут, — умоляюще сказала Долли секретарю Джени Дэвис, тощей брюнетке, которая могла сожрать двойную порцию жареных ребрышек и спалить все полученные калории за время получасового телефонного разговора. Ничего удивительного, лениво подумала она, что все женщины, работающие по связи с общественностью, такие тощие, — это их профессиональный признак.
— Но дети уже просыпаются, Долли. Ты же знаешь, у близнецов есть только час радости в день.
— У них радости двадцать четыре часа в сутки, — фыркнула Долли.
— Сама знаешь, что я имею в виду, — настаивала неумолимая Джени. — Один час радости.
Долли оценила ситуацию. На лужайке перед домом ждал фотограф из «Гуд хаузкипинг», который с помощью двух ассистентов собирался сделать фотографию на обложку мартовского номера — Долли с тремя детьми. Он уже сфотографировал саму Долли, эти снимки должны сопровождать рассказ о кинозвезде, в жизни которой были и карьера, и брак, и материнство. Трое представителей «Арви», где Долли снималась сейчас вместе с Робертом де Ниро, стояли рядом, готовые в любой момент прийти на помощь. Наверху, в гардеробной, ждали парикмахер и гример. На вешалке в шкафу висело платье от Нолана Миллера, восхитительное платье, которое отлично подошло бы самой сексуальной доярке мира. Нолан доставил его лично час назад, поскольку в последний момент выяснилось, что оно чуть узко в талии.
— Может, ты перестанешь хватать куски перед едой, Долли, — осторожно заметил он, и она, взглянув ему в лицо, такое милое, такое доброе, пообещала, что да, конечно, перестанет. «Да, Нолан, да, прекрасный мой человек, назвавший меня такой же хорошенькой, как Жаклин Смит, я обещала, что перестану, и, если не сдержу слова, ты сам об этом догадаешься во время следующей примерки».
Но Нолана она не боится, вот в чем проблема. Он умудрится представить ее в выгодном свете, даже если она немедленно попробует паштет. И он продолжал восхищаться ею, хотя она действительно прибавила пару сантиметров в талии, а талия и носик были единственными некрупными частями ее тела. Вот бы господь устроил так, чтобы в первую очередь полнел кончик носа, мечтательно подумала Долли. Нос дулей точно заставил бы ее переключиться на обезжиренного тунца и диетический сыр.
Стимулов не хватает, мрачно решила Долли. Лестер обожает покушать, они познакомились за ее струделем, встречались в китайских ресторанчиках, а впервые оказались в постели, когда она была на девятом месяце беременности. Естественно, что ему нравилась ее пухлость!
Мысль о Лестере сразу улучшила настроение. Интереса к паштету, правда, не убавила, но придала бодрости. Вскоре после свадьбы он оставил работу в рекламной компании и на короткое время перешел в фирму отца. Но потом загорелся идеей выискивать и скупать все лучшие черно-белые телесериалы. Взяв заем в банке, он организовал собственное дело, и, насколько ей известно, перспективы были самые радужные.
Да у них и так денег больше, чем нужно. Долли глазам своим не поверила, увидев, сколько ей причитается по контракту на три фильма со студией «Арви», хотя она и сама ставила довольно жесткие условия. Удивительно, думала она, что ей платят такие деньги за умение хихикать, что бы там ни говорили критики о ее актерском мастерстве. Но мастерство само по себе, а она — сама по себе. Стоит здесь и трясется, словно наркоман, от желания хоть чуточку попробовать паштет. С галетой.
Стимул? Была бы здесь Билли, можно было бы ей позвонить и выслушать короткую, по-старомодному основательную лекцию о калорийности каждой ложки паштета. Только это могло бы ее остановить, но Билли вот уже год не показывалась в Штатах. Время от времени она писала, иногда звонила, но казалось, она… очень отдалилась за последние полгода. В их общении появилась какая-то натянутость, хотя вряд ли стоило из-за этого беспокоиться: Билли просто была слишком довольна своей парижской жизнью, возможно, даже излишне довольна. В Париже, должно быть, действительно есть что-то необыкновенное, решила Долли, раз Билли стала совсем не похожа на себя. Голос ее звучал расслабленно и спокойно, хотя Долли точно знала, что Билли никогда не расслабляется. Этого она просто не умеет — чего нет, того нет. Может, из-за Бостона, может, из-за того, что до двадцати лет была толстушкой. Ох, Билли, ну где же ты, ты так мне нужна!
— Долли, близнецов уже одевают. Иди наверх, подкрасься и причешись. Фотограф готов, все готово, и няня говорит, что с трех до четырех мы можем рассчитывать на ангельское поведение близнецов. Долли, — не унималась Джени Дэвис, готовая в случае необходимости позвать на помощь, — уже два пятнадцать.
— Возьми меня за руку, Джени, — сказала Долли, отводя взгляд от дверцы холодильника, за которой скрывался предмет ее вожделения, — возьми за руку и выведи из кухни. Держи крепко, как только сможешь. Когда я поднимусь наверх, со мной будет все в порядке.
Спайдер Эллиот оторвался от письма, которое никак не мог дописать, и заказал еще бутылку «Сейбрю», местного пива, которое обнаружил в кафе в Виктории, на острове Махе, что на Сейшелах. Это был один из островов архипелага, расположенного в Индийском океане в нескольких тысячах километров от восточного побережья Африки. Накануне Спайдер и его экипаж из двух человек бросили якорь у Виктории, намереваясь провести несколько дней на берегу и пополнить запасы продовольствия замечательными местными продуктами.
Хотя Виктория была расположена всего несколькими градусами южнее экватора, отсюда вполне можно было рассылать корреспонденцию в полной уверенности, что она дойдет до адресата: город был международным туристическим центром. Во время кругосветного путешествия Махе был своего рода рубежом на пути из Штатов, поскольку, достигнув его, мореплаватель понимал, что теперь находится на пути домой. Это был волшебный остров — еще не тронутая природа, знаменитые птичьи заповедники, лучшее в мире место для плавания и ныряния с аквалангом. Туристы за соседними столиками говорили по-английски, по-французски и на каких-то других европейских языках.
Поставив на письме дату, октябрь 1981 года, Спайдер вдруг осознал, что его отсутствие затянулось почти на полтора года. Он приучил себя не вести счет времени, хотя дни, недели и даже месяцы уже давно щадили его, сменяясь незаметно. Он столько пережил, что прошлое стало чужим, а будущее было неважно. Он жил лишь сегодняшним днем, да и тот просто уходил минута за минутой.
До сих пор он никому не сообщал о себе; это было его первое письмо с момента отплытия из Лос-Анджелеса. Прошлым вечером он рискнул отправиться в казино отеля «Бо Валлон-Бей». Ему стало любопытно, как он будет себя чувствовать, снова оказавшись в толпе. Обменяв немного долларов, он сыграл в рулетку, проиграл все рупии и понял, что среди такого множества людей испытывает только раздражение и беспокойство. Он уже собирался уходить, когда повстречал группу туристов с корабля, стоявшего у пристани. К нему подошла женщина, которую он смутно помнил, и назвала себя. Спайдер понял, что это одна из многочисленных клиенток «Магазина Грез», из тех, кто покупал у них подарки на Рождество. Именно от нее он впервые узнал, что ни одного «Магазина Грез» от Гонконга до Мюнхена не существует.
Всю ночь Спайдер не мог уснуть, обдумывая услышанное. Наконец он решил не пытаться ничего выяснять, пусть все остается как есть, но вдруг ему пришла одна мысль, которая никак его не оставляла, сколько он ни пытался убедить себя, что все это ерунда. Наконец он пообещал себе написать Билли — только чтобы избавиться от этой мысли и спокойно продолжать жизнь, которая ни к чему не обязывает, жизнь, где существовало лишь море, небо и солнце.
Дорогая Билли!
Посылаю это письмо Джошу Хиллману, так как представления не имею, где ты сейчас, но знаю, что он тебе все перешлет. Ты тоже не сможешь представить, где именно я нахожусь, хотя на морских картах и отмечено это место. Говорят, это райский остров, если таковые вообще существуют. Уж в чем, в чем, а в райских местах я научился разбираться за прошедший год. Поверь моему слову, достоинства многих из них явно преувеличены.
Как бы то ни было, вчера я впервые за много недель спустился на берег и случайно натолкнулся на одного человека, который сообщил мне, что закрыты все «Магазины Грез». В первый раз после отъезда я встретил кого-то из Беверли-Хиллз… До этого мне удавалось избегать людей. Когда я уезжал, то ничего об этом не слышал и считал, что ты по-прежнему открываешь один магазин за другим.
Несколько часов я пытался понять, какого черта ты закрыла все магазины, и только одна нелепая мысль хоть что-то мне объяснила. Может, это все пустое, и я все придумал, но на всякий случай решил написать тебе и сказать, что ты не должна ни минуты считать себя виноватой в том пожаре.
Мы не обсуждали с тобой, почему возник пожар, мы с тобой вообще ничего не обсуждали, но я мог и, наверное, должен был сказать тебе, что всему виной случайность, скорее всего неосторожность Вэлентайн.
Когда я познакомился с нею в Нью-Йорке, у нее была привычка курить французские сигареты, особенно если она заканчивала трудную работу, чувствовала себя усталой и тосковала по дому.
Иногда, если она не могла заснуть, то отправлялась в студию работать, даже если я был дома. Это вошло у нее в привычку, и я не мог ее отучить. Она говорила, что это лучше, чем бродить по квартире, когда не можешь уснуть. Думаю, в ту ночь она поехала в магазин работать, закурила и заснула с непогашенной сигаретой в руках. Другого объяснения пожара просто не может быть.
Ты не должна считать, что у нее было слишком много работы из-за костюмов для «Легенды». Ты должна знать, что, не будь этой работы, она бы нашла что-нибудь еще. Она никогда не сидела без дела и любила работать ночью, когда никто не мешает.
Билли, я знаю, что для тебя значили «Магазины Грез», знаю, возможно, как никто другой. Может, это письмо — чистое безумие, и мысль, пришедшая мне в голову прошлой ночью, тоже безумна. Мне хочется надеяться, что ты просто устала управлять таким количеством магазинов и занялась чем-то еще… правда, это на тебя не похоже. Так или иначе, если я спятил, спиши это на переизбыток солнца, только, ради всего святого, поверь, что ты ничем, абсолютно ничем не виновата в пожаре.
Мне трудно себе представить, что Беверли-Хиллз по-прежнему существует. Большую часть времени я проводил на море и понял, что, как ни велик океан, надо быть всегда настороже, иначе он поглотит тебя. Мой экипаж и я, мы просто путешествуем, поэтому силы еще есть. Может, я брошу где-нибудь якорь и открою клуб психологической помощи для подростков.
Где бы ни застало тебя мое письмо, надеюсь, ты бодра, весела и счастлива. У меня все нормально, я счастлив настолько, насколько это возможно… во всяком случае, я уже не тот, каким отплывал из Лос-Анджелеса, и это хорошо. Поцелуй за меня Джиджи и Долли и передай привет Джошу, когда их увидишь. Когда-нибудь я вернусь, только не знаю когда. Обнимаю тебя, Билли. Вот было бы здорово, если бы вчера я встретил тебя.
Спайдер.
— Принесите, пожалуйста, еще выпить, — попросил Спайдер официанта, с облегчением запечатывая письмо. Потом удивленно посмотрел на конверт, словно не веря, что сумел доверить бумаге мысли, от которых бежал за тысячи километров. — На этот раз что-нибудь покрепче.
— Если я когда-нибудь выйду замуж, — торжественно заявила Джиджи Саше, входя в квартиру с перевязанной лентой продолговатой коробкой, — клянусь всем святым, я устрою побег. Ничто в мире не заставит меня быть невестой на настоящей свадьбе.
— Ну и что? — тихо спросила Саша, покрывая ногти очередным слоем лака. Это был их священный вечер под девизом: «Понедельник — день воздержания», и они с Джиджи, как обычно, собирались провести его дома вдвоем, настраивая себя на нелегкую, заполненную мужчинами неделю. В этот день Джиджи обычно давала Саше урок кулинарного искусства. Стоял конец октября 1981 года, и когда Саша шла домой от автобусной остановки, то заметила, что даже воздух стал другим, не таким, как вчера. Вчерашний день еще хранил память о затянувшемся бабьем лете, а сегодня уже чувствовалось, что приближается День благодарения.
— Мы с Эмили Гэтерум сегодня обсуждали предстоящую свадьбу. Жаль, тебя там не было. Мать невесты помешана на том, чтобы все было по первому разряду, она начала представлять себе каждую деталь бракосочетания еще тогда, когда ее доченьке исполнилось два годика. Добавь к этому папашу-магната, зануду, который только и мечтает потратить денежки на свадьбу на триста человек, но желает при этом, чтобы был виден каждый потраченный цент. Мамочка и папочка вот уже три года не разговаривают, с тех пор, как развелись. — Джиджи стянула с себя строгий пиджак: на работе она должна была появляться исключительно в официальных костюмах, такова была воля ее начальницы, Эмили Гэтерум, — расстегнула юбку, сняла скромную белую блузку и швырнула свои замшевые туфли под потолок. — Мало того, — продолжала она, — сразу после развода папочка женился на молоденькой секретарше. Это единственное действующее лицо, которое сегодня по вполне понятным причинам на сцене не появлялось. Однако присутствовала мать жениха, крайне подозрительная и высокомерная дама из единственной во всех Штатах семьи, где никогда, ну просто никогда не бывало разводов; ее ноздри раздувались от прикрытого воспитанием отвращения, и она ясно давала всем понять, что считает сына достойным большего, чем брак с этой бедной девочкой. Естественно, будущая невеста пребывала в расстроенных чувствах. Мне было ее так жаль — она разрывалась между своими ужасными родителями и в то же время пыталась успокоить будущую свекровь. Представь, каково улаживать отношения между тремя непримиримыми врагами! Пожелания невесты относительно брачной церемонии были выслушаны в последнюю очередь, хотя ее следовало бы спросить первой.
— Ты придаешь всему слишком большое значение, — сказала Саша, которую нисколько не взволновали переживания Джиджи. — Когда ты поступила в «Путешествие в изобилие», эта Эмили позволяла тебе только отвечать на телефонные звонки, записывать основную информацию о новых клиентах и передавать трубку ей или кому-нибудь из ее ассистентов, и я никогда не забуду, как ты боялась, что ничему не научишься. Потом, слава богу, мисс Гэтерум поняла, что ты настоящая находка, объяснила тебе, как управлять кухней, ты нашла контакт со всеми поварами, она научила тебя составлять меню, ты узнала все тонкости, касающиеся контрактов и поставок, узнала, как закладывается прибыль, о которой клиент и не подозревает, и которую приносит каждый пучок петрушки и каждая взятая напрокат ложечка. Теперь тебе лично доверяют проводить небольшие вечеринки, ты присутствуешь на всех совещаниях по поводу больших торжеств, а ты все ворчишь. Почему бы не взглянуть на все чуть оптимистичнее? Думаю, пройдет немного времени, и Эмили доверит тебе планировать мероприятия с клиентами самостоятельно.
— Боже упаси! — с жаром воскликнула Джиджи. — Я теперь нервничаю только из-за планирования… все эти желания, мечты, прекрасные сказки, с которыми к нам приходят люди… у них в головах такие чудесные картинки и никакой логики. Они думают, что раз решились обратиться к нам, то все их проблемы мы берем на себя. А дело в том, что они сами все усложняют именно потому, что не хотят или не могут предоставить все нам. Это же просто невыносимо для них — остаться в стороне от подробностей приготовления пищи и украшения стола.
Джиджи собрала свою одежду и отнесла в спальню, потом вышла и стала с ожесточением расчесывать копну рыжих волос, высвобожденных наконец из аккуратного пучка, который она делала каждое утро. Ее зеленые глаза весело поблескивали из-под длинных ресниц, на которые даже Эмили Гэтерум не могла ей запретить ежедневно накладывать три слоя туши. Джиджи осваивала науку обслуживания банкетов не больше года, но казалась лет на пять старше той девушки, которая приехала в Нью-Йорк, чтобы вступить во владение новой квартирой и повстречать новую подругу.
Она совершила неизбежный прыжок во взрослую жизнь, перешла невидимую, но безвозвратную границу, которая разделяет юных девушек и настоящих женщин. Озорство, позволявшее ей, уже взрослой девушке, выглядеть ребенком, исчезло, на смену ему пришла зрелость, которую удачно дополняли пылкость и острое ощущение того, что жизнь — не более чем веселая игра.
Лицо Джиджи сохранило черты, которые делали ее дерзкой и своенравной девчонкой. Чуть вздернутый носик, изящные уши, маленький рот с чуть приподнятой верхней губой, великолепной формы веки под дугами бровей — все это принадлежало теперь женщине, которую одни назвали бы красивой, другие — хорошенькой, но никто бы уже не назвал проказливым эльфом. Впрочем, одно осталось неизменным: то самое, что делало ее похожей на девушку двадцатых годов, то, что первой в ней подметила Билли. Что-то в ее силуэте, в прекрасной форме головы делало Джиджи похожей на тех вертихвосток, необузданных, блестящих, непрерывно танцующих и заливающихся смехом девиц, которые в свое время с естественностью дыхания разбивали мужские сердца.
— Знаешь, какого клиента мне бы хотелось? — мечтательно произнесла Джиджи. — Одинокого делового мужчину. Сначала он бы обговорил расходы, потом остановился бы на необходимых деталях, дал бы нам достаточно времени на изучение его квартиры, чтобы мы знали, в каком стиле оформить стол, выбрал бы одно из трех меню и не менял бы своих решений, не требовал показать десять образцов салфеток, не интересовался бы размерами винных бокалов или тем, как мы расставим цветы, не впадал бы в истерику в день банкета…
— И часто встречаются такие клиенты? — поинтересовалась Саша. — Могла бы познакомить хотя бы с одним.
— Эмили говорит, что ей такой попался лишь однажды. Это было, когда она только организовала фирму, но помнит его по сей день. Потом он женился на поварихе, которая сама все готовила, ей была нужна только прислуга на кухню.
— Одинокие мужчины ходят на вечеринки, а не устраивают их, по крайней мере, не заказывают.
— Но ведь Зах — одинокий мужчина, а вечеринки устраивает.
—Зах?
— Твой старший брат, я о нем говорю.
— Джиджи, ты должна понимать, Зах совсем другой, — мягко объяснила Саша. — Он работает в театре, он режиссер, а главное — он Невски, сын Орловой. Для Заха вся жизнь — сплошная вечеринка. Для него выпить с друзьями означает накрыть стол на двадцать человек, которые с собой еще кого-то приведут. И тарелки помоют.
— Мне… нравится такое отношение.
— В очередь, детка, в очередь, — лениво проговорила Саша, откидываясь на подушки, чтобы дать ногтям подсохнуть. На ней была сшитая на заказ атласная пижама с широким воротником и большими гофрированными манжетами. На одном из карманов красовались инициалы А.Л. Эту пижаму, сшитую в 1925 году, подарила ей на день рождения Джиджи. Подарок она снабдила открыткой:
«Надеюсь, ты не думаешь, что в этой пижаме кто-нибудь когда-нибудь спал. Я случайно знаю, что ее владелица — одни говорят, что ее звали Антуанетта, другие считают, что Лола, — надевала ее тогда, когда меньше всего собиралась спать. У Антуанетты-Лолы была большая шкатулка слоновой кости, в которой хранились удивительные драгоценности, исключительно изумруды, под цвет ее глаз. У нее на яхте был экипаж из двадцати человек и только одна каюта для хозяйки. Когда она входила в бальную залу, оркестр вставал и играл „Нежную и распутную“, песню, которую братья Гершвины сочинили специально для нее. Муж Антуанетты-Лолы знал, что не стоит являться домой между пятью и семью, и все же был счастливейшим из мужчин. Что такого знала Антуанетта-Лола ? Ничего из того, чего не знала бы Саша. Она бы хотела, чтобы ты носила эту пижаму и знала лишь счастливейшие дни.
С любовью, Джиджи».
Внизу Джиджи нарисовала Сашу, надменно сидящую в белой пижаме с мундштуком в руке, а у ног ее — трех огромных ангорских котов.
Занимаясь поисками подарка для Саши, Джиджи поняла, как ее завораживает старинное белье. Теперь в свободное время она прочесывала рынки и некоторые из магазинов, торгующих стариной, и иногда возвращалась домой с каким-нибудь отлично сохранившимся сокровищем с отделкой из ирландского или мадейрского кружева. Она находила шелковые рубашки, панталоны, лифчики, пеньюары, утренние и купальные халаты и даже корсеты с лентами. Каждую находку она тут же примеряла, чтобы понять, идет ли она ей, а потом убирала в специальный ящик, рассчитывая в дальнейшем получать наслаждение, рассматривая ее.
Однажды, когда она явилась домой, принеся один из первых облегченных корсетов, цельнокроеный, историческую ценность, созданную в 1934 году, Саша заявила, что ни за что бы не купила такую отвратительную вещь. Джиджи же утверждала, что та, которая его носила, должна была молиться на его изобретателя, освободившего женщин от жестких, на косточках, корсетов прошлого. Каждый купленный ею предмет, казалось, имел собственную историю и мог бы ее рассказать, умей она слушать. И неважно, что Саша над ней смеялась, называя фетишисткой, — она упорно пополняла свою коллекцию, находя все более редкие и ценные экземпляры.
— Саша, — серьезно спросила Джиджи, — ты считаешь, я становлюсь циничной?
— Ты очень повзрослела с тех пор, как пошла работать. Циничной? Пожалуй, нет. Циник, наверное, не может поверить в человеческую искренность и доброту… а ты… ты все пытаешься их найти… Скорее ты неисправимая оптимистка или что-то в этом роде.
— И Зах то же говорит.
—Да?
— Да, — ответила Джиджи, устраиваясь на подушках рядом с Сашей. — Однажды я призналась ему, что, организуя свадьбу, я всякий раз думаю, как глупо тратить столько денег, если нет полной уверенности, что брак не распадется. И тогда он сказал, что я просто реально смотрю на вещи, это хорошо.
— Так и сказал?
— Угу. А когда я сказала, что считаю неприличным устраивать пышные дни рождения для двух-трехлетних детей, чтобы родители могли похвастаться богатствами, он ответил, что это во мне говорит чувство социальной справедливости и я должна быть рада, что оно у меня есть, но должна понимать, что деньги на вечеринках тратятся на нужных людей.
— Не шутишь?
— Нет. А когда мы с Захом говорили о театре, он сказал, что мне надо воспринимать банкеты как театральные постановки и следует разделять собственно банкет и его эмоциональную сторону. Зах сказал, что я напрасно радуюсь, когда хозяева от души веселятся на устроенных ими вечеринках, ведь они выступают в роли постановщиков и веселье вовсе не входит в их задачи. Меня же должно волновать, нравится ли все гостям, ведь гости — зрители и представление дается для них. Зах сказал, что если праздник удался, то пусть хозяева порадуются после его окончания, но, пока банкет продолжается, они все равно будут нервничать, как бы я ни пыталась их развлечь. Такой взгляд на вещи мне очень помог. Действует успокаивающе. Зах так много знает. Ничего удивительного, что он потрясающий режиссер.
— Ты правда так думаешь?
— Да, знаешь, он очень умный, — заверила Джиджи его сестру. — Он сказал, что жизнь профессионала, какой бы блестящей ни казалась твоя карьера окружающим, — это жизнь рабочей пчелы. Понимаешь, приходится распрощаться со всеми иллюзиями, которые связывал со своей профессией, выбирая ее, поскольку начинаешь понимать, сколько она требует сил. Но, с другой стороны, ты делаешь это ради людей, и в этом заключается твоя награда… А еще в радости, которую получаешь от работы.
— Когда это ты говорила с Захом?
— Да в разное время, это все было не в одном разговоре.
— Понятно. Понятно. — Саша тщательно осмотрела свои ногти и решила, что они высохли. — Джиджи, а что в этой коробке? Одного взгляда на нее достаточно, чтобы догадаться, что ты опять купила белье.
Джиджи развязала тесьму и достала нечто, чего Саша раньше никогда не видела.
— Это не белье, — заявила Саша.
— Это то, что называют утренним капотом, — ответила Джиджи, нежно поглаживая темно-розовый бархат. — Посмотри, он отделан бежевым шифоном, а темный мех по подолу — это колонок, по крайней мере, так сказала мне продавщица. Правда, он восхитителен? Представь, как ты закутываешься в него перед завтраком, когда огонь в камине еще не успел нагреть комнату. Совершенно изумительная вещь, правда?
— Похоже, это твой размер, — сказала Саша. — Ну давай, примеряй.
Джиджи надела капот — он был с широкими проймами и без застежек, поэтому постоянно распахивался. Она дважды повернулась, жмурясь от удовольствия.
— Я хотела подарить его Джессике на Рождество… ей, наверное, будет великовато, но она может носить его с поясом.
— Почему бы тебе не оставить его себе? Сидит идеально.
— Я хочу до конца месяца купить все подарки к Рождеству, сама знаешь, сколько у нас работы перед Рождеством, с конца ноября я просто не выхожу их офиса — все начинают думать о праздничных ужинах. И это время неумолимо приближается.
— Кстати, ты еще не умираешь с голоду? Обед был так давно, а я весь день на ногах, продавая трусики и лифчики.
— Со вчерашнего дня остались цыплята по-креольски, — сказала Джиджи. — Подогретые, они только вкуснее. В микроволновой печи все будет готово в секунду.
— Что? — Саша замерла, пораженная. — Ты сказала «подогреть»? Я не ослышалась?
— Саша, я отлично помню, что сегодня один из тех вечеров, когда я учу тебя готовить что-нибудь домашнее, но ты можешь хоть разок, только один разок съесть что-нибудь приготовленное из полуфабрикатов? Это просто совпадение. Я давно собиралась тебе все объяснить. Видишь ли, я должна признаться, что не могу иметь больше одного мужчины… Мне это кажется… не знаю, как сказать… нечестным?.. Наверное, есть более точное слово, но ты понимаешь, что я имею в виду. Мне это не подходит. Слава богу, что я определилась в этом плане. К тому же мне совсем не нравится заставлять мужчин страдать, даже если я понимаю, как это иногда для них полезно. Я притворялась, что использую твои уроки, мне не хотелось тебя обижать. Когда я впервые услышала об этом от тебя, то мне все показалось заманчивым, но потом, сколько я об этом ни думала… у меня нет чего-то, что для этого необходимо, я не могу разделить твоих убеждений и все время боюсь, что ты меня не одобришь… наверное, лучше все это прекратить.
— Но это ведь не значит, что ты отменяешь уроки кулинарии. — В Сашиной интонации не было вопроса. Это было категорическое утверждение.
— Нет-нет, я буду давать тебе сдвоенные уроки, сколько захочешь, обещаю, — заверила Джиджи и скрылась в своей спальне.
Саша отложила в сторону педикюрный набор и прилегла на кушетку, уже спокойнее относясь к мысли об ужине из микроволновой печи. Даже хорошо, что не будет урока: не надо надевать джинсы и передник и идти на кухню выполнять указания Джиджи. Саша не была профаном по части кулинарного искусства, но она не собиралась дотрагиваться до микроволновой печи. Это епархия Джиджи. И пусть Джиджи накроет на стол, а потом все сама вымоет. Это будет наказанием за то, что она не использовала предоставленных ей возможностей.
Джиджи вернулась в гостиную, и Саша подняла голову. Джиджи была одета для выхода, в высоких черных сапогах с заправленными в них темно-зелеными вельветовыми брюками. Черный свитер она перетянула золотисто-серебряным ремнем, а на плечи кокетливо накинула только что купленный капот. Она похожа на миниатюрного офицера царской армии, подумала Саша, привстав от удивления.
— А где ваш передник, мисс Орсини? Кажется, вы собирались подогреть цыплят? Советую сменить капот на фартук.
— Ой, Саша, не могла бы ты сегодня поужинать одна? — умоляюще попросила Джиджи, снимая бархатное чудо.
— В понедельник! В этот вечер, который мы оставляем для себя! Это невозможно!
— У меня… встреча… в общем, свидание. — Джиджи медленно отступала к холлу.
— У тебя свидание? С мужчиной? Ты что, с ума сошла? Ты же знаешь, что должна в понедельник отдохнуть! — Саша бросилась к ней, преградив путь к отступлению.
— Но только если я встречаюсь с тремя мужчинами в неделю. А если я выбираю моногамию? — вызывающе спросила Джиджи.
— Именно этого я и боялась. — Саша с негодованием покачала головой, грива черных волос рассыпалась по белой атласной пижаме. — Все мои уроки впустую. Не следовало доверять тебе мои секреты… но винить я должна только себя. У тебя никогда не было задатков блудницы, великой или какой бы то ни было, у тебя на это просто духу не хватает. Значит, у тебя свидание, так? И кто же этот неотразимый мужчина, ради которого ты готова наплевать на меня?
— Да я ненадолго, мы только перекусим… — пыталась оправдаться Джиджи.
— Я не спрашивала, что именно ты собираешься делать. Я спросила — с кем?
— Мне просто нужен совет, совет профессионала. Поэтому я и собираюсь с ним встретиться.
— Я не спрашивала, почему ты с ним встречаешься. Меня интересует — кто он?
— Ну… вроде как… Зах.
— Нет никого, никого в целом свете, кто был бы «вроде как Зах», — прошипела, сузив глаза от ярости, Саша. — И ты, Джиджи Орсини, отлично это знаешь. Так?
— Хорошо. Да, у меня свидание с Захом. Ну и что?
— Что я сделала?! О боже, в чем я провинилась? За что мне такое? Какая мерзость! Господи, как ты можешь допустить такую мерзость!
— Саша, успокойся и перестань орать! Что ужасного в том, что я встречаюсь с Захом?
— Ты говоришь мне про моногамию, а потом встречаешься с Захом! И ты еще спрашиваешь, что в этом ужасного! Ах ты, дрянь!
— Нечего оскорблять меня. Ты объясни, что в этом ужасного?
— Зах — мой брат, вот что ужасно! Я его обожаю. Я его ревную! Вот что ужасно!
— Ничего, это пройдет, — утешила подругу Джиджи. — Через пару дней ты поймешь, что пусть лучше это буду я, чем кто-то другой.
— Вот как ты заговорила! — в голосе Саши слышались удивленные нотки. — Откуда у тебя такая уверенность?
— Все мы — люди, Саша, — уже в дверях обернулась Джиджи. — Даже в тебе есть много человеческого. — И она поспешила захлопнуть за собой дверь.