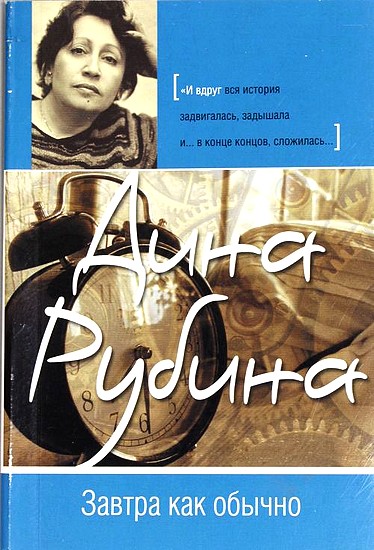
Дина Рубина
Завтра, как обычно
— Жили-были дед и баба, ели кашу с молоком, — скороговоркой пробормотала Маргарита, ковыряясь ложкой в тарелке с манной кашей, — рассердился дед на бабу, трах по пузу кулаком!
— Это еще что такое? — одновременно возмутились дед и баба.
— Это детсадовский эпос, — успокоил я их.
— Саша знает, Саша — следователь, — похвасталась самой себе Маргарита.
* * *
Я купил в буфете лимоны и поднялся к себе, на второй этаж. Кулек я положил на стол, из него выкатились два маленьких солнца, я сел, подпер кулаком щеку и стал на них смотреть. За окном в дымке застойного утра стоял голый платан с мятым лоскутом последнего листа. Лоскут вяло трепыхался на ветру. Я не стал зажигать свет в кабинете. Пусть себе, подумал я о тумане, вот он вполз, прокрался, как преступник в комнату, занял ее, чувствует себя здесь хозяином, и вдруг является некто, приносит в кульке несколько маленьких солнц, и два из них выкатились на стол и мягко настойчиво светятся — солнца в тумане… Отсюда, из окна моего кабинета, видно было, как копошилась во дворе дворничиха Люся — старое колесо с метлой. Согнувшись в три погибели, она обметала крыльцо. Сверху не разглядеть было беспрестанно бормочущих губ, но я знал, что Люся, как всегда, бурчит себе под нос, сварливо рассказывает свою жизнь сметаемым в кучу окуркам, бумажкам, листьям. Вон той обертке из-под пломбира рассказала о первом муже, той пачке из-под сигарет — о непутевом сыне… В утреннем сумраке я потянулся к телефону и на ощупь набрал номер. Трубку сняла Маргарита.
— Это ты, Маргарита?! — рыкнул я.
— Ой, а кто это? — испуганно пролепетала Маргарита.
— Это старый, облезлый, ревматический медведь из леса-Мурома, — прорычал я и тут же осведомился натуральным голосом: — А ты думала, кто?
— Я думала это мой братик Саша, — так же озадаченно выдохнула Маргарита. Я представил себе ее толстую физиономию, и в груди у меня потеплело. Я собирался углубить недоразумение еще какой-нибудь звериной информацией, но в дверь робко поскреблись, и я опустил трубку.
— Да! — крикнул я, подскочил и, хлопнув ладонью по выключателю, зажег свет. — Войдите! Но за дверью все так же мышинно скреблись. Я поднялся и распахнул дверь.
— Да, пожалуйста! Человек прянул от меня, как испуганный конь. В его невинно-голубых глазах смешались страх и истая преданность неважно кому.
— Вот… Здрасьте… — он протягивал мне трепещущую повестку.
— Хорошо, войдите, — сказал я, — садитесь.
— Товарищ следователь… товарищ… — забормотал он, продолжая стоять в дверях. — Это такой кошмар, такое несчастье…
— Да вы проходите и успокойтесь, прошу вас. Садитесь. Мужчина сел. Его гладко выбритые пухлые щечки, мягко провисающий двойной подбородок, точеный дамский носик — все было объято ужасом, все волновалось и подергивалось. Рука терзала закругленный воротничок розовой рубашки.
— Вы понимаете, я все расскажу, все… Потому что это недоразумение… У нас такая добропорядочная семья! Поверьте, моя жена далека от… спекуляции, фу, даже слово это по отношению к ней не выговаривается!
— Это потому, что вы волнуетесь… Люся опять жгла мусор у деревянного забора. За это ей влетало время от времени, но плевать Люся хотела на начальство, ибо главное ее начальство — судьба — давно уже согнула Люсю в старое колесо. Она стояла, опершись на метлу, в мужнином пиджаке, в растоптанных белых туфлях, курила сигаретку и, задумчиво закладывая за уши пряди седой комсомольской стрижки, смотрела в огонь. А костер горел пышный, высокий, искорки над ним плясали, подталкиваемые жарким дыханием костра, и в воздухе, лениво цепляясь за голые ветви платана, плыли черные лоскутья пепла.
— Какие-то пудры, помады… черт знает что… мохер какой-то… Просто у них в музыкальной школе профсоюз делал женщинам подарки, к восьмому марта, и… Я спрятал пакет с лимонами в ящик стола, достал чистый бланк для допроса и сказал этой невинно-розовой рубашке:
— Так. Фамилия, имя, отчество…
* * *
После того как в прошлом году дед перенес второй инфаркт, жизнь моя обратилась в кошмар. Чуть ли не каждый день я находил в своей комнате новый настырно-робкий сюрприз. На столе, прижатая будильником, лежала аккуратная четвертушка тетрадного листка, на которой дедовской твердой рукой было написано: «Наташа — 76–59–30», или «Зоя — 56–78–12», а то еще так: «Лена — 44–75–69, мама — Ирина Львовна». Я брал бумажку двумя пальцами и выходил в столовую. Дед ходил по дому в трусах, устало передвигая волосатые ноги с квадратными гладиаторскими икрами, ноги отставного полковника, ноги, сформированные на плацу.
— Дед, — миролюбиво говорил я, потрясая бумажкой, — опять? Что это еще за Инесса? У деда багровела лысина, и он напряженно-спокойно отвечал:
— Это внучка моего сослуживца. Хорошая девочка, из хорошей семьи. Почему б тебе не позвонить?
— Дед, опомнись! Ну, позвоню. И что я скажу?
— Не прикидывайся, — строго отвечал дед. — Я не вечный, баба — тоже. Мне надо знать, что вы с Маргаритой устроены, тогда я умру спокойно. А ты, вероятно, забываешь, что на тебе Маргарита! О том, что на мне Маргарита, я помнил всегда. Я оборачивался и находил ее тихий бирюзовый взгляд. Я ей подмигивал, и она энергично моргала мне обоими глазами, одним у нее пока не получалось. Дед давно вышел в отставку, но все преподавал в военном училище, потому что он меня еще «не поднял». Всю жизнь они с бабой кого-нибудь «поднимали» — то маму, то, после ее смерти, нас с Иркой. Теперь вот они поднимали Маргариту, хотя, конечно, подразумевалось, что процесс поднимания Маргариты не будет ими завершен в силу естественных возрастных причин, и что эта миссия будет переложена на мои плечи, к тому времени — так предполагалось — уже достаточно «поднятые». Имелась в виду приличная, хорошо оплачиваемая работа и «хорошая семья», в которую нас с Маргаритой необходимо пристроить путем моей удачной женитьбы. Чтобы иметь возможность умереть спокойно. Баба тоже занималась этой проблемой, даже более деятельно, чем дед. Однажды я застал дома незнакомую девушку, баба ее поила чаем, и та старательно пила этот чай. И ждала меня. И я пришел. Смотрю — девушка сидит, ничего, полненькая, симпатичная, глаза большие. Ну что я ей? Что она мне?…Вчера на привычном месте, привычно прижатая будильником, меня ждала новая кандидатура. Не подходя к столу, я разделся, натянул домашнее — тренировочные брюки, еще со школьных уроков физкультуры, и старый свитер с латками на локтях. И только потом, вздохнув, заглянул в бумажку. Там было написано: «Иван Сергеевич — 38–87–90».
Впервые я почувствовал интерес к бумажной кандидатуре. Я выглянул в столовую и спросил:
— Дед, что — хорошая девочка этот Иван Сергеевич? Дед сложил газету и снял очки.
— Вот что, сынка, — сказал он, — я уже звонил и обо всем договорился. Им нужен юрист. Завтра к десяти явишься к нему, к этому Ивану Сергеевичу. Будешь работать по-человечески.
— Я не безработный, — тихо сказал я.
— Хватит. Я вижу, в кого ты превратился. Не спишь, не ешь, похудел как черт, вчера ночью кричал…
— Мне снилось, что ты меня замуж выдаешь.
— Дуся! — крикнул дед, побагровев. И тогда из кухни выкатилась тяжелая артиллерия.
— Санечка, — умоляюще проговорила баба, — это прекрасная спокойная должность — юрист в тресте «Метростроя». Оклад сто сорок плюс тридцать процентов премиальных каждый месяц.
— Нет, — сказал я.
— В Москву будешь ездить, даже за границу, ты же знаешь, мы в Венгрии метро строим. Бесплатный проезд по железной дороге.
— Нет! — сказал я. Дед отшвырнул газету, вскочил и заходил по комнате, яростно сжимая и разжимая крепкие волосатые кулаки.
— Ты знаешь, Дуся, как у них называется машина, которая возит пострадавших? — спросил он на ходу и выкрикнул победно: — Труповоз!.. Баба ахнула, но деду этого показалось мало.
— Он, именно он должен разгребать помои общества! Кончится тем, что какой-нибудь бандит надерет ему уши. Нашел призвание! Целыми днями только и слышишь об ограблениях и убийствах.
— Коля, здесь ребенок! — напомнила баба.
— Подумаешь, вчера он этому ребенку объяснял, что такое судебно-медицинская экспертиза! — и дед грозно остановился передо мной, и жестом пророка ткнул пальцем в угол, где в кресле с ногами сидела Маргарита и мерцала своими кошачьими глазами.
— Деду-усь, — певуче протянула она, — а знаешь, как интересно. Но дед, не снимая указующего перста с Маргариты в кресле, выставил вперед свою ногу старого гладиатора и сказал патетически:
— Его убьют в перестрелке, Дуся. Ему плевать, что станет с ребенком. Я нервно расхохотался и ушел к себе, хлопнув дверью. Походил по комнате, посвистел, глянул на Иркину фотографию за стеклом книжной полки. Я люблю смотреть на эту фотографию, она меня успокаивает. Ирка снята на пляже. Стоит веселая, обмотанная полотенцем, и за нею вздымается облако — белое, клубистое, в полнеба. Где-то сейчас это облако? Унеслось, развеялось, затерялось в чужих краях… В нашей семье многое подразумевалось. Так, например, подразумевалось, что я Маргарите — братик Саша, хотя на самом деле ей, согласно субординации, следовало звать меня дядей Сашей. Подразумевалось, что моя дурацкая сестра Ирка, Маргаритина мать, живет в Москве со своим вторым мужем Витей. Хотя на самом деле Витя приходился ей первым мужем, а Маргарита была в свое время принесена нам в подоле легкомысленного Иркиного платьица, голубого, в белый горошек. Подразумевалось, что Ирка — мать-одиночка, хотя на самом деле представить Ирку матерью было не под силу даже самому доброжелательному, самому умиленному воображению. Подразумевалось, что Ирка гордо решила рожать Маргариту, хотя в действительности, благодаря Иркиному сверхъестественному легкомыслию, дело обнаружилось спустя месяцев пять, и на мое нынешнее счастье Маргариту убивать было поздно, и пришлось ее рожать на этот свет. Сейчас я холодею при мысли, что могло быть иначе. Подразумевалось, что еще до рождения Маргариты Ирка выгнала Толю-рыжего и решила воспитывать ребенка сама, хотя на самом деле Толя-рыжий, детина с наглой мордой, жил в соседнем подъезде и не собирался жениться на Ирке, а значит, и выгонять его было неоткуда. Подразумевалось, что я, как брат и защитник, ходил выяснять отношения с Толей-рыжим и его семьей, потому что больше выяснять было некому — дед лежал в больнице с первым инфарктом, а баба лежала дома с гипертоническим кризом. Подразумевалось, что я выяснил отношения самым исчерпывающим образом. На самом деле состоялась бездарная драка, в которой будущий Маргаритин папа выбил зуб будущему Маргаритиному дяде. По этому поводу я страдаю до сих пор, потому что не могу улыбнуться по-человечески ни одной девушке. Из роддома Маргариту забирал я. Мне положили на руки легкий белый сверток, я заглянул под накинутый уголок одеяльца и натолкнулся на бессмысленный Маргаритин взгляд.
— Как держите, папаша! Левой снизу возьмите! — сказала мне медсестра. Я забормотал что-то и сунул трешку в карман ее халата. Такое указание передала мне в записке Ирка. Она семенила сзади и счастливо улыбалась. Мне было семнадцать лет, я нес Маргариту через двор роддома к воротам, и не знал — зачем мне нужен этот сверток и что с ним делать. Привез я Маргариту уже сюда, в новую квартиру, на которую мы срочно и невыгодно обменялись. Сразу после рождения Маргариты Ирке вздумалось поехать в Москву поступать учиться «куда-нибудь». Поступить она, конечно, никуда не поступила, но за этот короткий период времени успела встретить Витю, студента циркового училища. Витя взял Ирку замуж сразу же, в том же голубом в белый горошек платьице. Он полюбил ее такую дурацкую, какая она есть, и сделал из Ирки цирковую артистку. Теперь она ассистирует Вите, у них даже отдельный номер, «свой», как гордо рассказывала Ирка по телефону. Кажется, номер заключается в следующем: Ирка держит в зубах сигарету, а Витя гасит эту сигарету ударом хлыста. Или каната. Я не очень понял бестолковое Иркино объяснение, но, собственно, мне-то что! Худсовет этот номер принял, значит, и слава богу… Ирка с Витей постоянно разъезжают, у них гастроли и бурная цирковая жизнь, а Маргарита тихо растет в нашем доме и теперь уже совершенно очевидно, что останется со мною навсегда.
* * *
Я сидел за письменным столом и быстро, одной нервной линией рисовал на дедовской записочке с нужным телефоном ужасные морды. Тут вошла баба, обняла меня за шею и поцеловала в затылок.
— Ба, ну я не могу больше! — взвился я. — Ну чего он чушь порет!
— Саня, ты же знаешь деда, — сказала баба и стала, как в детстве, хлопотать над моим чубом — то убирала его со лба набок, то разглаживала опять, — он переживает за тебя, за Маргаритку… Мы ж и в самом деле не вечные, Саня. Останетесь вы с ней одни.
— Начина-ается! Со святыми упокой.
— Ну не раздражайся, не раздражайся, — она быстро и мягко гладила меня по плечу, — ты взгляни правде в глаза и поймешь, что дед прав. Ну, какой из тебя следователь? Ты такой мягкий, добрый…
— Маленький, — продолжил я, — метр шестьдесят…
— Дело, конечно, не в росте. Да ты, Саня, и сам сбежишь оттуда, не выдержишь.
— Выдержу! — упрямо сказал я и дернул головой, чтобы баба не теребила волосы, хотя мне это было приятно. Помимо преподавания географии, баба всю жизнь вела классное руководство. К нам до сих пор в самые неподходящие моменты являлись бывшие ученики с букетами цветов. Почему-то они приходили целыми выпусками, человек по пятнадцать, и весело толпились в нашей маленькой квартирке. И надо было их принимать, поить чаем, мыть после них полы. Баба очень тосковала по воспитательной работе.
— Ты должен крепко встать на ноги в материальном смысле, — продолжала она, — а там, в метро, премии, Саня, и тринадцатая зарплата.
— Баба, не обрабатывай меня! — попросил я.
— Прекратятся эти кошмарные дежурства, когда мы с дедом всю ночь не спим и ждем тебя с валидолом в зубах.
— Ну, никто не виноват, что вы — комедийные персонажи. Не налегай на меня, пожалуйста, позвоночник хрустнет.
— Ну, хорошо! — решительно сказала баба. — Зайти-то ты можешь к этому человеку, поговорить?
— Зачем?
— Может, тебе там приглянется… Я молчал, продолжая рисовать одной линией клыкастые морды.
— Саша! Ради меня!
— Сказал — не пойду, значит, не пойду! — буркнул я. За моей спиной воцарилась пауза, полная оскорбленного достоинства.
— Ладно, Саша, — сказала баба, смиренно вздохнув, — тебе видней. Может, действительно, не стоит… Может, в этой милиции твое призвание. Ладно, не ходи.
— Ну хорошо, пойду, — я просто не вынес ее горя.
— Зачем, Саша, если душа не лежит?
— Сказал — пойду, значит, пойду! — буркнул я. Баба замерла за моей спиной, еще раз контрольно вздохнула, чтобы я не вздумал забыть о ее горестной озабоченности моей судьбой, потом поцеловала меня в макушку и вышла.
* * *
Секретарша — глазастая, с милым носиком и округлым подбородком — этакая Ярославна, стриженная под пятиклассника, княжила на государстве телефонных аппаратов. Она манипулировала цветными трубками с потрясающей ловкостью и этим напоминала уличного регулировщика с большим стажем. Я спросил у нее, кинематографически кивнув подбородком на дверь кабинета:
— У себя? Секретарша почесала карандашом в мальчишеском чубчике и спросила буднично:
— А вы кто?
— Я по поводу устройства на работу. Юрисконсультом.
— А, — сказала она, — сейчас… — Поднялась и ослепила меня разрезом на джинсовой юбке. «А что, — подумал я, — может, и вправду остаться здесь работать?» Она выглянула из кабинета и так же буднично сказала:
— Заходите. И я вошел в вольер ко льву. Лев восседал за нескончаемым, как посадочная полоса, столом, положив лапы перед собой, как египетский сфинкс. У него была большая, массивная морда с жесткой всклокоченной гривой, по обе стороны мясистой переносицы самостоятельно и проворно жили глазки — себе на уме. Я поздоровался и назвался. Он, не поднимаясь, качнулся мне навстречу и сказал:
— Так. Александр Ни-ки-фо-ро-вич… — он тщательно проговаривал все буквы моего нестандартного отчества, казалось даже, он добавлял где-то в середине два-три лишних слога и любовался, как это славно получается. Наматывал мое имя-отчество, как ленточку серпантина, на палец. — Значит, Александр… Никифорович… Не слишком ли вы молоды для нас?
— А что? Вообще-то у меня диплом с отличием… — почему-то робко возразил я, как будто и в самом деле стремился во что бы то ни стало устроиться под его львиной лапой.
— Да? Ну, добро, добро… Здесь вот какая штука, Александр Никифорович… Вы где работаете?
— Я работаю следователем отделения милиции Кировского района, — ответил я, стараясь глядеть на него пристально, тем самым внушая уважение к своей кандидатуре. Он хмыкнул, запустил тяжелую лапу в жесткую гриву и поскреб там.
— Ну и как? — спросил он. — Всех переловил?
— Кого? — тупо спросил я, продолжая сверлить льва взглядом дрессировщика.
— Да, ну ладно… — спохватился он, — у нас, Александр Никифорович, видите ли, семь надомников в разных концах города, но это меня совершенно не устраивает. Нужен юрист, который бы выполнял работу за этих бездельников. Не скрываю, депо хлопотное. Возможно, где-то, в чем-то придется выполнять и функции снабженца. Предупреждаю: будут частые поездки в Москву. Очень частые. Очень. Скажем, вызываю я вас завтра и говорю: «Александр Никифорович, нужны трубы!», и вы летите за трубами. Потом вызываю послезавтра и говорю: «Александр Никифорович, нужен кабель!», и вы летите выбивать кабель.
— Понятно, — сказал я.
— Квартиры — предупреждаю сразу — не будет. А то вы все думаете, раз метро, так сразу и квартира.
— У меня есть площадь, — сказал я.
— Ну и прекрасно… — почему-то расстроено проговорил он, но вспомнил что-то и радостно встрепенулся: — Кабинета я вам не дам, взять неоткуда. Будете сидеть в комнате с четырьмя столами, каждый со своим норовом. А вскоре надеюсь выбить расширение штатов и тогда найду вам хорошего начальника.
— Спасибо, — сказал я. Тут в дверь заглянул паренек, щуплый и утомленный, и лев обрадовался:
— Во! Это заместитель главного инженера Леонид Осипович. Знакомьтесь. Леонид Осипович введет вас в курс дела. Леонид Осипович затравленно сунул мне вялую руку, как будто это была не рука, а некий неловкий конвертик, и попросил сигарету. Мы вышли покурить, и я спросил у него:
— Слушай, честно — работенка скандальная?
— Ужасно, — вздохнув, признался он. — Нервотрепка, предпусковой год. А сейчас кольцевую линию будем строить, каждый год станцию сдавать. Вот и считай, что этих предпусковых годков вперед лет на пятнадцать наберется… А ты загнешься, парень. Они ж воруют, гады! Воруют — только отвернись! — и добавил тоскливо: — У нас же мрамор, понял? На могилы.
— На какие могилы? — спросил я голосом, каким старался говорить на допросах.
— Ну, на памятники… Ужас, сколько тащат! И перепродают. — Он взглянул на часы, ахнул, ткнул окурок в пепельницу на столе секретарши и, не попрощавшись, выбежал. А я вернулся в вольер ко льву. Когда я вошел, он сидел, полуотвернувшись, и говорил секретарше:
— Никаких благ ему не обещайте, а то будет драть с нас, — обернулся и, поняв, что я слышал, изобразил участливое выражение лица, вследствие чего мясистые массы задвигались во всех направлениях — параллельных и противоположных.
— А, Александр Никифорович! Ну как, поговорили? — ласково спросил он, и глазки его зашныряли туда-сюда, соображая что-то свое. Но я не дал им ничего сообразить, потому что разозлился.
— Да, — сказал я. — Мне очень нравится у вас, но боюсь, что я вам не подхожу.
— Почему же? — озабоченно спросил лев. — Мы в вас заинтересованы.
— Знаете, специфика работы юрисконсульта…
— Разберетесь! — он хлопнул по столу.
— Возможно, но, все-таки, слишком частые поездки…
— Не такие уж и частые! Мне стало весело. «Ах ты, мой хороший…» — подумал я, любовно оглядывая его гриву, и сказал:
— И потом, знаете, я человек взрослый, у меня обстоятельства могут измениться. В смысле семейных дел…
— Ну, Александр Никифорович… — забормотал он, гоняя глазки из угла в угол. — Что же, квартира — это дело наживное. Обмозгуем, конечно…
— Я подумаю, — пообещал я. Он проводил меня до дверей и на прощание потрепал по плечу тяжелой своей лапой.
— Лилия Константиновна, проводите, — велел он секретарше. Она деловито кивнула головой мальчика-хорошиста и пошла впереди меня, как будто я не нашел бы двери. Она была удивительно бесстрастна. Ни капли интереса в чистеньких серых глазах. Я попытался представить, что бы сейчас произошло, если б я ущипнул ее. Нет, в самом деле, я совершенно не представлял ее реакции.
— До свидания, — она мазнула по мне безразличным взглядом. «Ущипнуть и поглядеть — что будет» — подумал я и сказал накрахмаленным голосом:
— До свидания.
* * *
Я вернулся как раз в обеденный перерыв. Гришка Шуст со своей Лизой не дождались меня и ушли обедать в столовую трикотажной фабрики. Это рядом, и кормят приличней, чем у нас, комплексными обедами. А я из-за двух совершенно зря перехваченных в пути чебуреков есть не хотел, сидел в кабинете и листал дело Юрия Сорокина, потому что после обеда собирался к нему в тюрьму, на допрос. Я открыл ящик стола и обнаружил там утренние лимоны. Они выкатились из кулька и свободно раскатывались по пустому ящику. Отрадный глазу желтый плод, подумал я, прохладный и шершавый, полезай в портфель. А из портфеля вытащил наконец целлофановый пакетик с деньгами — вещественное доказательство по делу о спекуляции, которое я зачем-то таскаю с собой вот уже два дня. В сундук его, в сундук! Я пересчитал пачку: трешки, рубли и мятый тряпичный четвертак — итого сто девяносто шесть рублей. Открыл небольшой кованый сундук в углу — он у нас вместо сейфа — для «вещдоков», и положил пачку. Возможно, сундук и сам был когда-то вещественным доказательством в каком-нибудь давно забытом деле, а потом вот, пригодился. Никогда он не пустует, железный гроб, вечно полон «подарочками»… В детстве в наш старый двор часто приезжал Шара-Бара на тележке, запряженной унылым, покорным судьбе ишачком. Шара-Бара был старый сухонький узбек в линялом, засаленном на локтях халате, в затертой тюбетейке. Вот из-за угла показывался ишачок: мерно цокая, выходил в середину двора, к большой песочнице. Старик чмокал, дергал вожжи и неожиданным для своей убогой фигурки, мощным воплем раскатывал:
— Ша-ар-ряа-а — Барр-ряа-а! Путылкя та-щи-и! Этот призывный вопль был для нас, ребятни, радостным кличем, неким гонгом удачи, знаменовавшим открытие сказочного торга, пиршества удовольствий. Это был призыв к веселию и деятельной радости бытия. Бутылки, пустые целые бутылки без малейшего изъяна и ничего кроме! Ни деньги, ни что-либо другое — только пустые бутылки! За бутылку у старика можно было приобрести какую-нибудь уникальную вещь — трещотку или свистульку с одновременно выдувающимся шариком, или красного глиняного козла, или… Бог знает, что можно было обменять на пустую бутылку! Кажется, у козла сзади было отверстие для свистка, кажется, за козла старик брал две бутылки… Все содержимое сказочной тележки вместе с хозяином называлось «Шара-Бара». Зимой он не приезжал, только летом и в начале осени. Должно быть, зимой он занимался другим бизнесом. Да, зимой не приезжал, потому что помню себя — в трусах, босым, со сбитыми локтями и коленями, и я мчусь по раскаленному асфальту двора к вожделенной тележке, крепко сжимая за горлышки две бутылки из-под постного масла. Летом и осенью, — наверное, поэтому его появление было так сопряжено, так слито воедино с зеленью двора, с обжигающим ступни асфальтом, с иссиня-синим небом моего города.
Только буйная радость, только азарт обмена — пустая, никому не нужная бутылка на одно из волнующих чудес заветной тележки, только буйная радость, только азарт… Почему же каждый раз, заглядывая в наш сундук с «вешдоками», я вспоминаю тележку «Шара-Бара»? Отчего? Что за мучительная нить связывает их в моем воображении?
— Сашенька-а, приве-ет, — пропел за моей спиной женский голос.
— Привет, красотка, — сказал я, не оборачиваясь.
— Сидишь над сундуком, скупой рыцарь, — она подошла и обняла меня сзади за шею. — Маленький ты мой!
— Разомкни объятья, — сказал я, не шевелясь, потому что мне приятно было ощущать шеей и щеками шершавость ее свитера. — Сейчас войдет твой Шуст и зарежет меня одним из вещественных доказательств.
— Шуст к тебе не ревнует, — возразила она, захлопнула крышку сундука и села на нее. Теперь Лиза сидела лицом ко мне.
— Почему это не ревнует? — заинтересовался я. В лице ее мне чудилось что-то испанское — яркое и трагическое. Да что там — просто хороши были оливковые насмешливые глаза под летучими бровями и всегда печальные, даже в улыбке, губы. Лиза нравилась мне, поэтому в разговоре с нею я старался почаще упоминать Григория. Себе напоминал, на всякий случай. Гришка был женат, но любил не жену, а Лизу. Лизу любил, но и дочку свою четырехлетнюю любил. Так и жил вот уже два года, с тех пор как Лизу встретил. Вырывался к ней после дежурств, раз в неделю, все остальные дни они только смотрели друг на друга, как очумелые, да я вертелся между ними. Лизин сын Ванька называл Григория «папой».
— Мать-Испания… — сказал я, любуясь ее прелестным нервным лицом, — скажи, что отдать за тебя: коня? Фамильную шпагу? Презренную мою жизнь?
— Ну, как дела в метро? — спросила Лиза. — Договорился?
— Ага, — сказал я, — совсем было договорился, да понимаешь, секретарша там…
— Что секретарша? — насторожилась Лиза.
— Да вот, хорошенькая такая, ласковая, на шее повисла, на грудь припала, говорит, ах, какая у вас романтическая профессия — следователь, у вас, наверное, и наган есть? Прямо не представляю вас без нагана, говорит…
— Врешь ведь? — засмеялась Лиза.
— Ты лучше скажи, почему это Шуст тебя ко мне не ревнует, а? — переспросил я.
— Ты маленький, — ласково объяснила Лиза. Говорила она быстро, с придыханием, с мягким «г». — Ты мой хорошенький, лапонька моя, сыну-лечка-пупулечка…
— Что за гадости ты говоришь мне, Лизавета? — возмутился я. — Твой Шуст занимался только на два курса раньше меня!
— Все равно, он взрослый, а ты маленький. Надо тебя женить.
— Меня женить трудно, Лиза. Я женщина с ребенком. Тут вошел ее ржаной красавец Шуст, и она сразу переключила все внимание на него.
— Гришенька, — проворковала Лиза, — в чем это ты рубашку извозил? Нет, не здесь, на локте?
— Ладно, ребята, я в тюрьму поехал, — сказал я, собирая в портфель бумаги. — Если кто придет — буду часа через два.
— Да не на этом локте, а на том! Гришка выворачивал локти, как кузнечик. Я посмотрел на них обоих, одурелых от безвыходной любви, и вышел из кабинета.
* * *
Прежде чем сесть в автобус, я зашел в гастроном напротив, за «Примой». Такое уж у нас было неписаное правило — едешь на допрос в тюрьму, вези подследственному курево. Законом это, конечно, не предусматривалось.
В гастрономе стояла небольшая очередь за окороком, и я, конечно же, побежал туда и пристроился крайним. Впереди меня стоял мужчина со свинцовым лицом, помеченным множеством ссадин. Иные были свежие, иные зажившие. Волосы его — серые, редкие, свалялись в косички. Он был уже «хороший», и поэтому преувеличенно трезвым голосом зычно покрикивал:
— Левко! Я здесь! Левко! Левко — старая, когда-то белая, лет десять немытая болонка бегала по гастроному и обнюхивала покупателей. Шерсть ее, как волосы на голове хозяина, свалялась в бурые косицы, а влажный нос был любопытным и озабоченным.
— Левко! Я здесь! Болонка бросилась на голос хозяина, остановилась у ног и подняла вверх косматую морду. Она с любовью смотрела в испитое лицо, она плевать хотела на все в мире, только бы он — ее кумир, ненаглядный божок, был доволен ее собачьим усердием. Мужчина купил триста граммов окорока и две бутылки «Российской».
— Левко, пойдем! — не оглядываясь на болонку, скомандовал он, и Левко бросился следом. Через большое окно гастронома вся очередь наблюдала, как они переходят дорогу. Мужчина зыбкой походкой пропойцы, болонка — подобострастной трусцой. И даже на расстоянии видно было, как беззаветно, страстно, трепетно любит она это опустившееся, быть может, никому уже, кроме нее, не нужное существо… Проехала машина, увлекая за собой шлейф иссохших коричневых листьев, прах лета…
* * *
Автобус остановился напротив здания тюрьмы. От остановки было видно, как по крыше розового следственного корпуса прогуливались голуби. Я вынул из кармана пропуск и пошел к воротам. Во внутреннем дворе, возле дверей кухни стояла телега, запряженная белой тюремной клячей. Изольда уже лет семнадцать возила арестантам продукты, вот и сейчас на телеге стояли две бочки с квашеной капустой. Изольда тупо смотрела себе под ноги, где бойко перескакивала через вонючий ручеек трясогузка, туда и обратно, туда и обратно. Изольда лениво подергивала хвостом, отгоняя мух, и было заметно, что ей неприятно это суетящееся существо под ее худыми старыми ногами. Выводной сегодня дежурила Наташа — огромная сильная женщина лет тридцати пяти, с челкой и медленным взором наивных зеленых глаз. Арестанты ее боялись и по коридору к камерам шли молча, аккуратно. Я зашел в свободную, одиннадцатую камеру и ждал, когда Наташа приведет «моего». Было тихо, лишь через маленькое зарешеченное окошко под потолком еле слышно доносились «ладушки» — высокий женский голос что-то кричал на волю, слов было не разобрать. Сейчас Наташа приведет Юрия Сорокина… Сорокин, четвертая судимость. Три кражи, одна — угон автофургона. В армии служил в десантных войсках. Отец — подполковник. Говорил я с этим подполковником. Маленький, сухой, с твердым подбородком и крутым гофрированным лбом, он смотрел на меня измученными, ничему не удивляющимися глазами и кивал каждому моему слову. На сыне поставил тяжелый окончательный крест, и на все вопросы отвечал:
— Что хотите… Как хотите… Массивная дверь камеры тяжело открылась, вошел Сорокин. Наташа прислонилась к косяку могучим круглым плечом, спросила лениво:
— Ну? Когда забирать?
— Спасибо, Наташа. Попозже. Я скажу… Она молча повернулась и вышла.
— Садись, Юра… — кивнул я.
— Саша, закурить не будет? — он был оживлен, улыбался. Я открыл портфель и бросил на стол пачку «Примы».
Симпатяга он, Юра Сорокин — сам здоровенный, а улыбка мягкая, ироничная, глаза внимательные. С ним можно поговорить на любую тему, он прекрасно разбирается в литературе, особенно в иностранной. Непонятно, когда успел начитаться, вероятно, между отсидками. Никак не могу в нем разобраться. Я охотно представил бы его своим сокурсником, сослуживцем. Даже бритый наголо, Сорокин выглядел вполне интеллигентно. Он сидел на деревянной скамье у стены и курил жадно и весело. Я бы даже сказал — отдохновенно.
— Дай-ка и мне сигарету, — попросил я.
— На, кури… Будешь потом своей девочке рассказывать, как курил с уголовной рожей. Я промолчал на это, закурил и раскрыл папку с делом.
— Ну что, опознала она стекляшки? — словно невзначай спросил Сорокин.
— Нет, Юра… Путается. Говорит, вроде мои, а может, не мои.
— Дура, — спокойно отреагировал он, — Если б ей этот хрусталь дорого достался, каждую вазочку наизусть бы помнила.
— То-то тебе он дорого достался. Он усмехнулся и вытянул ноги почти до противоположной стены камеры. Я еще раз взглянул на фотографию в деле Сорокина: он возле серванта в ограбленной им квартире показывает, где стояли три хрустальные вазы, те, что успел забрать. Выражение лица на фотографии странное, необычное для него — тупое и покорное, как с перепоя.
— Нет, Саша, я тебе и в прошлый раз говорил: надоело… Ей-богу. Я здесь целыми днями про жизнь думаю… Старая песенка. Думает он.
— Ну и что ты думаешь о своей жизни?
— Работать буду… Как выйду, пойду вкалывать, на вечерний поступлю. Жизни жалко. Отца жалко. Отца ему жалко. Сказки Арины Родионовны.
— Ну, смотри, Юра… Я могу помочь с работой.
— Буду на тебя надеяться. А куда бы, например, можно? — полюбопытствовал он.
— Ну… посмотрим… — я замялся и вдруг сказал: — В метрострой хотя бы. Там люди нужны. Он кивнул и затянулся сигаретой. Слишком он был спокойным и веселым, Юра Сорокин. Легко и подробно рассказал все, как было. На каждом допросе охотно добавлял новые подробности. И это настораживало. На забубенную башку Сорокин похож не был. Я вспомнил, как началось для меня дело Сорокина. После обеденного перерыва встретился на лестнице Сережа Темкин и сказал:
— Беги, торопись в объятия. Там тебя раскрытая кража дожидается. Здорро-овый такой амбал! Рецидивист, Юрий Сорокин. При задержании так меня звезданул — до сих пор звон в ушах. Я вошел в кабинет и увидел Сорокина. Он сидел и писал, неловко бряцая по столу наручниками. Гришка Шуст молча поднял на меня глаза и кивнул в его сторону.
— Знаю уже, — сказал я. — Ну что, Юра, ты, оказывается, на милиционеров бросаешься! Он поднял голову от бумаги, внимательно посмотрел на меня и молча продолжал писать. Потом рысцой в кабинет забежал пострадавший, Рафик — черные глазки, сухонькие ручки, черные брючки-клеш и под ними нечищеные строительные ботинки. Он подскочил к Сорокину и затараторил гортанно:
— Юра! Ну, тпер всю жизн будт твой благодарнст, что ты мне обокрал! Сорокин лениво поднял на Рафика глаза и сказал спокойно:
— Отойди, трещотка… Рафик работал на строительстве. В ту субботу жена выдала ему рубль на парикмахерскую, а сама побежала в ГУМ, потому что соседка справа, у которой сестра работала в ГУМе уборщицей, сообщила, что в субботу там выбросят какой-то дефицит.
Шел, значит, Рафик с рублем по двору, и попался ему навстречу полузнакомый знакомый Юра, то ли когда-то жили по соседству, то ли где-то работали вместе, сейчас уже и не упомнить. Во всяком случае, он знал Рафика по имени и попросил у него рубль. Так и сказал.
— Рафик, — сказал, — дай рубль. Выпить надо. Рафик признался, что рубль у него есть, но жена дала его на парикмахерскую, чтобы Рафик постригся и не ходил патлатым, как шайтанка, потому что жена его такого видеть уже не может. Знакомый Юра посоветовал жену вместе с парикмахерской послать куда подальше, и пообещал постричь Рафика, как в Париже, и даже достал из кармана пиджака маникюрные ножнички, чтобы Рафик не сомневался. Тот согласился, рубль вынул, и они пошли в магазин, а по пути встретили еще одного знакомого, имени которого Рафик припомнить сейчас не может. На пустыре, за ларьком по приемке стеклотары они выпили, и все было хорошо, разговор шел интересный. А потом Юра попросил напиться. Ну, просто напиться. Воды. В этом месте Рафик оборвал рассказ, опять скакнул черным галчонком к огромной спине отвернувшегося Сорокина и затараторил:
— Вот, Юра, какой ты мне благодарнст дал… Как в мой квартир вода напилса. Итак, Рафик привел друзей домой, дал им напиться, а сам признался, что хочет вздремнуть, и прилег на диван, в столовой. Юра и друг с позабытым именем не стали ему мешать и сразу ушли. Это Рафик помнит точно. Он прилег на диван, а в прихожей хлопнула входная дверь и все затихло. Соснул Рафик хорошо, часика три. Разбудила его собственная разъяренная супруга. Рафик долго не мог понять, в чем дело, потому что жена, вцепившись в те самые патлы, для которых утром был выдан рубль, колотила мужнину голову о валик дивана и исступленно кричала:
— Шайтанка! Где посуд? Где посуд? Исчезли, как выяснилось, три хрустальные вазы и новая югославская кофта, итого за все про все рублей на триста. Сам Сорокин рассказывал неторопливо, скучающе. Ну, пошел он к Рафику воды попить. А этот сморчок так упился, что ключ в замке позабыл. Сам виноват, лопух. Ключ Юра приметил сразу, и когда они от Рафика вышли, спокойненько ключ вынул. Безвинного алкаша, имени которого категорически не помнит, он турнул домой, а сам, повременив маленько, зашел к Рафику, ну и… дальше понятно — что. Торопился, боялся как бы Рафик не проснулся, взял, что на виду было. В этот же день он загнал кофту и стекляшки базаркому Кашгарского рынка Юсуфу-ака. Да его все знают, здоровый такой, мордастый. Он скупает вещички, потом загоняет их спекулянтам. Дает, правда, гроши, но когда надо срочно сбыть товар, этот мордастый незаменим. Юре он дал за все пятьдесят рублей…Базарком Кашгарского рынка — айсберг с красной физиономией — завидев из окна своей будочки наш милицейский «попугай», выскочил навстречу, кланяясь и прижимая руки к груди:
— Драстыйтэ, товарищи, драстыйтэ! Когда из машины вслед за милиционером вылез Сорокин в наручниках, он и глазом не моргнул. Значит, успел, стервец, загнать вещи барышникам.
— Вот ему продал, — спокойно кивнул Сорокин. И тут айсберг взорвался.
— Бродаг ты! Сволишь! — он то подступал к Сорокину так близко, что, казалось, притрет того к «попугаю» своим огромным животом, то отскакивал назад, ко мне. Он плевался, хватался за сердце, грозил Сорокину кулаком и вообще был великолепен.
— Ты зачем брешишъ, бродаг! Ты верно скажи! Ты правда скажи! У меня, товарищ началник, давлений высокий, мне так перживат из-за этот сволишь нельзя!
— Да хватит тебе прыгать, — негромко и скучно сказал Сорокин. — Об твою морду прикуривать можно.
Пока, не жалея своего здоровья, Юсуф-ака разыгрывал представление, из синей его будочки выскочил мальчишка лет десяти и побежал в сторону цветочных рядов.
— Самиг, — сказал я милиционеру, — ну-ка, проводи мальчика. За цветочными рядами здесь ежедневно собирался небольшой толчок — продавались поношенные вещи, старушки стояли с вязаными детскими чепчиками и носочками. Мальчик мог побежать в сторону толчка совсем не зря. И действительно, минут через десять Самиг привел высокую черную старуху с огромной, набитой до отказа сумкой. Старуха останавливалась на каждом шагу и отчаянно материла Самига. Увидев ее, Юсуф-ака сник и разом перестал жаловаться на высокое давление. В сумке у старухи обнаружилась кофта Рафиковой жены и две хрустальные вазы. Третью старуха успела загнать за шестьдесят рублей… Словно очнувшись, Сорокин оторвал взгляд от стены: — Так что, Саша, к концу катим?
— Да, Юра. Скоро составлю обвинительное заключение. Я ведь, собственно, сегодня приехал только, чтобы узнать — кто этот второй с тобой был, алкаш тот?
— Ой, Саша, и охота тебе сто раз об одно колотиться! — весело воскликнул он. — Я тебе, как брату родному — не знаю — говорю! Первый раз видел. Алкаш и алкаш. В долю вошел. Тихий такой, глазки масляные. Может, покуривает чего нехорошего, не знаю… Ме-едденный такой, снулый…
— Что, и не называл себя, для знакомства? Сорокин взглянул прямо в глаза мне, открыто, искренне:
— Да, называл, вроде, я не помню. Толик, что ли… или Боря… И продолжал смотреть в глаза.
— Ну, ладно, — я закрыл «дело».
— Что новенького, Саша?
— В каком смысле? — спросил я.
— В глобальном. Что новенького в мире… в литературе, например. Что «Иностранка» печатает? Я подпер голову кулаком и взглянул па него с любопытством.
— В «Иностранке» новая повесть Маркеса.
— А что Маркес!.. — он пожал плечами. — Все с ума посходили. — Маркес, Маркес! Этнографический писатель. Этнография плюс патология. Если хочешь знать, у Амаду есть вещи в сто раз значительнее. Он сидел в непринужденной позе, рассуждал о прозе Амаду и стряхивал на пол камеры пепел с сигареты — руки у него были сильные, большие, красивой лепки. Я перевел взгляд с его рук на стены, крашенные темно-зеленой краской, на зарешеченное окошко под потолком и даже головой тряхнул, — таким нелепым показался мне этот разговор здесь.
— Так теперь когда тебя ждать, Саша?
— В среду, наверное…
— В среду, да? В среду… Долго… — он вздохнул, поскреб короткую щетину на затылке и с хрустом потянулся. Я вышел в коридор и крикнул прогуливающейся Наташе, чтоб забрала Сорокина. На дворе старая кляча Изольда все так же стояла, смиренно потупившись и вяло дергая хвостом.
— Сахару нет, — сказал я ей. — Забыл привезти. Сигаретой же тебя не угостишь. Изольда переступила с ноги на ногу и отвернула морду. Я сидел и ждал автобуса на крашеной лавочке, в тени под старым ясенем. Я всегда сидел здесь после допросов. Посидишь так, посмотришь, как по крыше тюрьмы прыгает живая птичка — и глядишь, отпустит тебя немного, пройдет это странное отупение, онемение души. «Этнография плюс патология», — вспомнил я.
«Дед прав, — подумал я, — мне нужно устраиваться юристом в какой-нибудь пищеторг, для пущей сохранности моей нежной души… Гришка выбил бы из этого Сорокина все, что нужно». Было пасмурно, небо набухало, как тесто в кастрюле — вот-вот вывалится через край.
* * *
Сегодня я оставался дежурить. Вечером, после комсомольского собрания, мы с Григорием заперли сундук с «вещдоками», потом заперли кабинет и пошли по нашему длинному коридору. Здесь мы должны были расстаться, мне лежал путь в дежурку, а Григорию — в лоно семьи. Но он вдруг придержал меня за плечо и сказал:
— Сань, пошли поужинаем в «Ветерке»? Можно было бы изобразить удивление по поводу ужина в «Ветерке», в то время как дома Григория сейчас наверняка дожидаются какие-нибудь голубцы или борщ. Но я удивления изображать не стал. Потому что, наверное, наступил сегодня момент, когда Гришку «приперло». Это уже несколько раз на моей памяти случалось, и тогда мы с ним шли ужинать в «Ветерок», и брали там выпивку и сидели долго, до закрытия.
— Гриш, мне же сегодня дежурить.
— Мы недолго, хрыч, — сказал он и сжал крепко мое плечо. — Ты успеешь. А? — Круто, видимо, его прижало… И мы пошли в «Ветерок». Сели за столик почти у двери, подальше от эстрады, потому что по опыту знали, что через часок-полтора сюда нагрянет ухватистое трио с хорошо сохранившейся бабушкой-солисткой, которая будет оглушительно страдать в микрофон, и тогда уже ни поговорить, ни послушать друг друга… Мы заказали по сто водки, салат и бифштексы, потому что у нас не густо было в этот вечер — у меня трешка, да у Гриши пятерка с мелочью. Официантка записала заказ тонким карандашом в блокнот, как какая-нибудь юная журналистка, и метнулась дальше вдоль столиков. Гриша не торопился. Мы закурили, поговорили о Сорокине.
— Гришка, — спросил я. — А отчего Сорокин такой веселый, такой спокойный сейчас? Не то, что в первые дни…
— А ты посмотри получше, не тянется ли за ним какое-нибудь дельце поинтересней.
— Что ты, не похоже! — возразил я. — Мне и так тошно делается каждый раз, когда уезжаю от него. Неплохой ведь парень, умный, думающий. В десанте служил. Видел, какой здоровый?
— Видел, видел твоего десантника… Здоровый… Такой прихлопнет приемчиком, какому его обучили, и с приветом. Советую: покопайся. Он не зря так повеселел, твой десантник. Официантка принесла заказ, и мы сразу рассчитались.
— Эх, — сказал Григорий, забрасывая в карман рубашки оставшуюся мелочь, — буду я когда-нибудь богатым или нет?
— Знаешь, мне недавно взятку совали, — вспомнил я. — Толстая такая тетка, в парике, на Ломоносова похожа. Вызвала в коридор и сует мне конверт. Сынок у нее задержан, понимаешь, с анашой в правом ботинке. Ну вот, сует она мне конвертик, а я, вместо того, чтобы сказать ей: «Трам-тара-рам, сучья тетенька, пошла ты со своими вонючими купюрами к такой-перетакой матери», стою, как болванчик механический, и долдоню казенным голосом: «Вы оскорбляете достоинство советского следователя». Григорий усмехнулся:
— Она подумала, что мало дала… Помнишь Ерохина? А, ты его не застал. Он мне говорил всегда: «Ничего, Гришутка, пообтесаешься, заживешь как все…» Думаешь, я сначала не метался, как ты, когда столкнулся со всем этим быдлом? Я долго привыкнуть не мог, уходить собирался.
— Гриш, — спросил я, — а правда, что ты два курса политеха бросил и в юридический подался?
— Угу, — спокойно подтвердил он и подцепил вилкой бледный дырявый диск помидора. — У нас соседа, дядю Петю, убили. И тех гадов не нашли… Я удивленно посмотрел на него.
— Так ты что… Из-за этого? Он отложил вилку и спокойно, медленно проговорил:
— Мы с дядей Петей двадцать лет стенка в стенку прожили. Он с получкой домой возвращался, и его убили. Понимаешь? — Григорий поднял на меня слишком спокойные, угрюмые глаза. — Дядю Петю, который со мной задачки решал и голубятню строил… Нет, ну я не сразу, конечно… Месяца два еще помаялся, посидел над чертежами, кажется, даже курсовую сдал… Мама плакала, очень хотела, чтоб я инженером был.
— Не жалеешь? — спросил я. Он хмыкнул.
— Да нет, — себе ответил, не иначе. Слишком твердо это у него получилось. — Иногда только проснусь ночью, а ночью, сам знаешь, многое диким кажется, неестественным… Лежу, думаю: «Ты! Ты кто? Судия? Святой? Ты кто такой, чтоб судьбами провинившихся ведать?» А днем — ничего, привык… Делаю дело, которому обучен… Хотя… — Он вздохнул, взял кусочек хлеба и разломил его, внимательно посмотрел на губчатый белый разлом. — Привели недавно, на дежурстве, задержанного. Бродяга. Нос красный, сопливый, все лицо в какой-то коросте, бормотухой от него разит, словом, статья 198, часть 3. И вдруг я узнаю, что он моего года рождения. И вот я сижу, смотрю на него и думаю: «А ведь мы с ним в один год в школу пошли. Он, как и я, портфель таскал, а в портфеле — пенал, а в пенале — точилка, и резинка, и карандаш… Он чувствует так же, как и я, он счастья хочет, почему ж я его судить должен? По какому праву? За то, что его жизнь в какой-то момент каким-то обстоятельством по башке шарахнула? Ну какое имею право я — чистый, выбритый, ухоженный, двумя женщинами любимый… — тут его голос осекся, он отвернулся от меня и разом опрокинул в рот рюмку водки. И я понял, что мы пришли к тому разговору, ради которого Гриша затащил меня в «Ветерок». Собственно, не новый это был разговор, не новый. Да и не ожидалось ничего нового в Гришиной жизни.
— Ты с Лизой поссорился? — спросил я его.
— Лиза права, — сказал он, — невозможно сидеть на двух стульях. Так когда-нибудь брякнешься и задницу отобьешь.
— Ну, — я знал но опыту, что Гришке не нужны мои советы. Не за советами он потащил меня в бездарный «Ветерок». Гришке нужно было выговориться, чтобы сидел напротив человек с родным лицом, чтобы кивал, не перебивал и все понимал. Поэтому я время от времени только подбрасывал междометия в сумбурную горечь его слов, как подбрасывают полешки в костер.
— Не могу, понимаешь… — говорил он, — выпутаться не могу. Все головоломки день и ночь кручу, такие штучки, знаешь, — как из трех спичек сложить четырехугольник или что-то вроде этого. Как из нас троих, несчастных, хоть что-то толковое смастерить. И ничего не получается.
— Ну?
— Не могу я! Понимаешь, жалко мне Галю, до слез, но, боже мой, если б ты знал, как она меня раздражает! Каждое слово, каждое движение! Ничего с собой поделать не могу! Она плачет тихо, как мышка, и я знаю, что я, подлец, ради Аленки должен в узел завязаться, с работы уйти, Лизу больше не видеть. На колени, что ли, бухнуться, прощения просить, не знаю… Но она плачет, а я смотрю на нее, слышь, Сашка, и мне ее ударить хочется, или заорать, или разбить что-нибудь. Еле сдерживаюсь.
— Ты в психушку попадешь, — сказал я. — Лучше уж уходи.
— Уходи! — горько усмехнувшись, повторил он. — А Аленка? Я сам без отца рос, знаю, как это сладко. Если б не Аленка… Вчера я ее спать укладываю, а она мне говорит: «Папа, когда ж мы с тобой пойдем в парк, погуляем и я спрошу тебя, почему листья падают? Должен же иногда человек поговорить с папой…» А я к окну отвернулся, в горле комок и ничего сказать не могу.
А то еще в последнее время я потихоньку привык к мысли, что у меня двое детей. Покупаю для Аленки карандаши и для Ваньки, обязательно такую же коробку. К лету собирался ей двухколесный велик купить, так теперь, думаю, и Ваньке велик нужен. Он же пацан, ему это дело до зарезу… Я представил себе, как Галя сейчас ждет его дома. То выходит на балкон, то прислушивается к шагам на лестнице. Я представил себе ее напряженное лицо и нервно сплетенные руки. И подумал вдруг — а что вечерами делает Лиза, одна, с Ванькой? Ждет утра, когда увидит своего Григория?.. Одна ждет вечера. Другая — утра.
— А ты? — спросил Гришка. — Вот тебе, Сань, отца часто не хватает?
— Не знаю, — я пожал плечами, — я как-то спокойно отношусь к отцу, как к знакомому. Он ведь почти сразу женился после маминой смерти. Ну и мы никто его не осуждали — ни я, ни Ирка, ни баба с дедом. А что ему? Он тогда молодой еще мужик был. Он в Волгограде живет, у него еще дочь есть, от второго брака. Понимаешь, сестра моя родная. А я этого никак ощутить не могу.
— Переписываетесь? — спросил Григорий.
— С праздниками друг друга поздравляем. Вообще, он приглашал приехать. А что? Вот соберусь летом, возьму Маргариту и съезжу. Все-таки внучка ему родная, пусть посмотрит. Гришка опять горько усмехнулся, отломил кусочек хлеба, хотел что-то сказать, но не сказал, только рыжие его роскошные усы задвигались над жующим ртом.
— Ну, пошли? — спросил я.
— Хоть бы меня пришил кто из наших клиентов, — не поднимаясь и не глядя на меня, тихо проговорил он.
— Молчи, дурак! — прикрикнул я, и тут с эстрадки вдарило буйное трио, и поднесла микрофон к вишневому рту бабушка-солистка, вся переливаясь змеиными чешуйками на платье. Дольше здесь не имело смысла задерживаться. И мы с Григорием поднялись и вышли. Темнело. Ветер гонял по асфальту большой сухой лист. Искореженный и твердый, лист застревал под скамейкой, закатывался за телефонную будку и замирал там. Но ветер снова и снова, с какой-то увлеченной ненавистью выволакивал его из укрытия и гнал, как перекати-поле, по асфальту, дальше, дальше.
— Ты бы зашел когда-нибудь, — попросил Гришка. — К тебе Галя прекрасно относится, спрашивала, почему не приходишь. Посидели бы, потрепались… «Потрепались… — подумал я. — Нет, Гриша, не приду я. К тебе прийти — так это ведь в Галино лицо смотреть надо. А как смотреть?» К остановке подкатил «Икарус», медленно с шипением отворил двери.
— Твой автобус, езжай, — сказал я. Григорий впрыгнул на заднюю площадку и стоял там — огромный, красивый.
— Зашел бы. В субботу, — сказал он. — А, хрыч? Двери захлопнулись, и «Икарус» медленно пополз по дороге. Я видел, как Григорий качнулся в заднем, ярко освещенном окне, и ухватился за поручень.
* * *
В дежурной части уже сидели инспектор Аршалуйсян и сержант Ядгар — застенчивый, маленький и очень вежливый человек. В детстве Ядгар был беспризорником, и, может быть, поэтому ходил всегда осторожно ступая, слегка враскачку, вытянув шею, словно что-то высматривая, вызнавая. Посмотришь на него — Ядгар всегда «на стреме».
— Саша, где гуляешь? — строго спросил Аршалуйсян.
— Извините, Георгий Ашотович. Были вызовы?
— Два убийства и ограбление банка, — так же строго и спокойно проговорил Аршалуйсян.
— Шутит, — поспешно вставил Ядгар, застенчиво улыбаясь. Ворвался буйный, как всегда, Гена Рыбник — дежурный инспектор угрозыска, с оперативным саквояжем. Гена Рыбник держал в горах пасеку, и время от времени его физиономия видоизменялась — то бровь опухнет, то щеку раздует, то нос разнесет. Его спросишь: — Гена, что с тобой? Он вихрем проносится мимо, на ходу небрежно роняя:
— А! Пчелка! Гена влетел в дежурку, бросил саквояж на стул, сам хлопнулся на соседний.
— Гена, что со щекой? — сочувственно поинтересовался Ядгар.
— А! Пчелка! — махнул рукой Гена. — Что вызовы, были?
— Два убийства и ограбление банка, — спокойно и строго повторил Аршалуйсян. И опять Ядгар, не дав Гене дернуться, поспешил успокоить:
— Шутит.
— Хоть бы новенькое чего придумали, Георгий Ашотович, — ехидно сказал Гена.
— Не могу, дорогой. Толчок требуется, — невозмутимо отвечал Аршалуйсян. — Жду, когда пчелка укусит… куда-нибудь. Я стоял у окна и думал о Григории. Я знал его жену, Галю, знал Лизу, знал Аленку и Ваньку, и думал, как это мучительно, что никогда на свете, ни в какие счастливые будущие времена, если они, конечно, настанут когда-нибудь, так и не состоится счастья для всех разом.
— Разве это оперативный саквояж? — восклицал за моей спиной Гена Рыбник. — Это же хреновина, здесь нет магнитной палочки! Аршалуйсян останавливал его трескотню. Поднимал указательный палец и говорил торжественно:
— Ти-ха! У меня два уха!..В час ночи мы с Геной выехали на вызов. Улица Космонавтов, дом семь, квартира четырнадцать. Замечательный нам сегодня попался шофер, Володя. Он знал все переулки, все тупички и, наверное, мог проехать по городу с закрытыми глазами. Вот и этот дом — трехэтажный, старый, кирпичный он нашел сразу, и даже подкатил к нужному подъезду, словно всю жизнь приезжал сюда обедать. Мы оставили Володю в машине, а сами с Геной поднялись на третий этаж. Причем, пока поднимались по лестнице, Гена, не умолкая ни на секунду, рассказывал мне технологию откачки меда из ульев.
— Квартира четырнадцать? — я посмотрел в бумажку с адресом. — Квартира четырнадцать. А почему тихо? И тут бесшумно открылась дверь соседей слева, и кто-то неясный поманил меня пальчиком в темноту коридора. Это была белая бесшумная старушка. Она вся тряслась от ужаса.
— Гражданин милиционер, — горячо зашептала она, когда я вошел к ней. — Это я вызывала. Вы толкните ихнюю дверь, она не заперта. Убил он Катю, мерзавец, убил. Уже минут пятнадцать, как тихо. Я толкнул дверь, и мы с Геной вошли в прихожую. Везде — в кухне, в комнате, в прихожей, даже на балконе горел свет. На пороге комнаты, загораживая проход в коридор, стояло кресло. В нем развалился мужик в майке, в трусах. Голова его была откинута на спинку кресла, свисающая рука сжимала пустую бутылку. Я толкнул мужика в плечо, тот приподнял голову и зажмурился от света.
— Где жена? — спросил я его. Он присвистнул, закрыл глаза и опять уронил голову на спинку кресла.
— На базар ушла, — неожиданно весело и нагло проговорил он, не открывая глаз. Он был еще молод, лет тридцати трех. Запах спиртного, казалось, въелся даже в стены комнаты.
— Не морочь голову! Какой базар в два часа ночи? — стал выяснять у него Гена. Тогда я тряхнул пьяного и гаркнул:
— Отвечай, где жена? А ну, встань!
— Значит, улетела… — так же весело и даже удивленно проговорил он.
Тут меня осторожно тронули за руку, я обернулся и увидел бесшумную белую старушку.
— Гражданин милиционер, — зашептала она, — а вы посмотрите на балконе, в кладовке. Катя с Сереженькой всегда туда прячутся. Я вышел на балкон и открыл дверь большого стенного шкафа. С просторной верхней полки па меня испуганно смотрела молодая женщина. Она сидела, согнувшись в три погибели, а на коленях у нее спал мальчик лет двух.
— Катя, — сказал я. — Не бойтесь. Она торопливо кивнула и передала мне мальчишку. Он спал крепко, тихо, редкие шелковые прядки волос слиплись на выпуклом лбу. Соседка взяла у меня мальчика и понесла к себе.
— Катя, — повторил я, — слезайте, не бойтесь. Хотел помочь, но она отказалась: — Ничего, я сама, я привыкла, — и довольно ловко спустилась вниз. И я увидел, что она маленькая, беременная, с приличным уже животом. Голова растрепана, на щеке кровоподтек.
— Катя! Неужели нужно ждать, пока соседка вызовет милицию? Чего вы мучались? У вас же телефон.
— Нет, нет, — быстро заговорила она, судорожно пытаясь привести в порядок прическу. — Нет, товарищ милиционер, он не всегда такой… Он, вообще, хороший… Он знаете, какой слесарь — золотые руки! На работе его ценят, и…
— Гена! — крикнул я в комнату. — Одевай этого красавца, заберем его! Катя замерла с приоткрытым ртом, с поднятыми к голове руками.
— Как — заберем? Куда — заберем? — Тихо, испуганно повторила она, и вдруг все поняла.
— Товарищ милиционе-ер! — взвыла она. Обхватила меня обеими руками и, казалось, сейчас рухнет на колени. — Не увозите его, ради бога, он хороший! Он только иногда такой!
— Катя! — крикнул я, — как вам не стыдно! Вы сами знаете, что он подонок, вон, посмотрите на себя в зеркало!
— Нет! Нет! — рыдала она, и хватала мои руки, и удерживала на балконе. — Я умоляю вас! Умоляю вас! Он хороший! Я люблю его!
— Ну, что будем делать? — спросил Гена, заглядывая на балкон. — Давай закругляться. — Ему уже было скучно. Он оглядел Катину фигуру, покачал головой: — Девушка! Вам же будет спокойней.
— Нет! Нет! — вскрикивала Катя, содрогаясь от истерического плача, — не забирайте его! Я люблю его, он хороший! Пьяный валялся в кресле в той же позе крайнего изнеможения, бессмысленно щурясь, созерцал потолок. Я подошел к нему и наклонился над его потной мордой.
— Вот, слушай, — тихо проговорил я в эту морду, — скажи спасибо жене, я тебя сейчас не заберу. Но учти, еще один такой дебош, и я тебя засажу года на три. Понял? Он смотрел мимо меня, в потолок. Облизнул толстые губы и проговорил весело:
— Жоржик! Все понял! Я тряхнул его еще разок и зачем-то грозно повторил:
— Вот учти! Катя провожала нас в коридоре, всхлипывала, бормоча:
— Спасибо, товарищ милиционер. Он теперь будет спать, он — все, отбуянил…
— Катя, Катя, — буркнул я. Можно было сказать, что она враг себе, ему, своим детям, но я промолчал. Она стояла заплаканная, с кровоподтеком на лице, в тонком старом халате, что едва застегивался на животе, и — черт знает что! — выглядела счастливой.
— Он вообще-то хороший, — торопливо объясняла она. — Это он иногда, когда выпьет. А я уже знаю, я верхнюю полку в кладовке держу пустой и мы, если что — туда с Сереженькой прячемся. А он поищет-поищет и засыпает. Никогда не догадывается кладовку открыть…
Мы ехали назад, в дежурку, и я думал о том, что мне и вправду нужно уходить. Вот Григорий наверняка забрал бы этого мерзавца. А я — сопляк, рохля. Она, эта Катя, сама бы потом спасибо сказала.
— Поспать бы! — зевнул Гена где-то надо мной…В дежурке крутилось кино на всю катушку. Еще в коридоре мы услышали истерический тенорок:
— Мне сы-нилась та, с ква-дыратными гыла-зами, что сны мои па-ран-зительно вела… Захлебывающийся слезами женский голос и окрик Аршалуйсяна:
— Ти-ха! У меня два уха! На стуле полулежал мужик с узкими щелками глаз на черном лице, с мокрыми подвижными губами. Рука, с вытатуированным перстнем на среднем пальце, то и дело нервно отряхивала брюки.
— Мишка-Монгол, — тихо сообщил мне Ядгар, — шесть дней как из зоны и, видишь, уже устроил сожительнице и дочке веселую жизнь. Сожительница, как назвал ее Ядгар, еще молодая женщина, сидела в противоположном углу комнаты и плакала, сильно вздрагивая. Рядом сидела девочка лет шестнадцати, смуглая, узкоглазая, как отец, вся напружиненная. Мишка-Монгол говорил без умолку, то матерился, то пел, как будто внутри его расстроился какой-то механизм.
— Это мне не дочка! Это падла, слышала, доча? — аккуратно выговаривал он злорадным тенорком. — Я тебя, доча, собственными руками придушу. Женщина громко зарыдала, а девочка все также напряженно и прямо сидела, молча глядя на отца ненавидящим взглядом.
— А ну, молчи! — прикрикнул на Мишку Аршалуйсян. Тот встрепенулся и громко запел.
— Посадите его лучше, — вдруг сказала девочка негромко. — Я его все равно убью. Мишка-Монгол оборвал пение и ласково-изумленно уставился на дочь.
— До-оча! — ласково протянул он. — Ах ты, сука, доча! — и вдруг вскочил, сильный и гибкий, как пружина, кинулся в угол, где сидела дочь. Но Ядгар успел дать ему подножку, мы с ним повалили Мишку на пол, связали ему руки. Подскочил разъяренный Аршалуйсян, сильно наотмашь врезал Монголу.
— Георгий Ашотович! — я схватил Аршалуйсяна за руку, и он поднял на меня багровое от прилива крови лицо. Тяжело дыша, достал из пачки сигарету и едва слышно проговорил:
— Саша, иди работать в балетную школу, — отвернулся и вышел из дежурки. Скоро ушли жена и дочь Мишки-Монгола, а он все также молча лежал, щекой прижимаясь к полу. За окном дежурки сквозь полуоблетевшие деревья зарябил серый рассвет. Ядгар дремал, сидя за столом и опустив голову на руки. Гена Рыбник увлеченно и горячо рассказывал что-то на крыльце Аршалуйсяну. Я подошел к Мишке-Монголу и остановился над ним. С полу на меня смотрел злобный глаз, и беззвучно шевелились мокрые подвижные губы.
— Товарищ следователь, — вдруг вежливо спросил он, — а за что меня связали?
— За то, что буянил.
— Но ведь это нехорошо, — вкрадчиво возразил он. — Я ведь аккуратный парень, у меня же были чистые брюки… Ядгар приподнял от стола утомленное лицо и сказал устало:
— А ну лежи, пожалуйста, а? Сейчас того лейтенанта позову, он врежет, не спросит, как зовут. — И снова опустил голову на руки. Я помог Мишке подняться и усадил его на стул.
— Нет, скажите, почему вы нам не даете жить? — спрашивал он почти доброжелательно, глядя на меня злобными узкими глазами. — Я же человек! У меня хата есть, я же шесть дней как вернулся… Дайте мне упасть на свою постель и подумать о том, что я человек! Во дворе показалась Люся с метлой и совком, медленно кружила по двору, обходила свои владения. То веревочку какую поднимет и в карман спрячет, то пустую пачку из-под сигарет подберет и заглянет внутрь — не завалялась ли штучка? Кружила по двору, как шаман в ритуальном танце. Сейчас будет костер жечь у забора.
— Или вы меня сажайте, или я домой пойду, — проговорил за моей спиной Мишка-Монгол. Ядгар поднял голову и открыл глаза.
— Ну что, Саша, — спросил он, потирая мятое бледное лицо, — куда этого? Я отвернулся к окну и промолчал.
— Аршалуйсяна с Геной спрошу, — вздохнул Ядгар и вышел из комнаты. «А у меня дежурство кончилось, — мысленно ответил я всем. — Дайте мне упасть на свою постель, и подумать о том, что я человек…»
* * *
Домой невозможно было дозвониться. Значит, Маргарита опять висела на телефоне, играла «в милицию». Иногда я наблюдал за ней исподтишка. Маргарита, начиненная моими следовательскими историями, взволнованно кричала в трубку с бабкиной интонацией:
— Товарищ Киселев? Василий Степанович?! Ну, как ваши дела, родненький? Василий Степанович был нашим соседом в старом доме. Баба время от времени позванивала ему и его прикованной к инвалидному креслу супруге.
— Как вы поживаете, голубчик?! — кричала Маргарита, тыча пальцем в номерной диск. — Что?! Что-о?! — Следовала трагическая пауза, полная ужаса постижения страшной новости, и дальше уже действие разворачивалось с уклоном в мою тематику. — Убили?! Вашу жену?! Кошмар! Одну минутку, я ей перезвоню… Але! Жена? Здравствуйте, родненькая. Это вас убивают? Да? Да?! Але, Василий Степанович, да, вашу жену убили, дорогой мой… При этом было совершенно непонятно, как Маргарита представляет ситуацию. И почему Василию Степановичу и его якобы убиваемой жене нужно звонить по разным телефонам. Но если я пытался выяснить у Маргариты детали, она замыкалась, ее толстая физиономия затуманивалась и в глазах появлялось выражение необъяснимой обиды. Я горячился. Дело кончалось ссорой.
* * *
Маргарита услышала, как я открываю дверь, и примчалась в прихожую. Она всегда подстерегала мое появление после дежурства.
— Ой, Саша! А почему ты как поздно? В тебя стреляли? Ты за бандитом гнался?
— Дай-ка тапочки, — попросил я, — и достань из портфеля лимоны и окорок… А где баба?
— Баба на рынок ушла… Я прошел в детскую и сказал в дверях:
— Повесь трубку на рычаг и не смей подходить к телефону. Совсем очумела, мать моя. Из-за твоих игр домой дозвониться невозможно. Маргарита надулась и покорно прошлепала к телефону обиженной походкой. Я сказал ей вслед:
— Меня не трогать. Я отдыхаю… Надо было поспать, но как всегда после дежурства я не мог уснуть сразу. Мелькали в уставшей голове ночные лица, тени, глухие переулки, свет фар по глиняным заборам в тупиках. Лежал на тахте, держа на животе гитару и пощипывая струны. Над моим плечом пролетел легкий вздох, я оглянулся. Это Маргарита слушала треньканье и умильно созерцала меня своими сине-зелеными глазами. Я вывернул голову, чтобы лучше ее видеть.
— Маргарита, что за вид? — строго спросил я. — Как стоишь? Не грызи палец! Подбери живот! Когда ты на диету сядешь? Она послушно втянула живот и миролюбиво спросила:
— А ты чего сейчас играл?
— Так, пустяки…
— А я себе буду братика родить… — вдруг поделилась она.
— Молодец… Но Маргариту не удовлетворила такая кислая реакция. Она попыталась меня заинтересовать:
— Знаешь, как его будут звать?
— Мм… мм?
— Иван Петрович…
— Именно? Что так? Она понурилась, разгладила краешек подушки, на которой лежала моя голова, и с тихим достоинством сказала:
— Ну, просто… Я решила… Рассказать тебе стишок? — предложила Маргарита: Дядя Хрюшка, дядя Хрюшка Из помойного ведра, Я такого дядю Хрюшку Ненавижу никогда.
— Гениально, — сказал я. — Кто автор?
— Где? — доверчиво спросила она.
— Это ты сама сочинила?
— Сама, — скромно, но горделиво подтвердила она. Я оглядел ее всю, с вороха каштановых кудрей до маленьких клетчатых тапок, и вздохнул:
— Ой, Маргарита, боюсь, что ты сперла это незаурядное произведение у кого-то из своих талантливых сверстников.
— А? — спросила она. — Саша, ты какой?
— То есть? — не понял я.
— Ну, ты какой: грустный, веселый или нормальный?
— Грустный, — сказал я, вздохнув.
— А почему?
— Потому что ты крутишься перед глазами и не даешь мне отдохнуть. Маргарита рассмеялась снисходительным смешком и сказала:
— Ой, Саша, вечно ты грустишь из-за всякой ерунды. — Потом просунула свою глупую кудрявую голову мне под мышку и попросила:
— Можно я посплю с тобой?
— Нет уж, Марго, ты совсем разошлась! Стоит мне после дежурства прилечь, как ты уже на голове сидишь.
— Я не буду на голове, я — рядышком… — а сама уже карабкалась на тахту, устраивалась под боком. Эта хитрюга надеялась вытянуть из меня какую-нибудь очередную ужасную историю.
— Саша, — прошептала она. — А кого сегодня убили?
— Тьфу, Маргарита, какая ты кровожадная девица! Лучше я тебе «Алису» почитаю. Когда проснусь. Она поворочалась под боком, потолкалась коленками и затихла. Одна ее каштановая кудря щекотала мой подбородок. Я пригладил ее ладонью и закрыл глаза. И почти сразу вышли мы с Маргаритой на летний луг, в полдень, и лежала в траве неподалеку телочка, привязанная веревкой к колышку. Телка лежала на боку и кротко смотрела на Маргариту большими темными глазами. Маргарита потрогала ее переднюю ногу в белом нарядном чулке, с аккуратным копытом и сказала весело:
— Холодец! Здравствуй, Холодец! Я взмыл над Маргаритой, над кроткой телочкой, над летним лугом, и полетел выбивать кабель и трубы. Я летел кролем в прохладном голубом небе и ощущал такое блаженство, какого не знал никогда. «Кроме того — думал я, разводя руками в упругой толще неба, — отсюда удобнее наблюдать за теми, кто ворует мрамор на памятники…» Но этой важной мысли я не додумал, потому что внизу кто-то хрипло и длинно выругался, и Гришка Шуст позвал меня с земли громким шепотом:
— Саша!.. Саш…
— А? — я вздрогнул, очнулся и сел. Маргарита смотрела на меня исследовательски-задумчивым взглядом.
— Саша, — повторила она шепотом, — а почему у тебя сердце так громко стучит? Просто ужас!
— Вот дура ты, Марго… — пробормотал я, заваливаясь на подушку. — Ведь я живой… Оно и стучит… Потом, сквозь тяжелый душный сон, над ухабами измотанного бессонной ночью сознания, появилась баба и парила над нами, и укрывала нас с Маргаритой красным клетчатым пледом.
* * *
Вечером пришел с работы дед и, не раздеваясь, не снимая туфель, крикнул из прихожей:
— Сынка, ну что — был в метро?
— Был.
— Ну, ну? — он так и стоял в плаще — маленький, с седыми щеками, в смешной, великоватой для него шляпе.
— Отказали. Я им не подхожу.
— Почему?! — возмутился он.
— Осанка недостаточно представительная, — сказал я.
— Как? — так же оскорбленно воскликнул он. — А ты сказал, что у тебя диплом с отличием? Что ты единственный из всего выпуска защищался на английском? Что ты в совершенстве…
— И что умею ушами шевелить, — перебил я его. Он сразу все понял, молча разделся и закрылся у себя. Глупая Маргарита, которая по молодости лет не чувствовала еще атмосферы в доме, увязалась за ним и стала канючить и напоминать, что дед обещал повести ее в кино.
— Оставьте меня в покое! Все! — крикнул дед и хлопнул дверью. Оскорбленная Маргарита умчалась в детскую, и сразу оттуда послышались тягучие рыдания. Я приоткрыл к ней дверь. Маргарита в исступлении била кулаками подушку. Я встал в двери, и она обернула ко мне зареванную физиономию.
— Правильно, дай ей как следует, — посоветовал я, — чтоб больше не смела. Выбей из нее дурь окончательно.
— Пойду по белу свету искать хорошую семью, — сказала Маргарита сопливым голосом.
— Дед, — крикнул я, стоя в дверях детской, — не переживай. Устроишь меня в ларек «Пиво-воды». — Повернулся к Маргарите и сказал: — Не расстраивайся, Марго. В субботу пойдем в гости к дяде Грише.
* * *
Но в субботу я к Шусту не попал, потому что заболела Маргарита. Заболела-то она днем раньше, но именно в субботу утром я брился в коридоре и вдруг увидел кусок Маргариты в зеркале. Правильнее сказать — в коридорном зеркале отражался дальний угол комнаты с частью дивана, на подушке которого лежала растрепанная Маргариткина голова и покорно смотрела на меня в зеркале страдальческими зелеными светлячками. И тогда вдруг на меня сошло леденящее озарение. Я понял, чем больна Маргарита. Я выдернул штепсель из розетки, бритва заткнулась, я спросил с тихим ужасом:
— Марго, у тебя живот болит?
— Болит, — спокойно сказала она.
— А… тошнит?
— Тошнит, — с некоторым даже удовольствием подтвердила она. Я с бритвой в руках прибежал на кухню, закрыл дверь поплотнее и сказал бабе:
— У Маргариты желтуха! Баба ахнула и опустилась на табурет. Она не стала спрашивать, с чего это я поставил такой безапелляционный диагноз, потому что с паникой у нас в семье все в порядке — она носится в воздухе, мы ею дышим. Просто баба тихо заплакала и шепотом стала проклинать свою жизнь.
— Баба, не дрейфь, — сказал я. — Сейчас это быстро лечится. Первым делом с четвертого этажа была спущена Валентина Дмитриевна, наш домашний доктор. Она лечила всех соседей, в том числе бабу, деда, меня и Маргариту со дня ее рождения.
— Я думаю, это обычный грипп, — сказала Валентина Дмитриевна, послушав и помяв Маргариту. — Но чтобы полностью исключить гепатит, чтоб вы жили спокойно, я пришлю завтра из нашей поликлиники милую девочку, медсестру Надюшу. Она возьмет кровь на анализ. Только, Евдокия Степановна, голубчик, вы сами, конечно, понимаете, у Надюши выходной, в воскресенье она не обязана, ну и… Баба сделала обиженное лицо и замахала руками:
— Валентина Дмитриевна, золото вы наше, как вы могли подумать! Конечно, отблагодарим! Конечно, девочка не обязана… В воскресенье с утра мы ждали милую девочку медсестру Надю. Маргарита лежала тихая и торжественная, многозначительно положив на живот обе руки. Часа полтора я забавлял ее, показывая, как ходит обезьяна Джуди, стучал себя по голове согнутыми костяшками пальцев, рычал и изображал бандитов, но скоро истощился, притомился и прилег на тот же диван, валетом к Маргарите, захватив с собой для компании Бабеля. Дед с бабой собирались на рынок и о чем-то препирались в прихожей.
— Саша, покажи еще раз Джуди, — попросила Маргарита. Я, не отводя глаз от страницы «Конармии», выдвинул нижнюю челюсть, рассеянно постучал по своему черепу обезьяньей рукой и сказал утробным рыком: «У! У! У!» — А еще?
— Все. Концерт окончен. Отстань, Марго.
— Саня! — напомнила из прихожей баба, — не забудь. Вот пятерка, на тумбочке под зеркалом. Дашь девочке.
— А не многовато? — спросил дед.
— Девочка не обязана, — отрезала баба. Дед попытался сострить что-то насчет моей профессии и взяток, но баба вытолкала его из квартиры, вышла следом сама и захлопнула дверь. Несколько секунд я читал спокойно, потом Маргарита сказала:
— Саша, я — вооруженный бандит… Я молчал.
— Саша, повернись ко мне, — укоризненно просила она, — ну, займись больным ребенком. Наконец я сдался, отложил книгу и несколько раз на глазах Маргариты отрывал и проглатывал большой палец собственной правой руки, а потом дрыгал им к тихому ее восторгу. Потом надел на руку тряпичного зайца с пластмассовой бездарной головой, и он стал беседовать с Маргаритой.
— Марго, — глупо улыбаясь, спросил заяц тонким голосом, — а почему ты валяешься в постели среди бела дня?
— В городе желтуха, — серьезно объяснила ему Маргарита. И тут в дверь, наконец, позвонили. Милая девочка оказалась худющей, весьма энергичной особой маленького роста. Она была даже меньше меня. Мне сразу не понравилось ее бледное веснушчатое лицо с большими кругами под глазами и командный голос. Наша взаимная антипатия началась с того, что я попытался снять с нее куртку, а она, дернув обоими плечами, сказала: «Бросьте!» и торопливо разделась сама. Я, бормоча что-то подобострастное, опустился на четвереньки и стал разыскивать для нее домашние тапки, которых, конечно же, не мог найти. Тогда она, вторично скомандовав «Бросьте!», обошла мою идиотскую дворняжью позу и вошла в комнату босиком.
— «Ну и черт с тобой», — подумал я, поднимаясь с четверенек. Маргарита увидела стеклянные колбочки и резиновые трубочки и на всякий случай заорала благим матом.
— Папаша! — крикнула милая девочка, — возьмите ребенка на руки! И шевелитесь, ради бога, сколько я у вас тут сидеть буду! «Между прочим, не за спасибо пришла», — мысленно огрызнулся я, и схватил свою горячую, толстую, орущую Маргариту.
— Сядьте! Я сел.
— Держите ее! Ноги держите! Она меня не подпускает! Я зажал Маргаритины ножки между колен, руками обхватил все остальное, извивающееся, как пойманный черт, и зажмурил глаза, чтобы не видеть Маргаритиной крови. Началась экзекуция. Маргарита беспрерывно сигналила в мое ухо густым протяжным гудком.
— Не капает ни черта! — крикнула милая девочка. — Давайте другую руку!
— Может быть, не надо? — жалобно попросил я. — Может, обойдется? Маргарита перекрывала наши голоса своим басом.
— Делайте, что я говорю! — скомандовала милая девочка. — Ой, какой избалованный ребенок! Наконец, когда Маргарита изоралась и измучилась, все было кончено. Я ненавидел милую девочку. Она молча сложила свои причиндалы в сумку и вышла в коридор. Я обежал ее и выступил вперед, преподнося пятерку, как преподносят в колхозах хлеб-соль дорогим гостям.
— Спасибо… Мы так благодарны вам, — угрюмо бормотал я, не зная, куда ей сунуть эту проклятую пятерку. Ведь есть же люди, которые умеют это делать как-то легко, красиво, достойно. Я не умею.
— Зачем это? — спросила она, в упор глядя на меня внимательным отчужденным взглядом.
— «Тяжелая баба, — подумал я. — Тоже не умеет все это как-то легко, красиво…» И опять забормотал:
— Ну, как же… Ведь вы не обязаны… Воскресенье… Мы так благодарны.
— Я пришла, потому что Валентина Дмитриевна просила, — отрезала она. — А это уберите, — и потянулась к вешалке за курткой. Я разозлился. «Ну нет! — подумал я, — еще обязанным тебе оставаться?» И опять принялся всучивать ей пятерку.
— Нет, вы возьмите, пожалуйста… Как же так… Нам неловко. Мы не позволим… Почему-то, бормоча, я все время называл себя императорским «мы», хотя, конечно, понятно почему: я представлял собой себя и возмущенно-благодарных бабу с дедом. Я бормотал ненавидящим голосом пошлые благодарственные глупости, совал куда-то, в направлении ее корпуса, купюру, а она хватала мои руки, отпихивала их и восклицала:
— Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Все это было похоже на небольшую драчку.
— Нет, уж вы, пожалуйста, возьмите! — крикнул я. — Вы ставите меня в глупое положение!
— Это вы меня ставите! Я просто для Валентины Дмитриевны, потому что Валентина Дмитриевна… — и все хватала мои руки и жалобно выкрикивала: — Что вы делаете? Что вы делаете?! И тут я придумал гениальную штуку. Я снял с вешалки куртку медсестры и, хотя та немедленно предъявила свое «бросьте!», насильно натянул на ее тощие плечи. Пятерку незаметно сунул в карман куртки.
— Ну, спасибо, — облегченно выдохнул я.
— Просто Валентина Дмитриевна такой человек… — бормотала она по инерции, не поднимая глаз.
И вдруг подняла, и я увидел, какие это уставшие, умные глаза. Я молча открыл дверь, и она также молча выскользнула на лестницу, не прощаясь. Ая добрел до детской, где лежала Маргарита, остановился посреди комнаты и громко сказал в пространство:
— Все! В этот момент позвонили в прихожей. Я знал — кто это, просто не думал, что она обнаружит пятерку так скоро. Медсестра влетела в квартиру, и в коридоре между нами вторично произошла небольшая свалка. На этот раз она — красная, возмущенная, — совала мне пятерку, а я хватал ее за руки и беспомощно выкрикивал:
— Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Руки у нее были худенькие и горячие, а волосы выбились из-под берета на лоб и лезли в глаза. В конце она исхитрилась сунуть эту ненавистную бумажку за ворот моего свитера, что было с ее стороны неслыханной подлостью, потом привалилась к стене и, тяжело дыша, сказала:
— Дайте валидолу. Я принес с дедовой тумбочки валидол, она отломила полтаблетки, положила под язык и проговорила, упрямо глядя в стену перед собой:
— Почему обязательно за деньги? Что, я не понимаю? У меня самой сын в больнице… с желтухой… И Валентина Дмитриевна рассказывала о вашей девочке. Я вдруг вспомнил ее имя.
— Надя… — сказал я, — может быть, надо помочь? Чем я могу вам помочь? Что нужно?
— Ничего не нужно, — сказала она и заплакала. — Ничего мне не нужно… ничего… Дело приняло для меня совсем скверный оборот. Я привалился к противоположной стене и молча смотрел на Надю, не зная, что делать дальше. Наверное, следовало взять ее тощую лапку и пожать, и погладить, и сказать что-то ласковое, но я сроду таких штучек делать не умел, и вообще, с женщинами я — швах. Она вытерла слезы и сказала:
— Дайте пожевать что-нибудь. Я с утра на уколах, поесть не успела, а ехать еще в больницу к сыну на другой конец света.
— Надя! — возопил я, — у нас борщ! И пирожки! Я подогрею.
— Нет, я не успею. Кусок хлеба и что-нибудь… колбасы или сыра… Если можно… Я уже опаздываю. Я поскакал на кухню, свернул большой куль из газеты, побросал в него пирожки с капустой, на которые у бабы несравненный талант, схватил из буфета пригоршню конфет, несколько яблок.
— Ой, я столько не унесу, что вы! — сказала она.
— Унесете, — строго возразил я, набивая конфетами карманы ее куртки.
— До свидания, — она повернулась, чтобы выйти.
— Постойте! — сказал я, — тут… куртка у вас… в известке… — схватил щетку и судорожно стал тереть рукава ее куртки.
— Спасибо… До свидания.
— Постойте! — сказал я, — когда я вас увижу… в смысле… результатов анализа…
— Вам завтра Валентина Дмитриевна скажет. До свидания.
— Постойте! — безнадежно выкрикнул я. — Я провожу вас!
— Нет-нет, ни в коем случае! — отрезала она. Мы чинно пожали друг другу руки, и она ушла. Я не выскочил на балкон смотреть сверху, как она переходит через дорогу, хоть почему-то мне хотелось это сделать, а зашел в детскую. Маргарита лежала на диване зареванная, изнемогшая от пережитой своей маленькой драмы.
— Саша, — тихо и озабоченно спросила она, — врачуха взяла синий рубль? Я наклонился и потрогал губами ее вспотевший лоб.
— Саша, — также тихо и грустно проговорила Маргарита. — Давай так играть, как будто ты был моя собака, а я была твой человек…
* * *
Едва я открыл ключом дверь, в прихожую вылетела клокочущая баба и выпалила:
— Старый дурак! — потом вгляделась в меня в темноте прихожей и сказала жалобно: — А, это ты, Санечка… Я принялся расшнуровывать туфли.
— Баба, единственно, чем могу тебя утешить, что лет через тридцать я вполне сгожусь под это определение.
— Ты знаешь, что он сделал? — возмущенно воскликнула баба, — он повел больного ребенка в кино, на какой-то двухсерийный фильм. Вот, оставил записку. Я только на партсобрание сбегала, представляешь? Я их только на два часа каких-то оставила! Прихожу — никого нет. Вот, полюбуйся, он даже ей шапку не надел, в берете повел. Ей уши продует, а она только после гриппа!
— Ну, не переживай. Может, обойдется… Сегодня я мотался два раза в тюрьму, пообедать не успел, устал, как пес, но не в этом было дело. А дело было в том, что на моего веселого Сорокина, которому я уже подписал обвинительное заключение и собирался передать дело в суд, пришел сегодня запрос из транспортной милиции.
— Вот, пожалуйста, — сказал мне утром хмурый Гришка Шуст, — я тебя предупреждал. Я не злорадствую, но, может, хоть это чему-нибудь научит тебя, сердобольного.
— А что случилось? — спросил я, уже по выражению Гришиного лица понимая, что ничего приятного ждать не стоит. Григорий молча подал мне бумагу и стоял рядом, ждал, пока я прочту.
— Ну, — спросил он, когда я опустил листок. — Приятный сюрприз?
— Гришка, — тихо сказал я, — это ведь он потому такой веселый был… В запросе сообщалось, что на таком-то километре такой-то железной дороги убит обходчик такой-то. По некоторым данным, есть основания полагать, что преступление совершено рецидивистом Сорокиным Ю. А., в настоящее время находящимся под следствием в таком-то отделении милиции… ну и так далее…
— Еще бы, — усмехнулся Гришка. — Есть разница — вышка или отсидка на малый срок. Ты созвонись с транспортниками, они его заберут для расследования. Интересно, из-за чего он обходчика пришил. Из-за документов, наверное… Я вспомнил, как позавчера прощался с Сорокиным.
— Так помни, Юра, я помогу с работой. Запиши мой домашний телефон. Он аккуратно, четкими круглыми цифрами записал мой телефон и адрес.
— Спасибо, Саша, — и потряс мою руку. — Ты человек, знаешь… Впервые такого встретил. Я вышел, и дверь камеры глухо и мертво стукнула — наглухо, намертво, и вот тогда мне стало тяжело, в тот момент, когда он там оставался, а я уходил по коридору.
* * *
— Не может быть, — сказал я Гришке, — это ошибка. Ну, украл, ну, угнал когда-то автофургон… Но человека убить! Я даже как-то привязался к нему, обещал с работой помочь.
— На прощание не поцеловались? — спросил Гришка хмуро. Он сел за стол, подвинул к себе какое-то «дело» и стал его листать, время от времени трогая то правый, то левый ус крупными холеными пальцами.
— Ты с Лизой помирился? — спросил я.
— Я с обеими помирился, — угрюмо буркнул Гришка, не поднимая глаз от «дела». — Я прекрасен и благополучен. Лиза вяжет мне свитер, а Галя купила у спекулянтов отрез вельвета и джинсы шьет. С фирменной этикеткой на заду. Я отвернулся к окну, достал сигарету, размял ее, но не закурил, сунул обратно в пачку.
— Григорий, — спросил я, — а вот как быть, когда хочешь увидеть женщину, а повода для встречи нет? Он молчал. Я обернулся и увидел изумленно вздернутые брови и горькую усмешку на его лице.
— Ну, спасибо, хрыч. Ты, я вижу, совсем уже меня за матерого донжуана держишь. Даже советуешься, — он хмыкнул и закрутил своей великолепной рыжей башкой: — Да я за всю свою жизнь с двумя бабами никак разобраться не могу. Ну, где ты видел нормального мужика, который бы страдал от того, что… Он не договорил, потому что к нему на допрос привезли из тюрьмы подследственного. Огненно-красный, с горящими глазами, тот сидел в наручниках и страстно повторял:
— Я ву-ур, началник, я ву-ур! Ты смотри на меня, началник, ты другой такой вур, как я, за всю жизнь не встретишь! Гришка быстро и мелко заполнял лист в «деле». Он даже не поднимал на страстного подследственного глаз. А тот неистовствовал, вздымал руки, бил себя в грудь, звякал наручниками, цокал языком:
— Эх, началник, первый раз в браслетах сижу. Потому что того козла упустил. Я козлов не люблю, началник, я их пачками режу. Никто доказать не может… Пока урка в отчаянном азарте брал на себя все преступления мира, я собрался, сложил бумаги в портфель и взглянул на низко склоненную Гришкину голову, на его повинную голову с прекрасной шевелюрой.
— Не убивайся так, — сказал он, не поднимая головы. — Я позвоню транспортникам, выясню, у меня там дружки есть.
* * *
…Баба просто не находила себе места. Она то выскакивала на балкон, посмотреть не идет ли «старый дурак с больным ребенком», то носилась по квартире, как фурия.
— Ну, погоди, ты только заявись! — бормотала она. — Я тебе покажу кино! В пяти сериях! Саша, ты должен меня поддержать! Мы должны выступить единым фронтом! Это больше не должно повториться!
— Все на сбор металлолома! — устало сказал я. — Дадим дружный отпор отстающим, позорящим класс! Поднимем успеваемость на должную высоту!
— Отстань, — отмахнулась баба. Зазвонил телефон.
— Это Света, — сказала баба, — она уже звонила. И пока я шел к телефону, скороговоркой напомнила мне, какая славная девочка Света, и как прекрасно ко мне относится, и какая хорошая у них семья.
— Алло, — сказал я. Это действительно была Светка, моя одноклассница. Мы перезванивались до сих пор, вернее, Светка иногда позванивала, приглашала на какие-то концерты, выставки. Баба очень переживала, что я под разными предлогами уклонялся от культурных мероприятий. Баба не понимала, что совершенно невозможно появиться на концерте с девушкой, которая переросла тебя на две головы.
— Сашка, а я в отпуск уезжаю! — похвасталась Светка.
— Молодец…
— Ничего себе — молодец! Мои-то все разъехались. Что с квартирой делать?
— В каком смысле? — спросил я.
— Ну, так я ж ее оставляю!
— А что, возможен другой вариант?
— Ой, Сашка, ну ты хохмач! Посоветуй, что против воров сделать, ты ж у нас мент! Что у вас там делают — подключают к сигнализации? Я вздохнул и сказал в трубку:
— Слушай, вот новый гениальный способ. Ты уезжаешь и оставляешь на месяц в дверях записку: «Пупсик, жди, я мигом вернусь».
— Какой пупсик? — обалдело спросила она.
— Ну, Мусик, или Лапусик… Светка с отчаянным стуком брякнула трубку.
— Ну, что, — сурово спросила баба, — обхамил девочку? Доволен, следователь придурошный?
— Начални-ик! — страстно и тягуче промычал я и постучал себя кулаком в грудь, как сегодняшний урка. — Эх, начални-ик…
— Совсем с ума сошел, — вздохнула баба. Я набрал в грудь побольше воздуха и шумно выдохнул его.
— Баба, — решительно спросил я, — что делать, когда хочешь увидеть женщину, а повода для встречи нет? Я думал, что баба сейчас прицепится и начнет все вызнавать и вынимать душу, но она вдруг спокойно сказала:
— Что значит — нет? Придумай повод. Ты ж не дурачок какой-нибудь.
— А вот дед… Он как тебя… обхаживал?
— Кто? — весело воскликнула баба, — он обхаживал? Да я за него со страху вышла. Он же бил морды всем моим хахалям. Он никого к моей калитке не подпускал. Его все парни боялись, пигалицу эту. А я как его боялась, господи, боже мой! Иду по переулку нашему, и как заслышу за спиной его шаги, чуть не падаю со страху, Я его рожу усатую видеть не могла! Так со страху и вышла, боялась, как бы дом наш не подпалил. В момент этого трогательного воспоминания явились, наконец, Маргарита с дедом, и я в который раз убедился, что со времен ухаживания деда за бабой роли круто переменились. Такого скандалища я не помнил со времен Иркиного жития в нашем доме. Баба потрясала Маргаритиной шапкой и совала ее деду под усы. Вообще, мне наши семейные стычки напоминают органные фуги Баха. Сумятица голосов, восклицания баса: «Дуся! Дуся!» и над всем этим солирующий бабин голос.
— А почему мы все орем? — спросила наконец Маргарита. Она сидела в кресле, в своей любимой позе — подняв колени, и на голове се красовалась ее вязаная шапка, надетая задом наперед.
— Люди должны иногда орать друг на друга, — объяснил я Маргарите, — тогда появляется возможность жить дальше. Мы разбрелись по разным углам, и в доме наступил покой, только время от времени опальные Маргарита с дедом перебрасывались словами. Они сидели на тахте, как голубки, и листали какую-то детскую книжку с картинками.
— Деда, и чего ты ее боишься? — спрашивала Маргарита, кивая в сторону кухни. Дед отвечал нарочито громко, чтоб слышала баба:
— Волк собаки не боится, просто он лая не любит.
— Деда, — опять подавала голос эта интриганка, — и за что только ты ее любишь?
— Как за что! — обижался дед. — А ножки?! Баба в кухне рассмеялась и крикнула:
— Маргарита, скажи своему деду, что чай налит и ложкой покручено. За чаем баба немного оттаяла и рассказала новости. Она всегда приносила с партсобрания какие-нибудь жуткие новости.
— Сегодня милиционер выступал, — сказала баба, — специально приходил. Говорит, товарищи учителя, нужно сообща бороться.
— С кем вам еще бороться? — недовольно пробурчал дед.
— С преступностью.
— Может, хватит с нас одного борца? — спросил дед. — Или как? Или ты в ДНД решила вступить?
— Ты не шути, — возразила баба, — вот у нас в школе сторож. Настоящий преступник! Ночами сторожит, а дома днем самогон гонит. Были случаи, продавал ученикам. Старший сын, говорят, сидит за грабеж, второй еще за что-то сидел, а дочь тоже — непонятно кто.
— Страсти какие, — вставил дед. — Дочь тоже сидит?
— Участковый просто руками разводит. Мы, говорит, товарищи, бессильны. А что делать? Живет этот сторож дядя Гоша в доме, рядом со школой. Ну, как тут уследишь?
— Подожди, — сказал я, — какой, говоришь, дом?
— Санечка, — воспряла баба, — может, ты подойдешь туда, припугнешь его? Я даже адрес записала и фамилию. Сходи, сыночек. Форму надень и припугни, а?
— Дуся, что ты мелешь! — сердито воскликнул дед. — Ему своих рецидивистов хватает!
— Ладно, пойду, — сказал я, — как там фамилия этого злодея? Баба принесла из прихожей сумочку, порылась в ней, достала бумажку и, отстранив ее подальше от глаз, прочла: — Булдык. Мы с дедом переглянулись, хмыкнули и одновременно переспросили:
— Как?
— Бул-дык. — Добросовестно повторила баба, — Георгий Иванович Булдык. Дом двадцать семь, квартира тридцать восемь.
— Как не пить с такой фамилией! — посочувствовал дед.
* * *
…В воскресенье после обеда я надел форму, почистил туфли и двинулся в поход против Булдыка. Сегодня вдруг, как теплое пахучее яблоко, выкатился последний денек из подола бабьего лета. Тихое теплое небо летело над городом, текло, переливалось глубинной голубизной. На пустыре, вздымая ногами вороха опавшей листвы, гоняли в футбол пацаны. Их голоса странно звучали в неподвижном осеннем воздухе — как замирающие удары по мячу. Дом, куда я шел, действительно стоял напротив школы, из его окон можно было наблюдать за школьной жизнью. Надо полагать, здешние жильцы очумели от школьных звонков. На крыльце третьего подъезда домывала последние ступени какая-то девочка в брюках и очень большом мужском свитере, который болтался на ее плечах, как мужнин пиджак на Люсе. Рукава свитера были закатаны выше худых острых локтей. Худых и острых, как у Буратино. Почему я сразу понял, что это Надя? Как мог издалека, сзади узнать ее? Но я узнал сразу, едва взглянул.
— Надя! — крикнул я и побежал к ней. Она обернулась, и пока я бежал, судорожно вытирала полой свитера мокрые руки. Я остановился перед ней, как истукан.
— Здравствуйте, Надя! — радостно выдохнул я.
— Здравствуйте! — энергично отозвалась она, как начальник отдела, встречающий нового подчиненного. И мы пожали друг другу руки. Ее рука была еще влажная. Я прекрасно понимал, что начать разговор нужно с чего-то совершенно постороннего, легкого, необязательного, желательно смешного. Но почему-то выпалил: — Какая удача! Все дни придумывал повод для встречи и не мог придумать.
— Как ваша девочка? — спросила она. — Выздоровела?
— Спасибо, выздоровела. А как ваш сынок?
— Завтра выписывают, — сказала она.
— Вот и прекрасно! Мы замолчали. Я смотрел на Надю, а она смотрела куда-то под ноги себе. Потом, так же неожиданно, как у нас дома, подняла глаза, и я опять поразился их выражению — усталости и мудрости. Под глазами, как и в прошлый раз, лежали темные круги.
— Надя, а почему вы так плохо выглядите? — тихо спросил я, — почему у вас такие круги под глазами? Она улыбнулась и пожала худыми плечами под грубым коричневым свитером. «Идиот, — подумал я, — кретин! Хорошенькое начало: «Вы плохо выглядите». Нет, ясно, — начинать надо с чего-то постороннего, легкого, необязательного, желательно смешного». И я спросил:
— Вы здесь живете? В этом подъезде?
— Ну да… — кивнула она.
— Вот так совпадение! — воскликнул я как можно легче. — Здесь у вас проживает личность с устрашающей фамилией Булдык.
— Есть такой, — спокойно сказала она и посмотрела на меня.
— Ну так, думаете, чего я в воскресенье в форму вырядился? Пришел припугнуть вашего Булдыка.
— Бесполезно, — сказала она. — Горбатого, знаете, что исправит?
— Серьезно? Такой мерзавец?
— Именно такой.
— Говорят, там вся семейка, как на подбор, — продолжал я, — старший сын сидит за грабеж, второй еще за что-то, да и дочь непонятно кто.
— Почему непонятно? — спокойно возразила она. — Я и есть его дочь. Желтый листик ясеня кувыркнулся откуда-то сверху и застрял на ее плече в грубой вязке свитера. Мы молчали. Я понимал, что погиб, потому что этот пасьянс — баба с дедом, Маргарита, я, Надя и Булдык — никогда не сложится. Тут надо кого-нибудь изымать. Бедный дед, подумал я, это будет третий инфаркт, он не переживет. Надя опять подняла на меня измученные глаза и вдруг улыбнулась.
— Вы так испугались, Саша. Что ж вы так испугались? Ну, идите, стращайте его, это ж ваша работа. Только учтите, что все действительно бесполезно.
— Это не моя работа, — хмуро буркнул я, — меня попросили. В порядке общественной нагрузки.
— А, — сказала она. — Ну, все равно. Идите. Я могу здесь постоять, чтобы не стеснять вас.
— Да никуда я не пойду! — огрызнулся я. И мы опять обреченно замолчали.
— Я люблю вас… — проговорил я, тоскливо глядя мимо нее, на окна школы. Мне было все равно, что она обо мне подумает, потому что со мной и так все было кончено. — Я не знаю, как это случилось, вы совсем не в моем вкусе, и вы мне, в общем, не нравитесь. Я вас люблю… Я все эти дни хожу и о вас думаю, и повод придумываю, чтобы встретиться. У меня на работе черт знает, какие неприятности, а я только о вас думаю. Я даже хотел пойти кровь сдать, чтобы вас увидеть. Она усмехнулась и проговорила:
— Саша, Саша… Никакой перспективы. Я совершенное «не то». Вы хороший порядочный мальчик.
— Из хорошей семьи, — зло подсказал я ей.
— Конечно, — упрямо продолжала она, — из хорошей семьи. Мне про вас Валентина Дмитриевна все рассказала… Как вас на кафедре оставляли, аспирантуру предлагали, а вы из каких-то донкихотских соображений… в милицию…
— Это все ерунда, — перебил я ее, — главное — я могу ушами шевелить.
— Я старше вас, — веско произнесла она.
— Я знаю. Вы на пенсии и у вас вставная челюсть.
— У меня ребенок, — добавила она.
— У меня тоже! Вы меня не переторгуете. Она вздохнула, наклонилась и сильно выжала в ведро тряпку. По всему было видно, что ей часто приходилось иметь дело с невменяемыми.
— Саша… — грустно сказала она. — Все. Не морочьте себе голову. Выкиньте эту глупость из своей светлой головы. — Подняла ведро и, не оглядываясь на меня, вошла в подъезд. Я сидел на лавочке у подъезда и смотрел на акробатику падающих листьев. Куда их только не заносило… Так, ты готов, сказал я себе, иди домой. И действительно, хотел подняться и идти домой, потому как — ну, что здесь высидишь? Но в эту минуту из подъезда вышла Надя, в тех же брюках и свитере, в той же косынке. Села рядом со мной, неторопливо раскатала засученные рукава свитера и, щурясь от солнца, сказала, как будто и не уходила:
— А мне на днях ордер должны выдать. Будет у нас с Митькой квартира, свой дом, своя крепость. И заживем мы как боги — в покое и благодати.
— А я? — спросил я.
— А вы идите домой, Саша, — мягко сказала она.
* * *
— Ну, что? — с живым интересом спросила баба, открыв дверь, — что он сказал, этот Булдык?
— Сказал, что больше не будет. Дал честное пионерское.
— Вот видишь, Саша, ты сегодня действительно сделал полезное дело, — серьезно и с увлечением продолжала баба, — если б все, что ты делаешь…
— Баба, кончай классное руководство, — перебил я ее. — Не трогай меня, ладно?
— Ладно, ладно, я понимаю, ты устал… Да, ты знаешь, что в нашем домоуправлении собираются организовать кружок «Государство и право»! Я поплелся мимо нее в детскую, снял форму, стал медленно натягивать домашнее.
— И я подумала, что ты бы мог выкроить время и вести этот кружок.
— Никогда! — отрезал я. — Лучше сдохнуть, чем втравиться в ваше жэковское мероприятие. И я же просил, баба, не трогать меня сейчас, хоть пять минуточек.
— Кто тебя трогает! Я просто рассказываю. Я повалился на тахту, лицом в подушку. Баба села рядом.
— Люська из третьего подъезда просила, чтоб ты помог ей картошку с рынка принести, все-таки зима на носу, а она одна. Я обещала, что ты обязательно поможешь… Я молчал, уткнувшись лицом в подушку.
— Да! — воскликнула она обрадовано, словно вспомнила что-то важное, — ты знаешь, почем литр теперь носит молочница молоко тете Соне? Я сел на тахте, отшвырнул подушку и заорал:
— Я же просил! Можно меня оставить в покое?! Могу я полчаса пожить без твоих домоуправлений, Люсек и тетьсонь? Имею я человеческое право подумать о чем-то своем? Вдруг мне тошно сейчас, вдруг мне не до твоей Люськи, может быть такое или нет?!
— По пятьдесят копеек… — тихо, по инерции закончила баба, поднялась и, прежде чем прикрыть дверь, сказала с оскорбленным видом:
— Негде котику издохти… В молодости дед несколько лет служил в Белоруссии, поэтому баба знает много белорусских словечек и поговорок. Я лежал и слышал, как пришла со двора Маргарита, с грохотом бросила в коридоре железные совок и лопатку, крикнула:
— А где Саша? — и баба ей ответила тем же оскорбленным голосом:
— Вон твой Саша, в детской, ходит-ищет: «а где здесь у меня был пятый угол?» Маргарита ничего не поняла, погрохотала в коридоре фанерным своим ящиком с игрушками, и опять хлопнула дверью — побежала во двор, к друзьям. Уже на лестнице слышен был ее пронзительный вопль: «Юсупка! Только попробуй своим проклятым самосвалом наезжать…» — и все затихло. Маргарита оракул и лидер всей дворовой малышни. В этом она не в меня и не в Ирину, а наверное, в бабу с дедом. Потом пришел дед, и я слышал, как баба кормила его на кухне и они о чем-то тихо переговаривались. Зазвонил телефон. Я перевернулся на спину, протянул руку и снял трубку. Это звонил Гриша.
— Ага. Ну, слушай, — не здороваясь, начал он. — Звонил я, значит, туда…
— Куда? — тупо спросил я, и сразу спохватился, и выкрикнул: — Да, да! Слушаю!
— Твой веселый действовал не один, их двое было… Товарные вагоны обчищали… Обходчик помешал, они его убрали… — Григорий говорил медленно, не договаривая, не называя, как водится, имен… — С кражей этой, квартирной, конечно, не было придумано заранее, но когда взяли — сориентировался и быстро сообразил…
— …что даже удобнее отсидеться у нас под крылом, — глухо продолжил я. — Ну, спасибо тебе, Григорий.
— Не за что, хрыч… Дело попало к парню одному, с которым вместе работали. Завтра подробнее расскажу. Я положил трубку. Значит, такое дело… Значит, месяц я танцевал на ниточках под управлением артиста Сорокина. Все прекрасно было задумано, и следователь попался удобный — замечательный олух Саша. Да вот, оказия — транспортники, черти, хорошо работают, замели… В этот момент в комнату вошла баба и присела возле меня. На вилке она держала горячий, поджаристый, с янтарными боками, пирожок.
— Баб, — спросил я, — в кого я такой бездарный?
— Ты не бездарный, — ответила она, — просто ты занят не своим делом.
— А какое мое дело? — полюбопытствовал я, — ты укажи мне, я побегу его делать.
— Не лезь на рожон, — сказала баба устало, — ты спросил, я ответила… На вот, первый пирожок попробуй, — и спросила, дружески подтолкнув меня локтем: — Саня, а ты что — так и не придумал повода для встречи? Я сказал ей с тихим отчаянием:
— Чего ты веселишься? Ты знаешь, кто она? Она дочка твоего Булдыка. Я еще в жизни своей не видел, чтобы человек так вытаращивал глаза. Я даже испугался за бабу. Это мне уже показалось каким-то фокусом, чудовищной демонстрацией сверхъестественных возможностей человеческого глаза. Чтобы вывести ее из шокового состояния, я кивнул на пирожок и спросил:
— С картошкой?
— С капустой, — пролепетала баба. — Саша, ты нас убьешь.
— Ты всю жизнь знаешь, что я люблю с картошкой, и всю жизнь печешь с капустой, — сказал я, — для своей Маргариты, — снял пирожок с вилки и стал машинально жевать его.
— Это серьезно? — трагическим голосом спросила баба. Она так и сидела с поднятой вилкой, как Нептун с трезубцем.
— Очень. Я ее люблю. Баба медленно, как-то лунатически поднялась и, не глядя на меня, вышла из комнаты. И в это время зазвонил телефон. Я снял трубку.
— Привет, Санек! — крикнула Ирка из столицы нашей Родины.
— Здорово, — буркнул я.
— Ну, как вы там? Как вы живете?
— Нормально, — сказал я, — как ты?
— Ой, Санек, такая неприятность у нас! Я ведь чего звоню…
— А что случилось? — быстро спросил я.
— Ну, так ведь в той посылке, что баба нам прислала, обе банки с айвовым джемом разбились.
— Ну, — я ничего не понимал. — А что случилось?
— Банки с джемом разбились, обе. Начисто. Без джема мы остались, ты так бабе и скажи.
— Ирка, — спросил я, — а что у тебя случилось-то?
— Тьфу! — воскликнула моя божественная сестра. — Позови бабу к телефону! И тут я понял наконец, что у нее случилось. Несчастье стряслось. Беда. Банки разбились. Обе. Начисто.
— Слушай, — тихо спросил я, — а ты собираешься зимой приехать?
— Зачем? — спросила она.
— Ты собираешься зимой приехать?! — заорал я. — С ребенком повидаться?!
— Ты что, с цепи сорвался? — как-то беспомощно проговорила она. А я и в самом деле с цепи сорвался.
— Ты ребенка своего собираешься увидеть?! — орал я, — ты хоть помнишь, что у тебя дочь есть?! Или ты совсем с той сигаретой на канате запрыгалась?!
— Что ты кричишь, Саша, подожди, — слабо доносился до меня Иркин голос.
— Ты хоть помнишь еще, что ты — мать? — гаркнул я в последний раз, потому что в горле у меня пересохло, и голос осекся. И в наступившей тишине Ирка как-то речитативно и торжественно сказала:
— Помню… У меня скоро будет ребенок, Саша. Я молчал. Не понял.
— В каком смысле? — спросил я.
— Ну, ты что-о… — тихо протянула она, и я все понял.
— Ира… а ты… это… ну… ты… как… того… — забормотал я и вдруг захохотал, безумно, до слез, хотя мне было совсем не до смеха, совершенно не до смеха, даже наоборот. Я хохотал до икоты, а Ирка кротко ждала, когда это кончится.
— Ну, молодец, — наконец, тяжело дыша, выговорил я, — ну, давай, я буду ждать. Только ты мне теперь мальчика давай. Для разнообразия… Когда я положил трубку, я понял, что больше в этой комнате находиться не могу, я разобью что-нибудь. Правда, не было гарантии, что в другой комнате или в кухне мне полегчает, но я все-таки рванул плотно закрытую дверь, вышел, пнул дверь в кухню и увидел бабу с дедом. Они сидели рядышком за пустым, чисто вымытым кухонным столом — седенькие, горестные — и решали мою судьбу.
— Можете меня поздравить, — злорадно выпалил я, — у меня будет ребенок!
— Дуся, ну что я говорил? — встрепенулся дед. Вид у него был несколько даже торжествующий. Я бы сказал — горестно-торжествующий, но вряд ли это возможно себе представить. — Ну, что я говорил! Конечно, он вляпался в историю. Она беременна, и теперь шантажирует его, чтоб он на ней женился. Я задохнулся.
— Ку… Кого?! Ты что?! — спросил я деда. — Совсем сбрендил?
— А этот дурак из себя благородного ломает, — продолжал дед, глядя не на меня, а на свою Дусю. Дуся внимала ему с убитым видом. — На сколько она старше его, эта невинная девочка, на десять лет?
— На двадцать пять, — сказал я тихо. — Что дальше?
— А то, что тебя спасать надо! — и тут дед поднял на меня взбешенные глаза. Это был не дед. Это был полковник.
— Я сам с ней встречусь, и все улажу. Дадим ей в зубы, сколько она потребует, и пусть катится! Я молчал и смотрел на него. Мы с полковником молча смотрели друг на друга.
— Коля! Саша!! Вы что?! — заметалась баба. Хотя мы с полковником просто смотрели друг на друга. Может быть, баба испугалась, что во мне проснется тот, молодой, рожа усатая, который бил из-за нее смертным боем всех хахалей.
— А твоей внучке, твоей Ирке, — заговорил я и вдруг с ужасом понял, что ничего не говорю, а только открываю беззвучно рот. Тогда я взял себя в руки. — А твоей Ирке, нашей Ирке, — выговорил я, — ты помнишь, даже денег никто не предлагал. Взял бы ты те деньги за Маргариту?.. И тут дед стал как-то спокойно и медленно клониться влево. Я ничего не понял, мне показалось, что он хочет поднять коробок спичек, упавший рядом с табуретом. Но баба вдруг коротко взвыла, подхватив его голову, прижала к груди, и мы с ней поволокли деда в комнату, на тахту.
— Беги за Валентиной Дмитриевной! — крикнула баба. Дед лежал на спине, молча смотрел в потолок и только его крепкий волосатый кулак беспрестанно сжимался и разжимался.
— Семьдесят четыре… Семьдесят пятый… — медленно и спокойно проговорил он. — Закругляюсь…
— Коля, молчи! — взвыла баба, плача и трясясь, — молчи, Коля!
Валентина Дмитриевна — в домашнем халатике, растрепанная, в тапочках на босу ногу, прибежала сразу. Она выслушала деда, почему-то напряженно глядя не на него, а на бабу и строго сказала:
— Нет, нет, Евдокия Степановна, голубчик, нет. Перестаньте плакать. Это не инфаркт. Потом она сделала деду укол, пообещала зайти еще раз, попозже, и ушла. Дед лежал тихо, прикрыв глаза, а мы с бабой сидели рядом. Разумеется, об Иркиной новости сегодня лучше было молчать. Я попытался представить себе ее будущего ребенка — некое существо, вроде Маргариты, такое же толстое, глупое и родное, но у меня ничего не получалось. Нет, подумал я, конечно нет, ведь это будет ребенок Виктора, а Виктор — крепкий мужик, настоящий, никому он его не отдаст. И вырастет Иркин сын на манеже, и сделает его отец цирковым артистом, а к нам он будет приезжать на каникулы, и меня будет называть, как и положено, дядей Сашей…
— Саша, — проговорил вдруг дед, не открывая глаз.
— Да успокойся, — буркнул я. — Никто никакого ребенка не ждет. Турнули твоего замечательного внука, как зайца лопоухого…
— Обещай мне…
— Нет! — отрезал я. — Я люблю ее и женюсь на ней все равно. Я ее доконаю, как ты бабу доконал. Она за меня со страху выйдет. И тут бледные его губы дрогнули и мне показалось, что дед самодовольно ухмыльнулся в усы.
— Тогда хоть обещай, что с работы этой проклятой уйдешь! — простонала баба, — сколько можно нас мучить! — слезы бежали и бежали по ее лицу, и она их не вытирала.
— Уйду, — сказал я. — Уйду.
— Хоть шерсти клок с него выдрали, — всхлипнула баба. Она не подозревала, что этот клок давно и мучительно я выдирал из себя сам. Тогда дед наконец открыл глаза и тихо сказал:
— Сынка, ты должен помнить, что на тебе — Маргарита.
— Маргарита! — ахнула баба. — Маргарита на улице! А темно-то! Тут обнаружилось, что в суматохе мы забыли засветло загнать в дом Маргариту, и теперь она на призывные бабины вопли с балкона не отзывалась, и пришлось мне бежать во двор, разыскивать эту несносную девицу. Я обегал весь двор, все подъезды, всех ее приятелей, я охрип от крика. Маргариты не было нигде. Внутренности мои заполняла слепая ярость и леденящий, безотчетный ужас перед неизвестным.
— Маргарита! Маргарита-а! — выкрикивал я через каждую минуту и бормотал: «Дрянь! Ну, погоди! Только объявись — убью! Шкуру спущу!» и опять кричал осевшим голосом: «Маргарита-а!». В воображении моем возникали картины одна страшней другой, в горле колотилось растерзанное паническим страхом сердце. Я обегал и все соседние дворы. Когда же, отупев от ужаса, вернулся к нашему подъезду, чтобы звонить своим ребятам и поднять на ноги всех, я вдруг в темноте увидел Маргариту. Она сидела в песочнице, под грибком и приветственно размахивала своим зеленым грузовиком.
— Здорово я спряталась от тебя? — похвасталась она, подбегая, — как ты громко кричал, Саша, как медведь в цирке! Я молча опустился на корточки, обнял Маргариту ватными руками и прижался лицом к ее пузу, где на сарафане был пришит карман с вислоухим зайцем. Маргарита тоже обняла меня, больно ударив по уху грузовиком.
— Ты мой любимый мужчина… — сказала она нежно и покровительственно. — У меня к тебе два вопроса, Саша: что такое «позвоночник» и что такое «дружба навеки»?..
* * *
Я сидел в кабинете и собирался писать рапорт об увольнении на имя начальника управления, а Гришка ходил из угла в угол, похлопывая ладонью по столам и перешагивая через блеклые солнечные полосы на полу.
— Я тебя понимаю, — говорил Гришка. — Самому до смерти надоело, ей-богу. Хочется пожить нормальной жизнью, иметь нормальных знакомых. Вчера иду из магазина, а возле пивнушки какая-то бабенция, видно, из бывших подследственных, орет мне: «Начальничек, хорошенький, что не здороваешься?» С самого утра я собирался написать, наконец, этот рапорт. Трех минут на него хватило бы, честное слово. Но я медлил. С утра готовился сесть за стол, взять ручку, упереться в этот бесстрастный листок бумаги и вывести на нем: «Довожу до вашего сведения…» ну и так далее. Три минуты, не больше. Потом отдать рапорт майору Вахидову, закончить дела и… И что же?
— Кроме всего прочего, ловишь себя на том, что постоянно ворочаешь в голове обстоятельства очередного «дела», — слышал я голос Григория. — Вчера вырвался с Лизой в театр, первый раз в этом году. Гале набрехал, что дополнительное дежурство. Ваньку определили к соседке. Чем не жизнь? Сиди, наслаждайся искусством! А я смотрю, как на сцене героиня в любви объясняется, и думаю: «Ведь Зафар врет, что не знает Куцего». Помнишь, в деле с ограблением главного инженера текстильной фабрики? «Куцый, — думаю, — не такой дурак, чтобы на встречу с Зафаром наобум идти»… Наклоняюсь к Лизе и шепотом говорю: «Лиза, а ведь Зафар знает Куцего», а она, не отводя глаз от сцены, тоже шепотом отвечает: «Провались ты вместе со своим Куцым. Дай хоть на один вечер забыть, что и я воровка». С утра я положил на стол этот чистый белый листок. И сразу убежал от него, на допрос гражданки Баздаровой, учинившей дебош в доме свекра. В течение дня было еще несколько совершенно неотложных дел, и каждый раз, возвращаясь, я натыкался на неумолимый листок на своем столе. И вот рабочий день закончен… Три минуты, ей-богу, это даже смешно! Я взрослый человек, я обещал дома. Баба плакала, дед неожиданно оказался таким старым… Пора пожалеть их, в самом деле!
— Может, все-таки передумаешь, хрыч? — спросил Григорий. Я поднял на него глаза. Оттого, что я сидел, а Гриша стоял, он показался мне еще выше — огромный, с атлетической грудью, которую красиво облегал синий свитер. Солнце из окна мягко освещало левую сторону его лица, широкую бровь, темный глаз и великолепный ржаной ус, спускающийся почти до скульптурного подбородка.
— Гришка, — спросил я, — в тебе есть метр девяносто?
— Обижаешь, — сказал он, — девяносто два. Так, может, останешься? Ты ведь умный, хрыч, наблюдательный, из тебя через пару лет…
— Нет, Гришка, — сказал я, — слово дал. Понимаешь? Мы еще постояли с ним у окна, глядя, как Люся собирает костер из листьев и сора. Гришка открыл форточку и крикнул: «Люся! Сейчас пожарную охрану вызову!» Люся разогнулась, подняла голову и знаком показала, чтобы мы бросили сигаретку. Гриша достал из портфеля пачку «BT» и бросил ее через форточку, к ногам Люси. Та подняла пачку, изумленно покачала головой и послала Гришке воздушный поцелуй — смешная, в старом мужнином пиджаке и стоптанных белых туфлях…
— Ты домой? — спросил я.
— Нет. Дежурю, — ответил Гришка. — А ты так и не пришел ко мне. Галя пирог с капустой пекла. И Аленка ждала тебя, невеста твоя. Ей в пятницу четыре стукнуло. Я взглянул на него и подумал — что ж я с ним делаю? С ним, с Галей? Почему укрываюсь от них? Почему боюсь их лиц, их глаз? Себя потревожить жалко? И сказал:
— Прости, Григорий. Я обязательно приду, с Маргаритой. В эту субботу, хорошо? Только не надо с капустой. Я с картошкой люблю.
— Да не переживай так, — сказал он и обнял меня за плечо. — Прямо лица на тебе нет. Ты еще всеми нами командовать будешь. У тебя же не башка, а чистое золото.
Я махнул рукой и пошел к дверям.
— А рапорт? — спросил Григорий. — Так и не написал? Я вернулся, взял листок со стола, смял и бросил в корзину, чтоб он не мозолил глаза.
— Завтра напишу, — твердо сказал я. — Что я — не успею?
— Успеешь, конечно, — сказал Григорий и почему-то хитро рассмеялся. Я хлопнул дверью и пошел по коридору. И слышал, как Григорий все еще смеется в кабинете.
* * *
…Наверное, не нужно было идти сегодня к Наде, но я пошел. Одно к одному, день сегодня такой выдался. Я поднялся на четвертый этаж и позвонил в квартиру тридцать восемь. Открыл мне довольно несвежий парень, в мятой голубой майке и таких же мятых брюках. Судя по всему, он был уже прилично «поддатый». «Это не мое дело, — сказал я себе. — Все. Я почти свободен. Я не следователь, я нормальный гражданин. Мне нет дела до того, сколько сомнительных элементов проживает в нашем районе».
— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Надю, — попросил я.
— А ты кто есть? — спросил он.
— Володька! Закрой дверь, сквозит! — крикнул из комнаты мужской голос.
— Надю позовите, пожалуйста.
— А Надька здесь больше не живет, — почему-то злорадно сказал он. — Квартиру получила.
— По какому адресу? — спросил я. — Адрес скажите, пожалуйста!
— Нет адреса, — с удовольствием проговорил он. — Не оставила, ясно? Не хочет с родней знаться, ясно тебе? Вот и дуй отсюда, пока уши торчком. Я повернулся и стал спускаться вниз. «Ладно, — подумал я, — Надю я найду и так. Все остальное — не мое дело». Парень в голубой майке стоял в дверях и с видимым удовольствием смотрел мне вслед.
— Володька, кто там еще? — крикнули из квартиры. — Закрой дверь, сквозит!
— Надькин мужик какой-то… — громко ответил Володька. — Смотреть не на что… А та, голубица, тоже, строила из себя… — и он так же громко сказал о Наде слово, к которому я до сих пор не могу привыкнуть. Это слово гулким веселым эхом покатилось по подъезду. Тогда я повернулся и побежал вверх, к нему. Мне показалось, что я бегу слишком долго, слишком медленно, как во сне, или в воде, а он почему-то так и стоял в дверях и смотрел на меня с любопытством. Может быть, он думал, что я возвращаюсь узнать — не сильно ли сквозит на папашу Булдыка. Во всяком случае, он почему-то не сопротивлялся, когда я схватил его за обе лямки голубой майки, выволок на площадку и стал колотить о лестничные перила. От неожиданности он просто потерял ориентир и только впустую махал руками, ища опоры. Я успел прилично отделать его морду о перила, когда из квартиры выскочил папа Булдык, одной рукой схватил сына за ту же многострадальную майку и впихнул в квартиру, а меня сильно пнул в спину, так что я слетел вниз на целый пролет, и дальше уже мчал на своих двоих, не оглядываясь. Мне было весело. Все-таки здорово я отделал Володьку, хотя, конечно, нельзя забывать, что он был пьян, и значит, это несколько снижает торжество по поводу победы. Я шел домой и думал, почему у меня так нелепо складываются отношения с будущими родственниками… Что Маргаритин отец Толя-рыжий, что эти голубки… Куда я все лезу и что хочу доказать? Что я страстно хочу изменить в этих людях? И почему думаю, что я, именно я, имею право заставить их поступать так, а не иначе? Ведь я всего лишь один из них… Дурак, думал я, ты ж сам себя убеждал, что отныне свободен, что тебе нет дела… Значит, все-таки, не свободен? Значит, есть, черт возьми, дело?
— Все! — сказал я бабе в коридоре. — Завтра напишу рапорт. Вы довольны? Вы счастливы, наконец? Теперь мне все равно. Устраивайте меня. Пристраивайте меня. В метро. В «Торгпиво». В городскую ассоциацию ассенизаторов! В хорошую семью!
— Тихо, — сказала баба. — Деду делают укол. Валентина Дмитриевна прислала к нам очаровательную девочку, Надюшу. Пойди познакомься и веди себя, как человек. Впрочем, разве тебе кто-нибудь понравится! Скажешь — книг мало читала, и на одной ножке плохо вертится… Что ты уставился на меня? Я расстегнул деревянными пальцами пуговицу на рубашке у ворота и сказала бабе:
— Только не вздумай совать ей свои злосчастные деньги. Это моя будущая жена…
* * *
Утром меня разбудил телефонный звонок. Я судорожно выхватил из-под подушки ручные часы. Четверть седьмого. Вчера я вернулся поздно, потому что провожал Надю, и мы долго сидели на раскладушке в ее новой совершенно пустой квартире, а под другую раскладушку спрятался Надин сын Митька. Он стеснялся меня и не хотел вылезать. Телефон все звонил, и я снял трубку. И не сразу узнал Сережу Темкина.
— Саша, — сказал он странным голосом, — хорошо, что застал тебя…
— А, привет работникам следственного отдела! — стараясь, чтобы получилось бодро, воскликнул я. — А я вам нынче волк свинье не товарищ, сыскные вы крысы! Копошитесь, братцы, а я вольный орел! Сокол! Ястреб! Беркут!
— Саша, Григория убили… — тихо сказал он. И не ожидая моего голоса в трубке, словно понимая, что я не смогу ни выдохнуть, ни выдавить из горла слова, добавил:
— Приезжай, надо помочь.
* * *
Мы шли по коридору, по которому каждый день ходили с Гришей, и Сергей рассказывал:
— Рутинный вызов. Хулиганство. Пьяный муж дебоширил… Молодой мужик, жена, ребенок… Поехали Григорий с Ядгаром.
— Подожди, — сказал я, — пьяный муж дебоширил. Какой адрес?
— Ну, я не помню, старик.
— Подожди! — я остановился, сердце у меня колотилось. — Улица Космонавтов, дом семь, квартира… квартира, кажется, четырнадцать?
— Ну, кажется…
— Дом такой, старый, трехэтажный?..
— Да… — он смотрел на меня удивленно, не понимая.
— Мужик этот — слесарь?
— Ну, в том-то и дело, старик! Черт знает, как эта отвертка у него в лапах оказалась. Саша, ты что? Я привалился к стене, не мог дышать. Вздохи получались, а выдохи — нет.
— Сережа, — выдавил я. — Это из-за меня Григория убили…
— Ты что? — крикнул Сергей. А я не слышал ничего. Я его по губам понимал. В голове моей гулким прибоем шумела кровь.
— Подонка этого не забрал… Пожалел жену… Она умоляла…
— Брось, старик, ты это брось, ты что… — повторял Сергей и все тряс меня за плечо. — Мало ли кого мы берем или не берем? А сколько их сам Гришка не брал? А я сегодня ночью одного алкаша дочери оставил, она в ногах валялась… Он тряс меня за плечи яростно и жестко, и эта тряска, честное слово, помогала мне дышать. Думаю, если бы Сережа ударил меня, мне бы очень полегчало, я бы выдохнул наконец из горла этот обжигающий ком ужаса и боли. Но он отпустил мое плечо и проговорил с тоской:
— Ты мне лучше скажи, как к Лизе идти? Ведь она еще не знает… Как я к Лизе пойду, а?.. Что Лизе скажу…
* * *
На крыльце стояла Люся — нарядная, причесанная, торжественная. В седой комсомольской стрижке сидел на затылке гребешок. Казалось, ради такого дня она даже чуть распрямилась.
— Саша, угощайся, — сказала она сурово и протянула мне пачку «BT», ту самую, Гришину. Я взял из пачки сигарету, и мы закурили.
— Вот так, Саша, вот так… Хороним Григория… — с таким же суровым достоинством продолжала она. — Эх, Гриша, Гриша, молодой ты, красивый, — чего не жить? Наверное, так надо, наверное, так принято у людей, чтоб и смерть обсудить толково, спокойно, с достоинством. Поговорить надо степенно, постичь все это… Но я не мог говорить, я пробормотал что-то и поднялся в актовый зал, где лежал Григорий. В дверях столкнулся с Сережей и Ядгаром. Видно было по повязкам, что их сменили у гроба.
— Иди, — сказал: Сергей, — там Галя с дочкой. Поговори, успокой, ты же ее хорошо знаешь.
— А Лиза? — спросил я, — что Лиза?
— Лизу увели, — сказал Ядгар, — неудобно, понимаешь… Стоит законная жена, понимаешь, дочка… А тут Лиза кричит… Появился Гена Рыбник, встрял между нами и сказал убежденно:
— Жизнь человеческая — комедия… Я отвернулся, чтобы не видеть его, и вошел в зал. Григорий лежал на столе, и в зале пахло свежеструганным деревом. Лицо у него было бледным и утомленным, Казалось, Григорий сейчас вздохнет и буркнет сквозь сон: «Дайте поспать, хрычи, тяжелое было дежурство…» И Галя была такая же бледная, исплаканная, разве что стояла с открытыми глазами. За руку ее цеплялась Аленка. Мы обнялись, Галя заплакала горько и сказала:
— Саша, прошу тебя, уведи куда-нибудь ребенка. С тобой она пойдет. Я поднял Аленку на руки, обнял ее покрепче и быстро вышел из зала. Мы спустились во двор, обошли гаражи и на заднем дворе, где росли два старых платана, я опустил Аленку на землю и присел рядом с ней на корточки.
— Смотри, Елена Григорьевна, — сказал я ей, — видишь, это осень, видишь, листья падают.
— А почему падают? — спросила она.
— Они прожили целое лето, а теперь умирают. Но весной они появятся снова. И так будет каждый год.
— Всегда-всегда? — спросила она, доверчиво глядя на меня глазами Григория.
— Всегда-всегда, — твердо ответил я…
* * *
…Мы несли Григория под голубым, глубоким, голубиным небом, долго несли Григория, медленно, целых три квартала. Потом расселись по машинам, по автобусам и поехали на кладбище — хоронить.
* * *
…Я бесшумно открыл дверь и сказал бабе, которая дожидалась меня в прихожей:
— Потом. Завтра…
— Все? — только спросила она.
— Все, — ответил я и зашел в нашу с Маргаритой «детскую».
— Не зажигай свет, — попросила баба тихо, — Маргаритка засыпает. Я раздевался в темноте молча, бесшумно, отупело. Маргарита еще не заснула и бормотала что-то, рассказывала самой себе сказку. Я стянул через голову свитер и вдруг прислушался к ее бормотанию:
— …и он сказал громовым голосом: «Раз так, то я нашлю на тебя оглохлую тишину, и ты захочешь слово сказать, да не сумеешь…»
Я вдруг больно поперхнулся сухим колючим всхлипом, рванувшим грудь. Схватил свитер, скомкал его и ткнулся в него лицом, чтобы Маргарита не слышала, как я плачу — впервые за сегодняшний страшный день. Я плакал и не мог остановиться. Плакал и ничего не мог с собой поделать. Я молча трясся и давился в скомканный свитер, и в ушах моих звучал эхом смех Григория в кабинете, тот хитрый непонятный смех. Что ты хотел сказать этим дурацким смешком, Гришка? Что ты понимал обо мне такое, чего сам я не понимал? Маргарита засыпала и бормотала все глуше, тише, утопая в детском безмятежном сне:
— …И будет везде кругом высоченная тишина… выше травы, выше домов, выше деревьев… И над ней только птица будет летать. Я поднялся, не вытирая слез, распахнул дверь и сказал бабе негромко и твердо:
— Заведи будильник, пожалуйста. Мне завтра, как обычно… 1984 г.