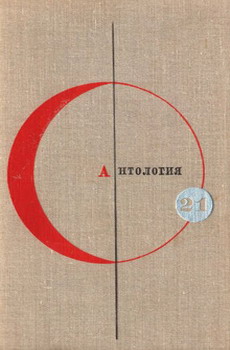
Джон Бойнтон Пристли
Дженни Вильерс
1
В знаменитую Зеленую Комнату театра “Ройял” в Бартон-Спа можно попасть двумя способами. Если вы вошли в театр через главный подъезд, вам надо пройти бельэтаж и идти дальше по коридору, минуя кабинет директора. А из-за кулис вы поднимаетесь по темной лестнице и проходите мимо дверей двух актерских уборных, предназначенных для звезд. Мартин Чиверел, проникнувший в театр через служебный вход, как раз и стоял на верхней площадке этой темной лестницы, и хотя дверь. Зеленой Комнаты была закрыта, оттуда доносился шум голосов, которые сливались в какое-то идиотское кваканье. Чиверел взялся было за ручку двери Зеленой Комнаты, где прием был в самом разгаре, но, вместо того чтобы открыть дверь, он вдруг прислонился к пей. Ему было скверно — он чувствовал себя смертельно усталым и старым, как мир. Ква-ква-ква-ква. Господи, спаси нас и помилуй!
Затем кваканье прекратилось как раз тогда, когда он почти уже заставил себя повернуть ручку. В конце концов, хоть он и приготовил все извинения, это как-никак был его прием. За дверью раздались вежливые аплодисменты. Кто-то собирался произнести речь, и десять против одного, что это был мэр города, какой-нибудь торговец скобяными изделиями, важный и усатый. Да, это был мэр, который, подобно многим муниципальным ораторам, стремился каждому своему слову придать особый вес и особое значение.
— От имени городского совета Бартон-Спа, — возглашал он, — я с самым огромным удовольствием приветствую в нашем старинном городе высокоталантливых актеров и актрис, приехавших с мистером Чиверелом из Лондона, чтобы показать нам здесь, в Бартон-Спа, премьеру его новой пьесы… э-э… “Стеклянная дверь”.
Мэр выговорил название не сразу и с некоторым удивлением. Последовала продолжительная пауза, и Чиверел, угрюмо стоя перед дверью и чувствуя себя в этой полутьме каким-то призраком, мысленно сказал мэру, что его милости предстоит удивиться еще больше, прежде чем он, Чиверел, окончательно добьет его своей “Стеклянной дверью”.
— Мы предвкушаем, и с большим нетерпением, возможность увидеть эту пьесу до того, как ее увидят в Лондоне, — продолжал мэр, бросая каждое слово как свой главный козырь. — И я уверен, что мистер Чиверел и его актеры найдут здесь зрителей не хуже, чем в любом другом месте, — мы тут все завзятые театралы и всегда готовы хорошо посмеяться.
“Бьюсь об заклад, что готовы”, — подумал Чиверел, когда присутствующие неизвестно почему вдруг разразились смехом, а кое-кто даже зааплодировал. Видно, готовы гоготать, пока у них головы не отвалятся. Но подождите, скоро он с ними разделается.
— Мы здесь, в Бартон-Спа, — заливался мэр, явно приступая к неисчерпаемой теме, — очень гордимся нашим старым театром “Ройял”, которому насчитывается почти двести лет и который связан с величайшими актерами и актрисами своего времени. Мы не жалели ни времени, ни сил, да, ни денег, чтобы сохранить этот славный старый театр, в том числе и вот эту старую Зеленую Комнату, в надлежащем виде, чтобы сохранить все, что возможно, как напоминание о том, что это один из самых старых театров в стране. Многие считают его лучшим театром за пределами Лондона. Ну, а мы-то точно знаем, что это так и есть.
Снова смех, аплодисменты. Справедливо, подумал Чиверел; прекрасный старый театр, один из лучших в своем роде, а Зеленая Комната просто уникальна и заслуживает большего, чем случайное упоминание в речи мэра. Очаровательная старая комната; если бы только вымести отсюда весь этот идиотский прием.
— Итак, — сказал мэр, — леди и джентльмены, приехавшие сюда поразвлекать нас, просим принять наши лучшие пожелания вашему спектаклю, а вам — приятного времяпрепровождения, чтобы вы захотели приехать еще раз. — Новые аплодисменты. Очевидно, это было все, что имел сказать мэр. И если Чиверел собирался войти и держать ответную речь, то сейчас было самое время. Но он не двинулся с места.
— Леди и джентльмены, — это был, кажется, голос коротышки Отли, директора театра, — поскольку мистер Чиверел задерживается, я попрошу мисс Паулину Фрэзер, ведущую актрису труппы “Стеклянной двери”, ответить от его имени.
Ну что же, Паулина сделает это как нельзя лучше своим прелестным — “дорогие—зрители—позвольте—поблагодарить—вас” — голоском, со скромной миной на лице, но озорно сверкающими глазами; само очарование — блестящая, отлично одетая… Да, вот и ее голос — здесь, в сумраке за дверью, он звучал нестерпимо фальшиво.
— …Должна извиниться за отсутствие мистера Чиверела… знаю, как он будет огорчен, что пропустил эту чудесную встречу… Все мы в труппе высоко ценим выпавшую нам честь играть в вашем прекрасном старом театре…
— Раздались аплодисменты остальных участников труппы, аккуратные и профессиональные. Паулина продолжала: — Мы все слышали и читали о знаменитом старом театре “Ройял” в Бартон-Спа и об этой старой Зеленой Комнате, которую вы сохранили с такой удивительной бережностью. В ней есть своя, особая атмосфера, просто чудесная, хотя временами и кажется, что тут должны водиться привидения.
Ее слова, разумеется, вызвали несколько смешков; но это как раз правда, подумал Чиверел. До сих пор он был слишком занят пьесой и успел только беглым взглядом окинуть Зеленую Комнату, но даже тогда он почувствовал ее особую атмосферу. А сегодня вечером он, наверное, мог бы ощутить эту атмосферу полнее и глубже, если бы только его оставили здесь одного на час или два, Но, вероятно, сейчас он был потому восприимчивее к ней, что стоял в этом буром сумраке, как на старой картине, покрытой толстым слоем лака, и в сумраке, обступавшем его со всех сторон, сам был похож на привидение.
— В вашем старом театре, куда мы привезли новейшую пьесу, которую сегодня должны еще раз прорепетировать, — воскликнула Паулина, как всегда, с безупречной дикцией, — поэтому я надеюсь, что никто не налегал на коктейли слишком усердно… — Искусно рассчитанная пауза для смеха, который не замедлил последовать. — Итак, я хотела сказать, что в вашем старом театре я вновь почувствовала, какая удивительная вещь Театр. — Тут ее понесло, и оркестр зазвучал во всю мощь. — Всегда он не то что прежде, всегда при последнем издыхании, но каким-то образом он всегда воскрешает свое очарование и обретает новую жизнь — может быть, просто потому, что в нем есть и теплота, и человечность, и глупость, и красота, как и в самом человеке. Да, просто потому, что он бесконечно близок нашему сердцу. Вот почему мы так счастливы и горды, что служим Театру. И так счастливы и горды, что находимся здесь. Большое спасибо.
Раздались аплодисменты. Тогда он вошел, аплодируя вместе со всеми, но ленивее прочих и с некоторой иронией. В Зеленой Комнате, набитой до отказа, было светло и жарко; пахло как в обезьяннике; он почувствовал, что сморщивается, коченеет, высыхает и стареет, что он уже не пятидесятилетний драматург, а таоистский отшельник, почти такой же древний, как и его пещера среди далеких голубых холмов. Может быть, его никто и не заметит — оттого что сумрак совсем размыл его. А здесь так много увесистой плоти, к тому же еще пропитанной мартини.
Коротышка Отли, который был за распорядителя, слегка подвыпивший и порозовевший, но все замечавший, увидел его первым.
— Мистер Чиверел! — вскричал он, бросаясь ему навстречу.
Паулина, одетая в черное, высокая и красивая, под летела к Чиверелу, забыв, что половина Бартон-Спа все еще здесь:
— Мартин, негодник! Ты подслушивал!
Раздались смешки, еще аплодисменты, возгласы “Просим!”, и Отли поднял руку.
— Мистер Чиверел, — объявил он, — пришел как раз тогда, когда пить уже поздно, но еще не поздно сказать несколько слов. Итак, мистер Мартин Чиверел.
Пятьдесят или шестьдесят пар глаз — одни круглые, другие прищуренные, но во всех — ожидание… Что же делать — выдать им полминуты пустопорожней болтовни или прямо высказать все, что он думает, — проглотят, как миленькие, даже если им не понравится. Он взглянул на них растерянно и в то же время иронически. Ну ладно, пусть получат свое — они же всегда готовы хорошо посмеяться . На это уйдет больше сил, чем он должен расходовать; чтобы просто стоять здесь под их взглядами, и то требовалось огромное усилие, но он призвал на помощь Старую Гвардию, как ему уже не раз приходилось делать последнее время; после этого он заговорил — спокойным и уверенным тоном почетного гостя.
— Я имел удовольствие слышать прелестную речь мисс Фрэзер, — сказал он после обычных реверансов в сторону мэра и именитых граждан города. — И, мне кажется, едва ли должен извиняться за свое опоздание. Мисс Фрэзер ответила от имени всех нас гораздо лучше, чем это смог бы сделать я. — “Пока неплохо; а теперь сотрем с их лиц этот слегка остекленевший взгляд”. — Но я не могу согласиться с тем, что она говорила о Театре. У меня появились серьезные сомнения в том, что Театр способен обрести новую жизнь и былое очарование. “Стеклянная дверь”, премьеру которой мы здесь покажем, — это последняя из написанных мною пьес и, вполне возможно, последняя моя пьеса вообще.
Это вызвало шум — кое-где удавленное и испуганное перешептывание, а кое-где просто шум. Ни то, ни другое гроша ломаного не стоит. Но он успел заметить, что Паулина нахмурила брови. Бедняжка Паулина!
— И может быть, мне следует предупредить вас, — продолжал он, надеясь, что говорит как нельзя более непринужденно, — после всех этих разговоров о сердечной теплоте и готовности хорошо посмеяться предупредить, что “Стеклянная дверь” — это серьезная попытка рассказать о мире, каков он есть, и о людях, каковы они на самом деле, вследствие чего она может показаться вам мрачной и довольно неприятной пьесой — совсем не такой, как вы ожидали. На этот случай я заранее прошу вас принять мои сожаления. — Он старательно улыбнулся им, но вместо улыбки получилась натянутая, сухая, словно пергаментная, усмешка. — И позвольте заверить вас, господин мэр, — заключил он с фальшивой мягкостью и теплотой, — что мы высоко ценим ваш прекрасный старый театр и дружеское гостеприимство, с которым вы нас приняли. Благодарю вас.
На этом после нескольких неуверенных хлопков прием и закончился. Официанты начали убирать со столов; горожане потекли к одному выходу, актеры — к другому; Отли представил Чиверела мэру, который оказался не усатым торговцем скобяным товаром, а гладко выбритым галантерейщиком. Чувствуя, что он просто обязан это сделать, Чиверел проводил Отли, мэра и его охрану и свиту до конца коридора, который вел к главному входу. Это была нелегкая работа, настоящая епитимья, потому что Чиверел отчаянно устал и мечтал поскорее сесть. “Боже, — мысленно взмолился он, — пошли мне глубокое кресло и никаких людей”. Тем временем откуда-то вынырнула женщина с попугаичьим лицом из числа тех поклонниц, которые превращают жизнь знаменитости в пытку. Она сказала Чиверелу, что его пьесы всегда были счастьем ее жизни; однако, неся эту мерзкую чепуху, она не переставала подозрительно буравить его маленькими глазками, точно озлобленный неудачами сыщик.
— Вы знаете эту женщину? — спросил он Отли, когда они наконец отделались от нее.
— Нет, мистер Чиверел, хотя я тут знаю чуть не каждого.
— Ничего удивительного. С некоторых пор мне кажется, что они и не люди вовсе. — Он печально посмотрел на коротышку Отли. — Я думаю, это исчадия ада, — прошептал он и побрел обратно в Зеленую Комнату.
2
Официанты — из театрального буфета и приглашенные — сделали свое дело быстро и аккуратно. Никаких следов только что закончившегося приема уже не было видно. Зеленая Комната стала почти прежней, мрачноватой, но изысканной Зеленой Комнатой. В ней тесной кучкой стояли три человека — три его ведущих актера: Паулина Фрэзер, высокий Джимми Уайтфут, похожий на гвардейского офицера, которым он и вправду когда-то был, и старый Альфред Лезерс, семидесяти с лишним лет, грузный, совершенно седой и имевший потрепанный и смешной вид, какой бывает у боксеров, ушедших на покой, и у старых характерных актеров. Едва Чиверел вошел, они как-то сразу отодвинулись друг от друга, не сделав при этом ни одного сколько-нибудь заметного движения. Чиверел понял, что против него готовится заговор.
Лезерс ухмыльнулся.
— Ну как ты расстался с его милостью мэром?
— Он считает, что я скромничаю, — беспечно ответил Чиверел. — Мне так и не удалось втолковать ему, что я говорил о пьесе вполне искренне.
— Ну, я надеюсь, ты не слишком усердствовал.
— Нет, — сказал Чиверел. — Мне надо сесть. — И он тяжело опустился в кресло. — Если хотите начинать первый акт, давайте. Я спущусь попозже. Ко мне тут должен прийти врач.
— Мартин! — Паулина сразу же встревожилась.
— Да нет, все в порядке. Ничего страшного. Старая история. Упало давление. Поэтому я и явился на этот проклятый прием к шапочному разбору.
Паулина не успокоилась.
— А у врача ты был?
— Да. Он как будто человек толковый. Обещал принести какое-то зелье, которое должно мне помочь. И я буду в полном порядке. — Он взглянул на них с насмешливой улыбкой. — Вас можно принять за депутацию.
— Ну что ж, дружище, пожалуй, можно считать и так, — примирительно сказал Лезерс.
— Тогда выкладывай. — О боже! Он любил их всех троих. Паулина и славный старина Альфред были его давними друзьями, но сейчас он хотел бы, чтобы их унесло за тысячу миль, на какой-нибудь тихоокеанский остров. Или нет, пусть остаются здесь, а остров он взял бы себе. Он зажмурился, чтобы полюбоваться игрой воды в лагуне, потом широко открыл глаза.
— Третий акт?
Лезерс взглянул на двух остальных.
— Видите, он знает.
— Да, Мартин, — серьезно сказала Паулина. — Третий акт.
Теперь слово взял Джимми Уайтфут.
— Мы все почувствовали это несколько дней назад. Но притворялись даже друг перед другом, что ничего страшного не происходит.
— А после сегодняшней утренней репетиции мы не можем больше так продолжать. — Паулина бросила на него безнадежный, но пылающий взгляд и с силой закончила: — Мартин, мы все ненавидим этот третий акт.
— Это верно, дружище, — печально сказал Лезерс.
— Не поздновато ли вы это заметили? — сухо, но беззлобно спросил Чиверел. — В понедельник у нас премьера.
Паулина отмахнулась.
— Да, но поскольку это ты… и потом, нам ведь и раньше случалось вносить изменения в последнюю минуту… так что еще время есть… — Она не договорила.
— Время для чего? — спросил он мягко.
— Для того, чтобы написать и отрепетировать другой финал — не такой циничный и горький и… и не такой безнадежный. Альфред, Джимми, ну скажите же ему… — И она отвернулась, явно расстроенная.
— Она совершенно права, дружище, — сказал Лезерс необычайно торжественно. — Мое мнение — а уж мне-то полагается все знать, ведь я пятьдесят лет варюсь в этом котле, — мое мнение, что у них такой финал никогда не пройдет. Им это вообще не по зубам. А если ты стоишь на своем, тогда мы здесь провалимся.
Чиверел воспринял это легко — он слишком устал, чтобы противостоять такому серьезному напору. Как все актеры вне сцены, они говорили с чрезмерной аффектацией, словно играли для верхнего яруса и галереи.
— Может быть, ты и прав, Альфред. Но меня это не очень волнует. И в конце концов пусть будет великолепный провал, который никому из вас не причинит большого огорчения.
— Постой, Мартин, — сказал дотошный Уайтфут. — Мы с Паулиной вовсе так не считаем. Мы думаем, что даже если пьеса пойдет, она не принесет людям добра. Люди пережили тяжелые времена, и они не хотят больше испытывать боли… и мы чувствуем то же самое…
— А то, что твои персонажи говорят и делают, — неправда, — осуждающе перебила Паулина. — Я просто не верю им… Все это ложь.
— Одну минуту, Паулина, — сказал он спокойно. — Ты вместе с остальными читала пьесу. Мы обсуждали ее.
— Да, но тогда мы не понимали, каким безысходным и безнадежным будет третий акт. — Она решительно стояла на своем. — Ты-то, конечно, знал это. Но мы не знали. В конце пьесы между людьми не остается ни проблеска взаимопонимания… Каждый бормочет что-то, будто запертый в стеклянном шкафу…
— Кстати, пьеса и называется “Стеклянная дверь”, — напомнил он.
— С таким же успехом ее можно было назвать “Стеклянный гроб”! — выкрикнула взбешенная Паулина.
За этой репликой, которую бродвейский режиссер оценил бы как самую кассовую в спектакле, последовала пауза — пауза, определенно неловкая. Лезерс и Уайтфут переглянулись. Паулина, отнюдь не плакса, по-видимому, готова была разрыдаться; но она пересилила себя и сказала двум актерам:
— Идите вниз и начинайте первый акт. Скажите Бернарду, что к своему выходу я буду на месте.
— Хорошо, радость моя, — ответил Лезерс и вышел вместе с Уайтфутом, что-то громко мурлыча себе под нос, как он обычно делал в своих знаменитых комических сценах под занавес. Паулина села на маленький стул с прямой спинкой рядом с глубоким креслом Чиверела. Некоторое время она молчала и даже не смотрела на него. Но он смотрел на нее и думал о ней. Сколько ей лет теперь — сорок пять? Ей столько не дашь. Когда-то он пытался убедить себя и ее, что он в нее влюблен, но из этого ничего не вышло: они по самому своему существу были всего лишь коллегами и друзьями. Где-то был у нее муж, с которым она теперь не встречалась и о котором не вспоминала, и дети — мальчик и девочка, оба они еще учились в школе на средства Паулины; кроме того, она содержала мать и больную сестру, которая вечно находилась в клиниках. Отличная актриса, умная и добросовестная, быть может, слишком умная и добросовестная; быть может, ей не хватает какой-то искорки неожиданности, какого-то намека на неведомые измерения бытия, но она вполне стоит своих семидесяти пяти фунтов в неделю. Темноволосая, красивая, одаренная, и нет в ней этих отвратительных капризов, за которые проклинают стольких актрис. Он очень ценил ее и по-своему был к ней привязан. Но он знал, хоть и ненавидел себя за это, что томящий холод, подобно арктическому безмолвию сковавший его душу, неподвластен ее влиянию; она вроде бы не существовала для него; слова и поступки ее бессильны были растопить этот лед. Короче говоря, когда она смотрела на него вот как сейчас, сквозь слезы, он не видел ее. И каким предательством это было по отношению к верному коллеге, преданному другу!
— Ну что, Паулина?
Внешне она была спокойна, но волнение еще не прошло, и голос ее чуть дрожал.
— Дело не только в том, что пьеса провалится или причинит людям боль и сделает их жизнь еще тяжелее, такой конец — неправда. И это совсем не ты, Мартин.
— Вот тут ты ошибаешься. Это именно я. И я верю, что это правда. — Он помолчал. — Ты недовольна тем, что в конце пьесы между моими персонажами исчезает взаимопонимание. Но ведь так оно и в жизни, детка. Никакого взаимопонимания, разобщенность. Все бормочут и строят рожи за стеклянными дверьми.
— Нет, — сказала она, — в жизни все иначе.
В ответ он чуть было не предложил ей взглянуть на себя и на него — когда-то почти любовники, в течение многих лет коллеги и верные друзья, а теперь — непонимание, разобщенность: стеклянная стена. Но он удержался и выбрал другой путь.
— Я не собираюсь обкладывать зрителя грелками и давать ему снотворное…
— Никто тебя и не просит, — резко оборвала она.
— Пусть их проберет дрожь, пусть они потеряют сон и хоть один раз в виде исключения задумаются, прежде чем опять жечь и взрывать друг друга…
— А они вполне могут взяться за старое, если жизнь такова и только такова…
— Хорошо, пусть их. — Теперь он не устоял перед искушением порисоваться. — Но этот безнадежный финал, который ты так ненавидишь, — это мой прощальный дар нашему уютному, раскрашенному дому терпимости, Театру — милому, теплому, глупому, славному Театру с его вечным очарованием, о котором ты рассказывала мэру и муниципалитету…
Рассерженная, она вскочила на ноги.
— Перестань издеваться. Это была не фраза. Я говорила то, что думала.
— Я тоже думаю то, что говорю. Открою тебе секрет, Паулина. Примерно через час мне должен звонить из Лондона Джордж Гэвин, и десять против одного, что он предложит мне совместное владение и руководство тремя лучшими театрами Вест-Энда…
Она сразу оживилась.
— Ты же всегда этого хотел.
— Хотел когда-то. Но это пришло слишком поздно, как и многое другое. Когда нет ни идеала, ни подлинного взаимопонимания, ни…
— Да провались оно, твое взаимопонимание! Ты же не откажешься от его предложения?
Чиверел ухмыльнулся. Порисоваться еще? Нет, это дешевка; но он должен был доставить себе какое-то удовольствие напоследок перед уходом в бескрайнюю холодную пустыню своего внутреннего мира.
— Вот именно откажусь. Со множеством благодарностей. Я же сказал тебе, что с этим покончено.
Она с ужасом смотрела на него, потому что они не раз часами говорили о том, что было бы, если бы представилась такая возможность.
— Мартин, я не верю.
— Это правда, — сказал он на этот раз твердо и спокойно. — Я по-прежнему буду писать, может быть, киносценарии — время от времени, ради денег, — но для Театра больше писать не буду. Впрочем, это неважно, потому что Театр, каким мы его знаем, долго не просуществует. Прежнее волшебство потеряло силу. Да, я знаю, я слышал твои слова: он всегда при последнем издыхании. Но не забывай, что даже самые упрямые больные в конце концов поворачиваются лицом к стене. И, по-моему, сейчас в жизни Театра как раз такой момент.
— И тебя это нисколько не волнует?
— В какой-то мере волнует. Но не слишком.
К его удивлению, однако, она восприняла это вполне хладнокровно. Только посмотрела на него долгим задумчивым взглядом, как смотрят на больных.
— Сейчас тебя вообще мало что волнует? — спросила она.
— Да. Я сделал почти все, что я хотел сделать…
— Нет, не все. Ты не сделал главного — того, что должен был и действительно хотел сделать…
Чиверел поднял брови.
— Что же я хотел сделать?
— Бежать из своей внутренней тюрьмы, — сказала она резко. — Разбить стеклянную дверь, которую ты соорудил для себя.
— Этого не в силах сделать никто из нас, — ответил он, пожалуй, слишком категорично.
— Откуда тебе знать? Ты еще даже самого себя не знаешь. — Она помолчала, печально взглянула на него и тихо добавила: — Я знаю, что тебе плохо, Мартин, ты устал и выдохся, — может быть, мне не стоит говорить дальше…
— Продолжай, — сказал он мрачно. — Я выдержу.
— Не знаю. Ты усталый, больной человек, Мартин.
— О боже! — почти закричал он в раздражении. — Ты скоро посадишь меня в инвалидную коляску! Говори, в чем дело?
— Дело в том, Мартин, — и я давно хотела тебе сказать это, — что ты развращен успехом. Ты получил слишком много, и все досталось тебе слишком легко. И поскольку тебе не для чего — и не для кого — работать, бороться, не о чем и не о ком заботиться, ты заскучал, стал циничным и желчным, замкнулся в себе самом и вообразил, что знаешь о жизни все.
Он задумался над ее словами и пришел к выводу, что она совершенно не права. Что-то с ним не так, но дело совсем в другом. Ему пятьдесят, и он лет на пятнадцать старше тех, к кому можно отнести сказанное ею. Умные набалованные молодые люди — вот кто скучает, становится циничным и желчным. Он был далек от таких глупостей; но он не осуждал Паулину за то, что она этого не понимала. Он чувствовал невероятное, безмерное утомление и одиночество, словно вся его энергия, весь интерес к жизни куда-то улетучились. Может быть, одна какая-нибудь железа перестала нормально работать и нарушила баланс в организме. А может быть, весь механизм износился. Но не было смысла углубляться в эту тему с Паулиной, поэтому он просто проворчал, что он счастливчик и знает, что многим беднягам не так везло, как ему…
— Нет, нет! — воскликнула Паулина. — В том-то и дело. Вот где ты обманываешь себя, Мартин. Другие тут ни при чем. Это все ты, ты. Ты вообразил, что у тебя все уже в прошлом, что ждать больше нечего, поэтому от всего тебя воротит. И ты изобретаешь сложные теории, чтобы объяснить это. Разобщенность! Стеклянные двери!
— Не думаю, чтобы это было правдой, — сказал он мирно. Он отлично знал, что это неправда. — Но, предположим, ты права. Что же дальше? Вот я. Как я могу измениться?
Она с озадаченным видом посмотрела на него и жалобно проговорила:
— Я не знаю. Если бы это пришло откуда-то изнутри, из глубины… Но я не думаю, что это придет вообще, потому что ты надежно изолирован и защищен своей искушенностью и опытностью. — Она взглянула на него. — Но где-то за всей этой искушенностью и опытностью, скукой и желчностью живет совсем молодой, сбитый с толку и разочарованный человек… и одинокий… потому что ему не с кем поговорить — он заперт там один. Я поняла это десять лет назад, когда нам казалось, что мы влюблены друг в друга. И я старалась добраться до него, чтобы его ободрить, но не смогла — или ты не позволил мне, — и оттого все пошло вкривь и вкось. Ах, проклятье! — Слово вырвалось у нее потому, что она не хотела плакать, но вдруг обнаружила, что плачет. Она отвернулась, стараясь взять себя в руки. А Чиверел подумал, что голова ее как-то нелепо раскачивается из стороны в сторону, и тут же мысленно обругал себя за бесчувственность. Бедная Паулина.
— Прекрасная теория, моя дорогая, — сказал он мягко. — Но даже если бы это было правдой, тут, по-видимому, ничего не поделаешь.
— Я знаю. Это безнадежно. До того, другого Мартина Чиверела, который заперт там… один, можно добраться только чудом.
— А чудес не бывает. — Он немного помолчал. — И ты еще осуждаешь меня за то, что в конце моей пьесы все оказываются как бы за стеклом и яростно жестикулируют, но их никто не понимает…
— Нет, я не осуждаю тебя, — сказала она устало, словно они спорили уже многие годы. — И я не стану больше ничего говорить. Ты не изменишь этот безнадежный страшный третий акт. Ты уйдешь из Театра…
— Который все равно умирает, — заметил он.
Она повернулась к нему, вспыхнув от негодования.
— Конечно, он умрет, если такие люди, как ты, покидают его. — Затем она продолжала прежним тоном. — Но сейчас я думаю о тебе: вот ты перестал писать по-настоящему, а просто убиваешь время, стареешь, становишься черствым… и жалким.
Актерская дверь медленно, со скрипом отворилась, и Альфред Лезерс просунул голову в щель. Паулина поспешно отвернулась.
— Прости, что помешал, дружище, — сказал Лезерс, — но мы чертовски прочло застряли на этой телефонной сцене из первого акта. У Бернарда появилась идея сделать купюру. Может, ты спустишься на минутку и посмотришь?
Чиверел сказал, что спустится, и Лезерс исчез. Проходя мимо Паулины, все еще подавленной, Чиверел потрепал ее по плечу.
— Прости, Паулина. Не стоит так расстраиваться. Скоро твой выход. — И он пошел вниз на сцену.
3
Пока Чиверел был внизу, где сначала обсуждал предложенную Бернардом купюру, а потом трижды смотрел, как актеры прогоняют новый вариант телефонной сцены, в Зеленой Комнате случилось одно происшествие, о котором впоследствии Паулина подробно ему рассказала. Она решила задержаться там на две-три минуты, чтобы не показываться остальным в таком виде. Она тронула карандашом веки, напудрилась и, не совсем еще придя в себя, закурила сигарету. Она впервые оказалась одна в Зеленой Комнате. Это была старинная комната, довольно большая, обшитая темным деревом, со множеством портретов по стенам. Там стояли два высоких застекленных шкафа, полные костюмов, мелкой бутафории и разных безделушек, превратившихся теперь в театральные реликвии. Это подобие музея должно было бы придавать комнате безопасный и достаточно унылый вид. Но Паулина вовсе не ради смеха сказала в своей речи, что здесь водятся привидения. В этой мрачноватой, далекой комнате не было окон, и теперь, когда Паулина осталась одна, вся атмосфера, не зловещая и угрожающая, но словно насыщенная какой-то невидимой тайной жизнью, угнетала ее. Закурив сигарету, Паулина попыталась сосредоточиться на Мартине Чивереле и забыть, что она в Зеленой Комнате, но безуспешно. Она уже хотела уйти, вернее, обратиться в бегство, как вдруг снаружи послышались голоса, и дверь распахнулась.
В комнату влетела девушка, за ней с негодующими возгласами следовал встревоженный Отли. Девушка была растрепанная, в коротком коричневом пальтишке из твида и темно-зеленых спортивных брюках, и Паулина сразу поняла, что это актриса.
— Ах! — разочарованно вскричала девушка, оглядевшись по сторонам. — Его здесь нет. — Она с трудом переводила дыхание.
— Теперь вы видите, — сказал Отли, чье круглое красное лицо выражало глубочайшее неодобрение, — что все это ни к чему! Постыдились бы врываться подобным образом. Что бы это было, если бы все стали вести себя так, как вы?
— Да плевать я хотела! — сказала девушка, и это была не грубость, а просто отчаяние в соединении с молодостью. — Дело в том, что я не “все”. Я актриса, и я должна видеть мистера Чиверела.
— В таком случае вы выбрали неудачный способ, — сказал Отли и повернулся к Паулине: — Прошу прощения, мисс Фрэзер. Я пытался ее остановить, но…
— Ах! — воскликнула девушка, широко раскрыв огромные круглые глаза. Она не была хорошенькой, но теперь Паулина увидела, что у нее своеобразная внешность, хорошее для актрисы лицо, широкоскулое, с красивыми темно-зелеными глазами, дерзким маленьким носиком и мягким выразительным ртом. — Вы — Паулина Фрэзер, это правда?
— Да, — улыбнулась Паулина, — а вы?
— О, вы никогда обо мне не слыхали. Меня зовут Энн Сьюард…
— Послушайте, мисс Сьюард… — начал Отли.
Но Паулина остановила его.
— Ничего, мистер Отли. У меня есть еще несколько минут, и я могу поговорить с мисс Сьюард.
— Пожалуйста, мисс Фрэзер, — уступил Отли. — Я ведь только старался, чтобы не потревожили мистера Чиверела.
Девушка неожиданно улыбнулась ему очаровательной улыбкой.
— Ну, конечно! Не сердитесь, я должна была сюда попасть.
Отли пошел к двери, ворча:
— Не уверен, что должны, но вижу, что попали…
Едва дверь за ним закрылась, Энн Сьюард с таинственным видом повернулась к Паулине.
— Понимаете, что произошло: я работаю в Уонли в репертуарном театре, это миль тридцать отсюда, и когда я узнала, что мистер Чиверел показывает здесь свою новую пьесу, я поняла, что мне просто необходимо с ним встретиться. Я вообще-то не такая, то есть я не всегда вот так нахально вламываюсь, а то меня, наверное, не взяли бы в уонлейский театр.
— Может быть, и нет, — улыбнулась Паулина, — но ведь у вас еще все впереди. Вы такая молодая.
Энн этого не находила.
— Мне двадцать три года, — объявила она печально.
— Ну, это не так уж много.
Энн посмотрела на нее с восхищением.
— Вы великая актриса. Когда у меня осенью выдалась свободная неделя, я отправилась в Лондон и, помню, во вторник пошла смотреть вас в пьесе Мартина Чиверела “Блуждающий огонь”.
— Это чудесная пьеса!
— Да. Я ходила и в среду, и в четверг. Три раза. Вы играли удивительно. Только… вы не рассердитесь, если я скажу одну вещь?
Паулине стало смешно.
— Все может быть. Но давайте рискнем.
Отбросив всякое смущение, девушка горячо продолжала:
— Вот в конце второго акта, когда вы узнаете о том, что он вернулся и ждет вас, — тут, по-моему, вы должны были бы все выронить, что у вас в руках, как будто обо всем забыли, и потом выйти прямо в сад. Вы не сердитесь, что я это сказала?
— Нет, что вы! Собственно, я и сама хотела сделать что-то в этом роде, но наш режиссер мне бы не позволил. Знаете… мне кажется, вы настоящая актриса…
— Вы так думаете? — в восторге воскликнула девушка. — Я знаю, что я актриса. Конечно, в провинциальном театре это безнадежно, а уж у нас в Уонли и подавно. Я могла бы играть в тысячу раз лучше, если бы мне только удалось получить роль, особенно в пьесе Чиверела. Пожалуйста, мисс Фрэзер, я не хочу надоедать, мне самой противно так врываться, но я просто должна его видеть. Где он?
— Он сейчас внизу, на сцене, но скоро вернется сюда. Только я вас предупреждаю, он очень устал и не в духе и не хочет никого видеть…
— Я его не потревожу. Я только спокойно объясню, кто я такая и что я делала, и попрошу его посмотреть меня.
Паулина кивнула.
— Садитесь. Хотите сигарету?
— Нет, спасибо. И если вы не возражаете, я не стану садиться. А то мне как-то неспокойно.
Она в первый раз за все время обвела взглядом комнату, и у нее перехватило дыхание от внезапного и жадного юного изумления.
— Какая чудесная комната! Это и есть их знаменитая Зеленая Комната, о которой столько говорят?
— Да, — сказала Паулина. — И им в общем удалось сохранить ее такою, какой она была когда-то.
— Так жалко, что теперь у нас нет Зеленых Комнат! — Энн продолжала смотреть по сторонам. — Тут ужасно здорово! — прибавила она доверчиво и простодушно, как ребенок.
— Многие боятся сюда заходить из-за привидений, — сказала Паулина.
— Еще бы, здесь их наверняка полным-полно, они только и ждут, как бы показаться и шепнуть вам на ухо…
— Ах, перестаньте! — воскликнула Паулина.
— Нет, — сказала Энн. — Это ведь не обычные привидения — не убийцы и не сумасшедшие старухи; эти должны быть из наших — актеры и актрисы, которых, как и нас с вами, Театр лишил сна и покоя. И я бы их нисколько не боялась. Они тут, я уверена, их тут десятки. Мисс Фрэзер, — продолжала она возбужденным шепотом, — а вам не хочется посидеть тут поздно вечером и покараулить?..
Вот что значит двадцать три года!
— Боже избави! — воскликнула Паулина. — Я бы умерла от страха.
И внезапно, охваченная ужасом, вонзившимся в нее сотнями холодных иголок, она поняла, как ей страшно уже сейчас, в эту самую минуту, и поскорее села, предоставив девушке в одиночестве бродить по комнате, разглядывать портреты.
— Наверное, все они здесь когда-то играли, и в те времена этот театр был покрасивее, чем теперь, — сказала Энн, обернувшись. — Вот Эдмунд Кин — сразу видно, что хороший актер, правда? Элен Фосит — симпатичная. Мэтьюс-старший — этот наверняка был сногсшибательный комик… — Она шла дальше. — Миссис Йайтс… Мисс Дженни Вильерс в роли Виолы. Акварель. Дар Шекспировского общества города Бартон-Спа. Дженни Вильерс. Красивое имя. Я никогда о ней не слыхала, но почему-то имя мне кажется знакомым. Могу поспорить, что ей тоже приходилось докучать людям, прежде чем ее согласились посмотреть, хотя она такая милая и печальная, и волосы вьются локонами. Ой, что это?
Паулина испуганно вскинулась.
— Что такое? Что там?.. Я ничего не видела.
С минуту они смотрели друг на друга. Потом Энн, с трудом переводя дыхание, но очень тихо произнесла:
— Ничего… но… вы ничего не почувствовали?
— Нет, — сказала Паулина смущенно. — Я думала, что вы нарочно напугали меня.
— Извините, пожалуйста, — сказала Энн медленно и осторожно. — Но чуть только я это сказала — ну, про Дженни Вильерс, — я почувствовала вдруг легкое дуновение, очень холодное, и потом кто-то — или что-то — проскочил мимо меня. Ай! — И она уставилась на пол.
Паулина вскочила на ноги, вся дрожа от нервного напряжения.
— Что? Что там?
Энн указала на пол. В нескольких футах от ближайшего стеклянного шкафа на полу лежала старинная фехтовальная перчатка, оливково-зеленая с красным. Энн подняла ее.
— Ее тут не было, мисс Фрэзер. Клянусь вам, не было. Я бы заметила.
— Это от старого костюма, — сказала Паулина, подходя ближе и рассматривая ее. — Они тут хранят остатки старых костюмов и реквизита. — Она кивнула на стеклянный шкаф. — Перчатка могла выпасть оттуда. И все. Вот вы и почувствовали дуновение.
— Наверное, — сказала Энн медленно. — Только она не выпала. Она должна была выпрыгнуть, чтобы так пронестись мимо меня. Ой! — И она снова вытаращила глаза.
— Перестаньте визжать! — закричала Паулина, не в силах больше притворяться спокойной. — Что там еще?
— Дверца шкафа, — ответила Энн виноватым тоном. — Видите, она закрыта. Как могла перчатка…
— Дверца могла внезапно распахнуться, — запальчиво возразила Паулина, — а потом снова захлопнуться. Так часто бывает.
— Да, наверное. — Теперь она уставилась на Паулину. — Только немного странно, что перчатка так себя ведет, правда?
— Ничего тут нет странного, и, ради бога, перестаньте делать вид, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Мне предстоит провести тут еще десять дней, а вам нет. Положите ее на место.
Энн направилась к стеклянному шкафу.
— Это она сделала, — прошептала она. — Эта самая Дженни.
— Какой вздор! Ну, будьте умницей. — Паулина подошла к двери. — Мистер Чиверел должен вернуться с минуты на минуту. — Она приоткрыла дверь, чтобы слышать шаги всякого, кто станет подниматься по лестнице. — Я знаю, что он не захочет говорить с вами. Я постараюсь убедить его. Вам лучше подождать за дверью.
— Но если я буду еще здесь, ему поневоле придется поговорить со мной.
— Ничего подобного, — сказала Паулина сердито. Славная девочка, может быть, даже умненькая, но все-таки довольно приставучая. — Не забывайте, что с ним постоянно ищут встреч, а он этого терпеть не может, особенно сейчас. Делайте то, что я вам говорю, — это ваш единственный шанс.
Энн сразу сдалась.
— Да, вы правы. Только не считайте меня неблагодарной.
Паулина все еще стояла возле приоткрытой двери, прислушиваясь к звукам шагов, доносившимся снизу.
— По-моему, он уже поднимается. Постойте там и подождите. Я сделаю все, что в моих силах.
— Вы прелесть, — сказала Энн, направляясь к двери.
Оставшись в комнате одна, Паулина подошла к стеклянному шкафу, где спокойно лежала перчатка, и некоторое время задумчиво ее рассматривала. Потом подергала маленькую защелку шкафа, которая оказалась вполне надежной. Наконец достала перчатку и осмотрела ее со всех сторон, словно предмет, извлеченный из шляпы фокусника. Услышав шаги Чиверела, она быстро положила перчатку на место, но шкаф закрыть не успела.
Чиверел нес пачку писем и рукопись своей пьесы.
— Я был на служебном подъезде. Вот тебе два письма, — сказал он, протягивая их Паулине, — а эти все мне, в основном вздорные. С той сценой теперь все в порядке. Мы сделали крошечную купюрку. Минуты через две тебя позовут, Паулина.
В нише возле двери стоял небольшой письменный стол, и Чиверел положил на него свою корреспонденцию.
Паулина медлила.
— Я уже иду. Мартин, здесь одна девушка из местного театра. Она потратила целый день и приехала сюда только ради встречи с тобой.
Чиверел раздраженно передернул плечами и сел.
— Отли незачем было впускать ее. — Он вскрыл письмо и пробежал его глазами. Его нисколько не интересовала эта девушка, но он понимал, что говорить с Паулиной, повернувшись к ней спиной, просто свинство. Но даже несколько минут работы на сцене вымотали его, и он мечтал, чтобы Паулина поскорее ушла и оставила его одного.
— Отли пытался задержать ее, но не смог, — объяснила Паулина. — Это очень решительная девушка, и я не удивлюсь, если она окажется совсем неплохой актрисой. А теперь, раз уж она здесь, ты поговоришь с нею?
Не оборачиваясь, он резко ответил:
— Нет.
— Не злись, Мартин…
На этот раз он обернулся и взглянул на нее.
— Она не имела права врываться сюда. И я могу только сказать ей, что мне до нее нет ровно никакого дела. Прости, Паулина, но если даже она молодая Дузе или Сара Бернар, мне это совершенно безразлично. Просто меня это уже не интересует. И слава богу, мне не нужно искать многообещающих молодых актрис. Чего ради я должен отдавать себя на растерзание?
— Мартин, ты но прав, — укоризненно сказала Паулина. — Что за мерзость!
— Мисс Фрэзер, на сцену, — позвал кто-то снизу.
Уже с порога Паулина крикнула ему:
— Хоть бы с тобой что-нибудь случилось, Мартин. Не знаю что, но что-нибудь такое удивительное, чего нельзя объяснить, а можно только чувствовать. — И она хлопнула дверью.
Просматривая письма, Чиверел услышал, что другая дверь отворяется, но не обернулся.
Затем молодой голосок произнес:
— Я актриса, мистер Чиверел. Меня зовут Энн Сьюард.
Он даже не взглянул на нее.
— Вы не имели права входить сюда. Прошу вас уйти.
— Я играла во многих ваших пьесах… и я люблю их.
Чиверел торопливо порвал два конверта и письмо от женщины, приславшей ему пространную идиотскую заявку на пьесу о переселении душ.
— Но тем не менее я занят и не желаю вас видеть.
— И даже взглянуть на меня не желаете? — недоверчиво спросила девушка.
— Да, — ответил он сердито, не оборачиваясь. — Прошу вас немедленно уйти.
Последовала пауза — странная, недолгая пауза.
— Вы пожалеете, что сказали это, и очень скоро. — Она говорила с необъяснимой уверенностью. Чудная девица; голос как будто неплохой; но он все же не собирался замечать ее существование. Он слышал, как она ходит по комнате, и не мог понять, что она собирается делать. Потом она сказала, к его изумлению:
— Смотрите, перчатка опять на полу. Даже привидения за меня. Берегитесь!
Он услышал звук закрывшейся за ней двери, но еще некоторое время сидел неподвижно. А когда встал, то обнаружил, что она взяла фехтовальную перчатку из шкафа, дверца которого была открыта, и швырнула ее на пол, словно бросая вызов. Какая-нибудь давным-давно почившая и позабытая Розалинда носила эту перчатку, и он рассматривал и разглаживал ее с меланхолической нежностью. Когда там внизу, на сцене, впервые надели эту перчатку, ярко-зеленую с алым, Арденнский лес, где “время они проводили беззаботно, как, бывало, в золотом веке”[1], не казался таким далеким, таким безвозвратно утерянным, каким он кажется сейчас ему, равнодушному, утомленному человеку в полуразрушенном мире. В этой нелепой перчатке было что-то бесконечно женственное, она словно светилась отраженным светом того Театра, который некогда очаровал его, а теперь казался унылой площадкой для игр. Он собирался отнести ее на место, туда, где ей полагалось быть, но вместо этого неожиданно для себя положил на стол, а сам дочитал письма, написал короткую записку приятелю и нудное длиннейшее письмо своему агенту; часть писем он отложил в сторону, а остальные порвал к выбросил. Перчатка снова и снова притягивала его взор, и в ее ало-зеленом великолепии ему чудилась какая-то насмешка.
4
Чиверел опять услышал звук отворяемой двери и на этот раз стремительно обернулся, готовый растерзать наглую девчонку. Но это был Отли.
— Пришел доктор Кейв, мистер Чиверел.
— Прекрасно! Зовите его сюда. — Чиверел встал из-за стола. — Да, постойте, если после приема у вас осталась капля спиртного, спросите доктора, что он выпьет.
Отли ухмыльнулся.
— Само собой разумеется. Он не откажется от виски с содовой. А вы, мистер Чиверел?
— Нет, увольте. Но стакан воды мне может понадобиться, так что если вам нетрудно…
Стремительно вошел доктор Кейв, крупный, добродушный человек.
— Я подумал, что надо мне заглянуть сюда и потолковать с вами, прежде чем вы примете это лекарство. — И он достал небольшой флакончик белых таблеток с тем торжествующим видом, который многие доктора напускают на себя в таких случаях, словно они сию минуту сотворили чудодейственное лекарство прямо из воздуха.
— Очень вам признателен. Садитесь, пожалуйста, доктор, выкурите со мной сигарету и выпейте чего-нибудь.
Доктор Кейв хлопнул себя по колену и улыбнулся.
— Я сказал Отли, что, пожалуй, рискну выпить стаканчик виски с содовой.
— Он взял предложенную сигарету и закурил. — Я бы хотел, чтобы вы, если можете, посидели в этом чудном большом кресле еще часок—другой.
Отли принес виски с содовой и стакан воды.
— Прошу вас, джентльмены. Я послежу, чтобы вам не мешали.
— Спасибо, — сказал Чиверел. — А потом загляните сюда ненадолго — после того, как доктор уйдет.
— А это будет очень скоро, — сказал доктор Кейв. — Ведь я занятой человек. — Он подождал, пока Отли выйдет из комнаты, и поднял свой стакан.
— За успех вашей пьесы! Хм, оно, пожалуй, лучше того виски, которое мне удается добыть — когда удается. Вы, театральные люди, знаете, где его берут. Славный малый этот Отли, верно? Иногда я его вижу в нашем маленьком клубе. Он здорово управляется с этим старым театром, как вы находите?
Чиверел сказал, что и он того же мнения. Потом он откинулся назад и на секунду закрыл глаза, неожиданно почувствовав себя опустошенным и измученным; это сразу же снова превратило его посетителя во врача.
— Итак, мистер Чиверел, — заговорил он профессиональным тоном, — я помню ваши слова о том, что в течение ближайших нескольких дней вы не сможете отдыхать столько, сколько полагается. У вас очень низкое давление. Не хочу сказать — опасно низкое, я недостаточно хорошо вас знаю, чтобы говорить так; но все же оно съехало порядком, и вот вам результат: депрессия, упадок сил. Впрочем, тут могут быть и другие факторы…
— Какие именно?
— Нервные или психические, — ответил доктор. — Потеря энергии — любопытная штука. Но я не психоаналитик, — поспешно добавил он. — Все, что я действительно знаю, — это то, что переутомление может вызвать у вас серьезное нервное расстройство. Вы ведь уже не молоды, и стоит ли убеждать самого себя, что это не так?
— Я и не убеждаю, — чистосердечно сказал Чиверел и нетерпеливо заерзал в кресле.
Доктор Кейв показал ему таблетки.
— Я вам уже говорил утром, что это средство новое. Не буду делать вид, что я много о нем знаю. Но я думаю так: вам сейчас надо принять две таблетки и тихо посидеть часок в этом кресле; расслабьтесь, ни о чем не беспокойтесь, и увидите, как спокойно пройдет у вас вечерняя репетиция. А утром примете еще парочку.
— Хорошо, — сказал Чиверел, вытряхивая из флакончика две таблетки.
— Ну вот. Запейте — они скорее растворятся у вас внутри. — Он отхлебнул виски. — И если с полчаса у вас будут какие-нибудь странные ощущения, не тревожьтесь. Сидите смирно и отдыхайте — вот и все.
Проглотив таблетки, Чиверел задумчиво посмотрел на доктора и спросил:
— Скажите, доктор, ведь вам приходится видеть много страданий?
— Да. Вот уже после того как мы расстались, я повидал несколько прескверных случаев. А что?
— Я только что поспорил с одной актрисой, моим старым другом. Она осуждала меня за цинизм и желчность, за то, что мне все наскучило. И она не понимает, что это происходит потому, что я вижу, как тяжела и безрадостна жизнь для других людей. По ее мнению, причина в том, что у меня был слишком большой успех, и он достался мне слишком легко, и мне не за что было бороться, и так далее…
— Может быть, она и права, — сказал доктор Кейв. — Но при чем тут я?
Чиверел ответил ему откровенно:
— Я подумал, что вы являетесь доводом в ее пользу, а не в мою. В вас нет ни капли скуки, цинизма, желчи.
— Конечно, нет. Но это другое дело. Когда люди страдают, я стараюсь избавить их от страданий. Такая моя работа. Я борюсь за жизнь, и это меня поддерживает.
— Может быть, и мой долг — бороться за жизнь, — сказал Чиверел.
— Это долг каждого. — Доктор Кейв встал.
— Если бы только верить, что жизнь стоит того.
— Еще бы не стоит. Ваша беда в том — и тут вам приходится труднее, чем мне, — что писательская работа зависит от воображения, а оно у вас, должно быть, преувеличивает несчастья других людей и все страдания, существующие в мире. Особенно — вот это нужно запомнить, — когда падает давление и начинается депрессия, и все вам кажется таким трудным. — Он взял свой чемоданчик и шляпу.
— Возможно, вы и правы, — вздохнул Чиверел. — Хотя тот факт, что я всего-навсего клубок артерий да насос для перекачивания крови, не вызывает у меня прилива радости.
— Ну вот! — живо вскричал доктор Кейв. — Опять вы преувеличиваете. Я же не сказал, что вы состоите только из этого, но я действительно говорю, что и это имеет значение. Поэтому просто надо быть осторожным. Не забудьте, что я сказал. А лучше позвоните мне утром. Ну, теперь устраивайтесь поудобнее и постарайтесь расслабиться. — Он шагнул к двери, и как раз в этот момент в комнату заглянул Отли. — Отли, смотрите, чтобы мистера Чиверела около часа никто не тревожил. Ему нужен покой. И убавьте немного свет. Нет, ничего, я найду выход Спасибо за угощенье. Всего!
Удивительно, как изменилась Зеленая Комната, когда Отли выключил почти весь свет. Осталась только маленькая лампа на столике позади Чиверела да бра с тремя желтоватыми лампочками на стене недалеко от его кресла. Комната стала казаться вдвое больше. Отли, замешкавшийся у двери, потонул во мраке.
— Вы сказали, чтобы я зашел после доктора.
— Да. Присядьте на минуту.
Толстенький коротышка Отли взгромоздился на стул, на котором только что сидел доктор Кейв, совсем рядом с Чиверелом.
— У нас все очень ценят доктора Кейва, — заметил он. — Правда, сам я у него не лечился, я человек здоровый. Он вам дал что-нибудь принять, мистер Чиверел?
— Да, эти таблетки, — вяло сказал Чиверел и вытряхнул две таблетки на ладонь. — Кстати, через пол часа мне, вероятно, будет звонить из Лондона сэр Джордж Гэвин, и поскольку разговор предстоит важный, переведите его сюда, пожалуйста. Больше никаких звонков. И если сможете, не пускайте никого. Мне предписано отдохнуть перед репетицией.
Отли пристально посмотрел на него.
— Ну, конечно, мистер Чиверел. Я буду у себя в кабинете. А вам лучше бы принять таблетки, а?
Чиверел смутно чувствовал, что здесь что-то не так, но не мог сообразить, что именно.
— Да, пожалуй, приму.
Отли подал ему стакан воды запить лекарство, и когда он возвращал стакан Отли, тот заметил на столе перчатку.
— Э-э, как это она сюда попала?
— Вы о чем?
Отли показал ему перчатку.
— А, я нашел ее на полу. А в чем дело?
Отли снова сел, все еще держа перчатку в руке.
— Занятные истории тут рассказывают о двух-трех вещицах, — сказал он негромко. — В том числе и об этой перчатке. Вы же знаете эти россказни — одно суеверие.
— Я не суеверен. — Чиверел зевнул. Он не ощущал сонливости в обычном смысле слова, но чувствовал, что в любой момент может медленно выплыть из своего кресла.
— Я тоже, мистер Чиверел, — слишком поспешно отозвался Отли. — Нисколько не суверен. Но знаете, в таком месте иногда приходят в голову странные мысли. Я положу ее обратно в тот шкаф.
— А кому принадлежала перчатка? — лениво спросил Чиверел.
— Это никакая не знаменитость. Но лет сто назад она произвела здесь сенсацию и была любимицей местной публики, а умерла совсем молоденькой. Вы о ней, наверное, никогда не слыхали. Ее звали Дженни Вильерс.
Чиверел удивленно взглянул на него.
— Дженни Вильерс, — повторил он медленно. — Странно. Очень странно.
— Почему, мистер Чиверел?
— Я как раз думал о ней на днях, — произнес Чиверел по-прежнему медленно. — Вот как это было. Я искал какую-то фамилию в старом справочнике “Кто есть кто на театре”, а потом от нечего делать начал перелистывать страницы и дошел до последнего раздела под названием “Театрально-музыкальный мартиролог”.
— Я знаю, — сказал Отли, — там указывается дата смерти и возраст каждого умершего.
— Вот-вот. И это повторение слов “умер”, “умерла” после каждого имени, — продолжал он задумчиво, — звучит точно похоронный звон…
Он замолчал.
— И вам случайно попалось на глаза ее имя, — подсказал Отли.
Чиверел кивнул:
— “Дженни Вильерс, актриса, умерла пятнадцатого ноября 1846 года в возрасте двадцати четырех лет”. Видите, я запомнил даже эти подробности. И она заинтересовала меня. — Чиверел надолго замолчал, потом продолжал медленно, с усилием: — Она, видно, добилась какого-то успеха, несмотря на свою молодость, если ее включили в этот список. И все же ей было только двадцать четыре года, когда она умерла. Все у нее шло хорошо… наконец успех… а потом погасла, как свеча… — Он опять умолк и посмотрел на Отли с сонной виноватой улыбкой. — Дженни Вильерс. Прелестное имя. Наверное, ненастоящее.
— Я тоже так думаю, — сказал Отли. — Слишком уж красивое для настоящего, я бы сказал.
— Дженни, — продолжал Чиверел медленно и мечтательно, как он обычно никогда не говорил, — это что-то такое молодое и женственное, светлое, почти дерзкое. А Вильерс — такое величественное, аристократичное и немножко мишурное, как все старинные театральные имена. Я пытался представить себе эту девушку на коротком ее пути, улыбающуюся и делающую реверансы, освещенную огнями масляных фонарей рампы и газовых рожков этого странного, далекого, чопорного старого Театра сороковых годов… Я был очарован… и странно растроган… словно…
— Словно что, мистер Чиверел? — поинтересовался Отли.
Чиверел выдавил из себя смешок.
— Нет, не будем фантазировать. Но я думал о ней, почти уже начал видеть ее. И тут мне пришлось остановиться. Что-то случилось. А-а, кто-то позвонил мне… — Он осекся, словно почувствовав прикосновение чьих-то ледяных пальцев, и уставился на Отли как на привидение. — Да это были вы.
— Верно, я звонил вам однажды вечером, мистер Чиверел, — сказал Отли. — Насчет обкатки у нас вашей новой пьесы. Это было тогда?
— Да, именно тогда. Тогда я согласился на эти гастроли.
— Какое совпадение, что вы заглянули в этот справочник! — вскричал Отли, которого явно не коснулись ничьи ледяные пальцы. — Вы думали о ней и, сами того не подозревая, согласились приехать в тот самый театр, где она в последний раз выступала, ведь так?
Чиверел овладел собой. Он заметил с притворной торжественностью:
— Если бы наши жизни следовали таинственным, скрытым от нас предначертаниям, то вот вам хороший пример…
Отли не знал, как на это реагировать.
— Да, пожалуй, — сказал он нерешительно.
— Но наши жизни не следуют никаким предначертаниям, вот в чем штука. Потому-то я и сказал, что это было странно, очень странно.
Отли улыбнулся, кивнул, затем встал со своего стула.
— Я положу этот сувенир на прежнее место. — Он засеменил к стеклянному шкафу. — А если вы хотите узнать побольше о Дженни Вильерс, то кое-что здесь могло бы вас заинтересовать.
— Нет, — резко остановил его Чиверел. — Это ни к чему.
Его тон озадачил Отли, как, впрочем, и самого Чиверела, ибо он не мог понять, почему он так сказал.
— А-а, ну, конечно, мистер Чиверел, если вы хотите отдохнуть… Вам не стоит утруждать себя…
— Нет, нет, простите. Сам не знаю, что со мною вдруг… Может быть, из-за этого лекарства, которое я принял. Я с удовольствием посмотрю все, что вы там отыщете.
— Вот тут есть книжечка о ней, — сказал Отли, роясь в шкафу, — просто дань уважения ее таланту, написал кто-то из здешних жителей в то время. И еще вот этот маленький акварельный набросок, вы его, может быть, не заметили — это она в роли Виолы.
— Спасибо, — сказал Чиверел, взял акварель и стал ее рассматривать. — Гм. Так вот какова она была, бедняжка Дженни Вильерс.
— У вас руки дрожат, мистер Чиверел. Вы хорошо себя чувствуете?
— Да, это все из-за лекарства. Доктор сказал, что у меня могут быть странные ощущения. Словно плывешь. — Он взглянул ни книжечку и прочел надпись на титульной странице: — “Дженни Вильерс, дань уважения и памяти. — Составил Огастас Понсонби, эсквайр, почетный секретарь Шекспировского общества Бартон-Спа…” Сначала страница цитат, разумеется, все из великого Барда…
Готовься к смерти, а тогда и смерть
И жизнь — что б ни было — приятней будет.[2]
Готовься к смерти? Странная мысль, правда, Отли? Что дальше?
Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого…[3]
Понятный выбор. А вот другое. Послушайте:
У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него
Взывать к возлюбленной…[4]
— Я это, кажется, помню, — сказал Отли, снова усаживаясь. — “Двенадцатая ночь”, Виола — да?
— Да, — рассеянно ответил Чиверел.
— В этой роли ее, как видно, здесь больше всего любили. Только навряд ли книжечка стоит вашего внимания, мистер Чиверел. Старомодная возвышенная болтовня. А ее история очень простая. В то время здесь была постоянная труппа под руководством актера Эдмунда Ладлоу. Дженни Вильерс приехала сюда из Норфолка и стала играть главные роли. Влюбилась в здешнего первого любовника Джулиана Напье, но тот внезапно оставил труппу ради ангажемента в Лондон. Она заболела и умерла. Напье ненамного пережил ее. Он уехал в Нью-Йорк, запил и вскоре покончил с собой. Вот, собственно, что там сказано.
— Почти ничего, — медленно произнес Чиверел. — И почти все. — Помолчав, он прошептал, обращаясь больше к самому себе, чем к собеседнику:
Готовься к смерти, а тогда и смерть
И жизнь — что б ни было — приятней будет.
Отли собрался уходить.
— Я не забыл, что вы сказали, мистер Чиверел, — вы подойдете к телефону только на тот звонок из Лондона.
— Да, благодарю вас, — сказал Чиверел вяло. И затем, когда Отли удалился, он услышал свое собственное бормотание: “Шалаш я сплел бы, чтобы из него взывать к возлюбленной…” Словно впервые в жизни прочел он эти строки, словно это был какой-то неизвестный шедевр. “…Чтобы из него взывать к возлюбленной…” И словно был еще другой, никому не ведомый Шекспир, чьи трагедии были комедиями, а комедии — трагедиями, с шумным успехом шедшими где-то в тридевятом королевстве…
Было очень тихо. Стих даже легкий певучий шум в ушах, знакомый ему с тех пор, как врачи объявили, что давление у него пониженное. Застоявшийся бурый сумрак, который окутывал его, когда он слушал под дверью, что происходит на приеме, устроенном в его честь, теперь просочился и в Зеленую Комнату. Тени в нишах еще больше сгустились. Комната утратила форму и размеры. Сколько он принял таблеток? Две? Или по рассеянности принял еще две, а всего четыре? Он напрягся и глубже втиснулся в кресло, но почувствовал, что кресло тоже плывет. Ну что же, поплывем в сон. Острота времени исчезала, как всегда бывает в этом сумеречном состоянии между бодрствованием и сном. И все же где-то в глубине тлела искра настороженности, одинокий бессонный часовой на башне над огромным дремлющим замком его сознания. Что же дальше? Кто там идет?..
5
Он видел узкую полосу света, тоньше лунного луча, пробившегося через облака и пыльное стекло, — прежде его не было в комнате. Он не шел ниоткуда: он просто был здесь. Пристально вглядываясь, Чиверел понемногу осознал, что в луче движется, направляясь к двери, фигура, одетая в черное. Дойдя до середины комнаты, фигура остановилась. Чиверел различил теперь, что это довольно молодой человек, один из тех тощих до нелепости худых молодых людей в ранневикторианском костюме, которых постоянно рисовали Крукшенк и “Физ” . Чиверел успел сказать себе, что, вероятно, так оно и есть — просто какая-то пришедшая ему на память иллюстрация к Диккенсу спроецировалась в темноту. Но затем человек обернулся и взглянул на Чиверела; у него было бледное лицо с ввалившимися щеками и глаза, полные отчаяния. Чиверела охватил могильный холод и страх. Это уже не был фокус с пришедшей на память старой иллюстрацией. И книги тут были ни при чем. Человек пристально, почти с укором смотрел на него из какой-то холодной, потусторонней жизни. Чиверел хотел заговорить, но убедился, что не может издать ни единого звука. Фигура плавно скользнула к двери, слабый мерцающий свет рассеялся; в Зеленую Комнату возвратились бурый сумрак и тишина, и снова все стало как прежде.
Как прежде? Чиверел всмотрелся получше. Сама комната, несомненно, была та же, но кое-что в ней переменилось. Где высокий стеклянный шкаф, стоявший в нише напротив? И стены были не совсем те: что-то на них — может быть, портреты и старые театральные афиши — выглядело иначе. У Чиверела мучительно заболели глаза. Он прикрыл их и с удовольствием почувствовал, что снова плывет. Немного спустя он вдруг услышал голоса — совершенно отчетливо, так же отчетливо, как несколько минут назад он слышал голоса Отли и доктора. Но эти голоса пели — сначала мужской, затем два или три женских, — и вскоре он узнал, что они поют: это была старинная разухабистая песня “Вилкинс и его обед”. Пение звучало все ближе, и Чиверел открыл глаза. Лужицу света, в которой стояло его кресло, по-прежнему кольцом обрамляла тень, но теперь большая часть комнаты по ту сторону кольца была залита мягким золотистым светом, и свет этот, подобно слабому мерцанию, которое он видел только что, не исходил ниоткуда, но, как в сновидении, просто был здесь. Он ничуть не казался нереальным — он был здесь и был ясно виден, — но все равно Чиверел сразу же понял, что этот свет и свет над его креслом, теперь медленно убывавший, существуют в разных измерениях.
За дверью раздался низкий сочный актерский голос:
— Что тут стряслось, Сэм, дитя мое?
Кто-то другой, тоже актер, ответил:
— Мистер Ладлоу желает, чтобы все собрались в Зеленой Комнате.
Первый голос прокричал, теперь еще ближе:
— Да будет так! Леди, пожалуйте в Зеленую Комнату.
И они вошли — семь или восемь человек, все в костюмах сороковых годов прошлого века. Девушки подталкивали друг друга, болтали и хихикали. Один молодой человек важно курил большую изогнутую трубку. Обладатель низкого сочного голоса, старый актер, чем-то напоминавший Альфреда Лезерса, звался Джон Стоукс. Последней вошла пожилая, властного вида женщина, которая несла объемистую продуктовую корзинку и отзывалась на имя миссис Ладлоу.
Пока весь этот народ рассаживался в другой половине комнаты, угол, в котором сидел Чиверел, почти полностью погрузился во тьму. Изумленный появлением этих отнюдь не бесплотных привидений, он невольно поднялся со своего кресла, постоял немного и, не отрывая взгляда, сделал несколько шагов вперед. В том, что он видел перед собой, не было ничего размытого, потустороннего. Все казалось весьма основательным, последняя морщинка на лице старого актера Стоукса и блеклые пятнышки на платках и платьях женщин — все было как наяву. Дым из трубки молодого актера поднимался клубами и свивался в кольца, самый обычный дым, как от сигареты доктора. Но ни молодого актера, ни остальных — Чиверел сразу это почувствовал — не было здесь в том смысле, в каком здесь были доктор, Отли и Паулина. Он понимал: они здесь постольку, поскольку их можно видеть и слышать, но общаться с ними нельзя. Он словно наблюдал с близкого расстояния нечто среднее между кинофильмом и сценой из спектакля. Он знал, что контакт между ним и этими людьми — или призраками — невозможен. И хоть все это было странно и удивительно, он не ощущал тревоги и страха, как в тот короткий миг, когда весь похолодел под взглядом человека с бледным лицом и ввалившимися щеками.
— Попалось вам что-нибудь вкусное, миссис Ладлоу? — спросила молоденькая актриса со вздернутым носиком и давно не мытыми каштановыми локонами.
— Да, душенька, — серьезно и торжественно ответила миссис Ладлоу, которая явно следовала традиции Сары Сиддонс. — Четыре свиные отбивные и превосходная цветная капуста. Мистер Ладлоу, по счастью, без памяти любит свиные отбивные. Ведь ему понадобится много сил, чтобы выдержать этот удар.
— Ах боже мой! — воскликнула другая девушка, миниатюрная брюнетка. — Случилось что-то ужасное?
— Мистер Ладлоу все объяснит, — сказала жена мистера Ладлоу.
Снаружи послышался страшный грохот, крики “Нно-нно!” и “Стой, проклятый!”, и маленький толстяк — комик с головы до пят (это сразу было видно) — лихо въехал в комнату верхом на большом зонтике. Резко осадив, он сорвал с головы грязную шляпу с высокой тульей.
— Леди, ваш покорнейший слуга! — вскричал он и тут же разыграл сложную пантомиму: изобразил, что спешивается, и бросил зонтик, как поводья, старому Джону Стоуксу, который сразу же включился в игру. — Почисти-ка моего коня, любезный, и дай ему овса.
— Слушаюсь, сэр! — гаркнул Джон Стоукс в роли грума. — Ваша честь заночует у нас?
— Где там! — проревел комик. — У меня неотложное дело к герцогу.
— Сэм Мун! — укоризненно воскликнула миссис Ладлоу.
— Мам?
— Поберегите ваши шутки до вечернего представления, там они вам пригодятся. А сейчас они неуместны.
— Прискорбно слышать это, мэм, — сказал Мун, сморщив свою забавную круглую физиономию, — весьма прискорбно. Ведь бывали же у нас и прежде невзгоды — бывали, да миновали. Ага, вот и сам мистер Напье!
Мистер Напье, который при этих словах размашисто шагнул в комнату, несомненно, был первым любовником: это был статный, высокомерного вида молодой человек с длинными черными волосами, законченный тип романтического героя сороковых годов. Он носил широкий темно-синий галстук, отлично сидевший голубой сюртук и светло-серые брюки со штрипками. Минуты две Чиверел разглядывал его как красивую восковую фигуру, и только, но потом, словно коротышка Отли зашептал ему на ухо, в памяти вновь всплыло то, что Отли говорил о Дженни Вильерс: “Она влюбилась в первого любовника Джулиана Напье…” Джулиан Напье был перед ним. От волнения Чиверела начал бить озноб, в глазах все расплылось и так поблекло, что стало похоже на огромный дагерротип. Голоса тоже отдалились, но он слышал их почти без напряжения.
— Надеюсь, это будет не слишком долго, — произнес Джулиан Напье высокомерным премьерским тоном. — Через полчаса у меня назначена встреча с двумя джентльменами в “Белом Олене”. А, собственно, в чем дело, миссис Ладлоу?
Она холодно отвечала (Напье явно не был ее любимцем):
— Мистер Ладлоу все объяснит, мистер Напье. И можете быть уверены, что мистер Ладлоу не стал бы собирать всю труппу в этот час, если бы к тому не было серьезных оснований.
— Надо полагать, — сказал Напье. — Но я должен быть в “Белом Олене” к назначенному времени.
— А это что, важные птицы? — спросил Мун.
— Один из них баронет, — сказал Напье. — Он на днях брал ложу. — Он обвел взглядом труппу. — А где мисс Винсент?
— Я ее не вижу, — зловеще отозвалась миссис Ладлоу.
Послышались удивленные возгласы, и кое-кто начал переглядываться.
— Послушайте, однако ж, — сказал Напье, — что такое случилось?
— Все в свое время.
Актриса со вздернутым носиком и каштановыми локонами сообщила, что видела мисс Винсент в мистера Ладлоу как раз перед тем, как все поднялись сюда.
— Вы ошибаетесь, — величественно сказала ей миссис Ладлоу.
— Если так, то кто же это был? — спросила маленькая брюнетка. — Мне тоже показалось, что это не мисс Винсент.
Но тут в комнату вошел сам мистер Ладлоу. (В то время здесь была постоянная труппа, — говорил Отли, — под руководством актера Эдмунда Ладлоу. Но где же Дженни Вильерс? И, кажется, опять все выцветает и теряет ясность очертаний?) Мистер Ладлоу был широкоплечий пожилой человек с широкой грудью и римским носом.
— Леди и джентльмены, — возгласил он, отчеканивая каждый слог. — Мисс Винсент покинула нас. — Раздались крики изумления и досады, на которые мистер Ладлоу отвечал мрачной кориолановской улыбкой. — Покинула нас самым бесчестным и вероломным образом…
— И к тому же с преизрядными долгами в городе, — вставила миссис Ладлоу. — Только одному Тримблби она задолжала пять фунтов с лишком.
— Совершеннейшая правда, душа моя, — мягко и по-домашнему отвечал мистер Ладлоу. Затем, вновь обратившись в Кориолана, он продолжал ужасным голосом: — Я не стану говорить о неблагодарности…
— А я стану! — вскричала миссис Ладлоу. — Неблагодарная тварь!
— Но, как вам известно, — напомнил труппе мистер Ладлоу, — я предложил возобновить “Потерпевшего кораблекрушение” прежде всего ради мисс Винсент; она согласилась и позволила поставить себя на афишу в главной роли, а между тем — и я имею тому доказательства — она уже приняла предложение мистера Бакстоуна перейти к нему на маленькие роли…
— Совсем маленькие роли, — не без удовольствия присовокупила его жена.
— …по крайней мере, неделю назад. Этому, разумеется, не может быть оправдания. Черное предательство. В прежние времена она не смогла бы жить, совершив такой поступок, но ныне, когда честь приносится в жертву честолюбию, когда деньги и ложная гордость господствуют, не встречая сопротивления…
Нетерпеливый Джулиан Напье прервал его:
— Короче говоря, она ушла. И без нее мы, разумеется, не можем ставить “Потерпевшего кораблекрушение”. А как же с “Двенадцатой ночью”, о которой тоже повсюду объявлено? Теперь у нас нет Виолы.
Мистер Ладлоу сердито нахмурился.
— С вашего позволения, мистер Напье, я хотел бы продолжить. Конечно, мы не можем ставить “Потерпевшего”, поэтому я предлагаю вернуться к “Вдове солдата, или Заброшенной мельнице”, она всегда делает неплохие сборы. — Но актеры только вздохнули.
— Тут все дело в сцене боя, я уж говорил об этом, — подал голос старый актер Стоукс.
— Да, да, согласен, — отвечал ему Ладлоу. — На сей раз у нас будут специальные репетиции для сцены боя. А что до “Двенадцатой ночи”, ее можно отложить на две—три недели…
— А вы тем временем подыщете нам новую Виолу? — презрительно воскликнул Напье. — Не велика надежда.
Мистер Ладлоу, который явно разыграл всю сцену ради этой минуты, теперь торжествовал.
— У меня есть новая Виола. А также леди Тизл, Розалинда и Офелия. И если я не слишком ошибаюсь, гораздо лучше, чем мисс Винсент. — Он поднял руку, чтобы остановить шум. — Мистер Кеттл вспомнил, что в свое время наш друг мистер Мэрфи из Норфолка рекомендовал нам хорошую молодую актрису, желавшую перейти в другую труппу. Мистер Кеттл встретился с нею и привез ее сюда. Она уже читала мне из классических ролей, и превосходно читала. — Он повернулся к двери и позвал:
— Уолтер, сделайте одолжение…
Вся сцена словно сфокусировалась, очертания людей и предметов стали отчетливей, и краски вновь расцветили платья и шали, локоны и глаза. Вошел тот самый тощий нелепый субъект, который тогда двигался в луче слабого призрачного света и смотрел на Чиверела. Его тесный сюртук и панталоны, некогда черные, от времени и непрерывной носки вытерлись до блеска и приобрели зеленоватый отлив. Все в нем было жалким и приниженным — все, кроме горящих глаз. Но сейчас он улыбался, он сиял от радости — быстротечной радости горемычного и обреченного человека. Он больше не замечал присутствия Чиверела (если только он замечал его прежде); но Чиверел смотрел на него, не отрываясь.
— Леди и джентльмены, — сказал Уолтер Кеттл, едва заметно пародируя величественную манеру Ладлоу, — имею честь представить вам нашу новую юную героиню мисс Дженни Вильерс…
Она вплыла в комнату, излучая какой-то новый свет, — довольно высокая, стройная девушка в широком цветастом муслиновом платье с маленьким корсажем и — вместо бонетки, какие были на всех остальных женщинах, — в плоской соломенной шляпе с широкими изогнутыми нолями, открывавшими ее красивые локоны и овальное тонкое лицо. Она вся пылала от радостного возбуждения. И Чиверел почувствовал, как его пульс где-то глубоко внутри забился чаще, чтобы попасть в такт ее сердцу.
Улыбаясь, она сделала реверанс, и все, улыбаясь, приветствовали ее аплодисментами. И в этот момент она уронила маленький, пестро расшитый кошелек. Кеттл наклонился было за ним, но Джулиан Напье оказался проворнее и уже протягивал ей кошелек под хмурым взглядом Кеттла. Дженни Вильерс подняла глаза на статного высокого Напье и улыбнулась ему.
— Это ваше, мисс Вильерс?
— Благодарю вас.
— Я ваш новый партнер — Джулиан Напье.
Они стояли и смотрели друг на друга, и все вокруг смолкло, застыло; потом свет начал медленно рассеиваться, острые углы исчезли, краски потускнели и поблекли, и стремительным и бесшумным потоком нахлынул бурый сумрак. Больше не было ни звука. Но неподвижно сидевший Чиверел чувствовал, что плотный занавес прошедших ста лет еще не опустился, ему казалось, что он все еще видит неясные фигуры; они двигаются, делают реверансы и кланяются, словно Дженни — теперь всего лишь серое пятно во мраке — представляют всем актерам и актрисам труппы; но очень скоро это слабое, призрачное движение расползлось темными клочьями и совсем исчезло; и больше не осталось ничего — было только чувство растерянности и утраты да щемило сердце…
6
Он снова сидел в своем кресле; лампы над ним горели ровно и ясно, и все было так, как в ту минуту, когда Отли вышел отсюда.
— Вот, значит, как это началось, — пробормотал он, — ну да, разумеется, так оно и должно было начаться.
И теперь начинается заново? Да так ли это произошло — а может быть, все еще происходит там — или он видел сон? Ну конечно, сон! Из таинственных сокровенных глубин его существа, точно волна в океане, поднялось это странно живое сновидение, накатило и отхлынуло, и он опять остался один, дрожащий, потерянный, и сердце у него щемило, но он больше не чувствовал прежней безмерной усталости и не казался самому себе высохшим, как скелет в пустыне. Конечно, это таблетки. Они, должно быть, вовсю работают у него внутри, совершая там свои маленькие химические чудеса, чтобы заставить кровь энергичнее бежать по артериям. А его уснувшее, выключенное сознание, не ведая никаких наук, сотворило ослепивший его образ высокой стройной девушки с шелковистыми локонами. Из этого стеклянного шкафчика, из разговора с Отли, из перчатки и книжечки да акварельного наброска, висевшего на стене, внезапно возникла бедная Дженни Вильерс, вот уже сто лет как умершая и забытая повсюду, только не здесь. Разумеется, сновидение родилось из чувства утраты, а не наоборот. Во всяком случае, то был хороший сон, необычайно ясный и живой. Чиверел вновь вспомнил отдельные эпизоды и случайные обрывки разговоров. Удивительно, чего без всяких усилий может добиться в темноте уснувшее сознание! Если бы ему предложили сочинить подобную сцену на материале провинциального театра сороковых годов прошлого века он никогда не сумел бы написать ее без подготовки и с таким множеством убедительных деталей. Да, он уже чем-то обязан благоговейной заботе жителей Бартон-Спа об их старом театре и о Зеленой Комнате и этому высокому стеклянному шкафу. Он с благодарностью взглянул туда, где стоял шкаф, но убедился, что его нет на месте.
Потом женский голос отчетливо произнес:
— Да, душенька, но из этого можно извлечь куда больше. — Чиверел сразу же узнал этот голос, принадлежавший миссис Ладлоу. — Это главная сцена, — продолжала она, — и, надлежащим образом исполненная, она всегда встречает одобрительный прием.
Странный конус света теперь сузился, но стал ярче, чем прежде. Дженни Вильерс была без шляпы и одета была не в красивый муслин, а в простое коричневое платье для каждого дня. Миссис Ладлоу по-прежнему была в бонетке и шали и выглядела весьма величественно. Он сразу понял, что они репетируют в Зеленой Комнате. В них не было ничего потустороннего, это, несомненно, были женщины из плоти и крови: но столь же несомненной была пропасть во времени, непонятно как сознаваемая им: они находились здесь и все же находились за сто лет отсюда.
— Когда я играла эту роль, — говорила миссис Ладлоу, — я всегда вставала на носки и простирала руки на словах “О ужас, ужас!”, а потом на “Безумие, приди!” я скрещивала руки и закрывала ими лицо. Взгляните, душенька, как это делается.
Чиверел мгновенно понял, еще прежде чем увидел искорки в глазах Дженни, что девушка чувствует, насколько все это фальшиво и театрально. Привстав на носки, вытянув руки, отчего она сделалась похожей на огромную взбесившуюся ворону, миссис Ладлоу воскликнула своим глубоким контральто: “О ужас, ужас!” Потом она спокойно добавила:
— Ну и так далее, постепенно понижая до “Безумие, приди, возьми меня, отныне лишь тебе женой я буду”, — вот так…
Она наклонила голову, содрогаясь, скрестила руки и закрыла ими лицо. В этот момент Дженни неожиданно хихикнула.
— В чем дело, душенька?
— Простите, миссис Ладлоу. Я понимаю, что вы имеете в виду — вы так замечательно это показали. Только вот… эта мавританская принцесса желает стать женой Безумия — как же это глупо звучит…
— Надлежащим образом сыгранная, мисс Вильерс, — произнесла миссис Ладлоу тоном оскорбленного достоинства, — эта роль, смею вас уверить, всегда приносит успех. Спросите мистера Ладлоу. — Она повернулась и сказала в темноту: — Что, Уолтер? Пора на выход? Иду. Я проходила с мисс Вильерс главную сцену из “Мавританской принцессы”, которую она, кажется, не вполне еще оценила. Вот книга — попробуйте вы тоже.
Ее место в конусе света занял Кеттл, больше обычного напоминавший гротескную иллюстрацию ранневикторианской эпохи. Тем не менее Чиверел остро почувствовал, что режиссер в труппе Ладлоу был живой, страдающий человек, и подумал, что ему, наверное, не доплачивали, а работать приходилось сплошь да рядом больше положенного. Чем-то он был удивительно симпатичен Чиверелу.
— Боже мой, — говорила Дженни, — надеюсь, что я не обидела ее. Но знаете, я не смогла удержаться от смеха — и не над ней, а над этой ролью, она такая нелепая. Вы со мною согласитесь, вот послушайте.
Она встала в трагическую позу и, повторяя движения, которые ей только что показала миссис Ладлоу, продекламировала фальшиво-трагическим тоном:
О Карлос! Юный рыцарь благородный!
На казнь тебя я в страхе предала!
Израненный страдалец! Адской пыткой
Тебя терзали! Стон твой леденящий
Я слышу и сейчас… О ужас, ужас!
Отец бесчеловечный! Я молила,
Но ты не внял мольбам моим. Так скалы
На берегу прибою не внимают.
Безумие, приди, возьми меня!
Отныне лишь тебе женой я буду.[5]
Потом она серьезно посмотрела на Кеттла.
— Вы понимаете, мистер Кеттл? Я не могу это играть, потому что не могу в это поверить. Ни одна девушка никогда себя так не держала и не говорила так. Это неправда.
— Конечно, неправда, — сказал ей Кеттл. — Но ведь так же точно ни одна девушка не говорила, как Виола или Розалинда.
— Это не одно и то же. Мы хотели бы говорить, как Виола и Розалинда. Это то, что мы чувствуем, выраженное удивительными словами. Но здесь совсем другое. Все это просто ерунда. Взывать к Безумию, точно это какой-нибудь старый сосед-поклонник, — ну разве это не глупо?
— Да, — ответил Кеттл комическим шепотом. — Я уже много лет думаю то же самое. Язык, ситуации, жесты — все нелепо до крайности. Вы совершенно правы.
— Награди вас бог за эти слова! — воскликнула она. — Вот видите ли, если бы она сказала что-нибудь совсем простое и ясное, ну хоть так: “О Карлос, благородный Карлос, страх был причиною того, что я предала тебя и, быть может, погубила”. Вот просто встала бы здесь, взглянула на него…
— Сделайте так.
— Вы думаете, у меня хватит смелости?
Пока они стояли там и смотрели друг на друга, Чиверел обнаружил, что он стоит у самой границы, резко отделявшей свет от темноты, и говорит, обращаясь к ним через невидимую бездну лет:
— Да, друзья мои, да. Дерзайте, пробивайтесь сквозь рутину, ломайте старые, отжившие формы. Дерзайте, как все мы должны дерзать, чтобы дать Театру новую жизнь…
— Хорошо, — сказала она Кеттлу, и лицо ее просияло. — Я попробую.
Чей-то голос, показавшийся Чиверелу очень отдаленным, донесся сквозь мрак и сказал, что мисс Вильерс и мистера Кеттла просят на сцену.
— Идемте, — позвал Кеттл и, шагнув во тьму, исчез. Дженни неохотно последовала за ним, и свет двигался вместе с нею, быстро угасая.
— Дженни! — И Чиверел с изумлением обнаружил, что теперь это был его собственный голос. — Дженни Вильерс!
И вслед за тем произошло маленькое чудо. На какое-то удивительное мгновение она замешкалась, обернулась и растерянно посмотрела по сторонам, прежде чем утонуть в призрачном сумраке.
С переполненным и бьющимся сердцем Чиверел стоял посреди комнаты слегка пошатываясь и закрыв глаза. Когда он открыл их снова, то увидел, что настольная лампа и бра на стене возле его кресла горят спокойно и ровно. Дверь скрипнула, и клин света, яркий, резкий, такой неприятный по сравнению с тем, что он видел, когда оставался тут в одиночестве, расширяясь, проник в комнату. Вошел Отли.
— Вы звали меня, мистер Чиверел?
Чиверел смутился.
— Что? Нет, едва ли. То есть я уверен, что не звал.
— Мне показалось, что я слышал… — с сомнением произнес Отли.
— Наверное это я во сне.
Отли внимательно посмотрел на него.
— Как ваше самочувствие, мистер Чиверел? Хотите, я пошлю за доктором Кейвом?
— Нет, нет, не надо, — ответил Чиверел чуть раздраженно. — Все в порядке, благодарю вас. Я задремал, должно быть. А потом встал с кресла…
— Тогда я не буду вас беспокоить до звонка из Лондона. — И Отли сжал клин резкого белого света и исчез вместе с ним. Снова оставшись наедине с сумраком и тенями, растерянный и дрожащий, ни уже не чувствуя прежней сонной вялости, Чиверел осторожно вернулся в свой угол и опять уселся в большое кресло На этот раз он не закрывал глаз вовсе. Но и не просто бодрствовал. У него было то болезненно-нервное ощущение, знакомое ему по стольким премьерам, когда голова раскалывается от напряжения, а в груди и животе пусто и что-то сосет. Он был одновременно возбужден, и встревожен, и совершенно не способен ни о чем думать. Что-то томило его — какое-то волшебное чувство, которого он не испытывал в течение многих, многих лет блуждания, кружения по бесплодной пустыне. Словно где-то в этой его пустыне был глубокий холодный родник под зелеными деревьями. Это могло быть предсмертным миражем. Это могло быть, наконец, возвращением к жизни. Он взял нелепую книжицу, которую показал ему Отли, и поднес ее к свету настольной лампы, стоявшей позади него. “Дженни Вильерс — дань уважения и памяти…” Глубокая тишина окружила его. Комната ждала…
7
“Дань уважения и памяти. — Составил Огастас Понсонби, эсквайр, почетный секретарь Шекспировского общества Бартон-Спа…” Чиверел по-прежнему смотрел на титульный лист.
— Да, сэр, — сказал приятный тихий голос, — Огастас Понсонби…
— Что? — вскричал Чиверел, подскочив в кресле. С минуту ничего не было видно, но затем во тьме ниши медленно обрисовалась круглая фигура толстячка с бакенбардами, который сидел, поглаживая высокую коричневую шляпу.
— …Почетный секретарь Шекспировского общества Бартон-Спа и заядлый театрал, сэр.
Чиверел сделал шаг вперед, отметив про себя, что он воспринимает это нелепое привидение как нечто вполне естественное.
— Нисколько в этом не сомневаюсь. Однако, друг мой, я представлял себе привидения несколько иначе. — Но Огастас Понсонби обращался, разумеется не к нему.
— …Хорошо известный в городе, — продолжал Понсонби самодовольно, — и, без сомнения, известный и вам, мистер Стоукс, смею надеяться, как вернейший среди здешних поклонников талантливой группы мистера Ладлоу.
Ну, конечно, он разговаривал со старым актером Джоном Стоуксом, который теперь тоже стал виден. Это был вылитый Альфред Лезерс в костюмной роли: тот же помятый и смешной вид тот же сочный акцепт.
— Много наслышан о вас, мистер Понсонби, — говорил Стоукс. — А вам, без сомнения, не раз случалось меня видеть.
— Разумеется, разумеется, мистер Стоукс. Счастлив познакомиться. — Понсонби и в самом деле был счастлив, это чувствовалось. — Не представляю себе, что бы труппа делала без вас — такая разносторонность, такая сила, такая опытность!
— Старый актер, мистер Понсонби, — внушительно и торжественно произнес Стоукс. — За сорок пять с лишним лет можно научиться выдерживать в вечер по пять действий да еще фарс в придачу…
— Не только самому выдерживать, но, случается, и других поддерживать, а, мистер Стоукс? Ха-ха-ха! Я думаю, сэр, вам многое довелось повидать на Театре…
— Да, сэр. Я видел великие дни. И они уже никогда не вернутся. В молодости, мистер Понсонби, я играл с Эдмундом Кином, Чарльзом Кемблом, Листоном, миссис Гловер, Фэнни Келли…
— Великие имена, мистер Стоукс, великие имена! — Понсонби был в восторге.
— Да, воистину Театр был Театром в то время, мистер Понсонби, — сказал Стоукс своим густым баритоном. — Это было все, что имела публика, и мы старались для нее изо всех сил. Никаких ваших панорам, диорам и всего прочего тогда не было. Был Театр — такой Театр, каким ему подобает быть. А нынче они пойдут куда угодно. Жажда глупых развлечений, мистер Понсонби. И всюду деньги, деньги, деньги. Поверьте мне, сэр, Театр умирает; и хоть на мой век его, слава богу, хватит, я не думаю, чтобы он намного меня пережил. Старое вино выдохлось. И пьесы теперь уже не те, и публика не та, и актеры не те. — И он испустил глубокий, тяжелый вздох.
— Вы, несомненно, правы, мистер Стоукс, — я не смею оспаривать суждение столь опытного человека. Но все же я явился сегодня сюда именно затем, чтобы сказать мистеру Ладлоу, что многие из нас, здешних любителей и постоянных посетителей театра, хотели бы поздравить его с новым приобретением труппы — мисс Вильерс. — Тут он принялся раскланиваться и улыбаться, как маленький розовый китайский мандарин.
— Рад слышать это от вас, мистер Понсонби, — произнес старый Стоукс таким тоном, каким он, должно быть, говорил на сцене, изображая заговорщиков (для полноты картины не хватало только черного плаща, перекинутого через руку и закрывающего лицо до самых глаз). — Мисс Вильерс у нас всего несколько недель, но мы все ею чрезвычайно довольны. Конечно, она еще многому должна научиться, что вполне естественно. Я сам дал ей несколько указаний. Непоседлива, это верно. Но тут настоящий талант, сэр, и приятнейшая наружность, и в меру честолюбия — одним словом, у этой девушки есть будущее, сэр. Разумеется, если есть будущее у Театра, в чем я сомневаюсь.
Мистер Понсонби деликатно кашлянул.
— Сможем ли мы увидеть мисс Вильерс в шекспировских ролях?
— Сейчас она их репетирует, сэр, — загремел Стоукс, — она их репетирует. Да вот, кстати, и она!
Вошли Дженни, Джулиан Напье и Уолтер Кеттл с тетрадками ролей в руках. Мягкий золотистый свет, идущий ниоткуда, теперь наполнил большую часть комнаты, и Чиверел вдруг заметил, что находится гораздо ближе к нему, чем раньше, почти озарен им. Он по-прежнему ощущал пропасть во времени между ними и собой, но ощущал ее не так сильно, как раньше. Каким-то образом вся сцена вдруг очень приблизилась к нему, словно края пропасти начали смыкаться.
— Хэлло, Понсонби! — сказал Напье пренебрежительно. — Зачем вы здесь в такое время?
Маленький человечек смутился.
— Я искал мистера Ладлоу…
— Он собирался быть во “Льве”.
— Я провожу вас туда, мистер Понсонби, — вмешался Стоукс.
— Дженни, — улыбаясь, сказал Напье, — разрешите представить вам мистера Огастаса Понсонби, одного из наших постояннейших зрителей…
— А также, — поклонился Понсонби, — и одного из усерднейших и благодарнейших почитателей вашего таланта, мисс Вильерс.
— Я ничем еще не заслужила вашей благодарности, мистер Понсонби, — скромно отвечала Дженни. — Но, может быть, скоро… если мне повезет…
— Дело не в везении, а в работе, — резко сказал Кеттл. — И сейчас мы как раз должны работать. Просим нас извинить, мистер Понсонби.
— О да, конечно… это я должен просить прощения…
— Пойдемте-ка в таверну, — сказал Стоукс. — Обойдетесь часок без меня?
— И они вышли.
Трое оставшихся некоторое время молчали. Все чувствовали какую-то неловкость. Дженни, бросив быстрый взгляд на двух других, первая нарушила молчание.
— Он славный, по-моему…
Напье пожал своими широкими плечами — он был хорошо сложен и ж этот раз выглядел очень красиво в черном широком галстуке, коричневом сюртуке и бледно-желтых брюках — и сказал высокомерно:
— Маленький надутый осел. Но он здесь председательствует в каком-то шекспировском обществе, и в бенефис они берут по сотне мест…
Кеттл повернулся к нему:
— Он, может быть, и надутый, но совсем не осел и вовсе не похож на тех, кто гоняется только за билетами на бенефисы.
— Вы сегодня в дурном настроении, мистер Кеттл, — с улыбкой сказала Дженни. — Что-нибудь случилось?
На лице несчастного Кеттла выразилась вся боль и страдание влюбленного, потерявшего последнюю надежду человека.
— Простите, мисс Вильерс… это, должно быть, от усталости, — запинаясь, проговорил он. — Я, право, не хотел…
— Тебе нечего тут делать, Уолтер, — небрежно сказал Напье. — Ступай вниз. А я сам пройду с Дженни наши сцены. Мы за тем сюда и пришли.
Кеттл, сверкнув глазами, пробормотал:
— Это для меня новость…
— Что? — И Напье, выпрямившись во весь свой внушительный рост, надвинулся на сутулого и поникшего режиссера. — Уж не хочешь ли ты сказать, что я не в состоянии пройти с мисс Вильерс сцены, которые играл сотни раз? Да как ты…
— Джулиан, пожалуйста! — вскрикнула Дженни, выдавая себя в стремлении предотвратить ссору. Потом она улыбнулась Кеттлу. — Я знаю, как вы заняты, мистер Кеттл… и я нарочно просила Джулиана…
— Неправда, — грубо сказал Кеттл. — Это он просил вас , я слышал.
— Но я сама собиралась просить его.
— А я ее опередил, вот и все, — сказал Напье. Он посмотрел на Дженни, и Дженни посмотрела на него, и они остались вдвоем, за тридевять земель от Кеттла, который резко отвернулся, чтобы не видеть, как они смотрят друг на друга; теперь он был совсем близко от Чиверела — не только в пространстве, но и во времени и в ощущениях. И миг, когда Чиверел снова поглядел в запавшие глаза Кеттла, вдруг удивительным образом остановил это утро, прошедшее сто лет тому назад, и всю эту сцену, так что трое ее участников застыли, недвижные и безмолвные, как фигуры в стереоскопе.
— Так ты тоже любил ее. — Ни тогда, ни после Чиверел не мог решить, в самом ли деле он произнес эти слова или просто мысленно обратился к Кеттлу. — Любил безнадежно. Мечтал научить ее всему, что ты знал о сценическом искусстве, а мне думается, ты был здесь тем человеком, который действительно знал о нем немало; может быть, ты даже и учил ее, но никогда у тебя не было шансов, никогда никакой надежды. Потолковать бы нам с тобой как следует, Уолтер Кеттл. В тебе есть что-то от меня. Я точно знаю, каково тебе сейчас. А скоро будет хуже, много хуже, бедняга! Ну, делать нечего, иди своим путем.
Картинка вздрогнула и задвигалась, наполнилась звуками, ожила. Давно прошедшее утро потекло дальше, неся всех троих к предначертанному судьбой концу.
— Ну что ж, — с горечью сказал Кеттл, опустив свои худые черные плечи. — Я покину вас. Роли у вас есть.
— Да, — ответил Напье, величественный и небрежный, — хотя едва ли они нам понадобятся.
— Я тоже так думаю. — И Кеттл шагнул во тьму.
Свет, падавший на Дженни и Напье, чуть потускнел после ухода Кеттла, словно он унес какую-то часть его с собой — тайна, в которую Чиверел так и не смог проникнуть. Ибо ведь это была жизнь Дженни, он в этом не сомневался, и все волшебство сосредоточивалось вокруг нее. Тогда почему же Кеттл временами становился для него так важен?
Они репетировали теперь второй акт “Двенадцатой ночи”, и Напье, изображавший Герцога, в довольно высокопарном стиле произнес:
Приди, мой мальчик…[6]
— Мне идти туда?
— Да. Не так быстро. Ну, снова: “Приди, мой мальчик…”
И все шло хорошо до тех пор, пока Дженни в роли Виолы не ответила: “Да, ваша милость”, и тут вдруг остановилась и воскликнула:
— О Джулиан, пожалуйста… не надо так смотреть на меня.
Он схватил ее за руки:
— Я не в силах дольше с этим бороться. И что тут плохого?
Она еще сопротивлялась.
— Ведь нам… мы должны работать. Нам нельзя думать о себе.
Он торжествовал.
— Значит, ты тоже думала об этом.
— Нет, — запротестовала она, — я не то хотела…
— Ты думала, — был властный ответ. — И ты тоже не можешь с этим бороться. — Он обнял ее и зашептал: — Моя дорогая Дженни, милая, милая Дженни, я люблю тебя. Я обожаю тебя. Я только о тебе и думаю.
— Джулиан, вы меня почти не знаете…
— Я знал тебя всегда. И не зови меня просто Джулиан. Скажи мне “милый”.
— Милый, — прошептала она, — и я… я тоже люблю тебя.
Все это время свет слабел и меркнул, и плотный бурый сумрак из неосвещенных углов подкрадывался к ним ближе и ближе, так что оба они, но особенно Напье, понемногу расплывались, теряли четкость очертаний и наконец стали похожи то ли на влюбленных со старого вытертого гобелена, то ли на сплетающиеся призраки, а шепот их был не громче робких далеких вздохов ветра. Все же Чиверел увидел, как медленно запрокинулось ее лицо, нежный мерцающий овал; увидел, как обвила его руками, увидел, как соединились их губы, которые теперь были бледными и холодными, и услышал свой дикий вопль: “Нет, нет, нет!” Мгновенно налетела ночь, завыл холодный ветер, и от двух влюбленных, давным-давно канувших в вечность, не осталось и следа.
Помня краешком памяти о комнате, в одном углу которой был для него зажжен свет, он заковылял назад к своему креслу. Ночь и вой ветра, подхватившего и унесшего сотню лет как горстку сухих листьев, еще не отпустили его. Но он все же сохранил способность мыслить. Почему он вскрикнул “Нет, нет, нет!” так неистово, что сам поразился? Вначале он испытывал глубокое чувство жалости и вместе с тем утраты; потом из прошлого — того прошлого, которое никогда ему не принадлежало, — явилась, выплыла эта девушка, и было в ней какое-то странное волшебство. Но он вовсе не желал обладать ею, даже в самом призрачном смысле, и крик его не был криком ревности. Может быть, он просто хотел остановить эту короткую трагедию, которая словно специально для него разыгрывалась здесь еще раз. Или в час полной безнадежности он был обнажен до последнего, сокровеннейшего человеческого желания — сделать то, чего, по словам священников, не в силах сделать сам господь: изменить прошлое? Но почему эта мертвая девушка — была ли то девушка, дух или символический персонаж повторяющегося сна, — почему она так много значит для него? Даже когда ее имя попалось ему на глаза в справочнике несколько недель тому назад, его нервы напряглись, и на мгновение он похолодел. Какая таинственная часть его существа, о которой он даже не подозревал, пробудилась здесь, среди привидений старого театра? Ведь ему теперь все безразлично — он откровенно признался в этом Паулине, — даже Театр его времени, который в течение последних двадцати пяти лет давал ему средства к жизни, друзей, поклонников, даже славу. Тогда почему за какой-нибудь час его без остатка захватила — вот что важно, а вовсе не то, спал ли он или действительно видел привидения, увлекло ли его воображение драматурга или он и в самом деле побывал в прошлом, — захватила печальная история неизвестной и позабытой актрисы, умершей так рано, этой Дженни Вильерс? Но что-то случилось от одного лишь звука ее имени, которое он безотчетно повторил несколько раз, и он понял, что навсегда потерял это прошлое с его странным волшебством, пробуждением розы во мраке, далеким плеском родника в пустыне…
8
И вот он уже был не в Зеленой Комнате, хотя по-прежнему чувствовал под собой кресло, и даже не в театре, но где-то вне его, и — он мог бы поклясться — все это происходило сто лет назад… Черный ветер выл в ночи. Вначале ничего нельзя было разобрать, только цокали копыта лошадей, тащивших коляски. Потом откуда-то донеслось пение, словно подхваченное внезапным порывом ветра у открытого окна таверны. Горели неяркие огни — лампы под муслиновыми абажурами, затуманенные дождем. Старые привидения на старых улицах. Может быть, он тоже стал привидением? Его охватила паника, точно он сам — не усталое грузное тело, покоившееся в кресле, но мыслящая часть его, дух — мог улететь и затеряться в этой ночи, словно клочок бумаги. Он позвал Дженни: ему необходимо было знать, где она и что с ней. И его желание исполнилось.
Он увидел, словно заглянув в незанавешенное окно, неуютную маленькую гостиную, тускло освещенную одной небольшой лампой. Дженни все в том же простом коричневом платье стояла возле дивана конского волоса, на котором, завернувшись в грязное розовое одеяло и еле превозмогая дремоту, зевала актриса со вздернутым носиком и каштановыми локонами, накрученными на папильотки. Было очень поздно, но Дженни все еще повторяла монологи Виолы, к явному неудовольствию другой актрисы. Чиверел слышал все, что они говорили, но голоса их звучали слабо и доносились откуда-то издалека.
Я понял вас: вы чересчур надменны…[7]
Дженни произнесла это, чуть ли не стиснув зубы. Она устала, устала куда больше, чем та, другая; но она не позволяла себе в этом признаться. Ее глаза были расширены и блестели, а щеки ввалились. Она упрямо продолжала:
Но будь вы даже ведьмой, вы красивы.
Мой господин вас любит. Как он любит!
Будь вы красивей всех красавиц мира,
Такой любви не наградить нельзя.
Другая, проглотив зевок, подала реплику:
А как меня он любит? Беспредельно.
Напоминают гром его стенанья…
И Дженни остановилась.
— Нет, неправильно. — Она явно была недовольна тем, как она произнесла эти слова.
— По-моему, звучит как должно, милая, — сказала другая с полнейшим равнодушием.
— Нет, неправильно. Теперь я вспомнила:
… Беспредельно.
Напоминают гром его стенанья,
Вздох опаляет пламенем, а слезы
Подобны плодоносному дождю.
Она ждала, но ответной реплики не последовало.
— Ну же! — воскликнула она нетерпеливо. — Сара, пожалуйста!
— Ты знаешь, который теперь час? — спросила Сара. — Скоро два.
— Ну и что из того? — нетерпеливо ответила Дженни, но тут же добавила:
— Нет, нет, прости, Сара, милая. Я знаю, что ты устала. Но я должна повторить это еще раз. Ну, пожалуйста…
— “Он знает, что его я не люблю”, — и так далее и так далее, — “и это он понять давно бы должен” . — И Сара зевнула.
Люби я вас, как любит мой властитель,
С таким несокрушимым постоянством,
Мне был бы непонятен ваш отказ,
И в нем я не нашел бы смысла.
Дженни не просто читала стихи — теперь она оживала с каждым словом.
Да?
А что б вы сделали?[8] —
подала реплику Сара.
Дженни продолжала:
У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него
Взывать к возлюбленной…
Она замолчала и нахмурилась.
— Нет, не совсем так, родная моя, — сказал вдруг Чиверел, словно на репетиции. И вслед за этим совершилось еще одно маленькое чудо, как будто на короткий миг Дженни почувствовала его присутствие.
— Нет, неправильно, — сказала она и прочла весь монолог именно так, как Чиверелу хотелось услышать:
У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него
Взывать к возлюбленной, слагал бы песни
О верной и отвергнутой любви
И распевал бы их в глухую полночь,
Кричал бы ваше имя, чтобы эхо
“Оливия!” холмам передавало:
Вы не нашли бы на земле покоя,
Пока не сжалились бы.
— Это надо мной пора бы сжалиться, — сварливо сказала Сара. — Продержала меня до такого часа! Да и что ты так тревожишься?
— Потому что я должна, я должна. Времени так мало.
Пока она говорила это, комнатка уже отдалилась от него и совсем потускнела, а голоса стихли до еле слышного шепота.
— Видно, вы с Джулианом все миловались, а не репетировали, — сказала Сара.
— Сара! — задохнулась Дженни.
— Да все про вас знают. Стены выболтали.
— Нет, Сара, не надо… пожалуйста, помолчи. Я начну снова — времени так мало…
Да, времени так мало; теперь освещенное окно было далеко и только мерцало, а строки, которые повторяла Дженни, казались призраками слов, трепетавшими в темноте:
…Вы не нашли бы на земле покоя,
Пока не сжалились бы…
Какое-то мгновение ему казалось, что он плывет в ночи высоко над городом, а ветер вздыхает: “Сжалились бы, сжалились бы”; но потом он прислонился головой к гладкой теплой стене и съехал вниз, и гладкая теплая стена превратилась в кресло.
9
На этот раз, наверное, из-за того, что Дженни тут не было, все стало проще и обыкновеннее: скромное, домашнее волшебство, совсем не такое, как ее. И началось все иначе. Чиверел бросил взгляд напротив, в нишу с высоким стеклянным шкафом, в котором среди прочих вещей лежала фехтовальная перчатка Дженни. Шкаф был там. Чиверел твердо сидел на месте — он никуда не плыл, в ушах смолкли барабаны батальонов Времени — и напряженно всматривался в стеклянные дверцы, где слабо отражался свет стенного бра у него над головой. Но вот отражение изменилось; оно приблизилось, приняло иные очертания и засветилось по-новому. Теперь это был уголок уютного бара ранневикторианской эпохи: начищенная бронза и олово, сверкающие краны, зеленовато-белые фарфоровые бочонки с джином, бутылки, полные огня и солнечного света. Толстый хозяин с крупным мясистым лицом и толстыми руками опирался на стойку красного дерева. По другую ее сторону расположился мистер Ладлоу в фиолетовом сюртуке и клетчатых брюках, а с ним рядом — потрепанного вида молодой человек в ворсистом котелке, сдвинутом на затылок. Они пили за здоровье друг друга. По-видимому, потрепанный молодой человек был местным журналистом.
— Значит, вы желали бы сказать примерно следующее. Постойте-ка… — Мистер Ладлоу на секунду задумался. — “Вслед за блестящим и неподражаемым дебютом мисс Вильерс и… э-э…”
Журналисту уже приходилось слышать нечто подобное.
— “И по особой просьбе многих достойнейших наших покровителей искусств”, — подсказал он.
— Вот именно. Запишите. Теперь дальше… э-э… “Мистер Ладлоу объявляет большое представление в бенефис мисс Вильерс в пятницу, девятого. Бенефициантка явится пред публикой в одной из своих любимейших ролей — в роли Виолы в “Двенадцатой ночи”, вместе с самим мистером Ладлоу в роли Мальволио и мистером Джулианом Напье в роли Герцога. В заключение представлен будет новейший уморительный фарс под названием “Взять их живыми”.
— А-га! — воскликнул хозяин чрезвычайно многозначительно.
— Еще по стаканчику, Джордж.
— А-га! — На сей раз смысл восклицания был иной, хозяин занялся приготовлением напитков.
— “С любезного разрешения полковника Баффера и так далее, — диктовал мистер Ладлоу, — оркестр Пятнадцатого драгунского полка будет исполнять в антрактах популярную музыку. Контрамарки не выдаются…”
— Записано, — сказал журналист, делая у себя заметки. — “Дворяне и джентри…”
— Разумеется. “Дворяне и джентри уже абонировали большое число мест, и публике рекомендуется заказывать билеты, не теряя времени”. Ну, вы знаете, как обычно.
— Да, само собой. Цены повышенные?
— Разумеется. “Идя навстречу настойчивым и многочисленным требованиям, и дабы город имел случаи воздать щедрую дань благодарности молодой даровитой актрисе…” Ну, вы сами знаете. Валяйте, не стесняйтесь. — Он поднял свои стакан.
— С большим удовольствием, — ответил журналист. — Ваше здоровье, мистер Ладлоу.
— Ваше здоровье. Могу сказать, и без всякого преувеличения, лучшей актрисы у меня не было не помню сколько лет. К тому же усердна и в рот не берет хмельного. — Он отвернулся от собеседника, потому что к нему подошел посыльный с большим конвертом. Распечатав конверт, мистер Ладлоу присвистнул. — Послушайте-ка, друг мой, — сказал он. — Тут для вас найдутся кое-какие новости. — И он прочел то, что было написано на визитной карточке, вынутой им из конверта: — “Огастас Понсонби свидетельствует свое почтение мистеру Ладлоу и от имени Шекспировского общества города Бартон-Спа имеет честь пригласить мисс Вильерс, мистера и миссис Ладлоу, мистера Джулиана Напье и всех участников труппы на прием к ужин в гостинице “Белый олень” по окончании большого представления в бенефис мисс Вильерс в пятницу, девятого”. — Мистер Ладлоу раздулся от восторга и гордости. — Прочтите сами. Я об этом не знал. Очень любезно с их стороны.
— А-га! — сказал хозяин опять с новой интонацией и оперся о стойку бара. Кажется, здесь он вполне мог объясняться вообще без помощи слов.
Мистер Ладлоу проглотил то, что еще оставалось на дне стакана.
— Вот вам и отличная колонка для вашей “Бартоншир Кроникл”. А теперь, — прибавил он с удовольствием, — теперь за работу. — Он повернул прямо на Чиверела и тут же растворился в воздухе. Бар еще миг сверкал и мерцал, по затем исчез и он.
10
Теперь усталость чувствовалась гораздо меньше. Энергия и живой интерес хлынули из какого-то неведомого источника, химического или психического, а может быть, из обоих сразу. Чиверел сделал несколько кругов по комнате, переходя то из света в тень, то из тени на свет. Им владело особое возбуждение, подобного которому он не испытывал уже много лет, и предчувствие великого события. Пробыв несколько минут в этом нетерпеливом возбуждении, он вдруг понял, что заразился настроением самого театра и всех людей, находящихся в нем. Но какого театра, каких людей? Вопрос уже заключал в себе ответ. Его снова унесло назад. Он чувствовал то, что чувствовали все они в тот вечер тысяча восемьсот сорок шестого года. Да, это был Большой Бенефис. И сильнее всего ему передавались чувства самой Дженни. Но где же она?
Он увидел ее как бы в конце короткого коридора, сбегавшего наклонно к ее уборной. Она сидела, закутавшись в плед, и рассматривала свой грим в освещенном зеркале. Среди цветов на столе он успел заметить зеленую с алым перчатку. Откуда-то, словно сквозь несколько дверей, доносились знакомые звуки, какие можно услышать за кулисами, возгласы в коридорах и далекая музыка. Он знал, что она дрожит от волнения.
Вошел Джулиан, уже в костюме Герцога, с букетом красных роз. Их голоса, долетавшие до него, звучали совершенно отчетливо, хотя и слабо.
— Джулиан, милый, спасибо тебе. Я мечтала об этом, но потом подумала, что ты, наверно, слишком занят и не вспомнишь. Милый мой!
— Я ни на миг не перестаю думать о тебе, Дженни. Я люблю тебя.
— Я тоже люблю тебя, — серьезно сказала она. Он поцеловал ее, но она мягко отстранилась. — Нет, пожалуйста, милый. Не теперь. Нас скоро позовут. Пожелай мне удачи в мой великий вечер!
— Я все время только это и делаю. И чувствую, что это будет и мой успех. Я не стану ревновать тебя к нему.
Она была настолько простодушна, что даже удивилась.
— Ну, конечно, не станешь. Я знала. Милый, остались считанные минуты.
— Тогда слушай. — Он заговорил торопливым шепотом: — Ты сегодня тоже ночуешь в гостинице. Какая у тебя комната?
— Сорок вторая… Но…
— Постой, любимая, послушай меня. Ты должна разрешить мне прийти к тебе после того, как все эти дураки наговорятся. У нас нет другой возможности побыть вдвоем. А я так безумно тебя хочу, любовь моя. Я не могу спать. Я не могу думать. Иногда мне кажется, что я теряю рассудок…
— Прости меня, Джулиан…
— Нет, конечно, я не упрекаю тебя. Но пусть эта ночь будет наконец нашей ночью. Комната сорок два. Моя комната рядом. Никто не узнает.
Она была в нерешительности.
— Не о том речь, милый… Это… Я не знаю, что сказать…
— Ну, разумеется, я не хочу торопить тебя. Но сделай мне знак, когда мы будем ужинать с этими олухами в гостинице. Знаешь что: если ты дашь мне одну из этих роз, я буду знать, что все хорошо. Пожалуйста, милая!
Она засмеялась.
— Какой ты ребенок! Ну хорошо.
Раздался крик:
— Увертюра! Участники первого акта, пожалуйте на сцену! Участники первого акта, на сцену!
— Нас зовут, — сказала она. — Мне нужно поторопиться.
— Не забудь, — напомнил он ей. — Одна красная роза — и ты сделаешь меня счастливым.
Чиверел увидел, как она кивнула, улыбнулась и снова взглянула в зеркало, но уже их образы расплывались и исчезали, словно он смотрел в глубь воды, на которую надвигалась тень. Послышались далекие звуки музыки и вслед за тем аплодисменты. Потом пропало все. Он просто стоял в притихшей темной Зеленой Комнате, заточенный в Теперь. Может быть, он больше ничего не увидит и не услышит. Призраки покинули его. Может быть, колея времени отказалась искривляться ради него и осталась прямой и жесткой, а в таком случае безразлично, когда это происходило — сто лет или сто веков назад.
Возмущенный, он вернулся к креслу, взял в руки книжечку — все, что у него теперь оставалось, — и медленно прочел: “Никогда те из нас, кому посчастливилось присутствовать и в театре “Ройял” и затем в “Белом олене”, не забудут этого вечера. Публика, в том числе почти все дворяне и окрестные джентри, заполнила театр от партера до галерки и громкими рукоплесканиями поощряла блестящую молодую актрису при каждом ее появлении и уходе. Более восхитительной Виолы никому никогда не приходилось видеть — впрочем, об этом ниже. После спектакля состоялся прием, устроенный Шекспировским обществом в гостинице “Белый олень”, где автор имел честь произнести первую речь, обращенную к главной гостье, чье сияющее лицо тогда еще не омрачила тень близкого рокового конца. Мисс Вильерс, сказал автор…”
Но свет, падавший на страницу, померк, и мягкое золотистое сияние, более яркое, чем прежде, наполнило комнату. Но что это была за комната? Не Зеленая Комната, хотя ее темные, обшитые деревом стены были почти такие же. Там стоял длинный стол, богатый и красивый, уставленный цветами и вазами с фруктами, графинами и бутылками, темными — с портвейном и светло мерцающими — с шампанским. На ближней стороне стола было несколько свободных мест, и сквозь эту брешь в середине он увидел сияющую Дженни с ее красными розами, чету Ладлоу и Джулиана Напье. Справа и слева от них сидели терявшиеся в тени дворяне, джентри и члены Шекспировского общества в чудовищных вечерних туалетах сороковых годов прошлого века. Маленький Огастас Понсонби, слегка подвыпивший и розовый, в накрахмаленной гофрированной манишке, стоял, лучезарно улыбаясь, и явно собирался использовать представившуюся ему возможность наилучшим образом.
— Мисс Вильерс, позвольте мне от имени Шекспировского общества Бартон-Спа принести вам — и мистеру, и миссис Ладлоу, и всей труппе мистера Ладлоу — нашу чувствительнейшую благодарность за то высокое наслаждение, восторг, пищу для ума и духа, что вы доставляли нам на протяжении этого сезона, каковой озарен ослепительной гирляндой ваших спектаклей и есть, без сомнения, самый достопамятный сезон Бартон-Спа за многие, многие годы.
Раздались одобрительные возгласы и аплодисменты, которые Дженни выслушала вполне серьезно, хотя Чиверел сразу понял, что она прекрасно видит, как комичен этот маленький человечек с его пышным красноречием.
— Снова и снова, — продолжал Огастас Понсонби, воодушевляясь все больше, — пленяя взоры своим гением, вы представали нам в совершенных образах удивительных созданий плодовитой фантазии нашего Бессмертного Барда. Вы явили нам самый облик и подлинно чарующее одушевление Офелии, Розалинды, Виолы. Трудно поверить, чтобы гений, обрученный с такою молодостью и красотой, и дальше будет довольствоваться пребыванием в стороне от… э-э… глаз столичной публики…
— Ну, ну, — остановил его мистер Ладлоу, — не внушайте ей таких мыслей, мистер Понсонби.
— Помилуйте, что вы, мистер Ладлоу, — заторопился Понсонби. Затем он продолжал с прежней важностью: — Я лишь хотел заметить… э-э… что мы, члены Шекспировского общества, прекрасно сознаем, как благосклонна к нам фортуна, и потому пользуемся этим случаем, чтобы выразить мисс Вильерс свое уважение и чувствительнейшую благодарность. А теперь я прошу сэра Ромфорда Тивертона предложить тост.
Раздались шумные аплодисменты, и Чиверел заметил, как тревожно сверкнули глаза Дженни, когда она посмотрела на Джулиана Напье. Затем встал с бокалом в руке сэр Ромфорд Тивертон, невообразимый старый щеголь, украшенный бакенбардами и словно сошедший со страниц одного из мелких теккереевских бурлесков.
— Господин пведседатель, двузья, — сказал сэр Ромфорд, — я с огвомным удовольствием пведлагаю выпить здововье нашей пвелестной и талантливой почетной гостьи мисс Дженни Вильевс, а вместе с ней и наших ставых двузей мистева и миссис Ладлоу…
— Мисс Вильерс! — Теперь все, кроме Дженни и четы Ладлоу, поднялись и аплодировали стоя. Но производимый ими звук казался Чиверелу много тусклее и много дальше от него, чем их зримые оболочки, и напоминал ему какое-то кукольное ликование, отчего вся сцена приобретала привкус печальной иронии.
— Речь, речь, мисс Вильерс! — кричали все.
Дженни была обескуражена.
— О-о, разве я должна?
— Разумеется, должны, — ответил Понсонби чуть ли не сурово.
— Давайте, дорогая моя, — сказал Ладлоу. — Что-нибудь покороче и полюбезнее.
— Леди и джентльмены, — сказала Дженни, — я не умею произносить речей, если, конечно, кто-то не напишет их для меня и я не выучу их наизусть. Но я очень признательна всем вам за помощь, благодаря которой мой бенефис прошел с таким успехом, и за этот замечательный прием, устроенный нам здесь. Я никогда не была счастливее в Театре, чем здесь, в Бартон-Спа. Театр — я уверена, вы все знаете, — это не только блеск, веселье и аплодисменты. Это тяжелый, надрывающий душу труд. И никогда мы не бываем так хороши, как нам хотелось бы. Театр — это сама жизнь, заключенная в маленький золотой ларчик, и, как жизнь, он часто пугает, часто внушает ужас, но он всегда удивителен. Все, что я могу сказать, кроме слов благодарности, — это то, что я лишь одна из многих в труппе, в очень хорошей труппе, и что я бесконечно обязана, больше, чем я могу выразить, мистеру и миссис Ладлоу. — Все зааплодировали, но она продолжала стоять. — …И нашему блестящему премьеру мистеру Джулиану Напье. — И под звуки новых аплодисментов она бросила Напье одну из своих красных роз, которую он подхватил и поцеловал.
И тогда с Чиверелом случилось третье, самое потрясающее чудо. Он по-прежнему ясно видел Дженни, живую, как и секунду назад, но все прочие словно вдруг превратились в фигуры на старой пожелтевшей фотографии. Они не двигались, не произносили ни звука. Давно минувшее мгновение внезапно замерло, время резко остановилось; только сама Дженни была высвобождена из этого мгновения, этого времени, и словно могла существовать в каком-то другом, таинственном измерении. Она рассеянно поглядела в сторону Чиверела и промолвила, обращаясь прямо к нему, но тихо и доверчиво:
— Вот видите ли, я должна была бросить ему розу. Бедняжка Джулиан! У него был такой удрученный, такой тоскливый вид. Вокруг меня подняли столько шума, а про него совсем забыли. А мне хотелось, чтобы он тоже был счастлив. Ведь вы же понимаете?
— Это вы со мной говорите? — спросил Чиверел.
— Я говорю с кем-то, кто сейчас находится здесь и хочет понять меня, но кого и не было, когда все это произошло в первый раз.
— Что значит в первый раз?
— Ведь это все время повторяется. И всегда может возвратиться, если очень захотеть, хотя в точности не повторяется никогда…
Но тут все вздрогнуло, вновь задвигалось и зазвучало, и Дженни заканчивала свою благодарственную речь:
— Итак, леди и джентльмены из Шекспировского общества, от имени всей труппы театра “Ройял” я еще раз благодарю вас. “Милостивые мои государи, вы позаботились о том, чтобы актеров хорошо устроили”[9].
Она сделала легкий реверанс и села под долгие аплодисменты, остановленные в конце концов Огастасом Понсонби, который приказал мистеру Ладлоу обратиться к присутствующим с речью.
Мистер Ладлоу, чье лицо цветом напоминало королевский пурпур, тяжело поднялся с видом благороднейшего из римлян. Он, по-видимому, был пьян, но его манеры и слог прекрасно сочетались со спиртными напитками.
— Друзья мои, — начал он, слегка покачиваясь, — от глубины души я благодарю вас. Вы, продолжая цитату из “Гамлета”, позаботились о нас не только здесь, в этот славный час пышного празднества, но и в самом театре. Я вижу вокруг себя множество знакомых лиц, и хоть я знаю, что вы мои повелители, а я ваш покорный слуга, вы позволите мне обратиться к вам как к своим друзьям. — Шекспировское общество зааплодировало, а миссис Ладлоу разразилась рыданиями, напоминающими извержение вулкана.
— Я много лет провел с вами, — продолжал мистер Ладлоу, — и как актер и как директор, и теперь, когда я оглядываюсь назад из этого быстротечного тысяча восемьсот сорок шестого года…
Но тут до Чиверела донесся какой-то странный звук — звук в высшей степени неуместный, нелепый и все же повелительный и настойчивый.
— …Бурного года, отмеченного многими раздорами дома и беспорядками за границей, — увлеченно говорил Ладлоу, — года, когда можно подумать, что театр перестанет владеть вниманием публики, поглощенной и обеспокоенной хлебными законами, чартистами, голодом в Ирландии, войнами в Мексике и Индии…
Это был телефон, и он звонил и звонил не переставая. Еще мгновение Ладлоу оставался на месте, шевеля губами и жестикулируя, но он был уже не более чем тающий на глазах призрак; в следующий миг он исчез, а вместе с ним исчезли и Дженни, и весь банкет, все актеры, и члены Шекспировского общества, и осталась только Зеленая Комната с телефоном, который разрывался на столе. Чиверел уставился на него в недоумении.
11
Отли заглянул в комнату, и свет, брызнувший в открытую дверь, был непривычно ярким и резким.
— Звонят из Лондона, мистер Чиверел.
— Да, — ответил Чиверел с некоторым смущением. — Я думал… то есть я слышал звонок.
— Хорошо. — И резкий свет исчез вместе с ним.
Чиверел сиял трубку осторожно, словно она только что была изобретена.
— Да, говорит лично мистер Чиверел. — И разумеется, его попросили подождать, как обычно бывает в таких случаях. Должно быть, телефону не понравилось, что он говорит лично. Пока он стоял, дожидаясь ответа, редкие клочки и обрывки сцены в гостинице “Белый олень” все еще мелькали в его сознании. И Дженни, конечно. Но сейчас не было времени думать о ней.
Отли, славный, услужливый малый, только, пожалуй, чересчур усердный, заглянул снова:
— Уже поговорили, мистер Чиверел?
— Они нашли меня, — проворчал он, — но потеряли тех.
— Моя секретарша может дождаться звонка…
— Нет, спасибо. Теперь уж лучше я сам дождусь. — Он провел свободной рукой по глазам жестом измученного и недоумевающего человека. Убрав руку, он увидел, что Отли, подойдя ближе, с любопытством смотрит на него.
— Не хочу быть назойливым, мистер Чиверел, но вы действительно здоровы? У него было искушение ответить: “Дорогой Отли, я только что имел в высшей степени волнующую и интимную беседу с молодой женщиной, умершей сто лет назад”. Но он сказал только:
— Не уверен.
— Я могу вам чем-нибудь помочь?
Да, мой славный, услужливый Отли, ты можешь объяснить мне тайны Времени, Бессмертия, Души, Снов, Галлюцинаций и Видений, Творческого Разума, Личного и Коллективного Подсознательного. Но он просто ответил:
— Нет, благодарю вас, мистер Отли; я не думаю, что тут кто-нибудь чем-нибудь может помочь.
— Может быть, послать за лектором Кейвом? Он сказал мне, где он будет, — это тут рядом.
— Нет, спасибо, не беспокойтесь. Это случай не для доктора Кейва — сейчас, по крайней мере.
В телефоне снова что-то спросили.
— Да, — ответил он, — это мистер Чиверел, а я думаю, что мне звонит сэр Джордж Гэвин.
Отли вышел. Чиверел стал ждать Джорджа Гэвина и внезапно ощутил полную перемену настроения. Он опять был почти таким же, как прежде. Он снова стоял на земле. Думать ему не хотелось, но он был готов к разговору с Джорджем, несмотря на то, что теперь, пожалуй, сам не знал, какое он примет решение. Джордж Гэвин был богатый бизнесмен из Сити, плотный пожилой холостяк, непокладистый в делах, но навсегда околдованный Театром, перед которым он робел и о котором был удивительно хорошо осведомлен, не в пример большинству состоятельных англичан: те часто покровительствуют Театру, не имея о нем ни малейшего представления. Для Джорджа Гэвина Театр стал и отдушиной и способом помещения капитала, и хотя Джордж не был театральным директором по профессии, он всегда занимался Театром самозабвенно и был хорошим партнером, в чем Чиверелу не однажды случалось убеждаться. Отношения их были самыми дружескими.
— Это ты, Джордж? Привет! Что это ты вдруг решил позвонить — стряслось что-нибудь?
Джордж отвечал, что звонит из ресторана, и добавил, что у Чиверела какой-то странный, не его голос.
— Очень может быть. Мне тут пришлось принять одно снадобье.
— Слушай, старик, — озабоченно заговорил Джордж, который всегда считал, что Чиверел сделан из более тонкого и чувствительного материала, чем он сам. — Я вижу, ты расклеился. Так с этим можно и подождать пару дней.
— Нет, нет, продолжай, Джордж.
— К концу месяца театры будут мои, — объявил Джордж. — Дело в шляпе, старик.
Чиверел ответил, что рад этому, и действительно был рад.
— Спасибо, старик, — сказал Джордж, тоже совершенно искренне. — Я решил сразу сказать тебе, хоть ты там и занят. Потому что театры — вот они, и мое предложение остается в силе.
— Это очень великодушное предложение, Джордж, я уже говорил тебе. И я страшно за него благодарен. — Он остановился.
— Но? — подсказал Джордж.
— Никаких “но”. Просто-напросто я не знаю, что ответить. Сегодня, совсем еще недавно, я склонен был отказаться от твоего в высшей степени великодушного предложения, Джордж, просто потому, что чувствовал: с Театром у меня все кончено. Я сказал об этом Паулине Фрэзер и совершенно взбесил ее.
Джордж заметил, что теперь Чиверел говорит не так уверенно.
— Ты совершенно прав, Джордж. Но нельзя сказать, чтобы я изменил решение. Я просто не сумел еще ухватить за хвост свое решение, чтобы изменить его.
— Повтори-ка снова, старик, — попросил Джордж серьезно. И когда его просьба была исполнена, он спросил, не пьян ли Чиверел.
— За весь день не взял в рот ни капли. Но доктор дал мне лекарство, и я, видно, принял больше, чем следовало, а потом лег и задремал здесь в Зеленой Комнате. И… — И что? Мысль его отчаянно металась в поисках объяснения, которое не было бы бессовестной ложью и все же могло бы произвести по телефону впечатление на Джорджа Гэвина. — И… должно быть, мне что-то пригрезилось. Хотя не думаю, что я спал по-настоящему…
Джордж предположил, что это был сон наяву.
— Со мной такое часто бывает, старик, — прибавил он, — особенно сразу после ленча.
— Это было не сразу после ленча, — сказал Чиверел. — А для сна наяву это было слишком живо. Но что-то вроде сновидения — да, должно быть. — И едва он произнес это, как на него огромной серой глыбой обрушилось томительное ощущение пустоты и бесполезности, которое он испытывал во время разговора с Паулиной. Но теперь где-то внутри этого ощущения, как смутная боль, таилось горькое чувство утраты и раскаяния. И ему расхотелось говорить с Джорджем, и уже не имело значения, будут или не будут они вместе управлять театрами.
— Ты так говоришь, старик, словно тебя чем-то одурманили, — сказал Джордж сочувственно. — Не волнуйся из-за наших дел. У тебя и с пьесой хватит забот. Как она, кстати?
— Паулина и другие ворчат из-за третьего акта. — Он замолчал. — Скажи, Джордж, там, рядом с тобой, никто не плачет?
— Что?
— Никто там не плачет?
— Здесь никогда никто не плачет, — сказал Джордж. — Это, наверное, у тебя.
— Я тоже так думаю, — печально сказал Чиверел.
— Ну вот что, старик, надо тебе последить за собой, не то мы все скоро заплачем. Но ты позвони мне насчет этого предложения, когда сможешь.
— Спасибо, Джордж, непременно. Может быть, даже еще сегодня.
— Я сегодня буду дома довольно рано. Или звони завтра в контору. И успокойся, не воображай, что за тобой гонятся привидения из этого старого сарая.
— Интересно, почему ты это сказал, Джордж? — серьезно спросил Чиверел.
— Да Паулина что-то такое говорила. Ну, всего, старик.
Отняв трубку от уха, Чиверел удивленно на нее посмотрел и, прежде чем положить на рычаг, подержал в руке, словно взвешивая.
12
Теперь, разумеется, не слышно было никакого плача. Да и откуда? Не будь идиотом, — сказал он себе. Единственное, что оставалось делать, это вернуться в кресло и по-настоящему отдохнуть перед репетицией. Он закрыл глаза. Он был один на темном материке страдания. Он не мог заснуть и не мог заставить себя открыть глаза и окончательно проснуться. Он возмутился бы, если б его потревожили, и в то же время ему было тошно сидеть одному. Уж лучше умереть и покончить со всем этим.
И тут он снова услышал ее плач, на этот раз совершенно явственно.
Еще не открыв глаз, он сразу понял, что она здесь, в комнате. Но вначале он не мог разглядеть ее — легкую тень среди мрака. Не было ни столетнего света, ни густого янтарного сияния, идущего ниоткуда. Ее сдавленные всхлипывания слышались достаточно ясно, но сама она в этой темноте было всего лишь слабо фосфоресцирующей прозрачностью, смутной игрой теней.
— Дженни, — тихо позвал он. — Дженни Вильерс! Ты слышишь меня?
Сейчас он готов был поклясться, что она смотрит в его сторону, и пока он вглядывался до боли в глазах, ему стало казаться, что лицо ее выражает недоумение. Он больше ничего не говорил, чувствуя, что, если он произнесет хоть слово, она может исчезнуть совсем.
Но вот свет опять появился, и это была Зеленая Комната сто лет назад. Дженни была все в том же простом коричневом платье, и вид у нее был такой же несчастный, как и голос. Это не была сияющая Дженни с ужина в гостинице “Белый олень”. Пока он говорил с Джорджем Гэвином, несколько страниц было перевернуто, и теперь начиналась последняя глава. Времени оставалось немного; это было написано на ее исхудавшем лице; и сердце его рванулось к ней.
Неожиданно появился Кеттл, еще более изможденный и неряшливый, чем всегда; он голодным взглядом впился в Дженни и тут же повернулся, чтобы уйти. Его поношенная черная одежда, казалось, покрыта была могильной плесенью. Словно сама смерть подкралась взглянуть на нее.
Она увидела его.
— Уолтер! — Ему пришлось обернуться. — Что случилось?
— Ничего, — ответил он жестко.
Она готова была снова заплакать.
— Я же вижу.
— А почему должно было что-то случиться? — спросил он, безжалостный в своей любви и отчаянии.
— Потому что мы были такими хорошими друзьями, — сказала она. — Ты был так добр ко мне и столько мне помогал, когда я пришла сюда, а теперь ты стал сердитым и злым, точно, я тебя обидела. — Она дала ему время ответить, но он молчал, и она робко продолжала: — Я тебя обидела, Уолтер? Если да, прости меня. Я никогда этого не хотела.
— Не обращай на меня внимания, — сказал он, и презрение к самому себе звучало в каждом его слове. — Я здесь долго не пробуду. Не знаю даже, что хуже — видеть тебя счастливой, какой ты была вначале с этим тщеславным болваном Напье, или сейчас, когда он сделал тебя несчастной…
— Нет, пожалуйста, не говори так, Уолтер. Это неправда. Если я и несчастна, то он тут не виноват…
— Кто-то же виноват, — сказал он мрачно, не глядя на нее. — И трудно вообразить, кто б это мог быть еще.
— Скажи мне — я давно хотела спросить, а ты единственный, кого я могу спросить. Я не кажусь несчастной, когда я на сцене, нет? Там это незаметно?
Теперь он взглянул на нее.
— Нет, слава богу! Да неужели ты не видишь, неужели не чувствуешь, как я наблюдаю за тобой из своего угла? На сцене ты прежняя — огни сияют, знамена развеваются. Но чуть только падает занавес, ты изнемогаешь и никнешь…
Она сумела улыбнуться.
— Не правда, Уолтер. Я не изнемогаю и не никну. Ты просто придумываешь. Уолтер, милый Уолтер, будем друзьями. Мне нужны друзья!
Он взял руку, которую она ему протянула, и поцеловал ее с такой страстью, что Дженни даже отпрянула. С минуту он смотрел на нее темными провалами глаз, а затем, не прибавив ни слова, резко повернулся и исчез среди теней. Она сделала движение, словно желая его остановить, хотела что-то сказать, но удержалась, с трудом сохраняя самообладание. Чиверел болезненно ощущал ее отчаяние, нахлынувшее на него черным потоком. Он знал также, сам не понимая, как и почему (если, конечно, она сама и все эти сцены не были созданием его собственной фантазии), что дурные вести, все то, чего она втайне страшилась, уже неслось ей навстречу.
Все же следующие несколько минут сцена была освещена, потому что в комнату вошли под руку старый актер Джон Стоукс и комик Сэм Мун, оба в огромных касторовых шляпах. Они заботливо и тревожно посмотрели на нее и ловко сняли шляпы с головы друг у друга.
— Ваш слуга, сударыня! — вскричали они дуэтом.
Дженни улыбнулась.
— Накройтесь, господа! — сказала она, изображая молодую герцогиню из какой-то старинной пьесы.
Сэм Мун дотронулся указательным пальцем до ее щеки и лизнул кончик пальца.
— Слишком солоно.
— На мокром месте? — спросил Стоукс, укоризненно посмотрев на нее.
Дженни покачала головой.
— Поговорим о чем-нибудь другом.
Мун подмигнул.
— Знаешь, Джон, — сказал он, взвизгивая и похрюкивая (очевидно, таким голосом он говорил на сцене), — бывало, я чертовски здорово обедал тушеной говядиной на Друри-лейн за три с половиной пенса. А уж за шесть тебя кормили как лорда.
— С этим сейчас тоже худо, — сказал Стоукс. — Все вздорожало, и актеры в том числе.
— А актрисы? — весело спросила Дженни.
— Да их и нет вовсе.
Дженни искренне возмутилась:
— Как? Джон Стоукс, вы имеете наглость…
— Нет, нет, сударыня, — сказал Стоукс полушутя-полусерьезно. — Я не говорю, что у вас нет задатков актрисы, и притом весьма хорошей, но вам нужно по меньшей мере еще лет пятнадцать, чтобы образоваться в то, что мы называем актрисой…
Ее испуг был не совсем притворным.
— Пятнадцать лет! Как много…
Мун остановил ее.
— Нет, вовсе не много. Ты удивишься — верно, Джон, они удивится…
— Однажды утром вы оглянетесь, — произнес Стоукс с неподдельной грустью, — а их…
— И след простыл! — Но это были уже слова миссис Ладлоу, которая влетела на всех парусах, дрожа от гнева, или от волнения, или от другого столь же сильного чувства. — И след простыл! — повторила она душераздирающим голосом. Позади нее стояла Сара и еще одна молодая актриса.
Дженни тревожно посмотрела на них.
— Что?
— Кого след простыл? — вскричал Стоукс.
— Не говорила ли я, что этот негодяй Варли, приезжавший к нам на прошлой неделе, — возопила миссис Ладлоу, — должно быть, рыщет повсюду в поисках актеров для миссис Брогэм, у которой теперь патент на владение театром “Олимпик”? Не говорила ли я, девушки? И не будь я Фэнни Ладлоу, если он не дебютирует в “Олимпике” через неделю, считая от сегодняшнего дня, как только они отпечатают и расклеят афиши. Мы с мистером Ладлоу распрощались с “Олимпиком”, когда патент был у мадам Вестрис. “Больше сюда ни ногой”, — сказала я мистеру Ладлоу…
— Но кого же след простыл? — спросил Стоукс.
— Не сказавши ни слова… даже не простился. Небось два вечера просидел с этим Варли, все требовал ролей, торговался из-за жалованья и рекламы.
— Но кто же, кто ?
— Да Джулиан Напье, конечно. Кто же еще? — Она взглянула на Дженни. — Дитя мое, ты бледна, как привидение.
— Разве? — спросила Дженни. Она попыталась улыбнуться и упала без чувств. Мгновенно свет и краски начали тускнеть, комнату заволокло бурым сумраком, и все фигуры теперь выглядели так, словно сошли со старой сепии.
— Мужчины, — команда миссис Ладлоу прозвучала уже гораздо тише, — принесите воды и рюмку бренди да возьмите у Агнес мою нюхательную соль.
Он различал теперь только трех женщин, склонившихся над Дженни. Он слышал их голоса — легкий дрожащий шепот.
— Распустите шнуровку! И там тоже!
— Миссис Ладлоу, мне кажется… — потрясенно сказала девушка.
— Помолчи, Сара. Теперь я понимаю. И понимаю, почему Джулиан Напье бежал так поспешно.
— Вы думаете, она сказала ему?
— Нет, она не скажет. Он догадался и пустился наутек. Лондонский ангажемент — и прощай все заботы. Но теперь, когда мы остались без них обоих, что я скажу мистеру Ладлоу?
Три женщины, склонившиеся над неподвижной фигурой, медленно расползались клочьями дыма. Но когда дым рассеялся и затихли последние звуки невнятного бормотания, Чиверел почувствовал, что исчезла и Зеленая Комната. Он снова был где-то снаружи, в городе или над городом, но понять что-либо было невозможно, словно кто-то быстро прокручивал старый, истертый фильм. Время сжалось, размыв и перемешав все видения и звуки, призрачные и легкие. Но у него возникло ощущение дождя, холодного черного дождя на узких улочках, и вместе с ним — мучительное чувство беспокойства. Пропала, пропала навсегда, сгинула в этом мерцании времени, в холодной жути дождя!
13
Все успокаивалось. Появилось сияние, похожее на зарево далекого ночного пожара. Послышались звуки, которые постепенно превратились в слова. Свет камина и ламп играл на бутылках и пивных кружках. Это был снова уютный уголок уже знакомой таверны, на сей раз поздним вечером, и тот же хозяин стоял, опираясь на стойку, и тот же потрепанного вида журналист разговаривал с Ладлоу.
— Ваше здоровье, мистер Ладлоу!
— Ваше здоровье. Хотя не будь врачебного предписания, я бы едва ли притронулся к этому, — сказал Ладлоу мрачно. — Душа, можно сказать, не принимает. Так вы говорите, что некоторые зрители выражают неудовольствие…
— К сожалению, да, мистер Ладлоу, — сказал журналист. — Мы, собственно, получили всего два письма, но я подумал, что, прежде чем их печатать, надобно предупредить вас.
— Очень любезно с вашей стороны. Еще по стаканчику, Джордж. Нет, я вас спрашиваю! — вскричал Ладлоу, охваченный внезапной вспышкой ярости и отчаяния. — Я вас спрашиваю: что может сделать человек? Все произошло в один миг — без предупреждения, без извинения. Напье — разорвав контракт, заметьте — бежит в Лондон…
— Где, как я слышал, он имеет большой успех в “Олимпике”, — вставил журналист.
— Возможно, возможно, тамошняя публика никогда не была особенно взыскательной. — Ладлоу одним нетерпеливым взмахом руки вынес приговор этой публике и, снова погрузившись в отчаяние, продолжал: — Когда он уехал, мисс Вильерс, на которой я строил весь репертуар, тотчас же слегла. От горя — вообразите себе: быть покинутой вот так, а ведь она была его женой, только что не звалась ею, — ее нездоровье усугубляется… и… вы, наверное, слышали…
— Да, — ответил журналист таинственным и не оставляющим сомнений в его осведомленности тоном. — Я подумал тогда, что ей лучше было бы, может быть…
— Да, я тоже подумал. Но после этого она не только не поправляется, но становится все хуже, слабеет с каждым днем. Доктор перепробовал все средства, но безуспешно, безуспешно.
— Чахотка?
— Да. Она медленно угасает, — сказал Ладлоу с искренним огорчением и все же с каким-то удовольствием. — И все в труппе знают об этом, толкуют об этом, удручены этим. Так что же остается делать человеку, сэр? Я вас спрашиваю, что?
— Ничего. Выпейте еще. Повторить, Джордж.
Откуда-то возник Кеттл, вымокший до нитки, измученный и отчаявшийся. Чиверел ощутил страдание Кеттла как собственную боль. Каким-то странным образом — он так и не понял этого ни тогда, ни впоследствии — с появлением Кеттла эта картина перестала быть просто театральным зрелищем и сделалась потрясающе живой, она надрывала ему душу и сокрушала сердце. Свое сочувствие Дженни он еще мог понять, если и не постигал полностью всех его таинственных аспектов. Красивая обреченная девушка, впервые пробудившая его воображение; именно она как в сказке показала ему картины минувших лет; кто знает, чем она была: мечтой, освещенной его собственной, никому не пригодившейся нежностью и омраченной его печалью; улыбающейся волшебной маской подлинной Дженни Вильерс; или воплощением Театра, который, коль скоро он, Чиверел, не пожелал его видеть, теперь входил в маленькую темную дверь артистического подъезда где-то в дальних закоулках его сознания, приняв такое прелестное и жалостное обличье. Но к чему здесь этот человек, этот Уолтер Кеттл, эта тощая черная гротескная фигура?..
— Меня к ней не пустили, — с горечью говорил Кеттл. — Ей, видно, хуже. А этот старый олух доктор ничего не сказал. Я его дождался, хотел поговорить. Но зря. Он не соображает, ни что он делает, ни где находится.
— Кеттл взял стакан у хозяина и проглотил его содержимое, не разбавляя, одним судорожным глотком.
— Ни где находится бедная мисс Вильерс? — сказал журналист; он хотел прибавить еще что-то, но Ладлоу тронул его за руку.
Кеттл взглянул куда-то сквозь него.
— Я знаю, где она. Она у порога смерти. Странно звучит, если вдуматься. У порога смерти, — повторил он медленно.
— Уолтер, мальчик мой, — вскричал Ладлоу, — так дело не пойдет! Ты насквозь вымок и дрожишь. Ты свалишься следующим.
— Только не я, — сказал Кеттл презрительно. — Я не сгорю раньше времени. Наш городишко сегодня точно кладбище. Мне все казалось, что мы тут давно уже перемерли, только позабыли об этом. А доктор — просто-напросто старый жирный покойник, которого воскресили по ошибке. Еще стаканчик, Джордж.
— А-га! — сказал хозяин, на этот раз чуть слышно.
— Пей до дна, — сказал Ладлоу, — да беги бегом к себе на квартиру и ложись в постель. Ты сам болен.
Кеттл рассмеялся сухим, каким-то бескровным, скрежещущим смехом.
— Еще бы, конечно, болен. Мы все больны. Ты — своими размалеванными рожами и намалеванными декорациями. Этот вот малый — тем пустозвонным враньем, которое он печатает. Болен даже Джордж, который поит нас своей отравой, чтобы мы поменьше замечали мерзостей на пути к могиле. Вот куда мы все идем, джентльмены. Приятного путешествия!
Чиверел чувствовал, что вместе с Кеттлом выходит в дождь и тьму; освещенный уголок таверны задуло, как пламя свечи. Ни улиц, ни домов — только ночь, холодный дождь и страдание. Навсегда закатилось солнце и все наше счастье. И ад вовсе не где-то в ином мире: он тут, в этой мокрой черной ночи, и уходящая надежда превращает каждый шаг в тысячу лет ада. Потом появилось смутное видение: высоко на углу висит желтый масляный фонарь; Кеттл, больной от горя, весь день ничего не евший и едва держащийся на ногах после спиртного, прислонился к тускло освещенной стене; какой-то полицейский в высокой шапке с ворчанием уставился на него; Кеттл, спотыкаясь, бежит прочь во тьму, шлепая по лужам, скользя по грязи, желая жизни, любви, искусства и славы и все же ища смерти. И это не Мартин Чиверел, который спокойно принимал столь многое и верил в столь немногое, который никогда не был поденщиком в плохоньком старом театре, голодным и полумертвым от усталости; никогда не сгорал дотла в огне безрассудной страсти, никогда не думал и не чувствовал, как человек сороковых годов прошлого века, — а тот несчастный глуповатый загробный дух, Уолтер Кеттл. И все же в эти таинственные мгновения Мартин Чиверел думал и чувствовал, как Кеттл, сострадал ему, как никогда не сострадал ни одному из созданий своей фантазии, и даже начал замечать, что какие-то перемены происходят в нем самом…
14
Пустота. Ни театра “Ройял”, ни таверны, ни Уолтера Кеттла, ни плетей дождя на улицах старого Бартон-Спа. Тревожная тьма могла по-прежнему быть ночью столетней давности или просто краем сна. Что это, конец? А если нет, то где же Дженни Вильерс? Он произнес ее имя несколько раз, с каждым разом все настойчивее, и не удивился тому, что произносит его вслух, словно обращаясь к самой Зеленой Комнате, к высокому стеклянному шкафу, акварельному наброску, книжечке, к фехтовальной перчатке.
Ее голос, когда он прозвучал, был слабым и спокойным, он доносился словно бы ниоткуда — тихий голос из призрачного сумрака. Она сказала:
— Умирать было так одиноко.
— Одиноко? — Он повторил это слово как эхо.
— Да, очень, — сказала она медленно и просто, словно голосу, отделившемуся от тела, полагается быть терпеливым со своими слушателями. — Все были так далеко. Это был самый одинокий миг моей жизни.
— Тебе было страшно? — тихо спросил он.
— Нет. Я слишком устала, чтобы чувствовать страх. Было одиноко и ужасно грустно — до самого конца.
— До самого конца? — Действительно ли он задал вопрос или просто подумал? — После стольких недель где-то в унылой маленькой задней комнате, вдали от огней, музыки и аплодисментов, одинокая и печальная… исхудавшие руки и впалые щеки… огромные горящие глава и светлые волосы… что же было потом, родная моя?
Никакого ответа. Ни звука. Неужели все кончено? Этого он не мог допустить. Он вскочил на ноги с отчаянным криком:
— Дженни, если в самом конце было лучше… не так безнадежно и грустно… я должен знать! Дай мне взглянуть! Дай мне послушать! Дженни, что тогда было? Ты слышишь меня?
Две оплывшие свечи освещали маленькую спальню, отбрасывая огромные тени. Дженни сидела с распущенными волосами, опершись о гору подушек, она исхудала и была очень бледна. Дородная старая сиделка — сама всего лишь толстая тень — пристроилась возле кровати. Дождь печально и монотонно барабанил по крыше.
Дженни указала на свечи.
— Знаете, как мы их называем?
— Знаю, милая. Свечки. Как же еще?
— Нет, не просто свечки. Сейчас-то да, а вот когда воск весь сбежит по бокам, — жирный белый воск, бежит и капает, — тогда мы зовем их саванами. Правда, похоже?
— Не надо так говорить, голубушка. Потерпи немножко, и тебе скоро-скоренько полегчает. Ты ведь хочешь снова играть в театре?
— Еще бы! — Дженни встрепенулась. — Который теперь час? Мне нельзя опаздывать. Я должна одеваться. Почему я тут лежу?
Сиделка наклонилась, чтоб удержать ее.
— Ну-ну, милая, сегодня-то еще нельзя. Тебе так нездоровится, да и поздно уже как-никак.
— Да, уже поздно, — пробормотала Дженни. — Уже слишком поздно… “Покойной ночи, леди, покойной ночи, дорогие леди… Покойной ночи… покойной ночи…”[10] — Ее голос замер, но тут же она услышала что-то поразившее ее и подняла руку: — Слушайте: что это за шум?
— Это дождик, милая, — сказала сиделка. — Западный ветер нагнал дождя к ночи.
— “Хей-хо, и дождь и ветер…”[11] Это тоже грустно. Не знаю почему, но так уж оно выходит. А ему того и надо. “Да не все ль равно, пьеса сыграна давно…”2 Хочет притвориться, будто не грустно, будто ему ни до чего нет дела, и все равно грустно. Мне всегда плакать хочется.
— Не плачь, милая. Пожалей свою головушку.
Но Дженни снова забеспокоилась.
— Нет… нет… я должна. А времени мало… Ну и что ж, если поздно, Сара? Я знаю, что ты устала, но я должна повторить это еще раз. “У вашей двери шалаш я сплел бы, чтобы из него взывать к возлюбленной…”
Когда она в изнеможении откинулась на подушки, рядом с кроватью возникла высокая фигура, чей рост еще более подчеркивался длинным черным плащом — точно явилась наконец сама Смерть. Доктор, которого будто специально вывели на сцену, чтобы заполнить пустое пространство, занял свое место с какой-то мрачной эффектностью; теперь эта меланхоличная, выдержанная в приглушенных тонах картина была закончена и могла бы считаться вершиной академической живописи того времени. А умирающая девушка со спутанными блекнущими волосами, впалыми щеками, с глазами, сверкающими горячечным блеском, — то была не сама Дженни, но актриса мисс Вильерс в ее последней великой роли. И может быть, сам Уолтер Кеттл был здесь режиссером, и он же набросал подобающий случаю диалог.
— Она гаснет на глазах, доктор, — прошептала сиделка. — И опять бредит, бедняжка.
Дженни широко открыла глаза и с усилием улыбнулась доктору.
— Мисс Вильерс, — сказал он тихо.
Она тряхнула головой, как ребенок.
— Вы совсем замучились со мною, доктор.
— Нет, нисколько, мисс Вильерс.
— Совсем замучились… А где нянюшка?.. Ушла?
— Да что ты, господь с тобой, вот я, здесь!
— Я вас не вижу, — сказала она вяло. — Темно… Почему так темно? И что это за шум?
— Это дождик, милая.
— Нет, нет, послушайте. — И Дженни, в последний раз собравшись с силами, села на кровати.
И Чиверел вдруг тоже услышал далекую музыку, приглушенные аплодисменты и молодой голос, который все приближался и звал: “Увертюра! Участники первого акта, на сцену, на сцену!”
— Мой выход, — сказала Дженни с торжествующей улыбкой, — мой выход! — Она упала на подушки, и тут же черный ветер с воем ворвался из необъятной тьмы, и вся сцена сразу высохла и поблекла, как поблек бы зеленый лист, если бы целую осень втиснули в одно мгновение; и, как лист с дерева, ее унесло прочь. И снова была пустота.
15
Вот и все. Занавес. Конец. Сам не зная как, он привел в действие странный механизм этого вечера, вспомнив строчку из справочника: Дженни Вильерс, актриса, умерла 15 ноября 1846 года в возрасте 24 лет. И теперь все кончилось; больше ничего не могло быть. Он снова услышал спокойный голос Отли: “Дженни Вильерс приехала сюда из Норфолка и стала играть главные роли. Влюбилась в здешнего первого любовника Джулиана Напье, но тот внезапно оставил труппу ради ангажемента в Лондон. Она заболела и умерла. Напье ненамного пережил ее. Он уехал в Нью-Йорк, запил и вскоре покончил с собой. Вот, собственно, что там сказано”. Это был благоразумный голос истории и здравого смысла. Дженни Вильерс вчера, Мартин Чиверел сегодня; и каждый год первое дуновение зимы сметает с деревьев остатки их увядшего золота — что же особенного в том, что и маленькую сценку у смертного одра унесло прочь, как опавший лист.
И все же в середине своей речи на ужине в “Белом олене” она остановилась и сказала ему удивительные слова. Впрочем, тогда это скорее всего была сложная игра его собственного воображения. Ведь никакой Дженни Вильерс, говорившей с ним из другого времени, явно не могло быть, и, несомненно, он говорил сам с собой, а потому здесь все еще оставалась какая-то тайна. Кто же наконец предстал ему в образе давным-давно умершей актрисы и попытался воздействовать на его ум таким необычным способом? И что за неведомый источник вновь обретенного волшебства — энергии, вдохновения, восторга — открылся в нем в этот миг? Он увидел тогда родник, сверкающий в пустыне, — почему же он не видит его теперь?
Быстрая химическая реакция в крови, решил он, вспомнив таблетки доктора Кейва. Ведь он принял четыре вместо двух, и эти таблетки и химические процессы, которые смогли пробудить театральные фантазии в каком-то уголке его мозга, разумеется, сыграли тут немалую роль. Прежнее сухое утомление быстро возвращалось, и вокруг опять простерлась пустыня, усеянная древними белыми костями. Он открыл глаза и обвел внимательным взглядом Зеленую Комнату: да, вне всякого сомнения, это была единственная в своем роде Зеленая Комната в Бартон-Спа, в театре “Ройял”, который простоял закрытым всю неделю, но должен открыться в понедельник (По специальному приглашению! Контрамарки не выдаются!) долгожданной премьерой “Стеклянной двери” Мартина Чиверела с полным вест-эндским составом исполнителей. Теперь комната спокойно стояла на своем месте в колее времени. Это были заурядные Здесь и Сейчас. Вполне резонно, согласился он, так оно и должно быть. Но едва он снова закрыл глаза, у него вырвался глубокий вздох, почта стон.
Ему отозвался эхом вздох еще более глубокий, еще больше походивший на стон, но слегка аффектированный, театральный, и человек в черном, шедший по темному коридору, обернувшись, принял от другого едва различимого человека пачку писем и записок. Затем отворилась дверь в залитую светом комнату, и тот в черном, попав в раму дверного проема, оказался Гамлетом, принцем Датским. Гамлет что-то ворчал, впрочем, без малейшего признака подлинного неудовольствия, ибо после спектакля дамы забросали его записками с изъявлениями восторга и даже намеками на возможность тайных свиданий.
Уборная ничем не напоминала скромной уютной комнатки Дженни в театре “Ройял” в Бартон-Спа. Она предназначалась для премьера лондонского театра “Олимпик”. На столе пестрели цветы в вазах и сверкали хрустальные графины, а над ним висело роскошное, ярко освещенное большое зеркало. Ковер, софа и стулья были темно-малинового цвета. И Джулиан Напье в костюме Гамлета, поверх которого он теперь набросил широкий шелковый халат, был очень красив и импозантен, как и подобает настоящему лондонскому премьеру. Он улыбался, что-то весело мурлыкал и явно был в восторге от самого себя и от всего мира. Он швырнул письма и записки на стол, налил себе порядочную порцию бренди и уселся перед зеркалом, собираясь разгримировываться. В дверь постучали.
Вошедший был толстяк средних лет, длинноволосый, с желтоватым лицом и иссиня-черной козлиной бородкой. Держался он подчеркнуто торжественно, смотрел холодным пристальным взглядом, говорил в нос, растягивая слова, — словом, это был настоящий янки старых времен.
— Мистер Джулиан Напье, — важно начал он.
— Да, сэр, — надменно отвечал Напье. — А вы кто?
— Джекоб Дж.Манглс, сэр, из Нью-Йорка, — отвечал тот, доставая визитную карточку. — Отлично известен миссис Брогэм и всем ведущим импресарио Лондона, мистер Напье.
— Вы были на спектакле, мистер Манглс?
— Имел удовольствие, мистер Напье, и должен вас поздравить с прекрасным исполнением Благородного Датчанина. Чрезвычайно ловко сыграно, мистер Напье.
— Благодарю вас, мистер Манглс. Выпьете со мной?
— Не теперь, сэр, благодарю вас, мой друг миссис Брогам ожидает меня в своем кабинете. Но хочу вам сказать, мистер Напье, что для вас уже приготовлена целая куча долларов и двести тысяч наших лучших граждан мечтают о том дне, когда Джекоб Дж.Манглс даст им возможность увидеть вас в роли Гамлета и во всех ролях, которые вам желательно будет сыграть на Бродвее или где-либо в другом месте. Ваши условия, мистер Напье?
Напье улыбнулся.
— Это очень любезно с вашей стороны, мистер Манглс. Но пока что у меня нет желания отправиться в Америку.
Мистер Манглс посмотрел на часы.
— Я не могу заставлять женщину ждать, мистер Напье, но позже, если вы еще будете в театре…
— Я приглашен на ужин, мистер Манглс, и я тоже не люблю заставлять женщину ждать…
— Менее чем через четверть часа, мистер Напье, я расскажу вам о своем предложении, и вы будете бесконечно поражены его щедростью; речь идет о сезоне в моем нью-йоркском театре.
— Едва ли мои намерения изменятся в ближайшие десять минут… однако…
— Случались и более странные вещи, мистер Напье. С вашего разрешения я все же рискну. — И он вышел.
Напье развеселяйся. Сделав новый глоток бренди, он качал снимать грим и целиком погрузился в это занятие. Он стирал последние следы краски со своего мрачного красивого лица, когда в уборную без стука ворвался следующий посетитель. Это был Уолтер Кеттл, еще более возбужденный и измученный, чем обычно, и похожий на пугало.
— Уолтер Кеттл! — Напье был поражен. — Ты-то для чего в Лондоне? Ушел наконец от старика Ладлоу?
— Она умерла, Напье! — вскричал Кеттл, с трудом переводя дыхание. — И это ты убил ее!
Напье поднялся и стоял, возвышаясь над ним.
— О чем ты говоришь? Кто умер?
— Дженни умерла.
— Дженни Вильерс?
— Да, да, да, умерла, умерла! — Кеттл словно обезумел. Он вцепился в Напье, свирепо глядя на него, и кричал: — Мы хороним ее послезавтра. И клянусь богом, Напье, это ты убил ее, ты и больше никто, убил так же верно, как если бы всадил ей пулю в сердце. Ты убил ее…
— Пусти, дурак, — зарычал Напье, — или я сломаю тебе руку. — Он отшвырнул Кеттла так, что тот пролетел через всю комнату. Униженный и обессиленный, Кеттл прислонился к стене. — Что случилось? Я даже не знал, что она болела. Болела она?
— Да, — пробормотал Кеттл. — Это началось в то утро, когда она узнала, что ты сбежал от нас. — Он дышал с трудом, словно каждый вздох причинял ему боль.
— Ну? — нетерпеливо спросил Напье.
— Она ждала ребенка, ты знаешь.
— Откуда мне знать? Она ничего не говорила.
Кеттл не взглянул на него.
— Она избавилась от ребенка. Но лучше ей не стало. Да она и не хотела поправиться. Твое бегство прикончило ее. Ты убил ее, Напье. И покуда я жив, я не дам тебе забыть этого. — Но в его угрозе не чувствовалось ни силы, ни настоящей ярости.
— Забыть? Ты думаешь, я нуждаюсь в твоих напоминаниях?
— Нуждаешься или нет, а я буду тебе напоминать. — Теперь Кеттл поднял на него глаза.
От этого взгляда Напье сорвался с места и в два прыжка оказался рядом с Кеттлом.
— Не смей говорить со мной таким тоном, Кеттл. А то смотри, как бы я не затолкал тебе все твои слова обратно в глотку. Я играл с ней на сцене. Я любил ее. Я жил с ней. Запомни это.
— И бросил ее.
Удивительно, до чего этот диалог, хоть и переполненный неподдельной яростью, напоминал тот Театр, который оба они знали так хорошо. Оба оставались сами собой, притом едва собой владели, и все же возникало впечатление, что они разыгрывают спектакль, что и сама эта уборная находится на сцене какого-то таинственного огромного театра.
— Я бросил ее, — сказал Напье теперь осторожно, словно ему надо было оправдаться перед самим собой не меньше, чем перед Кеттлом, — потому что хотел получить этот лондонский ангажемент. Нельзя было упускать такой случай, а я знал, что расскажи я ей, она уговорила бы меня отказаться, подождать, пока нам предложат двойной ангажемент. Вы все знали, где я, и когда она не стала мне писать, я решил, что она рассердилась… несомненно, она имела право сердиться… и что со мной у нее все кончено…
— Она была слишком горда, чтобы писать…
— Да, да, я понимаю, — нетерпелива перебил Напье. — Можешь мне не объяснять, какова она. — Помолчав, он спросил: — Как она умерла?
— Ужасно. — Кеттл был очень мрачен. — Жизнь уходила из нее по капле.
— Замолчи, — вдруг в бешенстве закричал Напье, — не то я…
— Я думал, что ты хочешь знать.
— Ладно, — сказал Напье, — теперь я не хочу знать. — Он снова вскипел.
— Проваливай! — Кеттл не шевельнулся, и тогда он снова крикнул: — Проваливай и оставь меня в покое! — Он круто повернулся и с маху сел на стул лицом к зеркалу.
Кеттл медленно пошел к двери и у двери обернулся.
— Желаю удачи в славной карьере, Напье, — сказал он тихо. — Она тебе здорово пригодится. — И вышел.
Напье одним глотком допил бренди, торопливо налил себе новую порцию, больше прежней, и вскоре проглотил и ее. Он приступил к третьей порции и был уже изрядно пьян, когда вернулся мистер Манглс.
— Итак, мистер Напье, на случай, если вас может заинтересовать мое предложение…
Напье вскочил и впился в него глазами:
— Да, да. Вы хотите, чтобы я играл для вас и для ваших тысяч лучших граждан…
— Разумеется, мистер Напье.
— Гамлета, Макбета, Отелло…
— Все великие роли, мистер Напье.
Голос Напье понизился до странного шепота:
— По рукам, мистер Манглс. Они у меня все попадают со стульев. Клянусь богом, я нарисую им такую картину страха, ужаса и угрызений совести, что она будет преследовать их каждую ночь. Выпьем, мистер Манглс, выпьем, а?
— Ну что ж, — сказал мистер Манглс, улыбаясь, — немного я, пожалуй, выпью.
— Немного? — вскричал Напье, наполняя бокалы. — Вот, пейте! За мое появление на вашем Бродвее…
— С удовольствием, сэр. В вас есть блеск, который прядется по вкусу моим согражданам, мистер Напье.
Теперь Напье захмелел окончательно.
— Вы находите? Ну что ж, посмотрим.
— Теперь, сэр, что касается условий…
— К черту условия! Поговорим завтра. Сейчас я не в настроении обсуждать условия. — И, уставив трясущийся палец в посетителя, он продекламировал с пьяной страстностью:
Я любил
Офелию, и сорок тысяч братьев,
И вся любовь их — не чета моей.[12]
И запустил бокалом в стену.
Мистер Манглс понимал толк в зрелищах.
— Превосходно, мистер Напье. Наша публика, сэр, романтична и набожна…
— Тогда, клянусь небом, мистер Манглс, — вскричал Напье как безумный, — мне надобно спросить с вас побольше, а вам — поднять цены, если уж мы решим быть и романтичными и набожными сразу. Нет, нет, мистер Манглс, — прибавил он, видя, что тот пытается что-то вставить, — завтра, завтра, поговорим завтра…
Он бросился на стул возле гримировального столика, уронил голову на руки и зарыдал сухо и сдавленно. Мистер Манглс метнул на него проницательный взгляд, поставил свой бокал и бесшумно вышел. Напье, ничего но видя, неподвижно сидел перед зеркалом.
Свет стал меркнуть. Чиверел подумал: “Так вот как это было. Жаль. И знала ли она — могла ли она знать, что сталось с тобой, мой друг?”
Теперь перед ним был лишь бледный призрак этой сцены, но он еще различал Напье, уронившего голову на руки среди коробочек с гримом, мелкой бутафории, писем и графинов, и зеркало, слабо мерцавшее перед ним. Потом ему показалось, что в глубине зеркала возникло какое-то белое пятно… лицо… искаженное горем, Дженни Вильерс…
16
Это, несомненно, снова была Зеленая Комната. Но Зеленая Комната теперь или тогда? Тут ли два стеклянных шкафа и портреты на стенах? И на месте ли другая дверь, та, что исчезла за сто лет, прошедших после 1846 года? Бурый сумрак стал гуще и плотней, чем когда-либо, он напоминал темный туман. Чиверел не знал, что делать. Если сосредоточиться слишком поспешно, вооружившись острым скальпелем сознания, все может внезапно исчезнуть раз и навсегда, он окажется узником настоящего, и тогда ничего не останется, кроме портрета, перчатки, имени да скудных, мелких биографических фактов. Но если он позволит своему вниманию заблудиться в буром тумане времени, он может никогда больше ее не встретить. Наступал самый важный момент, все остальное было лишь подготовкой к нему. Дженни! Крик вырвался из глубины его сердца, и все равно, была ли то живая девушка, избежавшая смерти и освободившаяся из плена своего времени, или просто плод его воображения. Где она? Дженни Вильерс!
Ни звука. Ни проблеска света в сумраке. Ничего, кроме смутного ощущения, что Зеленая Комната по-прежнему здесь. Сейчас он был не просто утомлен; его захлестнула огромная холодная волна страдания, которое вскоре могло стать острой болью. Если он потерял ее, если это конец всего, тогда лучше бы ему было умереть час назад в этом кресле.
— Дженни! — кричал он упрямо и настойчиво, словно они давным-давно уговорились и сто раз поклялись друг другу встретиться именно на этом месте в этот самый час, и вот, наконец, он здесь.
И ответ пришел к нему в Зеленую Комнату: это был смех, звонкий и ясный, как серебряный колокольчик.
Прежний таинственный янтарно-золотистый свет валил большую часть комнаты, и только узкое кольцо тени отделяло Чиверела от последней и самой странной сцены из всех увиденных им в этот вечер. Дженни была в белом платье, юная и веселая, совсем как в тот день, когда Кеттл представил ее труппе: вначале ему показалось, что она стоит в дверном проеме, залитая ослепительным светом. И свет этот был совсем другой. Словно позади нее был узкий короткий коридор, уходивший в сияющие солнечные лучи, которые пробивались к ней, и плясали, и сверкали вокруг ее головы. Она стояла там в каком-то своем зачарованном мае, точно пришла из прекрасного золотого века, из той мечты, что вечно бередит человеческое воображение. Однако потом Чиверел разглядел, что ее обрамляет не дверной проем, а высокое зеркало в нише — зеркало, в которое с давних пор смотрелись актеры и которое пережило все перемены в Зеленой Комнате. Знакомое зеркало, но сейчас оно было также и дверным проемом, потому что Дженни стояла в нем, грациозно балансируя на самом краю, и таинственным образом излучала столько света, что все прочие в комнате казались тусклыми и какими-то поникшими.
Они напоминали фигуры со старого дагерротипа — оба Ладлоу, Стоукс, Сэм Мун и остальные. Все были в черном и сидели неподвижно, вплотную друг к другу, и что-то слушали с унылым видом. Чиверел не сразу понял, что здесь происходит, ибо не только они сами казались всего лишь потемневшими, обшарпанными могильными памятниками рядом с ослепительной и полной жизни Дженни, но и все их речи были тоскливым, вялым бормотанием после ее смеха. Лицом к собравшимся сидел какой-то взволнованный пожилой человечек, и постепенно Чиверелу стало ясно, что это самая обычная для старых зеленых комнат сцена, а именно — авторская читка новой пьесы на труппе. Автор, некий Спрэгг, читал один из ужасных маленьких фарсов того времени, которые игрались под конец вечера. Фарс назывался “Байки мистера Тули”, и единственным человеком, получавшим от него удовольствие, ибо несчастный Спрэгг пребывал в полном отчаянии, была Дженни: она смеялась и изредка хлопала в ладоши, но никто из присутствующих ее не видел и не слышал.
Отчаянно пережимая, как всякий потерявший надежду автор, Спрэгг гнал к заключительному занавесу:
— “Мистер Тули. Нет, мэм, должен признаться, у меня никогда не было брата, а будь у меня брат, я бы с ним так не поступал.
Миссис Тули. Тетя Джемима, это просто еще одна байка мистера Тули.
Снова комическая игра с зонтиком”.
Спрэгг обвел слушателей взглядом утопающего, но, все еще на что-то надеясь, прибавил:
— Очень эффектно.
— Да, — вскричала Дженни, — я себе представляю! Продолжайте, мистер Спрэгг. Скоро занавес?
Спрэгг попытался найти на лицах актеров хоть какой-нибудь признак одобрения, но поиски были тщетны, и он торопливо продолжал:
— “Тетя Джемима. А я, милочка моя, могу только возблагодарить бога, что это ты замужем за ним, а не я. Но теперь уж я не вычеркну тебя из завещания: ведь мне тебя и вправду жалко. Подумать только: вышла замуж за такого олуха! Боже, что там еще?”
И снова Дженни, у которой это чудовищное произведение вызывало самый неподдельный интерес, воскликнула:
— Неужели опять фермер Джайлс?
— “Из камина вываливается фермер Джайлс, покрытый сажей”, — объявил Спрэгг и добавил, бросив на актеров последний отчаянный взгляд. — Это очень смешно, как раз под занавес. — Ответа не было, и, глубоко вздохнув, он продолжал:
— “Миссис Тули. Ну и ну, это же бедный фермер Джайлс!
Фермер Джайлс. Да, и, как видите, весь почернел, понаслушавшись баек мистера Тули.
Оглушительно чихает: все становятся в позы. Немая сцена. Занавес. Конец фарса “Байки мистера Тули”.
Спрэгг отбросил рукопись, поднял бровь и попытался сделать вид, будто он находится за тысячу миль от угрюмой труппы, сидевшей перед ним.
— Мне очень понравилось, мистер Спрэгг, — воскликнула Дженни. Но услышал ее один Чиверел.
— Благодарю вас, мистер Спрэгг, — мрачно сказал Ладлоу. — Это очень забавно.
Несчастный автор убито взглянул на него.
— Мистер Ладлоу, — безнадежно, со слезами в голосе начал он, — не знаю, может быть, я плохо читал, но клянусь честью, мой фарс имел большой успех и в Йорке, и в Норвиче, где публике не так легко угодить. Понятно, его надо видеть .
— Да, — сказал Сэм Мун печально, — там есть хорошие комические сцены… особенно у фермера Джайлса…
— Но, черт возьми, вы даже не улыбнулись — ни один из вас…
— Ой, какой стыд! — воскликнула Дженни. — Бедняжка! Позволили ему прочесть все это, и никто, кроме меня, ни разу не засмеялся.
И теперь Чиверел начал задумываться, не к нему ли она обращается. Несомненно, он один слышал ее и знал, что она тут.
— Скажите ему, мистер Ладлоу, — произнесла миссис Ладлоу печальным тоном.
— Что “скажите”? — вскричал Спрэгг, все еще рассерженный.
Мистер Ладлоу был мрачен, и голос его звучал торжественно:
— Я должен признаться вам кое в чем, мистер Спрэгг. Недели две назад я пригласил вас прочесть нам свою новую пьесу, вы помните. Я позабыл отменить ваш приезд, а когда вы прибыли, у меня не хватило духу сказать…
— Что сказать? Вы же не закрываетесь?
Мистер Ладлоу даже испугался:
— Нет, нет, что вы, друг мой!
— Мы были закрыты вчера, мистер Спрэгг, — сказала миссис Ладлоу своим густым контральто, — потому что мы все присутствовали на похоронах нашей молодой героини, которой мы все восхищались и нежно любили, — нашей бедной милой Дженни Вильерс…
Спрэгг обескураженно и в то же время укоризненно воскликнул:
— О, в самом деле? Право, мэм…
— И сейчас мы в первый раз собрались после того, как простились с нею навсегда…
— Нет, нет, дорогая, — сказала Дженни настойчиво, — ничего подобного.
— Мы переживаем это, мистер Спрэгг, — всхлипнула миссис Ладлоу, — мы так глубоко переживаем это… — И молодые актрисы тоже всхлипнули, а мужчины громко засопели и принялись мрачно рассматривать свою обувь.
— Да нет же, — сказала Дженни, — это ровно ничего не значит. Ну, пожалуйста!
Вся эта сцена, люди, лица и голоса теперь начали быстро таять и уже напоминали старый и совсем стершийся фильм, который прокручивали слишком часто.
— Вы должны были предупредить меня, знаете ли, — сказал Спрэгг. — Не очень-то это честно, ей-богу!
— Я знаю, что должны были, — отвечала готовая расплакаться миссис Ладлоу. — Но мы надеялись, что вы поможете нам забыть.
— Да тут нечего забывать! — закричала Дженни.
— Это бесполезно, Дженни, — неожиданно для себя сказал ей Чиверел. — Теперь ты призрак даже для призраков.
Она посмотрела на него и ответила:
— Нет, я не призрак.
Действительно, лицо ее по-прежнему оставалось ясным и светлым, а прочие превратились в скопление шепчущих и бормочущих теней в наплывавшем сумраке.
Говорила маленькая актриса Сара:
— Мы не можем ее забыть…
Говорил старый Джон Стоукс…
— Должно быть, пройдет немало времени…
Говорил шут Сэм Мун:
— Прямо сердце разрывается…
Дженни запротестовала:
— Нет, Сэм, Джон, Сара, все. То, что случилось со ивой, не так уж важно. Ничто не потеряно. И важно только одно — чтобы пламя оставалось чистым.
— Лучшие из них — только тени, — пробормотал Чиверел.
— Они уходят! — горестно воскликнула Дженни. — Опять они уходят.
И в самом деле, актеры были теперь всего лишь сгустками мрака, вокруг которых слышалось тихое бормотание.
Он стоял совсем близко от нее, хотя и не помнил, чтобы вставал со своего кресла. Он смотрел поверх бормочущего сумрака в ее лицо, на которое не падал свет из комнаты и которое он все же по-прежнему видел ясно, как прозрачную маску на светлом фоне. Может быть, теперь оно и походило больше на маску, чем на живое лицо. Однако голос ее был, как прежде, взволнованным, теплым и мелодичным — то был женский голос, а не фальшивое гулкое эхо его собственных мыслей.
— Скажите им: то, что случилось со мной, не так уж важно, — проговорила она, — и с любым другим тоже, пока пламя остается чистым. Вы-то это знаете.
— Как я могу знать?
— Вы поняли это однажды. Скажите им.
— Слишком поздно, они уже ушли, — сказал он. — И все это было давным-давно. — Едва он успел произнести эти слова, как с ужасом увидел, что сумрак подкрадывается теперь к самой Дженни.
— Нет, не давным-давно. — Ее голос слабел и остывал с каждым словом. — И теперь тоже, если очень захотеть.
— Ты видишь меня на этот раз?
— Да, — донесся шепот, — вижу.
— Потому что мы оба призраки.
— Нет, не в том дело. Зачем вы притворяетесь, что не понимаете?
— Почему я должен понимать? — спросил он тихо. — И почему ты сказала, что однажды я понял?
Он все еще видел ее лицо, хоть оно и было покрыто тенью, но еле уловил чуть слышный ответ:
— Потому что… мы говорили с вами. Вы разве не помните?
Он сделал шаг вперед, еще один, но она ничуть не приблизилась.
— И не старайтесь найти меня… пока что.
Он с мучительной болью крикнул вслед исчезающему призраку:
— Дженни! Дженни Вильерс!
Ее голос донесся откуда-то из безмерной дали:
— Нет… еще нет… еще нет…
В последний раз он увидел мерцание ее лица, едва заметное, словно светлячок осветил маску слоновой кости; и затем — тьма. Но он крикнул в эту тьму:
— Дженни, дай мне увидеть тебя еще раз, еще только раз, и тогда я буду знать! Только раз, Дженни!
Она стояла там, как в самом начале, в лучистом золоте своего зачарованного мая, и ему показалось, что губы ее шевельнулись, чтобы произнести его имя. Он простер руки и бросился вперед, и имя ее вырвалось у него из груди громким ликующим криком; но тотчас сияющий образ размыло, и Чиверел с треском ударился в мертвое холодное стекло.
— Стеклянная Дверь! — воскликнул он. — Только Стеклянная Дверь!
17
…Горели огни, слишком много огней; и все они раздражающе быстро мигали, то тускнея, то разгораясь. Тут всегда было множество спокойных, устойчивых огней. Куда они вдруг пропали? Черт знает что такое! Он хотел было спросить, но не смог, и тут ему показалось, что все это очень смешно. И страшно захотелось хихикнуть. Рядом с собой он увидел две огромные человеческие фигуры; лица их напоминали мотающиеся на ветру розовые воздушные шары, хотя в действительности они стояли, склонившись над ним.
Одна из фигур произнесла:
— Ничего, мистер Чиверел. Доктор здесь, — и тут же превратилась в славного коротышку Отли. Но надо было подумать о чем-то более важном, нежели Отли. Ах да, конечно!
— Стеклянная Дверь, — сказал он, обращаясь к ним. — Стеклянная Дверь.
— Что он говорит? — Это был доктор. Да, доктор Кейв.
— “Стеклянная Дверь”, — сказал Отли. — Это название его пьесы.
— А, да. Мысленно он возвращается к ней, — сказал доктор Кейв. — Так и бывает с людьми этого типа. Вот почему с ними всегда рискованно иметь дело.
Они не поняли самого главного о Стеклянной Двери. А что самое главное? Он старался вспомнить, но не мог.
— Ну, мистер Чиверел, теперь вам лучше? — Доктор говорил громким, профессионально-бодрым голосом.
— Да, спасибо, — ответил Чиверел медленно и осторожно. — Мне очень жаль. — Он попытался сесть. — Но я чувствовал себя хорошо… а потом, когда шагнул к ней, она исчезла…
Он заметил взгляд, который Отли бросил на доктора Кейва, затем увидел, как доктор покачал головой. Теперь оба они обрели обычные, разумные размеры, и хотя он все еще чувствовал, что Зеленая Комната освещена слишком ярко, в ней больше не было ничего странного.
— Это то самое зеркало? — спросил он.
— Там мы вас нашли, — сказал Отли. — Я услышал, как вы что-то кричали насчет стеклянной двери.
— Что ж, зеркало — это нечто вроде стеклянной двери, разве не так? — сказал Чиверел. Но он знал теперь, что говорить с ними бессмысленно.
— У вас было полное затемнение сознания, мистер Чиверел, — сказал ему доктор Кейв. — Что, если мы снова посадим вас в это удобное кресло? Вы сейчас можете двигаться?
Он кивнул и с некоторой их помощью снова оказался в глубоком кресле. Он улыбнулся им.
— Я не стану объяснять. Вы мне все равно не поверите. Но я очень сожалею, что причинял вам сколько беспокойства.
— Не думайте об этом, — сказал доктор Кейв. — К счастью, мистер Отли зашел проведать вас с полчаса назад, и ему показалось, что у вас вид какой-то странный; вот он и позвонил мне, что с его стороны было весьма разумно.
— Очень вам признателен, — сказал он Отли.
— Не за что, мистер Чиверел. Но я, с вашего разрешения, пойду к себе. Вы можете позвонить мне по внутреннему телефону — он здесь, на столе, — если я вам понадоблюсь.
Когда Отли ушел, доктор Кейв закурил сигарету, плюхнулся на стул, который был для него маловат, и принялся весело рассматривать Чиверела.
— Я сделал вам укол корамина. Пульс у вас был ужасный. Я мог бы сделать это раньше, но у людей вашего типа всякое бывает с головой. Нет смысла заставлять вас отдыхать, если вы не готовы к отдыху, это только усилит раздражение, и вам станет еще хуже. А на корамине вы продержитесь несколько часов, если вам срочно требуется что-то сделать; но уж потом придется либо как следует отдохнуть, либо искать себе другого доктора.
Слушая доктора, Чиверел обнаружил две вещи. Он был здоров — здоров как никогда — и чувствовал огромный прилив энергии и энтузиазма. Он вспомнил о множестве важных дел, которые нужно было сделать как можно скорее. Поэтому он сказал:
— Благодарю вас, доктор. Я выполню все, что вы говорите. Но кое-что мне хотелось бы сделать немедленно, Без этого я не смогу отдыхать.
— Так я и думал. — Доктор Кейв протянул руку и, взяв со стола флакончик с таблетками, задумчиво взглянул на него. Потом он перевел взгляд на Чиверела.
— Вы приняли две?
Чиверел нахмурился.
— Да, согласно вашему предписанию!
— Вы уверены, что приняли только две?
— Хм… да! Точно помню: я принял две таблетки и запил их водой. Хотя постойте. — Он задумался. — Нет, я принял четыре. Не нарочно. Вторые две я принял потому, что забыл о первых. Прошу прощения.
— Передо мной не надо извиняться, — сказал доктор Кейв с усмешкой на широком красном лице. — Извинитесь перед собой. Вы сами накликали беду. Случилось, по-видимому, вот что: вы задали себе такую нагрузку, что сердце не смогло ее выдержать. — Он снова усмехнулся. — Скажите, как себя чувствуешь в двух шагах от смерти?
И тут Чиверел вспомнил.
— Еще нет, — произнес он медленно.
— Что?
— Совсем не так, как можно предположить. Должно быть, мы переходим из одного времени в другое. Добираешься до конца в одном, но затем покидаешь его, словно переходишь в другое измерение, в другой тип времени.
— Вам это приснилось?
— Сам не знаю.
Доктор в последний раз затянулся и раздавил сигарету в пепельнице.
— Если вы еще хоть немного перенагрузите свою нервную систему, дорогой сэр, вы в два счета вылетите из всякого времени окончательно и бесповоротно.
Чиверел улыбнулся.
— Откуда вы знаете, доктор?
— Я не знаю, — отозвался тот, вставая. — Моя работа — Чинить тела, а ваше требует присмотра. — Он повертел в руке флакончик с таблетками. — Я, кстати, заберу это. А вы, не перенапрягаясь, займитесь тем, что, по-вашему, нельзя оставить без внимания, а потом попросите Отли или кого-нибудь из труппы проводить вас в гостиницу, лягте в постель и до моего прихода не вставайте. Я приду завтра утром. И не тревожьтесь, если сегодня вам будет спаться не очень хорошо. И не принимайте снотворного — просто лежите спокойно. Доброй ночи!
— Доброй ночи, доктор, — сказал Чиверел вслед ему. — Спасибо. Кстати, если вам попадется Отли, попросите его зайти ко мне на минуту.
Доктор уже в дверях махнул своей черной сумкой в знак согласия.
Чиверел медленно и испытующе оглядел Зеленую Комнату — два стеклянных шкафа, мебель, портреты, высокое зеркало в нише. Это была та самая комната, вид которой еще недавно наводил на него тоску. И все же это не была прежняя комната, потому что тогда она была мертвой, а теперь — полной жизни. Или он, смотревший на нее, был мертв и теперь снова вернулся к жизни. Теперь он озирался по сторонам с удивлением, и нежностью, и странной радостью. Жажда деятельности, какой он не знал уже много лет, охватила его. Так мало времени, если мерить здешней мерой, и так много нужно сделать, сначала в этой самой комнате, а потом в огромном сверкающем мире за ее пределами, таком страшном, таком удивительном. Не так уж важно, за что человек берется, когда перед ним столько прекрасных целей, но все же Чиверелу повезло, у него есть его профессия, его мастерская, его чудесная золотая игрушка, Театр…
18
— Да, мистер Чиверел? — спросил Отли.
— У меня к вам две просьбы, если позволите. — И он замолчал.
Отли улыбнулся.
— Вам ведь уже получше, правда?
— Мне кажется, да. Так вот. Во-первых, попросите вашего секретаря дозвониться до сэра Джорджа Гэвина — его номер Риджент шесть один пятьдесят. Может быть, он еще не вернулся, но пусть ему передадут, чтобы он сразу же позвонил мне сюда, — это довольно срочно.
Отли записывал.
— Ясно… так. Что-нибудь еще, мистер Чиверел?
— Еще… помните молодую актрису, которая хотела встретиться со мной…
— Это я виноват. Она как-то проскользнула мимо нас…
— Нет, ничего страшного. — Он кашлянул. — Я отказался поговорить с ней. Я был не прав. И если она вернется, я хочу с нею встретиться.
— Хорошо, мистер Чиверел, — ответил Отли с сомнением. — Только не очень похоже, чтобы она вернулась.
Чиверел посмотрел на него невидящим взглядом.
— Я думаю, что она может вернуться, — медленно произнес он. — Уходя, она сказала — тогда мне это показалось странным: “Вы пожалеете, что сказали это”. Это было после того, как я велел ей уйти. И она была совершенно права. Теперь я и в самом деле жалею.
Лицо Отли по-прежнему выражало сомнение.
— Все-таки… от этого ведь она не вернется обратно?
— Не знаю. Может быть, и вернется. И еще она сказала, чтобы я остерегался.
— Остерегались чего?
— Я думаю, привидений.
Отли засмеялся.
— А-а… вот, я же говорил вам, мистер Чиверел. Вы знаете, как они все суеверны.
— А вы?
— Нет, нет, я — нет.
— А я, по-моему, да, — сказал Чиверел медленно.
В комнату вперевалку вошел старый Альфред Лезерс.
— Я не помешаю?
— Нет, заходи, Альфред.
— У меня перерыв, — сказал Альфред с легкой одышкой, — вот я и вскарабкался поглядеть, как ты тут.
— Мы говорили о привидениях. И я как раз собирался напомнить мистеру Отли, что ведь мы сами тоже привидения.
Отли улыбнулся.
— Ну, ну, мистер Чиверел, не надо об этом. Значит, я постараюсь поскорее дозвониться до Лондона и скажу на служебном подъезде, чтобы эту молодую особу пропустили наверх, если она вернется.
Когда Отли вышел, Альфред Лезерс подтащил стул поближе к Чиверелу и уселся, задумчиво жуя резинку. Чиверел с любовью смотрел на его помятое лицо. Им часто приходилось работать вместе, и не один раз старый Альфред вывозил финал второго акта или каверзный третий акт очередной пьесы Чиверела с помощью своей прекрасной техники и огромного опыта. И теперь, когда старый актер сидел здесь, радуясь минутной передышке, он напомнил Чиверелу кого-то виденного совсем недавно.
— Альфред, а ты веришь, что мы тоже привидения?
— Я частенько чувствую себя привидением.
— Да я не о том, старый греховодник!
— Ну, тогда я не знаю, о чем ты. — Альфред прерывисто вздохнул и уставился на мозоль, выпиравшую у него из левого ботинка. — Но я — то вот о чем, Мартин, малыш: слишком уж долго я играл… и, как любят говорить молодые, я выхожу в тираж.
— Чепуха, Альфред!
— Нет, нет. Послушай меня. Собственно говоря, и Театр выходит в тираж. За этот час у нас на сцене раза два-три заедало, и мы с Паулиной и Джимми Уайтфутом немножко повздорили, потрепали друг другу нервы, как оно вообще бывает на последних репетициях. И мне подумалось, что прав ты, а они ошибаются. Театр дошел до последней черты, и нам остается только лишь признать это. — И он покачал своей большой старой головой.
Чиверел тоже покачал головой.
— Он был, конечно, иным в дни твоей молодости, а? — спросил он вкрадчиво.
— Иным? — вскричал Альфред, мгновенно расцветая. — Безусловно.
— Я думаю, тебе многое довелось повидать в Театре, Альфред? — Он словно подавал ему реплику.
— Да, Мартин. Я видел великие дни. И они уже никогда не вернутся. Не забывай, что в молодости я играл с Ирвингом, Эллен Терри, Три, миссис Пэт.
— Великие имена, Альфред!
— Да, но Театр был Театром в то время, Мартин. Это было все, что имела публика, и мы старались для нее изо всех сил. Никаких ваших фильмов, радио, телевидения и всего прочего тогда не было. Был Театр — такой Театр, каким ему подобает быть. А нынче они пойдут куда угодно…
— Жажда глупых развлечений…
— Ты крадешь слова у меня с языка! — воскликнул Альфред. — Да, дружок, жажда глупых развлечений. И всюду деньги, деньги, деньги…
Чиверелу захотелось рассмеяться, но он продолжал подавать реплики:
— Театр умирает, хотя на твой век его, может быть, и хватит…
— Да, слава богу! Но не думаю, чтобы он намного меня пережил.
— Старое вино выдохлось, — сказал Чиверел с притворной серьезностью.
— Верно! И пьесы теперь уже не те…
— И публика не та…
— И актеры, — начал Альфред, и Чиверел договорил вместе с ним: — Не те.
— Смотри, какой дуэт получился, — прибавил Альфред.
Чиверел улыбнулся.
— Видишь ли, Альфред, я знаю эту речь об умирающем Театре. Я уже слышал ее сегодня вечером.
— Только не от меня, старина.
— Нет, но от человека, похожего на тебя, — сказал Чиверел медленно, — только он говорил это сто лет назад, и тогда были панорамы, а не фильмы, и в молодости он играл с Кином и миссис Гловер, а не с Ирвингом и Эллен Терри.
— Я что-то тебя не пойму, Мартин. Кто это говорил?
— Старый актер, которого я слышал…
— Слышал? Где?
— Здесь, в Зеленой Комнате. Самое подходящее для этого место.
Альфред вздохнул с облегчением.
— А-а, понятно… ты задремал, старина.
— Ну ладно, пусть я задремал. Но это была та же самая речь, Альфред. И я понимал, конечно, какой неправдой все это было тогда, и ты сам можешь в этом убедиться, потому что твой великий Театр девяностых годов был как-никак два поколения спустя. Но я понимаю, что это неправда и сейчас.
— Постой, Мартин. Что-то я не вижу связи.
— Логической связи тут, наверно, и нет, — согласился Чиверел. — Слухи о смерти могут быть ложными пятьдесят раз, а на пятьдесят первый могут оказаться правдой.
Альфред ударил себя по колену.
— Верно. И все доказывает…
— Что ты пожилой актер, Альфред, и что Театр умирает для тебя. Он всегда умирал для старожилов. И всегда рождался заново для тех, кто приходил на смену. И в этом не слабость его, а сила. Он живет — живет по-настоящему, не просто существует, но живет, как живет человечество, — просто потому, что он непрестанно умирает и возрождается, и всегда возрождается обновленный.
— Что это с тобой произошло? — И Альфред посмотрел на него проницательным стариковским взглядом.
— Я замечтался. Но мы ошибались, говоря о Театре, Альфред, а они были правы…
Альфреда это не убедило.
— Погоди-ка. Он умирает для меня — пожалуй, но для кого он возрождается?
— Пришла мисс Сьюард, — сказал Отли из-за двери.
— Впустите ее, — отозвался Чиверел и взглянул на Альфреда. — Вот и ответ тебе.
19
Она не была ни высокой, ни красавицей — среднего роста, широкоскулая, с квадратными плечами и ясными темно-зелеными глазами. Она не больше походила на Дженни, чем ее плисовые спортивные брюки — на цветастое муслиновое платье. И на первый взгляд девица Сьюард не слишком отличалась от молодых актрис, которых он десятками встречал за последние несколько лет. Что он вообразил? В ней не было ровно ничего от Дженни. Не считая, конечно, самой молодости, сияющей, бодрой и полной надежд. Но он улыбнулся ей, и она подошла ближе, а он не без труда поднялся с кресла; они оказались лицом к лицу, и она взглянула на него в упор, и он почувствовал холодок в груди.
— А-а, мисс Сьюард! — воскликнул он довольно церемонно, стараясь собраться с мыслями. — Это мистер Альфред Лезерс.
— Здравствуйте, мисс Сьюард! — Альфред подарил ей свою удивительную стариковскую усмешку. — Вы актриса?
— Да, мистер Лезерс. — Она с трудом переводила дыхание. — Я видела вас в “Заколоченном доме” в роли этого чудесного старого официанта. Можно задать вам один вопрос? — Он кивнул и ободряюще улыбнулся ей, и она подошла ближе. — Эта мизансцена в конце первого акта, когда вы поворачиваетесь спиной к публике и стоите неподвижно, — чья это была находка, ваша или режиссера?
Альфред довольно хмыкнул:
— Моя.
— Это было замечательно! — воскликнула девушка. — Я никогда этого не забуду.
— Благодарю вас, мисс Сьюард. — Он взял ее маленькую и довольно грязную ручку в свою огромную лапу. — Очень любезно с вашей стороны, что вы упомянули об этом. Желаю удачи. — Он повернулся к Чиверелу. — Что ж, в конце концов ты, может быть, и прав. — И с широкой улыбкой сказал им обоим: — Мне пора на репетицию.
После его ухода очи некоторое время молчали. Чиверел чувствовал, что комната наблюдает за ними. Он указал на стул рядом со своим креслом и, когда она села, сел сам. Какую-то секунду они, не отрываясь, рассматривали друг друга. Комната ждала.
— Знаете, вы были совершенно правы, — начал он тихо и как-то неуверенно.
— Насчет чего? — спросила она, но без тени удивления.
— Когда сказали, что я скоро буду жалеть, что не захотел поговорить с вами. Теперь я прошу извинить меня…
— Нет, пожалуйста, не извиняйтесь! — воскликнула она с жаром. — Вы тогда устали и вам нездоровилось, правда?
— Да. — Теперь казалось, что это было безумно давно.
— И все равно вот я здесь. — Она улыбнулась ему доверчиво, как старому другу.
— Но почему вы сказали, что я пожалею? Как вы могли знать?
— О, мне просто пришло в голову, знаете, так иногда бывает.
— А помните, вы еще сказали мне: “Берегитесь”?
Да, она помнила.
Он серьезно посмотрел на нее.
— Почему?
— Вы оставались здесь один, и я почувствовала, как комната наполняется привидениями. Так оно и было?
— Да… позже.
Последовала долгая пауза.
— Вы не хотите говорить со мной об этом, — сказала она тоном утверждения, а не вопроса.
— Я не хочу ни с кем говорить об этом, — отозвался он.
Она посмотрела на него испытующе.
— Вы переменились.
Он кивнул, она обвела комнату взглядом, снова посмотрела на него и тоже кивнула. Словно им нужно было многое сказать друг другу, но теперь они ничего не скажут, потому что в этом уже нет надобности. Комната будет хранить молчание, и им, глубоко и таинственно связанным с комнатой, тоже незачем разговаривать. Так казалось Чиверелу.
— Кстати, меня зовут Энн, — сообщила она как бы невзначай.
— И вы остановились здесь, в Бартоне?
— Да. Я была уверена, что встречусь с вами, и сказала Роберту…
— Кто это Роберт? Ваш приятель?
— Да. Он приехал со мною и ждет внизу. Бедный Роберт! Ему всегда приходится ждать.
— Он влюблен в вас?
— Да, — отвечала она торжественно. — И я в него тоже. Это тянется уже сто лет.
— Вы хотите сказать, года два?
— Около того. Но не стоит об этом говорить.
Он улыбнулся.
— Ну что же. Может быть, перейдем к делу? Виолу вы играли?
Она кивнула:
— Даже совсем недавно.
— Помните сцену с Оливией — монолог о шалаше?
— Попробую вспомнить. — Она поднялась и стояла в ожидании.
— Пожалуйста. — Он подал ей реплику: — Да? А что б вы сделали?
Едва она начала, он вспомнил тесную гостиную, освещенную одной маленькой лампой, горевшей допоздна в туманной ночи, среди ветра и дождя.
У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него
Взывать к возлюбленной…
Она остановилась и виновато взглянула на него, и снова он почувствовал холодок в спине, ибо она сделала ту же ошибку, что и Дженни, и остановилась в том же самом месте.
— Нет, это было неправильно, — сказала она. — Жалко.
Он серьезно посмотрел на нее.
— Не жалейте. Я не жалею. Прошу вас: Да? А что б вы сделали?
Когда она дочитала до конца и воскликнула: “Пока не сжалились бы!”, он стоял совсем рядом и, не отрываясь, с изумлением смотрел на нее. Закончив, она с минуту молчала и тоже смотрела на него. Казалось, оба вслушиваются в доносящуюся издалека музыку.
— Я не слишком-то хорошо прочла, — сказала она, прервав напряженное молчание. — Хотя не думаю, что на показах читают намного лучше.
— Ненамного, — ответил он в тон ей. — Но о чем-то показы говорят. Вы работаете в каком-то здешнем театре?
— Да, в Уонли. Я теперь там на первом положении. Но уже сыта по горло.
— Теперь вы хотите в Вест-Энд?
— Нет, не обязательно. Я хочу одного: чтобы мне дали как следует поработать с режиссером и как следует порепетировать после этих сумасшедших еженедельных премьер в Уонли. Послушайте, мистер Чиверел, я настоящая актриса. Я не хочу просто ходить и выставлять себя напоказ. Я знаю, что Театр — это не только веселье, блеск и аплодисменты… — Она остановилась.
Чиверел старался скрыть свое волнение.
— Продолжайте, продолжайте. Что же он в таком случае?
— Ну, это тяжелый, порой надрывающий душу труд. И я знаю, что никогда мы не бываем так хороши, как нам бы хотелось. Театр — это сама жизнь, уложенная в маленький ларчик…
— Да. И как жизнь…
— Он часто пугает, часто внушает ужас, но он всегда удивителен. — Она умолкла и виновато засмеялась. — Почему я вам все это говорю? Как-то вдруг вырвалось.
— Я знаю.
— И уж наверняка вы все это слыхали.
— Один раз.
Она раскрыла было рот, вопрос уже читался в ее главах, но он торопливо остановил ее.
— Присядем, — сказал он и, найдя сигареты, предложил ей. Он поднес ей огонь, потом сам взял сигарету, первую после таблеток, и вкус ее показался ему приятным. Они сидели и спокойно курили.
— Скажите, Энн, ваши родители играли на сцене?
— Нет. В нашей семье на сцену идут через поколение. Моя бабушка по матери была актриса, когда-то довольно известная — Маргарет Ширли.
— Я ее помню, — сказал Чиверел. — Она была хорошая актриса, хотя я думаю, что вы будете лучше.
— Она была родом из Австралии, — продолжала Энн, порозовев от удовольствия. — А ее дедушка, который уехал в Австралию году в тысяча восемьсот пятидесятом, тоже работал в Театре, хотя и не был никакой знаменитостью.
— А как звали его?
— Да вы вряд ли когда-нибудь о нем слышали. Его фамилия была Кеттл. Уолтер Кеттл. Ой, что с вами?
— Ничего. Наверное, мне не следует курить. — Он наклонился вперед, чтобы раздавить сигарету в пепельнице, и рука его дрожала. Он почувствовал ее пристальный взгляд и покосился на нее. Она смотрела на дрожащую руку, и когда он резким движением убрал ее, Энн подняла на него глаза.
— Он не вернулся, — сказала она медленно. — Я думаю, он недолго прожил.
— Да, я тоже так думаю.
— Но вы ничего не могли о нем слышать, мистер Чиверел. Он не был ни писателем, ни сколько-нибудь знаменитым актером.
— Уолтер Кеттл был режиссером, — сказал ей Чиверел. — И некогда он был режиссером вот в этом самом театре.
— Вы уверены?
Был ли он уверен? Он решил, что да.
— Да, он работал здесь за год-два до того, как уехал в Австралию. У антрепренера по фамилии Ладлоу. Тут есть книжечка, которую я пролистал, — прибавил он поспешно, опасаясь, что сказал слишком много, — главным образом о молодой актрисе по имени Дженни Вильерс.
— Да, — возбужденно вскричала Энн, — тут есть ее портрет. Я видела его. Вся в локонах. И на полу лежала ее перчатка. Такая зеленая фехтовальная перчатка, отделанная красным.
Он сурово посмотрел на нее.
— Подождите. Вы бросили эту перчатку на пол? Когда я не захотел разговаривать с вами.
Она кивнула.
— Бросила. И я помню, что сказала. Я сказала: “Смотрите, перчатка опять на полу. Даже привидения за меня. Берегитесь”. Вот что я сказала.
— Но почему вы сказали “опять”?
— Потому что до этого, когда я говорила с мисс Фрэзер, мы вдруг увидели перчатку на полу. И я сказала, что она сама выпрыгнула из шкафа. Мисс Фрэзер стала меня разубеждать, но только потому, что испугалась. Я как раз говорила об этой девушке с локонами — Дженни Вильерс, — и вдруг перчатка — ее перчатка — оказалась на полу. Вы здоровы, мистер Чиверел?
— Да, а что такое?
— Вы совсем белый.
— Я чувствую, что побледнел, — признался Чиверел, — но ничего страшного не случилось. Продолжайте.
— Вот и все. Не считая того, что теперь я понимаю, почему все тут с первого же взгляда показалось мне таким жутким. Понимаете, мистер Чиверел, ведь часть меня — та, что идет от Уолтера Кеттла, — уже бывала здесь раньше и хорошо все знает. Может быть, потому перчатки и выпрыгивают из шкафов. Узнали во мне частицу Уолтера Кеттла. О, я так рада, что вы рассказали мне о нем, — что он был здесь. Наверняка из-за этого я и чувствовала себя так странно. И ведь вы тоже, правда?
— Да.
— Я знала; хотя, конечно, вы нездоровы и этим, на верное, все объясняется.
— Может быть, — ответил он коротко.
Она доверительно наклонилась к нему и сказала, понизив голос:
— Вы знаете, мы как-то очень странно смотрели друг на друга, правда?
— Не знаю, как я, но вы — определенно. — Он улыбнулся ей, давая понять, что хочет переменить тему. — Теперь нельзя ли мне взглянуть на вашего Роберта?
— Конечно. Он будет в восторге. Его фамилия Пик, и он капитан авиации.
Чиверел позвонил по внутреннему телефону и сказал, чтобы капитана авиации Пика, ожидающего у служебного входа, попросили подняться в Зеленую Комнату. Потом он посмотрел на Энн.
— Он был актером?
Она покачала головой.
— Нет, никогда не имел ничего общего с Театром. Но любит его, конечно.
— Вы в этом уверены?
— О да, — с ударением сказала она. — Если бы не любил, ничего бы у нас с ним не было. Кстати, он, наверное, будет очень робеть. Он чуть не умер от стыда и горя, когда я сказала, что меня никто не остановит и я непременно вас увижу. У них в авиации такого не бывает. Вы ему представляетесь чем-то вроде маршала авиации, который сидит тут во всем великолепии.
Чиверел улыбнулся.
— Но вам-то, надеюсь, нет?
— Нет. Вы мне не понравились… и я ужасно расстроилась, когда вы выгнали меня и даже не оглянулись. Но теперь, конечно, все совсем по-другому. Потому что и вы совсем другой. — И она доверчиво улыбнулась ему.
— Капитан авиации Пик, мистер Чиверел, — сказал Отли из-за двери.
И у Чиверела перехватило дыхание, и опять чья-то ледяная рука коснулась его спины. Ибо в комнату вошел Джулиан Напье.
20
Не сводя глаз с вошедшего, Чиверел встал и шагнул ему навстречу. Это не была галлюцинация. Если не считать формы военно-воздушных сил, более смуглого лица, коротких волос и аккуратного, подтянутого вида, это был вылитый Джулиан Напье. Сходство было поразительным. Чиверел молча перевел серьезный взгляд с него на Энн.
Молодой человек, разумеется, истолковал это по-своему.
— Простите, — сказал он, запинаясь. — Я думал… то есть… мне сказали, чтобы я поднялся…
Чиверел очнулся.
— Да, да, конечно. Все в порядке.
Энн подошла ближе.
— Это Роберт, — гордо объявила она и с улыбкой взглянула на свою замечательную собственность.
— Я, наверное, помешал, — пробормотал Роберт, бросая на нее отчаянные взгляды. От смущения лицо его залилось краской и покрылось испариной.
— Нет, нет, дорогой мой, — улыбаясь, воскликнул Чиверел. — Это целиком моя вина. Прошу прощения. Я сказал, чтобы вас послали наверх. Просто… вы мне напомнили одного человека, вот и все. Скажите… — И он остановился.
— Да, сэр?
— Я хотел спросить, какие еще фамилии встречались в вашем роду, кроме фамилии Пик…
— Видите ли, сэр…
— Впрочем, теперь это не имеет значения, благодарю вас. — Помолчав, он заговорил белее серьезным тоном. — Важно то, что вот эта ваша девушка — актриса.
— Первый сорт, сэр, можете мне поверить! — вскричал Роберт, сияя от энтузиазма.
Чиверел улыбнулся.
— Если сейчас еще не самый первый, то в будущем — наверное. Но поймите, что это значит: она не только будет работать в Театре, но говорить о Театре, питаться Театром, грезить о Театре, и все это на многие годы.
Роберт ухмыльнулся.
— Я уже понял.
— Я ведь с самого начала предупредила тебя, милый, — сказала Энн не без самодовольства.
— Это верно.
— И вы действительно понимаете, что это значит? — мягко, но настойчиво спросил Чиверел.
— Я сказал ей, сэр, — ответил Роберт почти хвастливо, — и тоже в самом начале, что в отношении меня тут полный порядок, и это уж точно. Я только хочу, чтобы она делала в Театре великие дела, для которых создана, а я буду стоять в тени и заботиться о ней.
— Милый! — воскликнула Энн, порозовев от гордости.
— Не сомневаюсь в вашей искренности, — сказал Чиверел, — но это будет нелегко… а после того, как вы поженитесь…
Но они не дали ему продолжать.
— Все равно он должен знать, — сказала Энн.
— Ну ты и говори, — сказал Роберт.
— Мы уже женаты. Целый год.
Чиверел поднял на них глаза.
— Может быть, все будет хорошо на этот раз. — Слова вырвались помимо его воли.
Молодые люди уставились на него.
— Что?
— Я хочу сказать, — произнес он с улыбкой, — что я должен принести вам обоим свои поздравления.
Когда он пожимал им руки, в комнату торопливо вошла встревоженная Паулина.
— Мартин, — начала она, — я только что узнала, что тебе было плохо и опять вызывали доктора…
— Теперь все прошло, спасибо, Паулина. Капитан авиации Пик — мисс Паулина Фрэзер. Они поженились. Это тайна, но я только что вытряс ее из них.
Паулина пожала руку Роберту.
— Очень рада! — Она прибавила бы еще что-то, но ее прервал телефонный звонок. Она вопросительно посмотрела на Чиверела; тот кивнул и подошел к столу.
Звонил Джордж Гэвин, который первым делом спросил, как Чиверел теперь себя чувствует и как вели себя привидения.
— Мне кажется, ты кое-чем им обязан, Джордж, — сказал Чиверел и увидел, что Паулина, стоящая рядом с двумя безмолвными молодыми людьми, смотрит на него с любопытством и прислушивается. — Но теперь не беспокойся об этом. Я изменил свое решение. И если предложение остается в силе, я говорю “да”.
— Конечно, остается, старик, — в восторге отвечал Джордж. — Единственное, чего я хочу и хотел всегда, — это чтобы ты вошел со мной в дело, а сколько ты внесешь денег, это совершенно неважно.
— Я вложу в этот проект все свои деньги до последнего пенни, Джордж, — сказал Чиверел с силой, — и отдам ему все свое время.
— Это потрясающе, старик! — сказал Джордж. — Сможем мы завтра встретиться и потолковать?
— Нет, я не могу, — сказал ему Чиверел. — Тебе придется потерпеть пару дней: я решил переписать третий акт, и тут будет уйма работы, а потом я набросаю общий план, и тогда уж мы обо всем поговорим.
Это вызвало у Джорджа такой энтузиазм, что в трубке начался треск.
— Ну ладно, Джордж. Хватит на сегодня. Увидимся здесь на премьере. Пока!
Положив трубку, он в некотором смущении направился к ожидавшим его Паулине, Энн и Роберту. Паулина бросилась ему навстречу; глаза ее блестели.
— Мартин, я все слышала, — сказала она. — Это правда?
— Да, и многое другое тоже. — Он улыбнулся — радостно, чуть застенчиво, чувствуя себя странно помолодевшим.
— Милый, — воскликнула Энн, обращаясь к своему Роберту, который снова не знал, куда деваться от смущения, — нам пора. — Она повернулась к Чиверелу в ожидании.
— Где, вы говорили, находится этот ваш репертуарный театр? — спросил он с улыбкой.
— В Уонли. Недалеко отсюда. Вы приедете посмотреть меня? — Она чуть не танцевала от радости.
Он кивнул.
— Как только я все здесь закончу. И тогда — тогда, я думаю, у меня найдется, что вам предложить.
— Вот здорово! — вскричала она, и этот взрыв восторга всех рассмешил. Потом она стремительно повернулась к Паулине. — Он теперь совсем другой. Что-то в самом деле произошло.
Паулина бросила на Чиверела быстрый пытливый взгляд, но он еще не был готов ответить на него. Он поспешно повернулся к Роберту и пожал ему руку.
— До свидания. Заботьтесь о ней.
— Обещаю вам. Всего доброго, сэр.
Энн протянула руку Чиверелу.
— Я очень, очень благодарна. — Она лукаво посмотрела на него. — А иначе бы я рассердилась на вас. — И, инстинктивно чувствуя эффектность своего ухода, она сразу же пошла к двери.
— Почему же? — удивился Чиверел.
Она обернулась уже у самой двери, взглянула на него в последний раз и сказала достаточно громко, чтобы он услышал:
— Потому что это разозлило бы любую женщину — вы все время смотрели на меня так, словно пытались увидеть кого-то другого.
21
Они с Паулиной были одни, совсем одни, как всего час или два назад, когда он сказал ей, что покончил с Театром, и она так рассердилась. Она вопросительно смотрела на него, и он встретил вызов ее красивых глаз и улыбнулся ей. Он любил Паулину, был ей предан. Неожиданно он понял, что она значит для него не меньше, чем он для нее. Она столько сделала для него в Театре. Они сидели рядом, два старых актера, и все их бесчисленные вест-эндские дорожные, гастрольные приключения, одни смешные, другие печальные, теснились позади них, на маленькой сцене их жизни. Но сейчас ему трудно было снова заговорить с ней после того, что с ним случилось. Они были из одного мира, они слишком давно знали друг друга, и хотя ни у кого перемена в его отношении к Театру не вызвала бы большего энтузиазма, чем у Паулины, самое ее присутствие, ее вопросительный, устремленный на него взгляд делали всякое рациональное объяснение этой перемены невозможным. Размышляя о том, что ей сказать, он сомневался, и отступал, и уже пытался обмануть самого себя.
— Что означала ее последняя фраза? — спросила Паулина.
— Я не совсем понял, — ответил он осторожно. Потом решился и прибавил: — Но я знал ее родственника — некоего Уолтера Кеттла.
К его облегчению, она выслушала это без комментариев и заговорила о другом:
— И ты принимаешь предложение Джорджа Гэвина и остаешься в Театре?
— Да. И буду работать так, как давно уже не работал. То, что Джордж владеет этими театрами, дает нам потрясающие возможности. Мы попробуем создать две хорошие постоянные труппы… найти новые таланты… воспитать подающую надежды молодежь, писателей и актеров. И нам понадобится твои совет и помощь, Паулина.
Она вспыхнула от удовольствия.
— Конечно, Мартин. Давай сразу после премьеры поговорим об этом. Ты ведь как будто не собираешься браться за дело прямо сейчас, судя по тому, что ты сказал Джорджу.
— Совершенно верно. Курить хочешь?
Она пристально посмотрела на него поверх пачки, которую он протягивал ей.
— Но почему ты изменил решение? Что произошло?
Пока он клал пачку на стол и подносил ей огонь, у него было несколько секунд, чтобы обдумать ответ.
— Я думал о Театре. — Он указал ей на стул рядом со своим креслом и сел сам. — О Театре, который есть жизнь в миниатюре, как всегда говорили старые писатели, особенно Шекспир.
Она нетерпеливо взглянула на него.
— Я знаю. Весь мир — театр и так далее. Каждый играет роль и тому подобное. Это довольно очевидно, я всегда так думала.
— Не знаю, — сказал он медленно, глядя, как дым вьется кольцами, рассеивается и исчезает. — Не знаю. Один человек в отпущенное ему время играет множество ролей. Человек отличен от своих ролей, и время его жизни — это та сцена, на которой он их играет. Разве это так очевидно, Паулина? Быть может, для тебя, но для меня — нет.
— Что же тут неочевидного? — Она больше не раздражалась, ибо видела теперь, что он серьезен, что тут не просто отказ ответить на ее первоначальный вопрос.
— У тебя сейчас лицо того самого Интеллигентного Зрителя, — усмехнулся он.
— Да замолчи ты! То есть нет, продолжай. И будь серьезнее, Мартин. Нехорошо: я ведь отлично знаю, что тебе на самом деле вовсе не хочется паясничать. Внутренне ты предельно серьезен. Разве нет?
Он кивнул.
— Давай посмотрим на это так. Помнишь, мы часто удивлялись, почему мы с такой серьезностью относимся к этому темному делу, к этому лицедейству. Мы отдаем ему себя без остатка, превозмогаем болезни, страх перед воздушными налетами, личные катастрофы — ничто не может остановить нас. Мы говорили об этом и не понимали — почему. Ни реклама, ни деньги, ни слава, ни честолюбие не казались нам достаточно основательной причиной. Так?
— Да, конечно, я помню. Но, может быть, тут все вместе взятое? — сказала она задумчиво. — По-моему, мы так и решили, когда говорили об этом в последний раз.
— Я забыл. Хотя это, конечно, возможно. Но, может быть, есть и другая причина, совсем иная, и состоит она в том, что Театр всегда символичен и что бессознательно мы все это признаем.
— Я не сильна в символике, Мартин. Скажи как-нибудь попроще.
— Я верю теперь, — начал он серьезно, — что в нашей жизни, как и на сцене, декорации, костюмы, грим и реквизит — это только театр теней, который складывают и уносят, когда представление окончено. А истинное, нетленное и прочное — это как раз все то, что стольким дуракам кажется преходящим и мимолетным… сокровеннейшие и глубочайшие чувства, которые честный художник отдает своей работе… корень и суть настоящего личного отношения… пламя. Да, чистое, незатухающее пламя…
Пораженная, она широко раскрыла глаза.
— Почему ты сказал это — о пламени — вот так? Мартин, что случилось?
Он пропустил вопрос мимо ушей и продолжал с большой теплотой:
— Паулина, какой бы пошлой ни казалась иногда эта мешанина из красок, холста, прожекторов и рекламы, мы, работающие в Театре просто потому, что он есть живой символ таинства жизни, — мы помогаем охранять пламя и приобщать к нему. — Он нарочно заговорил более легким тоном. — И пусть мы выглядим глупо, дорогая, мы все же служим божественной тайне.
— А когда я пыталась сказать что-то в этом роде в своей речи перед мэром, — вскричала она, — ты поднял меня на смех!
— Я был не прав. И прошу меня извинить, — добавил он, поднимаясь. — А теперь мне надо поработать.
Она тоже встала, восхищенная.
— Третий акт?
— Третий акт. У меня появились кое-какие мысли — хочу записать. Имей в виду, речь не о том, чтобы сделать его добрее и проще для публики. Я и теперь против этого, как и был до сих пор, может быть, даже больше. Но я хочу сделать его правдивее.
— Но что ты можешь сделать для своих героев? — воскликнула она. — Помнишь, что ты говорил? Ни взаимопонимания. Ни подлинного общения. Все бормочут и яростно жестикулируют за стеклянными дверьми.
— Я распахну для них некоторые из этих дверей. Я открою хотя бы одному или двоим, что общение может возникнуть, а взаимопонимание стать глубже, чем… чем многие из нас осмеливаются мечтать. Я должен пойти на этот риск.
— На какой риск? О чем ты?
Он улыбнулся и сделал неопределенный жест в сторону ожидавшего его стола.
— Нет, Паулина.
— Ну, хорошо, я ухожу. Я скажу Бернарду, что сегодня третий акт не надо начинать и что, может быть, завтра у тебя будет готов новый финал.
— Спасибо, Паулина. — Он увидел, что она уходит, и сразу пошел к столу. Там лежало несколько листков с его каракулями, и он собрал их. Потом решил, что будет работать в кресле. Почему-то ему не хотелось сидеть за столом, повернувшись к комнате спиной. Он должен видеть комнату, а не показывать ей спину. Но Паулина не ушла. Она стояла уже в дверях.
— Мартин, что случилось ?
Он покачал головой.
— Я принял четыре таблетки вместо двух.
— Это не все. Что-то случилось.
— Нет, дорогая, не торопи меня, — сказал он, усаживаясь. — Едва ли я могу на это ответить.
— Ты мне скажешь когда-нибудь?
— Попробую. Но это будет трудно. То, что я чувствовал, было страшно реально — вот почему я готов рискнуть открыть эти двери; но остальное… может быть, это был сон… или бред… или…
— Или что? Это не все.
— Может быть, и все. Ну, теперь хватит, Паулина.
— Ты трус, — сказала она запальчиво. Она отошла от двери и сделала несколько шагов к нему. — Ты почувствовал это, и это переменило тебя. Так или нет?
Он ответил очень медленно, не глядя на нее:
— Общение и взаимопонимание вне нашего времени, где-то по ту сторону, где люди не так разъединены, как им представляется… нет, я не могу больше ничего сказать, дорогая.
— Ну хорошо, — сказала она тихо, — я не буду сейчас спрашивать. — И она быстро и грациозно подошла к нему, легко дотронулась до его плеча и поцеловала его. Потом строго прибавила: — Но, что бы это ни было, не возвращайся туда.
— Я и не хочу. Марш работать!
— Сейчас. Ты почти не смотришь на меня, — продолжала она, задумчиво разглядывая его, — словно ты вдруг обнаружил, что в кого-то влюблен. Я думаю, именно это хотела сказать эта Сьюард своей последней фразой.
— Тогда вы обе ошибаетесь. Все гораздо сложнее. Или, может быть, проще, — добавил он. — Влюблен в жизнь, пожалуй. Выбрался из бесплодной пустыни. Я постараюсь рассказать тебе когда-нибудь, Паулина, обещаю. Если смогу разобраться и не буду чувствовать, что дурачил самого себя.
— Почему ты должен был дурачить самого себя?
— Я не могу забыть скептической усмешки этого доктора. Он повидал людей вроде меня на своем веку.
— Доктора не все знают. — Это было прекрасное, здравое заявление в устах Паулины, которая неслась с одного конца Харли-стрит на другой, стоило ей почувствовать легкое щекотание в горле.
— Нет, но кое-что знают. — Потом он продолжал, понизив голос. — И у меня нет доказательств. Не может быть.
— Ты сам доказательство, — сказала она мягко. — Чего ты еще хочешь?
— Не знаю. Сейчас я ничего не знаю. Поэтому я и не хочу говорить.
— Ну не раскисай, Мартин, и не делайся снова несчастным.
Когда она вышла, он был далек от того, чтобы снова чувствовать себя несчастным, но им овладело мрачное недоумение. Он положил пачку бумаги на колено, но не мог сосредоточиться на переделке третьего акта. Радуясь всякой отговорке, он сказал себе, что в комнате слишком много света. Все равно как если бы он пытался работать в каком-нибудь сверкающем огнями третьеразрядном музее. Он подошел к двери возле кабинета Отли и выключил почти весь свет, оставив ярко освещенным только свой угол. И вот он снова был в Зеленой Комнате, где все произошло. Но что именно? И откуда это идиотское чувство утраты, когда у него нет и тени доказательства, что хоть что-то вообще произошло на самом деле. О-о, надо или принять всю эту глупую историю на веру, или отбросить и покончить с нею! Но он не мог сделать ни того, ни другого и тяжело опустился в кресло, не в силах работать, колеблясь, и недоумевая, и злясь на самого себя. Но тут что-то алое с оливково-зеленым бросилось ему в глаза и заставило встать с кресла, и от недоумения, сомнения, презрения к самому себе не осталось и следа.
Перчатка снова лежала на полу.