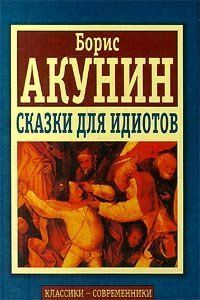
Борис Акунин
Невольник чести
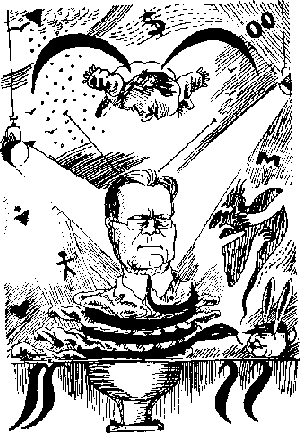
Вошел в студию на негнущихся, деревянных ногах, словно поднимался на эшафот. Если только можно, Авва Отче, эту чашу мимо пронеси.
Не пронесет — нельзя.
Пока не включили камеру, Ипполит Вяземский, ведущий самой рейтинговой из всех информационно-аналитических программ Императорского телевидения, сидел, закрыв лицо руками, и думал: вот бы сейчас остановилось сердце. Откинуться назад, опрокинуться вместе с креслом и никогда, никогда больше не видеть этого массивного чиппендельского стола с батареей бутафорских телефонов, этого слепящего света, этого ненавистного серебристого задника с размашистой надписью «Честно говоря».
Взял себя в руки, выпрямился, по привычке проверил безупречность крахмальных воротничков. До эфира оставалось десять секунд, уже пошла заставка: мужественный красавец с трехдневной щетиной на волевом подбородке и рассыпавшейся пшеничной прядью вкось (он самый, Ипполит Вяземский) тянет микрофон прямо к белым губам умирающего драгуна, а вокруг разрывы смертоносной шимозы, чмоканье о землю разрывных пуль дум-дум, и видно, как за Тереком гарцуют немирные горцы в папахах и черкесках с газырями. Разумеется, монтаж. Никогда в жизни Ипполит не совершил бы такой подлости — интервьюировать человека, которому предстоит вот-вот встретиться с вечностью. Но опросы показали, что с новой заставкой рейтинг передачи стал на ноль целых восемь десятых выше. Основной зритель программы — мелкие чиновники, приказчики и мастеровые, самый костяк электората, а им, согласно исследованиям специалистов по массовому сознанию, нравится мелодрама с латентными садо-мазохистскими коннотациями.
«Господи Боже, прости и укрепи», — мысленно поправил Ипполит молитву нобелевского лауреата и твердым, красивым баритоном начал, сурово глядя в круглое дуло объектива:
— Здравствуйте, дамы и господа. В студии ваш покорный слуга Ипполит Вяземский. Вы снова смотрите честную и беспристрастную передачу «Честно говоря». Сегодня нас с вами ожидает любопытнейшая экскурсия в некие интимные чертоги, куда не то что царь, но даже и сам столичный генерал-губернатор ходит исключительно пешком.
Визажисты и имиджмейкеры не раз говорили Ипполиту, что он держится перед камерой не совсем правильно, слишком уж напряжен и неподвижен лицом. Поначалу множество нареканий вызывало и обыкновение ведущего держать левую руку под столом — это было неверно с точки зрения мимопсихологии. Но потом выяснилось, что телезрители к этой манере привыкли и даже полюбили ее, а обозреватели стали писать, будто Вяземский держит руку под столом нарочно, как бы намекая, что главный козырь он припрятывает на будущее.
О, если б они знали, что пальцы невидимой для камеры руки намертво стиснуты, а ногти впиваются в ладонь, так что после эфира остаются кровавые стигматы — особенно в те дни, когда приходится говорить чудовищные гнусности. Как, например, сегодня.
Ипполит привык на своей тошнотворной службе ко всякому, но испытание, выпавшее на его долю нынче, превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. С мерзостью приготовленного материала не шли ни в какое сравнение ни позорнейший спецрепортаж о педофилии в стенах Святейшего Синода (пришлось расплачиваться нервным срывом и тремя неделями бессонницы), ни даже фальшивая сенсация о перемене пола председателем коммунистической партии, достойнейшим человеком и образцовым семьянином (коммунисты, разумеется, проиграли императорские выборы, но с Ипполитом случился микроинфаркт).
Вчера Вяземского вызвал Шеф и в своей всегдашней задушевной манере сказал:
— Ипа, золотко, горю. На тебя вся надежда. Выручай. ГубоК наехал — по всему меню: банки, шманки, офшоры, хуеры. Понял, гнида лысая, куда ветер дует. Дедушка снова в отключке, вот псы и борзеют. Сделай Губка, как ты умеешь. В нокаут, в кашу. Без интеллигентских соплей. Ты ж волк, а не какой-нибудь слюнявый Доренко-Пидоренко.
Шеф коротко хохотнул, а Ипполит болезненно улыбнулся — его покоробил грубый выпад в адрес уважаемого коллеги.
Когда же он просмотрел полученные от Шефа видеоматериалы, стало совсем худо. Всю ночь просидел в монтажной, то куря крепкие французские сигареты, то глотая сердечное. Один раз — на счастье рядом никого не было — из груди вырвалось глухое, сдавленное рыдание.
Бедный Губок (так называли столичного генерал-губернатора — кто любовно, а кто и неприязненно) не заслужил этого подлого, запрещенного удара, равнозначного политическому убийству. Ипполит всегда симпатизировал маленькому, энергичному человеку, при котором Первопрестольная похорошела, посвежела, украсилась дивной красоты монументами. Столичные обыватели недаром полюбили потертую треуголку Губка и его знаменитые нафиксатуаренные усы а-ля фюрст Бисмарк. Ну себе на уме, ну окружен вороватыми чиновниками, ну любит и сам хорошо пожить, но зато ведь и о городе не забывает, а маленькие слабости — у кого их нет?
И вот этого славного хлопотуна он, Ипполит Вяземский, должен втоптать в грязь. Невыносимо!
Но Ипполит Вяземский — человек слова и исполнит долг чести. Как сказал великий Лао-цзы: «Благородный муж знает, что нет ничего белее признательности и чернее неблагодарности». Эта цитата не раз в трудную минуту укрепляла израненную душу тележурналиста.
— Честно говоря, каждый из нас частенько наведывается в это уединенное место, — сказал Ипполит в камеру, чуть скривив уголок рта в саркастической усмешке. — И простые трудяги, и духовные особы, и звезды эстрады, и даже (многозначительная пауза) вершители наших судеб.
На экране замелькали картинки всевозможных туалетов: деревенский нужник, вокзальный сортир, совмещенный санузел хрущобы, малахитовый гигиенический гарнитур из новорусского дворца (очень вероятно, что Шефу же и принадлежащего).
— Ими-то, вершителями, мы сейчас и займемся. Честно говоря, нам стало интересно, на каких стульчаках восседают народные избранники — да вот хоть бы наш неутомимый генерал-губернатор, избирательная кампания которого построена на похвальном лозунге «Покупаем отечественное!»
Ипполит просто физически ощутил, как рейтинг программы рванулся кверху. Электорат перестал рыскать по каналам, мечась между ток-шоу и футбольным обозрением, припал к экранам Императорского канала. По просторам великой державы прокатился многоголосый крик: «Ма-ань! Хорош по телефону болтать, давай сюда!»
— Честно говоря, мы были уверены, что наш главный патриот проводит самые сокровенные минуты своей жизни наедине с унитазом родного Пролетарского завода, который бьется, как рыба о лед, пытаясь сбыть свою незатейливую продукцию.
На экране крупным планом возник фаянсовый раструб уродливого творения подмосковных мастеров и наложением — изможденные лица сидящих без зарплаты рабочих. А сейчас — первый нокдаун:
— У нашего генерал-губернатора три уборных в одной квартире, три в другой, четыре в загородном особняке и еще несколько в охотничьем домике. Ах, какой завидный рынок сбыта для отечественных производителей, подумали мы, — с деланой наивностью проговорил Ипполит и хищно подмигнул. — Ну и, по нашей обычной привычке, решили проверить. Смотрим отчет нашего специального корреспондента.
Пошел большой, восьмиминутный сюжет — тошнотворные съемки скрытой камерой. Бедняга Губок — кто же за него после такого проголосует…
Смотреть эту гадость еще раз у Ипполита не было сил. Он показал ассистенту, что сейчас вернется, и, пошатываясь, удалился в умывальную.
Проглотил противорвотную таблетку. С ненавистью поглядел в зеркало на свое гладкое, лоснящееся от грима лицо.
После прошлой передачи Липочка, придя из пансиона, спросила: «Папа, а что такое „подонок“? Зинаидыванна говорит, что ты подонок».
Один звонок Шефу, и Зинаидыванна вылетела бы с завидного места, а заодно с ней и директриса. Но Ипполит доносительствовать не стал — просто забрал обеих дочерей из пансиона.
Потому что бесстрашная Зинаидыванна права. Он подонок, и знает это лучше, чем кто-либо другой.
Бедные девочки, Липочка и Аглая, еще не раз доведется им выслушивать такое про папу. И ведь не объяснишь, не растолкуешь, что если Ипполит Вяземский и подонок, то исключительно из соображений чести. Он — невольник чести. Или подонок чести — это одно и то же.
Шесть лет назад, когда он был подающим надежды, но скромным, еще очень скромным репортером, случилось несчастье. Жена, обожаемая Настенька, которая, по заверениям врачей, должна была родить двойню, произвела на свет сиамских близнецов — двух крошечных девочек, сросшихся бочками. Охваченный ужасом и отчаянием Ипполит сбился с ног и выяснил, что только в далеком Аомыне есть чудо-хирург доктор Лю, который может разъединить малюток, сохранив жизнь обеим. Однако операция китайского кудесника стоила полмиллиона долларов, а в ту пору для Вяземского это была совершенно фантастическая сумма. Лучше бы уж его не было вовсе, этого доктора Лю — легче было бы мириться с трагедией. Мысль о том, что спасение возможно, но из-за проклятой бедности недоступно, сводила Ипполита с ума. А между тем шли недели, месяцы, и каждый потерянный день уменьшал шансы на успех операции.
И вдруг свершилось чудо. Ипполиту позвонил Шеф, находившийся тогда в самом зените могущества. Сказал: «Слышал о твоей проблеме. Подваливай ко мне в Кремль. Ты парень способный, надо помочь». А ведь они тогда еще даже не были знакомы!
Операция прошла успешно, дочки превратились из двухголового змея-горыныча в очаровательных резвуний и хохотушек. Ипполит же дал себе клятву: для этого человека он сделает все. Такой долг невозможно было выплатить даже собственной жизнью.
А расплата и вышла много дороже, чем просто жизнь. Во всяком случае, для человека чести.
Теперь могущество Шефа пошатнулось. Газеты прочат ему скорое падение, суму и тюрьму. Так неужто в эту горькую годину Вяземский предаст своего благодетеля? Именно теперь, когда Шеф так нуждается в помощи! Нет, в роду Вяземских так не поступают.
Над зеркалом замигала красная лампочка — через тридцать секунд выход в эфир.
Ипполит бросился назад в студию, сел в кресло. Ассистент молниеносным движением поправил ведущему пробор и отскочил в сторону.
Уверенным голосом, с недоброй усмешкой Ипполит сказал в камеру:
— Вы имели возможность лицезреть любителя отечественной продукции восседающим на унитазах во всех его резиденциях поочередно. Иностранное происхождение раззолоченных сосудов, которым его превосходительство доверяет лелеять свою филейную часть, очевидно. Честно говоря, поневоле вспоминается народная присказка: «Кто сладко жрет, тот ……» — и Вяземский произнес в рифму чудовищную гадость, им же самим сочиненную — народ тут был не при чем.
От омерзения ногти впились в ладонь до крови.