
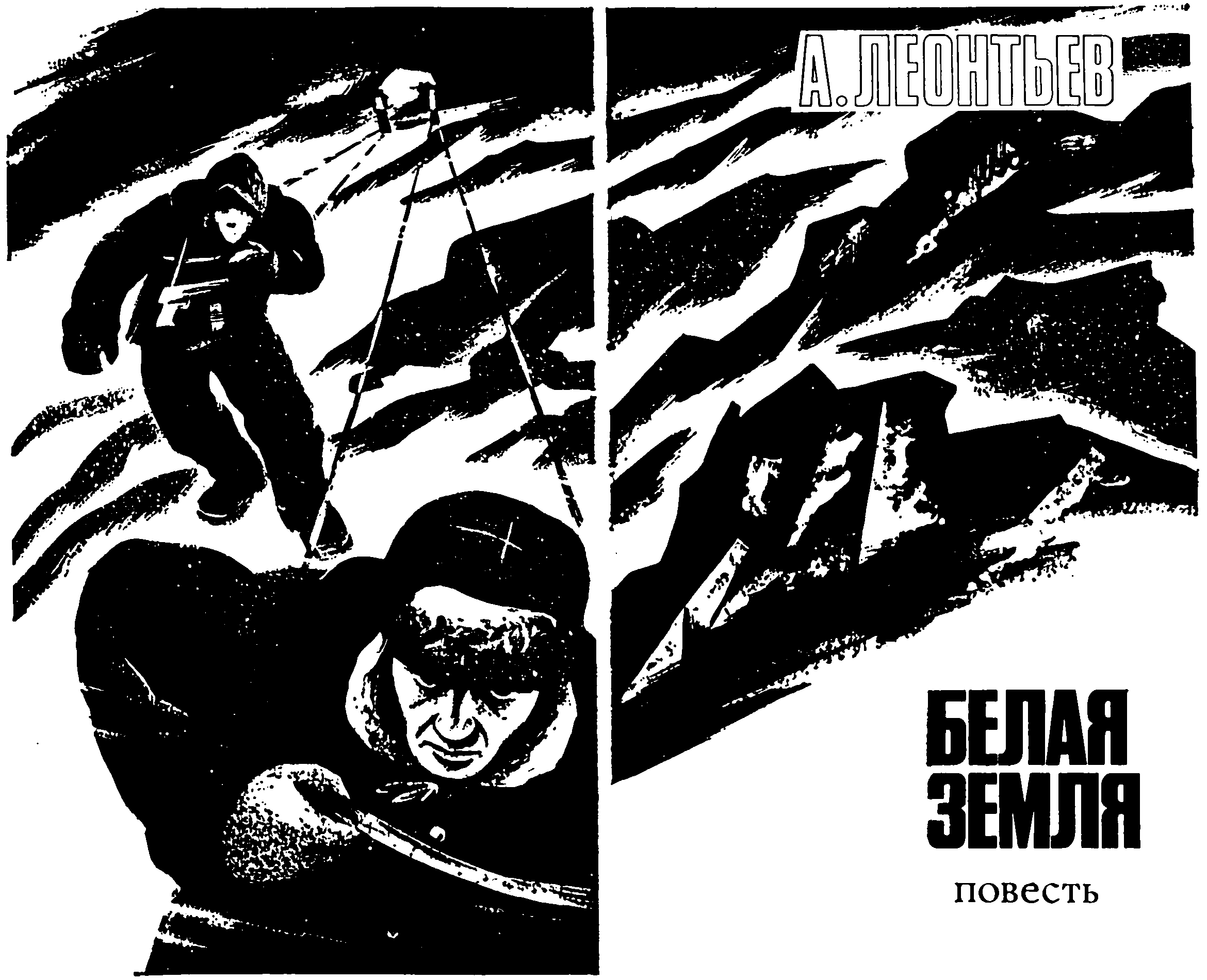
Алексей Николаевич Леонтьев
Белая земля
Повесть
Пролог
Автобус с туристами отошёл от скромного домика, где некогда родился великий поэт Германии.
— Александр Иванович! — крикнули из окна автобуса. — Что же вы?
Немолодой человек в тёмном костюме, улыбнувшись, помахал рукой. Он вынул из кармана бланк адресного стола, внимательно прочитал его и зашагал в обратную сторону.
Он шёл не торопясь, оглядывая улицы цепким взглядом приезжего. Город был красив — весь в зелени бесчисленных садов. Рядом с черепичными крышами старинных особняков и островерхими башнями церквей подымались новые здания из бетона и стекла.
Человек на секунду задерживался на перекрёстках, читая таблички с названиями улиц, и уверенно сворачивал в нужную сторону.
Внизу за гранитной набережной лежала широкая серо-зеленая река. Суетились буксиры и катера, неторопливо плыли вереницы барж. С прогулочных теплоходов неслась музыка.
Человек свернул к центру города. Здесь его тёмный костюм особенно выделялся среди ярких плащей, курток и рубашек уличной толпы. На стенах висел плакат: толстый человек, измеряющий штангенциркулем серебряную марку. Подпись гласила: «Если ты не хочешь, чтобы наша марка стала меньше, голосуй за Эрхарда-ХДС!»
Приезжий равнодушно скользил взглядом по бесконечным витринам с их неотразимыми приманками. Вдруг он остановился.
За окном на тёмном бархате лежали ордена. Железный крест, Рыцарский крест, дубовые листья к Рыцарскому кресту, крест за тыловую и этапную службу, бронзовый щиток участника боёв в Крыму, медаль за зимнюю кампанию 1941–1942 годов…
Человек изумлённо поднял глаза на вывеску. Нет, это не была лавка древностей. Обычный ювелирный магазин. Здесь каждый мог приобрести себе соответствующий орден.
Было душно. Приезжий снял шляпу. Ветер спутал его сильно тронутые сединой волосы. Он снова вынул из кармана карточку адресного стола и прибавил шаг. Он шёл теперь быстро, внимательно вглядываясь в номера домов.
Наконец он остановился перед серым четырёхэтажным домом. Ещё раз сверил адрес. Всё было правильно.
Человек сделал шаг к массивной двери и остановился. Он постоял в нерешительности перед подъездом, потом перешёл на противоположную сторону улицы и вошёл в небольшое кафе.
В зале было немноголюдно. Кельнеры убирали со столов чашки из-под кофе и пустые рюмки. В углу двое подростков кидали никели в игральный автомат. Приезжий сел за столик у окна. Отсюда хорошо были видны улица и дом напротив. За соседним столиком пил пиво широкоплечий парень в пёстрой рубашке.
Кельнер положил на стол круглую картонку с надписью: «Избавь нас, боже, от злого взгляда, большого зноя, ненастья тоже» — и поставил на неё высокую глиняную кружку тёмного пива.
Послышалось осторожное позвякивание. У столика остановился худощавый юноша в сером свитере. В руках у него был небольшой металлический ящик-копилка.
— Алжирским детям! — строго произнёс он.
Парень в пёстрой рубашке, не подымая глаз, ел шницель. Приезжий положил в копилку несколько монет.
— Спасибо, — с достоинством сказал юноша и двинулся дальше.
Ещё несколько раз звякнули упавшие в копилку монеты.
Вечерело. От стоящего поодаль собора доносился перезвон колоколов. Неожиданно могучий рёв заглушил всё. Зазвенели стёкла. Люди, повскакав с мест, прильнули к окнам. Над готической колокольней собора низко, едва не коснувшись шпиля, пронеслись два стремительных треугольника.
— «Локхид!» — восторженно воскликнул парень в пёстрой рубашке.
— «Спитфайер», — поправил приезжий.
— Жаль, не «мессершмитт»!
Парень бросил на стол деньги и вышел. Человек в тёмном костюме задумчиво посмотрел ему вслед…
Глава первая
1
Гулко бьётся сердце. Темнота. Комок тошноты у горла. Я сижу на узкой жёсткой койке. Сильно качает. Пахнет сыростью. Отдергиваю штору светомаскировки. За круглым иллюминатором тусклый рассвет. Проступают очертания тесной каюты. Верхняя койка пуста. Мой сосед штурман Иенсен на вахте. Значит, он ничего не слышал. Проклятый кошмар. Снова я проснулся от него. Каждый раз одно и то же.
…Над степью беззвучно летят грязно-серые самолёты с чёрными крестами на хвостах. Удивительно тихо. Они летят не торопясь, спокойно выглядывая цель.
Один из них нависает надо мной. Помедлив мгновение, бросается вниз, и сразу исчезает тишина. Всё ближе нарастающий вой. Тело тщетно пытается уйти в землю. К горлу подступает комок тошноты. От самолёта отделяется черная капля. Она неудержимо приближается. Нет сил пошевелиться, отвести взгляд. Чёрный овал закрывает весь мир. Из груди вырывается отчаянный немой крик…
Я открыл иллюминатор. В каюту ворвался холодный воздух. Тошнота отступила. Закутавшись в одеяло, откинулся к стенке. Прикрыл глаза. И тут же вновь встала выжженная степь у переправы, вспененный взрывами Дон и надвигающаяся армада грязно-серых самолётов…
Я закурил «Кемел». Никак не могу привыкнуть к этим лёгким сигаретам после солдатской махорки. Заснуть уже не удастся.
Послышалась боцманская дудка. Потом топот ног. Начинался новый день. Я поднялся. Надо было проверить груз. В трюме «Святого Олафа», старого норвежского транспорта, тщательно принайтовлены мои драгоценные станки. Я должен доставить их на авиационный завод, где работал до войны. Завод теперь на Урале. Мои товарищи по командировке уже, наверное, вернулись на Родину — как-то трудно сейчас сказать — домой. А на мою долю выпала неожиданная морская прогулка. Холодное море, погашенные огни, тревожные сигналы эсминцев конвоя.
С глухим грохотом ударила в борт волна. Я едва удержался на ногах. Не мудрено, что сегодня снова приснилась бомбёжка у Дона. Где теперь моя третья стрелковая? Я не имел вестей от ребят уже несколько месяцев — с того самого дня, когда меня неожиданно вызвали в штаб и приказали отправляться в Москву для подготовки к заграничной командировке.
От Лондона остались в памяти грохот порта, где грузили наш караван, уходящий в Мурманск, рёв сирен воздушной тревоги, ночной холод бомбоубежищ, прогретая солнцем, тёплая даже сквозь подошвы ботинок брусчатка площадей.
…В маскхалатах камуфляжа стояли соборы. У Кенигстонских садов снимали ограду. Простоявшие века, занесённые во все каталоги мира, шедевры художественного литья шли на переплавку — не хватало металла для войны. А на Даунинг-стрит у министерства иностранных дел торчали за колючей проволокой стволы крупнокалиберных зенитных пулемётов.
Перед отъездом представители фирмы, сдающей оборудование, пригласили нас в кабачок, сохранившийся ещё с елизаветинских времён. Всё было так же, как три столетия назад. Под сводами подвала стояла тяжёлая резная мебель. В массивных канделябрах оплывали жёлтые восковые свечи. Старик официант в напудренном парике и шёлковом камзоле вырезал подагрическими пальцами талоны продуктовых карточек за ужин…
Сверху донеслась музыка, неожиданная на корабле, но я уже успел привыкнуть к ней за время пути. Песня Сольвейг. В апреле сорокового года, когда гитлеровцы захватили Норвегию, «Святой Олаф» случайно оказался в канадском порту. Теперь он плавал под английским флагом, но почти вся команда по-прежнему состояла из норвежцев, и капитан Сельмер Дигирнес на подъём флага вместо «Правь, Британия, морями…» упорно ставил пластинку Грига.
Я оделся и вышел на палубу. В промозглом сером утре под песню Сольвейг медленно полз вверх по флагштоку восьмилучевой британский крест на синем поле — «Юниор Джек».
На мостике маячила коренастая фигура Дигирнеса. Козырёк фуражки, вислый нос и зажатая в зубах трубка обращены на юг — туда, где за горизонтом лежат берега Норвегии.
Я поднялся на мостик. Дигирнес протянул руку.
— Доброе утро, мистер Колчин. Хау дид ю слип? — Он изъясняется со мной на непонятной смеси русского с английским.
— Отлично. Никогда не спал лучше…
…Когда это было? Мы лежим на траве перед серо-красным административным корпусом нашего института. В моторной лаборатории ревёт двигатель. Нина читает вслух конспекты. А я сплю. Сплю под рёв двигателя и голос Нины, перечисляющий формулы расчётов, днём, посреди институтского двора, накануне последнего экзамена… Когда это было? Всего два года назад. Летом сорокового…
— …Воздух, — говорит Дигирнес. — Воздух нашего Норвежского моря — лучшее средство от всех болезней. Верно, Роал?
Мой сосед по каюте штурман Иенсен молча кивает. Его нелегко заставить заговорить. Дигирнес — исключение среди норвежцев. В его роду все мужчины становились пасторами. Он первым, мальчишкой убежав из дома, нарушил традицию. Но груз наследственности давал себя знать.
— А я не спал, — вздыхает Дигирнес. — Проклятая старость…
— Беседовали с богом?
Дигирнес испытующе смотрит на меня, ожидая подвоха. Но я абсолютно серьёзен.
— Нет, — говорит Дигирнес, — слишком много забот. Для беседы с ним надо иметь покой на душе…
Над морем расходился туман. Вода была серо-зелёной, местами белел битый лёд. Небо облачно. Это успокаивало. Мы опасались немецких бомбардировщиков.
Базируясь на севере Норвегии, гитлеровцы зорко стерегут эту зыбкую тропинку, связывающую нас с союзниками. В мае им удалось потопить два английских крейсера. В июле — растрепать огромный караван, или, как говорят англичане, «конвой». Из тридцати пяти судов пошли ко дну двадцать два.
От камбуза тянуло дымком. Сейчас меньше качало. Я почувствовал голод.
— После завтрака приходите ко мне! — крикнул Дигирнес. — Я сейчас передам вахту.
2
Когда я вошёл в каюту, капитан сидел перед старинной библией в кожаном переплёте — реликвией, переходившей из поколения в поколение Дигирнесов. На столе стояла квадратная бутылка джина, дымящийся термос с кипятком и открытая банка консервированного лимонного сока. Мы вошли в полосу битого льда. Сильно похолодало, и всему экипажу полагалась к обеду порция водки. Но, судя по покрасневшему лицу Дигирнеса, он начал пользоваться этой добавкой к рациону ещё до первого завтрака.
Капитан знаком указал мне на стул.
— Вы слышали когда-нибудь про бой Давида с Голиафом?
— Немного. Кажется, Давид уложил его камнем из рогатки.
— Из пращи, пращи, юный язычник… «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращой и камнем, меча же не было в руках Давида», — Дигирнес шумно захлопнул книгу. — Что вы будете пить? Чистый джин?
— Никак не привыкну к этой солёной водке. Лучше грог.
Капитан одобрительно кивнул. Он собственноручно готовил грог, рецептом которого очень гордился. Надо признаться, рецепт был не очень замысловатый: на полстакана водки — полстакана крутого кипятку, несколько кусков сахара и немного лимонного сока. Дигирнес наполнил два стакана.
— Ну-ка, попробуйте.
Я осторожно отпил глоток обжигающего напитка.
— Ну как? Не мало джина?
— Нет. В самый раз.
Дигирнес отхлебнул добрую половину своего стакана, поморщился.
— Горячая вода. — Он долил свой стакан из квадратной бутылки. — Давайте я вам тоже добавлю.
— Спасибо. Мне достаточно.
— Вы совсем не похожи на русского. Я встречал в ваших портах немало парней, которые умели выпить. У всех вас только один неисправимый недостаток — вы атеисты.
Дигирнес допил стакан и тут же налил себе снова. Что-то случилось. Недаром он перечитывал притчу о Давиде и Голиафе. Капитан не мог простить позора девятого апреля сорокового года, сданных без выстрела береговых укреплений Нарвика, несработавших минных полей у входа в Осло-Фиорд. Юный Давид смог победить великана Голиафа. Почему же сдалась почти без боя его маленькая гордая страна? Но что заставило Дигирнеса сегодня снова вспомнить об этом?
— Вы чем-то расстроены, капитан?
— Нет, всё хорошо. Всё идёт хорошо. Слишком хорошо, чтобы это продолжалось долго… Налить вам ещё?
— Только немного. Я ещё не спускался в трюм.
Дигирнес посмотрел на меня поверх стакана.
— Вы думаете, кому-нибудь ещё нужны эти станки?
— Полагаю, да.
Дигирнес налил себе чистого джина.
— Я слушал сегодня сводку, — сказал он. — Бои идут уже у Волги.
Было очень трудно услышать это, но я сдержался и как можно спокойней сказал:
— Дальше они не пройдут.
— Вы уверены?
— Да. У Волги сейчас стоит вся Россия.
— У вас гигантская страна, но не всё, мой друг, решается размером, — вздохнул Дигирнес. Он продолжал думать о своем. — Нас, норвежцев, всего три миллиона, но если у вас был Пётр Великий, то у нас король Сверре. У вас Достоевский и Толстой, а у нас Бьёрнсон и Ибсен.
Дигирнес вдруг притих и, допив стакан, буркнул:
— Это честный морской счёт. Книги Гамсуна я ещё год назад выбросил за борт.
Он взял бутылку и потянулся к моему стакану. Я накрыл его ладонью.
— Нет, мне хватит… Видите ли, капитан, у нас нет не только Гамсуна, но и Квислинга.
Это было жестоко по отношению к старику, но он слишком раскис сегодня.
У него в Тромсё осталась семья, он не видел её уже больше двух лет. Дигирнес опять налил себе.
— Кретины с протухшим жиром вместо мозгов! — вдруг воскликнул он. — Обжирались копчёной селёдкой и думали, что нас оставят в покое в наших фиордах… Офицеры генерального штаба смотрели фильм в германском посольстве, когда над побережьем уже летели самолёты Геринга. Командующий вторжением прибывает в Осло накануне с дипломатическим паспортом, как на курорт, и во время уличных боёв звонит по междугородному телефону в Гамбург своему начальнику! Чёрт побери! Троянский конь в стране викингов! Нас предали! Будь трижды прокляты сытость и беспечность!
Дигирнес залпом допил стакан. Таким он мне нравился больше.
— Запомните, мистер Колчин: всё сосчитано, взвешено, разделено! Валтасаров пир справляют там сейчас. Огненные слова — мене, текел, фарес — уже горят на скалах, и гибель победителей будет страшнее смерти нечестивого вавилонянина!
Переплёт старинной библии жалобно пискнул под ударом кулака.
В иллюминатор заглянуло солнце. Я посмотрел на часы. Было без двадцати двенадцать. Я поднялся.
— Куда вы? — спросил Дигирнес.
— Вышло солнце, Иенсен сейчас будет брать широту. Дигирнес улыбнулся.
— Я всё забываю, что вам только двадцать пять лет.
3
Я стоял на мостике с секстантом в руках и старался поймать отражение солнечного луча. Мне была немного знакома авиационная навигация — во время лётной практики в институте я работал дублёром штурмана и теперь пользовался каждым случаем, чтобы постичь премудрость кораблевождения. Молчаливый Иенсен уже доверял мне самостоятельно определяться по солнцу.
Мне почти удалось совместить солнечный луч с точкой горизонта, как вдруг горизонт сдвинулся с места. Это было невероятно. Я снова навёл прибор. Намеченная точка оторвалась от горизонта. Она приближалась к нам. Я опустил секстант и взял бинокль. С юга к нашему каравану, спутав осень с весной, стремительно приближался чёткий клин журавлиной стаи.
И в тот же миг завыли сирены судов. Послышалась команда Иенсена. На «Олафе» забил колокол громкого боя.
Я бросился на корму — там, у пожарной помпы, было моё место по боевой тревоге. На палубе со мной столкнулся спешивший на мостик Дигирнес. Кажется, он даже не заметил меня.
Бой длился всего несколько минут. Он окончился раньше, чем я успел добраться до своей помпы. «Юнкерсов» встретил огонь всех зенитных стволов кораблей конвоя. Клин раскололся пополам и исчез из виду. Через несколько мгновений «юн-керсы» появились с востока. Конвой не успел закончить перестроение. Несколько машин прорвалось к транспортам. На «Олафе» забили пулемёты.
Со второго захода пикировщик положил бомбу у нас за кормой. Меня бросило на палубу. Кто-то страшно закричал рядом.
Когда я поднялся, столб воды от взрыва ещё не успел опасть, но бой уже заканчивался. Рядом с нами кормой в воду уходил эсминец. У него заливало трубы, а с бака ещё бил трассирующими спаренный зенитный пулемёт. С тяжёлым воем падал в воду пикировщик, «юнкерсы» вразброд тянулись к югу. Два транспорта горели.
«Олаф» как-то странно рыскал из стороны в сторону. Я вернулся в рубку. Капитан Дигирнес чертыхался в переговорную трубу.
— Маневрируете? — спросил я.
— Играю в жмурки!
И снова что-то яростно заорал в машину.
— Руль, — сказал Иенсен, — проклятая бомба. Мы потеряли управление.
Это была очень длинная для него фраза.
Я вышел на ходовой мостик. На воде расплывались радужные масляные круги. Возле горящих транспортов суетились спасательные лодки. Несколько шлюпок и моторных баркасов подбирали команду затонувшего эсминца.
По палубе пронесли на носилках незнакомого мне матроса. Кажется, он был уже мёртв. Матросы, которые несли носилки, скосив глаза, смотрели на юг. Я тоже посмотрел на юг. Горизонт был чист пока. Два эсминца ставили дымовую завесу. Чёрный дым стлался низко над водой.
Мы всё ещё крутились на месте. Дигирнес торопливо прошёл в радиорубку. Он пробыл там четверть часа и вышел очень озабоченный. На флагманском крейсере по флагштоку побежала вереница сигнальных флажков. Видимо, сигнал был адресован нам, потому что все вокруг подтянулись. Дигирнес что-то приказал, и на «Олафе» подняли такие же флажки.
— Что это? — спросил я.
— «Желаем удачи». — Дигирнес положил мне руку на плечо. — Вы сразу попали в хорошую переделку, мой друг. Я отказался от буксира. Я не могу задерживать караван. Постараемся справиться своими силами и догнать их завтра.
Караван медленно уходил на восток. С юга всё шире расползалась полоса дымовой завесы. В багровом дыму догорал транспорт. Мы оставались одни посреди холодного моря.
4
Ночью с Атлантики потянул ветер. К утру это был настоящий шторм. О ремонте не могло быть и речи. Дигирнес, маневрируя, пытался держать «Олафа» против волны. Транспорт несло штормом на северо-восток.
Утром нас запросили по радио с флагмана. Дигирнес ответил, что всё в порядке, что он надеется скоро нагнать караван. Он хорошо понимал, что попытка пробиться к нам на помощь может дорого обойтись другим кораблям.
На второй день в трюмах показалась вода. Найти пробоину не удалось: по трюму, сорвавшись с найтовых, летали, как резиновые мячики, мои драгоценные ящики со станками.
На третий день механик доложил, что топлива до Мурманска не хватит. Дигирнес остановил машины и разрешил сообщить кодом о нашем положении. Но на отчаянные призывы радиста «Олафа» никто не отозвался. Нас уносило всё дальше на северо-восток. Транспорт дал заметный крен на левый борт — помпы не справлялись с откачкой воды.
Я встретился с капитаном в кают-компании, куда он заскочил на секунду выпить горячего чая.
— Где мы? — спросил я.
— У чёрта в пекле. — Дигирнес прислушался к вою ветра.
— И надолго?
— Не знаю… — Капитан, обжигаясь, допил чай. — Уповайте на милосердие божие… Тут есть островок — ничья земля…
Он не договорил — не хотел искушать словами судьбу.
Вбежавший матрос позвал капитана в радиорубку. Дигирнес, отставив стакан, бросился к трапу. Я поспешил за ним.
Молодой англичанин-радист, с воспалёнными от бессонницы глазами, метнулся навстречу капитану.
— Ну? — спросил Дигирнес.
— Нам отвечают. Вот радио, — радист протянул бланк радиограммы и счастливо улыбнулся.
Он плавал первый год, и ему, видно, было очень жутко один на один с оглохшим эфиром.
Дигирнес, взглянув на бланк, нахмурился.
— Почему открытый текст? Улыбка сползла с лица радиста.
— Я дал «SOS»…
— Что?!
— Я думал… Теперь всё равно…
— И наши координаты? Радист попятился.
— Мальчишка!
Я на всякий случай встал между радистом и капитаном. Дигирнес шумно вздохнул.
— Я предам вас военному суду. Кто это? — Он тряхнул радиограммой.
— Не знаю… Я поймал не сразу… Они радировали по-английски.
— Запросите — кто?
Радист кинулся к передатчику.
— Кодом?
Дигирнес махнул рукой. Застучал ключ. Мы молча ожидали ответа. И снова по какой-то причине радисту не удалось принять начала ответной радиограммы. Под писк морзянки его карандаш стремительно бежал по бумаге.
«…Следуйте нашим указаниям, — писал он по-английски. — Держитесь норд-ост-норд». Дальше шли градусы и румбы.
Связь оборвалась. Несмотря на все попытки радиста, неизвестная радиостанция молчала.
Мы с Дигирнесом вышли из радиорубки. Капитан вызвал к себе Иенсена и главного механика. После короткого совещания механик ушёл. Дигирнес сам встал к телеграфу. Заработали машины. «Олаф» тяжело развернулся. Море теперь бушевало за кормой. Мы легли на норд-ост-норд.
5
Было ещё светло, когда впереди показалась извилистая полоса берега. Радист принял обрывок новой радиограммы. Там опять уточнялся наш курс к острову. Дигирнес подчинился этому указанию. Маневрируя, он искусно вёл вперёд лишённый управления корабль.
Мы вошли в узкий, глубоко вдающийся в сушу залив. Здесь было тихо. Ветер остался позади.
Я стоял на мостике рядом с Дигирнесом. В наступившей тишине звонко кричали птицы. Чайки кружились над нашей палубой. По сторонам залива лежал пологий берег. К нему нетрудно было пристать.
Вся свободная от вахты команда была на баке. Люди молча смотрели на приближающуюся землю.
Дигирнес, не снимая руки с машинного телеграфа, негромко командовал рулевому. «Олаф» осторожно продвигался вперёд.
— Кажется, вам придётся представить радиста к ордену, — сказал я.
Капитан, не ответив, перебросил ручку телеграфа на «малый». И тут же палуба ушла у меня из-под ног. Я едва успел вцепиться в поручни.
Дигирнес рванул ручку на «самый полный назад», но «Олаф» даже не шелохнулся.
— Камни… — глухо сказал Дигирнес. — Их нет в лоции… Транспорт быстро кренился на левый борт. Дигирнес поднял мегафон.
— Всем покинуть корабль!
Первым метнулся вниз рулевой. Команду будто смело с бака. У левого борта спускали шлюпки.
Я попытался пробраться в каюту за вещами. Корабль продолжал валиться на борт. В переборках заклинило двери. Я с трудом вернулся обратно на палубу. Её уже заливала вода. «Олаф» почти лежал на боку. Шлюпки были спущены. В них прыгали люди. У борта дрались за спасательные круги. Дигирнеса нигде не было видно.
Через мгновение шлюпки отвалили. Опоздавшие бросались вплавь. И тут на палубе вновь появился Дигирнес. Он вылез из своей каюты с какой-то тряпкой и небольшим мешком под мышкой. Увидев шлюпки, он взволнованно закричал по-норвежски, но его никто не услышал.
Шлюпки отходили от корабля. Дигирнес тщетно кричал им вслед. Наконец он умолк и, придерживаясь за палубные надстройки, не спеша двинулся к корме. Я инстинктивно полез за капитаном. Где-то в глубине корабля послышалась музыка.
Вслед за Дигирнесом я перебрался на противоположную, поднявшуюся вверх палубу. Дигирнес задержался у флагштока, дёрнул фалреп. Британский флаг пополз вниз. Теперь я узнал музыку — это была знакомая пластинка Грига. Капитан оставил в своей каюте заведённый патефон.
Дигирнес сорвал восьмилучевой «Юниор Джек» и привязал к шнуру принесённое полотнище. Его сразу рвануло ветром. Вверх по флагштоку пополз красно-синий флаг Норвегии.
Две шлюпки, бешено загребая вёслами, стремились скорее отойти от тонущего транспорта. Между ними виднелись барахтающиеся в воде люди.
Дигирнес дождался, пока флаг достиг вершины мачты, потом бросил взгляд на опустевший корабль. Скользя по настилу, он дотянулся до высокого правого борта. Меня он не заметил. Неожиданно легко старик перебросил своё тело через поручни и с силой оттолкнулся, стараясь прыгнуть возможно дальше.
Я бросился за ним, в первый момент даже не почувствовав обжигающего холода воды.
Я успел сделать всего несколько взмахов, как позади послышался тяжёлый всплеск и слившийся с ним отчаянный крик людей.
Внезапное течение цепко потащило назад. Я рванулся изо всех сил. Только очутившись наконец в спокойной воде, я рискнул обернуться.
«Святой Олаф» уходил под воду вверх килем. Перевернувшись, транспорт обрушился на тех, кто пытался спастись с противоположной стороны. В этот момент я понял, что кричал Дигирнес своим товарищам: он хотел предупредить их о грозящей опасности.
6
Плыть было трудно. Тяжёлый меховой комбинезон тянул вниз и не давал как следует взмахнуть руками. Но надувшаяся пузырём на спине куртка поддерживала меня на воде.
Дигирнес скоро исчез из виду. Я уже совсем выбился из сил, когда ударился головой обо что-то твёрдое. Впереди был крепкий береговой лёд. Срывая ногти, я выбрался из воды.
Кругом было тихо и пусто. Мне стало страшно. В сентябре сорок первого я в одиночку выходил из окружения под Смоленском. Там я тоже был один, но вокруг стоял родной, с детства знакомый лес, кричали наши русские птицы, текли привычные, в пожухлых листьях ручьи. Никогда ещё не было мне так жутко, как на этой чужой, равнодушно белой земле.
Я побежал вдоль кромки льда, огибая залив. Мела лёгкая позёмка. Вода в заливе чуть рябила. «Олафа» уже не было видно. Казалось, ничего не случилось у этих тихих берегов.
Я долго бежал, подгоняемый холодом и страхом. Наконец впереди за снежной позёмкой показалась неподвижная фигура. Кто-то стоял на коленях с раскрытой книгой в руках.
Я подошёл ближе. Это был капитан Дигирнес. Перед ним распростёрся навзничь человек. Капитан молился. На снегу лежал Иенсен. Он был мёртв. Снег засыпал страницы старой библии. Капитан заметил меня, но не пошевелился, пока не закончил молитвы.
Потом мы вместе завалили тело штурмана камнями и снегом. Дигирнес был сосредоточен и молчалив; стряхнув снег, он бережно спрятал библию в прорезиненный мешок. Там лежали компас, секстант, хронометр и судовой журнал «Святого Олафа». Дигирнес записал в журнал несколько строк несмываемым карандашом. Потом медленно, так, чтобы я понял, прочёл написанное. Это было краткое сообщение о гибели корабля с упоминанием координат, даты и часа. Затем он указал место, где похоронен штурман Роал Иенсен. Капитан попросил меня расписаться вместе с ним под этой записью.
Мы двинулись дальше, обходя глубоко вдающийся в сушу залив. Мы тщательно осматривали берег, надеясь и боясь натолкнуться на кого-нибудь из своих товарищей. У кромки льда кое-где темнели маслянистые пятна, валялись выброшенные куски дерева. В заводи мирно покачивался спасательный круг с надписью «St. Olaf Tromsö». Кажется, это было всё, что осталось от нашего корабля.
Капитан угрюмо молчал, и я никак не мог решиться спросить его: кто же всё-таки дал радиограмму, приведшую нас к этому острову?
На противоположной стороне залива мы натолкнулись на остатки разбитой шлюпки с «Олафа». Мы обшарили каждый сантиметр земли и льда вокруг, но так и не нашли следов людей. Позёмка ещё не могла занести их, если бы кто-нибудь добрался до берега…
Становилось всё холодней. Промокший комбинезон не грел. Мы наломали досок от разбитой шлюпки и сложили костёр. В мешке Дигирнеса рядом с пачкой табака и трубкой оказался припасённый коробок спичек. Но доски никак не хотели гореть. Напрасно мы щепали тончайшие лучинки и, тщательно заслонившись от ветра, подносили к ним спички. Они гасли одна за другой, не успев передать своего слабого тепла мокрому дереву.
Я пошарил по карманам. Там не оказалось ничего, кроме напрочь расползшейся коробки сигарет. Я вставал, садился, снова вставал, ходил, но уже ничем не мог унять бьющую тело дрожь. Послышался шорох. Я обернулся. Капитан держал в руках судовой журнал и старинную библию Дигирнесов. Какое-то мгновение капитан как бы взвешивал обе книги, затем сунул судовой журнал обратно в мешок.
Затрещали вырываемые из библии листы. Дигирнес поднёс к ним спичку. Костёр разгорелся. От мокрой одежды потянулся парок. Капитан достал из кармана плоскую фляжку, отвинтил крышку.
— Глотните, это подкрепит вас. А что касается будущего… — Он вытащил из своего мешка отлично смазанный пистолет и несколько обойм. — Я думаю, нам удастся добыть какую-нибудь дичь.
Спирт обжёг горло, разбежался теплом по телу.
Капитан вынул карту и при свете костра показал, где мы находимся. Это был довольно большой остров в западной части Баренцева моря, километрах в трёхстах от материка. Дигирнес сказал, что нам следует идти на север к Шпицбергену — там база англичан. Но я совершенно не представлял, как мы сможем добраться туда без продовольствия и транспорта.
— Никто не знает меры сил человеческих, — сказал Дигирнес. — Капитан Роберт Вартлетт, которого я имел честь знать лично, однажды, потеряв корабль, прошёл вдвоём с эскимосом от острова Врангеля до побережья Аляски… Здесь, — Дигирнес указал на карте крошечный островок примерно на полпути к Шпицбергену, — здесь была русская научная станция. Если даже люди теперь ушли, то мы всё равно найдём там продовольствие и топливо. Это первый закон Арктики: оставлять всё для возможного пришельца. В крайнем случае мы там перезимуем. — Скажите, Дигирнес, — спросил я, — а здесь… на этом острове, никого нет?
— Это ничья земля, — не сразу отозвался капитан. — Судя по карте и лоции, здесь нет людей. Я бы очень хотел, чтобы эти сведения оказались достоверными.
7
На следующий день было пасмурно. Чуть таяло. Под ногами проваливался мягкий снег.
Дигирнес, сверяясь с компасом, держал направление строго на север. Он шёл быстро, чуть неуклюжей, перевалистой походкой. Казалось, он хотел как можно скорей уйти от места, где погиб его корабль.
Всё сильнее давал о себе знать голод. Почти из-под ног вспорхнула стайка каких-то птиц, похожих на небольших уток. Не боясь людей, птицы снова опустились неподалёку. Остановив Дигирнеса, я потянулся к пистолету, но капитан решительно отвёл мою руку.
— Не надо лишнего шума. Мы должны быть очень осторожны, мой друг…
Я запустил в них камнем, но, конечно, промахнулся. Птицы не спеша вспорхнули и снова, точно издеваясь, опустились на снег. Проклятые птицы ещё долго следовали за нами. Через час мне казалось, что я способен съесть всю стаю даже в сыром виде.
К вечеру снова поднялся ветер. Метель застлала всё вокруг, но капитан упрямо продолжал идти, ежеминутно сверяясь с компасом. Ветер пробирал до костей, однако всё заглушало сосущее ощущение голода.
За стеной снега ничего не видно, кроме смутно темнеющей впереди фигуры Дигирнеса. Чувство времени потерялось. Кажется, что долгие годы мы идём по этой белой равнине. Мне уже всё равно, придём ли мы куда-нибудь. Я только твёрдо знаю, что надо шагать, шагать и шагать без конца, потому что, если я остановлюсь хоть на секунду, то потом уже не смогу двинуться с места.
Внезапно наталкиваюсь на какое-то препятствие. Очевидно, я всё-таки задремал на ходу и уткнулся в спину Дигирнеса.
— На сегодня хватит, — говорит он. — Отдых.
Хочу тут же опуститься на снег, но капитан куда-то ещё тянет меня. С подветренной стороны невысокого холма он быстро разбрасывает мягкий снег. Я машинально помогаю ему. Мы опускаемся в отрытую яму. Здесь тихо. Метель проносится сверху. Дигирнес чем-то шуршит в темноте и суёт мне остро пахнущую щепотку трубочного табака.
— Пожуйте, это заглушит голод…
Я предпочитаю закурить. Дигирнес не без колебаний отрывает чертвертушку чистой страницы судового журнала. Закурив, чувствую себя вполне сносно. Только очень стынут ноги. Но Дигирнес знает, как помочь и этому. Он снимает свою куртку и накидывает её, не надевая в рукава. Мне он предлагает сделать то же самое. Застёгиваем все пуговицы на груди и засовываем ноги за спину друг другу. Получается, что мы лежим «валетом» в спальном мешке. Мои ноги согреваются у спины Дигирнеса.
— Спите… — говорит он. — Надо спать… Завтра…
Конца фразы я уже не слышу…
8
Проснувшись, я никак не могу сообразить, где нахожусь. Сверху навис белый снежный купол. Его намела за ночь метель. Дигирнеса рядом нет.
Я пробиваю головой потолок «пещеры».
Снова серый, пасмурный день. По-прежнему крутит вьюга. Дигирнес сидит на корточках, что-то колдуя с картой.
Болит голова. Во рту тяжёлый медный вкус. Капитан протягивает фляжку.
— Выпейте… Два глотка, не больше… Если бы у нас была пища, мы просто переждали бы метель. А сейчас надо идти. Необходимо.
От глотка спирта тело сразу становится лёгким и подвижным. Только всё время приходится думать о руках. Они двигаются как-то сами по себе, слишком резко, размашисто.
И снова нас обступает плотная стена вьюги. Когда идёшь в лесу, то держишь путь по деревьям, в поле отмечаешь расстояние вехами телеграфных столбов, в горах отсчитываешь каждый пройденный камень, а здесь ничего, ничего, кроме бьющего в лицо снега и бесконечной белой равнины.
«Сто сорок два, сто сорок три, сто сорок четыре…» — механически считаю я шаги.
Я сбиваюсь, перескакиваю через целые десятки и сотни и снова продолжаю бесконечный счёт. Ни единого звука не пробивается сквозь шум вьюги. Кажется, там за стеной метели лежит земля мёртвой тишины. Лишь изредка до сознания доходит лёгкий шорох шагов.
«…Четыре тысячи семьсот шестьдесят семь, четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь, четыре тысячи семьсот шестьдесят девять…»
И вдруг… Я останавливаюсь. Сквозь шум ветра послышался далёкий собачий лай… Нет, это наверняка померещилось. «Четыре тысячи семьсот…» Но Дигирнес тоже останавливается и напряжённо прислушивается. И снова сквозь вьюгу явственно доносится собачий лай.
Несколько секунд мы стоим неподвижно, потом, не сговариваясь, поворачиваем и бежим на этот звук.
Из-за пелены снега неожиданно вынырнула решётчатая радиомачта. В стороне темнел длинный приземистый барак. Из трубы валил разгоняемый ветром дым.
Осторожно, пригибаясь к земле, мы обогнули дом. Позади у небольшой пристройки стояла запряжённая в сани упряжка собак. Чуть поодаль виднелась площадка с деревянными будочками на столбах — метеостанция.
Увидев нас, собаки залаяли с новой силой. Из пристройки вышел человек. Мы спрятались за угол дома. Человек внимательно осмотрелся вокруг, стараясь понять, что взволновало собак. Мы напряжённо следили за ним.
Человек был в толстом свитере и брюках, заправленных в меховые сапоги. Самое обыкновенное, обветренное на морозе лицо под вязаной, как у лыжника, шапочкой. Кто он — друг или враг?
Человек наклонился и, успокаивая, ласково потрепал по шее вожака упряжки. Вероятно, это был простой, симпатичный парень. Вот сейчас он с добродушной требовательностью скажет:
— Цыц! Ну, что расходились, кабыздохи?!
Я невольно подался вперёд.
— Куш! — сказал человек в свитере. — Klappt die Fressen zu, die Sauhunde![1]
Вздрогнув, я отпрянул назад, но было уже поздно.
Немец поднял голову. Наши взгляды встретились.
Резкий толчок отбросил меня в сторону. Дигирнес кинулся на немца. Они покатились по земле. Старик пытался вцепиться руками в горло противника. Немец был моложе и увертливее. Оправившись от неожиданности, он вскочил на ноги.
Я подоспел как раз вовремя. Но, падая вторично, немец с шумом распахнул дверь в пристройку.
— Kurt! — послышалось оттуда. — Was ist denn los?[2]
Оставив оглушённого немца, я помог подняться капитану.
Задохнувшись, он не мог говорить и только жестом указал на сани. Мы прыгнули в них. Ударом ножа Дигирнес перерубил верёвку, удерживающую нарты, и гортанно крикнул. Собаки понесли с места.
Из пристройки выскочил ещё один немец. И уже позади, за скрывшей нас метелью слабо хлопнуло несколько выстрелов.
9
Дигирнес оказался неплохим каюром. Размахивая длинным шестом, он ловко управлял собаками. Раньше я видел нарты только на рисунках и думал, что собак запрягают всегда попарно цугом, как лошадей в старинные кареты. Здесь же они были привязаны веером — каждая к передку саней. Все постромки были разной длины, и передняя собака мчалась со всех ног, а остальные стремились вцепиться ей в пятки.
Я растянулся в санях. С новой остротой захотелось есть. Пошарив в санях, нащупал мешок. В нём были какие-то жесткие, плоские предметы. Я развязал мешок. Там лежала высушенная до твёрдости камня рыба юкола. Впервые в жизни я держал её в руках. Немцы, видно, собирались в дорогу и положили её в сани для собак. Рыба оказалась совершенно безвкусной и невероятно жёсткой, но всё-таки это была еда. Я протянул рыбину Дигирнесу. Тот что-то пробормотал, — и юкола захрустела у него под зубами.
Поев, Дигирнес набил трубку и передал табак мне. Я чувствовал себя очень скверно. Мне казалось, что это нз-за моей неосторожности нас заметили немцы. Осторожно свернул тоненькую самокрутку.
— Подлые псы, — сказал Дигирнес, погоняя собак, — чуют человека за милю. Но теперь, дай бог, выручат нас…
К ночи мы остановились под откосом на берегу замёрзшего ручья. Опять выбрали место для ночлега с подветренной стороны. Капитан кинул собакам по рыбине, а потом перевязал им морды обрывками ремня, чтобы ночью не перегрызли постромок. Мы заснули в кольце собак. От их шерсти шло тепло и острый запах псины.
10
Проснулся я от света. Надо мной висело голубое небо. Слепило солнце. Мир был чист, красив и праздничен.
— Проснулись? — послышался хмурый голос Дигирнеса. Он стоял на откосе. — Я уже хотел вас будить… Идите сюда.
Я поднялся к нему.
И тут же радость солнечного утра сменилась глухой тоскливой тревогой: по снежной целине тянулся к горизонту отчетливый, одинокий след наших саней…
Весь день капитан Дигирнес менял направление, напрасно пытаясь найти твёрдый наст — проклятый след, как маршрут, прочерченный на ватмане, отмечал каждый метр нашего пути.
Собаки скоро выбились из сил. Дигирнес без устали работал шестом, заставляя их бежать. В конце концов одна упала и не смогла подняться. Вся упряжка смешалась, перепутав постромки. Мы долго не могли растащить собак. Наконец Дигирнес обрезал ремень и бросил обессилевшую собаку в сани.
Во второй половине дня небо затянулось, понеслась позёмка. Появилась надежда, что наш след занесёт и мы уйдём от погони. Капитан решил дать отдых измученным собакам. Они, так же как и мы, получили по юколе. Дигирнес набил трубку, я принялся за цигарку. И тут мы увидели своих преследователей.
Две упряжки выскочили на гребень холма, с которого мы только что спустились.
Насилу подняв собак, Дигирнес погнал нашу упряжку. Впереди оказался глубокий снег. Собаки сразу провалились по брюхо. Немцы же мчались по проложенной нами колее. Сзади раздались автоматные очереди. Стреляли в воздух. Что-то кричали. Наверное, предлагали сдаться. Дигирнес обернулся. Я понял его немой вопрос и покачал головой. Капитан протянул мне пистолет.
— Я займусь собаками…
Очень неудобно стрелять с подпрыгивающих саней да ещё из незнакомого пистолета, но всё-таки мне удаётся подстрелить собаку в передовой упряжке.
Мгновенно смешался живой клубок — из перевернувшихся саней сыплются люди. Снова трещат автоматы. На этот раз стреляют уже не в воздух. Очереди вспарывают фонтанчики снега у наших саней.
Мы выигрываем несколько метров, но вторая упряжка выскакивает вперёд и быстро приближается. Мне никак не удаётся попасть в мчащийся мохнатый веер. Немцы частыми очередями не дают поднять головы. Я оглядываюсь. Дигирнес, не обращая внимания на выстрелы, привстав на колени, неистово погоняет собак. Я старательно прицеливаюсь в чёрное пятно на лохматой груди вожака упряжки. Нажимаю спуск один раз, второй…
Нарты преследователей резко заносит в сторону. Собаки вцепляются в упавшего вожака.
Я слышу гортанный крик Дигирнеса, погоняющего упряжку. Вдруг крик обрывается… Нарты переворачиваются, и я чувствую, как лечу в сторону. Что-то тяжёлое ударяет меня по голове. Сразу исчезает всё. Наступает полная тишина.
Глава вторая
1
Сначала послышались голоса. Мне показалось, что я в школе сдаю экзамен по-немецки и никак не могу понять вопрос нашего седого Фридриха Адольфовича. Потом из темноты проступили ноги. Много ног. В меховых сапогах и тяжёлых горных ботинках.
Очень болит висок. Я пытаюсь потрогать его, но кто-то грубо отталкивает руку и, приподняв мне голову, обматывает её чем-то холодным и плотным.
Ноги расступаются. Всё приобретает истинные размеры. Я просто лежу на снегу. Напротив на санях сидит человек в меховой куртке. У него худощавое гладковыбритое лицо. Глаза прикрыты тёмными очками. Он перелистывает книгу, в которой я узнаю судовой журнал «Олафа». Этот человек, видимо, старший. К нему обращаются «герр лейтенант».
Неподалёку темнеет какая-то бесформенная груда. Я скашиваю глаза. Широкая спина, седые спутанные волосы и босые, нелепо, острым углом подогнутые ноги. Странно видеть на снегу босые, не очень чистые ноги.
Двое немцев переворачивают тяжёлое тело. На секунду мелькают знакомый вислый нос и седая щетинка усов… Тело скатывается в неглубокую яму. Его забрасывают сверху снегом. Немцы торопятся. Из-под тонкого слоя снега остаётся торчать оттопыренный большой палец босой ноги.
— Wo sind die anderen?[3] — спрашивает человек, бинтовавший мне голову.
Вопрос понятен, но что я могу ответить?
— Haben Sie niht verstanden?[4]
Я молчу.
Человек повторяет вопрос по-английски. Он повышает голос, сердится. Мне всё равно. Я вижу только кончик большого пальца, торчащий из-под тонкого слоя снега.
Человек отталкивает меня. Я падаю навзничь. Человек заносит ногу в тяжёлом горном ботинке для удара.
Чей-то резкий голос останавливает его. Нога опускается. Надо мной склоняется лейтенант в тёмных очках. В руках у него судовой журнал, раскрытый на последней странице. Он пристально вглядывается в моё лицо. Я закрываю глаза. Мне всё равно. Лейтенант отдаёт какое-то распоряжение. Меня подымают за руки и за ноги. Должно быть, я сейчас тоже окажусь в неглубокой яме, как Дигирнес.
Нет, я падаю в сани, больно ударившись локтем о борт. Меня наскоро связывают. Рядом спорят лейтенант и высокий немец в лыжной вязаной шапочке — это тот самый Курт, с которым мы столкнулись возле сарайчика. Часто повторяется слово «der Schif» — «корабль». Наконец лейтенант резким приказанием прекращает спор.
Упряжки трогаются. Я лежу в последних санях. В них только я и лейтенант. Он управляет собаками. Мы едем обратно по проложенной в снегу колее.
За холмом передовые упряжки сворачивают на юго-запад. Очевидно, направляются к месту гибели нашего корабля. Курт что-то кричит лейтенанту. Тот, мельком взглянув на меня, пренебрежительно машет рукой и придвигает ближе лежащий в санях автомат.
Упряжки бегут по снежной равнине. Мы остаёмся вдвоём. Лейтенант сворачивает на юг. Мы направляемся к немецкой станции.
2
Подпрыгивали сани, убегала назад бесконечная белая равнина, а впереди маячила спина человека, управлявшего собаками. Эта спина вызывала у меня сначала смутное, потом всё более острое раздражение. Особенную ненависть испытывал я к подпрыгивавшим при каждом толчке прямым, будто прочерченным по линейке плечам лейтенанта.
Я попробовал пошевелить онемевшими руками. Смешно. Меня связали, как будто можно убежать куда-то с этого заброшенного в мёртвый океан клочка земли. Здесь для пленных не нужны колючая проволока и охрана. Впрочем, второпях меня не очень тщательно связали — постепенно удалось высвободить правую руку. Но верёвка на ногах только плотней врезалась в тело. Я не думал о побеге, но инстинктивно замирал, когда лейтенант бросал быстрый взгляд через плечо. Кажется, он ничего не заметил.
Резкий поворот едва не выбросил меня из саней. Лейтенант что-то кричал, размахивая шестом. Приподнявшись, я увидел серый комочек, несущийся вверх по откосу. Какой-то зверёк. Вероятно, песец. Захлёбываясь от охотничьего азарта, собаки мчались за ним, не обращая внимания на отчаянные крики лейтенанта. Наконец, с силой воткнув шест в снег перед санями, он остановил упряжку. Забыв обо мне, лейтенант бросился к собакам. В этот момент я понял, что мои ноги тоже свободны — при крутом повороте лопнула туго натянутая верёвка.
Впереди торчал воткнутый в снег шест. Лейтенант возился с упряжкой. Схватив вожака за шиворот, он пытался заставить собак вернуться на прежний путь. Его прямые плечи были наклонены параллельно земле.
Я привстал, выдернул шест и, размахнувшись, с силой опустил его. Очень хорошо помню, что метил попасть не в голову, а именно по этим острым прямым плечам. От удара лейтенант увернулся, но, споткнувшись, упал. Автомат отлетел в сторону. Я вывалился из саней и очутился возле него раньше противника.
— Лежать! — крикнул я по-русски, забывая, что лейтенант вряд ли может понять это приказание. — Ни с места!
Как ни странно, немец точно повиновался. Я навалился на него сзади, приставив к затылку дуло автомата. Лейтенант замер. Я заломил ему руки назад и скрутил верёвкой. Чуть отдышавшись, на всякий случай связал и ноги врага. Проверил узлы. Получилось неплохо, как будто я всю жизнь только и делал, что вязал людей.
Я обыскал немца. Под курткой у него оказался парабеллум в треугольной кобуре. В карманах пачка сигарет и бумажник.
В бумажнике лежали «солдатская книжка» на имя лейтенанта Иоганна Риттера, 1904 года рождения, тонкая пачка писем и фотография молодой женщины с двумя мальчиками: один — лет шести, другой — восьми. На письмах были штемпеля полугодовой давности. Парабеллум и сигареты я взял себе, а бумажник засунул обратно в карман лейтенанта. Потом, присев на край нарт, я закурил. Я не спешил.
3
Собственно, выбор был невелик. В нескольких километрах к югу лежала немецкая база. На севере дорог каждый лишний человек, и меня вряд ли просто уничтожили бы. Скорей всего использовали бы на каких-нибудь чёрных работах.
Чтобы добраться до союзников, надо было пройти триста километров по льдам на север. Но теперь мне предстояло проделать этот путь одному, без помощи надёжного и опытного друга.
Затянувшись в последний раз, я отбросил догоревшую до самых губ сигарету. Можно было не спешить — вряд ли кто-нибудь хватится нас раньше, чем немцы, отправившиеся к заливу, вернутся на базу. Я тщательно подсчитал свои «трофеи». В моём распоряжении были сани с упряжкой собак — разлегшись полукругом, они устало грызлись между собой. Автомат и к нему два запасных магазина. Парабеллум. Охотничий нож. В санях лежал спальный мешок на каком-то лёгком и, наверное, очень тёплом пуху. Мешок был большой, при желании в нём могли поместиться даже два человека. Судовой журнал «Олафа», карта, компас, секстант, хронометр и даже фляжка капитана Дигирнеса были целы. В рюкзаке лейтенанта оказались две банки консервов, несколько галет, котелок, спиртовка, пачка сухого спирта и баночка с кофе — судя по запаху, суррогатным. Кроме того, там лежали пакеты с каким-то белым порошком неизвестного назначения. В длинной надписи на них я смог разобрать только часто повторяющееся слово «химическое». В общем, припасов немного, но вполне достаточно одному человеку дня на четыре, если быть экономным. Я посмотрел на Риттера. Он перевалился на спину. Верёвки на его ногах сдвинулись: он тоже пытался освободиться. За тёмными стёклами очков не было видно глаз лейтенанта, но я чувствовал, что он неотступно следит за мной.
Я не выстрелил в него в первый момент. Теперь уже это было немыслимо. Я не мог расстрелять связанного по рукам и ногам человека. Оставить его лежать так на снегу? В сущности, это то же самое. Даже хуже. А потом, если он всё-таки выпутается из верёвок и доберётся до своей базы? Через несколько часов немцы догонят меня…
Смеркалось. Надо было уходить. Я подтащил связанного лейтенанта и взвалил его на нарты. Потом сел сам, взял шест и гортанно крикнул, подражая капитану Дигирнесу. Однако упряжка не двинулась с места. Напрасно кричал я на все голоса и яростно размахивал шестом. Должно быть, я что-нибудь не так делал, или эти проклятые псы не понимали по-русски. Они уселись в кружок и с любопытством смотрели на меня.
Охрипнув, я решил отказаться от упряжки. Вероятно, позже я уже не сделал бы такой самоубийственной глупости, но тогда мой полярный стаж измерялся всего двумя сутками. К тому же из головы не выходил выдавший нас с Дигирнесом предательский след. Я решил сбить с толку преследователей.
«Выгрузив» из саней Риттера, я сложил в два заплечных мешка продовольствие и немудрёное снаряжение. Потом обрубил постромки, удерживающие вожака, и изо всей силы хлестнул лохматого пса. Он с визгом бросился в сторону. Повинуясь инстинкту, упряжка тут же кинулась за ним в погоню. Теперь они не скоро остановятся.
Лейтенант, приподнявшись, с удивлением следил за моими действиями. Но когда я, справившись с собаками, обернулся, он тут же опять бесстрастно откинулся в снег.
Перевернув его вниз лицом, я перерезал верёвки.
— Встать! — скомандовал я. — Ауфштеен!
Лейтенант поднялся, разминая затёкшие ноги. Знаком я предложил ему надеть мешок. Риттер повиновался. Сверившись с компасом, я выбрал направление на север.
— Вперёд! — сказал я, выразительно приподняв автомат. — «Форвертс!
Лейтенант шагнул вперёд.
— Шнеллер! Шнеллер! — торопил я.
Надвигалась ночь. Моя третья ночь на этой земле.
4
До утра я не сделал ни одного привала. Было сравнительно тепло. В лицо ударяла позёмка. Она заметала след.
Очень болела голова. У правого виска, казалось, выросла огромная опухоль, которая никак не хотела уменьшаться под шапкой. Я всё время прикладывал к виску холодный снег.
Впереди маячила прямая спина лейтенанта. Мне нельзя было показывать свою слабость. И едва Риттер замедлял шаги, как я бросал короткое «форвертс».
Он снова уходил вперёд, и надо было напрягать все силы, чтобы догнать его, не дать раствориться в густой вьюжной мгле. Догнав, снова упереть в спину автомат и крикнуть:
— Шнеллер! Шнеллер!
К рассвету я был совершенно измучен, а Риттер по-прежнему шёл ровной походкой человека, привыкшего к большим переходам.
— Стоп! — сказал я, чувствуя, что ещё шаг и замертво упаду в снег. — Хальт!
У меня хватило сил отыскать сравнительно защищённое от ветра место.
Очень хотелось горячего кофе, но я боялся надолго задерживаться. Всё-таки не удержался от соблазна разогреть на спиртовке консервы.
Пока я возился с завтраком, Риттер сидел на снегу, в двух шагах от меня, прямой, с виду спокойный и безучастный. Темные очки скрывали выражение его глаз.
От банки потянул пахнущий мясом парок. Дольше ждать было свыше моих сил. Я перекинул за спину автомат, передвинул ближе к поясу пистолет и незаметно расстегнул кобуру.
— Битте! — сказал я, снимая с огня банку. Мне приходилось мобилизовывать весь багаж школьных познаний в немецком языке. — Эссен!
Я вывалил в котелок полбанки консервов и разделил ещё раз точно пополам. Риттер никак не откликнулся на моё приглашение. Я выложил свою долю на крышку, а котелок и один сухарь поставил возле лейтенанта. Поколебавшись, он взял свою порцию. Мы ели маленькими глотками, не торопясь, как на дипломатическом рауте.
Хотелось сдобрить консервы хорошим глотком спирта, но то, что уцелело в фляге Дигирнеса, надо было сохранить на крайний случай.
После еды боль в голове утихла. Нестерпимо захотелось спать. Я заставил себя подняться.
— Ауфштеен! — сказал я. — Шнеллер!
Риттер, приготовившийся отдохнуть, изумлённо повернулся.
— Форвертс! — сказал я.
5
Ветер дул теперь в спину. Идти стало легче. Но Риттер замедлял шаги. Он никак не хотел уходить далеко от базы, поминутно останавливался, поправлял меховые сапоги, снаряжение.
Мы поднялись на пологий холм. Я узнал место. Здесь нас вчера догнали немцы. Метель успела занести следы саней. Если бы она началась несколькими часами раньше! Знаком я приказал Риттеру свернуть направо.
Тщетно искал я следы могилы Дигирнеса. Снег выровнял всё в спокойное белое полотно. Невольно сжались кулаки. Кто-то должен ответить за гибель «Олафа», за смерть Дигирнеса, за всё, что случилось на этой пустынной земле.
Риттер взглянул мне в лицо и, не дожидаясь приказания, торопливо зашагал на север.
К ночи нас настигла пурга. Пришлось остановиться. Риттер даже помог мне вытоптать яму у подветренной стороны ската холма.
Спиртовку на таком ветру разжигать невозможно. Делю оставшиеся полбанки консервов и выдаю ещё по одному сухарю. На этот раз Риттер сразу принимается за еду. Со стороны поглядеть — просто два друга, застигнутые непогодой, расположились на привал.
Покончив с ужином, устраиваемся на ночлег. Снова начинает зудеть ссадина на голове. Надо бы её перевязать, но сейчас это невозможно. Слева от меня лежит Риттер, справа под рукой автомат.
Стынут ступни. Я вытаскиваю спальный мешок, засовываю туда ноги.
Мороз даёт о себе знать. Риттер ворочается, встаёт, снова ложится. Наконец садится и пытается прикрыть ноги полой меховой куртки.
Я не выдерживаю. Мешок широкий, в нём ещё много места.
— Идите сюда, — говорю я, расправляя мешок. — Коми хир!
Какую-то секунду лейтенант колеблется, но наконец решается. Он даже снимает сапоги.
— Хенде! — приказываю я. — Дайте руки!
Лейтенант насторожённо протягивает руки. Я связываю их у запястья, но не туго, так, чтобы он мог всё-таки двигать ими. Мы вытягиваемся рядом в одном мешке.
Риттер шевелит ногами, устраиваясь поудобней. Потом поворачивает ко мне голову.
— Табак! — говорит он. — Сигарет!
Я достаю сигарету, подношу её прямо ко рту лейтенанта.
— Feuer![5] — просит он.
Протягиваю Риттеру его собственную зажигалку. Закуриваю сам.
Лейтенант затихает. Сквозь сапоги чувствую тепло его ног. В бок больно упирается неудобная треугольная кобура парабеллума. Вынимаю пистолет, потом всё-таки вкладываю его обратно. Так лучше. Пусть мешает. Меньше шансов заснуть. Спать мне нельзя.
Риттер, докурив сигарету, поворачивается на бок. Кажется, он даже пробурчал что-то вроде «доброй ночи». Через минуту слышится его мерное посапывание. Но я не очень доверяю безмятежному сну лейтенанта.
Я жду. Жду полчаса, час. Воет пурга. Снег падает на лицо. Риттер уже похрапывает во сне. Проходит ещё час, и наконец я решаюсь произвести эксперимент.
К храпу лейтенанта присоединяется моё посапывание. Я даже присвистываю «во сне». Проходит минута, другая, третья… Лейтенант по-прежнему храпит. Кажется, он действительно заснул… И вдруг осторожный толчок. Открываю глаза и встречаюсь с темными кругами очков. Риттер продолжает «храпеть». Поймав мой взгляд, он тут же откидывается назад.
Ну что ж, посмотрим, у кого больше выдержки. Главное — не думать о сне. Сейчас, например, мне гораздо больше хочется пить. Ловлю ртом холодные снежинки. Воет пурга. Ветер наметает над нашей ямой сугроб.
6
Сугроб закрыл небо. Сквозь узкую щель пробивается тусклый свет. Воет ветер… Сколько мы лежим в этой снежной яме? День, два, неделю? Мои часы стоят. Наверное, в них попала вода. Я пытаюсь восстановить события.
Была пурга, и тусклый рассвет сменялся густой темнотой ночи. Несколько раз мы ели. К сожалению, слишком мало. Во второй банке консервов вместо мяса оказалось густое желе, вроде мармелада. Осталось только несколько сухарей и конверты с каким-то непонятным, но явно несъедобным веществом.
Мучительно хочется спать. Рядом мирно сопит Риттер. Но теперь я хорошо знаю, что он тоже не спит. Больше я не провожу экспериментов. Последний едва не стоил мне жизни. Несколько раз я притворялся спящим и каждый раз, почувствовав толчок, встречался со взглядом лейтенанта. А тут я не услышал толчка. Просто, закрыв глаза, сразу провалился в тёмную пропасть. Какая-то единственная клетка судорожно сопротивляющегося мозга заставила меня очнуться. Я поймал руки Риттера на кобуре пистолета. У меня в запасе был автомат, и лейтенант отступил.
Он ждёт своего часа. Он не шёл через весь остров пешком, не питался юколой, и у него нет даже царапины на теле. Надо было сразу накрепко связать ему руки. Сейчас, пожалуй, мне это уже не под силу. Я не уверен, что смогу взять вверх. Остается только ждать конца пурги. Кажется, стоит умолкнуть шуму ветра, нескончаемому шороху несущегося по равнине снега — и сейчас же перестанет хотеться спать.
Надо думать о чём-нибудь другом. «Ничья земля», — говорил Дигирнес… Как будто могло остаться что-то ничьим в этом расколотом надвое мире. Даже сюда на север, где нет никакой жизни, пришла война. А всё-таки интересно, зачем забрались на этот пустынный островок немцы? Что они делают на ничьей земле? Единственная эта станция или гитлеровцы высадились где-то ещё? На «Олафе» я слышал немало рассказов о немецких рейдерах, пиратствующих на севере. Среди них были крупные корабли вплоть до линкоров «Тирпиц» и «Адмирал Шеер». Я подумал, что лейтенант Риттер мог бы оказаться бесценной находкой для работников союзной разведки.
Потом я задумался над тем, из-за чего на север шли первооткрыватели. Ведь они не могли рассчитывать найти здесь золото, алмазы и пряности, из-за которых пускались в плавания Колумб и Магеллан. Что же гнало сюда людей? Жажда приключений, романтика? Но много ли романтики в отмороженных ногах и пустом желудке? А разве можно назвать приключением медленную смерть в снежной яме? Так что же? Честолюбие? Поиски славы? Некоторых, наверное, да… Но большинство шло не за этим. Они хотели узнать то, чего ещё никто не зная, и рассказать об этом людям. Вот так же, может быть, через сто лет вырвется самый отважный за пределы нашей планеты…
Рядом шевельнулся Риттер. Я инстинктивно ухватился за пистолет. Лейтенант продолжал посапывать.
Горькая злоба охватила меня. Стоило ценой бесчисленных жертв, изнуряющего труда поколений превращать запуганного природой полузверя в сильного и независимого человека, если первый же залп, прозвучавший по приказу фашиствующего маньяка, отбрасывает его на тысячелетия назад.
Сколько раз люди объявляли войну последней. И каждый раз начинали её вновь. Но уж это-та война обязательно будет последней. Мы не допустим новой. И, должно быть, за то, чтобы уничтожить войну, и идёт сейчас на всей земле этот смертный бой.
Потом я стал думать над тем, какой станет жизнь после войны. Но тут я как-то ничего не мог придумать. Я понимал, что тогда будет очень тепло и никогда не станет сосать под ложечкой от голода. Разве только после долгой хорошей работы. И всегда будет тепло, очень тепло, даже жарко…
Очень жарко… Очень жарко было на той маленькой пыльной площади. Шумел рынок. Он был невелик — всего в два-три ряда, но шумел и играл красками, подобно любому южному базару. Жёлтые ядра дынь канталупок, иссиня-чёрные гроздья «изабеллы», полуметровые огурцы, белые со слезой пласты сулугуни. Мы пробираемся между высокими арбами. В них судорожно бьются живые куры. Мы — это я и Нина. С раннего утра мы лазали по холмам вокруг этого местечка под Сухуми. Как оно называлось? «Транты»? «Драбанты»? Кажется, «Дранды». Смешное танцующее название.
В фанерном духане полумрак и относительная прохлада. Мы садимся за длинный, покрытый клеёнкой стол. На противоположном его конце шумно пьёт вино компания немолодых солидных грузин.
Мы очень голодны, и у нас очень мало денег. В «меню» духана единственное блюдо — огненное чахохбили, в котором мало мяса и много нестерпимо острого соуса. Наших денег хватает только на одну порцию, так как нельзя удержаться от соблазна выпить холодного лёгкого вина. Но на столе стоит свежий чурек, и, если обмакнуть кусочки хлеба в расплавленный огонь соуса, получается великолепное блюдо. Кудрявый красавец в живописно замасленном на животе фартуке ставит перед нами миску чахохбили и бутылку молодого вина.
— Кушай, пожалуйста, — говорит он Нине. — Кушай. Смотри, совсем худой!
Нина смеётся. А я удивляюсь. Я не замечаю, что она действительно ужасающе худа, эта до черноты загоревшая девчонка. Не замечаю ни многострадального облупившегося носа, ни протёртых на коленях спортивных шаровар, ни нелепых баранчиков кос — говоря объективно, они совсем не украшают мою подругу, но она не признаёт никакой другой причёски. Мне просто приятно смотреть, как она смеётся, глотает, обжигаясь, вымоченные в соусе кусочки хлеба, пьёт мутноватое молодое вино. Я подымаю стакан.
— За нас!
Но Нина трясёт головой.
— За всех!
Широким жестом она включает в тост и заботливого красавца грузина, и шумную компанию на противоположном конце стола, и пыльную площадь, и щедрый базар, и ослепительное солнце, и синее море, и весь этот необыкновенный день.
От холодного вина слегка ломит зубы.
На том конце стола голоса становятся громче. Там пьют много и вкусно. Их пятеро. Все средних лет, в шёлковых летних кителях. Перед каждым стоит тяжёлая литровая бутыль. И едва какая-нибудь из них пустеет, как кудрявый красавец тут же заменяет её новой. Пьют с тостами. И пока один, торжественно привстав, говорит, остальные терпеливо слушают его длинную, полную сложных периодов речь.
Не встаёт только один. Он сидит как раз против нас, худощавый, подбористый, с заметной сединой в коротких прямых волосах. Несмотря на жару, он в тёмной, наглухо застёгнутой гимнастёрке. Он пьёт вровень со всеми, опустошая каждый раз стакан до дна, но говорит меньше других. Большинство тостов, кажется, обращены к этому строгому немногословному человеку.
Неслышно в духан вошли музыканты. Они тянулись гуськом за женщиной в чёрном. Музыкантов трое. Непомерных размеров высокий и толстый человек держал скрипку. В его огромных руках она казалась детской «восьмушкой». У двух других — незнакомые мне инструменты. Один напоминает волынку, другой — флейту. Лица музыкантов бледны и неподвижны. Они слепы.
Оркестр негромко заиграл «Сулико».
То ли от мелодии песни, рассказывающей о поисках могилы возлюбленной, — мне говорили, что подлинный текст песни совсем иной, но мы знали лишь популярный русский перевод, — то ли от белых, застывших лиц музыкантов Нина становится серьёзной. Она отставляет стакан. Её взгляд всё чаще падает на человека в гимнастёрке.
— Как ты думаешь — будет война?
Мои мысли настолько далеко, что я даже не сразу понимаю смысл вопроса.
— Когда я утром раскрываю газеты, — тихо говорит Нина, — мне становится жутко.
— Значит, не надо их раскрывать…
Я тянусь к бутылке, Нина задерживает мою руку.
— Когда один человек попадает на улице под машину, вокруг мигом собирается толпа. Люди волнуются, спасают жизнь совершенно незнакомого человека, дают свою кровь, в конце концов судят шофёра…
— Выпьем за безопасность уличного движения! — довольно глупо острю я.
Нина морщится, но не отпускает моей руки.
— Об этом кричат все плакаты на шоссе… А вот о том, что каждый день гибнут тысячи людей, сообщают две равнодушно помещённые рядом сводки на четвёртой странице газеты. И никто не спасает, не судит!
Рука Нины всё ещё держит мою, и, пользуясь случаем, я осторожно сжимаю худые, исцарапанные колючим кустарником пальцы. Сегодня я жду очень важного разговора, совершенно необходимых для меня слов и с беспечностью молодости никак не могу заставить себя думать о событиях на линии Мажино. Она сейчас так же далека от меня, как Млечный Путь.
Но Нина не замечает моего осторожного пожатия.
— Конечно, — говорит она, — если что-нибудь случится, я первая… Но я… я не хочу… Не хочу, чтобы это случилось… С ними, с нами… — Она с неожиданной силой сжимает мне руку. — С тобой!
Я вздрагиваю. Кажется, несмотря на своё идиотское поведение, я всё-таки услышал слова, которых жду уже столько дней.
Нина выдёргивает руку. Даже под загаром её лицо густо темнеет. Надо что-то сказать, но я вдруг теряюсь и не нахожу слов.
Оркестр играет уже лезгинку. Сидящие на противоположном конце стола грузины притопывают ногами, поводят в такт плечами, но танец пока не получается. Сделав несколько безуспешных попыток, они обращаются к седому человеку в гимнастёрке. Он отрицательно качает головой. К его друзьям присоединяются все остальные посетители духана. Красавец буфетчик, покинув стойку, почтительно просит своего клиента. Даже безучастные лица музыкантов оживляются. Мелодия звучит острее. Какой-то подвыпивший старик в углу, надвинув мохнатую шапку, не выдержав, выскакивает вперёд. Его немедленно оттаскивают обратно. Нет, здесь ждут мастера своего дела.
Наконец человек в гимнастёрке подымается. И только тут я замечаю за его спиной, у стены, костыли. Но человек не пользуется ими. Оттолкнувшись руками от стола, он легко выпрыгивает на середину. На одной ноге у него щёгольский мягкий сапог, перехваченный под коленом узким ремешком…
Я невольно отвожу глаза. С детства не могу смотреть на чужое увечье и сейчас не понимаю, что хочет делать этот строгий красивый человек. Неужели он согласен на потеху пьяным показывать жалкую, недостойную его пародию на танец?
В глазах Нины тоже страдание, но она, не отрываясь, следит за танцором. Жестокое женское любопытство.
Ритм музыки убыстряется. Слышу за спиной приветственные возгласы. На лице Нины страдание сменяется недоумением, а потом восхищением. Она совсем забывает обо мне.
Я рискую обернуться. В короткий миг гордость за этого человека вытесняет первоначальное изумление. Он танцует! Не двигается с места и в то же время танцует. Танцуют руки, широкие плечи, седая голова. Тут же забываешь о тяжёлом увечье, настолько ловко, красиво и послушно танцору его сильное тело.
Ему мало этого бешеного ритма, он просит играть ещё быстрей, ещё… Кажется, весь духан несётся в огненном танце. Кто-то роняет перед танцором белоснежный платок. Он должен, не прекращая танца, не помогая себе руками, поднять с земли ртом платок. Это самое виртуозное па лезгинки. Мне бы никогда не суметь его сделать. Как же сможет этот человек…
Но танцор не отступает. Смолкает музыка. Только бешено отбивает дробь бубен в руках громадного скрипача. Это как в цирке во время «смертельного» номера.
Под всё учащающуюся дробь человек, раскинув руки, легко и гибко склоняется к полу. Он похож сейчас на большую летящую птицу… Ещё мгновение — и платок у него в зубах! Таким же лёгким сильным движением человек выпрямляется. Гул торжествующих голосов заглушает оркестр. Друзья окружают танцора. Опершись на их плечи, он занимает место за столом. Со всех концов к нему тянутся стаканы.
Как ни грустно, но глаза Нины, пожалуй, никогда не смотрели на меня с таким восторгом. На противоположном конце стола вновь звучат длинные приветственные речи. Нина сама наливает до краёв наши стаканы. Бутылка слишком тяжела для её руки, и тонкая струйка вина бежит по тёмной клеёнке стола. Мы подымаем стаканы и безмолвно присоединяемся к тосту…
Потом снова играет оркестр. Кружатся в танце пары. Но танцуют они почему-то лихую кадриль. И вообще я оказываюсь не в духане под Сухими, а на откосе речушки Карачан под Воронежем. Летит пыль из-под ног танцоров.
Сквозь толпу протискивается красавец буфетчик в замасленном фартуке. Он протягивает мне миску с дымящимся варевом.
— Кушай, — настойчиво произносит он, — кушай, пожалуйста. Только не спи…
И тут я понимаю, что сплю. Меня охватывает ужас. Ещё не совсем понимаю почему, но твёрдо знаю, что ни в коем случае не должен спать. В следующий миг, ещё не открыв глаз, осознаю, что рядом со мной лежит враг, уже давно, по-волчьи ожидающий этой минуты… Хватаюсь за кобуру. Пистолет на месте. Плечо ощущает жёсткую грань магазина автомата.
Открываю глаза. В нашей пещере светло. Затих ветер. Слева от меня по-прежнему слышится равномерное посапывание. Поворачиваю голову. Риттер лежит лицом ко мне. Из полуоткрытого рта по-детски стекает струйка слюны. Он спит…
Он спит! Он заснул раньше меня!
7
Я разгрёб снег. В глаза ударило солнце. Пурга кончилась. Сильно похолодало. Стояла удивительно прозрачная морозная тишина. Я чувствовал себя отдохнувшим. Риттер всё ещё спал. Интересно, какое будет у лейтенанта лицо, когда он проснётся. Я уже повернулся к нему, но тут раздался какой-то посторонний звук.
Вдалеке стреляли. Донеслась характерная очередь немецкого автомата. Ещё одна…
Я посмотрел на Риттера. Он лежал неподвижно, но я понял, что лейтенант проснулся и тоже напряжённо прислушивается к стрельбе. Я вынул пистолет. Проверил, спущен ли предохранитель. Глядя прямо в тёмные стёкла очков Риттера, сказал, не заботясь, поймёт ли он меня:
— Учтите — я всегда успею выстрелить на секунду раньше.
И снова лёг в яму. Мы лежали так близко, что сквозь комбинезон я чувствовал учащённые удары его сердца. Выстрелы слышались через равные промежутки времени: три одиночных, потом после паузы очередь, потом снова три одиночных и опять очередь.
Выстрелы приближались. Послышался лай собак. Затем неразборчивые голоса людей. И, наконец, скрип полозьев. Автоматная очередь прогремела чуть ли не над нашими головами. Риттер застыл. Я чувствовал, как напряглось всё его тело. В левой руке у меня был наготове автомат. В случае чего у нас получится неплохой последний разговор.
Снова зазвучали выстрелы, но уже чуть дальше. Затих скрип полозьев. Смолкли голоса людей. Потом не стало слышно лая собак. Тело Риттера обмякло.
Где-то вдалеке последний раз прострочил автомат. Я отодвинулся от лейтенанта, с трудом разжал пальцы, вцепившиеся а рукоятку пистолета. Расстегнул комбинезон. По спине ползли капли пота. Выждав немного, я осторожно поднялся. По снежной равнине уходил на юго-запад отчётливый след саней.
Весь остаток дня и ночь мы шли на север. Риттер шагал впереди, насторожённо прислушиваясь к каждому звуку, но выстрелы больше не доносились.
Судя по карте, мы были недалеко от узкого пролива, отделявшего наш остров от крохотного скалистого островка на севере. Я ещё не знал, как мы сумеем перебраться туда, но другого пути не было.
Идти было трудно. Ноги проваливались в высокий, наметенный пургой снег. В эту ночь я впервые понял, что такое настоящий арктический мороз. Риттер то и дело тёр щёки и нос, а я, как ни берёгся, вскоре обнаружил, что левая щека онемела.
В небе висела луна в три четверти, и наши длинные голубоватые тени медленно ползли по снежной целине. Я не думал, что Риттер решится бежать при такой видимости, и всё-таки он бросился в сторону, улучив момент, когда я барахтался в глубоком сугробе. Наверное, считал, что не посмею стрелять в звонкой ночной тишине. Но я выстрелил. Выстрелил без предупреждения. После второй короткой очереди Риттер остановился. К счастью, автомат не отказал на морозе. Потом я его нёс на всякий случай на груди под комбинезоном.
К рассвету мы добрались до пролива. Даже удивительно, как удалось в эти дни так точно сохранить направление. Метрах в восьмистах действительно виднелся горб островка. Пролив был забит крупным колотым льдом. Снова поднимался ветер. Он гнал льдины на восток. Я поймал беспокойный взгляд Риттера. Он мучительно пытался угадать, что я собираюсь делать дальше. Мы сидели рядом у самой воды. Сейчас можно было не опасаться лейтенанта: мы оба слишком устали для борьбы.
Я разжёг спиртовку, растопил в котелке снег и заварил остатки кофе. Потом тщательно вытряс из мешка все сухарные крошки. Их набралось с пригоршню. Аккуратно разделил их и всыпал половину в кружку Риттера. Остальное просто слизнул с ладони. Лейтенант был в замешательстве — видно, никак не мог отыскать объяснения моим поступкам. Но я просто хотел сейчас быть особенно справедливым.
Покончив с «завтраком», мы немного полежали на снегу. Ветер становился всё сильнее. Надо было спешить. Я поднялся.
— Форвертс!
Я выразительно указал на островок за проливом. Риттер отшатнулся. Он вцепился руками в снег. Он ни за что не хотел уходить с большого острова.
— Шнеллер!
Стиснув зубы, Риттер покачал головой. Нет, он не сделает ни шагу.
У меня не было выбора. Я не мог оставить его здесь живым. Я поднял автомат. Сняв рукавицу, положил палец на спусковой крючок.
Риттер вскочил, как подброшенный пружиной. Он шагнул вперёд и первым прыгнул на лёд.
8
Мы лежали на камнях по ту сторону пролива, совершенно обессиленные. Мокрый комбинезон пластырем облепил тело. Перед самым островком Риттер, поскользнувшись, упал в воду. Я прыгнул за ним. Почему? Что толкнуло меня на это? Почему, увидев тонущего человека, я, не раздумывая, бросился на помощь?
Но сейчас некогда размышлять об этом. На ветру мокрая одежда быстро покрывается тонким ледком.
Островок перерезает горбатая каменистая гряда. На её гребне пронизывающий ветер. Риттер дрожит всем телом. Меня тоже бьёт озноб.
С вершины гряды видно тёмное пятно в бухточке на северной оконечности островка. Кажется, я угадываю очертания небольшого строения. Риттер, зябко кутаясь в промокшую куртку, смотрит назад, туда, где за снежной пеленой остались его друзья, хлеб, тепло.
Тёмное пятно скрывается из виду, едва мы спускаемся на равнину. Но, пройдя ещё шагов пятьсот, я замечаю, что впереди торчит шест. Здесь не могли расти деревья. Значит, этот шест кто-нибудь поставил. Скоро можно уже различить обрывок тряпки на его вершине.
Риттер тоже посматривает на шест. На его лице заметно беспокойство. Пожалуй, появление этого ориентира неожиданно и для него. А может быть, немцы просто никогда не заглядывали на этот островок?
Я изготавливаю автомат и прибавляю шаг.
Через несколько минут за шестом показалась труба, затем плоская крыша в один скат и, наконец, весь дом. Это настоящий бревенчатый дом, напоминающий охотничьи зимовья Сибири. Его ещё не успело занести снегом. Он необитаем. Узкие окна заколочены досками. Плотно закрытая дверь примерно на треть завалена снегом. К ней «на счастье» прибита подкова.
9
Это кажется сном. Я сижу раздетый у раскалённой чугунной печки. Рядом сушатся мой комбинезон и куртка Риттера. Жарко, но я всё ещё дрожу от озноба. На полу зимовья слой льда, нетолстый, его нетрудно будет убрать. Налево — чугунная печка, возле неё ящик с заботливо приготовленными мелко напиленными дровами, направо грубо сколоченный стол, прямо против дверей широкие нары. На них сложены продукты. Банки консервированного мяса, рыбы, сгущённого молока, кофе, ящики белоснежных галет. Всё это в идеальном порядке, тщательно укрытое брезентом. Да, прав был Дигирнес: первый закон севера — позаботиться о том, кто может прийти вслед за тобой.
За стеной возится Риттер. Я запер его в небольшой чулан при входе.
Руки невольно дрожали, когда я открывал взятые наугад консервные банки. В одной оказалась свинина, в другой — копченые селёдки, в третьей — паштет. И всё свежее, как будто только из магазина. Спасибо, неизвестные друзья! Чтобы всегда была вам удача! В доме нет никакой записки, только обрывки газет на незнакомом мне скандинавском языке. Вероятно, здесь зимовали охотники за морским зверем.
Я сварил суп из жирной консервированной свинины, заправил его сушёным картофелем. Затемнив окно, зажёг лампу. В ней ещё булькал керосин. Чёрт возьми, как будто даже не было кошмара прошедшей недели!
Я накрыл фантастический ужин. Этот день надо было отметить. Во фляжке капитана Дигирнеса ещё оставалось несколько глотков спирта. Нет, честное слово, совсем не так плохо было жить на земле.
Я вынул из автомата магазин, расстегнул кобуру от пистолета и выпустил из чулана Риттера. Он вошёл, зябко потирая руки. Молча сел за стол. Отсветы пламени от печки вспыхивали на тёмных стёклах его очков. Сейчас, без меховой куртки, в толстом свитере, он казался постаревшим и очень уставшим. Я разлил по кружкам остатки спирта. Пусть Риттер тоже выпьёт, чёрт с ним. Острый запах распространился по комнате. От него, а может быть, от жирного супа слегка кружилась голова. Риттер отодвинул кружку, даже не пригубив, и принялся за еду. Ну а я всё равно выпью сейчас за спасение, жизнь, тепло и за тех славных ребят, что позаботились о нас, даже не подозревая о нашем существовании.
Сразу перестало знобить. Я закусил копчёной селёдкой, потом навалился на суп и, наконец, отдал должное паштету. Говорят, после долгого голодания нельзя много есть, но сейчас было невозможно соблюдать благоразумную диету. Еда в первый момент опьянила. Захотелось громко разговаривать, шутить. Но передо мной маячило угрюмое лицо Риттера, хмуро доканчивающего ужин. Ел он тоже много, но к спирту так и не притронулся. Мне мучительно хотелось выпить спирт, оставшийся в его кружке, но я понимал, что этого делать нельзя.
Потом стало клонить в сон. Впрочем, «клонить» — это мягко сказано. Меня просто опрокидывало в тёмную беззвучную пропасть. Я уже хотел отправить Риттера снова в чулан, но напоследок решил выпить ещё кофе. Кутить так кутить.
Уже несколько раз моё внимание привлекал небольшой металлический ящик, задвинутый в угол. Занятый приготовлением ужина, я не успел его рассмотреть. Кофе оказался слишком горячим, и, отставив дымящуюся кружку, я шагнул в угол. В следующий момент я уже забыл и о кофе, и о сне, и даже о Риттере, оставшемся за столом.
Ящик оказался радиоприёмником. За ним лежали тяжёлые параллелепипеды батарей. Они были сухие. Кислота ещё не успела разъесть цинковых оболочек. Очевидно, люди покинули этот дом совсем недавно.
Теперь я понял, для чего был поставлен высокий шест перед домом — он служил антенной. Вверху, под стрехой потолка, змеился обрывок провода.
Ещё не веря в возможность такого счастья, я вытащил на свет приёмник и подсоединил его к батареям и антенне. Риттер по-прежнему безучастно сидел за столом, обхватив голову руками. Кажется, он дремал.
Осторожно, как будто от этого зависел успех моей попытки, я повернул рукоятку настройки.
Раздался щелчок… На шкале вспыхнул тусклый зеленоватый глазок. Приёмник жил!
Глазок разгорался медленно. Батареи, вероятно, здорово сёли. Но мало-помалу сквозь неясные шумы стала пробиваться музыка. Играли мягкое ленивое танго, такое нелепое в этой обстановке. Потом послышалась человеческая речь. Постепенно мне удалось усилить звук. Мужской голос быстро и темпераментно говорил по-немецки. Сначала я не мог ничего разобрать, но потом два часто повторяющихся слова заставили меня напрячь всё внимание. Первое из них было «Сталинград» и второе «Волга». Диктор настолько смягчал согласные, что я не сразу разобрал название реки. Два слова сталкивались, повторялись, чуть истеричный голос оратора звучал торжественно. Я мучительно пытался уловить смысл его быстрой, захлёбывающейся речи.
И вдруг я услышал смех. Это смеялся Риттер хриплым, простуженным голосом. Он смеялся всё громче и громче. У меня мелькнула мысль — не сошёл ли лейтенант с ума. Он снял очки. У него оказались самые обыкновенные серые глаза. В них не было безумия. Риттер просто от души смеялся. Он вытер выступившие слёзы, оборвал смех и выпрямился. Я невольно положил руку на кобуру. Риттер опять засмеялся.
— Слушайте, слушайте, «товарищ» Колчин! Ваш воинственный вид сейчас просто смешон.
Это была галлюцинация. С ума сошёл не Риттер, а я. Мне показалось, что он произнёс эти слова по-русски!
— Видите, как полезно знать иностранные языки, — сказал лейтенант, наслаждаясь моей растерянностью.
Нет, я не ослышался. Риттер в самом деле говорил по-русски.
— Могу вам перевести это любопытное сообщение, — он говорил свободно, с чуть заметным акцентом. — Имперские войска севернее Сталинграда сегодня вышли к Волге! Насколько я помню, со времён татарского ига никто из врагов России не поил своих коней из Волги-матушки… А сейчас наши танкисты заливают её воду в радиаторы машин! Стоит ли теперь вам хвататься за пистолет?
Наверное, ему всё-таки здорово надоело играть в молчанку все эти дни, если он сразу произнёс такую длинную речь. Но я был так потрясён сообщением, что даже не обратил внимания на эту психологическую подробность.
Риттер стоял, возвышаясь над столом. Он даже стал как будто выше ростом, шире в плечах. По-прежнему усмехаясь, лейтенант поднял свою кружку со спиртом.
— За Сталинград! Будьте здоровы!
Я шагнул вперёд и выбил из его рук кружку. Спирт растёкся по влажному полу. С лица Риттера исчезла усмешка. Он весь напрягся. Сейчас я хотел, чтобы лейтенант бросился на меня. Но, помедлив мгновение, он решил не рисковать и сделал шаг назад. Я оттеснил Риттера в чулан. Захлопнув дверь, накинул щеколду. И тут же почувствовал безмерную усталость.
Я добрался до нар и лёг. Приёмник продолжал работать. Теперь доносился воинственный марш. Мне стоило большого труда заставить себя встать и выключить радио.
Глава третья
1
«Бац!.. Бац!.. Бац!..» — грохотало где-то рядом. Удары были настойчивые, требовательные. Я открыл глаза. Было совсем светло. Стучал Риттер, требуя, чтобы я его выпустил из чулана. У него явно менялся характер.
Я не спеша поднялся. Растопил печку. Принёс котелок снега, поставил его на плиту. Потом отхватил финским ножом широкий лоскут от своей нижней рубахи. Когда вода закипела, тщательно выстирал лоскут и повесил сушиться у плиты.
Осторожно попытался снять повязку с головы. Бинт присох к ране. Пришлось размочить его тёплой водой и постепенно отодрать. Рана оказалась небольшой, но, кажется, довольно глубокой. Крови было немного. Я наточил на бруске нож и перед осколком зеркальца, как сумел, обрезал волосы вокруг ссадины. Это была не очень приятная операция. Потом протёр рану последними каплями спирта, оставшимися во фляжке Дигирнеса. Спирта было маловато. Вчерашний кутёж дал себя знать. Всё-таки мне удалось очистить запёкшуюся кровь. Я плотно замотал голову чистым лоскутом.
«Бац! Бац! Бац!» — грохотал в стену Риттер.
Вскипел кофе. Я открыл консервы, плотно позавтракал тушенкой и паштетом. Первый раз за последние дни я поел спокойно, не ожидая каждую секунду, что мой сосед сейчас бросится на меня. Сегодня я был уже способен разумно ограничить себя в еде. После крепкого сна и перевязки я чувствовал себя намного лучше. Ещё два-три дня такой жизни, и силы должны полностью восстановиться. Два-три дня… А что будет потом?
Риттер грозил разнести дверь чулана. Я допил кофе и выпустил пленника. Лейтенант вышел мрачный, с поджатыми губами. Не глядя на меня, стал готовить себе завтрак.
На столе лежала пачка сигарет. Риттер взял одну, там осталось ещё две. Я спрятал пачку в карман и стал убирать со стола, Риттер, присев к печке, закуривал сигарету.
— Дайте мне нож, — вдруг сказал он.
В руках у меня была финка Дигирнеса.
— Я привык бриться каждый день, — продолжал Риттер, — а мой бритвенный прибор остался на базе.
Он говорил между прочим, ловя пальцами раскалённый уголек, но я чувствовал напряжение в его прямой, негнущейся спине. Он никак не мог поверить, что наши отношения не изменились со вчерашнего вечера. Я же думал о другом. Неизвестно, сколько нам ещё придётся пробыть вместе. Риттер должен твёрдо усвоить, что я сильнее его. Пусть знает, что я уверен в своём превосходстве.
Сигарета разгорелась. Риттер выпрямился. Я вытер обрывком газеты нож и протянул лейтенанту. Он небрежно бросил его на стол и принялся за консервы. Я смотрел, как он ловко выуживает из банки кусочки разогретого мяса, аккуратно подхватывает галетой стекающий жир. Меня он просто не замечал. Чтобы не поддаться искушению стукнуть его прикладом автомата по голове, я ушёл. Дверь в комнату я заложил засовом снаружи.
2
Зимовье стояло на высоком откосе. Внизу лежало море. Погода была тихая и тёплая. Мимо островка медленно передвигались огромные плиты льда, гонимые отливным течением. Горизонт был чист, и, насколько видел глаз, на север тянулись льды, разводья, льды.
Я долго стоял на откосе. Где-то за тридевять земель, у Волги, сейчас сражались мои друзья. Они погибали в открытом бою, задерживая врага на день, час, минуту… А я? Что теперь буду делать я? Сидеть здесь, на островке, сторожить каждый шаг этого долговязого лейтенанта, пока сюда не доберутся немцы? Если только Риттер не перегрызёт мне до той поры горло или я не пущу в него пулю…
Даже, предположим, мне удастся вытрясти из него сведения о таинственных станциях на ничьей земле, кому я сообщу их? Они всё равно погибнут вместе со мной. Теперь я уже кое-что знал о севере и понимал, что просто так, налегке, не пройти и пятидесяти километров по льду и разводьям. Как я мог так легко расстаться с собачьей упряжкой, санями!
Из домика доносилось повизгивание ножа о точильный брусок. Кажется, Риттер всерьёз собирался бриться. Я обошёл вокруг строения. В стороне темнела под снегом куча мусора. Валялись пустые, банки из-под консервов, осколки посуды, кости морских животных, обломки разбитых нарт. Надо было возвращаться в дом.
У входа я заметил маленькую пристройку, на которую не обратил внимания раньше. Проржавевшие петли замка легко вышли из гнёзд. Я вгляделся в полумрак сарайчика. У стены стояли поломанные нарты и, видимо брошенная за ненадобностью, лёгкая, обтянутая шкурой какого-то морского зверя лодка. Не веря такой удаче, я вытащил нарты на свет. Им здорово досталось в переходах, но в моём положении не приходилось привередничать. Потом внимательно осмотрел лодку. Она тоже была потрёпана, борта кое-где потёрлись, но всё-таки это была лодка!
3
В доме было тепло. На полу стояли лужицы оттаявшего льда. Тускло светился зелёный глазок приёмника. Сквозь шум помех снова пробивался металлический ритм военного марша. Риттер сидел на нарах в одном шерстяном белье. У него было красное, как будто натёртое наждаком лицо. Возле плиты сушился выстиранный свитер. Ножом Риттер тщательно разглаживал просушенные листки писем. Они, видно, намокли вчера во время переправы через пролив.
Я выключил приёмник. Риттер, подняв глаза, слегка усмехнулся.
— Я боялся пропустить сообщение о капитуляции.
Я не ответил. Скинул с плеча автомат. Вынув магазин, сунул его в карман куртки. Разряженный автомат бросил на нары. Риттер посторонился. Он разгладил последний листок, аккуратно сложил его и спрятал в бумажник.
— Нож! — потребовал я.
Риттер помедлил. Нас разделял широкий стол. Кобура парабеллума на моём поясе была расстёгнута. Я ждал. Щёлкнула пружина. Лейтенант протянул финку. Но он хотел отступить с почётом.
— Вы спасли мне вчера жизнь, — сказал он. — Можете быть уверены, я этого не забуду.
Пожалуй, действительно я не зря вчера вытащил Риттера из воды. Теперь, когда появилась надежда на спасение, я знал, что с ним делать.
Лейтенант перестал быть для меня тяжёлой и опасной обузой. Он теперь бесценный «язык». Он пойдёт со мной, пойдёт через льды и разводья, пойдёт на север, пока я не сдам его первому патрулю союзников. Там он расскажет о том, что делают гитлеровцы на ничьей земле. Я должен довести его живым. Может быть, это хоть как-нибудь поможет тем, кто погибает сейчас на крутых, сбегающих к реке улицах города у Волги.
4
Два дня я возился возле сарая с лодкой и санями. Работал до темноты, делая только короткие перерывы для еды.
Риттер каждый раз встречал меня насторожённым взглядом, но сам ни о чём не спрашивал, а я не собирался раньше времени посвящать его в свои планы. Я решил починить нарты и поставить на них лодку. В лодку можно погрузить консервы и галеты. Грубо прикинул её объём и «водоизмещение». Лодка должна была выдержать нас обоих вместе с грузом и нартами.
Чтобы заменить изломанные части нарт и починить вёсла, я оторвал несколько досок от стола, самых крепких и свежих.
Я спешил. С островка надо было уходить как можно скорее. Я очень соскучился по простой человеческой работе, и дело у меня спорилось.
На третий день всё было готово. Из куска брезента я вырезал широкие лямки, концы оплёл канатом и закрепил у передних стоек нарт с той и другой стороны. Одну лямку я сделал немного короче другой.
Уже в сумерках я нагрузил лодку. Я решил, что мы будем проходить в день около пятнадцати километров. Пусть даже десять. Через месяц мы достигнем Шпицбергена.
Я взял консервы из расчёта по полторы банки в день на человека, два ящика галет, немного гороха, сушёного картофеля и луку. Три банки кофе. Несколько банок сгущённого молока. Страх перед голодом требовал взять с собой как можно больше еды, но я понимал, что с таким спутником, как Риттер, и тяжело гружёными санями не сделаю и двух переходов по застругам льда и снежным сугробам. Кроме того, я надеялся на охоту. Возле берега на льду не раз показывались круглые головы тюленей, но пока я боялся стрелять. Я привёл в порядок поржавевший примус и взял весь запас керосина — всего литров двадцать.
Нагрузив сани, попробовал сдвинуть их с места. После некоторого сопротивления нарты тронулись. По утоптанному снегу везти их было нетрудно. Я надел одну лямку, потом другую. Левая оказалась тесноватой и врезалась в плечо. Я ослабил канат. Теперь всё было хорошо.
5
Когда я вернулся в дом, Риттер взволнованно шагал из угла в угол. Снова грохотал военный оркестр. Я несколько раз пытался поймать советскую радиостанцию или станцию союзников, но немецкие передатчики на севере Норвегии их глушили.
На столе стояла пустая миска. Риттер уже поужинал.
Я поставил на плиту консервы. От мечущейся фигуры Риттера рябило в глазах, барабанная музыка раздражала. Я потянулся к приёмнику.
— Погодите! — метнулся Риттер. — Сейчас будут повторять важнейшее сообщение!
Я устал, и меня не очень интересовали сообщения немецкого радио.
— Это в равной мере касается нас обоих, — быстро сказал лейтенант. Для иностранца он удивительно хорошо говорил по-русски. — Вам тоже будет интересно послушать.
Пожав плечами, я принялся за консервы. Риттер был очень возбуждён.
— У вас есть ещё спирт? — вдруг спросил он.
— Нет.
— Жаль. Сегодня я бы охотно выпил… Восточного фронта больше не существует!
Я невольно поперхнулся.
— Вам придётся проглотить эту новость, — усмехнулся Риттер. — Русский колосс рухнул!
Марш оборвался. Заговорил диктор. Батареи садились. Голос диктора захрипел. Риттер бросился к приёмнику, повернул регулятор громкости до отказа.
Объявление диктора повторилось дважды. Потом заговорил другой голос. Округлый, уверенный баритон, без истерического надрыва.
— «Дорогие соотечественники! — торопливо переводил Риттер. — Люди новой Европы… Наступил день торжества великой Германии…»
Он продолжал говорить, а я ничего не слышал. Комната, голос немца, торопливый перевод Риттера — всё отошло куда-то далеко-далеко. Казалось, я смотрю какой-то странный малопонятный спектакль. Я сидел за столом, слушал радио, ел консервы, но происходило это всё не со мной, а с кем-то другим.
Голос оратора становился всё тише и тише — безнадёжно садились батареи. Наконец он затих совсем. Замолк и Риттер. Я скрёб ножом по дну пустой консервной банки.
— Перестаньте! — раздражённо бросил Риттер.
Я оставил банку. Налил себе кофе. В кружке плавала соринка, я старательно выловил её. Кофе был слишком горяч. Я подождал, пока он остынет. Риттер возбуждённо шагал по комнате. Я начал осторожно прихлёбывать кофе. Я делал всё обстоятельно, не торопясь. Это отдаляло случившееся.
Наконец Риттер остановился.
— Ложитесь спать! — приказал он. — Завтра рано утром мы выходим.
Я молчал.
— Поняли? — сказал Риттер.
Лейтенант, широко расставив ноги, стоял передо мной. Он считал мою игру проигранной. Я допил кофе. Он уже не казался слишком горячим.
— Вы правы, Риттер, — сказал я. — Давайте спать.
Я встал из-за стола, расстегнул пояс с пистолетом и опустился на нары. Риттер помедлил. Он решал задачу — выгнать меня из комнаты или переспать последнюю ночь в чулане. В конце концов он решил отправиться в чулан. Это было его счастье. Сейчас я не стал бы спорить. Я бы просто прострелил ему голову.
6
Я не спал всю ночь. За перегородкой долго ворочался Риттер. Видно, ему тоже не спалось. Наконец он затих.
Я лежал без сна. Я не мог представить себе свастики на улицах Москвы. И вдруг в памяти всплыло полузабытое воспоминание. Это было неожиданно, как удар из-за угла. До мельчайших подробностей вспомнился тот день…
Весеннее утро. Играет оркестр. Он идёт за нами неотступно, переливаясь из одного уличного репродуктора в другой.
Над прохладным, влажным асфальтом свисают флаги. Улочки пусты. Во дворах не играют дети. Все там, где идут танки, гремит водоворот демонстрации. Мы с Ниной тоже торопимся туда. Мы безбожно опаздываем и теперь пробираемся по переулкам к улице Горького. Во всём виноват мой закадычный друг Данька Сазонов. Мы договорились встретиться утром у Кудринской и вместе идти на сборный пункт нашего института. Мы прождали Даньку больше часа. Он так и не пришёл.
Проклиная Даньку, обходя проходными дворами кордоны милиции, мы пробираемся к центру. Ещё, может быть, удастся перехватить колонну института где-нибудь между Триумфальной и зданием Моссовета.
Впереди очередной заслон. Мы сворачиваем во двор, пробираемся между покосившимися сараями, перелезаем через кирпичную стену брандмауэра и оказывается на соседней улице. Здесь опять тихо, прохладно и по-праздничному чисто и свежо.
— Жалкий и недостойный человек… — бормочет Нина, стряхивая кирпичную пыль со светлой юбки.
Это она о Даньке.
— Может быть, что-нибудь случилось, — пытаюсь защитить я друга.
— Безусловно. Внезапно заболел коклюшем. Ну, пусть он только попадётся мне сегодня!
— Брось. Наверное, ему достали пропуск на трибуну.
— Ну вот. Ты всегда его оправдываешь.
Это верно. Я очень любил отца Даньки, стройного человека со строгим пробором в седых коротких волосах, в пенсне на тонкой переносице. Он был похож на кабинетного учёного, но на петлицах его гимнастёрки краснели ромбы, а над клапаном левого кармана два ордена Красного Знамени. С Данькой мы учились ещё в школе. Сазонов-старший часто приходил к нам на сборы — в будёновке, длинной кавалерийской шинели с разрезом до поясницы. Раскрыв рты, мы слушали его рассказы о Котовском, с которым вместе Сазонов воевал в гражданскую.
Потом, когда мы уже учились в институте, он уехал в длительную командировку. Под страшным секретом Данька сказал мне, что отец в Испании. В те дни у каждого из нас на стене висела карта Пиренейского полуострова. Как мы завидовали тогда человеку, сражавшемуся под Уэской! Мы боялись, что нас минует война.
Однажды Данька не пришёл в институт. Телефон у него дома не отвечал. Поздно вечером он сам отыскал меня в общежитии. Всю ночь мы просидели без сна на моей койке. Накануне из Испании пришло известие о гибели комдива Сазонова. Там он почему-то носил сербскую фамилию. Генерал Грошич…
Я не могу сердиться на Даньку. Пусть стоит на трибунах. Зато он не идёт сейчас рядом с Ниной по этому пустынному переулку, не держит её за руку, не слышит этой праздничной тишины, которую только подчёркивает далёкий оркестр. Я крепче сжимаю пальцы Нины, она отвечает на моё пожатие. Мы идём по осенённому алыми флагами узкому переулку и вдруг…
Это как удар по голове. Мы замираем. На длинном флагштоке, свесившись едва ли не до середины мостовой, улицу перегораживает огромный чужой стяг. Тёмно-красное кровавое поле, белый круг в середине, и в нём распластавшийся паучий крест.
Мы переводим взгляд. Флаг свисает с сумрачной стены серого особняка. Закрыты жалюзи. В окнах ни души. У подъезда два милиционера в белых перчатках и сверкающих сапогах. Мёдная табличка: «Deutshe Botschaft».[6]
У тротуара чёрная закрытая машина с обвисшим флажком на радиаторе. Притихшие, проходим мы мимо особняка. Открылась массивная дверь. Пахнуло холодом. Милиционеры, вытянувшись, взяли под козырёк. Вышел высокий военный в серо-зелёной форме. С ним молодая женщина. Они сели в машину.
Машина сразу тронулась. Упруго натянулся на ветру флажок со свастикой. За ветровым стеклом, в правом углу белеет картонный прямоугольник с красной полосой. Надпись: «Проезд всюду».
Мы медленно идём по переулку. Молчим. Логически всё понятно. У нас договор. Они вынуждены приветствовать нас, мы — их.
— Знаешь, — говорит Нина, — свастика встречается ещё у древних индийцев и на античных греческих вазах…
У неё потрясающая способность знать тысячу никому не нужных вещей. Обычно это меня восхищает. Но не сейчас.
— Идём! — грубо говорю я. — Так мы и к концу демонстрации не успеем!
Нина вскидывает глаза, но не обижается. Мы спешим навстречу рвущимся в переулок звукам оркестра.
Под аркой нового дома мы выходим на улицу Горького. И здесь мгновенно забывается встреча в переулке. Сплошной, нескончаемый, во всю ширину недавно раздвинутой магистрали людской поток. Перебивающий друг друга рёв оркестров, лихой баян, гулкие удары здоровенных ладоней в кругу играющих в «жучка».
— Сашка! — отчаянно кричит кто-то. — Сашка! Колчин!
— Ни-и-нка-а! — визжит девичий голос.
Это наши. Это наш институт. Это свои!
Прорвав оцепление, мы врываемся в колонну. Нину окружают девчата.
— Чур, на новенького! — кричу я, подбегая к играющим в «жучка». — Чур, на новенького!
Меня пропускают в круг. Я прикрываю глаза, и чья-то дружеская рука, не жалея сил, бьёт в мою подставленную ладонь. Рядом хохочут девчата. Слышу смех Нины…
Я вскакиваю. Нет, не может быть. Это лишь чёрная тень, омрачившая нашу жизнь. Там свои. Там друзья. Они не допустят свастику на улицы Москвы. Я должен быть с ними. Больше не могу оставаться здесь. Один, на этой чужой холодной земле…
7
Ещё затемно я растопил плиту. Я старался не делать этого днём — дым могли заметить с большого острова. Сварил густой кулеш из мясных консервов и овсяного концентрата, открыл паштет и рыбные консервы. Надо было хорошо позавтракать. Разбудил Риттера. Теперь его состояние небезразлично мне. Риттер должен сохранить силы до конца пути.
Лейтенант не без удивления оглядел накрытый стол. Но завтраку отдал должное. Вероятно, решил, что это начало моей капитуляции.
После завтрака мы вышли наружу. Я подвёл Риттера к нагружённым саням. Надел через плечо лямку. Другую протянул лейтенанту.
— Попробуйте, будет ли удобно.
— Зачем это?
— Продукты на дорогу.
— Нам достаточно взять несколько банок консервов и по десятку галет. Всего на два-три дня.
— Не думаю, — сказал я. — Не думаю, чтобы за три дня мы прошли двести километров.
— Сколько?
— Двести.
Риттер, наверное, решил, что я спятил.
— Хватит болтать! — Он отбросил лямку. — Мне надоел этот балаган. Чтобы через десять минут вы были готовы.
Он пошёл к дому. У него снова была прямая чёткая спина. Он шёл к дому не оборачиваясь, подставив мне спину.
— Стойте! — сказал я. — Мне нужно вам кое-что объяснить.
Риттер неохотно повиновался. Я вынул карту Дигирнеса. Уже рассвело, и можно было рассмотреть её без огня.
— Вот, — сказал я, — смотрите: мы здесь.
Риттер досадливо кивнул. Он лучше меня представлял, где мы находимся.
— Погодите, — терпеливо продолжал я. — А вот здесь, — я указал на островок к северу, — советская полярная станция. Как раз двести километров.
Риттер отшатнулся.
— Но эта программа-минимум, — сказал я. — Я надеюсь, что мы доберёмся до Шпицбергена.
— Вы сошли с ума! — не сразу произнёс Риттер. Я уже успел спрятать карту. — Неужели вы не понимаете, что всё кончено?
Я молчал, старательно прилаживая лямки. Лейтенант пожал плечами.
— Поймите, — он старался говорить как можно спокойней и убедительней, — через месяц с Англией будет покончено. Двести дивизий с Восточного фронта обрушатся теперь на запад. На Шпицбергене вас встретят германские корабли.
— Приятная перспектива, — сказал я. — Но я поверю, только увидев эти корабли собственными глазами.
Риттер даже снял очки, чтобы разглядеть меня как следует. Он смотрел так, будто только что повстречался со мной.
— Сколько вы на севере? — спросил он после паузы.
— Две недели.
— А я пятнадцать лет. То, что вы задумали, безумие. Вы не пройдёте и двадцати миль.
Это нетрудно проверить, — сказал я. — Надевайте лямку.
— Это самоубийство! — закричал Риттер. Таким я его ещё ни разу не видел. — Я никуда отсюда не пойду!
— Хорошо. — Я тоже обозлился. — Я уйду один. Но уж вы тогда действительно получите постоянную прописку на этом холме.
Не знаю, понял ли Риттер, что такое прописка, но он затих.
— Вы безумный фанатик-коммунист! — тихо произнёс он.
Я был беспартийный, но не стал объяснять это Риттеру. Сказал только:
— Даю вам ещё десять минут.
Риттер замолчал.
— Хорошо, — произнёс он наконец. — Я только возьму свой бумажник.
Он медленно побрёл к дому. Теперь у него была ссутулившаяся жалкая спина.
Риттер долго не выходил Я уже направился к дому, когда лейтенант наконец показался. В руке у него было несколько гвоздей.
— Где топор? — спросил он. — Или молоток?
Я кивнул на сани. Риттер, приподняв брезент, вынул топор. Я на всякий случай приспустил автомат.
— В чём дело?
— Надо заколотить дверь. Этот дом ещё может пригодиться другим.
Дверь закрывалась неплотно. Риттер разгрёб ногой снег. Пристукнул по двери топором. Не торопясь, стал забивать гвозди: два вверху, три сбоку, два внизу… Он явно не спешил. Я бесился, но ничего не мог поделать. Риттер был прав.
По заранее выбранной ложбине мы спустились к ледяному припаю.
Риттер шагал слева от меня и чуть впереди. Я сделал наши лямки разной длины, как в собачьей упряжке. Риттеру я отдал более длинную. У меня было всегда в запасе полшага.
Прошло около получаса. Нарты становились всё тяжелей. Лямка врезалась в грудь. Я остановился. Прикрыв рукавицей глаза от света, я смотрел на почти не приблизившуюся полосу торосов на горизонте. Риттер отёр с лица рукавом пот. Поглядел назад, на островок. И тут же отвернулся. Я тоже посмотрел назад.
— Пошли? — глухо спросил лейтенант и потянул вперёд.
Я ещё раз вгляделся в оставленный берег. Над крышей дома подымался как будто лёгкий туман. В следующее мгновение я понял — это был дым…
8
— Открывай дверь! — задыхаясь, крикнул я. — Открывай, гад!
Мы проделали обратный путь в пятнадцать минут. Сани остались внизу. Под дулом автомата Риттер бежал всю дорогу впереди меня. Из забитого накрест досками окошечка слабо вырывалось пламя.
Риттер взломал дверь. В лицо ударил плотный дым. Я вытащил из сарая брезент.
В комнате огонь полз от печки к стене. Горели стол, нары. К счастью, отсыревшие доски загорались медленно. Я набросил брезент на печку и выскочил на улицу. Отдышавшись, вошёл снова. Ящики с консервами стояли нетронутые. Обгорел только один, с галетами. С помощью Риттера я вытащил дымящиеся остатки стола. Лейтенант старательно помогал мне. Риттер повиновался. Он проиграл. Это был последний шанс дать сигнал своим, на большой остров.
Я заставил Риттера снова привести в порядок разбитую дверь. Дом действительно мог ещё кому-нибудь пригодиться.
Потом мы ушли.
Глава четвёртая
1
Я просыпаюсь в темноте. Рядом тяжело дышит Риттер. Теперь я точно знаю, когда он засыпает по-настоящему, и сразу, по-звериному, просыпаюсь при самом лёгком движении соседа. Ещё совсем темно. После вчерашнего перехода болят ноги, голова тяжёлая, словно свинцом налита. Но надо вставать. Я должен успеть собраться в путь до света.
Днём в небе висит не по-осеннему яркое солнце. Снег слепит глаза. Беспрерывно текут слёзы. Кажется, что в глазах по горсти острого перца. За ночь боль успокаивается, но днём начинается снова. Вокруг всё как в тумане. Я иду почти вслепую, стараясь попасть в такт шагов Риттера. Счастье, что впереди сравнительно ровный сплошной лёд. Надо бы остановиться, посидеть день-другой в темноте, дать отдохнуть глазам. Но я не могу этого сделать. Больше всего опасаюсь, что моё состояние заметит Риттер.
Я вылезаю из мешка и тщательно переобуваю ноги. На ночь кладу унты под бок, но они всё равно не успевают как следует просохнуть. Ноги мёрзнут всё время. Правая ступня опухла и болит. Плохой признак. Так обычно начинается цинга. На «Олафе» нам выдавали на завтрак согласно правилам английского флота стакан консервированного лимонного сока.
Отрезаю широкую полосу от своего одеяла и обматываю ступни. Теперь будет теплее. Справа на востоке светлеет. Надо спешить.
Я разжигаю примус. Растапливаю в котелке немного снега. Разогреваю консервы. Все мои расчёты полетели к чёрту. Мы уже две недели в пути, а не прошли и шестидесяти километров. Сейчас мы живём на строгом, урезанном рационе. Едва вода нагрелась, я гашу примус — приходится экономить керосин, его осталось всего полканистры.
Завтрак готов. Я бужу Риттера.
2
Мы идём бесконечно долго. Впереди сплошная белая пелена. Лёд, снег, гряда торосов на горизонте. Ослепительно белый снег. Я уже не могу открыть глаз.
Боюсь остановиться. Риттер взглянет мне в лицо и поймёт, что я слеп. Пока он шагает спокойно. Он уже привык идти в одной упряжке со мной. Сегодня лёгкая дорога, неглубокий снег. Чутко ощущаю плечом, на котором натянута лямка, каждый шаг лейтенанта. Словно каторжники, скованные одной цепью, мы шагаем вперёд и вперёд.
Временами слепота отступает, и тогда мне удаётся бросить быстрый взгляд на дорогу, прикинуть расстояние до выбранного ещё утром ропака на горизонте. Сегодня мы должны обязательно дойти до него.
Лямка туго натягивается. Значит, Риттер остановился. Надо во что бы то ни стало открыть глаза. Прикрываю глаза рукой. Этот жест я могу себе позволить.
— В чём дело?
— Пора обедать.
— Рано.
— Два часа. Я устал.
— А я нет.
Пауза. Опускаю руку к ножу. Если Риттер бросится, бить сразу в живот. Вероятно, мы смотрим друг другу в глаза, но я не вижу его лица. Становится нестерпимо жарко.
Но вот дёрнулись нарты. Риттер подчинился. Я тоже шагаю вперёд. Важно попасть в такт его шагов. Облегчённо прикрываю глаза. Можно дать им отдохнуть. Мы мерно шагаем в ногу, как солдаты в строю.
Я теряю представление о времени. Может быть, мы идём час, может быть, три.
Моя лямка снова туго натянута. Риттер встал. Слышу его прерывистое дыхание.
— Не могу… — хрипит Риттер. — Не могу… — Он ругается по-немецки.
Чувствую, что тоже больше не могу. Приоткрываю веки.
Острая боль ударяет по глазам. Проклятое солнце всё ещё висит в небе. За несколько мгновений, пока я зряч, надо успеть выбрать место для привала.
Риттер обессилено валится на снег. Я подтаскиваю нарты к торосам. Разворачиваю их поперёк ветра. Глаза слезятся. Снова мир заволакивает пелена. На ощупь развязываю узлы на санях. Надо приготовить обед, пока Риттер не пришёл в себя. Примус в ведре, консервы, котелки — всё лежит на привычных местах, там, где я положил их с утра.
Самое трудное — разжечь примус. Он упрятан в большое ведро с прорезанной дверцей. Открываю дверцу. Осторожно наливаю в горелку керосин. Чиркаю спичку. Вероятно, она гаснет. Чиркаю вторую, протягиваю её в дверцу. Вспышки нет. Третью спичку я держу в ладонях, пока огонёк не касается загрубевших кончиков пальцев. Сильная вспышка опаляет руку. Примус мерно гудит.
Консервного ножа у нас нет, я открываю банки финкой Дигирнеса. И тут же попадаю ножом в левую руку. Нельзя спешить. В банках всё замёрзло. Весело будет, если я сварю суп из маринованных селёдок. Осторожно пробую продукты. Засыпаю кипящую воду крупой и вываливаю туда полбанки тушенки. Это немного после такого перехода, но больше расходовать нельзя. Есть хочется до головокружения. Во втором котелке приготовлен снег для «чая». Мы будем пить его со сгущённым молоком.
Пробую горячее варево и снимаю его с огня. Надо разлить похлёбку. Слышу приближающиеся шаги Риттера. Миски я заранее поставил рядом, слева от примуса. Протягиваю руку. Мисок нет. Что-то сразу оборвалось в груди. Осторожно провожу рукой. Наконец пальцы натыкаются на холодный металл. Просто миски оказались чуть дальше, чем я предполагал.
Я налил Риттеру, поставил на снег.
— Ешьте!
Риттер жадно ест. Слышу, как он сопит и чавкает. А я в отчаянии сижу перед котелком и грызу сухарь. Я боюсь, что неверные движения выдадут меня.
— Вы больны? Я вздрагиваю.
— Нет.
— У вас нехорошие глаза. Сейчас осень, а то бы я подумал, что это снежная слепота. Очень неприятная штука, я как-то болел весной.
Значит, меня угораздило заболеть весенней болезнью. Но что с Риттером? После ухода с острова он несколько дней угрюмо молчал, а сейчас даже пытается шутить.
— Напрасно не едите — суп не плох. Если бы я не знал, что вы инженер, то, вероятно, решил, что имею дело с судовым коком.
Что это? Призыв к перемирию или попытка усыпить мою бдительность?
— Положите мне ещё, — говорит Риттер.
Я замер. Очевидно, он протягивает сейчас миску.
— Дайте мне ещё…
Я ничего не вижу. И сейчас это поймёт Риттер. Неловко, наугад протягиваю левую руку. Правой нащупываю нож.
«Куик-ик-куик… Куик-ик-куик…» — доносится далёкий печальный крик.
Рука встречает пустоту. Риттер молчит. Он всё понял и сейчас…
«Куик-ик-куик!» — слышится ближе.
Чей это странный крик? Не слышу движения Риттера. Что он делает в эту секунду?
«Куик-ик-куик!»
— Mein Gott! Die rose Möwe![7]
Голос Риттера почти испуганный.
«Куик-ик-куик!» — раздаётся над самой головой.
— Cucken Sie![8] Смотрите! Розовые чайки! Смотрите!
Теперь я понимаю, что это кричат птицы. Но почему так взволнован Риттер? Взволнован настолько, что не заметил моей протянутой руки. «Куик-ик-куик!»
— Вот они! Видите? Видите?!
— Вижу, — глухо говорю я. — Конечно, вижу. Ну, чайки…
— Die rose Möwe! Ро-зо-вые чайки! Вы понимаете? Стреляйте… Скорее стреляйте!
«Куик-ик-куик!»
Неведомые птицы проносятся над нами.
— Стреляйте же!
— Я не люблю зря убивать птиц.
— Господи! Это же розовые чайки, величайшая редкость!
Кажется, Риттер сейчас в самом деле бросится на меня.
«Куик-ик-куик…» — доносится уже издалека.
Риттер с досадой бормочет что-то по-немецки.
— Ешьте суп, — говорю я. — Берите сами.
— А! У меня пропал аппетит. Упустить такую редкость! За пятнадцать лет жизни в Арктике я вижу их впервые!
— Вот видите, мне повезло сразу.
— Вы просто не понимаете, что это такое, — не может успокоиться Риттер. — Когда Фритьоф Нансен увидел розовых чаек, он пустился в пляс прямо на льдине. Любой музей даст огромные деньги за такое чучело!
Похоже, он надеется выбраться из переделки. Значит, он всё-таки убеждён, что на Шпицбергене нас встретят немцы. Слепота на несколько мгновений отступает. Я встаю.
— Ну, неизвестно, когда ещё мы доберёмся до музея. Собирайтесь! Довольно. Пора в путь.
3
Я мечтаю о пурге. О трёхдневной вьюге. Чтобы можно было лежать в темноте. Чтобы не светило солнце. Чтобы не болели глаза.
Но проклятый белёсый снег пробивается даже сквозь прикрытые веки… Риттер начинает что-то подозревать. Он чаще обычного неожиданно останавливается во время переходов. Я уже дважды натыкался на него. Я чувствую — он весь насторожился, как зверь перед прыжком. Я тоже прислушиваюсь к каждому его движению, но как трудно держать себя в напряжении, когда вокруг тишина и перед глазами всё время мутный серый туман. Нельзя поддаваться слабости, убаюкивающему ритму шагов. Надо держаться, держаться во что бы то ни стало.
…Тогда тоже был туман. Такой густой, что казалось, его можно разгребать лопатой.
Надрывно гудят сигналы машин. И ревун на маяке. Его рёв через каждые десять секунд заглушает всё остальное. Пахнет дымом. Сквозь туман пробивается пламя костров. На бульварах сжигают опавшие листья каштанов. Костры горят по всему городу. Идёт дождь. Мокрые листья заглушают шаги.
Мы входим за ограду старинной греческой церкви. Кто-то невидимый кричит в тумане: «Отец Макарий! К телефону!»
В церкви пусто и сумрачно. Горят свечи. На конторке у входа в кружке «Для пожертвований на храм» лежат несколько медяков. За конторкой дремлет старуха в чёрном.
Перед алтарём высится стремянка: в церковь проводят электричество. Пожилой монтёр равнодушно прикручивает к стене шурупами выключатель. Чёрная эбонитовая розетка пришлась как раз посредине голого живота намалёванного на стене святого.
Нина громко фыркает. Дремавшая за конторкой старуха гневно выпрямляется.
Мы выскакиваем на улицу.
Дождь затих. По мокрым улицам мы спускаемся к морю. На пустом пляже мокнут сваленные в штабеля решётчатые топчаны и шезлонги. Туман скрывает море. Видна лишь узкая полоска мутноватой воды у берега.
С новой силой хлынул дождь. Я набрасываю на плечи Нины свой пиджак. По скользкому откосу мы лезем наверх.
Берег пуст. Мы долго бежим под дождём, пока из тумана не выныривает жёлто-белая, будто из старинного рытого бархата стена дома. Под домом большой открытый полуподвал. Мы вбегаем под каменный навес.
В лицо ударяет острый винный запах. В глубине подвала двое: пожилой чернявый мужчина и полная немолодая женщина.
У стен — бочки, громадные бутыли. На каменном полу широкое деревянное корыто с давленым виноградом.
— Здравствуйте! — говорит Нина.
— Здравствуйте, если не шутите, — певуче отзывается женщина. — Никос, или ты не видишь, что люди промокли?
Мужчина молча нацеживает в кружки из бутыли бесцветную жидкость. Протягивает кружку Нине. Нина испуганно отшатывается.
— Ой, что вы!
— Пей! — строго говорит женщина. — Или ты хочешь получить температуру?
Нина делает несколько глотков. На глазах у неё выступают слёзы.
Молчаливый Никос доливает кружку и протягивает мне. Я залпом выпиваю её. Водка крепкая, с непривычным ореховым привкусом.
— Ну как? — торжествующе говорит хозяйка. — Может, вы скажете, что когда-нибудь пили такое? Лучший виноградной водки вы не найдёте во всём городе! Теперь идите наверх, обсушитесь.
Но нам не хочется уходить. Мы смотрим, как давят в корыте виноград, как сливают в чан мутный сок, как сдавливает выжимки тугой, деревянный, окованный медью пресс. От выпитой водки и резкого винного запаха чуть кружится голова.
Потом мы сидим в просторной кухне. Мой пиджак и платье Нины сохнут у плиты. Нина запелената в огромный халат хозяйки. Хозяйку зовут Мария Ивановна. Говорит она за всех четверых. Никос только следит за тем, чтобы не пустел большой глиняный кувшин на столе. Мы едим золотистую, буквально тающую во рту копчёную скумбрию и фантастическую яичницу «по-гречески», с обжаренными помидорами и маринованным луком. В глиняном кувшине молодое розовое вино. Оно немножко похоже на шампанское. Мария Ивановна щедро накладывает нам по полсковороды яичницы. Нина смотрит в ужасе на свою тарелку, но после выпитой водки и вина яичница незаметно исчезает. Вслед за нею на столе появляется жареная рыба, затем фаршированные баклажаны, потом варенье и медовая пахлава, и, кажется, не будет конца этому пиршеству.
Отяжелев от еды, мы сидим у стола. Мы уже видели в сёмейном альбоме фотографии всех родственников гостеприимных хозяев, мы знаем, что у них двое сыновей-близнецов — Манус и Иван. Их так назвали при рождении в честь двух дедов. Но, когда близнецы подросли, выяснилось, что в нарушение всяких правил один из них вылитая мать, а другой как две капли похож на отца. И теперь мы смотрим в альбоме фотографии русого голубоглазого Мануса и смуглого брюнета Вани.
Их нет сейчас дома. Год назад сыновей призвали в армию. Старики остались одни, и, быть может, поэтому они так заботливо потчуют двух случайных молодых гостей.
Уже давно просох мой пиджак, а за окном всё льёт и льёт дождь. Наша турбаза на другом конце города. Не хочется уходить из тепла. Нина наконец подымается.
— Нам пора, Саша…
— Куда? — вскидывается хозяйка. — Смотрите, какой зарядил!
— Что делать. Может быть, это на всю ночь… Большое, большое спасибо вам!
Нина берёт своё платье. Я — пиджак.
— Ну и что? Может, вы думаете — у нас не хватит для вас места? Ты слышишь, Никос? Они думают, что в нашем доме не найдётся места! Оставайтесь. — Хозяйка решительно, забирает мой пиджак.
Я молчу. Я бы с удовольствием остался, но не знаю, как отнесётся к этому Нина. Пауза затягивается.
— Нет, — говорю я. — Что вы! Спасибо. Мы пойдём.
— И не думайте…
— Нет, нет, право…
— Ну хорошо, если у вас нет жалости до себя, то пожалейте её! Или вам будет приятно завтра видеть её с воспалением лёгких? Смотрите, какая она красная. У неё уже температура! Скажите же ему, Нина, что у вас температура!
— А может быть, правда останемся?
Наверное, ослышался. Неужели это говорит Нина?
— В самом деле… Такой дождь…
— Вот я слышу умные речи! — подхватывает хозяйка. — А то заладил — пойдём да пойдём. Сейчас я вас устрою!
Нина стоит отвернувшись. Уже в дверях хозяйка останавливается. Секунду колеблется, но всё-таки спрашивает:
— Вы извините, конечно… Я не спросила: вы как же будете — муж и жена?
— Конечно, — не задумываясь, говорю я. — Конечно. Муж и жена.
И всё-таки хозяйка переводит взгляд на Нину. Я равнодушно рассматриваю на стене вырезанную из «Огонька» репродукцию с изображением рыбачьей шаланды.
— Да, — говорит Нина, — конечно…
Мы одни. Мы лежим рядом. В комнате темно. Смутно проступают очертания мебели. Тяжёлый шкаф, письменный стол, этажерка с книгами. Это, видно, была комната сыновей хозяев. Над постелью на стене неясный тёмный прямоугольник. Я лежу на спине с открытыми глазами. Я знаю, что Нина тоже не спит.
— Нина, почему ты сказала «да, конечно»?
— А что мне оставалось? Спорить с тобой? Не думай, что это что-то значит.
— А я не думал.
— И не думай.
— И не думаю…
Мы снова молчим.
Мы лежим в удивительной тишине. Исчезла комната, дождь за окном, весь мир. Существуем только мы. Разве я знал раньше, что это такое счастье — просто лежать рядом с той, которую любишь. Время остановилось. Мы весь мир. Мы вдвоём.
И вдруг ослепительная молния прорезала тьму. Мы невольно отодвигаемся друг от друга. Молния обшаривает комнату, выхватывая из углов нашу постель, старинный шкаф, этажерку, горшки с цветами на подоконнике. Нина испуганно вскрикивает.
Сноп света исчезает. Он теперь скользит за окном по всей вселенной.
— Прожектор! — говорю я. — Тьфу, чёрт! Морской прожектор!
Луч прожектора, описав гигантскую параболу, вновь возвращается в нашу комнату. На этот раз я успеваю разглядеть темный прямоугольник на стене: столб света на мгновение вырвал из темноты фотографию. На ней сыновья хозяев: русый Манус и чернявый горбоносый Иван. Чуть напряжённые, в новеньких гимнастёрках, в пилотках на стриженых головах, они смотрят на нас со стены.
Я встаю. Подхожу к окну. Дождь перестал. Очистилось море. В небе показались звёзды. Луч прожектора продолжает обшаривать мир. Вот он, скользнув по звёздам, опускается к морю. И вдали у горизонта в полосе света — строгие тяжёлые силуэты кораблей. Мимо города идёт эскадра Черноморского флота.
Нина неслышно подходит сзади, кладёт руку мне на плечо.
…Я натыкаюсь на Риттера. Он опять остановился.
— В чём дело?
— Пора обедать.
— Рано.
— Я устал.
— А я нет. Вперёд!
Я лежу, прислушиваясь к тишине. Риттер спит. Я понимаю, что так долго продолжаться не может. Сегодня я отказался от ужина, предоставив Риттеру самому заботиться о себе. Подозрения лейтенанта от этого только усилились, конечно. Он разогревал консервы, варил кофе — доносились дразнящие запахи. Я поел всухомятку, не разводя огня, когда уже стемнело. Теперь я не сплю. Высоко в небе висят холодные звёзды. «…И звезда с звездою говорит…» Удивительный образ тишины. Как будто поэт так же лежал в ледяной пустыне. и смотрел на звёзды в мёртвой тишине, когда кажется, что можешь подслушать шёпот звёзд. Я вижу их как будто сквозь редкую кисею. Даже ночью зрение не восстанавливается полностью. А завтра, судя по всему, снова будет солнечный день. И завтра Риттер наверняка сделает выводы из моего странного состояния. Больше мне не удастся скрывать свою слепоту.
…Вероятно, я всё-таки задремал. Меня разбудил страшный треск. Со скрежетом рушился мир, а мы проваливались в пропасть. Леденящий холод охватил всё тело — спальный мешок полон воды. Несколько мгновений мы отчаянно барахтались, пытаясь вызваться наружу, но наши судорожные рывки только всё глубже погружали нас в воду. Это было как в страшном сне. Отчаянно закричал Риттер.
Наконец мне удалось уцепиться за ледяной выступ. Пока я поддерживал нас обоих на поверхности воды, Риттер пытался вылезти из мешка. Ничего не получалось. Мы были накрепко спелёнаты вместе.
Застывшие руки соскользнули с выступа. Мы снова погрузились с головой. Но через мгновение я почувствовал, что подымаюсь. Судорожно глотнул воздух.
На этот раз за льдину уцепился Риттер. Я перевёл дыхание и, сжавшись в комок, резким движением вытолкнул лейтенанта из горловины мешка. Следом удалось выбраться и мне.
Едва брезжил рассвет. В воде, у края расколовшейся льдины плавали наши сапоги, одеяла, рукавицы. Риттер уже вылезал на край льдины. Я выловил и выбросил на льдину сапоги Риттера и свои унты. Потом подтащил к себе спальный мешок. Один вытащить его из воды я не мог. Риттер, наклонившись, поймал мешок с другой стороны.
Я тоже выбрался на лёд.
Быстро расходилась широкая полынья. Она прошла как раз под местом нашего ночлега. Риттер прыгал как сумасшедший, пытаясь согреться. Потом он бросился к саням. По счастливой случайности они остались на нашей половине льдины. Риттер стал торопливо выбрасывать из саней куски дерева, тряпьё, керосин — всё, что могло гореть.
Замёрзшие руки плохо слушались. Ветер задувал спички.
— Дайте мне… — стуча зубами, проговорил Риттер.
Я отдал коробок. Риттер разжёг костёр с одной спички.
Пока огонь разгорался, мы бегали и прыгали вокруг. Постепенно согрелись ноги. Мы сняли одежду, выжали её и развесили сушить у костра.
Сами, завернувшись в одеяла, сели как можно ближе к огню. Звёзды скрылись. Наш костёр был, наверное, единственным пятнышком света на сотни километров вокруг. Снова послышался грохот. Казалось, рушились скалы. И ещё, и ещё…
— Льды, — тихо проговорил Риттер. — Осенняя подвижка.
Он невольно придвинулся ко мне.
Костёр догорал. Одежда наша высохнуть как следует не успела, пришлось натягивать сырой комбинезон и мокрые унты. Тело бил озноб. Мы нагребли высокий снежный вал вокруг костра и накрыли его сверху брезентом. Здесь мы были защищены от ветра, но озноб не проходил.
— Грелки! — вдруг крикнул Риттер. — Где грелки?! Мне показалось — он бредит.
— Какие грелки?
— Wärmebeutel! Химические грелки! Они были в моём рюкзаке. Где они?
Риттер притащил из саней свой рюкзак. Со дна посыпались белые пакеты с неизвестным мне порошком.
— Вот они! Почему вы молчите?
— Я берёг их на крайний случай, — сказал я.
Риттер посмотрел на меня как на безумного. Откуда мне было знать, что это химические грелки. Во всяком случае, хорошо, что я их сберёг до сегодняшнего дня.
Грелки оказались замечательными. Стоило их намочить, как они начинали нагреваться, ровно и сильно. Под нашей влажной одеждой они действовали отлично. На остатках догорающего костра мы вскипятили воду. Я всыпал в котелок треть банки кофе. От крепкого обжигающего напитка по всему телу растеклось блаженное тепло. Мы возвращались к жизни.
Риттер вдруг окинул меня внимательным взглядом. Потом поднялся. Вышел из убежища. Я следил за ним, приподняв брезент. Риттер, пытливо оглядываясь по сторонам, прошёлся по льдине. Заглянул в сани. Не спеша вернулся обратно. На губах у него появилась странная усмешечка.
— Что-нибудь потеряли? — спросил я.
— Да. Вы не знаете, где мой автомат? Он так и сказал «мой автомат».
Я машинально схватился за грудь. Автомата не было. Я потерял его во время вынужденного купания. У меня теперь остался только пистолет.
В прорезиненном мешке Дигирнеса лежал запасной магазин. При свете угасающего костра я вычистил парабеллум. Перезарядил обойму сухими патронами для автомата. К счастью, они были одного калибра. Риттер, не говоря ни слова, внимательно следил за моей работой. Я спешил. Мне нужно было закончить её до того, как взойдёт солнце.
4
Холодное неумолимое солнце подымалось над миром. Боль возвращалась. Дальше идти вслепую я не мог.
Я сказал Риттеру, что надо сделать днёвку. Лейтенант пристально посмотрел на меня.
— Может быть, нам пора вернуться?
— Нет, просто надо немного отдохнуть.
— Вы уверены, что отдых вам поможет?
Я не ответил. Притащил в снежную палатку примус, канистру с керосином, несколько банок консервов. Может быть, через день-другой мне станет легче. Риттер замешкался снаружи. В блаженном полумраке я прикрыл глаза.
Не знаю, сколько прошло времени, но я пришёл в себя, как от внезапного толчка. Риттера рядом не было.
— Риттер! — крикнул я.
Никто не отозвался.
Сердце сжалось от предчувствия. Где-то совсем рядом Риттер сторожит моё первое неверное движение. Я выглянул из-под брезента. По глазам ударил обжигающий свет. Прикрывшись от солнца, я оглядел льдину. Риттера не было. Я вылез из палатки. Глаза застилал туман. И в последний момент, когда уже весь мир заволакивала плотная серая пелена, мне показалось, что за санями мелькнула и тут же скрылась тень.
Пока у меня был автомат, Риттер боялся случайной пули. Теперь он решил вступить в борьбу.
Я шагнул к саням.
— Выходите, Риттер! — громко произнёс я. — Что это вам вздумалось играть в прятки?
Я действовал наудачу, но Риттеру негде было больше укрыться на этой белой равнине. Лейтенант молчал. Я сделал ещё шаг. Теперь уже нельзя было отступать.
— Перестаньте валять дурака. Выходите!
Риттер не отзывался. Я расстегнул кобуру. Убрал ли я топор после того, как возился у костра?
— Слышите, Риттер? А ну, подымайтесь!
В напряжённой тишине я пытался уловить малейший шорох. Всё было тихо. Но, быть может, именно сейчас он подкрадывается ко мне с противоположной стороны.
Я вынул пистолет.
Если Риттер сейчас не отзовётся, я проиграл. Может быть, отступить? Укрыться в палатке, залечь, как в берлоге, предоставить действовать противнику, ждать его удара…
К чёрту! Не будет так. Сейчас решится наш поединок. Я поднял парабеллум.
И тут послышался неясный звук. Нет, это был не шорох. И не звук шагов. И не крик птиц. Мне показалось, что начинаются галлюцинации. Но звук креп, он приближался. Я поднял голову к солнцу. Я не мог ошибиться — гудели моторы. Моторы самолётов.
Звук шёл с юго-востока. Он становился всё звонче. Самолёты летели с юго-востока. Они летели на запад! Звук этих моторов я бы отличил от тысячи других — это были моторы нашего завода. И сейчас они ровно и сильно гудели надо мной.
Я закричал что-то бессвязное. Выстрелил в воздух. Моторы гудели над головой. Они летели на запад! Жива, жива была Россия! Она сражалась! Она шла в бой!
— Пе-8! — задыхаясь, крикнул я. — Пе-8! Родные! Пе-8! Пе-8!
Теперь я не боялся ста тысяч Риттеров.
Невдалеке послышалось изумлённое восклицание. Риттер, видно, было потрясён не менее меня. Но мне сейчас было не до него. Я стоял, поворачивая голову вслед удаляющимся на запад самолётам, и по лицу моему текли слёзы. Я плакал. Плакал, как в детстве. Впервые в жизни, не стыдясь своих слёз…
Глава пятая
1
Удача никогда не приходит одна. К полудню поднялся ветер. Небо заволокло тучами, повалил снег. Идти было невозможно.
Пурга продолжалась два дня. Мы отсиживались под занесённым снегом брезентом. Наконец мои глаза могли отдохнуть.
Риттер снова затих. Появление наших самолётов было для него неожиданным ударом. Он был уверен, что на Восточном фронте всё кончено. Лейтенант часами лежал без движения, молча принимал свою долю скудного пайка. По-моему, за два дня он не произнёс ни слова.
На третий день ветер стих, выглянуло солнце. Я вылез из-под брезента. И понял, что снежная слепота прошла. Я снова мог смотреть на этот белый, сверкающий мир.
Прежде всего надо было определиться. Я плохо представлял, где мы сейчас находимся.
В полдень взял высоту солнца. Когда подсчитал широту, то не поверил своим глазам — получалось, что за последние дни мы прошли на север больше семидесяти километров. Этого не могло быть. В лучшем случае мы делали по шесть-восемь километров в сутки. А последние три дня вообще не трогались с места. Я ещё раз взял высоту, проверил вычисления. Результат получился тот же. Я ничего не понимал. У меня даже мелькнула мысль посоветоваться с Риттером. Интересно, как бы он отнёсся к моей просьбе проверить вычисления. Я внимательно осмотрел секстант. Все линзы и зеркала были на месте. В зимовье я проверял по сигналам радиовремени хронометр Дигирнеса, он шёл очень точно и не мог дать такой большой ошибки. В недоумении я вернулся к месту нашей стоянки. За три дня сани скрылись под огромным сугробом. Я начал разбрасывать снег и вдруг остановился, поражённый неожиданной догадкой: сани были развёрнуты боком к ветру — ровный снежный вал лёг на них с подветренной стороны. Ветер не менялся, все эти дни он устойчиво и сильно дул с юга. А лёд вместе с нами дрейфовал на север. Нас подвинуло на добрых сорок километров к цели. Это был неожиданный подарок! Я ничего не сказал Риттеру, но, глядя на его хмурое лицо, подумал, что он, верно, сам догадался об этом. Пятнадцатилетний полярный опыт чего-нибудь стоил. Мне показалось, что он совсем упал духом. А я на радостях приготовил роскошный завтрак: суп из консервов, такой, что в котелке стояла ложка, и какао — его у нас было совсем немного, и пришлось израсходовать последнюю заварку. После завтрака подсчитал продукты. Оставалось всего двадцать банок консервов. Я решил с завтрашнего дня ещё урезать пайки. Риттер угрюмо подчинился, когда я предложил ему снова тронуться в путь. Он сильно сдал за последние дни. Зарос жесткой рыжей щетиной, глаза запали, прямая спина согнулась.
2
Кроме торосов, на нашем пути появились разводья. Не знаю, что лучше или, вернее, хуже. Мы долго топчемся на одном месте, отыскивая, где можно обойти трещину. Кружим, уходим в сторону, возвращаемся назад. Временами я даже не знаю, продвигаемся ли мы на север или идём на юг.
Хорошо, когда попадается широкая, свободная ото льда полынья. Через неё мы переправляемся вплавь. Нарты тогда ставим поперёк на носу лодки, а сами устраиваемся на корме. Риттер гребёт вместе со мной — иначе мы оба окажемся в ледяной воде. Это самые Приятные минуты путешествия. Отдыхают ноги, лямка не давит грудь.
Но широкие полыньи редки. Чаще попадаются мелкие трещины. От Риттера помощь невелика, и к вечеру я совершенно выбиваюсь из сил. По утрам отчаянная слабость. Плохо слушаются ноги. Проходит почти полчаса, пока я «расхожусь». Риттер, кажется, чувствует себя немногим лучше. По вечерам он с тревогой осматривает свои распухшие ступни.
3
Мы остановились на ночлег у огромной полыньи. До противоположной кромки было не меньше километра.
Я приготовил с вечера лодку, но наутро ветер нагнал в полынью битый лёд и снег. Нечего было и думать пробиться через это месиво. К востоку полынья как будто сужалась. Мы впряглись в сани и двинулись вдоль кромки льда.
Риттер поминутно бросал взгляды в сторону полыньи. Наконец он остановился и протянул руку.
— Видите? Нет, правее.
Я вгляделся. Посреди полыньи мелькали чёрные блестящие пятна.
— Тюлени, — сказал Риттер. — Морские зайцы. Русские называют их лахтаками.
Это были крупные, метра полтора-два в длину звери, покрытые тёмно-бурой со светлыми пятнами шерстью. Мы с Риттером переглянулись.
— Отсюда из пистолета не достать, — сказал я.
— Можно подозвать.
— Подозвать?
— Да. Как собак. Они очень любопытны.
Мы оттащили в сторону сани, а сами укрылись за нагромождением льда у самой полыньи. Риттер снял рукавицы, приложил руки ко рту и засвистел прерывисто и однотонно.
Поначалу тюлени не обращали на свист никакого внимания. Риттер перевёл дыхание и засвистел громче. Один из тюленей, видимо самый любопытный, высунул из воды голову и медленно поплыл к нам.
Я вынул парабеллум. При одной мысли о куске свежего жареного мяса у меня сводило судорогой желудок. Последний раз я ел бифштекс на «Олафе». У Риттера на похудевшей шее двигался острый кадык. Тюлень в самом деле, как собака, плыл на свист. Уже была отчётливо видна круглая усатая голова, черные блестящие точечки глаз.
— Бейте в грудь, — торопливо сказал Риттер. — Как только выползет на лёд, сразу бейте, а то уйдёт.
Ветер затих, и лахтак не чувствовал нашего запаха. Он задержался немного у кромки льда, потом навалился передними лапами и выполз из воды, поводя усатой головой.
— Берите ниже, — прошептал Риттер. — Он бьёт с превышением.
Ему лучше знать. Я взял ниже. На тёмной шкуре отчётливо выделялось светлое пятно. Нажал спуск. Лахтак вздрогнул. Я выстрелил ещё. Тёмная туша, вскинувшись, подалась назад. Молодой, намёрзший за ночь лёд проломился. Тюлень ушёл в воду.
Риттер выскочил из укрытия. Я бросился за ним. Туша лахтака плавала у края льда, подымавшегося больше чем на метр над водой.
— Держите! — крикнул Риттер и почти сполз в воду.
Я крепко держал его за ноги. Лейтенант, дотянувшись до тюленя, поймал его за задний ласт, подтянул к себе. Лахтак был слишком тяжёл, мокрый ласт выскальзывал из рук. Риттер ещё больше подался вперёд. Он повис над водой. Тюлень никак не давался в руки. Изловчившись, Риттер вцепился в ласт зубами. Я потянул лейтенанта к себе. Постепенно туша тюленя показалась над водой. Риттер обхватил её руками. Ещё усилие, и тюлень оказался на крепком льду.
4
Мы с жадностью едим куски горячего полусырого мяса. Мясо тёмное и мягкое, сильно пахнет рыбой. Но мне оно кажется восхитительным. Риттер разделал тушу лахтака, как заправский мясник. Рядом сохнет распластанная шкура. Бесцветный жир отлично горит в алюминиевой миске. Теперь мы на несколько дней обеспечены топливом. Это как нельзя более кстати, так как керосин на исходе. Внутренности мы щедро отдали кружащим вокруг чайкам.
Аппетит у нас необыкновенный. Мы уже съели по полному котелку похлёбки и сейчас варим ещё. Риттер старательно высасывает из кости мозг. Я не могу дождаться, пока сварится мясо, и принимаюсь за печень. Тёмную нежную печень лахтака Риттер точно разделил пополам между нами. Мелькнуло полузабытое воспоминание детства. Какой-то чудак врач находил у меня малокровие, и по утрам мне давали сырую провёрнутую печёнку с солью и перцем. Это была страшная гадость, но я на всю жизнь запомнил, что в печени «все витамины». С наслаждением ем ломтики сырой, едва подсоленной печени морского зайца. Впервые после ухода с зимовья ем досыта.
Риттер не без сожаления отбрасывает кость. Мозг в самом деле очень нежный и вкусный.
— Лучший деликатес, — говорит Риттер, принимаясь за следующую кость.
— Печень тоже не дурна…
Риттер кивает.
— В тридцать шестом году на зимовке наш повар делал потрясающее жаркое из маринованных ластов.
Риттер мечтательно причмокивает. Вид у него диковатый. Закопчённое, выпачканное жиром лицо. Жёсткая грязно-рыжая борода. «Рыжий красного спросил…»
— Риттер, как вас дразнили в детстве?
Риттер изумлённо вскидывает глаза.
— Что?
— Ну, как вас называли приятели в детстве? Меня, например, за малый рост — «Гвоздиком». А вас как? «Рыжиком»?
Риттер невольно улыбается.
— «Fuchsschwanz» — «Лисий хвост…» Это в Дюссельдорфе. А в шестой Петербургской гимназии, где я учился, — «Патрикеевичем».
— Вы учились в Петербурге?!
— Да. Мой отец был профессором Петербургского университета.
— Вот как!
Я даже на секунду забываю о печёнке.
— А вы думали, я выучил русский язык в школе разведки? — говорит Риттер.
— Нет. Какой вы разведчик! Вы просто так… любитель птичек.
— Это наследственная страсть, — говорит Риттер серьёзно. — Мой отец был крупнейшим орнитологом. Наш дом всегда был полон птиц. Чёрные канарейки, голуби, редчайшие попугаи.
— И вы пошли по стопам отца?
— Нет. Я метеоролог.
Риттер вдруг осекается, как человек, сказавший лишнее.
— Значит, в германской армии существуют лейтенанты метеорологической службы?
Риттер, не отвечая, обрабатывает крепкими зубами кость. Потом подымает глаза.
— Торопитесь, Колчин. Я ещё не в плену. А вы не следователь. Вы даже не кончали школы контрразведки.
— Это вы угадали. Не кончал. К сожалению, не кончал.
Я понимаю, что больше мне от Риттера сегодня ничего не добиться. Ну что ж, для первого раза хватит. У нас ещё будет время поговорить подробней. Доедаю последний кусочек печени.
— Вкусно. Никогда не думал, что когда-нибудь придётся есть печень морского зайца.
— Берите ещё, — предлагает Риттер. — Лучшее средство против цинги.
Что за неожиданная любезность? Пристально смотрю на лейтенанта. Не получив ответа, он берёт сам свою половину печени.
Кипящая вода заливает огонь. Пробую ножом мясо в котёлке. Пожалуй, оно готово. Разливаю по мискам дымящуюся похлебку.
После сытного обеда очень хочется спать, но я пересиливаю себя и начинаю собираться в дорогу. Риттер аккуратно упаковывает в шкуру уже подмёрзшие куски мяса. Мы можем взять с собой только килограммов двадцать, иначе будет слишком тяжело тащить сани. Риттер заботливо отобрал самые лучшие куски. Остальное, к сожалению, приходится оставить чайкам. Они с криком кружатся над нами, растаскивая добычу. Я поскользнулся на куске требухи. Странно, но мне показалось, что это печень. Та самая половина, что взял себе Риттер. Я наклонился рассмотреть, но нахальная чайка утащила кусок. Я же видел, как Риттер ел печень… Хотел спросить лейтенанта, но, занятый сборами, забыл об этом.
Мы встали рядом в упряжку. Вероятно, сытый я добрее, потому что на спину Риттера я сейчас смотрю с меньшей неприязнью, чем обычно. Мы вместе шагнули вперёд.
5
Внезапная острая боль в желудке заставила меня остановиться. Риттер тоже встал. Не оборачиваясь, он протирал очки. Новая спазма. Я невольно охнул. Риттер резко обернулся. Взгляд его неприкрытых глаз будто ожёг меня. Но в следующую секунду он уже надел очки.
— Что случилось?
Я не ответил. Мне было не до разговоров. Я скинул лямку и заплетающимися ногами пошёл в сторону. Риттер двинулся за мной.
— Ни с места! — крикнул я.
Я сделал ещё несколько шагов. Спазма подступила к горлу. Меня вырвало. Когда я поднял голову, Риттер шёл ко мне. Я вынул пистолет. Риттер остановился.
— Возвращайтесь к саням! — приказал я. — Ну?!
Риттер вернулся. Меня снова вырвало. На лбу выступил липкий пот. Ноги подгибались. Пришлось сесть на снег. Может быть, я просто слишком много съел? Риттер сидел в отдалении на санях. Новая схватка скрутила меня. Очень хотелось пить. Я положил в рот щепотку снега. Я слышал как-то, что при отравлении врачи предлагают больному перечислить всё, что он ел накануне. Причина отравления неизбежно вызовет приступ тошноты. Организм сам даст правильный ответ.
Я мысленно повторил весь наш немудрёный завтрак и обед. При воспоминании о печени морского зайца меня сразу вырвало. «Берите ещё, лучшее средство против цинги…». Значит, это всё-таки была печень. Риттер знал, что она ядовита.
Кружилась голова. «Чёрные канарейки… Наследственная страсть… Берите ещё…».
Риттер поднялся с саней.
— Ни с места!
Я заставил себя встать. Пошатываясь, направился к саням.
…«Выпьем за Сталинград!..», «Где мой автомат?..», «У вас больные глаза…» Дым над зимовьем… «Берите ещё…» Тяжёлое тело Дигирнеса на снегу…
Я спустил предохранитель пистолета.
Риттер стал пятиться назад. Его глаза, не отрываясь, следили за пистолетом. Он сделал ещё шаг назад, запутавшись в лямке, споткнулся и сел на землю. Он не вставал. Он сидел на снегу и смотрел на меня. Он ничего не говорил. Подняв голову, он смотрел мне в лицо. Если бы он был в очках, я бы, наверное, выстрелил сразу. Но на меня смотрели безоружные глаза смертельно испуганного человека.
В памяти всплыло бледное лицо радиста в рубке «Олафа». Норвежский флаг, ползущий по нависшему над водой флагштоку. Крики людей…
Я опустил пистолет. Меня бил озноб.
— Возьмите жир, — сказал я, — разведите огонь. Вскипятите воды.
Риттер не двинулся с места.
— Слышите? — я тяжело рухнул на сани. — Как можно больше воды…
Риттер, косясь на пистолет, поднялся. Резь в желудке не унималась. Голову будто стянуло обручем.
Риттер набросал в миску с жиром мелко наструганных щепок, попросил спички. Я кинул коробок. От резкого движения меня снова вырвало. Когда я лежал спокойно, было немного лёгче. Я лежал и смотрел на спину Риттера, пока он разводил огонь. «Чёрные канарейки… голуби… редчайшие попугаи…»
6
Меня спасло то, что у нас было много топлива и свежего мяса. С Риттера я не спускал глаз, но он беспрекословно выполнял все приказания. Вырыл снежную яму, грел воду, варил бульон.
Через три дня я почувствовал себя сносно. Правда, ещё болела голова и шелушилась кожа на руках. Я приказал Риттеру собираться в путь. Он с недоумением посмотрел на меня.
— Вы не хотите ещё несколько дней отдохнуть?
— Нет. Собирайтесь.
Дорога ухудшилась. Я был слишком слаб, чтобы тащить сани, поэтому Риттер один впрягся в лямки, а я подталкивал нарты сзади. Плохо, что нарты не приспособлены к глубокому снегу. У них узкие полозья, и у торосов они проваливаются по самый передок в глубокий рыхлый снег. В день мы проходим не больше трёх-четырёх километров. Тому, кто идёт впереди, тяжелее. К вечеру Риттер едва передвигает ноги.
7
Риттер, безучастный ко всему, сидит у саней. Глаза его закрыты. Он даже не снял лямки. У меня тоже нет сил развести огонь. Открываю банку консервов. Но Риттер так устал, что не может есть.
— Оставьте, — бормочет он, не открывая глаз. — Не хочу… Ничего не хочу…
Но я не могу оставить лейтенанта в покое. Он совсем ослабнет, завтра предстоит такой же трудный день. Я вкладываю в его руки комок замёрзшего мяса и галету. Риттер машинально откусывает кусок галеты. Медленно жуёт. Тяжело приподымает веки. Смотрит на меня отсутствующими воспалёнными глазами.
— Откуда, — бормочет он. — Откуда вы? Кто вы такой?.. Непостижимо…
Он говорит ещё что-то по-немецки.
— Ешьте, — устало говорю я. — И ложитесь спать…
Риттер подымает голову.
— Ненавижу, — шепчет Риттер. — Не думай… Убью… Всё равно убью при первом…
— Заткнитесь, Риттер, — говорю я. — Я хочу спать.
Лейтенант затихает.
— Я презираю себя. Почему ты не убил меня? Почему? Зачем я тебе нужен?
Лейтенант пытается встать, но ноги не слушаются. Снова валится в снег.
Я кидаю ему одеяла. Слышу, как он возится, устраиваясь на ночлег. Я знаю, как он будет спать: на правом боку, подтянув колени к самому подбородку. Спит как мёртвый, ни разу не повернувшись за ночь. Во сне тяжело дышит, иногда хрипло кашляет.
Я знаю каждый его шаг, каждое движение, каждый вздох. Я знаю о нём очень много и очень мало.
Странная судьба свела нас вместе. Кругом тысячекилометровый простор, а мы боремся насмерть за право быть первым на узенькой тропе.
Глава шестая
1
Приближалась полярная ночь. Днём солнце словно нехотя подымалось над горизонтом и исчезало, описав невысокую дугу. Наступали долгие светлые сумерки. До полной темноты мы успевали пройти ещё несколько километров.
Ветер по-прежнему устойчиво дул с юга. Однажды утром мне пришла в голову счастливая мысль. Из двух сохранившихся реек я сколотил подобие мачты и на ней закрепил брезент. Ветер тут же надул импровизированный парус. Я тянул сани вместе с Риттером, и на ровных местах мы теперь шли намного быстрее.
В этот день мы сделали хороший переход и остановились на ночлег у огромной, как горный хребет, гряды торосов.
Утро было солнечное, почти весеннее. Я решил разведать дорогу и, прихватив бинокль, поднялся на самый высокий, запорошенный снегом торос. Впереди лежала широкая ледяная равнина, пересечённая грядами торосов и огромными тёмными трещинами разводий. Всё было как обычно.
Я уже собирался вернуться, как вдруг гулко забилось сердце. Всё поплыло в окулярах. Я опустил бинокль, справился с волнением. Протёр линзы. Снова поднёс бинокль к глазам. Нет, мне не показалось — на горизонте, чуть влево от направления нашего пути лежала резкая выпуклая полоска. Её серповидный выступ отчётливо выделялся на фоне голубого неба. Полоска была серебристо-белой, как луна днём. Может быть, это действительно луна, не успевшая скрыться за горизонтом? Но прошла минута, вторая, третья… У меня уже застыли ноги, а полоска всё не трогалась с места. Она лежала прочно, как нанесённый художником на холсте нежно-белый мазок у края голубого поля. Такую картину я бы назвал «Земля».
Позади послышалось тяжёлое дыхание. Я совсем забыл о Риттере. Заинтересованный моим долгим отсутствием, он карабкался на вершину тороса. Я посторонился, давая ему место на узкой площадке. Мне не терпелось поделиться своим открытием.
Я шагнул в сторону, и в тот же миг что-то хрустнуло под моими ногами. Я полетел вниз. Выронив бинокль, я успел вцепиться в край льда. Ноги висели над пустотой. Подо мной была глубокая яма, едва прикрытая сверху подмёрзлым снегом. Может быть, она шла до самой воды. Я подтянулся на руках. Риттер смотрел на меня. Ноги скользили по ледяной стене. Отчаянным усилием я приподнялся над ямой. Риттер шагнул вперёд и расчётливо ударил меня сапогом в грудь…
2
Я пришёл в себя на дне узкого ледяного колодца. Сверху обрушилась глыба льда. Второй кусок больно ударил в плечо. Я прижался к стенке. Над колодцем, загородив голубой просвет, склонился силуэт Риттера. Он вглядывался вниз. Я ещё тесней прижался к стене. Что-то упёрлось мне в бок. Я нащупал пистолет. Болело плечо. Я вытащил пистолет и выстрелил вверх. Голова Риттера исчезла. Вероятно, я промахнулся, потому что на меня снова посыпались куски льда. Теперь я стоял, прижавшись к стене, и они пролетали мимо. Я ждал, когда над ямой опять появится голова Риттера. Но он, очевидно, решил больше не рисковать. Сверху упало ещё несколько глыб, потом всё затихло.
Я был на дне глубокой расщелины. Вверх подымались отвесные стены высотой примерно с двухэтажный дом. Кверху колодец немного расширялся. Стены были гладкие, из твёрдого слежавшегося льда.
Я вырубил ножом в стене несколько ступенек, пока доставала вытянутая рука. Упираясь ногами в ступеньки, а спиной в противоположную сторону расщелины, я поднялся метра на полтора. Там вырубил ещё две ступеньки и поднялся выше. Дальше расщелина расширялась. Я попробовал дотянуться до противоположной стены и, не удержавшись, рухнул вниз.
Я поднялся ещё раз и снова упал с двухметровой высоты. Было трудно лезть в меховой куртке. — Я углубил нижние ступеньки и снял куртку.
Теперь я пополз по ледяной стене, прижимаясь к ней всем телом, пытаясь использовать малейшую неровность.
Я соскользнул вниз метров с трёх. Закоченели руки. Я надел куртку, рукавицы и долго бил ладонями по бёдрам, восстанавливая кровообращение. Потом снял рукавицы и засунул руки под свитер. Когда пальцы вновь стали гибкими, начал всё сначала…
…До края ямы оставалось совсем немного. Рука нащупала небольшую щель в ледяной стене. Я всадил в неё нож. Я не мог поднять головы, но уже чувствовал дыхание ветра над собой. Осторожно переставил одну ногу, вторую. Теперь вся тяжесть тела пришлась на воткнутую в щель финку. Я нащупал ногой новую ступеньку, когда нож сломался. Я удержался, распластавшись всем телом на стене. В моей руке был бесполезный обломок. Лезвие плотно застряло в узкой щели. Вытащить его оттуда закоченевшими пальцами было невозможно. Я медленно спустился вниз и устало сел, прислонившись к стене. Это был конец.
3
Сколько прошло времени? С трудом подымаю веки. Над головой голубой просвет. Значит, ещё день. Почти не чувствую холода. Это плохо. Но нет сил пошевелиться, встать на ноги… Да и зачем? Какой смысл? Я всё равно не могу выбраться из этой ледяной могилы… Снова наступает забытье…
…Все магазины были уже закрыты, когда я получил ключ у коменданта дома. Мы с трудом разыскали возле рынка ещё работавшую палатку. В ней не было ничего, кроме клубничной наливки, крабовых консервов и печенья. Я выпросил щербатый гранёный стакан — в палатке торговали газированной водой. Потом мы долго плутали среди заборов, штабелей кирпича и бочек раствора, отыскивая корпус «Е».
Он вырос перед нами неожиданно — громадный, кирпично-красный, с тёмными провалами окон.
В плохо освещённом подъезде стояли неразобранные малярные помосты, пахло олифой. Лифт, упрятанный за серой металлической дверцей, не отозвался на наши призывы.
— На каком этаже твоя квартира? — интересуется Нина.
— Нетрудно подсчитать, — бодро отзываюсь я.
Моя комната в 124-й квартире. Нумерация в подъезде начинается с 88-й. Считая, что на каждом этаже по четыре квартиры… 124-я оказывается на девятом.
— Лифт, вероятно, скоро включат.
— Посмотрим, — сухо отзывается Нина.
Мы поднимаемся по запачканной краской лестнице мимо одинаковых этажей, одинаковых тёмно-коричневых дверей с одинаковыми стеклянными глазками номеров. Между четвёртым и пятым этажами уже кто-то нацарапал на стене: «Вовка + Светка = Любовь».
Нина шумно возмущается. Она достаёт платок и начинает стирать надпись. Она не может допустить подобного кощунства в нашем новом доме. В результате платок выбрасывается, а надпись остаётся. На лестнице полумрак. Я целую Нину.
— Сумасшедший! В подъезде на пороге собственной квартиры!
Это странно звучит — «собственная квартира» — после стольких месяцев скитаний в поисках уединения по скверам и станциям метро.
124-я квартира оказывается выше всех, под самой крышей. К ней ведут ещё три ступеньки вверх.
Я достаю ключ. И тут только замечаю, что на привязанной к нему деревянной бирке выведена химическим карандашом цифра 24 — комендант дал мне ключ не от той квартиры.
— Всё! — категорически говорит Нина. — Отсюда я ни шагу.
— А что же делать?
— Иди обратно к коменданту.
— Он уже, конечно, ушёл.
— Не знаю. Делай что хочешь. Я остаюсь здесь.
Нина садится на ступеньки и достаёт из пакета продукты.
Наудачу толкаю дверь. Она заперта. Без всякой надежды пытаюсь вставить ключ в прорезь замка. Неожиданно он легко входит. Тихонько поворачиваю. Замок щёлкает. Дверь открывается.
— Да здравствует стандартизация производства! — кричу я. — Мы спасены!
Нина со вздохом подымается.
— Я так удобно устроилась.
В пустой квартире гулко отдаются шаги. Единственная, забрызганная известью лампочка болтается на шнуре в прихожей. Газ ещё не подключён, но в ванне из фыркающего крана уже идёт ржавая вода.
— От жажды мы, во всяком случае, здесь не умрём, — замечает Нина.
Нам, выросшим в коммунальных жилищах тридцатых годов, эта квартира кажется верхом роскоши и комфорта. Согласно ордеру мне принадлежит в ней одна комната в тринадцать целых сорок семь сотых квадратного метра. В комнате душно, пахнет краской. С треском распахиваю забухшее окно. С улицы врывается гул машин — внизу шоссе, западные ворота города, по нему нескончаемым потоком идут грузовики.
Я отдаю Нине коробок со спичками и при их прерывистом мерцании, взобравшись на единственный табурет, перевинчиваю лампочку из прихожей в комнату. При свете пустая квадратная комнатка кажется неожиданно большой.
У Нины широко раскрываются глаза.
— Какая комната! Не может быть, чтобы в ней было только тринадцать метров.
— И сорок семь сотых! Не забудь — сорок семь сотых!
— Никогда не поверю! Здесь восемнадцать… Нет, двадцать. Двадцать пять метров!
Нина перемеряет комнату шагами. Шаги она старается делать поменьше, но двадцать пять метров всё равно не выходит.
В коридоре свалены груды старых газет, они, очевидно, остались после оклейки стен обоями.
Мы перетаскиваем газеты в комнату и складываем в угол. Сверху расстилаем мой плащ. Получается неплохая тахта. На табурете накрываем «стол».
Это наше новоселье. Наша комната. Наш первый дом.
Я наливаю Нине в стакан наливку и чокаюсь с ней бутылкой. Наливка тёплая и очень сладкая. К печенью она ещё годится, но Нина с аппетитом ест консервы. Она очень любит консервы из крабов.
Мне хочется обнять её сейчас, но яркий свет лампочки мешает. Нина как будто понимает это. Она вытаскивает из «тахты» газету и сворачивает широкий раструб.
— Подыми меня. Она лёгкая, и мне нравится подымать её.
— Повыше.
Я вытягиваю руки. У самого лица оказываются не прикрытые короткой юбкой мускулистые, в синяках и в ссадинах ноги второго номера сборной женской волейбольной команды нашего завода. Я прикасаюсь губами к свежей царапине.
— Держи как следует! — строго говорит Нина.
Газетный абажур затемнил комнату, стало уютней.
— Всё!
Я чуть опускаю Нину, но не спешу поставить её на пол. Нина тоже на секунду замирает.
Мы снова садимся. Наступает томительная пауза. Я наливаю полстакана наливки, протягиваю Нине. Она отодвигает стакан.
— Невкусно. Пей сам.
Мне тоже не хочется пить эту тёплую, приторную жидкость.
Я отставляю бутылку и обнимаю Нину. Мы сидим притихнув. Под окном неумолчно рокочут машины…
В комнате светло. Огненные отсветы играют на распахнутых стёклах окна. Окно выходит на восток, и мы видим, как из-за противоположного дома подымается багровое солнце. Лучшего утра не было в моей жизни.
Я смотрю на Нину. В её глазах тоже отражаются огненные блики. Она прикрывает мне лицо рукой.
— Не смотри так…
Я целую её твёрдую ладонь.
— Хочешь есть? — спрашивает Нина.
— Да. А ты?
— Очень… Давай поедим. Только отвернись.
Я послушно отворачиваюсь.
На табурете стоят всё те же крабы, наливка и дешёвое печенье.
— Теперь можно. Что мы будем есть?
— У нас роскошный завтрак: свежий омар, бисквиты и испанское вино. С чего начнём?
— С омаров. Открой новую банку. Я умираю от голода.
— Хочешь выпить?
— Немножко… Хватит. Как странно. Вчера я ещё была девчонкой. Кругом всё то же, ничто не изменилось… Теперь меня будут звать Ниной Петровной. Не смей называть меня иначе.
— Слушаюсь!
— Слушаюсь, Нина Петровна…
— Слушаюсь, Нина Петровна!..
— За нас! Мы чокнулись.
— Какое сегодня число?
— Двадцать второе, — я посмотрел на часы. Было четыре часа утра. — Двадцать второе июня 1941 года…
4
Я заставил себя встать. Долго растирал онемевшие руки и ноги. Главное — не торопиться и не впадать в панику. Я не могу погибнуть здесь, в этой яме. Я должен выйти отсюда. Я не могу погибнуть в этот самый день, когда наконец появилась надежда на спасение. Я растирал руки и ноги до тех пор, пока не почувствовал колючую боль в ладонях и ступнях. У рукоятки ножа остался обломок лезвия не больше двух сантиметров. Я снял куртку и унты и медленно, цепляясь за каждую выбоину, добрался до щели, где застряло лезвие. Обломком ножа я стал осторожно вырубать его из ледяной стены.
Дважды я срывался и сползал вниз. Пришлось снова отогревать закоченевшие ноги.
На третий раз лезвие упало вместе со мной. Я надел унты и куртку.
Аккуратно отрезал тонкую длинную полоску от поясного ремня. В кармане куртки оказался погнутый трёхдюймовый гвоздь. Я выломал им пружину и обломок лезвия из черенка ножа. Потом вставил в щель рукоятки лезвие и накрепко прикрутил его ремешком.
Отдохнув, я полез снова.
Теперь я знал каждую неровность в стене. Ноги сами нащупывали нужную ступеньку. На этот раз мне удалось подняться на несколько сантиметров выше. Край ямы был совсем близко.
Прижавшись лицом к стене, я перевёл дыхание. Потом, собравшись с силами, снова перенёс всю тяжесть тела на рукоятку ножа. Ноги упёрлись в последнюю ступеньку. Пальцы свободной руки вцепились в край. Я переставил ноги ещё на несколько сантиметров. Потом выпустил рукоятку ножа и уцепился за край двумя руками. Последним усилием мне удалось подтянуться.
Я лежал ничком у края расщелины. Ноги ещё висели над пустотой. Гулко билось сердце. Прошло некоторое время, прежде чем я смог отползти от края ледяной ловушки. Ещё через четверть часа я сумел подняться на ноги.
Белая равнина была пуста. На юг уходил одинокий след саней. Риттер по пробитой нами колее ушёл обратно. Кое-где темнели на снегу брошенные вещи. Лейтенант торопился и уже на ходу разгружал слишком тяжёлые для одного человека нарты.
Сгущались сумерки. Я с трудом спустился с тороса. Добрался до первых брошенных вещей. На моё счастье, среди них оказался большой кусок брезента, не раз служивший нам палаткой. Я не стал устраивать себе жилище. Я просто завернулся в тяжелый ломкий брезент и тут же заснул на снегу. Впервые за последние недели я не боялся, что ночью сосед проломит мне голову.
5
Спал я долго. Только усилившийся на следующий день мороз заставил меня подняться. Я был очень голоден, но долгий глубокий сон всё же прибавил сил, Конечно, нечего было и думать догнать лейтенанта. Прошли почти сутки. Он ушёл уже далеко на юг. Теперь я должен был идти дальше один без саней, лодки и продовольствия. У меня был пистолет с запасной обоймой, и можно было воспользоваться кое-чем из брошенных Риттером вещей. Прежде всего надо было убедиться в своём вчерашнем открытии.
Я снова поднялся на торос. Но сегодня было пасмурно. Облака низко висели над горизонтом, и, сколько ни старался, я не мог отыскать мелькнувшей вчера белой полоски земли.
Я опустил бинокль. Было невероятно тихо. Ни шума ветра, ни скрипа шагов, ни шороха дыхания другого человека. К сердцу подступила глухая, тяжёлая тоска. Я был один среди ледяной пустыни. Я обвёл взглядом горизонт. Кругом лежала бесстрастная белая пелена. И только далеко на юге глаз задержался на какой-то чёрной точке. Несколько минут назад её ещё не было. Я снова поднял бинокль.
С юга, согнувшись, брёл человек. За ним тянулись нарты. Он шёл по укатанной, уже дважды пройденной колее. Человек изредка останавливался, вглядывался в гряду торосов на севере и снова устремлялся вперёд. Я бы узнал этого человека даже на расстоянии, вдвое большем. Это был Риттер. Я отступил в сторону, укрывшись за острой вершиной тороса.
Риттер торопился, он шёл всё быстрее и быстрее. Сани мешали ему. Наконец лейтенант сбросил лямку и напрямик, по снежной целине побежал к торосу. Он спотыкался, падал, подымался и снова бежал вперёд, оставляя за собой чёткую цепочку следов. Он пробежал мимо места моего ночлега к подножию тороса. В тишине слышались его неровные шаги.
Срываясь и падая, лейтенант стал карабкаться наверх. Я вынул пистолет и вышел из укрытия. Щёлкнул предохранитель. Риттер увидел меня.
— Не стреляйте! — задыхаясь, закричал он. — Ради бога, не стреляйте! Ради всех святых! O Mein Gott! Вы живы! Благодарение богу!
В его голосе послышались рыдания. Он опустился на снег в нескольких метрах от меня. У подножия тороса Риттер потерял шапку, он тяжело дышал, глаза были закрыты. Наконец лейтенант поднял взгляд.
— Я не смог уйти.
— Вижу.
Постепенно я понимаю случившееся. Я пытаюсь представить прожитые им сутки. Я представляю себе, как он, оставив меня в яме, двинулся на юг. Как торопился уйти. Как долго шагал по ледяной равнине. Как наконец остановился, сломленный усталостью, на ночлег. Как он лежал без сна, потрясённый своим одиночеством, тишиной и безбрежным пространством, лежащим между ним и людьми. Как его охватил страх. Как он нетерпеливо ждал рассвета. Но и утром страх не исчез. Риттер был в ужасе. Он понял, что не сможет идти один.
Я представляю себе, как он пытался справиться со слабостью. Как шёл, останавливался и снова шёл. Как почувствовал, что в конце концов потеряет рассудок и погибнет среди этой белой пустыни. Как сидел в отчаянии на санях, решая, как быть. Как потом повернул обратно. Как торопился, спотыкался, падал и снова шёл вперёд на север, больше всего боясь не застать меня, своего врага, в живых…
— Проклятая тишина, — Риттер судорожно всхлипнул. — Эта немыслимая тишина…
Глава седьмая
1
Каждое утро мы ищем в бинокль едва заметную полоску на краю ледяной равнины и голубого неба.
В пасмурную погоду она исчезает, но в солнечный день вновь появляется на горизонте, на том же самом месте, ни на шаг не приближаясь к нам.
Может быть, это мираж, обман зрения, подобный фата-моргане тропических пустынь?
Однако карта и расчёты убеждают, что перед нами тот остров, о котором говорил Дигирнес, на нём должна быть советская полярная станция. Риттер тоже уверен, что это земля. Но очень трудно определить расстояние до неё. Если остров низкий, то он совсем близко, может быть, всего километрах в пятнадцати-двадцати. Но если там проходит горная гряда и мы видим только выступающую из-за горизонта ледяную складку, то до берега может оказаться и сорок, и пятьдесят, и все шестьдесят километров.
Путь нам преграждают бесчисленные полыньи. Слоистые облака, как гигантское зеркало, отражают поверхность моря, и в пасмурные дни на облачном небе повсюду виден тёмный зловещий отсвет воды. Особенно задерживают нас большие полыньи, окружённые по краям битым льдом. Их нельзя ни перейти на санях, ни переплыть в лодке. Долгие часы мы ищем обхода или подступа к чистой воде.
Но, пожалуй, ещё хуже стягивающий трещины предательский молодой лёд. Под слоем снега его не отличить от толстых пластов, и каждый неверный шаг может кончиться катастрофой.
Я легче Риттера. Мы удлинили его лямку и поменялись местами. Теперь я иду впереди, ощупывая палкой каждое подозрительное место. Риттер молча шагает сзади. Он угрюм, малоразговорчив, но теперь честно делит со мной всю работу.
Мы шагаем в одной упряжке к далёкой призрачной земле, движимые общей надеждой на спасение.
2
Каждый вечер я отмечаю в судовом журнале «Олафа» пройденный путь. Сегодня, проставив число, я остановился, изумлённый датой. Как я мог забыть о таком дне? Давно ли он был для меня самым радостным в году?..
Я посмотрел на Риттера. Даже под густой бородой видно, как у него запали щёки. Хорошо, что у нас нет зеркала. Я, наверное, выгляжу не лучше. Уже несколько дней мы не едим горячей пищи: керосина нет, а все попытки подстрелить тюленя кончаются неудачей. Однажды мы встретили лежбище моржей, но нечего было и думать об охоте на них с одним пистолетом. У нас осталось всего несколько банок консервов. Последнюю галету мы съели два Дня назад. Одежда превратилась в лохмотья. Но хуже всего с обувью. Мои унты и сапоги Риттера совершенно отказываются служить. Мы, как могли, «отремонтировали» их шкурой тюленя, но и в таком виде они продержатся недолго. Вся надежда на близкое зимовье, тепло, сытный обед, отдых…
— Где вы были год назад, Риттер? — спрашиваю я.
Риттер в полузабытьи. Он не сразу понимает мой вопрос.
— Где вы были год назад в этот день?
Риттер напряжённо вспоминает.
— Дома, — говорит он наконец, — у себя дома, в Дюссельдорфе… У меня был первый отпуск с начала войны, на три дня. Три дня и две ночи… Обе ночи мы провели в бомбоубежище.
— Невесёлый отпуск.
— Мы думали, что расстаёмся ненадолго.
— Надеялись на скорую победу?
Риттер молчит.
— И вы больше не видели семью? — спрашиваю я.
— Нет. Я даже не знаю, что сейчас с ними. В Норвегии я ещё получал письма, а здесь…
— Но вы же могли связаться по радио.
Риттер качает головой.
— У нас был строгий лимит связи. Только необходимые сообщения. Мы могли передавать только сводки.
— Какие сводки?
Риттер не отвечает. Каждый раз, как мы доходим до этого, он уклоняется от продолжения разговора.
— Я так мало бывал дома, — задумчиво говорит он, — сначала экспедиции, потом армия…
— Вы давно в армии?
— С осени тридцать девятого.
— Были на фронте?
— Немного. Потом в Норвегии, в Тромсё.
— Тромсё? — Передо мной встаёт мостик «Олафа». Знакомая фигура у поручней. Козырёк фуражки и трубка, всегда обращенные к берегам Норвегии. — Это большой город?
— Всего несколько улиц…
А мне казалось по рассказам Дигирнеса, что это огромный порт, вроде нашей Одессы.
— Но там хорошая обсерватория… — продолжает Риттер.
— Жаль, — говорю я. — Жаль, капитану Дигирнесу не удалось поговорить с вами.
Риттер поворачивается.
— Капитану Дигирнесу? Знакомое имя.
— Ещё бы. Вы убили его в день нашей встречи. В Тромсё у него жена и двое детей. Может быть, вы жили с ними на одной улице.
Риттер долго молчит.
— Да, — говорит он наконец, — всё могло бы быть иначе, если бы не наша злосчастная встреча…
— Не мы искали её… Та радиограмма, что мы получили на корабле, тоже входила в ваши сводки?
— Что? — Риттер поворачивается. — Какая радиограмма?
— Радиограмма, которая навела наш транспорт на камни.
Риттер пожимает плечами.
— Первый раз слышу. Я узнал о гибели вашего корабля из судового журнала.
— О гибели — возможно, хотя и надеялись на это. А о самом корабле? Вы же приняли наш «SOS». К вам взывали: «Спасите наши души!» Вы охотно откликнулись…
— Вы ошибаетесь. Если бы даже наш радист и принял такой сигнал, он не имел права отвечать. Операция «Хольцауге» предусматривает полную секретность.
— Операция?..
Риттер молчит.
— Как вы сказали: операция…
— «Хольцауге», — устало говорит Риттер. — «Деревянный глаз»… сучок… Вам немного даст это название.
Риттер прикрывает глаза. Я чувствую, что тоже безмерно устал. Пора устраиваться на ночлег.
Теперь нечего опасаться Риттера, но я всё равно не засыпаю, пока не заснёт он. Не так просто освободиться от нервного напряжения предыдущих недель. Я думаю о человеке, лежащем рядом со мной. Целый мир разделяет нас.
Риттер ворочается, шумно вздыхает.
— Mein Gott! Wenn man mir einem Jahr sowas propherzeite…[9] Вы спите?
— Нет.
— У вас есть дети?
— Нет.
— У меня двое.
— Я знаю.
— Франц и Губерт… Вы счастливец. У вас нет воспоминаний… Почему вы спросили, что я делал в этот день год назад?
— Так. Просто так. Давайте спать.
Риттер затихает.
3
…Наш эшелон встал на запасных путях далеко от вокзала, и я долго пробирался через рельсы, маневровые тупики и сортировочные горки.
За пакгаузами была деревянная, незнакомая мне Москва.
По узким, мощённым булыжником переулкам я вышел на Садовое кольцо. Придавленный свинцовым небом город был непривычно пуст.
Я знал, что Нина вместе с заводом эвакуировалась на Урал, но всё-таки из первого же автомата позвонил к ней домой и в конструкторское бюро. Мне, конечно, никто не ответил.
…В подъезде нашего дома лифт не работал. Между четвертым и пятым этажами было нацарапано: «Вовка + Светка = Любовь».
Мне никто не повстречался до самого девятого этажа.
В тишине квартиры гулко хлопала форточка на кухне: её забыли закрыть уезжая.
В комнате с окон были сняты занавески. Пружинный матрац на самодельных козлах покрыт чертёжной «синькой». Значит, Нина была здесь перед отъездом. Повсюду лежал слой пыли. На столе белела придавленная книгой записка. У меня гулко забилось сердце.
«Никогда не думала, что это так немыслимо — жить без тебя…»
Я вышел на кухню и закрыл форточку. Стало совсем тихо. Вечерело. Над центром города подымались аэростаты.
Я не мог сидеть один в этой тишине. Надел шинель и выбежал на улицу, к будке телефона-автомата. Телефоны молчали. Наконец я набрал наудачу номер Даньки Сазонова. Мне ответил женский голос. Я попросил Даниила. Наступила пауза.
— А кто его спрашивает? — голос прозвучал странно.
— Институтский товарищ, — почему-то я не назвал себя.
— Дани нет, — глухо ответила женщина.
— Нет в Москве?
— Он погиб в сентябре под Гжатском.
Я повесил трубку.
…Рынок был закрыт, но у ворот ещё толкались люди.
За трофейный портсигар мне дали четвертинку спирта-сырца.
Я вернулся на девятый этаж. Развёл в бутылке из-под молока спирт. Бутылка нагрелась. Я поставил её под кран.
За окном завыла сирена воздушной тревоги. Я погасил свет и поднял на кухне штору светомаскировки. В вечернем небе метались прожекторы, вспыхивали фейерверки трассирующих снарядов. На крыше соседнего дома дежурил патруль противовоздушной обороны: двое мальчишек и девушка в лыжных брюках.
Бутылка остыла. Я поставил её на кухонный шкаф-подоконник. Утром в эшелоне нам выдали полукопчёную колбасу. Хлеба у меня не было.
Я сидел без света на кухне у окна, н передо мной стоял неприятно пахнущий разведённый сырец. На крыше девушка неотрывно смотрела в небо.
«Никогда не думала, что это так немыслимо — жить без тебя».
Это был мой день рождения. Мне исполнилось двадцать четыре года.
У нас осталось четыре банки консервов.
Остров, как заколдованный, стоит перед нами. В бинокль он уже отчётливо виден. Светлая полоса, которую я разглядел почти две недели назад, — вершина ледника, крутым обрывом спускающегося к морю. Никаких признаков людей там нет. Станция, по-видимому, на противоположной, низменной стороне острова. До берега не больше десяти-пятнадцати километров — один переход по хорошей дороге.
Но кругом мелкий битый лёд. Мы осторожно перебираемся с льдины на льдину. Лёд шершавый, в застругах, полозья нарт почти не скользят. Но самое страшное — переменился ветер. Он теперь дует с северо-запада, и за сутки нас относит к югу едва ли не на весь дневной переход. Каждый вечер мы с отчаянием смотрим на недоступный берег.
Риттер страшно исхудал. У него болят обмороженные ноги. Он громко стонет во сне.
4
После завтрака я выкинул ещё одну банку из-под тушёнки.
За ночь лёд подвинулся, и впереди у острова виднелась широкая полоса чистой воды. Трижды мы подходили к ней и трижды отступали перед месивом мелкого льда и снега. Мы уже теряли силы, когда впереди открылся идущий на север неширокий канал.
Это был предельный риск. Самое лёгкое сжатие раздавило бы нашу лодку, как скорлупку, но у нас не было другого выхода. Мы гребли изо всех сил и облегчённо вздохнули, когда оказались на чистой воде.
Остров был уже близок. Даже без бинокля можно было разглядеть все трещины в стене ледника. Начался прилив. Лодку понесло на север. Мы помогали вёслами сколько хватало сил. Было ещё светло, когда мы коснулись крепкого прибрежного льда.
Мы вытащили лодку на лёд. Не терпелось подняться на остров, но голова кружилась от усталости и голода. У нас оставалось немного кофе и несколько брикетиков сухого спирта. Мы вскипятили кофе и открыли банку консервов. На дне мешка осталась всего одна, последняя.
Поев, мы смогли двинуться дальше. Неподалёку от нашей стоянки стену ледника наискось пересекала широкая, забитая снегом трещина. Мы оставили сани и лодку на берегу, а сами налегке поднялись по трещине вверх.
К югу от острова лежали ледяные поля. К западу до самого горизонта темнела чистая вода.
Северную часть островка скрывала небольшая возвышенность. Мы поднялись на неё. Рука Риттера сжала моё плечо. Внизу, километрах в трёх, на вдающемся в море мыске стояли два занесенных снегом домика. Возле них высилась мачта радиостанции. Над одним, из домиков развевался на ветру флаг.
Я поднёс к глазам бинокль.
Флаг был красным.
Я долго смотрел на алое пятнышко, бьющееся на ветру.
В бинокль была отчётливо видна траншея в снегу. По ней из одного домика в другой не спеша прошёл человек.
Я выстрелил в воздух. Риттер закричал. Но было слишком далеко, к тому же ветер дул в нашу сторону.
Сгущались сумерки. Идти к станции было невозможно. Мы решили не возвращаться к лодке и саням и дождаться рассвета здесь, на вершине ледника.
5
Мы лежали, засунув ноги за спину друг другу, как меня учил Дигирнес. Спать не хотелось. Я думал, что меня, наверное, давно занесли в списки пропавших без вести, и Нина — её адрес. был указан в документах — получила извещение об этом. Может быть, я смогу завтра дать радиограмму на материк?
Я попытался представить Нину в чужом городе на Урале, в чужом доме, среди незнакомых людей. Сейчас там тоже ночь, осень, наверное, идёт дождь…
— В России есть Красный Крест? — спрашивает Риттер. Он также не спит.
— Есть. А что?
— Может быть, мне удастся связаться с семьёй. Красный Крест должен помогать военнопленным.
— Здесь мирная станция. Просто люди не успели вернуться на материк.
— Всё равно я ваш пленный. — Риттер приподымается. — Вы взяли меня в плен с оружием в руках. На меня распространяется Гаагская конвенция.
Я не расположен обсуждать сейчас вопросы международного права. Мы умолкаем. Сон всё не идёт.
— Как вы думаете, — говорит Риттер, — когда это кончится?
— Что?
— Война.
— Месяц назад вы знали это лучше меня.
Риттер долго молчит.
— Вы молоды, — говорит он после паузы. — У вас нет семьи… Вы не знаете, что такое дети… Mein Gott, laß mich noch einmal meine Kinders wiedersehen![10]
Давно ли я сам был мальчишкой? Как странно обернулись детские мечты. Я бредил Арктикой. Тогда ещё не было ни челюскинцев, ни папанинцев — мы играли в спасение Нобиле, и я жестоко дрался во дворе за право быть лётчиком Чухновским.
— Вы давно были в Петербурге? — спрашивает Риттер.
— Вы хотите сказать — в Ленинграде?
— Да. Для меня он остался Петербургом…
— А для меня это Ленинград. Был недавно.
— Ну и как? Как сейчас выглядит город?
— Обычно. Нормально выглядит. Воюет…
Я никогда не был в Ленинграде. Но мне не хочется признаваться в этом Риттеру.
— Я бы очень хотел побывать там, — говорит Риттер. — Это город моего детства. Последние дни я почему-то всё время вспоминаю о нём… Мы жили на Екатерининском канале, возле Банковского моста. Жёлтый дом со львами. Рядом был большой сад. Я играл в нём в индейцев… Интересно, что там теперь…
— Во всяком случае, сейчас там не играют в индейцев. Мальчишки Ленинграда умирают от голода… А в дорогой вашему сердцу дом давно могла попасть сброшенная с «юнкерса» фугаска.
Больше Риттер не задаёт мне вопросов.
Не знаю, как он, а я обязательно буду в Ленинграде. Мы приедем туда с Ниной рано утром «Красной стрелой». Снимем номер в лучшей гостинице. В «Астории». Говорят, там очень шикарно. Мы выйдем на Невский. Увидим Зимний дворец, «Аврору», арку Главного штаба. До сих пор я всё это видел только в кино. Я ещё слишком мало видел на земле.
Мы пойдём в Эрмитаж, медленно обойдём тихие залы, сходим в квартиру Пушкина на Мойке. Потом мы устанем. Нина проголодается. Мы зайдём в самый лучший ресторан, закажем самые дорогие блюда. На столах будут лежать белые скатерти и стоять весенние цветы. Вокруг будут сидеть нарядные, чистые люди. Будет играть тихая музыка. И не будет никакой войны.
6
Грохот разрыва оборвал тишину. Взметнулась земля. Над выжженной степью летели грязно-серые бомбардировщики с чёрными крестами на хвостах…
Опять приснился этот проклятый кошмар. Я открываю глаза. Риттер сидит у меня в ногах. В его глазах испуг. Значит, это не сон.
Новый разрыв сотрясает воздух. Мы вскакиваем. Внизу, на другой стороне острова, там, где вдаётся в море мысок, яркий сноп света прорезает темноту. Свет, кажется, исходит из самой воды. В его луче строения станции. Огненная вспышка у основания луча. Звук выстрела сливается с грохотом разрыва. Тёмное облако подымается над домиком. Луч прожектора переносится на соседний дом.
И снова грохот разрыва. С моря ударяют трассирующие пули крупнокалиберных пулемётов.
В бинокль видно, как к берегу в свете прожектора пристаёт лодка. Из неё выскакивают люди. Грохот разрывов смолкает. Вступают характерные очереди немецких автоматов.
Несколько слабых хлопков. Судя по звуку, это выстрелы из охотничьих ружей. Снова автоматные очереди. На этом расстоянии не слышно криков людей. Наконец выстрелы смолкают.
В наступившей тишине высадившиеся на берег солдаты суетятся между строениями. Мелькают огненные блики. Больше ничего нельзя рассмотреть.
Солдаты покидают остров. В луче прожектора видно, как они прыгают в шлюпку. Шлюпка отваливает. И тут же на берегу вспыхивает гигантский, вздымающийся к небу костёр. Яркое пламя озаряет вдающийся в море мысок.
В зареве пожара отчётливо видна удаляющаяся шлюпка и чуть дальше низкий длинный корпус подводной лодки.
На ходовом мостике неясные силуэты фигур. По пожарищу бьют очереди крупнокалиберных пулемётов. Десант подымается на борт подводной лодки. Гаснет прожектор. Подводная лодка растворяется во тьме.
В поле бинокля, вздымаясь к небу, полыхает огромный костёр. Языки пламени бушуют над крышей дома. Выше огня трепещет на ветру пятнышко — флаг на флагштоке. Но вот пламя взметнулось вверх, и, слившись с ним, исчезло трепещущее алое пятно.
7
Я мчался вниз, не разбирая дороги. Я падал, разбивался в кровь и снова бежал туда, где в ночи бушевало пламя пожара. О Риттере я вспомнил, только услыхав тяжёлое дыхание за своей спиной. Лейтенант бежал следом.
Уже светало, когда мы добрались до места ночного боя. Пожар догорал. Резко пахло нефтью. Снег вокруг строений был коричнево-чёрный от пепла и пролитого мазута.
Огонь уничтожил всё: мачту радиостанции, дома, пристройки. Возле пожарища валялись стреляные гильзы, в снежной траншее лежала разбитая двустволка с обгоревшим прикладом.
Убитых не было видно. Где же люди? Не увели же их гитлеровцы с собой? Мы подошли к строениям.
В первом домике выгорело всё. Из кучи углей и головешек торчала только покривившаяся труба железной печки.
Во втором доме догорала рухнувшая кровля. Риттер, подобрав уцелевшую палку, пошевелил тлеющий костёр. Фыркнуло пламя. Лейтенант испуганно отшатнулся. Он выронил палку, прикрыл лицо рукой и отвернулся. Его стошнило.
Я понял, что он увидел под догорающей кровлей. Мне захотелось скорее уйти с этого страшного чёрного квадрата опалённой земли.
В глубь острова по снегу бежала цепочка торопливых мелких следов. Они обрывались у небольшого сугроба. Там, уткнувшись в снег, лежала белая, пересечённая алой перевязью фигура. Я подошёл ближе. Человек в одном тёплом белье лежал ничком на земле. Через всю спину по шерстяной нижней фуфайке расплывалась широкая, уже подмёрзшая кровавая полоса. От плеча к поясу человек был перерезан очередью из автомата.
Я перевернул убитого. Это была женщина. Женщина лет тридцати, полная, небольшого роста.
В её коротких светлых волосах были тугие бумажные папильотки.
8
Мы сидим на берегу под ледяным откосом. Шагах в пяти стоит наша лодка. Прошло меньше суток с тех пор, как мы высадились на этом безымянном островке. Надо двигаться дальше. Но куда? До Шпицбергена ещё около ста километров. Их немыслимо пройти без продовольствия и топлива двум измученным больным людям.
Всё-таки я устанавливаю нарты поперёк лодки и спускаю наш корабль на воду. Впереди чистая вода, можно будет идти на вёслах. Риттер сидит, закрыв глаза.
— Вставайте, — говорю я. — Надо уходить.
— Куда? Я не могу… Оставьте… — он бессильно роняет голову.
Надо вывести его из этого состояния. Бью Риттера наотмашь по щекам. Наконец он выходит из забытья.
— Что вы хотите? Зачем я вам? Оставьте меня…
Мне приходится быть жестоким.
— Мне плевать на вас. Меня интересует операция «Хольцауге».
Риттер шире открывает глаза.
— Вас всё ещё интересует… — Он пытается усмехнуться, но его смех больше похож на хриплый кашель.
— Мне не до шуток. Как вы очутились на ничьей земле?
Риттер облизывает пересохшие губы.
— Это было личное задание Геринга. Выполняла военная разведка адмирала Канариса. Нас высаживали в строжайшей тайне с рыбачьих тральщиков, подлодок и ледоколов…
— Что от вас хотели Геринг и Канарис?
— Во-первых, сводки погоды… Регулярные сводки… Огромный фронт… От Лондона до Волги… — Риттер говорит медленно. Он с трудом выталкивает слова из потрескавшихся губ. — У нас нет станций севернее Норвегии… Здесь кухня погоды. Авиация слепа. Мы даём сводки… Каждые шесть часов сводки… Чтобы победить в воздухе, нужен прогноз… Ежедневный точный прогноз…
Я вспоминаю «юнкерсы», летевшие над Доном, разбомблённую Лозовую, горящий Харьков.
Риттер, прикрыв глаза, умолкает. Я наклоняюсь к нему.
— И это всё?
Риттер молчит.
— Сводки — и только?
Лейтенант поднимает веки.
— Нет… — Я скорее угадываю, чем слышу его голос. — Остальное тоже… Разведка… Наводка рейдеров… Дезориентировка самолётов и кораблей противника.
— Значит, та радиограмма?..
— Да… Я отдал приказ… Я исполнил свой долг…
— Долг?
— Да. Я так считал… Я хотел, чтобы скорей кончилась эта война…
— И потопили безоружный транспорт… А то, что случилось здесь вчера?
Риттер подымает усталые больные глаза.
— Оставьте… Дайте мне спокойно умереть…
— Вставайте, — говорю я.
Риттер не отзывается. Встряхиваю его. Лейтенант валится на лёд. Я выпрямляюсь.
— Встать! Ауфштеен! Шнеллер!
Риттер машинально повинуется. Неуверенно встаёт. Я подхватываю его под руку.
— Идёмте, — говорю я.
9
Мне удалось подстрелить несколько нырков, и это немного поддержало наши силы. Но Риттер с каждым днём слабеет. Он не верит, что мы сможем добраться до людей. На воде лейтенант ещё кое-как гребёт, а на льду идёт рядом с санями, с трудом переставляя ноги. Мы едва продвигаемся вперёд. Если не случится какое-нибудь чудо, мы погибли.
Вечерами Риттер долго шелестит страницами писем. Вряд ли он может что-нибудь разобрать на этих потёртых листках. Просто он вспоминает дом, семью, перебирает свою жизнь.
Днём Риттер ко всему безразличен. Боюсь, скоро настанет час, когда я не смогу заставить его идти дальше.
10
Сегодня нам повезло. Мы вышли к чистой воде и только к вечеру доплыли до противоположного края широкой полыньи.
Я первый вышел на льдину и замер поражённый: по снегу поперёк ледяного поля проходил отчётливый след саней. Рядом со следом полозьев, порой переплетаясь с ним, явственно отпечатались следы двух пар ног. Здесь недавно проходили люди!
Я позвал Риттера. Лейтенант на мгновение оживился. Он долго всматривался в следы. Постепенно его лицо становилось всё мрачнее.
Мы вытащили на лёд лодку, сняли наши нарты. Риттер подтащил их к следу. Полозья нарт точно совпали с колеёй.
Это были наши следы. Мы прошли по этой льдине, может быть, день, может быть, два, а может быть, н месяц назад. Теперь её занесло дрейфом вперёд. Мы будто кружимся на гигантской карусели, и кто знает, куда нас выбросит её бег…
Мы молча сидели на санях. Риттер, казалось, дремал. Мне тоже мучительно хотелось закрыть глаза, вытянуться в нартах и забыть обо всём.
— Надо идти, — сказал я.
— Вы ещё надеетесь дойти? — глухо спросил Риттер.
— Да. Вместе с вами.
Риттер покачал головой.
— Я не могу сделать ни шага, — Он прикоснулся к ноге и поморщился от боли. — Идите один.
— Вы пойдёте. Пойдёте со мной, Риттер. Вы отлично это знаете.
Риттер помолчал.
— Вас всё ещё интересует операция «Хольцауге»?
— Да, — твёрдо сказал я.
Это было единственное, что могло сейчас оправдать моё упорство в глазах Риттера.
Лейтенант опять надолго умолк. На западе, за чистой водой низко висело солнце. Наконец Риттер поднял голову.
— Где ваша карта?
Я достал карту и отдал лейтенанту. Мне нечего было смотреть. Я знал наизусть каждый миллиметр на ней.
Риттер попросил карандаш. У меня не было сил повернуться я посмотреть, что он делает с картой. Может быть, он знает какой-нибудь выход?
Риттер тронул меня за плечо.
— Вот, — сказал он, — смотрите… Здесь всё. Всё, что я знаю. Клянусь. Но дайте слово, что теперь вы оставите меня…
Раздался зловещий треск. Я вскочил. Большой кусок оторвался от нашей льдины. На его краю стояла лодка. Она наклонилась, покачалась мгновение и нехотя, как в замедленном кино, соскользнула в воду. Ветер погнал лодку на запад. В ней были одеяла, спальный мешок, остатки спирта и тюленьего жира, спиртовка, патроны. Уплывала последняя, едва теплившаяся надежда на спасение.
Риттер, выпрямившись, с ужасом смотрел на удаляющуюся лодку. Раздумывать было некогда. Я снял пояс с пистолетом, сбросил меховой комбинезон и унты и кинулся в ледяную воду.
Свитер и брюки стесняли движения, лодку быстро относило к чистой воде. Дважды я подплывал к лодке вплотную, и дважды течение уносило её вперёд раньше, чем я успевал ухватиться за борт. Расстояние между нами стало увеличиваться. Я выбился из сил. Будто сдавленное чьей-то рукой, замерло сердце. Я перевернулся и поплыл на спине.
Со льдины донёсся слабый хлопок. Я не мог поднять головы и посмотреть, что там случилось. Меня подхватило сильное течение. Когда я снова перевернулся, лодка была намного ближе. Ко мне вернулись силы. Закоченевшие руки и ноги плохо слушались, но всё-таки я двигался вперёд. Отчаянным движением я уцепился за край лодки.
Я грёб обратно, не жалея сил. Тело уже не чувствовало холода. Эта бешеная гребля, наверное, спасла меня.
Риттер сидел на льду. Он не двинулся с места при моём приближении.
— Риттер! — крикнул я.
Он не отозвался.
Я с трудом вытащил лодку на льдину и бросился к своему спутнику. Он сидел без шапки, прижавшись спиной к нартам.
Рядом валялся парабеллум. Из маленькой ранки в виске уже не текла кровь.
Рядом лежала смятая карта. Я машинально развернул её. На карте в разных местах: у восточного побережья Гренландии, на островах архипелага Земли Франца-Иосифа и даже у оконечности Шпицбергена — были нанесены карандашом жирные кресты. Такой же крест стоял на том острове, где мы впервые повстречались с лейтенантом. Это была карта операции «Хольцауге».
11
Я разбил топором нарты и развёл большой костёр. Бросил в него и вёсла. Жаркий огонь быстро согрел меня и высушил одежду.
Я отобрал самое необходимое из снаряжения: спальный мешок, секстант, спиртовку — и сложил всё это в рюкзак.
На вырванных из судового журнала страницах я подробно по-русски и, как сумел, по-английски, записал рассказ Риттера о личном задании Геринга.
Потом я вернулся к лейтенанту и оттащил его тело в небольшую расщелину.
Из руки Риттера выпал листок. Я поднял его. Это была фотография молодой женщины и двух мальчиков лет шести-восьми, на обороте надпись: «Düsseldorf, 1941». Вместе с картой я спрятал её в прорезиненный мешок.
Потом я завалил тело Риттера снегом.
Впереди была гряда высоких торосов. Я поднялся на вершину гряды.
Я задержался на краю ледника, чтобы оглядеть пройденный путь.
Стояла мёртвая, торжественная тишина. Насколько видел глаз, к югу тянулись ледяные поля, широкие разводья, гряды торосов и острые клинья отдельных ропаков.
Садилось солнце, и ледяные поля казались гигантскими кристаллами багрово-красного кварца.
Глава восьмая
1
Мир двухцветен. Он как чёрно-белое кино. Кто-то стёр с земли зелень травы, мягкую желтизну речного песка, золотистую, будто опалённую солнцем кору сосен, голубизну рек, красный гранит скал, яркую россыпь цветов.
Осталось только два цвета. Белый и тёмно-свинцовый. Белый лёд и тёмно-свинцовая вода.
В мире пропали звуки. Не стало пения птиц, гула машин, шелеста листьев, голосов людей. Ничего. Только тихий скрип снега под ногами.
И вдруг грохот орудийного залпа врывается в онемевший мир. Это подвинулись льды. И снова тишина.
Я один в этом страшном мире.
Я иду к горизонту.
2
Я лежу, распластавшись, на снегу. Метрах в ста чернеет круглая голова тюленя. Он зорко осматривается вокруг. Ветер дует в мою сторону. Я лежу неподвижно. Ни малейшего звука, иначе зверь тут же исчезнет в лунке. Наконец тюлень опускает голову. Он дремлет.
Я ползу вперёд. Сон тюленя чуток и прерывист. Всего пять-шесть секунд, и он снова подымает голову. Я замираю, жду когда опустится чёрная круглая голова. Я должен подползти так, чтобы стрелять наверняка. Его мясо, кровь, жир — это жизнь. Я должен убить его. Я должен дойти до людей.
3
Воет ветер. Метёт пурга. Я лежу в снежной яме. В спальном мешке тепло. Очень хочу спать. Спать, спать без конца. И никуда больше не идти. Не трогаться с места. Только спать.
Успокаивается ветер. Затихает пурга. Всё так же хочется спать. Невозможно пошевелить рукой.
Но я заставляю себя встать. Стряхиваю сон. Я должен идти. Меня ждут. Ждут лётчики, погибающие в воздушных боях; ждут люди, умирающие под бомбёжкой; ждут команды гибнущих кораблей и полярники расстреливаемых станций.
Ждёт в Тромсё семья Дигирнеса. Я должен побывать там и рассказать, как умер капитан.
«Никогда не думала, что это так немыслимо — жить без тебя…»
4
Мир стал ещё беднее. Исчезло солнце. Я видел его последний розовый закат. Теперь даже в ясную погоду оно не подымается над горизонтом. Нет дня, нет утра, нет вечера — долгие бесконечные сумерки. Полуночное беззвёздное небо. Я иду почти наугад.
5
Небо вспыхнуло. Высоко на западе зажёгся сноп красных лучей. На противоположной стороне повис гигантский цветной занавес. Бесплотный и лёгкий, он ежесекундно меняет свои очертания, переливаясь всеми цветами — от бледно-зелёного до алого. Огненные языки прорезывают небо. Бегут стремительные молнии, вспыхивают и гаснут сверкающие ленты…
Что это? Отсвет далёкой зари? Космическая буря? Или просто видение, родившееся в моём усталом мозгу?
6
Вдали слышится лай собак. Я хочу поднять голову и не могу этого сделать. Лай собак приближается. Слышу громкий в тишине скрип полозьев и гортанные крики каюра.
Сани едут прямо на меня. Нет сил отползти в сторону. Всё, что я могу, — это достать пистолет. Сани уже совсем близко. Я вижу мохнатую вереницу собак. Слышу голоса людей. Они говорят по-английски. Я стреляю в воздух.
7
Открываю глаза. Надо мной низкий, обшитый фанерой потолок. Звучит негромкая музыка. На столе затенённая бумагой керосиновая лампа и приёмник. Возле него спиной ко мне человек в толстом свитере. В комнате тепло. Я лежу раздетый под одним шерстяным одеялом на мягком топчане, под головой настоящая подушка. Мои руки туго забинтованы. Лицо смазано какой-то пахучей мазью.
Скрипнул топчан. Человек обернулся. Это совсем молодой паренек лет девятнадцати, светловолосый, с нелепыми на его юношеском лице пшеничными усами. Он подходит ко мне.
— Как вы себя чувствуете? — спрашивает он по-английски.
— Хорошо… Карта… Где карта? Вы нашли карту?
— Не беспокойтесь! Всё в порядке. Лежите спокойно. — Он смотрит на часы. — Скоро приедет врач. Русский врач.
Я хочу спросить, что делается там, в большом мире, на фронте. Но мне трудно подобрать нужные английские слова, а паренек протестующе трясёт головой.
— Молчите. Вам нельзя напрягаться. Скоро приедет русский врач.
Он возвращается к приёмнику. Свистит настройка, и вдруг в комнату врывается русский голос, странный, медленный баритон. Он читает длинный список имён:
— «Семён, Татьяна, Андрей, Леонид, Иван, Нина, Геннадий, Раиса, Андрей, Дмитрий, Андрей, — Сталинграда. Точка…».
Англичанин поворачивает ручку.
— Нет! — кричу я. — Нет! Но! Но!
Испуганный паренёк возвращает волну. Я догадываюсь — идёт передача материалов для районных и областных газет. Там, в Москве, далёкий диктор медленно, по слогам читает сводку Совинформбюро:
«…Та-ким обра-зом, запятая, на-ши вой-ска за-вер-ши-ли полное окру-жение в райо-не го-ро-да Шестой… Передаю по буквам: Шура, Елена, Семён, Татьяна, Ольга, Иван — краткий — шестой немецко-фашистской армии…».
Я ещё очень слаб. Я прикрываю глаза. И передо мной встаёт белая земля и бесконечная дорога, по которой я шёл сюда, к людям.
Эпилог
Колчин посмотрел на часы и подозвал кельнера. Перед ним на столе уже стояла целая стопка круглых картонок с надписями: «Избавь нас, боже, от злого взгляда, большого зноя, ненастья тоже». За окном проносились машины, шумела пёстрая уличная толпа.
Кельнер пересчитал картонки. Колчин расплатился и вышел.
Серый четырёхэтажный дом был напротив. Колчин стоял в нерешительности. Его отделял от дома только густой поток машин.
Должен ли он сделать то, что задумал? Уже четвёртый день их группа в этом городе. Сегодня они уезжают. Он должен сделать это сегодня, или…
На пешеходной дорожке появился человек в синих очках. Его вела собака. Человек натягивал поводок, чтобы чувствовать малейшее движение собаки. На рукаве слепого желтела повязка с тремя чёрными кругами. Машины остановились.
Колчин перешёл улицу. Снова задержался у подъезда, над которым висели медные таблички номеров квартир.
Кто встретит его там? Кем стал теперь мальчик с фотографии? Поймёт ли этот человек, что привело через двадцать лет Колчина к его дверям?
И всё-таки Колчин чувствовал, что не может уехать просто так.
Он поднялся на третий этаж. На двери квартиры была скромная металлическая табличка: «Д-р Франц Риттер». Колчин перевёл дыхание. Нажал кнопку звонка. В случае чего он скажет, что ошибся квартирой.
Дверь открыл высокий человек лет тридцати. Рыжеватые светлые волосы, худощавое гладковыбритое лицо, под очками без оправы внимательные серые глаза. На прямых плечах — простой серый свитер, под ним воротничок белоснежной сорочки.
Франц Риттер был очень похож на отца, но в то же время напоминал Колчину ещё кого-то. Человека, которого он видел совсем недавно в этом городе. Но кого? Пауза затягивалась. И вдруг Колчин вспомнил. Всем своим обликом, серьёзным взглядом глаз, спокойным ожиданием он напоминал того юношу, что собирал в кафе деньги для алжирских детей.
— Здравствуйте, — сказал Колчин. — Мне надо поговорить с вами…

ОБ АВТОРАХ
Суровая правда войны
О войне написано много, пожалуй, нет в нашей литературе которая так бы постоянно волновала писателей всех поколений. За тридцать лет, прошедших со Дня Победы, создана своеобразная литературная летопись Великой Отечественной войны Но вот выходит новая повесть или новый роман, и мы видим что авторы опять открывают для нас неизвестную страницу, знакомят нас с людьми необыкновенными, с их мужеством и преданностью Родине.
В своей книге «Человек и война», вышедшей в 1973 году в издательстве «Советский писатель», литературовед А. Бочаров пишет: «Именно мирная жизнь влияла в первую очередь на изображение войны: изменялись и наше понимание, что такое правда войны, и наши сегодняшние вопросы, на которые мы искали ответы в делах минувших, и облик героев, выходящих на передний план».
Нельзя не согласиться с А. Бочаровым. Именно послевоенные годы подарили нам такие романы и повести, как «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Пядь земли» Г. Бакланова, «Последняя ракета» В. Быкова, «Живые и мёртвые» К. Симонова, «Блокада» А. Чаковского и другие.
Мы читаем книги о войне, смотрим фильмы. Их немало, но интерес к ним не ослабевает. В чём же секрет военного жанра? В чём сила его эмоционального воздействия на читателя и зрителя? На мой взгляд, прежде всего в том, что именно этот жанр позволяет художнику раскрыть огромное духовное богатство героев, тем самым делая их живыми людьми, расстаться с которыми невыносимо тяжело. Таким становится для нас Александр Колчин, герой повести Алексея Леонтьева «Белая земля». Он не профессиональный военный, он инженер. Стечение обстоятельств, та самая неожиданность, от которой никто не застрахован на войне, заставляет его взять в руки оружие.
Гибнет корабль, на котором плывёт Колчин. Спасаются только он и капитан. Но что значит спасаются? Действие книги происходит на Крайнем Севере, поэтому герои попадают на остров, попадают в белое безмолвие снегов. Именно там происходит встреча с немецким патрулём, гарнизоном полярной радиостанции. Спутник Колчина убит, а сам он взят в плен.
Я вновь повторяю, что герой Алексея Леонтьева не был профессиональным военным, он даже не был полярником. Это его первая встреча с Севером. С трудом ему удаётся освободиться и завладеть оружием.
Итак, огромное многокилометровое снежное безмолвие, а в нём два человека — советский инженер Колчин и немецкий ученый и метеоролог Риттер. Но немец не просто метеоролог, он опытный полярник и профессиональный военный, специально подготовленный к диверсионным действиям на Крайнем Севере. Колчин ведёт немца на Шпицберген. Это большой, многомесячный путь. Он не может его убить. Риттер является одним из участников секретной операции «Хольцауге», которую проводит абвер.
В повести три главных действующих лица: Колчин, Риттер и Белое безмолвие. Герою приходится сразу бороться с двумя врагами. Очень точно, мужественно пишет автор об этой борьбе. С героем случается всё, что может случиться с новичком в Арктике: он теряет зрение, доверяя немцу, ест сырую печёнку лахтака, в результате чего отравление…
Двое идут по льдам, тянут за собой лодку с провизией. Бесконечный, тяжёлый однообразный путь. Но именно в этом однообразии и есть динамический стержень повести. Автор показывает духовный мир своего героя, выстраивает внутренние монологи так, что мы понимаем: Колчин — образ обобщённый, он живёт и действует так, как должен жить и действовать в подобной ситуации каждый советский человек.
Умело и точно написал Алексей Леонтьев всех трёх героев: Колчина, Риттера и Белое безмолвие. Автор раскрывает их перед нами постепенно. Каждый новый шаг, новый день — неизвестная дотоле черта характеров героев. Показ врагов всегда сложен. Здесь есть две крайности, подстерегающие писателя: искусственное оглупление и непомерная жестокость. Леонтьев блистательно избежал этой ошибки. Его Риттер умный, смелый, самый обыкновенный человек, исповедующий другую идеологию. И вот именно в этом мы видим его главную слабость. Писатель ненавязчиво показывает нам, что победить может тот, кто борется за правое дело. Так и получается. Конец Риттера — это конец фашистской идеологии. Лейтенант, не выдержавший поединка с Белым безмолвием, кончает жизнь самоубийством.
Очень точно и скупо пишет автор «третьего героя» — Белое безмолвие. Но именно в этой скупости и заключается весь трагизм поединка человека с Севером. «Мир двухцветен. Он как чёрно-белое кино. Кто-то стёр с земли зелень травы, мягкую желтизну речного песка, золотистую, будто опалённую солнцем, кору сосен, голубизну рек, красивый гранит скал, яркую россыпь цветов. Осталось только два цвета: белый и тёмно-свинцовый. Белый лёд и тёмно-свинцовая вода.
В мире пропали звуки. Не стало пения птиц, гула машин, шелеста листьев, голосов людей. Ничего. Только тихий скрип снега под ногами.
И вдруг грохот орудийного залпа врывается в онемевший мир. Это подвинулись льды. И снова тишина. Я один в этом страшном мире. Я иду к горизонту».
Герой повести выходит победителем из двойного поединка. Но «Белая земля» — это не только страница героической истории. Нет. Это предупреждение. Колчин не только побеждает Риттера, через двадцать лет он туристом приезжает в Западную Германию и приходит к его сыну. Он должен рассказать, как погиб Риттер-старший, и пусть эта смерть послужит предупреждением всем. Прочтя повесть, читатель спросит: а была ли такая история на самом деле? Да. Автор взял за основу подлинный случай. Но, прежде чем рассказать об истории создания «Белой земли», мне бы хотелось познакомить читателей с Алексеем Николаевичем Леонтьевым.
Он принадлежит к военным писателям второго поколения. К тем кто не успел надеть солдатскую шинель. К тем, кто мучительно завидовал своим старшим товарищам, ушедшим на фронт. Война для него — рассказы фронтовиков, неурядицы тыловой жизни, горькие дни эвакуации и труд для победы.
Алексей Леонтьев родился в 1927 году в Москве. В 1941 году ученик седьмого класса бежит на фронт, но его возвращают прямо с вокзала. И опять вокзал, только теперь Казанский и вместо фронта далёкий совхоз в Горьковской области. Там он заканчивает школу и идёт работать прицепщиком на трактор. Это было всё, что Алексей Леонтьев мог в ту пору сделать для победы.
В 1947 году Леонтьев поступает во Всесоюзный государственный институт кинематографии на сценарный факультет. Все пять лет института он специализируется как сценарист научно-популярного кино. Ещё студентом начинает сотрудничать на студии научно-популярных фильмов. Кстати, Алексей Леонтьев был единственным среди своих однокашников, кто защищался по поставленным сценариям.
После окончания института он много пишет для телевидения, ведёт на радио «Клуб юных географов», кстати, работая над этой передачей, он и находит материалы, лёгшие в основу повести «Белая земля». Надо сказать, что у Леонтьева сложилась счастливая творческая судьба. Сегодня в его активе пятнадцать фильмов, среди них такие, как «Интернационал», «Бессмертная песня», «Дорога уходит вдаль», «713-й просит посадку», «Прогноз погоды» и многие другие.
В издательстве «Молодая гвардия» вышли три его книги: «Белая земля», «Тройной прыжок», «Последняя радиограмма».
Если внимательно присмотреться к его творчеству, то можно без труда увидеть главную тему писателя и драматурга — тему героизма, о которой я уже говорил, рассказывая об Александре Колчине. Есть в героях Леонтьева связующая нить, которая роднит Александра Колчина с солдатом Юсаловым, героем фильма «Бессмертная песня», с рабочим пареньком Олегом Селезнёвым из книги «Тройной прыжок», с подводником Сергеем Самариным из повести «Последняя радиограмма» и антифашистом Рихардом Гюнтером. «713-й просит посадку». Мужество, убеждённость, готовность отдать жизнь ради своих идеалов — вот главная общность героев.
Солдат Юсалов и Александр Колчин живут в разное время. Но истоки подвига Колчина мы видим в кубанской станице в грозовом девятнадцатом. Раненый солдат, оружие которого — убеждённость, доброта и музыка, — вступает в схватку с кулачьём и бандитами, он гибнет, но смерть его и есть победа. Потому что даже умереть можно по-разному, а герои Леонтьева бессмертны, как и идеалы, которые они исповедуют.
Весьма характерной для творчества писателя явилась работа над сценарием фильма «713-й просит посадку». В самолёте, поднявшемся из одного европейского аэропорта, происходит несчастье. Внезапно засыпает экипаж. Оказывается, что на стоянке кто-то подмешал снотворное в кофе пилотам. Кому-то надо, чтобы погибла летящая этим рейсом делегация коммунистов. Но они переносят свой отлёт…
Несчастье обрушилось на пассажиров воздушного лайнера.
Люди, которых объединила, а в чём-то разъединила беда, отнюдь не герои, кроме врача-антифашиста — человека, закалённого борьбой и жесточайшими, на грани гибели, испытаниями. Кинооператор, коммивояжёр, пастор, солдат и другие — люди разных взглядов и убеждений. Перед лицом гибели они раскрываются до конца. Многое подспудное, тайное, возвышенное и низкое, жертвенно-благородное и шкурническое становится явным; обнаруживается подлинная сущность человека, порой скрытая даже от него самого. При всей своей неожиданности, порой причудливости эти превращения психологически подготовлены и обусловлены.
И среди паники и смертельного ужаса, среди ожидания смерти и ненависти звучит твёрдый голос человека, который начинает почти безнадёжную борьбу за жизнь людей. Это врач-антифашист Роберт Гюнтер. И в нём мы вновь обнаруживаем черты знакомых уже нам героев. Здесь мы видим основной литературный приём Алексея Леонтьева. Драматизм действия нерасторжимо связан с психологией героев. Чем сложнее ситуация, тем твёрже и мужественнее герой. Такие же выразительные средства использует в своём творчестве и Виктор Смирнов. Давайте вспомним его Ивана Капелюха, героя повести «Тревожный месяц вересень». В этом двадцатилетнем парне удивительно уживаются многоопытный «старый» солдат и пылкий, романтически влюблённый юноша. Три года фронтовой разведработы закалили Ивана, научили действовать в самой трудной ситуации расчётливо и по-военному мудро.
Как и Алексей Леонтьев, Виктор Смирнов ставит своего героя в очень сложную ситуацию. Маленькое полесское село, недавно освобождённое от немцев, до райцентра несколько часов езды. Но дороги блокирует банда Горелого, бывшего начальника полиции, буржуазного националиста. Нет смысла рассказывать о том, кто такие бандеровцы и бульбовцы. Об их кровавых делах написано много. Страшный след этих пособников фашистов пролёг от Киева до Западной Германии. Мне по роду работы приходилось не раз сталкиваться с их «подвигами» во Львовской области, на Карпатах, в Латвии и Эстонии.
В селе всего два «ястребка», так звали бойцов истребительных батальонов, Иван и его помощник — хитроватый Пилипенко. Так начинается поединок Капелюха с бандой Горелого.
Повесть «Тревожный месяц вересень» привлекла внимание критики. О ней писали много и добро. Мне бы хотелось процитировать некоторые из них.
«Удивительно достоверны люди, проходящие перед нами. Вместе с Иваном Капелюхом, вместе с автором мы всё глубже проникаем в существо каждого. И каждый раз, проникнув в более глубокий пласт, мы видим новые его человеческие свойства, новые обстоятельства его прошлого». Так писал покойный прозаик Евгений Рысс в «Литературной газете».
«…Иван Капелюх — личность яркая и незаурядная. Его отличает внутренняя цельность, способность к сильным бескомпромиссным чувствам и многогранное, поэтическое восприятие мира. Именно ему мы обязаны тем, что безвестная Глухарка я её обитатели становятся для нас интересными, именно через его восприятие мы понимаем, как много прекрасного и сложного в этой словно бы простой незатейливой жизни…» (А. Громов, «Новый мир»). В своём предисловии к изданию повести в «Роман-газете» Сергей Ананьев пишет: «Образ Ивана Капелюха — несомненная удача автора, а в известном смысле и художественное открытие. Можно утверждать, что автор повести «Тревожный месяц вересень» дополнил летопись Великой Отечественной войны ещё одной страницей: подвиг бойцов истребительных батальонов был недостаточно освещён в нашей литературе. А ведь «ястребки» сыграли огромную роль в борьбе с гитлеровскими диверсантами и шпионами, с бандами националистов…»
Многих, прочитавших повесть, удивляют знания автора предмета, о котором он пишет. Иван Капелюх со знанием дела рассказывает нам о самых разных марках оружия. Быт деревни написан интересно и правдиво. Может быть, Виктор Смирнов сам принимал участие в похожих событиях? Не он ли Иван Капелюх! Нет. В 1944 году автору было всего одиннадцать лет. Но тем не менее автор пережил всё, о чём пишет в книге. На долю восьмилетнего мальчишки выпали первые, самые тяжёлые месяцы войны. Он отступал с колхозниками, перегонявшими скот. Длинная горькая дорога. Она навсегда сфотографировалась в мальчишеском сердце. Потом была деревушка в Курской области. Сожжённая и разрушенная артиллерийским огнём. Несколько раз переходила она из рук в руки. Мальчишка видел солдат немецкого вермахта, пьяных полицаев. На всю жизнь осталось в сердце писателя восхищение мужеством партизан и солдат Красной Армии. В конце войны Виктор Смирнов переезжает в освобождённое от немцев Полесье. Фашисты изгнаны, но в лесах и на дорогах бесчинствуют банды националистов. Рядом с деревней, где жил Виктор, тоже зверствовала бандгруппа некоего Мельникова. Константин Георгиевич Паустовский в своих повестях о жизни писал, что детские впечатления самые яркие и человек невольно в своих воспоминаниях постоянно обращается к ним. Так, видимо, случилось и с Виктором Смирновым. Почти через тридцать лет он написал свою повесть. Но мне кажется, что нужно рассказать, что делал Виктор Смирнов именно эти «почти тридцать лет».
Сначала, как обычно, школа. Потом МГУ, факультет журналистики. А далее начинается беспокойная жизнь профессионального газетчика и бесконечные поиски своего места в многообразном «журналистском цехе». Сначала работа в районных и областных газетах Восточной Сибири, потом Виктор Смирнов плавает матросом и, наконец, работа в Москве. Будучи спецкором журнала «Смена» и «Вокруг света», будущий писатель много ездит по стране. Видимо, там Виктор встретился с героями предстоящих книг. Он пишет о людях романтических профессий: моряках, лётчиках, геологах, пограничниках, милиционерах.
Как-то, выступая перед молодыми журналистами, Михаил Кольцов сказал, что первая книга — экзамен на журналистскую зрелость. Такой экзамен Виктор Смирнов выдержал в 1962 году, В издательстве «Молодая гвардия» увидела свет его книга (совместно с В. Ампиловым) «В маленьком городе Лида».
«Нет ничего удивительного в том, — говорится в предисловии к этой работе, — что лишь спустя много лет после окончания Великой Отечественной войны нам стало известно о героических подвигах комсомольцев-подпольщиков. Свои подлинные имена патриоты скрывали под конспиративными кличками. Они менее всего заботились о том, чтобы не были забыты их подвиги. Они сражались».
Первая книга была книгой-поиском. Скрупулёзно и точно восстановил молодой журналист жизнь и подвиг своих героев. Здесь мало было только писателя Смирнова, необходим был и Смирнов-историк. И Виктор справился с этой двойной работой. Повесть «В маленьком городе Лида» — простой и вместе с тем возвышенный человеческий документ, подтверждающий ещё раз, что никто не забыт и ничто не забыто.
Через год в том же издательстве вышла повесть «Трое суток рядом со смертью». Уже в этой небольшой книге мы впервые сталкиваемся с приёмом, который последовательно будет использован писателем во всех его героических произведениях. В ней мы видим человека, поставленного волею случая в обстоятельства необыкновенные. Самолёт капитана Куницына терпит аварию. Действие развивается в далёкой Арктике. Трое суток ведёт лётчик борьбу за свою жизнь, сначала в открытом море, потом на маленьком острове. Трое суток длится бесконечный поединок человека со смертью. Главная мысль повести — человек не должен погибнуть, он обязан спасти себя для дальнейшего служения людям.
С подвигом капитана Куницына перекликается подвиг героев другой книги Смирнова, «Слушай колокола громкого боя». Она посвящена воинам середины шестидесятых годов. В ней автор показывает истоки воинского героизма, говорит о той высокой ответственности, которую возлагают на себя люди, надевшие военную форму.
Результатом журналистских поездок стали ещё две книги Виктора Смирнова: «Поединок в горах» и «Дорога к «Чёрным идолам». В этих работах писатель раскрывается как мастер острого приключенческого сюжета. События в повестях развиваются стремительно и динамично. Герои его борются за чистоту и правду.
И если в книге «Поединок в горах» Василий Михееев волею судеб расследует дело об убийстве своего друга, то герои сборника «Тринадцатый рейс» занимаются этим профессионально. В эту книгу вошли три повести. По сути дела, это трилогия из жизни сотрудника уголовного розыска Павла Чернова. Но противники оперуполномоченного не совсем обычные. Ему волею судеб приходится столкнуться с гитлеровскими пособниками и профессиональными шпионами. О милиции написано много. Есть книги-однодневки, книги, о которых никогда не вспомнит читатель. Павел Чернов останется. Вместе с героями «Петровки, 38» Юлиана Семёнова, Стасом Тихоновым Аркадия и Георгия Вайнеров, Денисовым Леонида Словина он стал собирательным образом нового поколения сотрудников милиции. Герои эти умные и интеллигентные, мужественные и честные.
Острый сюжет, динамика повествования всего лишь приём, позволяющий Виктору Смирнову акцентировать внимание читателей на важных нравственных проблемах.
Надо сказать, что литературная судьба героев Виктора Смирнова продолжается на экране. По его повестям поставлены фильмы «Суровые километры», «Ночной мотоциклист», Виктор Смирнов — автор сценариев «Приваловские миллионы» и «Дума о Ковпаке». Повесть «Тревожный месяц вересень» легла в основу одноимённой театральной пьесы, идущей на сцене Московского театра имени Гоголя.
Повесть «Обратной дороги нет», с которой мы познакомим читателей третьей книги приложения «Подвиг», также легла в основу одноимённого многосерийного телевизионного фильма. Почти все сценарии фильмов Виктор Смирнов написал в соавторстве с кинодраматургом Игорем Болгариным. Судьба Игоря Яковлевича Болгарина чем-то схожа с его коллегой кинодраматургом Алексеем Леонтьевым, о котором я рассказывал в начале этой статьи. Прежде чем стать студентом сценарного факультета ВГИКа, Игорь Болгарин сменил несколько профессий. Он учился в спецшколе ВВС, работал киномехаником и художником-плакатистом. Первые очерки и рассказы Игоря Болгарина появились в периодической печати в 1946 году. В это время он много ездит по стране. Вместе с изыскателями он прошёл тысячи километров по пустыне Каракум, вместе с охотниками и геологами исходил дальневосточную тайгу.
После окончания института Игорь Болгарин начал активную работу в кинематографе. А по его сценариям поставлены научно-популярные, документальные, мультипликационные фильмы. За сценарий «Секрет НСЕ» он удостоен Ломоносовской премии. Все, наверное, помнят фильм «Испытательный срок», поставленный режиссёром Владимиром Скуйбиным. Перевёл повесть Павла Нилина на язык кино сценарист Игорь Болгарин. За двадцать один год своей жизни в кино Болгарин написал сценарии пятнадцати художественных фильмов. За многосерийную телевизионную ленту «Адъютант его превосходительства» ему присуждена Государственная премия РСФСР.
Повесть «Обратной дороги нет», как и сценарий одноимённого фильма, написана Игорем Болгариным совместно с Виктором Смирновым.
И опять авторы берут за основу всего лишь одну небольшую страницу войны. Огромная битва, которую вёл советский народ против гитлеризма, битва протяжённостью от Баренцева до Чёрного моря состояла именно из таких боевых эпизодов. О многих из них не написано по сей день. И чем больше узнают люди именно об этих локальных эпизодах, из которых складывалось огромное и ёмкое слово «победа», тем больше заслуга наших писателей и журналистов.
Из лагеря военнопленных бежит майор Топорков. Он пробирается в партизанский отряд, чтобы сообщить, что в лагере всё готово к восстанию, необходимо только оружие. Майор знает, что в отряде действует осведомитель фашистской контрразведки. Командование отряда принимает решение послать ложный обоз, чтобы отвлечь внимание гитлеровцев. С обозом уходит девять человек. Необычайно остра в повести нравственная ситуация. Люди уходят на верную смерть. Правда, они пока не знают этого. А майор не может им ничего сказать, пока сам не выявит вражеского агента.
Девять человек — девять судеб и биографий. Каждый из них по-своему смотрит на жизнь, разные пути привели их в отряд. Но все девять, кроме одного предателя, одинаково ненавидят фашизм и любят Родину. Герои повести действуют по убеждению, делятся мыслями о долге, о чести, о правде. Перед лицом смертельной опасности люди вновь проверяют значимость высоких моральных категорий настоящего советского человека.
Был ли такой эпизод на самом деле? Вполне возможно. Жили ли на свете майор Топорков, Гонта, Лёвушкин, Бертолет и другие герои повести? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Да, они жили. И пусть в той жизни фамилии и имена у них были другие. Главное, что дела их были похожими на дела героев повести.
Закончился рассказ о героях и их создателях. Но в конце разговора мне бы хотелось задать ещё один вопрос. Почему по прошествии тридцати лет нас по-прежнему остро волнуют события далёкого прошлого? Война и роль человека в ней, несмотря на огромную литературу по этому вопросу, продолжает оставаться и остаётся подлинным источником писательского вдохновения. Потому что разработка её ведётся не столько в интересах истории, сколько ради нашего настоящего и будущего.
Герой войны, осмысленный и переработанный, через призму сегодняшнего живёт рядом с нами, как наш современник. Поэтому военная тема становится насущной идейно-нравственной проблематикой, волнующей нас и сегодня. Александр Колчин, Иван Капелюх, майор Топорков и его друзья нашли место в сегодняшней жизни. Они рядом с героями БАМа и Даманского, рядом со строителями и колхозниками. Потому что жизнь продолжается, а значит, продолжается подвиг.
Эдуард ХРУЦКИЙ