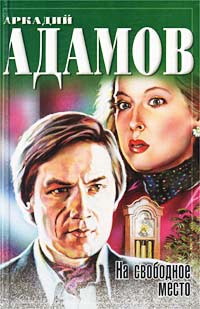
В ходе расследования запутанного и опасного дела об убийстве и ограблении на инспектора Лосева совершено бандитское нападение, однако ценой невероятных усилий и мужества Лосеву удается не только остаться живым, но и блестяще провести операцию по обезвреживанию преступной группировки.
Роман «На свободное место» удостоен премии Всесоюзного литературного конкурса Союза писателей СССР и Министерства внутренних дел за 1982 год на лучшую книгу о советской милиции.
Трилогия «Инспектор Лосев» награждена Золотой медалью имени Героя Советского Союза Н. Кузнецова за лучшее героико-приключенческое произведение 1981 года, учрежденной СП РСФСР и ПО Уралмашзавод.
Аркадий Григорьевич Адамов
На свободное место
Глава 1
ЛОВУШКА
Сегодня понедельник. Мнение, что «понедельник — день тяжелый», сложилось, я уверен, у людей, которые в воскресенье и субботу отдыхают, я же провел их на работе и уже не воспринимаю понедельник так трагически. А сегодня день выдался даже чуть спокойнее, чем обычно. Воспользовавшись этим, я пишу всякие бумаги.
И вдруг в очередной раз звонит телефон.
— Лосев слушает, — говорю, снимая трубку.
— Виталий, — торопливо произносит чей-то знакомый голос, который я, однако, сразу не узнаю. — Это Володя говорит, Чугунов. Понял?
— А-а, — облегченно улыбаюсь я. — Чего же тут не понять. Привет.
Володя Чугунов таксист, причем классный водитель. Мы с ним познакомились около года назад, когда на его машине — она нам случайно подвернулась в самый острый момент — преследовали ночью преступников, совершивших дерзкую кражу. Володя показал себя в тот раз не только асом в вождении машины, но и вообще золотым парнем. Мы с ним после этого еще несколько раз виделись. Однако это было довольно давно.
— Ты послушай, чего случилось, — волнуясь, говорит Володя. — Я этого типа у Белорусского посадил. Говорит: «Вези, где пообедать можно». Я ему говорю: «Вот тут, на вокзале, и можно». — «Совался, — говорит. — Только я за обед хочу деньгами платить, а не свободой». Понял?
— Приезжий?
— Ага. И еще спросил: «Переночевать найдешь где? Полсотни за ночь дам, но чтобы чисто было». Я ему говорю: «Подумать надо. Одно место есть, но там только деловых принимают». Это я уж от себя горожу, понимаешь? «Давай, говорит, вези обедать. Пока я заправлюсь, ты думай. Вот тебе десятка на это дело. Придумаешь, полсотни твои. А я деловой, такой деловой, что у вас в Москве мало таких найдешь». Ну, я его на всякий случай поближе к вам, в «Баку» отвез. Сейчас там обедает. Что делать-то с ним?
— А ты куда его собрался везти?
— Да никуда! Ты что? Откуда у меня такая хаза? Но только отпускать его нельзя, я печенкой чувствую. Что-то он, подлец, сотворил, ручаюсь. Скорей всего, здесь, в Москве, мне кажется.
— Или еще где-то. И в Москву прикатил.
Я лихорадочно думаю, как тут поступить. Бежать и советоваться некогда, еще раз Володя может уже не позвонить. Даже, скорей всего, ему это не удастся. И он, конечно, прав, отпускать этого парня ни в коем случае нельзя. Но и задерживать его нет никаких формальных оснований. От всего, что он наболтал, он тут же откажется, и тогда уже ничего из него не вытянешь. А за этим парнем, возможно, серьезный хвост, опасный. И встретиться с ним надо по возможности свободно и для него вроде бы безопасно. И тогда уже хорошенько его прощупать. Но вот как встретиться, где? И тут я вспоминаю один адрес, вполне подходящий адрес.
— Володя, — говорю я, — вези его вот по какому адресу. Пиши. У тебя есть чем?
— Ага, — торопливо откликается Володя.
Я медленно диктую ему адрес и добавляю:
— Сам вас там встречу. Ты только не особо торопись. А спросишь дядю Илью.
— Ясненько, — весело отвечает Володя. — Не раньше, как через полчаса двинем. Раньше он не заправится.
— Самый раз, — говорю. — Привет, — и вешаю трубку.
Минуту подумав и взглянув на часы, снова берусь за телефон. Нужный номер я прекрасно помню, хотя прошло уже, наверное, с полгода, как я звонил в тот дом последний раз. Там живет еще один мой знакомый. Его зовут Илья Захарович. Когда-то, лет так шесть-семь назад, он работал у нас, тоже под началом у Кузьмича. Но однажды его сильно ранили, он в засаде был с товарищами. Месяца три по больницам лежал, не одну операцию ему сделали. Словом, кое-как он выкарабкался, но с фирмой нашей пришлось ему проститься.
Вот к Илье Захаровичу я сейчас и звоню. Время обеденное, и готовит себе Илья Захарович всегда сам. Так что есть шанс застать его дома.
Так оно, к счастью, и оказывается. Илья Захарович с большим интересом меня выслушивает, сразу все понимает и коротко говорит:
— Ясно! Приезжай. Будет антураж.
Он любит выражаться изысканно.
Я выпрашиваю у Кузьмича машину, в двух словах объяснив ему, в чем дело. А дело, между прочим, может оказаться весьма серьезным. В розыске находится ряд опасных преступников, и если этот парень окажется одним из них… На такую удачу я даже боюсь рассчитывать. И все-таки это вполне вероятно.
Мы мчимся на самую окраину Москвы, в конец Ленинского проспекта, чуть не к Кольцевой дороге. Там, в снежном поле, выросли гигантские белые дома, одни с красными, другие с синими или желтыми балконами. Снег прикрыл голую, взрытую землю вокруг. Вот такие теперь у Москвы окраины. Когда территорию вокруг приведут в порядок, когда появятся деревья, кусты, разобьют цветники и скверы, отроют пруды, да еще придет сюда метро, лучше всякого центра здесь будет. А пока только свистит злой ветер и гонит поземку по снежному пустому полю. Пейзаж оживляют лишь табунчики обледенелых машин возле бесчисленных подъездов. Гаражей здесь пока тоже еще нет.
Наша машина останавливается возле одного из подъездов. Ветер такой, что я с усилием распахиваю дверцу и выбираюсь наружу. Простившись с водителем и запахнув пальто, я кидаюсь в подъезд, вернее, меня прямо-таки вдувает туда, как только я распахиваю невысокую дверь.
Бесшумный лифт мчит меня на двенадцатый этаж.
Открывает мне сам Илья Захарович. Я сразу начинаю улыбаться. Ну и видик у него! Где он только выкопал такие брюки, такую рубашку? Тут же в передней весь угол заставлен пустыми водочными и винными бутылками. А это он откуда достал, интересно?
Илья Захарович довольно похохатывает, подтягивая на толстом животе все время сползающие, немыслимо мятые старые брюки. Он очень доволен произведенным на меня впечатлением. И я, оглядываясь, восхищенно качаю головой, прежде чем снять пальто.
— Понимаешь, — улыбаясь, говорит Илья Захарович, — жена на неделю к сестре уехала, ну, а я, понятное дело, гуляю. Всю ночь вот пили, под утро только и расползлись. Видишь, какая у меня рожа?
— А зачем вам жена потребовалась? — ухмыляюсь я.
— Ну, видишь, все-таки обстановка в целом приличная. Да еще цветы вон. Откуда это все у такого пропойцы возьмется?
Он вводит меня в комнату и, оглядывая царящий там бедлам, довольным тоном говорит, чуть шепелявя:
— Видал, за час какой антураж навел?
Да, Илья Захарович не пожалел труда и проявил немалую фантазию. Впрочем, выдумывать ему ничего не требуется, достаточно навидался за двадцать с лишним лет работы в розыске.
Я снимаю пиджак, галстук, отстегиваю плечевые ремни кобуры и прячу ее вместе с остальными вещами в шкаф. Я не перекладываю пистолет в карман брюк, нет в этом необходимости сейчас. Ведь встреча предстоит вполне мирная. В данном случае требуется лишь определить, что за гусь попался нам, и внимательно изучить его физиономию, не числится ли этот парень в розыске. И если даже числится, то брать его немедленно все равно нельзя, ни в коем случае. Квартира Ильи Захаровича должна остаться вне подозрений. Мы задержим его совсем по-другому, в другое время и в другом месте, когда он уже забудет даже о квартире, где ночевал.
Тем временем Илья Захарович критически осматривает стол, покрытый на этот раз грязной клеенкой, прожженной в нескольких местах сигаретами. Прямо на клеенке лежат небрежно нарезанная колбаса, ломти хлеба, стоит грубо вспоротая коробка консервов и недопитая бутылка водки, тут же валяются сигареты, спички и старые, засаленные карты. Словом, все, кажется, как надо. Но Илья Захарович задумчиво чешет за ухом и отправляется на кухню, оттуда он приносит небрежно оторванный угол газеты и делает на нем какие-то корявые записи, потом, полюбовавшись ими, удовлетворенно говорит:
— Помни. Ты мне уже полсотни проиграл.
И как раз в это время в передней раздается звонок.
Я валюсь на стул и небрежно закуриваю, потом придвигаю к себе карты, а Илья Захарович идет открывать дверь.
И вот уже из передней до меня доносится шарканье ног, возбужденный голос Володи, воркотня Ильи Захаровича. Только третьего голоса не слышно. А, нет! Третий голос что-то гудит, глухо, неразборчиво.
Наконец, все заходят в комнату.
Ого, вот это экземпляр! Совершенно квадратный малый. Ниже меня на голову, наверное. Впрочем, это как раз неудивительно, рост сто восемьдесят девять повторяется нечасто, и порой моя долговязая фигура приносит ощутимые неудобства в нашей сложной работе. Но у этого парня зато впечатляют поперечные размеры, тут мать-природа расщедрилась; начинаешь при взгляде на него думать, что выражение «косая сажень в плечах» не всегда бывает слишком сильным преувеличением. И сила скрыта, я вам доложу, воловья. При этом довольно неглупая рожа, узкие, с припухшими веками, настороженные глаза, над которыми низко нависли густые брови, все лицо как бы растянуто вширь, все тут крупное, грубое — нос, рот, уши, очень толстые сочные губы, все бросается в глаза. Нет, этот парень не числится в розыске, я почти убежден. Но почему он сбежал из вокзального ресторана, почему испугался?
— Садись, паря, садись. Стул только случайно не поломай, — весело шепелявит между тем Илья Захарович. — Гостем будешь, если монета водится. А нет, счастья попытай, вон они, сами в ручки просятся. На худой конец без порток уйдешь, — посмеиваясь, он кивает на карты, потом представляет меня: — Витек, дружок мой закадычный. Только начали, а уже полсотни мне оставил. И выпил всего ничего. Ну, как не дружок, верно?
— За дружбу с тобой, дядя Илья, можно и больше оставить, — хитро щурюсь я и поворачиваюсь к гостю. — Как тебя величать-то будем?
Взгляд у меня настороженный, даже подозрительный, оценивающий, словом, «деловой» взгляд, никакой приветливости в нем нет. Пусть чувствует, не к новичкам попал, не к «лопухам», пусть сам подмазывается, ищет расположения, доказывает, кто он есть и чего заслуживает в такой компании.
— Леха, — гудит он и тянет свою лапу.
— Садись, Леха, насмешливо говорю я и отвожу его руку. — Рано суешь. Скажи лучше, как еще тебя кличут?
Но гость уверен в себе и спокоен.
— Если ты Витек, то я Леха, — снова гудит он. — А сунуть я могу и по-другому.
— Пока не требуется, — отвечаю я. — Лучше выпьем по первой за знакомство. Не возражаешь? А уж там будем смотреть, что и как.
— Принято, — соглашается Леха, и толстые губы его чуть расползаются в усмешке. — За знакомство можно.
— И то, Лешенька, — наставительно говорит Илья Захарович, разливая водку. — Порядок знаешь? Вопросы задаем мы, раз уж ты к нам залетел. А твое дело отвечать. Ты как? — обращается он к Володе и указывает на водку.
— Ни-ни, дядя Илья, — вскакивает со стула тот. — Я побегу. У меня еще полплана только. Значит, клиент мой будет доволен? — и он весело подмигивает Лехе.
— Если человек свой, то будет доволен, — туманно отвечает Илья Захарович.
Володя уходит, а мы продолжаем наше застолье, время от времени кидая Лехе всякие вопросики. Его это, однако, не удивляет и не настораживает, «порядок» он, видно, знает.
Постепенно мы узнаем, что Леха приезжий, что в Москве он недавно и туда, где он до сих пор ночевал, возвращаться ему сейчас никак нельзя. Потому что он кое с кем тут, в Москве, посчитался, и шум теперь от этого пойдет большой.
— Завалил? — деловито спрашиваю я.
— Вроде того… — хмурясь, отвечает Леха, и мне кажется, что он сам недоволен тем, что сотворил.
А я внутренне невольно напрягаюсь. Неужели убийство? Где, кого? Но такие вопросы уже не положено задавать в лоб. А мы пока ничего не знаем. Возможно, это попадет только в завтрашнюю суточную сводку по городу. И конечно, немедленно задерживать бесполезно, он тут же откажется от своих слов и уже через час нам придется его отпустить, ничего доказать мы все равно сейчас не сможем. Немедленно хватать Леху не только бесполезно и глупо, но еще и вредно. Как только мы его отпустим, он тут же скроется, исчезнет из Москвы. И когда мы наконец узнаем о совершенном им преступлении, когда соберем хоть какие-нибудь улики, сам Леха будет уже далеко. Да и совершил ли он вообще это самое убийство? Может, похвастать решил, «для авторитета» выдумал, «деловым» хочет казаться, «серьезным». Такое тоже довольно часто бывает. Но что-то мне на этот раз подсказывает, что Леха не врет, что он и в самом деле мог нечто подобное сотворить. Ох, мог. Как говорят, «печенкой чую».
— Откуда ж ты к нам залетел? — интересуется Илья Захарович.
— Где тепло, где урюк растет, — усмехается Леха.
После очередной рюмки, когда взгляд у Лехи слегка затуманивается, Илья Захарович снова подступает к нему.
— Счеты, соколик, сводил или деньга большая светила? — спрашивает он, с заметным усилием прожевывая колбасу.
— Надо было, значит. — неохотно гудит в ответ Леха.
Я зло ощериваюсь:
— Темнишь?
В такой компании этого не любят. Леха должен знать. А если не любят, то бьют. Но драка Лехе невыгодна. Не потому, что он не надеется взять верх. Тут он, кажется, не сомневается. Но он боится снова очутиться на улице. Это его состояние я ощущаю каждым своим нервом. Боится, боится. И, видно, не зря боится. Видно, он и в самом деле натворил что-то серьезное. А раз так, он ссориться ни в коем случае не будет, и на него можно нажать. Во всяком случае, следует попробовать. Надо непременно узнать хоть какие-то детали, обстоятельства совершенного им преступления и подержать его у Ильи Захаровича хоть сутки, пока мы не получим сообщение о каком-либо похожем преступлении и не «примерим» его к этому Лехе, к бандитской его роже, к явно бандитским повадкам, судя по которым от этого парня можно ждать чего угодно.
— Ты номера-то брось, понял? — добавляю я угрожающе. — Отвечай человеку, когда спрашивают. Закона не знаешь? Хозяин он.
А добродушный Илья Захарович улыбается при этом так многозначительно, что Лехе становится явно не по себе.
— Счеты свели, — бормочет он.
— Ты в Москве много бывал? — вкрадчиво шепелявит Илья Захарович. — Порядки тут знаешь или как?
— Первый раз залетел. Больше не сунусь.
— И умно сделаешь, — кивает Илья Захарович. — Потому порядки здесь, паря, особые, чтоб ты знал. Вот я на них зубы все съел, видал? — Он оскаливает зубы, и я на секунду столбенею, но тут же вспоминаю, как он мне перед приходом Лехи жаловался, что уже неделю ждет новый протез и даже стесняется выходить на улицу.
А Леха в усмешке кривит толстые губы, но в узеньких глазах его появляется тревога. Ох, и неуютно же ему в Москве, даже страшно.
— Чем кончал? — небрежно спрашиваю я. — Перышком?
И, продолжая жевать, лениво и равнодушно закуриваю.
Между тем вопрос очень важен. Если он ударил свою жертву ножом — это одно. Нож можно выбросить, можно якобы случайно найти. За него не зацепишься. Да и не всякий нож считается холодным оружием. Но если у Лехи пистолет, то все меняется. С пистолетом его можно брать хоть сейчас, и надо брать. Это слишком опасно. И прокурор немедленно даст санкцию на арест. А как же? У нас это ЧП, преступник, вооруженный пистолетом.
— Не все те равно чем? — угрюмо и недовольно отвечает Леха.
Я пожимаю плечами.
— Думал, может, тебе маслята нужны, а ты небось при капитале.
Леха в ответ подозрительно щурится и, решившись, говорит:
— При себе, робя, ничего нет. Вот, три сотни, и все.
Он достает из кармана брюк деньги, красные десятки рассыпаются по столу.
А Леха между тем выворачивает карманы. На столе появляется расческа, кошелек, небольшой перочинный нож, которым убить человека никак нельзя, грязный носовой платок. На Лехе толстый старый свитер и, кроме как в брюках, карманов у него больше нет. Но в задний карман брюк он почему-то не лезет. И я коротко приказываю:
— Там чего? Покажь!
Это все в порядке вещей. На это Леха обижаться и сердиться не должен. Церемониться в таких случаях не принято. Надо знать, с чем пришел незнакомый человек, что от него можно ждать и можно ли ему довериться. Все тут обычно насторожены; за каждым что-то тянется и всем что-то грозит, а кое-кого, бывает, и ищут уже. Поэтому чужака встречают подозрительно, настороженно, и проверка неминуема. Это Леха знает, и кажется, к этому готов. При моем напоминании он поспешно хватается за задний карман, вытаскивает оттуда измятый, замызганный паспорт и небрежно швыряет его на стол.
— Вот там чего, — усмехается он. — Глядите.
К сожалению, глядеть нельзя. Паспорт тут не пользуется уважением. Наоборот, малейший интерес к паспорту может вызвать подозрение. И я, даже не взглянув на него, с легким разочарованием говорю:
— А я думал, тебе маслята нужны.
— Пригодятся, — неожиданно заявляет Леха.
При этом он хитро и многозначительно усмехается. Но мне почему-то кажется, что он хочет казаться хитрее, чем есть. Какая-то в нем ощущается прямолинейная грубость, ограниченность какая-то, неповоротливость мыслей, часто свойственные тяжелым и очень сильным людям. Но в то же время он недоверчив, насторожен и подозрителен, поэтому с ним надо быть очень осторожным и следить за каждым своим словом, за интонацией даже.
— Сколько тебе их требуется? — спрашиваю я.
— А у тебя что, склад? — ухмыляется одними губами Леха, в то время как его черные глазки за припухшими веками подозрительно буравят меня и пьяной поволоки в них словно и не было, а ведь выпил, подлец, в два раза больше, чем мы с Ильей Захаровичем.
— Твое дело сказать сколько, — отвечаю, — а уж склад у меня или полсклада, мое дело. Интерес у тебя нехороший. Дошло?
До Лехи дошло, я вижу.
— Ну, к примеру, полсотни можешь? — спрашивает он, поколебавшись.
Почему-то он поколебался, прежде чем сказать.
— Посмотрим, — отвечаю. — У тебя пушка-то какая?
— Пушка?.. Как ее, заразу… — Он скребет затылок и неуверенно говорит:
— Кажись, «вальтер», что ли…
— «Кажись»! — насмешливо передразниваю я. — А с какого конца она стреляет, заметил, голова?
— Твое дело достать что заказано, — озлившись, теперь уже пытается передразнить меня Леха. — А что я заметил, мне знать. Дошло?
Последние слова он произносит явно многозначительно. Что бы такое особенное он мог заметить, интересно?
— Ты, Леха, не сомневайся, — миролюбиво вставляет Илья Захарович. — Витек что пообещает, то железно. Завтра все будет как штык. Верно, Витек?
— Само собой, — киваю я. — Маслята мои, хрусты твои. Счет три один в мою пользу. Сговорено?
— Пойдет, — охотно соглашается Леха.
Где же, интересно, у него пистолет? И почему он сразу не назвал систему? Не такой уж он темный малый, чтобы не разбираться, что у него в кармане лежит. Недавно приобрел? Все равно, система — это же первый вопрос. Тем более, если стрелял уже из него. А может быть, это не его пистолет? И даже не он стрелял? И в Москву он приехал тоже не один? Тут надо разобраться, внимательно разобраться и не спешить. И не упустить этого Леху, не упустить пистолет.
Уже темнеет, и я начинаю прощаться. Напоследок говорю Лехе:
— Не сомневайся, все будет в лучшем виде. Готовь хрусты. Будет надо, чего хочешь достанем. Мы тут все дырки знаем. Главное, за дядю Илью держись.
— Я в своем городе тоже чего хочешь достану, — говорит Леха.
— Это какой такой? Вдруг залететь придется.
Леха хмурится.
— Придет время, скажу.
— Ну, гляди. Как знаешь, — усмехаюсь я. — Голову, значит, доверяешь, а как город звать — нет? Ну, чудик.
— Голову я тебе тоже не доверяю и ему, — возражает Леха, кивая на Илью Захаровича, потом, оглядевшись, многозначительно добавляет: — Если что тут не так окажется, вон он первый с двенадцатого этажа через окно навернется.
И нехорошая усмешка кривит толстые его губы.
— А ты за мной? — мягко спрашивает Илья Захарович.
— Ладно, замнем для ясности, — вмешиваюсь я. — До завтра.
Утром, на работе, я первым делом просматриваю суточную сводку происшествий по городу. Ничего, однако, что можно было бы «примерить» к Лехе, не случилось. Убийств по городу одно, причем в пьяной драке, и убийца тут же задержан. И все остальное тем более не имеет к Лехе никакого отношения. Три квартирные кражи совершены днем, когда Леха обедал в ресторане или уже сидел с нами. Два уличных грабежа произошли вечером; у мужчины сорвали шапку и у женщины отняли сумку с деньгами, — в это время Леха уже был у Ильи Захаровича, да и ждать от него таких мелочей не приходится. Одно изнасилование случилось поздно, когда Леха небось уже спал, а та женщина сначала пила с полузнакомыми мужиками в котельной, пьяная плясала там, ну, а потом побежала в милицию. И уже, конечно, не относятся к Лехе три автомобильных наезда на пешеходов, угон мотоцикла, два небольших пожара и пропавшие дети.
Я сижу в кабинете Кузьмича, и мы просматриваем суточную сводку происшествий по городу. Тут же и Валя Денисов. Он осторожно замечает:
— Может быть, они убили тоже приезжего и труп спрятали?
— М-да… Вполне может быть и так… что приезжий… — недовольно ворчит Кузьмич, откидываясь на спинку кресла, и трет ладонью седоватый ежик волос на затылке. — Надо, милые мои, вокруг этого Лехи чертова поработать. Кажется, какая-то неприятная перспектива тут для нас все-таки откроется.
— Но ведь ни одной зацепки пока, ни одной! — досадливо восклицаю я. — Если бы хоть с пистолетом его прихватить.
— Надо узнать, где вообще его вещи, — замечает Валя. — Приезжий все-таки.
— Да, — соглашается Кузьмич. — Нужна какая-то комбинация, чтобы он привел на тот адрес, где ночевал. И вторая комбинация, возможно, потребуется, чтобы к пистолету привел. Но патроны ему при этом давать ни в коем случае нельзя.
— Но показать? Только показать из своих рук — можно? — с улыбкой спрашиваю я. — От этого ничего не случится?
— А что это тебе даст?
— Пока не знаю, — честно признаюсь я.
— Он плохо знает пистолеты, — напоминает Валя. — И калибры, конечно, тоже.
И тут меня осеняет. Валя, сам того не подозревая, подал блестящую идею. Я торопливо развиваю свой план. Кузьмич ухмыляется в усы.
— Что ж, попробуй, — говорит он. — Вообще-то неплохо придумано. Одна слабинка только есть. Продумай, откуда все взял. И еще помозгуйте-ка вдвоем пока над первой комбинацией. Адрес надо узнать непременно.
— Может быть, и пистолет там? — как всегда, неуверенно, полувопросительно даже, предполагает Валя.
— Может, там, а может, и не там, — качает головой Кузьмич. — Даже, скорей всего, не там, мне думается. И третье, что надо узнать, это все, что возможно, о совершенном убийстве.
— Если это вообще убийство, — вставляет Валя.
В нем сидит «ценнейший дух сомнения», как высокопарно выразился однажды мой друг Игорь Откаленко. Но меня этот «дух» иногда раздражает.
— Уверен, что они все-таки что-то совершили, — упрямо возражаю я.
— Вот именно, что «они», — многозначительно замечает Кузьмич. — И я так думаю. Один он навряд в Москву заскочит. И вот это, — он грозит мне очками, которые, как обычно, крутит в руках, — это четвертое, что надо узнать: один он или нет и где остальные. Всех подобрать надо, всех до единого, помни.
Итак, предстоит выяснить четыре обстоятельства, которые назвал Кузьмич: где пистолет, где Леха скрывался все предыдущие дни в Москве, что и где он, в конце концов, совершил, и, наконец, последнее — один ли он приехал в Москву, и если не один, то где находятся его сообщники.
Что касается пистолета, то я, кажется, придумал неплохую комбинацию, идею которой подал Валя Денисов. Когда мы выходим от Кузьмича, он по поводу моего плана замечает, как всегда, негромко и полувопросительно:
— Может быть, пистолет приведет и к тому адресу, и к преступлению, и к соучастникам. Не думаешь?
— Надо бы так сделать, — отвечаю я.
Но как это сделать, я пока не знаю, и это не дает мне покоя. Ведь других зацепок у нас пока нет.
Мы с Валей заходим ко мне в комнату. Стол Игоря пуст. Игорь уже неделю как в командировке, и, когда вернется, неизвестно.
— Я думаю, его надо испугать, — предлагает Валя. — Чтобы растерялся, понимаешь? Чтобы совета попросил, помощи. А для этого ему придется и кое-что о себе рассказать, никуда не денешься. И тогда…
Валя не успевает закончить. Звонит телефон. Я поспешно хватаю трубку, потому что все время жду каких-то звонков, из разных концов города, от самых разных людей. Одновременно у меня крутится с десяток самых разнообразных, неотложных дел. Будьте спокойны, мы зря деньги не получаем. Ну, а звонок может означать и появление нового срочного дела. Вот такая у меня сумасшедшая, проклятая и любимая работа, без которой я уже не проживу.
— Лосев слушает, — говорю я в трубку.
— Здорово, Витек, — усмехаясь, отвечает знакомый голос. — Привет от Лехи.
— Здорово, дядя Илья, — смеюсь я в ответ. — Чего он делает?
— Спал как убитый. А сейчас меня с хлебом ждет. Завтракать будем. Звонил при мне бабе какой-то. Видно, на работу. Зовут Муза Владимировна.
— Что он ей говорил?
— Ничего не говорил. Ее на месте еще не было. Боюсь, как бы без меня не дозвонился. Ты когда приедешь?
— Часа через полтора.
— Придумали кое-чего?
— Не без того. А Леха ничего по делу не говорил?
— Нет. Опасается, я вижу. Очень насторожен.
— Ладно. Вы номер, который он набирал, не заметили?
— А как же? Пиши.
Илья Захарович диктует мне номер телефона. Экий молодец. Глаза такие, что молодой позавидует.
Мы прощаемся. Я передаю номер телефона Вале.
— Уточни, что это за учреждение и кто такая Муза Владимировна, где живет, ну, и все прочее, что требуется.
Через час я уже мчусь в машине к Илье Захаровичу, по дороге лихорадочно соображая, как себя там вести.
Врываюсь я в маленькую квартиру как буря, не то испуганный, не то обозленный, это пусть уже Леха сам решает. И, едва успев поздороваться, накидываюсь на него:
— Что ж ты, дурила, наделал? Ведь труп-то нашли.
Леха, опешив от моего напора, секунду смотрит молча на меня, потом неуверенно говорит:
— Не…
— Вот тебе и «не». Приметы же сходятся!
— Какие такие приметы? — не понимает Леха.
— Да твои, дурья голова, твои!
— Ну да?
Леха пугается. Он даже меняется в лице. А маленькие черные глазки под припухшими веками продолжают зло и недоверчиво буравить меня.
— Уж будь спокоен, — говорю я. — В Москву небось попал. Это тебе не под алычой пузо греть… — И деловито спрашиваю: — Где ты его хоть завалил, какой примерно район?
— А я знаю ваши районы? — пожимает широченными плечами Леха. — Почем я знаю какой?
— Ну, ты хоть примету дай. Я Москву всю обегал.
— А тебе зачем?
— Во, доска! — призываю я в свидетели Илью Захаровича и снова обращаюсь к Лехе: — Ты соображаешь, куда попал? Да если тебя ищут по мокрому делу, то целый ты отсюда не выберешься, понял?
— Сам — нипочем, — подтверждает Илья Захарович. — Если только кто поможет.
— А что он, к примеру, сделать может? — довольно нервно спрашивает Леха, торопливо закуривая и, словно на улице, прикрывая спичку ладонями, потом откидывается на спинку стула и испытующе смотрит на меня.
— Что может сделать? — переспрашиваю я. — Да все, что потребуется. К примеру, скажем, маслят добыть, как договорились. Не передумал?
— Ты что? — оживляется Леха. — А ну, давай.
— Нет, милый человек, — спокойно качаю я головой. — Связываться с тобой таким делом я погожу. Мои маслята небось не в лесу растут. И мне еще свобода не надоела. А за такие дела знаешь что отламывается?
— Чего же ты ждать собрался?
— А вот охота мне, понимаешь, знать, в самом деле тебя ищут или тут ошибочка вышла.
— Ты же говоришь, ищут, — хмурится Леха. — Или брешешь?
— Брешет пес! — огрызаюсь я. — А твои приметы вроде бы те самые, что мне шепнули. — Я вглядываюсь в Лехину круглую рожу. — Но все дело в трупе. Где ты его завалил?
— Говорю, не знаю.
— Темнишь, Леха? — угрожающе говорю я. — Ну, гляди. Сам все равно теперь из Москвы не выберешься. Захлопнуло тебя здесь.
И я энергично сжимаю перед его носом кулак.
Лехе становится явно не по себе, он нервно затягивается и яростно мнет недокуренную сигарету в стеклянной пепельнице.
— Ладно, — решается он. — Сейчас вспомним.
Леха морщит лоб и энергично скребет затылок.
— Значит, так, — говорит он. — Здоровущая церковь там недалеко. Видно ее с того двора даже. Потом, вокзалы рядом. Вот в том дворе мы его… вечером.
«Мы»! Леха впервые сказал «мы».
— Неужто пальнули? — пугается Илья Захарович.
— Еще чего, — самодовольно усмехается Леха. — Мы его — чик! И не кашляй. А потом Чума камнем по лампочке. И тикать.
— Так, может, вы его не до смерти? — спрашиваю я и с трудом подавляю даже малейшую нотку надежды в своем голосе.
— Все точно, — отвечает Леха. — Не дышал уже.
— Да ведь вы утекли, — настаиваю я.
— Вернулись потом. В сарай чей-то затащили. И за доски спрятали. Теперь до весны, это точно, — словно сам себя успокаивая, говорит Леха.
— А сарай-то чей был? — продолжаю расспрашивать я.
— Хрен его знает. Мы петлю вывернули, а потом на место поставили. Так что ничего они не нашли, брехня все, — убежденно заключает Леха.
И лениво тянется снова к сигаретам.
— А что, Леха, не страшно тебе было убивать, а? — спрашивает Илья Захарович, и я вижу, как чуть заметно задрожали вдруг толстые Лехины пальцы, в которых он уже зажал сигарету.
— Чего ж тут страшного? — храбрясь, отвечает он. — Чик и… готово.
— Много страшного, — вздыхает Илья Захарович. — Если в первый раз, конечно. Человеческая жизнь, Леха, чего-нибудь стоит. Что твоя, что другого. Как считаешь? Охота тебе, скажем, помереть?
— Кому ж охота?
— Ну вот. А ты говоришь, отнять ее нестрашно.
— Пьяный я был, — хмуро говорит Леха, отводя глаза и стараясь не смотреть на свои руки.
Нет, совсем не спокойно у него на душе, мутно там, тошно и страшно, я же вижу. И это больше, чем любые его слова, свидетельствует о том, что Леха и в самом деле замешан в таком жутком преступлении, как убийство. И замешан, оказывается, не один. Но мы, однако, ничего об этом убийстве не слышали. Неужели они на самом деле спрятали труп в каком-то сарае?
— Ну, кое-чего я вспоминаю в том районе. Ты меня поправь, если не так, — медленно говорю я, словно в самом деле роясь в своей памяти. — Двор этот проходняк… Оттуда как раз Елоховская церковь видна… Ворота железные, на цепи, но пройти можно…
— Прямо в доме ворота, забора нет, — вставляет Леха.
— Точно, — соглашаюсь я. — Двор небольшой такой, тесный, — продолжаю как бы вспоминать я. — Детская площадка посередине, а справа сараи, штук шесть, так, что ли?
— Точно, — удивленно таращится на меня Леха. — Только сараи прямо будут, за площадкой. А справа дом.
— Ага. Трехэтажный, кирпичный…
— Не. Пяти. А с третьего этажа тот шел, ну которого мы…
Леха вдруг запинается, решив, что сказал что-то лишнее, и, усмехаясь, добавляет, надеясь, видимо, отвлечь мое внимание:
— Лопухи! Среди зимы надумали ворота красить зеленью какой-то.
— Да ладно, — небрежно машу я рукой, словно и думать мне надоело над всей этой ерундой.
Что ж, теперь пожалуй, можно попробовать отыскать тот двор. Вполне можно попробовать.
Мне, однако, не дает покоя пистолет. Я ни на минуту о нем не забываю, пока веду разговор с Лехой. Это дело нешуточное. Если я этот пистолет не найду, если он останется у кого-то из бандитов, страшно подумать, что может случиться. И все, что случится, будет целиком на моей совести, чья-то оборванная жизнь, например. С ума можно сойти от одной этой мысли.
Итак, следует перевести теперь разговор на пистолет, надо реализовать нашу «домашнюю заготовку».
Я небрежно достаю из кармана патроны и рассыпаю их на столе перед Лехой. Он недоверчиво, с любопытством рассматривает их, ни к одному, однако, не притрагиваясь.
— Узнаешь? — насмешливо спрашиваю я.
— Чего ж тут не узнать, — в тон мне отвечает Леха.
— Эх, темнота, — уже с откровенной насмешкой говорю я. — Это же все разные калибры, вон, на глаз видно, — и кладу рядом два патрона. — Вот «вальтер» номер три, а это — наган. А вот этот, — я придвигаю ему третий патрон, — от ТТ. Лавка к тебе приехала, дура. Выбирай чего требуется. Ну?
Леха озабоченно чешет затылок.
— Вроде «вальтер»…
— «Вроде!» — передразниваю, я. — А номер какой?
— Хрен его знает какой.
— Ну, тащи тогда, примерим, чего тебе требуется.
— Ишь ты, какой «примерщик», — недоверчиво усмехается Леха, наклоняясь над столом и рассматривая патроны, по-прежнему не решаясь, кажется, к ним прикоснуться, потом откидывается на спинку кресла и, сунув руки в карманы, объявляет: — Вот я их отнесу, там и примерят.
— Там пусть свои примеривают, — зло отрезаю я. — А эти, милый человек, я из рук не выпущу, понял? Не мои они.
— Так я тебе гроши оставлю.
Я знаю, что Лехе уже не выйти просто так из этого дома. Стоит ему показаться на улице, как его возьмут под наблюдение и он сам приведет наших ребят к месту, где спрятан пистолет, или к его истинному владельцу. Может быть, он приведет нас к Чуме? Или к третьему, если он существует? Однако отдавать Лехе патроны я все же не должен. Еще не хватает снабжать этих гадов патронами, даже если подойдет только один. Это может стоить одной человеческой жизни. Кроме того, такая подозрительная доверчивость — отдать ему все, а главное разные патроны, большинство из которых ему не подойдет, при их очевидном дефиците, способен только последний «лопух», и это может насторожить Леху или того, другого, к кому он понесет патроны.
— Значит, так, — решительно говорю я, поворачиваясь к Лехе. — Хочешь маслята примерить или нет? Давай сразу говори.
— Хочу, — не задумываясь, отвечает Леха.
— Тогда ноги в руки, и пошли, — все так же решительно заключаю я. — Так и быть, гляну, что за пушка у вас.
— С тобой… ехать?
— Со мной. Чего вылупился? — усмехаюсь я. — Не бойся, не обижу.
— Ну зачем обижать, — неуверенно гудит Леха, все еще не придя в себя от моего неожиданного решения. — Мы зазря тоже никого не обижаем.
— И того, значит, не зазря, — вполне к месту интересуется Илья Захарович. — За дело, выходит, а, Леха?
— За дело, — хмуро соглашается Леха.
— Как же вы с ним перекрестились, ежели ты первый раз в Москве, а он, выходит, тутошний? — не отстает Илья Захарович.
— Он тоже из наших мест.
— Чего же вы его там не завалили, у себя? — удивляется Илья Захарович.
— Чего проще-то, лопухи?
— Значит, надо было так, — недовольно отрезает Леха и предупреждает: — Не цепляйся, дядя Илья. Больше трепать об этом деле не буду. Нельзя.
— О! — поднимает палец Илья Захарович и обращается ко мне: — Видал, Витек? Я ж тебе говорю, деловой мужик, — указывает он на Леху. — Вполне можешь доверить ему… кое-что. Как он нам.
— Ну, так как, едем, что ли? — спрашиваю я таким тоном, словно проверяю Леху, «деловой» он мужик или так, и в самом деле мелочь пузатая, как выразился Илья Захарович, и можно ли вообще с Лехой иметь дело.
— Некуда пока ехать, понял? — горячо, даже с каким-то надрывом отвечает мне Леха, как бы принимая мой вызов и изо всех сил демонстрируя искренность.
— У Чумы она, пушка-то. Его она. А маслят нет. Он чего хочешь за них отдаст.
— Ну, а за чем дело?
— За Чумой и дело, — все так же горячо отвечает Леха, совсем утеряв свою сдержанную солидность. — Мы как в тот вечер разбежались, так и не сбежались пока. Побоялся я по тому адресу идти, куда меня ночевать определили. К бабке одной. Вот к вам, значит, прибился. Ну, Чума меня и потерял. И я про него пока ничего не знаю.
— Ну и что дальше? — холодно и напористо продолжаю спрашивать я, словно экзаменуя Леху.
— А дальше вот — звоню Музке-Шоколадке, бабе его, — охотно продолжает Леха. — Она по телефону темнит. Чуму даже называть не хочет. Встретиться, говорит, надо. В городе. К себе, видишь, не пускает.
— А вообще-то ты с ней знаком?
— Какой там знаком. Издаля видел два раза.
— Чума у нее живет?
— Хрен его знает. Может, и у нее.
— Ну, и как же ты его теперь найдешь? — спрашиваю я.
— А вот с Музкой-Шоколадкой в четыре часа свидимся, она и скажет. Отсюда до Белорусского вокзала далеко?
— Отсюда куда хочешь далеко, — рассеянно отвечаю я. — Это же конец Москвы.
Однако и болтлив же стал Леха. С чего бы вдруг? Неужто так напуган? Положение у него, конечно, такое, что не позавидуешь. Это он видит. Вот-вот задымится, если не сгорит. Хотя на паникера он никак не похож. Он мне кажется парнем крепким. Впрочем, чужая кровь на руках многое меняет в психике. И состояние его сейчас необходимо использовать.
— Ты помни. Намертво себе заруби, — внушительно говорю я ему. — Если за тобой мокрое дело, это всегда может вышкой обернуться. И ты тут никому не верь. Ни богу, ни черту. Вот твой Чума, к примеру. Ты его как знаешь?
— Этот по гроб свой.
— По гроб никто не свой, помни. Ни брат, ни сват. Только мать, понял? У тебя она есть, мать-то?
— Ну, есть… — неохотно отвечает Леха.
— Во. Больше на свете никого у нас нет. Никто по тебе не заплачет.
— Чума — кореш мой старый Чего у нас только не было, упрямился Леха, — ни разу не подвел. Так что будь спокоен.
Он, кажется, готовит меня к встрече с этим Чумой.
— Ха! — иронически восклицаю я. — А чего у вас было-то? Морду кому вместе били? Или из ларька шоколад утянули пацанами еще?
— Было кое-что получше, чем ларьки, — самодовольно возражает Леха.
— Где работали?
— У себя.
— Это где же?
— В… Южноморске.
— Ишь ты. У самого синего моря, значит?
— Ага.
— А тебя оттуда отдыхать отправляли?
— Было дело, — невольно вздыхает Леха. — Два раза хватали. Двояк и пятерку имел. Сто сорок четвертая, часть вторая и восемьдесят девятая, тоже вторая часть. По двум крестили.
Насчет первой статьи у меня сомнения не возникают, скорей всего квартирная кража, это вполне к Лехе подходит. А вот насчет второй статьи он, скорей всего, врет, цену себе набивает, авторитет. Это у них водится Никак к нему эта статья не клеится — крупная кража государственного имущества группой или с применением технических средств. Конечно, врет.
— Где последний раз сидел? — продолжаю спрашивать я.
— В Мордовской, строгого режима, — с оттенком хвастливости даже сообщает Леха. — Там Чуму и встретил. Там и скорешились. Из наших мест оказался. Потом вместе и вышли.
— А у него в Южноморске кто?
— Мать, жена и дочка, — усмехается Леха. Три бабских поколения по нему ревмя ревут.
Я смотрю на часы и говорю:
— До Белорусского нам переть долго. Пора, Леха, двигаться.
Говорю я это таким тоном, словно вопрос о нашей совместной поездке уже давно обговорен и решен.
— Ага, — беспечно и как будто даже обрадованно подхватывает Леха Пошли. Эх, познакомлю я тебя с такой кралей, что закачаешься.
И мне почему-то кажется, что игра у нас с ним пошла взаимная, и притом серьезная.
Глава 2
ИЩЕМ ЧУМУ
В то утро, когда мы расстались с Валей Денисовым, он вернулся к себе в комнату и, скинув пиджак, принялся за работу.
Валя вообще, надо сказать, щепетильно аккуратен и педантичен, как старый холостяк, во всем, а в работе особенно. Я уже рассказывал о нем. Он никогда ничего не забывает, он все собранные сведения по делу, даже самые мелкие и, казалось бы, пустяковые, располагает так точно и аккуратно, что становится в сто раз легче работать дальше.
И одет Валя всегда очень тщательно, я бы даже сказал — франтовато. Известная пословица «по одежке принимают, по уму провожают» в первой своей половине вовсе не несет иронического оттенка А вообще внешность Вали Денисова многих вводит в заблуждение: невысокий, худощавый, изящный такой, белокурые волосы подстрижены весьма модно, на узком лице большие задумчивые голубые глаза, тонкие руки музыканта и эдакая благородная бледность разлита на челе. Ну, прямо-таки бедный Вертер с его страданиями, а не оперативный работник милиции. Валю надо хорошо узнать, чтобы это впечатление исчезло. Ну, а для некоторых его обманчивая внешность оборачивается крупнейшими неприятностями.
В то утро Валя, как всегда, основательно принялся за дело. Прежде всего, по имеющемуся у него номеру телефона он узнал, какому учреждению этот телефон принадлежит. Он поступил куда проще, чем обычно в таких случаях официально принято. Он сразу позвонил по этому телефону и вежливо осведомился:
— Извините, девушка, это поликлиника?
Веселый женский голос ему насмешливо ответил:
— Я, молодой человек, скоро уже бабушкой буду. А во-вторых, это не поликлиника. В поликлинику, случается, после нас попадают. Или в милицию.
— Ого! — удивился Валя. — Сразу два таких интересных открытия. Ну, девушку с бабушкой еще можно по телефону спутать. У вас удивительно молодой голос. Но кого же вы отправляете в поликлинику? И тем более — в милицию? Вам не трудно сказать? Очень уж вы меня заинтриговали.
— Отвечаю вам молодым голосом, — засмеялась женщина. — Кто переест — того в поликлинику, кто перепьет — в милицию.
— Все понятно, — ответил Валя. — И у вас так вкусно кормят, что можно объесться? Вы не приукрашиваете суровую действительность?
— А вы приезжайте и попробуйте. Не пожалеете.
— Отлично. И сам приеду, и друзей привезу. Как вы называетесь и где расположены? Диктуйте, записываю.
Задорный Валин голос никак не вязался с его томной внешностью. И это было только первое и, пожалуй, самое безобидное из всех обманчивых впечатлений, которые он внушал.
Итак, Валя отправился в тот ресторан, естественно, даже не упомянув в разговоре с неизвестной женщиной имя Музы Владимировны. Про себя он только решил, что сама эта женщина Музой Владимировной никак быть не может, той, надо думать, до бабушки еще далеко.
Однако предварительно Валя заехал в трест, которому подчиняются все московские рестораны, зашел к кадровикам и, представившись по всей форме, попросил выдать временное удостоверение инспектора по кадрам.
— Кое-что требуется по двум районам проверить, — туманно сообщил Валя.
Уголовный розыск не служба ОБХСС, и это обстоятельство было воспринято, как и ожидал Валя, с очевидным облегчением.
И все же начальник одного из отделов, к которому Валю в конце концов отправили, седой, полный, барственного вида человек, небрежно и снисходительно спросил словно о сущей безделице:
— Имеете конкретные подозрения?
— Конкретных не имею, — коротко ответил Валя, моргая своими длинными, как у девушки, ресницами.
Весь вид его, очевидно, не вызывал у этого величественного старика ничего, кроме иронического пренебрежения. На холеном, розовом его лице с отвислыми, как у дога, щеками было ясно написано: «И такие вот цыплята работают в уголовном розыске? Ну, знаете…»
— Наобум, выходит, идете, — не то спросил, не то констатировал он и насмешливо предложил: — Можем помочь, если угодно.
— Вряд ли, — снова коротко ответил Валя.
— Что, простите, «вряд ли»? — толстяк поднял одну бровь.
— Вряд ли вы сможете, — невозмутимо пояснил Валя.
— Ах, во-от оно что, — насмешливо протянул тот. — Но мы тоже ведь не лыком шиты, молодой человек. И я, например, с людьми начал работать, когда вас небось и на свете не было. Так что не советую пренебрегать.
Валя бесстрастно посмотрел на него своими синими глазами и все тем же невозмутимым тоном произнес:
— Вы плохо разбираетесь в людях. Мне, например, это сейчас на руку… — И сухо добавил: — Будьте добры меня не задерживать.
Толстяк слегка опешил от неожиданности и несколько секунд растерянно и неприязненно смотрел на Валю, потом наконец пробормотал:
— Что ж, извольте.
Он сделал торопливый росчерк на бумаге, которую положил перед ним Валя, и, откинувшись на спинку кресла, пояснил:
— В порядке исключения. Следующий раз озаботьтесь специальным отношением руководства. Желаю успеха.
К нему вернулась обычная небрежная самоуверенность.
— Благодарю, — вежливо ответил Валя, беря бумагу. — Следующий раз непременно озабочусь. Всего доброго.
Начальник отдела, видимо, соображал, как бы подостойней ответить этому мальчишке и поставить его на место, но ничего подходящего в голову не приходило. И он, сцепив руки на огромном животе и крутя большими пальцами, лишь изобразил на толстом лице заговорщицкую улыбку и утвердительно кивнул головой.
— Работайте, — сказал он покровительственно.
Валя не спеша спрятал бумагу в карман и все тем же бесстрастным тоном произнес:
— Вам, конечно, не надо говорить, как пострадает дело, если хоть одна душа в тех ресторанах узнает о моей просьбе к вам. Не так ли?
— Ну что вы! Конечно, не надо, — поспешно развел тот пухлые руки, всем видом своим давая понять, что все это само собой разумеется. Но от Вали не ускользнула и легкая тревога, мелькнувшая в глазах его собеседника, некое даже опасение, что ли.
Этот человек терпеть не мог лишней ответственности. А кроме того, он неожиданно ощутил, что стоящий перед ним щуплый, голубоглазый, похожий на девушку паренек оказался не таким уж робким простачком и способен причинить ему, в случае чего, немалые неприятности. Черт их знает, кого они только берут в этот уголовный розыск.
Валя между тем, не теряя времени, отправился в ресторан, который находился совсем в другом районе, нежели те, что он назвал в тресте. Ехать до него было недалеко.
Время уже подходило к обеденному, и Валя с самым беззаботным видом вошел в зал, решив поначалу присмотреться к незнакомой обстановке, может быть, даже пообедать. Почему бы и не пообедать в самом деле? Не каждый день удается это вовремя сделать.
Ресторан оказался совсем неказистым, несмотря на пышное название, сулившее что-то и вовсе неземное. Все тут было скучно, буднично, тускло. Не очень свежие скатерти на столиках, местами закапанные чем-то или с круглыми следами жирных тарелок, дешевые, розовые, из пластмассы, стаканы для четвертушек бумажных салфеток, унылые стены с какими-то темными разводами, незажженные, очевидно из экономии, стандартные, безвкусные люстры, потертые, из зеленого плюша занавеси на узких окнах.
Ждать официантку пришлось довольно долго, несмотря на полупустой зал. За это время Валя успел вполне освоиться и поразмыслить. Интересно, кто такая эта Муза Владимировна — официантка? Скорей всего. И тогда ее знакомство с этими приезжими парнями могло произойти очень легко. И уже сразу дала им телефон, назначает встречу? Но Валю это не очень удивило, даже вовсе не удивило. И не к такому привык.
У его столика появилась наконец и официантка, толстая, немолодая и сонная. Она вяло достала из кармашка блокнотик и молча приготовилась слушать заказ.
— Во-первых, здравствуйте, — усмехаясь, сказал Валя.
— Здрасте, — раздраженно ответила официантка.
Кажется, ей Валя чем-то не понравился, хотя это случалось весьма редко.
И все тем же нелюбезным тоном она спросила:
— Что будем есть?
Валя с интересом оглядел ее и неожиданно спросил:
— Скучно у вас, правда?
— А какое тут днем может быть веселье? Вот возьмите грамм триста коньячку, сразу станет веселее, — на бледном, рыхлом ее лице, похожем на невыпеченную лепешку, появилась нагловатая усмешка.
— Да-а… Вот тут и проверяй жалобы, — вздохнул Валя.
— Это какие же такие жалобы?
Официантка насторожилась.
— Обыкновенные. Которые к нам в трест приходят.
— Ну конечно! Им бы только писать! — возмутилась официантка. — Знаете, какой народ пошел? Выпьют на копейку, а обслуживания требует на сто рублей. Фон-барона из себя строят, особенно если с дамой. А как что — так писать. Больно грамотные все стали.
— Но и наш персонал бывает не на высоте, — назидательно заметил Валя. — Самокритики не хватает.
— Нервов на каждого не хватает! — запальчиво возразила официантка. — А самокритики у нас во как хватает. — И она провела пухлой рукой по горлу, потом, не скрывая любопытства, спросила: — И на кого же у вас жалобы, интересно?
— Не имею права раньше времени говорить, — важно ответил Валя и, как бы давая понять, что разговор на эту тему окончен, взял в руки замусоленный листок с дежурным дневным меню. — Ну-с, что бы такое покушать, — и поднял глаза на официантку. — Вас, кстати, как зовут?
— Катя. Лавочкина… — Она сделала паузу и, пересилив себя, жеманно спросила: — А на меня-то, случайно, не жалуются?
Валя добродушно улыбнулся.
— Так и быть, открою вам служебный секрет: на вас — нет.
— Ой, я знаю, на кого, — обрадованно всплеснула руками Катя. — Ну точно. На Верку небось. Воронина, да?
— Нет, — загадочно покачал головой Валя, подзадоривая ее на новые догадки.
— Ну, тогда Мария.
— И не Мария.
— Неужели Любка? — загораясь, продолжала перечислять Катя. — Спиридонова.
— И не Любка, — улыбнулся Валя, давая понять, что сам он назвать имя не может, но не возражает, если Катя угадает.
— Ну, кто же тогда? Не Музка же? Ею-то уж всегда довольны.
— Почему же это ею всегда довольны? — поинтересовался Валя, впрочем, как можно безразличнее.
— Ой, она так умеет, позавидуешь, — махнула рукой Катя. — Характер ужас какой. Ну, всем умеет угодить, представляете? И буквально каждому улыбается. Надо же? Я, например, так не могу. И потом, Музка красивая. Тоже, знаете, имеет значение, — Катя невольно вздохнула. — Ей, если что, все простят.
— Ударник комтруда? — деловито осведомился Валя.
— Ясное дело. И в местком ее выбрали.
— Значит, жалобы не на вашу смену, — заключил Валя и снова занялся меню. — Что же мы все-таки будем есть?
— Пожалуйста, — с готовностью откликнулась Катя. — На закуску можно будет рыбку организовать. Севрюжку, например, завезли. Очень свежая.
— Но в меню…
— Можно будет, — энергично прервала его Катя. — А еще язычок…
Словом, обед у Вали неожиданно получился отменный, нанесший немалый урон его бюджету. Катя проявила, видимо, небывалую для нее расторопность, и блюда сменяли друг друга с такой быстротой, что Валя едва успевал с ними покончить. При этом с пухлого лица Кати не сходила льстивая, даже, пожалуй, кокетливая улыбка.
— Спасибо, товарищ Лавочкина, — под конец торжественно сказал Валя и, не удержавшись, все же оставил ей на чай всю сдачу.
Катя удивленно посмотрела ему вслед и пожала плечами.
А Валя проследовал в кабинет директора.
Там он застал средних лет человека, высокого, смуглого, с сухим лицом, тонким, орлиным носом и глубокими залысинами на висках. Он был в модном костюме цвета маренго, белоснежной сорочке и бордовом полосатом галстуке. На широком, заросшем густыми волосами запястье видны были какие-то необыкновенные часы на широком золотом браслете. Это, без сомнения, был сам директор, так барски развалился он в широком кресле за столом. А перед ним стоял другой человек, помоложе, потоньше, в черном бархатном пиджаке, серых брюках и с пестрым шейным платком вместо галстука. В тот момент, когда вошел Валя, он самоуверенно произнес, заканчивая, видно, какой-то деловой разговор:
— Все будет в лучшем, виде, Сергей Иосифович. Даже не сомневайтесь.
Внимательно взглянув на вошедшего Валю и, видимо, что-то уловив в его облике, директор сделал нетерпеливый жест рукой, и молодого человека выдуло из кабинета как ветром, он лишь успел торопливо извиниться перед Валей.
— Прошу, — любезно произнес директор, широким жестом приглашая Валю располагаться в кресле возле письменного стола. — Чем могу быть полезен?
— Пока не знаю, — улыбнулся Валя. — Пока прошу ознакомиться.
Он протянул через стол полученное в тресте временное удостоверение, и директор, бегло взглянув в него, тут же вернул.
— Все понятно. Слушаю вас.
Было видно, что его уже успели предупредить о появлении инспектора.
Валя коротко объяснил, что ему требуется, и добавил:
— Чисто профилактическая мера, учтите. Никого конкретно ни в чем не подозреваем. Так, для общего знакомства с кадрами.
— Понимаю, — невозмутимо кивнул директор.
Он выдвинул один из ящиков письменного стола, порывшись в бумагах, достал какие-то списки и протянул Вале:
— Для оперативного руководства дубликат держу всегда под рукой. Вот тут фамилии, должности, домашние адреса и телефоны.
— Очень предусмотрительно, — кивнул Валя.
Он просмотрел список и положил его перед собой.
— Что ж, давайте займемся.
— Минуточку.
Директор пружинисто поднялся, подошел к двери и, приоткрыв ее, сказал кому-то в узкий коридор:
— Валечка, я уехал.
После чего он запер дверь и, возвратясь к столу, с готовностью спросил:
— Ну-с, так как? Начнем, пожалуй, с официанток?
— Прекрасно, — согласился Валя. — Прошу только с полной откровенностью. И характер, и образование, и поведение, конечно. Если можно, то и семейное положение тоже. Что делать, — он с улыбкой развел руками. — Все надо знать. Такая уж работа.
— Понятно, понятно, — сурово кивнул директор.
Он стал называть фамилии официанток и каждой давал короткую характеристику. Валя внимательно слушал, время от времени задавая дополнительные вопросы, и делал краткие пометки у себя в блокноте.
А директор, между тем, добросовестно перечислял всякие прегрешения и беды своих подчиненных, не забывая, впрочем, и о их положительных качествах. Одна уже три раза была премирована и носит звание, другая совсем недавно послана делегатом, но с мужем живет плохо, у третьей мужа вообще посадили, пьяница он и дебошир, она в синяках на работу приходила, четвертая была нечиста на руку, но теперь исправляется. А вот пятая и добросовестна, и приветлива, и культурна, и все у нее налицо, как говорится, но другое плохо — любой мужчина ей голову кружит, а потом всякие трагедии, и топиться хочет, и вешаться, и травиться. Ну, а вот эта ленива, к тому же врет на каждом шагу, давно бы уволил, но детей жалко, трое их у нее, и, между прочим, от трех отцов, а никаких алиментов, дура, не требует. Дурой этой была Катя Лавочкина.
Словом, директор проявил отличное знание своих кадров и весьма тактично подчеркнул полную свою беспристрастность, а также гуманность.
Наконец он хмуро сказал:
— Ну-с, а теперь Леснова Муза Владимировна. Тут я, пожалуй, ничего особенного сказать не могу. Так себе человек. Заносчивая, дерзкая, я бы сказал, грубая эгоистка. Плохого за ней, впрочем, ничего не числится, — с неохотой добавил он.
— Семейное положение вам известно? — равнодушно и торопливо спросил Валя, словно утомившись этим однообразным перечислением, но про себя удивляясь, как рознятся два отзыва об этой самой Музе.
— Почти одна, — небрежно заметил директор.
— То есть?
— Ну, кажется… кто-то говорил… мать у нее в Москве… А сама Муза Владимировна… ребенок у нее, кажется.
— На работе она как?
— Так, жалоб нет. В местком выбрали. С гостями, правда, любит пококетничать. Это, знаете, мешает… Всякие приставания, ухаживания. Приходится реагировать. Ну, и, конечно, всякие разговоры отсюда. И вообще…
— Что значит «разговоры»? Какие идут разговоры?
— Ну, как вам сказать?.. — замялся директор.
— Так и сказать, Сергей Иосифович, — сурово предложил Валя. — Как о других говорили. Все, что вам известно. Мы же условились.
— Ну, вроде бы кто-то у нее есть. Завелся, — досадливо сказал директор.
— Влюбилась, одним словом.
— Вам тут что-то не нравится?
— Да нет, так сказать нельзя… прямо так… Но все-таки… случайные связи…
Вдруг Валю осенило. Так он же, директор, сам, очевидно, пытался приударить за Музой, и ничего не вышло. Вот он и кипит, вот и пытается бросить тень на нее. Подлец все-таки. Но с другой стороны, если Муза предпочла ему того бандита, Леху, то как это охарактеризовать? Интересно, знает ли Сергей Иосифович, кто его счастливый соперник.
— А вы знаете, кто именно у нее есть? — напрямик спросил Валя. — Это не пустое любопытство. Если человек хороший, то, как говорится, на здоровье. А вот если плохой, то сами понимаете…
— Откуда же мне знать, — по-прежнему с досадой ответил Сергей Иосифович, сдвинув свои черные длинные брови над орлиным носом. — Подружка лучшая и та, кажется, не знает… То есть, я так думаю, конечно, — торопливо поправился он, чуть заметно смутившись при этом.
«Неужели он и подружку расспрашивал?» — подумал Валя.
— Кто же она такая, эта подружка?
— Наш счетовод, Ниночка.
— Ладно, до бухгалтерии мы еще дойдем, — невозмутимо сказал Валя. — Давайте кончим с официантками. Кто там после этой Лесновой?
И директор поспешно, словно обрадовавшись, что неприятная тема наконец исчерпана, принялся называть новые фамилии. Валя все так же внимательно слушал, делал пометки, уточнял, переспрашивал.
Когда директор наконец дошел до бухгалтерии и упомянул Нину Скворцову, Валя довольно равнодушно осведомился:
— Та самая?
— Именно, — с готовностью подтвердил Сергей Иосифович.
— Что же она из себя представляет?
— Очень хорошая девушка. Это уж я вам точно говорю, абсолютно. Честнейшая девушка. С матерью живет, с отцом. Никаких кавалеров. Скромница, красавица. Отца ее знаю, вместе работали. Очень хорошая девушка. Комсомолка.
— Чего ж тут хорошего, если кавалеров нет? — улыбнулся Валя. — Есть, наверное. Только вы, конечно, знать про это не обязаны.
— А я говорю, нет! — запальчиво воскликнул Сергей Иосифович и тут же смутился. — Конечно… Вполне возможно…
— Тогда пойдем дальше, — предложил Валя.
Он терялся в догадках. Вот, оказывается, какая у нее подруга. Характеристика не вызывала у него сомнений. Что же представляет собой сама Муза? Не мешает побеседовать с этой Ниной Скворцовой, осторожно, конечно, не вызывая у нее никаких подозрений.
Когда наконец беседа с директором была закончена и ни один из сотрудников не остался без исчерпывающей характеристики, Валя, помолчав, сказал:
— Что ж, прекрасно. Теперь я полностью в курсе. Это, знаете, не каждый руководитель вот так может. Я бы только напоследок вас попросил… Не могли бы вы мне на часок отвести какой-нибудь кабинет… Ну, словом, для двух-трех коротких бесед?
— Да ради бога, дорогой! — с готовностью воскликнул директор, чрезвычайно польщенный высокой оценкой, которую дал их беседе Валя. — Берите кабинет главного бухгалтера. Заболел бедняга, вторую неделю лежит.
Он окончательно сбросил с себя всякую суровость и сейчас казался необычайно приветливым и по-восточному гостеприимным. Что ни говорите, а совместная работа всегда сближает. А главное, Сергей Иосифович был, видимо, крайне заинтересован в хороших отношениях с новым инспектором треста.
— Отлично, — одобрил его предложение Валя. — А для беседы пришлите мне ну, скажем, по одному человеку из официанток, с кухни и из бухгалтерии. Но, сами понимаете, из актива, посознательней.
Через некоторое время Валя уже беседовал в маленьком кабинетике главного бухгалтера с официанткой Верой Ворониной, крупной, неуклюжей, рыжеволосой девушкой с веснушчатым бледным лицом и усталыми глазами. И хоть была она активисткой и даже делегатом какого-то общемосковского совещания, но держалась скованно и еле отвечала на вопросы. Минут через пятнадцать Валя с облегчением простился с ней, так и не получив ни одного толкового ответа. Кажется, с неменьшим облегчением рассталась с ним и Вера, так и не разобравшись, чего хотел от нее услышать молоденький инспектор из их треста.
Пышная немолодая повариха, краснолицая, распаренная и громкоголосая, принесла Вале некоторое облегчение своей энергией и напористостью, когда жаловалась на недостатки и нужды ресторанной кухни. Вале даже стало совестно, что он ее обманывает и все ее разумные требования не дойдут по назначению, и еще он невольно удивляется многообразию и сложности этих кухонных проблем. Энергичная и веселая повариха выпалила все это ему с пулеметной скоростью, поминутно вытирая красное, разгоряченное и потное лицо большой белой тряпкой, которую носила заткнутой за длинный, тоже белый фартук. Наконец ушла и повариха.
А за ней в кабинет заглянула Нина Скворцова. Валя сразу догадался, что это она, девушка даже не успела назвать себя. Видимо, со слов директора у него сложилось именно такое представление о ней. Кроме того, Валя был уверен, что из бухгалтерии директор пришлет конечно же Нину, после той характеристики, которую он ей дал.
Девушка оказалась невысокой, худенькой, с роскошными золотистыми кудрями, спадавшими на спину. Большие серые глаза смотрели серьезно, чуть тревожно. Аккуратный белый халатик подчеркивал стройность ее фигурки. Словом, Вале девушка показалась очень симпатичной, он даже поймал себя на мысли, что хорошо было бы познакомиться с такой девушкой совсем в другой обстановке и куда-нибудь ее пригласить.
Ну, а тут ему пришлось представиться вполне официально, хотя, как вы понимаете, и не слишком откровенно. И Валя вторично за последний час ощутил неловкость. На этот раз, однако, это его рассердило, и он с излишней, пожалуй, сухостью обратился к девушке:
— Расскажите, как вам тут работается?
Девушка чуть заметно улыбнулась. Эта улыбка очень шла ей. Валя нахмурился и опустил глаза, делая вид, что просматривает свои записи.
— Мне хорошо работается, — мягко ответила Нина, словно успокаивая его.
— И жалоб у меня никаких нет.
— А меня интересуют не только жалобы.
— Что же вам рассказать? — совсем просто спросила Нина.
И Валя ощутил вдруг какую-то неуверенность, что вовсе было на него не похоже. При взгляде на эту девушку мысли у него начинали незаметно путаться, и на место нужных и важных то и дело пробивались совсем пустяковые и к делу не относящиеся. Наконец Валя спросил:
— Вы давно здесь работаете?
— Всего два года.
— Впрочем… это значения не имеет, — махнул рукой Валя. — Я хотел узнать, нет ли у вас каких-нибудь замечаний по работе, пожеланий? Что-то, может быть, надо изменить в системе учета, отчетности.
— Ой, что вы! — улыбаясь, пожала плечами Нина. — Нет у меня никаких пожеланий. Я еще мало для этого работаю. И пришла сюда, можно сказать, со школьной скамьи. Это вам лучше мой начальник скажет, — она обвела глазами кабинет. — Он только болен. Грипп у него. Сколько у нас больных, если бы вы знали.
— Эпидемия, — вздохнул Валя. — Даже в газетах пишут. А вы не болели?
Последний вопрос вырвался у него как-то непроизвольно и внезапно разрушил официальную сдержанность разговора.
— Я — нет, а вот папа болен, — огорченно сказала Нина. — И еще моя близкая подруга одна тоже больна. И так тяжело. Даже «неотложку» вызывали.
— Она тоже здесь работает?
— Нет. Мы с ней учились. А у нее еще грудной ребенок. Знаете, как это опасно?
— Ну, у вас, наверное, и здесь немало подруг. Здесь работают, мне кажется, неплохие девушки, как вы считаете?
— Всякие. И подруги, конечно, есть.
— Подруги нужны такие, чтобы во всем можно было положиться, как на себя, — с обычно не свойственной ему горячностью сказал Валя. — Вот у меня, например, такие друзья есть. Четверо нас.
— Как мушкетеры, — засмеялась Нина.
— Вроде, — Валя тоже улыбнулся, ему было приятно беседовать с этой девушкой.
— А с кем вы дружите здесь, на работе? — спросил он.
— С кем? Ну, есть тут две-три девушки, — Нина улыбнулась и чуть удивленно спросила: — Почему вы меня об этом спрашиваете?
— Потому что человек лучше всего знает того, с кем дружит. А я тут познакомился с одной официанткой. И она мне про вас уже кое-что рассказала. Одно хорошее. Ну, и про ваших подруг тоже.
— Каких же моих подруг она вам назвала? — улыбнулась Нина.
— Например, Мария, — с готовностью отозвался Валя.
— Вот и неправда. Никакая она мне не подруга…
— Тогда… — Валя помедлил. — Как же ее зовут?.. Муся. Мура… Вдруг, знаете, выскочило из головы… Что-то вроде…
— Наверное, Муза, да? — оживленно подсказала Нина, — Ну, это хоть чуть-чуть правда.
— Что значит «чуть-чуть»?
— Она действительно моя подруга. Не самая, конечно, близкая. Но хорошая подруга.
— Ну, если хорошая подруга, то и сама, наверное, хорошая?
— Конечно, — убежденно согласилась Нина и с улыбкой добавила: — Только у нее очень много кавалеров. Это мешает с ней дружить.
— А у вас меньше? — весело осведомился Валя.
— Что вы! Муза, во-первых, очень красивая. А во-вторых, у нее очень веселый и общительный характер. И она обожает всякие компании.
— Вы тоже красивая.
— Ну, значит, мне не хватает ее характера, — засмеялась Нина. — А это очень важно для кавалеров. Как вы считаете?
— Общительный характер не всегда приносит одни радости, — назидательно сказал Валя. — Это иногда переходит в неразборчивость.
— А это во что переходит? — насмешливо спросила Нина.
— А это… Ну, тут, знаете, всякое уже может случиться.
— Ну, так у Музы общительность не перешла в неразборчивость. Хотя я уже голову потеряла от ее знакомых.
— Неужели она вас со всеми знакомит?
— Представьте себе.
— Вы знаете, — заговорщически понизил голос Валя, — я вам еще кое-что скажу по секрету. Только если я ошибаюсь, вы уж тем более никому не говорите. Обещаете? А то совсем некрасиво получится.
Нина с любопытством кивнула.
— Ну конечно, обещаю.
— Так вот, мне показалось, что Сергей Иосифович сам пытался ухаживать за Музой. Это правда?
— Правда, — тихо засмеялась Нина, опустив глаза. — Только ничего у него не вышло.
— И это мне тоже показалось, — ответно засмеялся Валя. — У нее, наверное, просто сейчас другой кавалер. Вот и все.
— Верно. И потом, Сергей Иосифович уже совсем старый. Ему ведь пятьдесят шесть лет. Правда, Мария влюбилась в Мазепу, — беззаботно засмеялась Нина. — Но это очень редкий случай.
— А сколько же лет должно быть Музиному кавалеру или… вашему? — шутливо спросил Валя.
— Ну, ему, как мне показалось, лет двадцать пять, — пожала плечами Нина.
— Показалось?! — невольно вырвалось у Вали.
— Конечно, — улыбнулась Нина. — Не могла же я его об этом спросить.
— Где же вы его видели? — как можно безразличнее спросил Валя, словно ему было все равно, о чем спрашивать, лишь бы продолжить с Ниной этот доверительный разговор. И вероятно, потому, что желание было вполне искреннее, вопрос его не вызывал у девушки удивления.
— У Музы, — ответила она спокойно. — Он приехал в командировку, ненадолго.
— Значит, он не москвич?
— Нет. Он, кажется, из Харькова.
Валя не верил своим ушам. Чтобы такой бандит и подонок, как Леха, которого я описал ему утром во всех подробностях, мог выдать себя за командировочного? И вообще заморочить голову двум таким девушкам, да еще чтобы избалованная мужским вниманием красотка Муза в него влюбилась? Все это у Вали никак не укладывалось в голове. Он еще не знал, что за Музой ухаживает не Леха, а его приятель, по кличке Чума. Впрочем, этот последний не очень-то должен был отличаться от Лехи. А если еще обратить внимание на кличку… Но, повторяю, всего этого Валя не знал. Он «примеривал» к ситуации только Леху и не мог поверить его успеху у Музы.
— Ну, и как он вам понравился, этот командировочный? — спросил Валя, давая понять, что его интересует вовсе не Музин кавалер, а Нинин взгляд на человека, именно ее оценка.
— Мне, мне он не очень понравился, — поколебавшись, ответила Нина. — Сама не знаю почему. Вежливый такой, мягкий, какой-то обволакивающий. Но Музе он нравится очень. И фигура такая спортивная.
Вот тут уже Валя окончательно насторожился. Описываемый Ниной человек был решительно не похож на Леху. В то же время чутье сыщика подсказывало Вале, что этим новым человеком пренебрегать нельзя, что он, видимо, связан не только с Музой, а, возможно, и с Лехой. Почему бы иначе Муза так легко согласилась на встречу с Лехой? Параллельный роман? Это почти исключается. Так кто же он, этот Музин кавалер?
— Наверное, скоро поженятся? — спросил Валя.
— Ой, тут целая история, — махнула рукой Нина. — Николай… Его зовут Николай. Он сперва должен получить развод. А та женщина не дает. Только… Что-то я не очень верю. Я вообще ему не верю. А Муза верит. С ним веселая, а ко мне прибежит и плачет.
— И давно они знакомы?
— Чуть не год. Он за это время уже раза четыре приезжал.
— И останавливается у Музы?
— Кажется… — слегка смутилась Нина.
— Да, посочувствуешь… — вздохнул Валя. — Ну уж ладно. Пусть сами разбираются. А вот если мне понадобится с вами еще раз встретиться, вы не рассердитесь на меня?
Нина улыбнулась в ответ.
— Нет… наверное.
— И… вам можно позвонить?
Нина справилась с охватившим ее на миг смущением и спокойно кивнула в ответ:
— Пожалуйста.
При этом она серьезно и испытующе взглянула на Валю.
Они расстались.
Возвращаясь на работу, Валя всю дорогу раздумывал над важными сведениями, которые ему удалось получить. Но все его мысли невольно были как бы согреты теплом необычной встречи, которая у него случилась. Это неизбежно кое-что искажало в сложившейся у него картине.
И Валя пришел к совершенно, казалось бы, очевидному выводу, что Леха и тот подозрительный командировочный, каждый по-своему, просто заморочили голову веселой и легкомысленной дурочке Музе, а этот командировочный Николай еще и неплохо устраивается каждый раз, приезжая в Москву.
Добравшись наконец до своей комнаты в управлении, Валя прежде всего позвонил Илье Захаровичу. И тот вернул меня уже из передней, где мы с Лехой одевались, чтобы ехать на встречу с Музой.
Так я в последний момент получил важные сведения о Кольке-Чуме и о его, по мнению Вали, легкомысленной, доверчивой, но вполне, однако, честной подружке.
На улице Леха решает взять такси. Я не возражаю. Пусть тратится. Интересно только, откуда у него деньги? Эта мысль лишь торопливо возникает и тут же исчезает у меня из головы. Всему свое время. Сейчас есть более важные и срочные вопросы.
Мы забираемся в пропахшее бензином старенькое нутро подвернувшегося такси и некоторое время едем молча.
Мне кажется, Муза незнакома с Лехой. Это вполне согласуется с тем, что Валя успел сказать мне но телефону. Николай, наверное, не решился знакомить девушку с такой бандитской рожей. А сам он… Как это Валя выразился?.. Обволакивающий. Очень выразительное словцо. Но если Леха Музу не знает, то как же они встретятся? Об этом я у Лехи по дороге спрашиваю, тихо, чтобы не слышал водитель.
Леха усмехается.
— Она меня не знает, а я ее знаю. Понял?
— Нет, — твердо и требовательно говорю я.
— Ну, мы с Чумой в ресторане ее видели. Он и показал.
— А чего ж не познакомил?
— Так надо, значит.
— Толково, — соглашаюсь я. — И адреса ее не знаешь?
— Ага.
— Еще толковее. Чума так решил?
— Ну… вместе решили, — неохотно бурчит Леха, не желая, видимо, показывать свое подчиненное положение.
— А звонить ей на работу разрешил? — не отстаю я.
— Чего ж делать-то, раз потерялись?
Мы некоторое время молчим и рассеянно смотрим на мелькающие за окном дома и бесконечный поток прохожих, мимо которых несется машина. Все вдали засыпано снегом, дворы, деревья, крыши домов, а на мостовых и тротуарах он превратился в черное, жидкое месиво и веером летит из-под колес машин. Совсем низкое уже солнце на бледно-голубом чистом небе медным пламенем зажигает стекла в верхних этажах высоких зданий. Еще совсем светло. День стал заметно длиннее.
— Тебе чего от нее надо-то? — спрашиваю я Леху.
— Где Чума, надо знать, — бурчит он и многозначительно добавляет: — У него все, понял?
— Ты гляди, культурнее с ней, а то напугаешь.
— Ничего, не глиняная, не рассыплется, — ворчит Леха, но я замечаю, что предстоящая встреча его чем-то все же смущает.
Наконец мы приезжаем на площадь Белорусского вокзала. Место встречи — вход на кольцевую станцию метро. Здесь, как всегда, тьма народу. Мы отходим в сторону, и Леха принимается внимательно разглядывать всех проходящих. Я стою чуть поодаль от него, и можно подумать, что мы с Лехой вообще незнакомы. Он так поглощен непростой, видимо, задачей узнать и не пропустить Музу — ведь видел-то он ее всего один раз и без пальто, — что, кажется, даже не замечает моего маневра. А я в толпе замечаю наших ребят. Видно, приехали следом за нами и держат Леху цепко.
Так проходит минут десять, как вдруг Леха устремляется куда-то в толпу. Ясно, увидел Музу. Я медленно следую за ним, давая на всякий случай понять, что навязываться не собираюсь. Но Леху из виду не теряю. Вот он подходит к высокой девушке в красивой дубленке с пушистым воротником и большой, из светлого меха шапке. Очень эффектная девушка. Рядом с ней громадный и неуклюжий Леха в дешевеньком пальто нараспашку, под которым виден расстегнутый ворот мятой рубахи, и в кепке на затылке выглядит совершенно нелепо.
Я описываю вокруг них в толпе некий полукруг и теперь вижу смуглое, чернобровое лицо девушки с ярко накрашенными, пухлыми губами. На губах у нее пренебрежительная гримаска. Разговор ей, очевидно, неприятен, а сам Леха и подавно. Да, действительно, красивая девушка, ничего не скажешь. Меткую они ей кличку дали — Шоколадка. Она, судя по Валиной характеристике, наверное, и не подозревает о такой кличке. Интересно, как выглядит этот Колька-Чума, в которого она, тоже по словам Вали, по уши влюблена.
Почти незаметно я совершаю в толпе еще некоторые маневры и приближаюсь к этой паре настолько, что могу уже уловить кое-что из их разговора.
— …А я говорю: нет, — сухо произносит Муза. — Коля не велел. Дайте номер телефона, он вам сам позвонит.
— Да срочно он мне нужен, поняла? — сердито гудит в ответ Леха.
— Его сейчас все равно нет дома. А вы сами…
Тут меня сносит с толпой в сторону, и я перестаю слышать их разговор. Когда мне удается снова занять подходящую позицию, разговор их уже принял явно другой характер.
— Ну, и где этот ваш парень? — без прежнего холодка спрашивает Муза.
— Да тут вот, со мной, — умиротворенно рокочет Леха, кивая в сторону, где оставил меня. — Ждет, понимаешь.
— Тогда зовите его, и поехали, — нетерпеливо говорит Муза.
На ее разрумянившемся, смуглом лице блестят сейчас решительные, а вообще-то, наверное, веселые, лукавые и доверчивые глаза. И овал лица у нее нежный, черные волосы красиво выбиваются из-под шапки. Ну, в самом деле, Шоколадка. Валя сказал, что она даже замуж за этого Чуму собирается. А он перед ней дурака валяет, командировочным представляется, о разводе якобы хлопочет. Одета она как куколка. Уж не Чума ли ей подарки такие делает? Откуда все-таки у них деньги, и, видимо, немалые? Вот узнаем причину убийства, тогда, наверное, найдем и источник дохода. А Муза может стать нашим союзником в этой шайке, если узнает правду. Это большая удача. Молодец Валя.
Тем временем, лавируя в толпе, я возвращаюсь на свое место, возле входа в метро, и тут же появляется Леха.
— Поехали, — коротко бросает он, не останавливаясь.
И я устремляюсь за ним.
Муза нас поджидает в стороне, у края тротуара. Мы знакомимся, и я чинно представляюсь:
— Витя.
— Муза.
Она протягивает мне руку и, не скрывая интереса, оглядывает меня. Потом обращается к Лехе:
— Леша, возьмите такси. Вон там стоянка, — она указывает на площадь. — А мы здесь вас подождем.
Я чуть не предлагаю свои услуги, но вовремя удерживаюсь. Не солидно. Даже в глазах Лехи. Он помельче, вот пусть и побегает. И Леха, не возражая, торопливо направляется в сторону стоянки.
Мы остаемся одни.
Но я не считаю нужным первым начинать разговор. И Муза, конечно, долго не выдерживает этого молчания.
— Вы тоже приезжий? — спрашивает она, мило улыбаясь.
— Нет. Москвич.
— Как же вы с Лешей познакомились?
— Случайно, — туманно отвечаю я и, тоже улыбаясь, добавляю: — Представляете? С первого взгляда потянуло друг к другу.
— Ой, что-то я вам не верю, — смеется Муза. — А с Колей вы тоже знакомы? Вас к нему не потянуло?
— Это уж Леша меня к нему тянет, — в тон ей отвечаю я и, в свою очередь, спрашиваю: — А вас к кому из них тянет?
Ничего, немного развязности не мешает. Потом она все поймет. А пока пусть потерпит. Ее приятели тоже деликатностью не отличаются. А я сейчас ничем не хочу отличаться от них.
Муза вздыхает и без всякой последовательности неожиданно заявляет:
— Знаете, Коля очень хороший, но такой неудачливый. — И уже с интересом спрашивает: — А вы где работаете?
— В мастерской, — беспечно сообщаю я, заранее готовый к подобному вопросу. — Починка кожгалантереи. На Сретенке, знаете?
— Ой, у вас там, наверное, хорошие вещи попадаются?
Я хитренько улыбаюсь.
— Случается. Для близких друзей, конечно.
— А вдруг мы с вами станем друзьями? — кокетливо спрашивает Муза. — Мне ужасно нужна сумка к синим туфлям. Только не наша, конечно. Я в «Березке» видела прелестные сумки. Французские или итальянские, не помню. К вам такие не попадают?
— У нас, как в Греции, все бывает, — улыбаюсь я.
— Ой, Витя, вы бесценный человек! — всплескивает руками Муза. — С вами надо дружить, я сразу это поняла.
— Обязательно надо, — подтверждаю я и, уже не стесняясь, спрашиваю в свою очередь: — А вы где работаете?
— В ресторане. Вот я у вас куплю итальянскую сумку, а вы у меня получите такой обед… Увидите.
— Идет, — с энтузиазмом отвечаю я. — Что значит случай. Вы так и с Колей познакомились, наверное?
Муза бросает на меня лукавый взгляд, чуть повнимательнее, однако, чем раньше. Вопрос мой вовсе ее не насторожил. Ей почудились в нем обычные игривые интонации мужчин, завязывающих с ней флирт.
— Нет, нас познакомили, — кокетливо ответила она. — А что?
— Да так. А с Лешей уже он вас познакомил?
— А с Лешей, — смеется Муза, — я сама только что познакомилась. Я даже не знала, что у Коли есть такой знакомый. И вдруг звонит мне на работу. Представляете? Мне вообще мужчины на работу не звонят.
— А чего тут такого? — беспечно пожимаю я плечами. — Он же Колю разыскивает. По делу.
— По какому делу? — немедленно любопытствует Муза.
— Ну, уж это пусть вам сам Коля скажет.
Муза кокетливо грозит пальчиком:
— Витя, ничего от меня не скрывайте, я это не люблю.
— А разве мы так условились — ничего не скрывать?
— Ну, так давайте условимся.
— Согласен, — киваю я. — Но только взаимно. Вы тоже от меня ничего не скрывайте. Как, согласны?
— Ой, это для женщины опасно.
— Иногда и для мужчины тоже.
Мы продолжаем болтать в ожидании Лехи и его такси. Я расспрашиваю Музу все смелее и настойчивей, особенно про ее приятеля Колю… У нее, кажется, возникает ощущение, что я уже ревную ее к нему, и это ей нравится.
— Он, наверное, не каждый день в командировку приезжает? — спрашиваю я.
— Через день, — смеется Муза.
— Где же он работает?
Она снова грозит мне пальчиком. У нее такая кокетливая манера, кажется.
— Зачем вам это знать?
— Расширяю кругозор.
— А вы расширяйте в другую сторону.
— Можно в вашу?
Муза смеется и грозит пальчиком. Ей сейчас хорошо, она в своей, можно сказать, стихии.
Между прочим, я уже начинаю подмерзать. Музе, конечно, тепло в ее роскошной дубленке и меховых сапожках. А мне в старом пальто, которое я специально держу на работе для таких вот свиданий, как с Лехой, становится совсем неуютно. К вечеру здорово холодает. Ветер тоже усиливается. И ноги начинают коченеть.
— Куда же мы сейчас едем? — спрашиваю я.
— К Колиному приятелю. Он за границей. Оставил Коле ключи.
— Ишь ты, какие у него приятели.
— А почему бы и нет? Коля говорит, что и сам скоро поедет за границу.
— Совсем скоро, да? — с улыбкой спрашиваю я.
Муза смеется и, как водится, грозит пальчиком.
— Не надейтесь, не очень скоро. Кажется, через год. За это время много чего успеет случиться.
— Не сомневаюсь, — убежденно говорю я.
И в который раз, уже теряя терпение, поглядываю в сторону стоянки такси. Сколько можно ждать, черт возьми?
Наконец такси подъезжает. Я помогаю Музе усесться на заднее сиденье и опускаюсь рядом. Муза называет адрес, и я его запоминаю, конечно.
Машина снова несется по уже окутанным зимними сумерками улицам центра. Изо всех щелей тянет ледяным холодом. Ну и ну, ведь еще утром было около нуля. Дикие скачки какие-то.
Муза неожиданно смотрит на часы, сосредоточенно хмурится, что-то, видимо, прикидывая в уме, потом наклоняется к водителю:
— Пожалуйста, остановитесь где-нибудь у телефона-автомата. Я позвоню.
Тот кивает в ответ.
Муза не считает нужным нам что-либо объяснять.
Вскоре машина останавливается возле большого продовольственного магазина. У входа в него, на тротуаре, выстроились стеклянные будки телефонов-автоматов. Я помогаю Музе выбраться из машины, но сопровождать не решаюсь.
Перед тем как отправиться звонить, Муза наклоняется к сидящему впереди Лехе и говорит, указывая на магазин:
— Леша, зайдите пока.
В голосе ее прорезаются некие командирские нотки. Однако быстро же она их усвоила, ведь только сегодня с Лехой познакомилась.
Тот бурчит что-то в ответ и неохотно вылезает из машины. А я с удовольствием занимаю прежнее место, я на нем успел даже пригреться.
Муза звонит долго, наверное, не по одному телефону. Леха тоже пока не возвращается. У меня есть время подумать. Интересно, в чьей же квартире произойдет встреча с Чумой? Узнать это не составит труда, поскольку адрес мне известен. А сейчас надо решать, как вести себя дальше. Ну, познакомлюсь я с Чумой. Брать его сейчас так же бесполезно, как и Леху. Тут же придется отпустить. Нет обвинений, нет улик. Не установлен пока даже сам факт преступления: труп ведь еще не обнаружен. Ни один прокурор не даст сейчас санкцию на арест. Значит, остается лишь знакомство с Чумой, выяснение всяких обстоятельств, связанных с убийством. Словом, разведка. И разведка боем. Хотя нет! Если у Чумы пистолет, его уже можно брать. И нужно. Необходимо брать. Что ж, тогда я его привяжу к себе патронами. Он сам постарается меня не потерять.
Ну, а пока… Ребята исправно следуют за нашим такси. Я их только что засек невдалеке. Они, конечно, будут ждать, когда я выйду из того дома. Они даже попробуют установить, в какую квартиру мы зайдем. Это для них не так уж сложно. И будут рядом. Это, знаете, не последнее дело в такой ситуации, как сейчас. Оба парня не желторотые щенки, и кто знает, что им вдруг придет в голову. Особенно Чуме. Ишь ты, приятель уехал за границу! Какой шик! А девчонка верит…
Да, так вот эта Муза… Она, конечно, не бог весть как умна. Но при всем ее легкомыслии она смелая и твердая девушка, как мне кажется. А Валя утверждает, что еще и хорошая, а это самое главное. Ее просто обманули. Ловко обманул Колька-Чума. В то же время она многое знает. Следовательно, она может быть очень ценным союзником. Но пока открываться ей не следует, да и срочной надобности сейчас такой нет…
Я вижу, как бежит к машине Муза. Итак, все решено. Пока что — разведка боем. Я снова вылезаю на тротуар и помогаю девушке забраться в машину. Краем глаза фиксирую, что ребята по-прежнему рядом.
Муза усаживается на свое место и возбужденно говорит:
— Ой, как я поругалась! Жутко просто. Какое-то крепостное право. На час уйти нельзя. Плевала я на их выговор. Подумаешь!
— Это вы на работу звонили?
— Ну да! И время сейчас спокойное. Обеды кончились, ужины только начинаются. Могли бы навстречу мне пойти, все-таки член месткома, — не без гордости добавляет она. — Сами выбирали.
— Да-а… — сочувственно тяну я. — Долго вы их уговаривали.
— А я еще маме позвонила.
— И Коле, — в тон ей добавляю я.
Она, улыбаясь, смотрит на меня своими карими бойкими глазами и насмешливо спрашивает:
— А вы откуда знаете? Вы в машине сидели.
— Не трудно догадаться.
— Ну, верно, — она машет рукой. — Звонила.
Как мне хочется взять ее сейчас за руку и, глядя в эти ясные, такие выразительные и веселые глаза, предупредить, удержать ее. Ну, что ты, дурочка, делаешь? Куда ты, шальная голова, лезешь? Ведь бандит твой Коля, самый обыкновенный бандит, понимаешь? Уйди ты от него, пока не поздно. Но я ничего не могу ей сказать. По крайней мере, сейчас. Я только смотрю ей в глаза и вдруг замечаю, как мелькнуло в них сначала удивление, а потом, как мне кажется, тревога. Неужели испугалась? Но не меня же. Я дружески улыбаюсь ей. Теперь уж она сама пытливо вглядывается в меня. И вдруг словно мостик неожиданно возник между нами, мне кажется, мостик взаимной симпатии и доверия. Выразительные, однако, у нее глаза. Я невольно вспоминаю слова Вали по телефону: «Мне ее хвалил человек, заслуживающий полного доверия». И вот сейчас этот мостик, который вдруг возник между нами.
— Договорились? — загадочно спрашиваю я.
Она, улыбаясь, кивает мне в ответ, не сводя с меня глаз.
В этот момент с треском распахивается передняя дверца, и в машину вваливается Леха с большим свертком в руках, и вместе с ним врывается волна холода.
— Трогай, шеф, — хрипит Леха.
И мы снова несемся по улицам Москвы. Заметно темнеет. Но фонари еще не зажглись. Плохо видно. Самое опасное время для пешеходов, да и для водителей тоже. Количество дорожных происшествий в это время, наверное, самое высокое. Тем более что наступил уже час «пик» и машин на улицах становится особенно много. Так что выражение «несемся» я употребил лишь по привычке. Мы двигаемся в сплошном потоке машин короткими, судорожными рывками. Во время одного из таких рывков мы даже проскакиваем на красный свет какой-то перекресток.
На минуту все оживляются. Муза тихо охает, я чертыхаюсь, а Леха одобрительно гудит:
— Молодец, шеф.
Хотя свистка ниоткуда не последовало, наш водитель на всякий случай резко сворачивает в сторону и начинает улепетывать по путанице каких-то незнакомых переулков. Это мне уже не нравится.
В машине мы почти не разговариваем. Все как-то уходят в себя. Воцаряется напряженное молчание, точно каждый из нас с беспокойством чего-то ждет. Ну, мне-то еще есть от чего беспокоиться, а им-то чего? Могли бы и поболтать. Но они же едва знакомы, и болтать им не о чем, тем более при постороннем, то есть при мне. И Леха угрюмо смотрит перед собой, жуя погасшую сигарету. Мы с Музой изредка перебрасываемся пустяковыми замечаниями о погоде и дороге.
Между тем мы уже давно катим по проспекту Мира и вскоре сворачиваем в какую-то боковую улицу. За минуту до этого в полную силу засияли яркие фонари над головой. И улица, куда мы сейчас сворачиваем, тоже хорошо освещена. Водитель легко находит нужный номер дома. Машина останавливается возле высоченной башни.
— Приехали, — говорит водитель.
Леха, сопя, лезет за деньгами. А я поспешно выкарабкиваюсь из машины и оглядываюсь по сторонам. Так и есть! Я как чувствовал. Конечно, ребята нас потеряли. Не могли не потерять в такой обстановке. Эти чертовы рывки из-под светофоров. И тот, последний, на красный свет. Ну, теперь уже все. Теперь они нас не найдут. Это, конечно, осложняет ситуацию.
Я помогаю Музе выбраться из машины. Она улыбается мне. Очень дружески улыбается, с долей кокетства, конечно. Леха все еще возится в машине с деньгами, к тому же ему мешает пакет.
— Я вас сейчас оставлю, — озабоченно говорит Муза. — И так уже опаздываю. Только открою вам квартиру. Вы там подождите. Коля скоро приедет.
— Очень жаль, что вы нас покидаете, — улыбаюсь я. — Женщина всегда украшает мужское общество, даже облагораживает.
Мне и в самом деле жаль, что она уходит. Мне кажется, что без нее мне будет труднее. Положение ведь и без того осложнилось в связи с тем, что ребята нас потеряли. Сейчас они уже, наверное, докладывают по радио о своей неудаче.
И тут у меня неожиданно мелькает одна мысль. А что, если… Ведь положение создалось безвыходное. Без ребят я наверняка упущу Кольку-Чуму. Они же с Лехой после этой встречи снова разойдутся. Да, да, пожалуй, стоит рискнуть. Другого пути я не вижу. Леха все еще возится в машине, и нигде поблизости я не вижу телефона-автомата. И я решаюсь. Однако предварительно спрашиваю Музу на всякий случай:
— Музочка, а там, в квартире, случайно нет телефона? Тоже надо бы предупредить, не думал я, что так задержусь, понимаете. А клиенты, между прочим, и дома ждут.
— Нет, — качает головкой Муза. — Нет там никакого телефона.
— Тогда, Музочка… Может быть, вы позвоните?
— Конечно, — охотно откликается она. — Куда позвонить?
— Я вам сейчас запишу номер.
На клочке бумаги я пишу шариковой ручкой номер телефона Ильи Захаровича. Служебный свой телефон я писать не решаюсь. И передаю записку Музе.
— Это мой знакомый, — поясняю я. — Вы ему скажете, чтобы он через часок за нами сюда заехал. Леха у него ночует. Не трудно вам?
Какую-то я все же чувствую неловкость, точнее неуверенность, обращаясь к ней со своей просьбой, хотя, казалось бы, никаких опасений и тем более враждебности Муза у меня не вызывает. Наоборот, у нас с ней как будто бы даже возник некий дружеский контакт, какая-то симпатия друг к другу. Да и просьба моя, мне кажется, не должна вызвать у нее каких-либо сомнений. На ее взгляд, все это должно выглядеть вполне безобидно. Вот тех двоих, особенно, наверное, Чуму, моя просьба непременно насторожила бы. А эта девушка далека от их дел, от их состояния. Валя же сказал.
— Ну, ясное дело, позвоню, — безмятежно говорит Муза, пряча бумажку с номером телефона к себе в сумочку. — Прямо как приеду, сейчас же позвоню. Ой!..
Она вдруг спохватывается и кидается к машине. Муза обегает ее и, приоткрыв переднюю дверцу, говорит водителю:
— Пожалуйста, молодой человек, подождите меня пять минут. Ужасно опаздываю. Хорошо? Не прогадаете.
Она обворожительно улыбается. И эта улыбка в сочетании с чаевыми, на которые можно тут рассчитывать, делают свое дело. Такси остается ждать Музу.
Мы все трое поднимаемся на лифте до десятого этажа, выходим на площадку, и Муза открывает нам дверь квартиры.
— Ну, мальчики, располагайтесь, — говорит она. — Придется самим накрыть на стол. Вот глядите, — она идет на кухню, и мы послушно следуем за ней. — Здесь посуда, видите? Леша, кладите пакет сюда. Коля придет через полчаса, наверное.
Леха оставляет пакет на столе, и мы снова возвращаемся в тесную, крохотную переднюю. Там Муза с нами прощается и шутливо грозит пальчиком напоследок.
Хлопает дверь, и мы остаемся с Лехой вдвоем.
— Ну, — говорю я, — давай оглядимся. Ты тут бывал?
— Не, — крутит головой Леха и не спеша закуривает.
Квартирка однокомнатная, обставлена скромной и совсем какой-то ветхой мебелью. В комнате я замечаю две полки с книгами, явно случайными, к тому же запыленными. Тахта в углу под стареньким, вытертым ковром, в другом углу груда старых подрамников. На стенах висят какие-то фотографии и большая, написанная маслом картина. Городской пейзаж, тихая улочка зимой, скверик. Картина — единственное живое, свежее пятно в этой душной, запущенной, какой-то даже нежилой комнате и смотрится совершенно неожиданно.
— Ладно, — говорит Леха. — Пошли на кухню.
Мы возвращаемся на кухню. По пути я окончательно убеждаюсь, что телефона тут действительно нет. И замок в наружной двери самый простой и дешевый. Хозяину, очевидно, наплевать на безопасность квартиры. Да и в самом деле, красть тут решительно нечего.
В кухне я начинаю доставать из шкафа какие-то убогие черепки и дешевые, кривые вилки, а Леха разворачивает на столе свертки с хлебом, колбасой, сыром, выставляет какие-то консервные банки и, конечно, водку. Без последней теперь никакая трапеза, тем более мужская, не обходится. А уж наша сегодняшняя и подавно.
Проходят упомянутые Музой полчаса, но Колька-Чума не появляется. Проходит час. Не приезжает и Илья Захарович. Впрочем, он и не должен здесь появиться. Он, конечно, поймет, что от него требуется лишь передать адрес, который сообщит Муза, нашим ребятам. И они, скорей всего, уже ждут там, внизу, на улице.
— Может, он не придет? — спрашиваю я наконец. — Мне тут торчать до завтра не светит, учти.
— Придет, куда денется? — басит в ответ Леха и придвигается к столу. — Давай лучше по первой рубанем. Ну его к лешему, Кольку.
Мы выпиваем, закусываем, и Леха, закурив, настраивается на благодушный, даже мечтательный лад.
— Эх, елки-палки! — вздыхает он. — Ведь вот живут же люди с деньгами, большими деньгами, я тебе скажу, громадными прямо.
— Где берут? — с набитым ртом спрашиваю я.
— Где берут, там нас с тобой нет, — хмыкает Леха. — Вот ведь какая Америка. Туда нашего брата не пускают.
— Дело какое, — безмятежно говорю я. — Значит, они берут там, а ты бери у них. И порядок. Чего тебе еще?
— Они тысячи гребут, а тебе копейки кидают, — сердито ворчит Леха. — Такое понимаешь, у них расписание.
— И Чуме копейки кидают? — интересуюсь я.
— Ну, ему и рублики когда отламываются.
— Вот где надо кое-что иметь, — важно стучу я себе пальцем по лбу. — Тогда они от тебя копейками не отделаются.
— Во, во! К ним попробуй чуть поближе сунься. Перо в бок как раз и схлопочешь. Так они тоже отделываются. На одного меня у них всегда еще два таких найдется. И — чик! Как мы с Чумой того. Все в лучшем виде.
— Выходит, чего-то, значит, тоже не поделили?
— Ну да. И вот: Леха давай, Леха вали. Пачкайся за их копейки. С тюрягой в прятки играй. А то и с вышкой. Что, я не знаю?
— А ты плюнь. Охота тебе?
— Из «плюнь» рубашки не сошьешь и бутылка не капнет. А так все же кое-что, как ни крути, а имеем. Могу даже кое-кому подарочек сделать.
— Музе-то дубленку небось Чума купил?
— А кто же, ты думал? Ясное дело, он. Говорю ж тебе, он поболе меля зашибает. Давно у них на цепи бегает.
Разговор становится все интереснее. Впервые Леха вдруг разоткровенничался. И дело тут не в том, что мы уже выпили по третьей. Пили мы и больше. Но тут другая обстановка, другая и степень близости. И еще распирают Леху то злость, то зависть, то тоска. Да, тоска тоже тут присутствует, не думайте. Волчья тоска, лютая, одинокая, всегда она с ним. И нет его душе покоя, ни днем, ни ночью нет. Тоска эта то проступает на поверхность, то уходит вглубь, оттесняемая на время вспышками злости, азарта или страсти. Но никогда она не исчезает из его души, эта одинокая, волчья тоска, как предчувствие дальних бед. Это сильный рычаг а подходящий момент, чтобы такую душу перевернуть, заставить выбрать другой путь в жизни. Когда у нас с Лехой подвернется такой момент, интересно? А ведь когда-то подвернется, я чувствую. Что-то в Лехе еще до конца не пропало. И какие-то искры симпатии в нем ко мне возникли.
— Да-а, большие дела делают, — завистливо вздыхает между тем Леха. — Долго готовят. Не как-нибудь. Мастера-а…
Я внимательно слушаю. Видимо, речь идет о какой-то шайке, где Леха и Чума лишь на третьих ролях. Что же это за дела, что за преступления готовит и совершает эта шайка? Вот ведь в Москву приехали. Лехе и Чуме было велено свести с кем-то счеты. Ну, а чем заняты остальные, что готовят? Возможно, Леха сейчас еще что-нибудь сообщит.
Но тут вдруг в передней лязгает замок, слышно, как распахивается входная дверь. Кто-то входит в квартиру, топчется в передней. И мы слышим веселый, возбужденный возглас:
— Эй вы, люди!
— Эге, Чума!..
Леха неуклюже вскакивает со стула, чуть не опрокинув на меня стол со всеми закусками, я еле удерживаю его.
А из передней к нам на кухню уже идет высокий, чуть не с меня ростом, худощавый, гибкий парень. Светлые волосы зачесаны назад и падают чуть не на плечи модной гривой, розовое, пухлое, как у херувимчика, лицо с маленькими сочными губами, пустоватые голубые глаза, но очень уверенные и твердые. Что-то красивое, даже грациозное улавливается в гордой посадке головы, во всей его стройной, изящной фигуре. Он скинул в передней пальто и шапку, и сейчас на нем модный коричневый костюм, а под пиджаком — красивый, салатного цвета тонкий свитер. Да, это тебе не Леха. Во всех отношениях.
Голубые настороженные глаза останавливаются на мне.
— Ага, вот он какой, новый знакомый, — медленно говорит Чума. — Как звать-то?
— Витька. Ну, а ты, выходит, Чума. Ясно, — спокойно отвечаю я, развалясь на стуле, подчеркнуто спокойно и дружелюбно.
Но холодок в голубых глазах не исчезает и настороженность тоже.
— Что ж, будем знакомы, раз так, — сдержанно говорит Чума и подсаживается к столу. — Наливай, — приказывает он Лехе, не поворачивая к нему головы. — Выпьем сперва за знакомство. Потом, значит, дальше пойдем.
Леха с готовностью разливает по рюмкам водку. А Чума тем временем обращается ко мне и говорит с насмешкой:
— Ну, расскажи, Витек, как тут у вас честному вору живется. Как тут ваш великий МУР воюет, а? Трясетесь, значит?
— Живется трудно, — усмехаюсь я. — Но, как видишь, живем.
— Хорошие дела делаете, слыхал?
— Для кого хорошие, для кого и не очень, — туманно отвечаю я, как и положено в таких случаях. — Кто на что тянет.
— Есть чего предложить?
— А тебе что, в Москве делать нечего? — спрашиваю я насмешливо.
Слишком уж наседает этот блондинчик.
— Тихо, Витек, — улыбаясь одними пухлыми губами, с угрозой предупреждает Чума. — Тихо. Против шерсти не гладь. Ты ко мне, а не я к тебе пришел. Помни. Вот и говори, с чем пришел.
— Твой кореш за тебя, я гляжу, похлопотать решил, — я киваю на Леху, который с обычным своим, угрюмым видом слушает наш разговор, не пытаясь вставить и слово.
Когда я указываю на него, он в ответ только мрачно кивает, зажав в зубах погасшую сигарету, и тут же, словно спохватившись, тянется за спичками.
— Так. Пока ясно, что ничего не ясно, — констатирует Чума, не спуская с меня глаз. — Давай дальше, Витек, если есть что.
Не нравится мне его поведение, разговор, даже взгляд. И я чувствую, что и я ему тоже не очень-то нравлюсь. Но ведь я себя веду вполне нормально и поначалу даже дружелюбно. Я решительно ничем не мог его настроить против себя. Откуда же это явное недоверие, эта ирония, даже враждебность? Он с этим уже пришел, что ли? Тоже вряд ли. Тогда в чем дело? Очень это все странно. И надо быть начеку.
— Вон он говорит, маслята тебе требуются, — продолжаю я. — Так, что ли?
— Допустим, — осторожно соглашается Чума.
— Ну вот. А какая пушка у тебя, толком не знает.
Я презрительно усмехаюсь.
— Не его это забота, — отвечает Чума. — У тебя какие маслята-то есть?
— А какие требуются?
Весь ассортимент показывать ему, пожалуй, не стоит. Такой обширный выбор и в самом деле может вызвать подозрение. А его уже и так, кажется, хватает. Да, Чума это не простак Леха. Откуда, интересно, взялась у него такая кличка — Чума? По виду вроде бы ничто на эту мысль не наводит, даже наоборот, цветущий ведь парень. Но и случайными они бывают редко. Вот, кстати, глаза у него… просто оловянные глаза, пустые, бесчувственные какие-то, даже, я бы сказал, жутковатые. Как Муза не заметила такие глаза?
— Надо к «вальтеру» номер один, — спокойно и четко произносит тем временем Чума. — Найдется или как?
И смотрит на меня с неприятной усмешкой.
— Пушка с тобой? — деловито спрашиваю я и достаю из кармана три патрона. — Примерить надо. Вот эти два от «вальтера», а номер не знаю.
— А говорил, знаешь, — угрюмо бросает Леха.
— Да? — косится на него Чума. — Выходит, запамятовал, профессор.
— Знаю только, что это от «вальтера», — сердито говорю я. — А этот вот от нагана. Еще и от ТТ есть, — и небрежно машу рукой. — Не мои они. Деловые мужики дали. А ты человека не путай, — обращаюсь я к Лехе, — Надо будет, он и сам запутается, видишь, какой самостоятельный.
И дружески ему подмигиваю.
Чума, не отвечая мне, спокойно придвигает к себе патроны и внимательно, не спеша их рассматривает по очереди.
— Ладно, — наконец говорит он и откладывает патроны в сторону. — Допьем сначала. Чего ж застолье-то портить. Давай, Леха.
И Леха с прежней готовностью плещет водку в большие зеленые рюмки.
— Ну, давай за баб выпьем, — предлагает Чума. — Умных и красивых. И своих до смерти. Вроде Музы. Ох и Шоколадка, я тебе скажу, — он облизывает пухлые губы. — Первый раз такую сладкую встречаю, ей-богу. Не оторвешься. Хоть сутки с ней сиди, хоть десять. Представляешь? И хитрющая, зараза, ты бы знал только.
Чума говорит все это самым безмятежным тоном, щурясь от удовольствия, но мне вдруг начинает казаться, что говорит он все это неспроста.
Мы чокаемся, выпиваем, потом лениво ковыряем закуску.
— А ты Музку раньше не встречал? — не желает почему-то кончать с этой темой Чума и не отводит от меня пустой, но цепкий взгляд.
— Не, — качаю я головой. — Уж такую бабу запомнил бы, будь уверен. А чем она хитрющая, говоришь? Тебя, что ли, перехитрила?
Что-то начинает меня не на шутку беспокоить в поведении Чумы. Я и сам пока не могу понять, что именно. Но ощущение какой-то ошибки все сильнее тревожит меня. Что это за ошибка, где она допущена, я тоже понять не могу.
— Чем хитрющая? — усмехаясь, переспрашивает Чума. — Гадать умеет, понял?
— Цыганка, выходит?
— Почище цыганки. Та по руке гадает или на картах. А Шоколадка прямо по глазам. И все в цвет. А уж чует на расстоянии, как пес.
— Заливай, — недоверчиво усмехаюсь я.
— Точно тебе говорю! — убежденно и восторженно продолжает Чума. — Все у нее получается в цвет. Все сходится, про кого ни спроси. Тебе такая баба не снилась. Эх! — вздыхает он. — Как надоест, завалю. Чтоб другому не досталась. Ну, давай напоследок знаешь за что? За мать родную, а? Леха!
И командует же он этим Лехой! А тот беспрекословно, с готовностью подчиняется, с охотой. Нет, они в шайке на разных ролях. Это уж точно. Чума куда умнее, решительней и злобней, а потому и опасней. И он что-то подозревает, мне кажется. И что-то задумал. Неужели задумал? У меня, кажется, уже шумит в голове.
Мы выпиваем. И Чума решительно отодвигается от стола, поднимается легко, пружинисто, словно и не пил ничего, и говорит мне:
— Ну, ты, Витек, погоди тут. А я пойду маслята твои примерю.
Он сгребает со стола патроны и направляется в коридор. На пороге кухни он, однако, задерживается и, оглянувшись, командует:
— Леха! А ну, выйди со мной.
Леха молча и неуклюже выползает из-за стола.
Я остаюсь на кухне один.
Из комнаты, куда прошли Чума и Леха, не доносится ни звука. Странно. Словно умерли они там. И патроны не примеряют, что ли? Ведь один там должен подойти, и затвор пистолета при этом непременно лязгнет. Ага, вон! Ясно слышен металлический лязг затвора. Но голосов почему-то не слышно. Они все делают молча, что ли? Нет, скорей всего, они шепчутся. Зачем вообще Чуме вдруг сейчас потребовался Леха? Ага! Вот они наконец идут…
Я по-прежнему сижу у стола, покуривая сигарету.
Первым заходит в кухню Чума, он чему-то довольно улыбается, при этом пухлые губы его не раздвигаются, как у всех, а складываются в трубочку. За Чумой появляется и Леха. Этот всегда, мне кажется, мрачен, но сейчас почему-то особенно. В руках у Чумы патроны, все три. У Лехи в руках ничего нет.
— Вот этот подходит, — говорит Чума, выкладывая передо мной один из патронов. — Сколько можешь приволочь?
— Десятка два…
— Фью! Это всего-то?
— А ты сколько хотел?
— Ну, хоть полсотни. И еще гляди вот сюда…
Чума наклоняется ко мне и берет в руки патрон. Он, видно, что-то хочет показать мне на его гильзе. И я тоже невольно склоняюсь над ней.
В этот момент мне на голову, откуда-то сзади, обрушивается страшный удар.
Я падаю. Я просто опрокидываюсь на пол вместе со стулом. Все бешено кружится перед глазами и сразу меркнет. Невыносимая, режущая, колющая боль разрывает голову… Из кромешной тьмы слышу далекий голос Чумы:
— Так его, сволочь!.. Нормально уложил!.. Тюря, кому поверил?.. Если бы не Музка… Оба были бы уже на крючке… Быстрее. Быстрее…
Голос слабеет и уходит в темноту. Потом вдруг опять возникает на какую-то секунду, две: «…Если бы не Музка… Если бы не…» — и уже окончательно исчезает. Я теряю сознание.
Когда я прихожу в себя, кругом царит темнота, плотная, душная, непроницаемая, мертвая темнота. Я пробую чуть-чуть пошевельнуться и слышу из темноты собственный стон. Какая кромешная тьма! А ведь, мне кажется, я открываю глаза. Но темнота не уходит. И становится страшно. Ведь никого нет кругом. Один в темноте…
Медленно, медленно возвращается ко мне память. Сначала только зрительная. В темноте я начинаю вдруг видеть. Бесшумно кружась, выплывают какие-то тени. Ага, это люди. Постепенно я их узнаю. Да, да, конечно… Один наклоняется ко мне… а другой в это время, сзади… Не добили они меня… ясно, что не добили… Я жив… спешили очень…
Темнота начинает чуть заметно редеть, золотиться… Я делаю попытку шевельнуться. Ничего. Терпимо. Вот двигается рука…
Я все еще один. Совсем один. Ну да. Я лежу на полу, лицом вниз. Надо попробовать еще раз шевельнуться. Но… не хочется… Надо!.. Очень не хочется. И нет сил. Хочется просто лежать. Но я заставляю себя… Так… Так… Уф-ф!.. Я медленно переворачиваюсь на спину. Потом на другой бок. И вдруг… сразу передо мной, в темноте, начинает светиться окно, далеким золотистым городским заревом. Теперь все понятно. Я лежал лицом вниз, ничего не видел. И я, лежа на боку, постепенно все вспоминаю. Конечно, я на кухне.
Новая задача — подняться. Не хочется. Хочется вот так лежать, и все. Долго лежать. Но я же знаю, что надо подняться. Надо. Непременно. Ну, сначала хотя бы на колени… Потом можно будет снова лечь, лукавя, обещаю я самому себе… Как ужасно дрожат руки… Так… Так… Вот так…
Я подползаю к двери и, опираясь на стену, медленно поднимаюсь. Теперь дрожат ноги… Ну, вот. Так. Хорошо… А ты говорил… Я уже стою, припав к стене. Где-то внутри, в животе, зарождается тошнота, ползет к горлу… Я судорожно глотаю слюну. Еще… еще… Тошнота отступает. Я шарю рукой по стене возле двери. Нащупываю выключатель. Сильно жму на него пальцем. И сразу, вместе со щелчком, вспыхивает свет. Я невольно жмурюсь.
Так. Совсем другое дело. Только очень болит голова. Еще бы! Как это Леха вообще не расколол ее пополам. Волновался, подлец, спешил? Спасибо еще, что оставил в живых. Спасибо, Леха…
А теперь пойдем в переднюю. Не спеши, друг милый, не спеши… Держись за стенку, если кружится голова… Вот так… Ох, опять подступает тошнота. Останавливаюсь. Начинаю судорожно глотать слюну. Так… Полегче… Можно двигаться дальше… Вот так.
Сколько же времени сейчас, интересно знать? Я останавливаюсь и долго смотрю на часы, поднеся руку к глазам. Наконец соображаю, что они идут и на них половина одиннадцатого. Сколько же часов я тут провалялся, в этой проклятой квартире?.. Мы пришли сюда… Когда же мы сюда пришли? В четыре… да, в четыре мы встретились с Музой… О ней потом. Надо высчитать время. В четыре… Около пяти приехали сюда… Час ждали, не меньше… Значит, Чума приехал около шести. А еще через час они меня… Выходит, провалялся я тут часа четыре, так? Ну и ну.
Соображаю я, оказывается, совсем неплохо. Причем с каждой минутой все лучше, как мне кажется. Ну что ж, раз так, будем соображать дальше. Надо же, в конце концов, как-то выбираться на волю.
Безусловно, меня уже давно ищут. И раз наших тут еще нет, значит, они этого адреса не знают. А ведь я просил Музу позвонить. Выходит, она мою просьбу не выполнила?.. Стой, стой! Что это я? Кто сказал: «Если бы не Музка…»? Как — кто?.. Это сказал… «Если бы не Музка…» Это сказал Чума, вот кто!.. Значит, она меня продала. И все был обман. Она меня перехитрила, вот и все. Ну и ну! Как я ошибся. Кажется, я еще никогда так не ошибался. А она догадалась?.. Нет. Догадался, конечно, Чума. Она ему просто передала мою просьбу и телефон. Как же я мог ей поверить? Вот это артистка! И потом, Валя ведь сказал: «Он ее обманул. Она ничего о нем не знает. Это легкомысленная, но хорошая девушка». Вот тебе и хорошая, вот тебе и легкомысленная. Но может быть, она, ничего не подозревая, просто рассказала ему о моей просьбе? А тот догадался и запретил ей звонить? Нет, безжалостно решаю я. Она ему еще раз специально позвонила куда-то, чтобы сообщить о моей просьбе. Значит, она и не собиралась звонить по моему телефону. Она сама догадалась, в чем дело, догадалась и спокойно предала меня. Нет, это вовсе не наивная и обманутая девушка. Она сама сумела меня обмануть. И я здорово поплатился за свою ошибку. Хорошо еще, что у Лехи дрогнула рука.
Продолжая рассуждать про себя, я медленно добираюсь до передней и устало опускаюсь на стул. Вот так. Теперь можно рассуждать дальше.
Так вот, если я пропал и исчез Леха, наши возьмутся за одно-единственное, известное им звено — Муза. Скажет она, где я? Если учесть, что с момента моего исчезновения прошло уже шесть часов, а встретиться с ней они могли уже два или три часа назад, должны были встретиться, значит… Если их до сих пор тут нет, значит, Муза ничего не сказала. А раз так, то и не скажет. Вот такая перспектива. Какой же вывод?
Моя бедная голова от усиленной работы как будто начинает чувствовать себя даже лучше. Сейчас боль ощущается, только когда я дотрагиваюсь, причем болит в любом месте. Редкий все-таки удар, что там ни говорите.
Так вот, значит, можно предположить, что ребята наши тут вообще не появятся. Следовательно, придется выбираться отсюда собственными силами. Позвонить мне, правда, не удастся, но, к счастью, замок на двери самый примитивный, а уж изнутри он, естественно, отпирается запросто.
Сидя в передней на стареньком неудобном стуле, я постепенно прихожу в себя. И через некоторое время довольно легко поднимаюсь и направляюсь к двери. Замок там действительно самый простой, однако открываться он почему-то не желает. Я решительно не могу с ним справиться. Что за чертовщина! Я вожусь с ним еще минут двадцать, не меньше, выбиваюсь из сил и наконец убеждаюсь в безрезультатности моих усилий. Испорчен он, что ли? И ведь телефона тут нет, вот еще что. Ну и положение.
Остается один малоприятный способ.
Я возвращаюсь на кухню, оглядываюсь и выбираю табуретку. Сил у меня за это время прибавилось, и грохочу я этой табуреткой об стену соседней квартиры так, что сотрясается, наверное, весь дом.
Уже минут через пять кто-то настойчиво стучит в наружную дверь моей квартиры.
Я спешу в переднюю. Переговоры мы вынуждены вести через закрытую дверь. Выясняется, что за нею, на площадке, находится встревоженный жилец из соседней квартиры. Прежде всего он подтверждает, что телефон у него есть. Затем, получив инструкции, он, крайне заинтригованный, отправляется к себе и берется за телефон.
Дальнейшие события разворачиваются с кинематографической быстротой.
Не проходит и часа, как я уже сижу в кабинете Кузьмича. Тут же Валя и Петя Шухмин. Несмотря на позднее время они оказываются еще на работе. Мое исчезновение не на шутку всех встревожило.
Поминутно поглаживая свою гудящую голову, я докладываю о случившемся.
— Да-а… — хмуро тянет Кузьмич, когда я кончаю свой доклад, и энергично потирает ладонью ежик волос на затылке, что, как известно, свидетельствует о крайнем его неудовольствии. — Перспективное дело ты откопал, что и говорить.
— Опасное дело, — добавляю я, морщась. — Они же черт знает что еще могут натворить. И у них пистолет, Федор Кузьмич.
— Именно что, — кивает Кузьмич. — Надо браться всерьез, милые мои. — И мрачно добавляет: — Муза эта самая тоже пропала. Вот какое дело.
Глава 3
ВОЗНИКАЕТ НЕКИЙ ГВИМАР ИВАНОВИЧ
На следующее утро я прихожу на работу позднее обычного. С особого разрешения Кузьмича, конечно. Он вчера вечером, когда завозил меня как пострадавшего домой, посоветовал даже взять бюллетень, но я отказался. Голова не так уж гудела, и даже шапку было уже не больно надеть. А отлеживаться мне показалось унизительным. Я представил на минуту самодовольную, насмешливую физиономию Чумы, наглую его улыбочку на пухлых губах, и у меня так зачесались руки, что я рычать был готов от нетерпения и бессилия. Дома я, естественно, Светке ничего не сказал. Задержался, мол, потому что собрание было. Другие мужья, между прочим, прикрывают порой собраниями куда более веселые занятия. Что поделаешь, даже в этом проявляется некая специфика нашей работы. Никуда от нее не денешься.
Ночью я долго не мог заснуть. Голова ныла нудно, противно и почему-то попеременно в разных местах. Я лежал с закрытыми глазами и думал. Сначала я думал о моей непростительной ошибке, которую совершил, когда доверился Музе. Потом я начал думать об этих ребятах, о Лехе и о Чуме. Были же, наверное, самыми обыкновенными мальчишками, как я, скажем, и все мои бесчисленные приятели. И никто из них не оказался таким жестоким, коварным, таким враждебным ко всем, таким алчным, как эти двое. Если рождаются, допустим, белокурые, темноволосые, рыжие или, скажем, музыканты, великие умельцы всякие, бродяги-геологи, поэты, да мало ли какие способности оказываются заложенными в человеке самой природой, что почему бы не родиться… нет, не преступнику еще — хотя всякие нравственные уроды рождаются тоже, — но просто человеку, который легче, быстрее, охотнее другого скатится к преступлению, как только попадет в благоприятные для этого условия или как только их для себя найдет. И вот эти двое, видно, попали в такие условия. Что же это за шайка, интересно знать? Чего это их в Москву к нам занесло?.. Ладно, поглядим. Теперь мы уже от вас не отвяжемся, теперь мы уже на ваш след встали, гады…
Долго я так ворочался и думал, потом наконец уснул.
Ну, а утром я, значит, чуть позднее обычного являюсь на работу.
— Так вот, милые мои, — говорит нам в то утро Кузьмич, — надо, я полагаю, по этому делу узнать пока что три вещи, которые мы сейчас можем узнать. Первое — где и кого эти бандиты убили и найти труп. Или же убедиться, что ничего такого вообще не было. Второе — надо узнать, кому принадлежит та квартира, куда завели Лосева. Особенная какая-то квартира, раз в ней убить человека решили. Но все же куда-то привести она должна. И наконец, розыск той девицы, Музы. По всем ее связям. Может, и она нас к Чуме приведет. А где-то возле него и Леха окажется. Ну, что скажете?
Я, помолчав, добавляю:
— Есть четвертое, Федор Кузьмич.
— Ну, чего там у тебя, давай-ка.
— Надо запросить наших товарищей в Южноморске. Небось знают они этих ребят.
— Дело, — кивает Кузьмич. — Что еще?
— Денисову надо другой раз сведения все же перепроверять, — хмуро замечаю я. — Так и вовсе без головы можно остаться.
— Оба хороши, — сердито произносит Кузьмич. — Вчера уж не хотел тебе говорить. Этот случай, милые мои, еще разобрать придется. Не каждый день случается, чтобы одна бабенка двух наших сотрудников так вокруг пальца обвела. Вот узнает руководство, стыда не оберетесь. Да и весь отдел с вами вместе. И на Денисова не вали, — строго обращается ко мне Кузьмич. — Денисов хоть в глаза ее не видел, передал, что ему сказали. А ты… видел, разговаривал, наблюдал, так сказать… И не смог сути ее понять. Эх…
Мне мучительно стыдно и за допущенный грубейший промах, который мог ведь стоить мне жизни, между прочим, и за невольную попытку как бы свалить все на Валю Денисова. Как Кузьмич мог так подумать!
— Моя вина, — хмуро цежу я и, забывшись, чуть не закуриваю от расстройства.
Петя Шухмин сочувственно придерживает мою руку, когда я лезу в карман за сигаретами. Угадал мое состояние.
— М-да… — сокрушенно качает головой Кузьмич и спрашивает Валю: — Кому же это ты доверился, а? Вроде на тебя это не похоже.
И тут мы все видим, как Валя начинает медленно краснеть и в смущении отводит глаза, чего с ним в жизни никогда не случалось.
— Одному товарищу, — негромко говорит он с подчеркнуто безразличным видом и серьезно добавляет: — Своей вины тут я, Федор Кузьмич, не отрицаю. Ввел, конечно, Лосева в заблуждение, чего уж тут говорить. Это еще та, видно, артистка.
Почему-то мне кажется, что последние слова он произносит с таким чувством, словно Муза эта своим притворством подвела не только его и меня, но и еще кого-то, и вот это ему особенно неприятно.
— Да, — подтверждаю я, — артистка она будь здоров какая.
— Между прочим, — вмешивается присутствующий тут же Петя Шухмин, — по тому району, у Елоховской, крупная квартирная кража вчера по сводке прошла. Помните?
— Да, — вспоминаю я. — Точно. Была, — и подозрительно смотрю на Петю. — Ну, и что ты хочешь этим сказать?
Петя, особенно рядом с щуплым Валей Денисовым, выглядит очень эффектно. Огромной фигурой своей он немного напоминает мне Леху, только тот бесформенный какой-то, неуклюжий, а Петя как-никак чемпион московского «Динамо» по самбо, а потому вид у него подтянутый и спортивный, несмотря на мешковатый костюм и вечно расстегнутый ворот рубахи на могучей шее.
А пока что Петя мне отвечает, пожимая широченными плечами:
— Ничего я не хочу сказать. Просто напоминаю: была кража.
— Небось с ребятами уже говорил, кто занимается ею? — спрашиваю я.
— Ну, говорил.
Вот еще одна Петина особенность. Он всегда все знает. У него всюду приятели, притом иной раз в самых неожиданных и нужных местах. Контактен необычайно.
— И что взяли? — спрашивает Валя.
— Квартира академика какого-то. Взяли главным образом антиквариат, картины. Обычные дела.
— А как вошли? — интересуюсь я.
— Очень аккуратно вошли, — говорит Петя. — Квалифицированно. Тут никакие замки не помогут.
— Вот, кстати, — замечает до этого молчавший Кузьмич, — надо будет посмотреть, что еще за эти дни в том районе произошло. Да не по сводкам. Туда надо поехать и на месте поговорить. Вот так, значит…
Кузьмич на секунду умолкает и, хмурясь, смотрит куда-то в пространство перед собой, машинально крутя в руках очки, потом, вздохнув, говорит:
— Ну что ж. Давайте-ка, милые мои, подведем кое-какие итоги. Правда, они у нас не ахти какие пока. Но поначалу всегда так. И хуже бывало. Однако раскрывали. Итак, что мы с вами имеем, так сказать, в активе? Первое. Вышли на след опасной преступной группы. Это бесспорно. Второе. Группа, по всему видать, приезжая. И в любой момент может из Москвы сорваться. Цель ее приезда сюда пока нам неясна. Третье. Знаем, можно сказать, в лицо двоих членов группы. Это очень важно. Оба оставили свои пальчики в той квартире. Теперь мы их по всем учетам проверим. Оба ведь судимые. Значит, все мы о них будем знать. И получим фотографии. Следовательно, из Москвы, по крайней мере, эти двое уже навряд ли уйдут. Мы все выходы из города уже ночью для них закрыли, пока по приметам.
— А может, они прямо из квартиры — на вокзал? — спрашивает Петя. — Или в аэропорт? Вполне может случиться. У них в запасе часов пять было, пока мы их искать не начали. Так что могли успеть и кое-какие дела закруглить. Допустим, за этой Музой заехать.
— Скорее всего, они тут не одни, — говорит Валя. — И сами не решают, уезжать им или оставаться.
— А чтобы вся группа сорвалась, — добавляю я, — этим двоим придется о своих глупостях сообщить кое-кому. Вряд ли захочется. Я Леху уже предупредил, что выходы из города для него закрыты. Теперь, значит, и для Чумы. Он и тогда-то испугался. А сейчас, догадавшись, кто я такой, и подавно никуда сунуться не решится, ни на один вокзал или там аэропорт.
— Возможно, возможно, — задумчиво соглашается Кузьмич — Будем пока исходить из того, что оба они еще в Москве. Но на всякий случай… Сейчас, — он снимает трубку внутреннего телефона, набирает короткий номер и говорит кому-то: — Подполковник Цветков. Привет. Скажи-ка, вчера с восемнадцати до двадцати четырех сколько поездов ушло в направлении Южноморска?.. А самолетов?.. Так. Дайте спецтелеграмму в Воронеж и Ростов. Пусть проверят поезда на тех двоих, вчерашних. Помнишь?.. Ну, пока, — Кузьмич кладет трубку и, обращаясь к нам, энергично говорит: — А мы все-таки будем исходить из того, что они еще в Москве. И беремся, милые мои, за дело. По всем направлениям сразу беремся, — он оглядывает нас. — Значит, так. В Южноморск я позвоню сам. И вообще все данные на этих двоих мы скоро получим. А у каждого из вас есть своя линия работы. — И обращается к Пете: — Ты, Шухмин, поезжай на квартиру, где Лосева вчера заперли. Все узнай: чья, где хозяин, что из себя представляет, кого он знает, кто у него бывает и так далее. Помни, самые неожиданные ниточки могут от этой квартиры потянуться. Понял ты меня?
— Понял, Федор Кузьмич, — кивает Петя и добавляет: — На той территории у меня участковый инспектор знакомый, головастый парень. И еще там есть один парфюмерный магазин…
— Ну, это в данном случае тебе вряд ли пригодится, — улыбается Валя. — Тебе двух мужиков надо искать.
— А хозяйкой квартиры может быть женщина, даже молодая, — убежденно возражает Петя. — И ей парфюмерный магазин важней булочной.
— Ладно. Пойдем дальше, — говорит Кузьмич и смотрит на Валю. — А ты, Денисов, ищи эту Музу. На работе, дома, у подруг, у знакомых. И все, что можно, о ней узнай. Видишь, штучка какая? Так что изволь сто раз все, что узнаешь, перепроверить. Вполне возможно, что дальше Кольки-Чумы она нас не приведет. Но и это немало. Словом, все тебе ясно?
— Все, — подтверждает Валя и, в свою очередь, спрашивает: — А на той квартире ее отпечатков не нашли, интересно?
— Нашли отпечатки пальцев нескольких человек, — говорит Кузьмич. — Есть среди них женские или нет, понятное дело, неизвестно. А идентифицировать можно, как ты знаешь, только судимых. Но вряд ли эту Музу судили, мне кажется.
— И мне тоже, — подтверждаю я. — Не похоже.
— Кроме того, директор бы знал, — добавляет Валя и усмехается. — А он еще и приударить за ней решил. Красавица, говорят.
— Это точно, — снова подтверждаю я. — Глаз не оторвешь.
— Вот по затылку и получил, — смеется Петя. — А Светке расскажу, так и еще раз схлопочешь.
— Погоди, Шухмин, — морщится Кузьмич. — Не время сейчас. Вон, видишь, — он смотрит на часы, — одиннадцатый час уже. — И поворачивается ко мне: — Ну, а ты, Лосев, отправляйся в район Елоховского собора этого самого и ищи тот двор и тот сарай. Убитого ищи. Без этого не возвращайся. Сдается мне, было там убийство. Ох было! И, видимо, приезжего убили. Вот никто и не спохватился, никто до сих пор и не заявил.
— Скорей всего, так, Федор Кузьмич, — досадливо киваю я.
— И тут же постарайся установить, кто он такой, убитый-то, откуда шел, от кого, к кому. И кто чего там, во дворе, видел. Словом, сам знаешь. Только ничего не пропусти. Ты ведь первым на месте происшествия окажешься. Тут каждая мелочь в случае чего может сработать.
Я знаю, почему Кузьмич все это мне говорит. Осмотр места происшествия не самая сильная моя сторона. Я лучше умею и, кстати, больше люблю делать другие вещи. Кузьмич это прекрасно знает и беспокоится.
— Ну что? — оглядывает он нас — Вроде бы обо всем договорились? Как это он говорит? — Кузьмич, усмехнувшись, кивает на меня. — Других идей нет?
— Дай бог, с этими справиться, — смеется Петя.
Мы выходим из кабинета Кузьмича. В коридоре торопливо и сосредоточенно закуриваем. Каждый из нас занят своими мыслями и понимает, что надо торопиться, всегда в таких случаях надо торопиться. С каждой минутой обстановка как бы «остывает» — следы, память людей, кто-то может уйти или уехать, что-то выбросят, что-то сознательно уничтожат. Словом, надо торопиться.
Петя Шухмин отправился на проспект Мира. Машины не оказалось, и он поехал на троллейбусе по бывшему Садовому кольцу. Шухмин, хотя и был коренным москвичом, уже не мог помнить тенистых бульваров, опоясывавших вторым зеленым кольцом центр города. На его памяти Садовое кольцо, как его до сих пор называют москвичи, всегда было необъятной и шумной асфальтовой магистралью, самой, наверное, напряженной в городе. Вообще, как истинному горожанину, непрерывная людская суета вокруг, лязг, грохот, гудки и урчанье бесчисленных машин Пете не мешали, наоборот, он чувствовал себя в родной стихии, она не давала ему расслабиться, рассеяться, держала все время в напряжении и как бы вливала энергию. Ведь Петя на улице никогда не отдыхал, здесь он всегда работал, порой даже бессознательно.
Вот и сейчас Шухмин ехал в полупустом троллейбусе — утренний поток пассажиров уже схлынул — и думал, как ему начать действовать, приехав в тот дом. Но одновременно, по чисто профессиональной привычке уже, он все время приглядывался к тому, что происходит вокруг, цепляясь взглядом за каждую, казалось бы, мелочь и почти автоматически оценивал ее. Вот идет женщина, чем-то она расстроена, кажется, глаза красные, плакала, наверное. Немолодая, скромно одета, торопится. Слишком уж она торопится и по сторонам не смотрит. Не случилось бы чего… Мужчина идет, приезжий, конечно, меховая шапка на нем какая-то необычная, вроде малахая, с Севера небось, тогда при себе, возможно, немало денег, а он по сторонам зевает и, конечно, в ресторан охотно пойдет, если кто предложит. Ну, а там… Часовой магазин, фирменный. Интересные часы появились… А это кто? Гляди, пожалуйста, — Сенька! Похудел, оброс. Значит, снова в Москве? Быстро, однако, освободился на нашу голову. Небось у Маруськи живет. У нее на квартире его и брали тогда. Нет, скорей всего, он новую нору нашел. Ох, через пять минут он непременно с тем приезжим столкнется! Интересно бы посмотреть. Да, надо будет ребятам сказать, что Сенька вернулся…
Вот так и катил Шухмин по бывшему Садовому кольцу. На Колхозной площади он пересел на другой троллейбус, который шел уже по проспекту Мира. Тут ехать пришлось уже совсем недолго. Остаток пути Петя проделал пешком и, наконец, достиг нужного дома.
Поднявшись на лифте, он прежде всего позвонил в интересовавшую его квартиру. Подождав, он позвонил еще раз, понастойчивей. Однако, как Петя и ожидал, дверь ему никто не открыл. Квартира была пуста.
Тогда он позвонил в соседнюю, ту самую, по стене которой я вчера вечером колотил табуретом. Тут дверь открылась мгновенно, едва Петя прикоснулся к звонку. Словно кто-то стоял и ждал, когда он позвонит.
На пороге появился полный, невысокий человек в голубом махровом халате, тонкий венчик седых взъерошенных волос окружал большую розовую лысину. За сильными стеклами очков расплывчатые, водянистые глаза с любопытством смотрели на Шухмина.
— Милости прошу, голубчик. Милости прошу, — быстро и деловито сказал человек, не дав Пете даже раскрыть рот и представиться.
— Что это вы постороннего человека так к себе приглашаете? — укоризненно спросил Шухмин. — А вдруг…
— Помилуйте! Вы же из милиции, если не ошибаюсь?
— Ну, допустим, в данном случае вы действительно не ошиблись.
— Не допустим, а точно. Я в таких случаях, имейте в виду, никогда не ошибаюсь, — весело объявил толстяк и, отступив в глубь коридора, добавил: — Прошу.
Петя, пожав плечами, перешагнул порог.
В передней, закрыв за ним дверь, толстяк протянул ему руку и представился:
— Артемий Васильевич Белешов. На бюллетене сейчас, — добавил он извиняющимся тоном.
Шухмин тоже назвал себя. Но Белешов строго спросил:
— По званию как?
— Старший лейтенант, — почему-то смутившись, сказал Петя.
Затем Белешов провел его в комнату, усадил на диван возле низкого журнального столика, на котором лежала, видно, только что развернутая газета, и, усевшись в глубокое кресло напротив, сердито сказал, сцепив на животе пухлые розовые руки:
— Все думаю, понимаете, насчет вчерашнего. Это что ж такое делается? Нарушение основ, я так полагаю. Привлекать надо. Без разговора, понимаете! Распустились. Мы вот либеральничаем, понимаете. А тут надо, чтобы земля горела у них под ногами! — Он решительно взмахнул кулаком. — Мало на улице — они в чужих квартирах… А почему ваш человек открыть не мог?
— Они снаружи ключ в замок сунули и бородку сломали.
— Смотри пожалуйста. Додумались, а? Это какую голову надо иметь! Я, знаете, сам тоже к интеллигенции принадлежу. К рабочей, конечно, А гнилая, она вот где у меня, — он энергично похлопал себя по жирному загривку. — Серьезно говорю.
— А вы где работаете? — поинтересовался Петя.
— Директор, — со скромной гордостью ответил Белешов. — Дом культуры у меня. Хозяйство — во, не обхватишь, — он развел в стороны руки. — Зал на тысячу сто человек. И одной художественной интеллигенции пруд пруди. Дирижеры, режиссеры, понимаешь, артисты, солисты. Я вот на этом деле двадцать два года, не ус моржовый, а? И такое сделал насчет ее заключение. Как до третьего поколения она доходит, так уже никуда. Сначала начинать надо. Вот, допустим, сам — ничего не скажу, нормально. Старается, не пьет, создает что надо, ему аплодисменты, почет и все такое. Сын, я скажу, уже не то. Больше закладывает, чем создает. Ну, а внука уже только в тюрьму, ей-богу. Вот такие, я скажу, по чужим квартирам и шарят. Как вчера, допустим. Верно?
Шухмин счел за лучшее не вступать в дискуссию, хотя оригинальная теория хозяина квартиры сочувствия у него не вызвала.
— Ну, а хозяина квартиры не знаете? — решительно переменил он тему разговора, поняв, что его собеседник самостоятельно к этому вопросу перейдет не скоро от таких глобальных проблем.
— Так я ж вам и про него тоже сейчас мнение высказываю, — энергично подхватил Белешов. — Это же не художник, а так, неизвестно что. Отец вот, говорят, это мастер был, заслуженный деятель. А этому я как человеку говорю: «Игорь, создай мне панно для верхнего фойе, озолочу». — «Нет, говорит, я на натуру сейчас езжу». А? Придумал, понимаешь, себе словечко, чтобы за него прятаться!
— Значит, он художник? — удивился Петя. — А в квартире одна картина только висит, говорят. Да и вообще там…
— А! — досадливо махнул рукой Белешов. — Год, как эту квартиру получил, а жил в ней месяц от силы. Ну, три, допустим. Чуть не полгода на одной Камчатке прожил. Надо же, а? Это имея квартиру в Москве! И сейчас уже месяца два как его нету. Если там протечет или что, сестре изволь звонить. И ведь приходят кто хочет. Буквально говорю: кто хочет. Вы же видите.
— Откуда же они ключ берут?
— А кто их знает.
— Может быть, у сестры?
— Ну что вы. Она кому-нибудь ключ не даст. Я ее знаю, приходила. Строгая такая, самостоятельная, седая вся. Старше его много будет. «Я, говорит, Игоря на руках носила». Очень самостоятельная женщина.
— А тех, кто вчера был, вы, случайно, не видели?
— Ни, ни. Даже не слышал, как пришли, вот что удивительно. Телек, значит, смотрел. Очень художественная передача была.
— Но вообще-то вы кого-нибудь видели, кто в ту квартиру приходил? — настаивал Петя. — Раньше, допустим.
— Раньше? А как же! Непременно видел.
— Вот вы, извините, сколько уже болеете?
— Я-то?
— Ну да. Вы.
— Я-то недели две. Только вы не подумайте…
— Нет, нет, я не подумаю, — энергично перебил Петя. — Так вот, за эти две недели кто-нибудь бывал в той квартире? Можете описать? — И, улыбнувшись, добавил: — По возможности художественно.
— Ну что ж. Пожалуйста, — приосанился в своем кресле Белешов и поправил очки. — Чего запомнил, то и скажу. Значит, так. Вот, к примеру, молодой человек один приходил. Точнее, парень. С ключом возился. Я, конечно, вышел. Ну, что про него сказать? Высокий такой, рыжеватый, губы красные, бантиком. На язык очень даже вежливый. «Так, мол, и так, папаша, Игорь взять просил кое-что». Ну, я, конечно, говорю: «Бери, раз велел. Мне-то что».
— И давно он приходил?
— Да вот… дня два назад, наверное.
«Не иначе, как Чума приходил, — подумал Петя. — После убийства уже».
— И еще одного видел, — продолжал между тем Белешов. — Этот раза три встретился. Я даже подумал, что живет он у Игоря. Из молочной один раз пришел и с хлебом. Ну, я и подумал.
— А этот как выглядел? — с интересом спросил Петя.
— Ну, этот, значит, постарше будет. Годков ему небось сорок с гаком. Одет солидно. Я так подумал, дядя, может, Игорев. Богато одет, модно. Кругом, значит, выдра у него. Шапка, воротник. Все в стиль. Барин, словом. Или дирижер. Но как-то видел, он на служебной «Волге» подъехал, черной, с занавесочками. «Эге, — думаю. — Будь здоров и не кашляй. Ишь какой ус моржовый». Ну, а в третий раз совсем интересно. С дамой приехал, представляешь? Вернее сказать, с девушкой, на глаз, конечно. Ну, я тебе доложу, картинка. Просто симпатичнейшая красавица, и только. По Сеньке и шапка, конечно.
— А если художественно ее описать? — улыбнулся Шухмин.
— Художественно? Ну, что тебе сказать? Глаза — во, блюдца, черные, искрятся аж. Брюнетка сама. Носик, губки…
— Одета была во что?
— Одета? Дубленочка на ней была — помереть можно. И меховая шапка — во!
— Белешов поднял руки над головой. — Опять же сапожки… закачаешься.
«Эге, — подумал Шухмин. — А ведь это Муза. Скорей всего, она. И не с Чумой, а с другим. Как это понять?» Вот этот самый «другой» очень заинтересовал Петю. Условно он его назвал «дядей».
— А вам с этим дядей говорить не довелось? — спросил Петя с надеждой.
— Почему же? Довелось. Вместе в лифте поднимались. Очень даже свободно заговорили. Культурный человек. «Я, говорит, их семью давно знаю. Ну, вот в командировку приехал, они мне и предложили остановиться. Вас я никак не потревожу, будьте спокойны». — «Что вы, что вы, отвечаю, как можно. Живите себе на здоровье». Вот уж дня три-четыре не вижу. Уехал, наверное.
— А откуда приехал, не сказал? Как зовут?
— Откуда, не сказал. А вот как звать… — Белешов задумчиво сморщился, уставившись в потолок. — Такое, знаете, странное имя… Отродясь не слыхал… Как-то на «ар» кончается… Бомар… Гомар… А дальше уже по-нашему — Иванович. И фамилия тоже непростая. Запамятовал я ее. Да и ни к чему было запоминать-то.
Про себя Шухмин уже построил было такую схему: Игорь отдает ключ от квартиры этому «дяде» и уезжает. Дальше он к событиям никакого отношения не имеет… Нет, уже не получается. Игорь уехал два месяца назад, а «дядя» приехал совсем недавно. Не стыкуются эти два события. Значит, «дядя» получил ключ от сестры, больше, очевидно, получить было не от кого. А после его отъезда ключ у нее получил Чума. Вот это уже странно. Да, видно, придется эту сестру посетить, самостоятельную и седую, без всякого удовольствия подумал Шухмин. Значит, «дядя» давно знает всю их семью, А вот Чума, редко бывая в Москве, все же знает, оказывается, Игоря. Сказал же он Артемию Васильевичу: «Игорь просил кое-что взять». Ишь ты, «кое-что». Откуда же он Игоря знает, интересно? Как они могли познакомиться? Или Чума наврал и Игоря он не знает? Но откуда у него ключ от квартиры тогда, откуда он знает имя владельца квартиры? Как ни крути, а остается только сестра. Она знает Чуму и доверяет ему ключ? Сомнительно что-то «Дядя» ему ключ дал? Зачем? Он же туда Музу приводил, тайком от Чумы, надо полагать. А она, значит, крутит с обоими? Петя почувствовал, что запутывается во всех этих вопросах, в непонятной ситуации вокруг этой странной квартиры. Тут надо ухватить главное, подумал он. А что было главное? «Дядя», Игорь, его сестра, Муза, ключи, Чума… За что ухватиться? Может быть, все-таки за «дядю»?
Шухмин всегда оказывался в затруднении, когда надо было решать общие вопросы, выбирать главную линию действия, вообще выбирать что-то одно из многого. Ему всегда казалось, что он непременно что-то упустит при этом выборе, что-то от него важное ускользнет, как это порой и случалось. Вот если кто-нибудь другой для него эту линию действия выбирал, Шухмин шел по ней уверенно, и даже отважно. Только бы знать твердо, куда идти, а уж как идти — это он решит сам и, будьте уверены, дойдет, до конца дойдет.
Но вот за что следовало ухватиться сейчас? Главное бы только не упустить… Про хозяина квартиры и так, кажется, все ясно. Художник, в командировке два месяца… Сестра никуда не денется… Музу этот сосед совсем не знает, Чуму тоже… Остается «дядя». Да, да, пожалуй, именно «дядя»! Что он знает про этого загадочного пока «дядю»?
— А где он работает, как вы думаете, Артемий Васильевич? — с надеждой спросил Шухмин. — Этот вот самый дядя.
— Какой, извините, дядя?
Артемий Васильевич удивленно посмотрел сквозь очки на Петю, перестав даже крутить большие пальцы на животе.
— Ну, этот жилец у Игоря, — улыбнувшись, пояснил Петя. — Я его для простоты дядей назвал. Он ведь не дядя Игорю?
— Не назывался, нет, — покачал головой Артемий Васильевич и задумчиво продолжал: — А вот где работает… Что-то он, помнится, обмолвился… Вроде бы по снабжению. Я, признаться, эти материи не очень разбираю. Не моя, так сказать, сфера… Да! — вдруг оживился он. — Вот какой разговор у нас был. Я ему еще сказал, в порядке шутки, ясное дело: «Вы меня духовыми инструментами снабдите. Озолочу». Оркестр проваливается, дирижер в истерике. Представляете? Да! Я еще вот что вспомнил. У него усики такие, знаете, узенькие, черненькие, ниточкой, словом. А на левой щеке… нет, на правой! Ну, конечно, на правой. Моя левая… — он дотронулся пальцем до щеки, — значит напротив, — его правая, все верно. На правой щеке у него родинка. Во! — он сложил два пальца в колечко. — С двугривенный, ей-богу. Если вы его встретите, то сразу по этой родинке узнаете, ручаюсь.
— Точно, — подтвердил Шухмин. — Конечно, узнаю. Но что он вам ответил, когда вы насчет оркестра сказали?
— А-а. Он, значит, деликатно так улыбнулся и говорит: «Не моя область. Если бы вам текстильные изделия требовались широкого спроса, тогда был бы разговор». Ну, я ему отвечаю его же словами, конечно тоже в шутку, это уж само собой: «Не моя область, а то был бы разговор. Это я вам как директор заявляю». А он, понимаешь, смеется. «Главное, говорит, стать директором. А там ДК или текстильный магазин, это уже дело второе. Магазин даже выгоднее». Тактичности, я вам скажу, ему не хватает. Что значит выгоднее? Я ему, понимаешь, не коммерсант, кажется, а работник культуры как-никак, — сердито заключил Артемий Васильевич.
— Ну, спасибо вам, — сказал Петя, вставая с дивана и слегка отодвигая журнальный столик. — Не хочу больше беспокоить. Выздоравливайте.
— Благодарю, — с достоинством ответил Белешов. — Всегда рад. Если что потребуется, милости просим. Всегда к вашим услугам.
В передней, после того как Шухмин оделся, они еще раз церемонно простились.
— Счастья вам, — напутствовал его Белешов, — и в личной, и в семейной жизни.
Очутившись на площадке лестницы, Петя, однако, не спешил вызвать лифт. Он был достаточно опытен и добросовестен, чтобы так поспешно уйти из этого дома. Ведь на площадку выходили двери еще двух квартир.
Я забыл сказать, что до того, как вообще забраться на этот этаж, Шухмин побывал в конторе жэка, посмотрел домовую книгу и заранее выяснил, кто живет по соседству с квартирой Игоря Евгеньевича Кончевского, члена Союза художников, одинокого, тысяча девятьсот сорок шестого года рождения. И потому в остальных двух квартирах жильцов он уже знал. Однако в этот час далеко не все они, естественно, оказались дома. В одной из квартир он застал молодую женщину с грудным ребенком и ее матушку, пришедшую посидеть с внуком. А во второй — старушку-пенсионерку, которая по своей глухоте, плохому зрению и малой подвижности никаких полезных сведений дать Пете не могла, как он ни пытался их получить.
Зато молодая мама по имени Леля знала все, что происходит вокруг. Она тут же безапелляционно заявила, что Гвимар Иванович — Леля дважды с некоторой даже гордостью повторила это диковинное имя, точно оно было ее личным изобретением, — что Гвимар Иванович работает в министерстве, приезжает в Москву в командировку из Киева и каждый раз останавливается на квартире у Игоря, так Леля назвала соседа, с которым ее муж очень дружит. А бывал у Гвимара Ивановича, не в этот его приезд, правда, а в прошлый, такой невысокий, худощавый мужчина, лет сорока пяти, веселый, интересный, даже легкомысленный. В театр ее приглашал. А вот лица его она почему-то не запомнила. Но если увидит, то, конечно, сразу узнает Незапоминающееся какое-то лицо.
— Это что же, Гвимар Иванович вас с ним познакомил? — весело спросил Шухмин.
Леля была полненькая, с живыми карими глазами и ямочками на румяных щеках. С ней просто невозможно было говорить серьезно, хотелось непременно шутить и любезничать. И то, что приятель Гвимара Ивановича вел себя с ней легкомысленно, показалось Пете вполне естественным. От этого, наверное, не мог бы удержаться и самый сдержанный человек.
— Конечно, Гвимар Иванович познакомил, кто же еще? Он на этот счет знаете какой инициативный? — засмеялась Леля так заразительно, что Петя невольно улыбнулся.
Вообще на протяжении всего разговора с его лица не сходила какая-то чуть смущенная, чуть глуповатая улыбка, которую он почти не замечал.
— Только он разбежался, — охотно и насмешливо продолжала Леля, — а я уж вижу, когда вы разбегаетесь! — ну, думаю, сейчас куда-нибудь пригласит А он как раз в театр. А тут Гвимар Иванович ему и говорит: «Только учти: она больше чем на час из дома уйти не может Малый плачет». Ну, у него крылья и опустились. Всю коммерцию мне Гвимар Иванович испортил.
— А как же зовут этого знакомого?
— Виктором представился, — снова прыснула Леля, прикрыв ладошкой рот.
— Больше вы его не видели?
— Нет. На той неделе опять Гвимара Ивановича встретила, он и говорит: «Приятель мой все ждет, пока ваш Андрейка подрастет и вы посвободнее будете». А я ему говорю: «Вот женю Андрейку, тогда им займусь».
И Леля снова звонко и радостно рассмеялась. Но тут же вдруг, словно вспомнив что-то, посерьезнела и с какой-то детской тревогой спросила:
— А вы, значит, из милиции?
— Именно, — не очень серьезно подтвердил Шухмин.
— Ой, скажите мне наконец толком, что там у Игоря случилось? — она кивнула в сторону соседней квартиры. — Бог знает что болтают по дому.
В это время в комнату вошла невысокая полная женщина с ребенком на руках и стала бережно укладывать его в кроватку возле окна.
— Это моя мама, — сказала Леля.
Женщина повернула голову и кивнула Пете. Лицо у нее было отечное и болезненно-бледное, хотя на вид ей было лет сорок пять, не больше.
— Ну, что же случилось, говорите, — снова повторила Леля требовательным и чуть капризным тоном, который усваивают обычно хорошенькие и избалованные вниманием женщины.
— Толком пока ничего не известно, — ответил Петя. — Какие-то хулиганы, видимо, заманили в ту квартиру человека, избили и заперли.
— И ограбили, конечно?
— Ну да. А сами убежали. Вот он шум и поднял.
— Но ведь это же не Гвимар Иванович, надеюсь, заманил? Он скорей женщину какую-нибудь заманит, из нежности, — засмеялась Леля.
— Само собой, не он, — улыбаясь, согласился Петя. — А вот кто, найти надо.
— А где же Гвимар Иванович?
— Видимо, уже уехал.
— А! — Леля досадливо махнула пухлой ручкой. — Все равно никого не найдете. Никогда никого не находят Это только в газетах пишут, что находят. Да в книжках всяких Просто смех один.
— Почему же? Все-таки случается, что и находим, — улыбнулся Петя.
— Да, да, да. Рассказывайте. Вот у нас на улице каждый вечер хулиганят. Просто ходить страшно. Думаете, поймали кого-нибудь? Ни разу не слышала. А еще говорят, убийца ходит. Всех женщин в красном убивает. Это правда, а? — И, увидев Петину улыбку, Леля уже кокетливо добавила: — Ну да, вам хорошо, вы вон какой сильный. Я себе представляю, как вас боятся.
А Петя в этот момент невольно вспомнил совсем недавний случай, когда ему было далеко не так уж хорошо. Он и меня вспомнил, тоже, казалось бы, не козявка, а ведь постарайся Леха как следует, что было бы? «Нет, — подумал Петя, — нас лучше в пример не приводить». Поэтому он только улыбнулся в ответ на гневные Лелины слова и спросил:
— А как Гвимар Иванович попал к Игорю на квартиру, он вам не говорил?
— Конечно, говорил, — охотно отозвалась Леля. — Он сначала с его сестрой познакомился. Она дикарем приехала на юг отдыхать, а Гвимар Иванович ей в своем доме комнату сдал.
— Он же в Киеве живет?
— А у него дом на юге, на Черноморском побережье, или у родных его, я не поняла. Ну, а уж через сестру и с Игорьком познакомился.
— Вы знаете еще каких-нибудь приятелей Игоря? — на всякий случай спросил Шухмин, не очень-то веря, что среди них может оказаться и Колька-Чума.
— Одни художники. — Леля засмеялась. — А еще мой Алик, тоже несостоявшийся художник.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Леля работает старшей медсестрой хирургического отделения одной из городских больниц, там же врачом работает и ее муж Алик.
— Он ученик самого Ильи Михайловича Дальфа, — с гордостью сказала Леля.
— Слыхали такого? Алик кандидатскую у него защищает. А в отделение к нам даже из спецбольниц на операцию везут. Таких рук там нет и не будет.
Но тут в разговор вмешалась Лелина мама и раздраженно заявила, что хоть Алик и ученик Ильи Михайловича, но разве это дело, что он каждый вечер или на дежурстве, или уходит к приятелям в преферанс играть чуть не до двух ночи, как будто у него семьи нет.
Петя же сначала догадался, что Лелин командирский тон результат не только избалованности, но и служебного положения. А потом он несказанно удивился, что этот неведомый ему Алик меняет на какой-то преферанс такую красивую и веселую жену. В последнем, конечно, сказалась его незамутненная семейным бытом холостяцкая психология, я так считаю.
Вскоре Петя распростился с обеими женщинами, чтобы отправиться к третьей, к сестре Игоря, Александре Евгеньевне, адрес которой, как и служебный телефон, дал ему все тот же Артемий Васильевич Белешов. От него Петя и позвонил Александре Евгеньевне на работу и условился о встрече.
По правде говоря, этот телефонный разговор оставил у Шухмина неприятный осадок. Александра Евгеньевна говорила сухо, отрывисто, каким-то неприязненно-скрипучим голосом, давая понять, что никакой радости от предстоящей встречи она не испытывает и предпочла бы вообще от нее отказаться. Но так и быть, пусть товарищ из милиции приходит. Только время у нее ограничено, и она может уделить ему всего полчаса, не больше. Шухмину, естественно, пришлось принять все условия, еще и поблагодарить за оказанную любезность. И хотя он был по натуре чрезвычайно добродушен и незлобив, ехал он на встречу с Александрой Евгеньевной мрачным, придумывая всякие язвительные обороты, которые использует в разговоре с этой дамочкой.
Большой старый дом постройки начала века в одном из арбатских переулков встретил его огромным полутемным подъездом. Высоко над головой загадочно светилась единственная лампочка, а в глубине еле видна была широкая, ведущая вверх лестница рядом с резной решеткой допотопного лифта.
На ступеньках лестницы сидела компания парней. Оттуда доносились, гулко раскатываясь по пустому подъезду, возгласы, пьяный хохот и ругань. Заметив входящего Шухмина, один из парней залихватски крикнул:
— Дядька, иди сюда, прикурить надо!
Шухмин еще больше нахмурился и двинулся к лестнице. Подойдя к рассевшимся по ступенькам парням, он негромко спросил:
— Кто это меня звал? Ты, что ли? Ну-ка, я тебя сначала рассмотрю и запомню.
Он схватил ближайшего парня за шиворот, притянул к себе и тут же отшвырнул в сторону, как котенка.
— Тьфу! Слизь поганая! Ну-ка, может, ты? — И он схватил за шиворот другого парня.
Остальные, повскакав на ноги, начали отступать к выходной двери, А один все же подскочил сзади к Шухмину, но не успел даже размахнуться. Петя повернулся и нанес свободной рукой такой удар, что парень с воплем прямо-таки влепился в стенку. Остальные, не раздумывая больше, кинулись наутек. Вслед за ними рванулся было и парень, которого Петя продолжал крепко держать за шиворот. Ворот пальто угрожающе затрещал.
— А ты погоди, — мрачно сказал Шухмин. — Успеешь. Передай, я теперь часто сюда буду заходить. И если кого из вас тут застану, ноги повыдергаю. Ясно? Ну, а если на кого из вас тут жалобы есть, то Москва ему недолго светить будет. Это я на себя беру. Так и передай. Личности ваши я уже все сфотографировал. Вот теперь — пшел!
И, придав парню необходимое ускорение, он направил его в сторону выходных дверей.
Настроение было окончательно испорчено.
Просторный скрипучий лифт, со следами былой зеркально-красно-деревянной роскоши, медленно и натужно поднял Шухмина на шестой этаж. На полутемной площадке Петя с трудом разобрал номера квартир на высоких резных дверях, увешанных почтовыми ящиками. Наконец из короткого списка на одной из них он выяснил, что Александре Евгеньевне надо звонить три раза, причем один раз длинно. Прямо-таки допотопный какой-то дом попался Пете на этот раз.
Дверь открыла высокая, полная дама в больших роговых очках, ее пышные седые волосы были красиво уложены на гордо вскинутой голове. На даме был светло-серый костюм, на шее виднелся странной формы зеленый камень на тонкой цепочке. «Ишь ты, — подумал Петя. — Недаром в Союзе художников работает».
— Проходите, — величественно произнесла Александра Евгеньевна, после того как Шухмин представился.
Потом она провела его в глубь длинного, плохо освещенного коридора, мимо нескольких закрытых дверей. Большая комната, куда они вошли, была вся заставлена старинной мебелью, на стенах плотно, одна к другой, висели разных размеров картины, большей частью портреты. В старой, замысловатой люстре, спускавшейся с высокого потолка, горело всего три лампочки из шести.
Александра Евгеньевна указала Пете на необычайно громоздкое старинное кресло с бархатными, потертыми подлокотниками и, демонстративно взглянув на огромные, стоявшие в углу комнаты напольные часы, где за стеклом мерно качался длинный маятник, густым, прокуренным басом произнесла, тоже опускаясь в кресло по другую сторону круглого стола:
— Так в чем дело, молодой человек?
Шухмин сдержанно сообщил, что произошло в квартире ее брата.
— Черт знает что, — раздраженно резюмировала Александра Евгеньевна, не проявив, однако, особого волнения, и желчно добавила: — Вам это чести не делает. Вашему ведомству, я хочу сказать, — поправилась она.
Шухмин, никак не реагируя на ее саркастическое замечание, ровным голосом спросил, что из себя представляет временный жилец той квартиры Гвимар Иванович.
Пожав плечами, Александра Евгеньевна не спеша закурила длинную сигарету, вставив ее в еще более длинный мундштук, и недовольным тоном произнесла:
— Ну, что я о нем могу сказать. Интеллигентный человек. Служит где-то. Выручил нас однажды с жильем. Впрочем, мы уже третий год у него останавливаемся. У него дом в Южноморске, близ моря. Сюда приезжает в командировку. Полностью ему доверяю. Ключ, конечно, передать никому не мог. Исключено.
— Когда он уехал?
— Он еще не уехал, — снова пожала плечами Александра Евгеньевна и изящно стряхнула пепел в большую плоскую перламутровую раковину, стоявшую на столе. — Иначе он вернул бы ключ.
— Выходит, ключ у него украли? Он вам об этом не сообщил?
— Представьте, нет.
Пете некогда было сейчас размышлять над этим странным сцеплением фактов. Полчаса, отведенные на беседу, вот-вот должны были истечь.
— Знаете вы его московских знакомых? — спросил он.
— Одного только. Как же его?.. Однажды привел. Ах да! Виктор Арсентьевич. Думает, что что-то понимает в живописи. Смешно, — она сделала презрительную гримасу и снова изящно сбила пепел с сигареты. — Хотя и кое-что прикупает.
— Работает в этой области?
— Что вы! Полнейший дилетант. Работает где-то на заводе или на фабрике. Не знаю уж, кем там.
— Откуда же у него эта самая… живопись? — поинтересовался Петя.
— Покойный тесть собирал, говорит. Жена получила в наследство. Какой-то знаменитый врач был, кажется. И неплохо разбирался в живописи, судя по коллекции. Этот Виктор Арсентьевич показывал список картин. Очень неплохая коллекция. Итальянцы, голландцы, русские передвижники.
Александра Евгеньевна говорила небрежно, хрипловатым басом, глядя куда-то в сторону и близоруко щурясь сквозь очки. Потом взгляд ее упал на часы, она подобралась в своем кресле, выпрямилась, словно собираясь подняться, и отрывисто спросила, переведя выразительный взгляд на Шухмина:
— Что еще?
— Гвимар Иванович сказал, когда он уедет?
— Нет. Обычно живет неделю, полторы. Но, повторяю, если бы уехал, то завез ключ. Как всегда.
— Не может он ночевать у Виктора Арсентьевича, как вы полагаете? Его уже дня три-четыре в доме не видели.
— Он мужчина и может ночевать где угодно, — строго произнесла Александра Евгеньевна. — Не задавайте наивных вопросов, — она критически оглядела Шухмина и строго спросила: — Вы давно в своей милиции работаете?
— Она не моя, — хмуро ответил Петя. — Она ваша.
— Вот как? — Александра Евгеньевна в ответ даже не скрывала иронии. — Что-то я этого, признаться, не заметила.
— Если что-нибудь случится, заметите, — ответил Петя.
Ему очень хотелось курить, но просить разрешение у этой чопорной, заносчивой дамы ему было почему-то унизительно. И он терпел, все больше сердясь на нее и на себя.
— Если что-нибудь случится, — все с той же иронией сказала Александра Евгеньевна, — то я как раз в этом случае и замечу, что вы плохо работаете. Когда работают хорошо, то ничего не случается.
Она помолчала, ожидая дискуссии, но Шухмин счел за лучшее промолчать. После некоторой паузы он поднялся и сказал:
— Все. Извините за беспокойство. Советую поменять замок в квартире Игоря Евгеньевича, он сломан. И хотел бы вас попросить…
— Что еще? — недовольным тоном спросила Александра Евгеньевна, гася сигарету и тоже поднимаясь со своего кресла.
— Когда появится Гвимар Иванович, попросите его непременно позвонить мне по этому телефону.
Петя вынул блокнот, написал там свой телефон и фамилию, затем вырвал листок и протянул Александре Евгеньевне. Та небрежно взяла его и, не глядя, положила возле пепельницы.
— Постараюсь, — сухо кивнула она.
— Это очень важно, — предупредил Петя.
— У вас все очень важно, насколько я понимаю, — насмешливо согласилась Александра Евгеньевна.
Больше Шухмин ничего не сказал, молча прошел весь коридор до входной двери и, уже одевшись, так же молча, но учтиво поклонился провожавшей его Александре Евгеньевне.
Очутившись на полутемной широкой лестнице, он непроизвольно, с облегчением вздохнул и побежал вниз по ступенькам, забыв вызвать лифт.
День кончался. Петя спешил к себе на работу. По дороге он думал, что, пожалуй, самым интересным и важным его открытием сегодня был некий Гвимар Иванович.
…Валя Денисов с самого утра, как только узнал, что со мной накануне вечером произошло, места себе не находил. И не только потому, что так меня подвел. Это уж само собой. Но еще его мучила мысль, что Нина была с ним не до конца правдива, что она скрыла от него какие-то стороны характера и поведения своей подруги, которые могли ее уронить в его глазах. То, что Нина ничего не знала о преступных — да, да, преступных! — связях Музы, Валя был убежден. Но она наверняка замечала за ней некрасивые поступки и, однако, ничего Вале об этом не сказала. Наоборот, Муза, по ее словам, была чуть ли не ангелом. Черт возьми! Как он мог Нине так довериться, как он мог проявить такое легкомыслие? Он что, влюбился в нее с первого взгляда? Или он такой бабник, что каждая юбка кружит ему голову и он ничего уже не соображает? Но ведь никогда с ним ничего подобного не случалось за все вот уже почти шесть лет работы в розыске! Так что же произошло с ним на этот раз? Может быть, он разучился работать, потерял способность улавливать детали, слушать, сопоставлять, делать выводы? Тогда надо все бросить и попросить Кузьмича уволить его к чертовой бабушке из розыска!
Получив задание отыскать Музу, он вернулся к себе в комнату, уселся за стол, закурил и принялся рассуждать холодно, строго логично, отбросив всякие эмоции. Что случилось, то случилось, теперь надо решить, что делать дальше, как построить поиск, с учетом, конечно, уже совершенных ошибок. Робкую мысль о том, что есть новый повод увидеть Нину, он с негодованием прогнал.
Итак, чем Денисов располагал, приступая к поиску? Он знал имя и фамилию разыскиваемой — Муза Владимировна Леснова. Знал ее адрес, телефон, место работы, и наконец, ее внешность. Однако все это пока ничего ему не давало, дома и на работе ее не было. Валя тут же, по телефону, еще раз в этом убедился. Что же оставалось? Оставались еще родственники и друзья, Муза могла быть у них. Из родственников у Музы была только мать, которая жила отдельно. Адрес и телефон Альбины Афанасьевны у Вали тоже были. Ну, а из друзей, если не считать Кольки-Чумы, Валя знал только Нину. Как ни крути, а повидаться с ней придется. Только на этот раз он не будет таким легковерным.
Прежде всего Денисов отправился к Музе домой, хотя и знал, что ее там конечно же не встретит. Но кое-что полезное он все-таки рассчитывал там узнать.
Поезд метро то весело бежал поверху, то нырял в тоннели и, наконец, привез Валю на станцию «Молодежная», чуть не к границе Москвы, то есть к Кольцевой автомобильной дороге. Вот там-то, среди новых застроек, в путанице внутриквартальных проездов, Денисов не без труда нашел в конце концов нужный ему новый светлый дом с длинными зелеными лоджиями. Полюбовавшись на третий этаж, где находилась квартира Музы, Валя отправился в домоуправление, разместившееся тут же, в полуподвале.
Здесь-то и ждали его первые открытия. Дом оказался кооперативным, и двухкомнатная квартира Музы стоила немало. Однако пайщиком до недавнего времени значился ее муж, Борис Григорьевич Зайчиков, старший инженер какого-то КБ. После развода пайщиком стала Муза, всю квартиру Зайчиков отдал ей. Она осталась там с двухлетней дочкой, которую, однако, по словам толстой бухгалтерши из домоуправления, забрала к себе бабушка.
— Ну, а Музочка рада, конечно, не знаю как, — желчно продолжала бухгалтерша. — Нужен ей ребенок, как же. Ей порхать нужно. Голову мужикам кружить.
Денисов, как работник милиции, для вида интересовался отнюдь, конечно, не Музой, и разговор о ней возник совершенно как бы случайно и вовсе не по его инициативе. Вопросы о ней он задавал самым безразличным тоном, как бы исключительно из вежливости, лениво откинувшись на спинку стула.
— Шуры-муры крутит? — спросил он.
— Ясное дело. То один, то другой. Домой водит. Возвращается на такси среди ночи. Какой это муж выдержит, а тем более инженер? — возмущенно спросила бухгалтерша. — Ну, и ушел, все бросил. Господи, да я бы за такого мужа не знаю как…
— А сейчас-то у нее никого нет?
— Как это нет? У Музки такого момента не бывает. К ней мужики как на мед липнут. Что есть, то есть. Внешностью берет. В суть-то ваш брат не очень-то влезает. Господи, уж навидалась.
— И кто же у нее сейчас, интересно?
— Рыжий такой. Длинный. Вроде бы командировочный. А уж тихий, ласковый. Соседи говорят — у нас ведь звукопроницаемость жуткая, — грубого слова от него не слышно, не то чтобы крик там, драка какая. Ну, и Музка при нем тоже тихая. А бывало, на своего глотку драла на весь дом. Срам просто. Уж ей, знаете…
Еле избавившись от болтливой бухгалтерши, Валя отправился к соседям Музы. Из домовой книги он уже знал, что семья там большая, и вполне можно было рассчитывать хоть кого-нибудь из них застать сейчас дома.
Так оно и оказалось. Дома застал одну из бабушек, вторая была на работе. Речь Валя повел о имеющихся жалобах на работу домоуправления. Жалобы, естественно, нашлись, и разговор постепенно стал не только оживленным, но временами даже драматичным. У маленькой, с виду скромной и тихой старушки обнаружились незаурядная энергия и напористость. В этой обстановке заговорить о соседке не составляло труда. И Валя выяснил важное обстоятельство: Муза дома сегодня не ночевала. Накануне утром она, как всегда, ушла на работу, а часа через два ушел и ее хахаль. И больше Муза домой уже не возвращалась.
— Небось у матери заночевала, — предположила старушка. — Горячую-то воду опять на целый день выключили, ироды. Вот ты себе запиши.
Все было бы понятно, если бы Муза вышла на работу. Но ни вчера, ни сегодня она там не появилась.
И Денисов отправился через всю Москву на Первомайскую улицу, где жила мать Музы. «Что же получается? — размышлял он по дороге. — Куда она могла деться?» Скорей всего, конечно, она ночевала не у матери, а черт знает где, с этим самым Чумой. Работу вчера прогуляла, а сегодня еще может явиться, пока она лишь опаздывает. Но если все так, если она действительно гуляет с Чумой, то она должна знать, где он скрывается и дружок его, этот Леха, тоже. И через Музу выйти на Чуму — это будет самый, пожалуй, быстрый и верный путь. А потому отыскать ее надо непременно, эту непутевую девку.
Размышляя, Денисов незаметно доехал в метро до «Первомайской», выбрался там на поверхность и зашагал по тротуару, изучая номера домов. Впрочем, шагать пришлось недолго, нужный дом оказался чуть не рядом со станцией метро, в глубине обширного заснеженного двора.
Дверь ему открыла невысокая, стройная, черноволосая женщина в пестрой открытой кофточке и ладных брюках, которые, надо сказать, ей очень даже шли. Только чуть блеклое лицо и морщинки в уголках рта, возле глаз и на шее выдавали ее возраст. Но живые, слегка подведенные тушью и подсиненные глаза и заметно подкрашенные губы свидетельствовали, что женщина не перестала следить за собой.
Поначалу Денисов решил не скрывать от Альбины Афанасьевны цель своего визита. В конце концов, мать тоже заинтересована, чтобы ее дочь вела себя пристойно. А раз она забрала внучку к себе, то, вероятно, не очень довольна дочерью и ее образом жизни, а внучку любит и конечно же хочет, чтобы у нее была хорошая мать. Возможно, она и развод дочери не одобряет и нынешнюю ее связь тоже. Словом, Альбина Афанасьевна, полагал Валя, является естественным его союзником, и скрывать от нее поэтому ничего не следует.
Но, взглянув на Альбину Афанасьевну, он вдруг подумал: а не забрала ли она внучку, чтобы позволить дочери так именно себя вести, чтобы освободить ее от забот, дать повеселиться, как в свое время повеселилась, наверное, она сама, ну, а уж заодно найти себе нового мужа, получше, чем какой-то там инженер. А если все это так, то появление работника милиции может Альбине Афанасьевне очень не понравиться, насторожит ее, и никакого откровенного разговора не получится. По той же причине, пожалуй, не следует рекомендоваться и работником треста ресторанов. Альбина Афанасьевна и в этом случае начнет всячески выгораживать дочь и многое при этом скроет. Нет, внешность этой еще вполне привлекательной женщины не внушила Вале доверия.
Поэтому, когда она открыла ему дверь, Валя с простодушной улыбкой спросил:
— Извиняюсь, вы будете Альбина Афанасьевна?
— Да, — улыбнулась та в ответ.
— Вы уж извините, — смущенно сказал Валя, — вот Колю ищу, дружок я его.
Женщина удивленно посмотрела на него.
— Какого Колю?
— Ну как же. Они с Музой дружат.
— А-а. Господи, совсем забыла, — засмеялась Альбина Афанасьевна и махнула рукой. — Какой, думаю, Коля. Ну, проходите. Через порог не разговор.
— Спасибо. Я вообще-то на минутку.
Денисов, однако, зашел в небольшую переднюю, снял пальто, шапку, пригладил рукой волосы. Альбина Афанасьевна пригласила его в комнату. Видно было, что неожиданный гость ее заинтересовал.
— Тут внучка только спит, вы уж потише, — предупредила она.
— Так, может, на кухню пройдем? — предложил Валя.
— Ну давайте.
В чистенькой и светлой кухне Валя почувствовал себя свободнее.
— Вот приехал в Москву, ищу Колю, — сказал он, присаживаясь возле стола. — У Музы был. Мне Коля ее адрес написал. А соседка говорит, не ночевала. И к вам послала. Ну, я приехал. Уж извините.
— Да ничего, — махнула тонкой рукой Альбина Афанасьевна, и маленькая складка возникла у нее между бровей. — Только ведь и я не знаю, где она, Муза.
— А Коля? — простодушно спросил Валя.
Альбина Афанасьевна засмеялась и отбросила прядку темных волос со лба.
— Ну, уж за ним-то мне с какой стати глядеть? Я и не знаю-то его вовсе. Мало ли у Музы приятелей. Да и Муза не охотница их мне представлять.
Она вздохнула.
— И даже не видели его? — удивился Валя.
— Раз видела. Приехала к Музе, ну и застала.
— Он парень-то ничего, видный. Даже очень заметный.
И неизвестно, чего было больше в Валином тоне, одобрения или осуждения.
— Видный-то он видный, — вздохнула Альбина Афанасьевна. — Только Музе надо теперь заново жизнь строить. А для этого одного вида мало, — она смотрела в сторону, словно рассуждая сама с собой. — Тут солидность нужна, положение. Ведь и Муза не девочка уж. Тоже должна соображать, где лучше, где глубже. Вот Гвимар Иванович, он же озолотить ее может.
— Он что, принц, ваш Гвимар Иванович? — насмешливо спросил Валя.
— Принц не принц, а денег, видать, побольше, чем у любого принца, отрезала Альбина Афанасьевна и добавила: — Вон кольцо ей подарил. Три камня. Цены ему нет.
— Всему есть цена, — вздохнул Валя. — Мы только о ней иной раз не догадываемся.
— А тут и догадываться нечего. Муза снесла и оценила. Ей с ходу три тысячи дали. Это в государственном. А если с рук?
— Ого! Так и подарил? За красивые глаза?
— Как раз. Ваш брат за красивые глаза подарит, жди. Расчет у него. Жениться хочет. Он Музе еще на цветной телевизор дал. Только велел в рассрочку брать. Я сама уже вчера съездила, оформила. Чего ждать-то?
— Ну, и что Муза?
— Что? Смеется, дурочка. А могла бы…
— Коля тоже копейку имеет, — счел своим долгом вступиться за мнимого друга Денисов. — Какую ей дубленку отхватил, а?
— Эх, — снова вздохнула Альбина Афанасьевна. — Вот Гвимар Иванович ей и сказал: «Учти, то, что Коля имеет, это гроши по сравнению с тем, что я имею». Да он захочет, так ей дом подарит, не то что дубленку. Да еще со всей обстановкой.
— Откуда же он столько имеет?
— Откуда? А зачем это нам знать? Меньше знаем, спокойнее спим. Такое правило есть, мальчик. На все случаи. Запомни.
«Эге, — подумал Денисов. — Во всем этом деле появляется какой-то новый мотив. Кто же такой этот Гвимар Иванович, интересно знать».
— Да, — согласился он. — Жизнь, конечно, надо устраивать.
— Вот и я считаю, — подхватила Альбина Афанасьевна. — И потом, у ней же дочка растет. Нельзя ей — без отца. Уж я-то знаю, помучилась.
«И пожила в свое удовольствие тоже», — почему-то подумал Валя.
— Это конечно, — солидно согласился он и, не удержавшись, добавил: — У Коли вон тоже дочка бегает дома. В школу пошла.
— Ну вот! — внезапно вскипела Альбина Афанасьевна, и лицо ее сразу стало злым и усталым. — Говорила же я! И жена, конечно, осталась, верно?
— Ну, — нерешительно произнес Валя. — Само собой.
— Дура! Просто дура, и все! — в сердцах произнесла Альбина Афанасьевна.
— Ну, не поставишь же свою голову, — она осторожно, мизинцем, чтобы не размазать краску, промакнула уголки глаз и, вздохнув, сказала: — А вам уж и не знаю, чем помочь. Где их обоих носит, никакого понятия не имею. Где спят, где гуляют. Ах да! Она же вчера днем звонила. «Скажи, говорит, Нине, если позвонит, — это подружка ее, — что я у тебя ночевала». — «А ты где, спрашиваю?» — «А я, говорит, мамуля, далеко. Завтра вернусь». Вот и все.
— А как же на работу?
— Им же через день. Вот сегодня и должна быть на работе. Господи, я и забыла совсем. Вы ей на работу позвоните. Или нет, я сама!
Какое-то беспокойство охватило ее вдруг.
Альбина Афанасьевна легко вскочила со стула и побежала в коридор, где был телефон. Валя остался сидеть, чутко прислушиваясь к доносившемуся разговору.
— Музу Леснову, пожалуйста, — попросила Альбина Афанасьевна. — Как так — нет?.. — переспросила она упавшим голосом. — Ну, мать говорит… Откуда же я знаю?.. — И вдруг сорвалась на крик: — Взрослая она, взрослая! Я ее за ручку не вожу!.. Коллектив называется!.. Плевать вам на всех! Плевать!..
Она просто задыхалась от боли и ярости.
Денисов кинулся в коридор и стал отнимать у нее трубку. Но Альбина Афанасьевна не отдавала и все кричала в полном исступлении, кричала, хотя из трубки уже неслись короткие, равнодушные гудки.
— …Плевать!.. Уроды!.. Сволочи!.. Что вам она!..
В комнате заплакал ребенок. Тогда Альбина Афанасьевна швырнула трубку с такой силой, что Валя еле успел ее подхватить, и с воплем кинулась в комнату.
— Сиротиночка моя!.. Брошеная!.. Всеми брошенная!.. Господи-и, жизнь эта проклятущая!..
В ту же минуту она выскочила обратно, держа ребенка в руках, голые ножки болтались из-под ее руки. Вид у нее был совершенно безумный, накрашенные губы тряслись, в расширенных глазах стояла какая-то злобная растерянность. Она пронзительно на одной ноте кричала:
— Идем!.. Искать идем!.. Гадину нашу!.. Сволочь!.. Тряпку половую!..
Ребенок истошно кричал, извиваясь у нее в руках.
— Успокойтесь… Альбина Афанасьевна… Нельзя же так… — говорил Денисов, безуспешно пытаясь ее удержать или хотя бы взять ребенка.
Он был совершенно ошеломлен всем происшедшим.
— А-а-а!.. Гадина!.. Где она?!. Где?!. — кричала Альбина Афанасьевна, продолжая метаться по передней и комнате в поисках каких-то вещей.
И тогда Валя вдруг сам крикнул несвойственным ему тонким, каким-то пронзительным голосом:
— Тихо!..
Альбина Афанасьевна внезапно умолкла, испуганно поглядела на него и начала медленно сползать по стене на пол, крепко прижимая к себе утихшего ребенка. И уже на полу, съежившись в комок, безудержно разрыдалась. Припадок кончился.
Денисов облегченно вздохнул, забрал из ее рук ребенка, отнес в кроватку, укрыл и тут же вернулся в переднюю. Там он поднял с пола Альбину Афанасьевну, отвел ее на кухню, и она тяжело опустилась на стул, всхлипывая и что-то бормоча. Прошло несколько минут, прежде чем она пришла в себя и уже осмысленно посмотрела на Валю.
— Часто это с вами бывает? — жестко спросил он.
— Когда сил больше не хватает… я ее ненавижу… Она мне всю жизнь искалечила… и вон ей тоже калечит, — Альбина Афанасьевна кивнула в сторону комнаты, где спала девочка, и сквозь стиснутые зубы повторила: — Ненавижу…
— Между прочим, это ваша дочь, — заметил Валя с неприязнью.
— Будь она проклята! Не дочь она мне! Змея, вот она кто!
— Сами такую воспитали. Еще и пример, наверное, подавали.
— А что? Если эта тварь появилась, так мне уже…
— Хватит, — оборвал ее Валя. — Сами не слышите, что говорите. Лучше подумайте, где она сейчас может быть со своим Колей, у кого? Подумайте же, — повторил он с силой. — Найти их надо.
Альбина Афанасьевна умолкла, обиженно поджала губы, потом вяло убрала падавшие на лоб волосы, провела ладонями по щекам, словно смывая с себя что-то, и задумчиво сказала:
— Вот Нине не звонила. Может, она знает, где они. А я так ума не приложу, честно вам говорю. — И с вновь накипающей злостью добавила: — И не хочу знать. Не хочу. И видеть ее тоже не хочу. Пропади она пропадом, тварь…
— Ладно, — сказал Валя устало. — Я пошел.
В передней он медленно оделся. Альбина Афанасьевна осталась на кухне. Он крикнул ей «до свидания» и вышел на лестницу. Тут только Валя почувствовал, как он устал. Но следовало немедленно ехать в ресторан и повидать Нину. Его вдруг тоже охватила тревога. Надо искать эту чертову девку. Уж не случилось ли чего-нибудь с ней?
Денисов опять спустился в метро, долго несся в грохочущем, полупустом вагоне, потом вышел, поднялся по длиннейшему эскалатору на поверхность, на улице торопливо подбежал к остановке троллейбуса и стал в короткую очередь. Вообще-то говоря, надо было бы что-то перекусить, даже под ложечкой начало сосать. Да и передохнуть бы не мешало. Но Валю уже било какое-то лихорадочное нетерпение.
Вначале он думал только о том, чтобы получить хоть какие-нибудь сведения о Музе. Мысли были деловые и четкие. Но по мере приближения к цели своей поездки Денисов стал вдруг помимо воли ощущать какое-то радостное возбуждение.
Он соскочил с троллейбуса и, торопливо перебежав улицу на красный глаз светофора, оказался наконец возле ресторана.
Зайти и сначала пообедать? Но Валя немедленно отверг эту малодушную мысль. Потом, потом. А может быть, Муза уже на работе? Проспалась после ночной гульбы и явилась? Мамочка ей цену знает, между прочим. Да и самой мамочке такая же цена, если на то пошло.
Директора на месте не оказалось, но Денисова тут уже знали, и потому он спокойно расположился в директорском кабинете, после чего пригласил к себе Нину.
Девушка прибежала почти мгновенно и, прикрыв за собой дверь, еще не отдышавшись, сказала:
— Ой, как хорошо, что вы пришли.
— У вас что-нибудь случилось? — немедленно встревожился Валя.
— Нет, нет, у меня все в порядке, — не то извиняясь, не то успокаивая его, поспешно ответила Нина. — Но вот… я хотела посоветоваться… Я что-то ничего не понимаю… А мне показалось, вы так внимательно отнеслись…
Нина сидела перед столом, опустив глаза и пытаясь преодолеть смущение.
— Что же все-таки случилось? — уже спокойнее поинтересовался Валя.
— Помните, я вам рассказывала о своей подруге, Музе?
— Ну да, да, конечно, — Валя снова заволновался.
Как только он зашел в ресторан, то сразу спросил о Музе и узнал, что та на работе так и не появилась. Впрочем, ему тут же сообщили, что с ней это случается не в первый раз, как порой и с другими. Кто сам заболеет, у кого ребенок заболеет или что-нибудь случится дома. И сообщают, представьте, порой только на следующий день. Так отсутствие Музы ни у кого не вызывало тревоги или возмущения. А если бы Денисов сказал, что она и дома не ночевала, то это вызвало бы у всех только улыбку.
— Так вот, — волнуясь, продолжала Нина. — Сегодня Муза на работу не вышла, а час назад мне позвонила.
— Вам?! — невольно вырвалось у Вали.
— Ну да, — удивленно посмотрела на него девушка. — Мне. Прямо на работу позвонила. И вы знаете, что она мне сказала? «До свидания, говорит, Ниночка». И заплакала. Представляете?
— И все?
— Нет. Еще сказала, что на работу больше не придет. И вообще уезжает. Совсем. А куда, сама не знает. Вот что главное.
— Как это так, сама не знает? — недоверчиво спросил Валя.
— Вот так и не знает. Коля ее куда-то увозит. Она мне шепотом сказала — он, наверное, рядом где-то был, — что грозится убить, если она с ним не поедет. Говорит: «Представляешь? Жутко так любит».
— Да-а, — ошеломленно произнес Валя. — Выходит, час назад она еще была в Москве, еще не уехала?
— Ну конечно, — подтвердила Нина и с тревогой посмотрела на Валю. — Но что теперь делать, как вы думаете? Ведь я чувствую, она только из страха с ним едет. Я прямо не знаю, может быть, в милицию сообщить?
— А откуда она звонила, не сказала?
— Нет…
— И никаких вещей с собой она не берет разве?
— Вот я ей тоже сказала: «Возьми хоть что-нибудь с собой. А остальное я тебе потом пришлю». А она опять заплакала и говорит: «Коля не разрешает. Потом уж». Ну, просто какие-то оба ненормальные.
— Вы не знаете, почему этот Коля так срочно уезжает?
— Понятия не имею. И как он смеет…
— Ниночка, одну минуту, — оборвал ее Валя и решительно взялся за телефон.
Время терять было нельзя, хотя присутствие Нины, конечно, осложняло предстоящий разговор. Но не выставлять же ее срочно из кабинета. Да и придавать какую-то особую секретность своему разговору тоже не следовало.
Валя торопливо набрал номер и сказал:
— Это Денисов. Федор Кузьмич у себя?.. Ага. — Он быстро нажал на рычаг и тут же набрал новый номер. — Федор Кузьмич?.. Это Денисов. Я из ресторана говорю. Напротив меня сейчас сидит подруга официантки Лесновой… Да, да. Она говорит, что Леснова ей час назад звонила. Увольняется с работы и уезжает из Москвы прямо сейчас. Какой-то, понимаете, Коля ее увозит и даже вещи взять не дает. Это уж черт знает что… Ничего не известно… Да, час назад были в Москве еще. Это же вопиющее нарушение дисциплины. Нет, директор еще не знает… Конечно, сам решит. Это я вам в порядке информации звоню, раз уж трест меня послал…
Валя с минуту еще напускал всякого «служебного» тумана и, наконец с облегчением положив трубку, строго посмотрел на Нину.
— Безобразие все это, — сказал он. — Начальство само в милицию позвонит. Ай да Муза! Мне Сергей Иосифович тоже о ней не очень-то хорошо говорил. Выходит, вполне объективен был, вот ведь что.
— Про него тоже не очень-то хорошо можно говорить, — обиженно произнесла Нина.
— Говорить все, конечно, можно, но тут факты вон какие, — возразил Валя. — А кстати, Муза вам ничего не говорила о некоем Гвимаре Ивановиче?
— Говорила…
— А что именно, если не секрет?
— Что он хочет на ней жениться. Что богатый очень. Кольцо ей подарил, цветной телевизор. Она помешана на всяких вещах, больше ничего этой дурочке не надо, — с досадой закончила Нина.
— Была бы помешана, так к Гвимару Ивановичу ушла. А она с Колей едет. Выходит, дело не в богатстве.
— Ой, да, конечно! Я же вам говорю: она боится его, вот и едет.
— А может, очень любит?
— Нет, боится. Я же по голосу поняла.
— Ну, а кто же такой этот Гвимар Иванович, где работает, не знаете?
— Он, кажется, тоже приезжий. В Москву в командировку приезжает, вот как этот Коля. На какую-то фабрику, что ли. Коля и его грозил убить. Он прямо как сумасшедший влюблен. Тут Муза нисколько не преувеличивает.
— Влюблен-то он, может быть, и влюблен, — с сомнением произнес Валя. — Но только тут что-то и еще есть. Впрочем, — спохватился он, — меня это не касается. Просто случай какой-то удивительный.
Он с опаской подумал, что Нина может его сейчас спросить, а откуда он, собственно говоря, знает этого самого Гвимара Ивановича, о котором он только что так неосторожно заговорил. И что в этом случае следовало ему ответить, Валя решительно не знал. О Гвимаре Ивановиче ему только что сообщил Кузьмич, сообщил на всякий случай, для ориентировки, а вовсе не для того, чтобы он вот так, сразу, бухнул свой дурацкий вопрос. Да, такой опрометчивости с Денисовым раньше никогда не случалось.
К счастью, девушка так была взволнована судьбой подруги, что не обратила внимания на странный вопрос, который ей задал инспектор из треста. Только бы она потом не вспомнила про этот вопрос.
Через минуту Денисов уже торопливо простился с Ниной и выскочил из ресторана, так и не успев там пообедать. Только на улице он подумал, что даже не условился с Ниной о новой встрече. Собственно, и повода для этого никакого не было. А просто так… На это Валя не решился. Впрочем, все эти сомнения лишь мелькнули у него в голове, оставив какой-то горький и беспокойный осадок на душе. И сразу же другие мысли захватили его, тревожные, лихорадочные, безотлагательные. Что случилось с Музой? Куда этот Чума увозит ее? И какую роль во всем этом играет таинственный Гвимар Иванович?
Денисов еще не знал, какие открытия ожидали меня в этот день.
Как только кончается оперативка у Кузьмича, я поспешно направляюсь в свою комнату и звоню Егору Ивановичу Савельеву, участковому инспектору, доброму моему знакомому, который знает интересующий меня район как свои пять пальцев. И мы уславливаемся о встрече.
Я преподношу Егору Ивановичу малоприятную новость: на его территории, видимо, произошло убийство. И он об этом даже не знает, вот еще в чем заключается для Егора Ивановича дополнительная неприятность. Ведь это уже получается серьезная промашка в работе. Он же знает всех людей в округе, и, чтобы никто ему ничего не сказал, такого еще не бывало. Тем более, не о пустяке речь и даже не о драке, не о краже какой-нибудь. Случилось-то самое страшное — убийство! Это же всех должно было взволновать и породить массу всяких разговоров, и хоть один из них, но непременно, дошел бы, как было это всегда, до Егора Ивановича. А тут все глухо, ничего он знать не знает, вот что удивительно и вот в чем конфуз. Поэтому в такой ситуации первым желанием всякого на месте Егора Ивановича было бы, конечно, убедить меня, что я ошибаюсь, что никакого убийства вообще не было. Мало ли что, в самом деле, этот Леха мог наболтать.
Но Егор Иванович, во-первых, человек опытный и безусловно добросовестный. И этот его многолетний опыт работы именно участковым инспектором — самое, пожалуй, чуткое, самое «всепроникающее» и потому особо ответственное звено милицейского аппарата, — опыт этой работы, повторяю, подсказал Егору Ивановичу, что всякое бывает в этой суетной жизни. Порой случается даже самое, казалось бы, неправдоподобное, чего и не придумаешь, очень уж многолика, пестра и неохватна жизнь. Особенно если ты отвечаешь за такую тонкую, даже зыбкую область, как человеческие отношения и поступки, где за всем уследить, все понять и, что надо, исправить, предупредить — очень даже непросто. И потому добросовестный Егор Иванович честно признает возможные тут промашки.
Ну а во-вторых, он прекрасно понимает, что уговорить меня дело бесполезное, а придется свое мнение доказать.
Словом, я не успеваю со вкусом выкурить даже первую сигарету, как обеспокоенный Егор Иванович начинает уже меня теребить. Мы выбираемся из его теплой служебной комнаты и, продуваемые свирепым ледяным ветром, отправляемся «обходом» по заснеженным дворам и переулкам его путаного участка. При этом я даю Егору Ивановичу имеющиеся у меня ориентиры. В искомом дворе находится ряд сараев, на одном из которых сбита замочная петля. Ворота в этом дворе недавно окрашены в зеленый цвет. А со двора видна находящаяся, видимо, недалеко Елоховская церковь. Наконец, дом, выходящий подъездом в этот двор, имеет не меньше трех этажей, так как, по словам того же Лехи, человек, которого они с Чумой поджидали, спустился во двор именно с третьего этажа.
Мы заходим в один двор, второй, третий, скользим по обледенелым буграм, проваливаемся в наметенные ветром сугробы, чертыхаемся и бредем дальше. В некоторых дворах мы осматриваем сараи, дергаем замки, кое-где они срываются с петель, и Егор Иванович берет эти сараи на заметку. В застывших его пальцах карандаш еле пишет и выводит немыслимые каракули.
Егор Иванович не такой уже молодой человек, ему, мне кажется, лет пятьдесят уже. На вид он щуплый, невысокий, движения у него порывистые, энергичные. У него костистое, со впалыми щеками, бритое лицо, из-под шапки видны седые виски, глаза все время как бы прищуренные, а сейчас, на ветру, даже слезятся, добрые глаза, в сетке морщинок, я бы даже сказал, располагающие глаза, вызывающие доверие. Милицейская форма очень ладно сидит на нем. Форму ведь тоже надо уметь носить, некая, я бы даже сказал, культура требуется, чтобы выглядеть в ней красиво, браво, элегантно даже. Как в армии мы нашу воздушно-десантную форму носили, любо-дорого смотреть было. Хорошая форма, я вам скажу, не только украшает и отличает, она придает вам особое самочувствие, прибавляет бодрости, ловкости, уверенности в себе. Психологический, моральный, даже чисто физический эффект формы нами, мне кажется, еще недостаточно изучен.
Так вот, Егор Иванович, несмотря на отнюдь не гренадерский рост и отнюдь не юношеский возраст, выглядит удивительно подтянутым, ладным каким-то и заставляет всех окружающих с уважением, а кое-кого и с опаской смотреть на свой милицейский мундир. Впрочем, пока мы пробираемся среди дворовых сугробов, смотреть на нас особого интереса не представляет, да и некому особенно смотреть, ибо даже ребятишки в большинстве своем еще не вернулись из школы, а мороз так щиплет, что взрослые, не задерживаясь, бегут через двор домой и разглядывать нас ни у кого охоты нет.
Пока что ни в одном дворе, куда мы заходим, не обнаружили мы всех необходимых признаков, хотя по отдельности они то и дело встречаются, кроме, пожалуй, зеленых ворот. Главный этот признак, на который я особенно надеялся, начинает внушать все большее недоверие. В самом деле, кто это среди зимы будет вдруг красить ворота? Чушь какая-то!
— Нет тут таких, что я не знаю? — сердито ворчит Егор Иванович. — Придумал твой Леха.
Но я все же с тайной надеждой поглядываю на каждые ворота, мимо которых мы проходим. А вдруг? Ну, ведь всякое же бывает, в конце концов.
Некоторые дворы мы особенно внимательно осматриваем, изучая все сараи, подъезды, повороты, закоулки. Ничего, однако, подходящего мы так и не обнаруживаем. И настроение у меня постепенно падает. Может быть, Леха и в самом деле все наврал? Вполне ведь может быть.
Вот еще один двор. Тесный, как все дворы здесь. Четырехэтажный кирпичный дом выходит в него двумя подъездами. В глубине, за детской площадкой с грибками, скамеечками и невысокой снежной горкой, виден ряд сараев. За крышами окружающих двор невысоких домов виден купол Елоховской церкви. Мы обходим двор, внимательно изучаем сарай за сараем. Нет, все там цело, замки намертво схватили ржавые, крепкие скобы. Не тот двор, явно не тот. Если «тот» вообще существует…
Выбираемся в узкий, заваленный снегом переулок с одной глубокой, разбитой колеей посередине. На кривом тротуаре, где вытоптана лишь скользкая тропка, идти рядом нельзя. Егор Иванович идет первым, я за ним. И говорю ему в спину, то и дело скользя и взмахивая для равновесия руками:
— Только не пропусти чего, Егор Иванович.
— Не бойся, не пропущу, — хрипит он, не оглядываясь.
— Остались еще подходящие дворы?
— А то. Их за неделю все не осмотришь. А мы с тобой и трех часов не ходим.
— Больше трех.
— Один черт…
И вдруг мы одновременно останавливаемся и переглядываемся. Перед нами залепленные снегом зеленые железные ворота. И краска как будто недавняя, затеки возле металлических выступов свеже поблескивают. За воротами темнеет короткий проем, и дальше виден двор. Ворота приотворены и схвачены цепью. Пройти можно легко, даже очень полному человеку.
Егор Иванович озадаченно разглядывает ворота и говорит:
— Откуда они, черти, взялись? Неужто среди зимы нашлись умники, покрасили? И ведь за снегом не видно, вон как обледенели. Все же как они мимо внимания моего прошли, не пойму. Ну, ну…
Он с досадой качает головой.
— Что ж, зайдем? — спрашиваю я.
— Сто раз тут был, — сокрушенно продолжает Егор Иванович, явно не слыша моего вопроса. — Форменным образом сто раз. Квартирная кража тут два дня назад случилась. Ну, подумай. А ворота мне и ни к чему. Стареть стал, ей-богу, стареть.
— Давай зайдем, — снова предлагаю я.
— Ясное дело, зайдем, — торопливо соглашается пристыженный Егор Иванович. — А как же? Непременно зайдем. Ах ты боже мой…
Мы легко протискиваемся в воротную щель, минуем полутемную подворотню и выходим во двор. Он, как и все дворы в этой старой части города, невелик и причудлив по своей конфигурации, с какими-то выступами, узкими проходами, тупиками, сараями, глухими кирпичными брандмауэрами соседних невысоких домов. Но один из домов, старый, пятиэтажный, выходит во двор своим единственным широким подъездом. Серый фасад украшен какими-то лепными изображениями. Непривычно большие окна схвачены причудливым переплетом рам.
В тесном дворе, возле трех или четырех могучих кривых деревьев, все же разместилась скромная детская площадка. Возле снежной горки возятся двое ребятишек в одинаковых шубках и шарфах, отнимая друг у друга санки. Рядом, на скамеечке, сидит закутанная в платок женщина и читает книгу, не обращая внимания на ребячий обиженный визг.
Мы медленно обходим двор. Я отмечаю про себя пока что и старый пятиэтажный дом с его подъездом, и то, что с этого двора прекрасно виден недалекий купол Елоховской церкви, а также… впрочем, к сараям надо подойти поближе. Всего их четыре. Нет, пять. Стоят они неровным рядом возле глухой кирпичной стены какого-то дома, выходящего фасадом в соседний двор. Один сарай повыше, другой шире, третий выступает вперед. На всех, конечно, висят замки, один прямо-таки пудовый, старинный, словно от купеческих лабазов оставшийся.
Подходим ближе, и я убеждаюсь, что на всех сараях замки на месте и скобы тоже и взламывать их никто как будто не собирался.
— М-да, — качает головой Егор Иванович. — Скажи на милость. Вроде бы все сошлось, а вот на тебе, замочки, видать, целы…
Но в тоне его я не улавливаю никакой досады, наоборот, в нем сквозит даже некоторое облегчение. Я Егора Ивановича, конечно, вполне понимаю. Но… Леха не мог придумать такой двор, с этими зелеными воротами, церковью, сараями… Не мог. Тут я убежден.
Я подхожу к крайнему из сараев и с силой дергаю замок. Еще раз. Потом пытаюсь его выкрутить, повернуть. Все напрасно. Замок держит надежно. Тогда я перехожу к следующему сараю. Хватаюсь за замок. То же самое. Как я ни стараюсь, замок остается на месте. И третий сарай оказывается запертым так же крепко. Но четвертый…
Тот самый громадный, поистине амбарный замок, который я заметил еще издали, вдруг под легким нажимом вместе с одной из петель отваливается в сторону. Я на секунду даже застываю от неожиданности и стараюсь унять волнение. Егор Иванович за моей спиной тихо ойкает. Я оглядываюсь и как можно спокойнее говорю:
— Оставайся, Егор Иванович. Обожди тут. Поохраняй. А я, пожалуй, пойду позвоню.
— Не сомневаешься, выходит? — упавшим голосом спрашивает он.
— Не сомневаюсь, — говорю я и иду звонить.
…Через полчаса двор наполняется людьми. Дежурная оперативная группа нашего управления, следователь прокуратуры, ребята из районного отделения, понятые. Поодаль толпятся жильцы соседних домов и, конечно, вездесущие мальчишки, которых загадочный телеграф созвал, кажется, со всей округи. Их внимание больше всего привлекает наш огромный красавец Марс, он сидит смирно возле проводника, вывалив набок красный язык и щурясь от солнца. Кажется, и он понимает, что вряд ли ему тут будет работа, события разыгрались три дня назад, и все следы давно, конечно, утеряны.
Тем временем мы открываем дверь сарая и, светя фонарями, начинаем осмотр. И наконец, в углу, за грудой досок, я обнаруживаю тело. Человек лежит в неестественной позе, с задранной брючиной, подвернув обе руки под себя. Он в расстегнутом зимнем пальто, без шапки. Синее, в пятнах лицо, остекленевшие глаза, черные волосы прилипли к мраморно-белому, в прожилках лбу. Фотограф делает нужные снимки, затем тело выносят на середину сарая, над ним нагибается врач, рассматривает что-то, потом безнадежно машет рукой и говорит следователю:
— Видите сами. Два удара ножом. И мгновенный летальный исход. Завтра получите подробное заключение. Можно увезти?
— Минуту еще, — говорит следователь и оборачивается ко мне: — Осмотрите, Виталий, его одежду. Внимательно только. Я сейчас протокол закончу.
Да, его не ограбили. Все оказывается на месте — бумажник, кошелек, часы, всякая карманная мелочь. Я все это передаю подошедшему снова следователю. Убитому на вид лет сорок пять, сквозь черные волосы уже проглядывает лысина, смуглое лицо, одет добротно, дорогой меховой воротник на модном пальто, красивый темный костюм, сорочка, галстук, ботинки — все дорогое, все самое модное. Куда он собирался, этот человек в тот вечер? На прием? В гости? В театр? За что его убили? Кто велел это сделать? Как всегда, тысяча вопросов окружает нас в этот момент. И ведь симпатичное лицо. Впрочем, было симпатичным. Нет, невозможно смириться с убийством в мирное время, в мирном городе…
— Какое странное имя, — говорит следователь, рассматривая бумаги убитого. — Гвимар. Слыхали такое имя когда-нибудь? Гвимар Иванович Семанский.
Действительно странное имя. Испанское, что ли? Откуда оно у русского человека может взяться? Кто были родители, давшие такое странное имя? Кто был сам этот человек? Да, это сейчас главный вопрос.
Тем временем тело увозят в морг. Все документы остаются у следователя. Эксперт и оперативники заканчивают осмотр сарая. К сожалению, он ничего не дал, никаких следов, будто ветром убитого задуло в этот проклятый сарай.
Следователь прощается со мной и, взглянув на часы, предлагает:
— Давайте в восемнадцать часов у Федора Кузьмича. Все там обсудим.
— Хорошо, — говорю. — А я тут пока еще покручусь.
— Правильно, — соглашается следователь. — Попробуйте установить, между прочим, откуда он вышел, этот человек, из какой квартиры.
— Именно, — киваю я.
И вот, в конце концов, мы снова остаемся вдвоем, Егор Иванович и я.
Проводив взглядом последнего из уходящих, исчезнувшего в черном проеме ворот, Егор Иванович сокрушенно вздыхает, бросает недокуренную сигарету в снег и машинально придавливает ее каблуком, потом обращается ко мне:
— Знаешь, чего скажу?
— Чего?
— На другой день, как его убили, — Егор Иванович кивает в сторону ворот, куда не так давно унесли труп, — вот тут крупнейшую кражу залепили, — он указывает на окно стоящего во дворе дома.
— Какой этаж? — невольно настораживаясь, спрашиваю я.
— Третий. А что?
— И Семанский в тот вечер спустился с третьего этажа. Когда они его во дворе ждали. Леха сказал.
— Что ж он, по-твоему, из той квартиры непременно шел?
— Кто его знает, — я пожимаю плечами и в свою очередь спрашиваю: — Кто там живет, в той квартире, знаешь?
— Само собой. Как не знать. Я уж после кражи раза два, считай, побывал там. Значит, так. Сам на фабрике работает. Начальник отдела. Солидный товарищ. Персональная машина у него. Ну, и собственная, конечно, имеется. Фамилия Купрейчик, зовут Виктор Арсентьевич. Ну, а жена — доктор, молодая еще.
Егор Иванович умолкает.
— Все? — нетерпеливо спрашиваю я.
— Все, — кивает Егор Иванович. — Двое их, значит, осталось. Ну, у него, правда, еще семья. Но та не в счет. Он с этой законно.
— Ты говоришь, осталось двое. А сколько же их было?
— А недавно еще трое было. Батюшка ее еще. Его квартира-то. Знаменитый профессор, академик. Тоже по медицине. Фамилия Брюханов, не слыхал?
— Слыхал.
— От батюшки небось?
— Ну да.
После того как отец смотрел в госпитале тяжело раненного Игоря, а потом еще двух или трех наших ребят, многие уже знают, кто он у меня, и я чуточку горжусь, а больше, пожалуй, мне неловко от этой популярности.
— Ну, ясное дело, — кивает Егор Иванович. — По одной линии работали. Но Брюханов-то все же академик. После него знаешь сколько осталось. Одних картин не сосчитать.
— Давай-ка уточним, — говорю я. — Кража, значит, когда была?
— Двадцать первого, в среду. А сегодня у нас пятница.
— Так. А убийство, по словам Лехи, произошло во вторник, вечером. Неужели одна и та же группа? Чем же им этот Гвимар Иванович помешал?
— Надо работать, — опять вздыхает Егор Иванович. — Так разве скажешь, чем да почему?
— Сейчас в ту квартиру идти, наверное, бесполезно? — спрашиваю я. — Небось на работе хозяева-то. Как думаешь?
— Кто их знает…
— Давай на всякий случай зайдем, — решаю я. — Все-таки шестой час уже. Его, значит, Виктором Арсентьевичем зовут. А супругу как, не знаешь?
— Инна Борисовна. А фамилию отца оставила. Брюханова, значит.
— Знаменитая фамилия, — киваю я. — Гордиться надо.
Все время, пока мы ведем этот спокойный деловой разговор, я не могу отделаться от мысли, которая не дает мне покоя, просто жжет меня: значит, все-таки убили… Не врал Леха, не хвастал. Убил… Как рука поднялась? Какая должна быть пустая душа, какое тупое равнодушие к людям, к человеческой жизни. Откуда это берется? Человек кричит, а он не чувствует его боли. Вот за себя он, гад, боится, себе плохого не хочет, себе небось желает всех доступных его пониманию радостей. Ну, держись, Леха, держись. Убил ты все-таки человека. Так тебе это не пройдет, не может пройти. И тебе, Чума, тоже… Тебе особенно…
Мы заходим в темный подъезд, и старенький лифт с усилием тащит нас на третий этаж. У высокой, тяжелой двери, аккуратно обитой квадратами красивого дерматина, как спинка кожаного дивана, с медной, слегка потемневшей от времени табличкой «Профессор Б. К. Брюханов» я кручу старинный звонок, и он надсадно, с усилием верещит за дверью. Мы прислушиваемся. Я уже собираюсь снова приняться за работу, когда до нас доносятся чьи-то шаги и женский голос испуганно спрашивает:
— Кто там? Кого вам надо?
— Это я, Инна Борисовна, участковый ваш Савельев, — говорит успокаивающим тоном Егор Иванович. — Откройте, пожалуйста.
Звякает замок, дверь приоткрывается, но она на цепочке. Из-за двери выглядывает настороженное женское лицо. Узнав Егора Ивановича, женщина кивает ему и, сбросив цепочку, распахивает дверь.
— Пожалуйста, — говорит она. — Входите.
Теперь я могу ее разглядеть. Очень высокая и полная, она кажется старше своих лет. А лицо узкое и как бы породистое, что ли, заносчивое какое-то, тонкий рот почти без губ, длинный, крючковатый нос с нервными дугами ноздрей, пышные рыжеватые волосы небрежно собраны на затылке. Словом, малосимпатичная женщина, на первый взгляд во всяком случае. На ней строгий, темный костюм с белым отложным воротничком и белыми отворотами на рукавах вместо манжет.
Женщина проводит нас через переднюю в большую комнату. Старинная, громоздкая и резная мебель вокруг — диван, стулья, шкаф, круглый стол, старинная бронзовая люстра низко над ним, много картин на стенах.
— Уж извините, Инна Борисовна, — говорит Егор Иванович, когда мы усаживаемся возле стола. — Надоели мы вам, конечно. Но вот товарищ из уголовного розыска хочет вас кое о чем спросить.
— Пожалуйста, — она терпеливо и устало смотрит на меня.
— Вы знаете Гвимара Ивановича Семанского? — спрашиваю я.
— Да, конечно, — кивает Инна Борисовна. — Он бывает у нас. Он сослуживец мужа. Вернее, он приезжает в командировку на фабрику, где муж работает.
— Когда он последний раз был у вас?
— Последний раз?.. — Она задумывается. — Кажется… во вторник. Да, да. А на следующий день случилась эта ужасная кража.
— Долго он у вас был?
— Как всегда, часов до одиннадцати. Сначала пили чай. Потом они с мужем перешли в кабинет. Какие-то служебные дела обсуждали.
— Гвимар Иванович был спокоен?
— Как будто. Смеялся. Ах да, — она слабо улыбнулась. — Сообщил, что жениться собрался.
— Кто же невеста, он сказал?
— Нет. Сказал только, что дорого ему досталась, — она снова еле заметно улыбается неохотной какой-то, вялой улыбкой.
— Есть у него в Москве еще знакомые, не знаете?
— Не знаю. Наверное. Я их… Ах, нет. Однажды видела одного. Они с Гвимаром Ивановичем стояли в нашем дворе. Это с неделю назад было. Стояли и спорили. Даже, мне кажется, ссорились. Гвимар Иванович меня тогда не заметил.
Я вынимаю из кармана несколько фотографий. Перед самым отъездом из управления мне вручили фотографии Чумы и Лехи. Их дела отыскали по оставленным ими отпечаткам пальцев. Наши компьютеры работают, как и всюду, мгновенно. И вот теперь я могу показать фотографии этих двух подлецов, среди нескольких других, конечно, и спрашиваю Инну Борисовну:
— Вы не узнаете здесь человека, который говорил с Гвимаром Ивановичем?
Она внимательно рассматривает фотографии и качает головой:
— Нет. Тут все молодые люди. А тот был пожилой. Очень неприятное у него лицо.
— Когда люди ругаются, у них всегда неприятные лица, — замечаю я. — Вы можете мне это лицо описать?
— Постараюсь. Очень приблизительно, конечно. Красное лицо, седые усики, щеточкой. Потом тяжелые такие мешки под глазами. У него, наверное, больные почки. Ужасно они с Гвимаром Ивановичем ссорились. Поэтому Он меня, наверное, и не заметил. А вот я заметила, что за ними наблюдает какой-то человек. Из подворотни. В кепке, кашне зеленое, худой такой.
— Кто-нибудь из этих? — Я снова тянусь к фотографиям.
— Нет, нет. Совсем другой. Я мимо него прошла. Очень внимательно он наблюдал. Я даже забеспокоилась, помню.
Да, это уже совсем непонятно. Словно вокруг квартиры покойного академика кружило в эти дни сразу несколько преступных групп. Странный какой-то узел завязался тут.
За окном уже стемнело. Мы прощаемся.
Глава 4
СТРАННЫЕ СОБЫТИЯ ВО ДВОРЕ ОДНОГО ДОМА
Кражей на Басманной занимается группа из другого отдела во главе с Пашей Мещеряковым. Я к нему заглядываю, как только прихожу утром на работу, и мы уславливаемся о встрече у нашего Кузьмича сразу же после оперативки в отделах. Кузьмич велит Вале и Пете Шухмину тоже явиться к нему. Он уже в курсе наших вчерашних открытий и всяких предположений и планов в связи с этими открытиями. Словом, собирается небольшое оперативное совещание, хотя Кузьмич таких слов не любит и предпочитает говорить: «Заходите, кое-что обмозгуем». Вот мы и собираемся «обмозговывать» странное преступление на Басманной.
Паша, скромный, немногословный паренек в неизменном синем костюме, голубой рубашке и ярко-синем галстуке — за что мы его прозвали, а так же еще и за молчаливость «небесным Пашей», — информирует нас о положении дел с той квартирной кражей. Все сообщаемые им факты мы сразу же «примеряем» к Лехе, Чуме и к их возможным сообщникам. Хотя объяснить при этом, зачем им понадобилось в ходе подготовки к краже убивать какого-то Гвимара Ивановича, пока совершенно невозможно. Однако то обстоятельство, что он тоже приехал из Южноморска, позволяет предположить, что Гвимар Иванович может быть знаком с членами шайки и даже находиться с ними в каких-то отношениях.
Остается также и версия, что убийство организовал или спровоцировал Чума из ревности, ведь у Гвимара Ивановича были, кажется, самые серьезные намерения в отношении Музы. Впрочем, из слов ее матери получается, что Гвимар Иванович тоже знал Чуму, даже куда лучше, чем знала его Муза. Наконец, и сам Гвимар Иванович нам пока далеко не ясен и весьма подозрителен, вспомним хотя бы его подарки Музе. Так что между ними могли существовать и всякие другие отношения, кроме ревности.
Итак, Паша Мещеряков рассказывает нам о той краже, перечисляет, что взято ворами. И тут мы отмечаем, что отбор картин произведен весьма квалифицированно, и это уже не под силу ни Лехе, ни Чуме, тут чувствуется иная рука. И у всех у нас одновременно почти возникает интересная мысль: а не могло ли так случиться, что именно Гвимар Иванович, будучи вхож в ту квартиру и к тому же достаточно образован, наметил вещи для кражи, сообщил все сведения о хозяевах квартиры, а потом был убит сообщниками, ибо потребовал львиную долю добычи?
— Пока что утверждать трудно, — как всегда, уклончиво говорит Валя Денисов. — Ведь не после кражи, а до кражи убили.
— Делили шкуру неубитого медведя, — смеется Шухмин.
— Очень даже возможно, — сердито возражаю я. — Сколько таких случаев уже было, ты вспомни. Добыча-то предполагалась богатейшая. Тут перегрызться уже заранее можно было.
— Ясное дело! — с энтузиазмом поддерживает меня Петя.
— Что дала работа по месту происшествия? — спрашивает Пашу Мещерякова Кузьмич. — Протокол осмотра у тебя? — он кивает на папку, которую принес с собой Паша.
— У меня, — отвечает Паша и раскрывает свою папку.
И тут мы узнаем весьма интересные факты. Во-первых, на месте происшествия, то есть в квартире, не оказалось следов пальцев посторонних лиц. Следовательно, то, что забыли сделать Леха и Чума в квартире художника Кончевского, их заставил кто-то сделать в квартире покойного академика Брюханова. Если, конечно, они вообще туда проникли. Но другие факты говорят, что они вполне могли туда проникнуть, вернее даже… Впрочем, вот эти факты. В прихожей, на полу, обнаружили окурок сигареты «Прима», которые курил Леха. И группа слюны на этом окурке совпала с Лехиной группой. Мы внимательно исследовали окурки, оставленные Лехой и Чумой в квартире художника Кончевского.
Но самым главным фактом — и тут мы, честно говоря, просто ахнули — оказался не окурок. В квартире на полу была найдена перчатка, принадлежащая… Кольке-Чуме. Коричневая перчатка, наполовину кожаная, а наполовину замшевая с металлической кнопкой и выступающими грубыми швами. Вторую такую перчатку я своими глазами видел у Чумы, когда мы вышли за сигаретами в переднюю. У меня их в пальто не оказалось, а Чума достал из кармана своего пальто сначала такую вот перчатку и, выругавшись, сказал, что где-то потерял вторую, а потом и пачку сигарет. Да, теперь уж сомнений не оставалось, теперь уже даже Кузьмич, я вижу, поверил в мою версию. Раз кражу совершили Чума и Леха из той самой квартиры, где бывал тоже весьма подозрительный Гвимар Иванович, то конфликт вполне мог возникнуть у них из-за дележа украденного, это куда вероятнее, чем из-за Музы.
— Они его поджидали во дворе, пока он был в той квартире, — говорит Шухмин. — А потом он вышел, и тут произошла ссора.
— Нет, — возражаю я. — Леха мне намекнул, что кто-то велел им убить этого Гвимара Ивановича. И потом, тот седой во дворе…
— Ну, пока спор бесполезен, — говорит Кузьмич. — Пока мне кажется, что Лосев прав. Велели им убить. И тут не двое, тут, видать, банда действует.
Итак, банда Чумы, где, впрочем, он вовсе не был главарем, им, скорей всего, был тот низенький и седой, который спорил однажды во дворе с Гвимаром Ивановичем, — банда эта приехала в Москву и ограбила квартиру покойного академика. И вполне очевидно, что кто-то дал банде «подвод», навел ее на эту квартиру. В таком случае версия по Гвимару Ивановичу становится вполне реальной. Повторяю, он был вхож в этот дом и вполне мог определить ценность находящихся там картин и вещей.
Непонятной тут пока остается лишь одна деталь: кто мог следить за Гвимаром Ивановичем и седым толстяком, когда они ссорились во дворе? Деталь, казалось бы, пустяковая, тем более что, возможно, Инне Борисовне это просто показалось. И все же… Кузьмич наш любит говорить: «Маленькая деталь — это как на чертеже один малюсенький угол, если он не совпадает, то огромные многоугольники не подобны. А у нас в таком случае лопается самая распрекрасная версия». Впрочем, все в конце концов может объясниться и встать на место. Надо лишь как следует поработать, только и всего.
— Какие интересные связи еще установили у этой семьи? — снова спрашивает Пашу Мещерякова Кузьмич. — Кроме, значит, Гвимара Ивановича.
— Тысячу людей установили, — ворчит Паша.
Он как будто даже недоволен своими открытиями.
— А этого Гвимара Ивановича вы установили? — спрашиваю я.
— До него мы не добрались, — отвечает Паша.
— Ну, давайте разбираться, до кого вы добрались, — говорит Кузьмич. — Списки у тебя есть?
— А как же.
Паша достает списки, и мы углубляемся в работу.
Здесь указаны все родственники Инны Борисовны и Виктора Арсентьевича, все их друзья, сослуживцы, просто знакомые, все случайные посетители квартиры за последнее время — водопроводчик, столяр-краснодеревщик, служащая прачечной, доставщик заказов из гастронома, врач поликлиники, лечивший простудившегося Виктора Арсентьевича, медсестра, приходившая ставить ему банки, почтальон, приносивший очередные подписные тома Толстого и Тургенева. Словом, не был, кажется, пропущен ни один человек, переступивший за последнее время порог этой квартиры, кроме… Гвимара Ивановича.
— Тут вообще нет приезжих, — замечает Денисов.
— Не успели еще, — вздохнув, отвечает Мещеряков. — И так вон сколько за три дня проверили.
— Но банда тянет на приезжих, — вступает в разговор Петя Шухмин. — В первую очередь их сейчас надо выявлять.
— Теперь-то ясно, — угрюмо соглашается Мещеряков.
— Ты не расстраивайся, браток, — утешает его Петя. — Мы сейчас впряжемся знаешь как? Ветер засвистит.
— У тебя здесь есть список украденных картин и всего остального? — спрашивает Кузьмич Пашу и указывает на его папку.
— Есть. Вот он, — Паша достает сколотые листки.
Мы внимательно читаем этот длинный список.
— Да-а… — качает головой Шухмин. — На себе не унесешь.
— Именно что, — подхватываю я и многозначительно смотрю на Пашу. — Как насчет машин, ничего не накололи?
— Кое-что, — говорит Мещеряков. — В тот день у дома заметили четыре машины.
— У дома — это значит во дворе? — уточняю я.
— Ну да, — кивает Паша. — Все четыре нашли и проверили. Отпадают.
— Наверное, была еще, — осторожно замечает Денисов.
— Да, точно была, — говорю я. — Уйма же вещей взята.
— Эх, подзабыли люди небось тот день, — вздыхает Шухмин. — Ограбление в среду было, так? А сегодня у нас суббота. День отдыха, между прочим. Для нормальных людей, конечно, — и снова демонстративно вздыхает.
— По убийству мероприятия осуществляются непрерывно, — строго говорит Кузьмич. — Прекрасно ты это знаешь, Шухмин. А тут мы еще три дня потеряли.
— Так я же не возражаю, Федор Кузьмич Я только констатирую.
— Ты лучше констатируй на пользу делу. Вот с машиной, скажем, это пункт серьезный. Машина должна быть. Где-то она непременно стояла.
— И час уточнить можно, — добавляю я. — Леха сел в такси к Володе около двух часов дня. К этому времени, выходит, кража была уже совершена и вещи куда-то отвезли.
— Точно, — подхватывает Мещеряков. — И по нашим данным кражу они совершили в первую половину дня.
— Словом, так, милые мои, — говорит Кузьмич, прихлопывая ладонями по столу. — С руководством и прокуратурой договоримся, и дела эти, по убийству и по краже, видимо, надо объединять. Совместно будем работать, так, что ли, Мещеряков, не возражаешь, я думаю?
— Думаю, что так, Федор Кузьмич.
— Вот и хорошо. А линии у нас пока такие, — Кузьмич обращается к нам. — Ты, Денисов, продолжи поиск этой Музы. Думаю, не все ее связи выявлены и отработаны. И хотя она сейчас с этим самым Колькой, однако где-то все-таки должна появляться, одна или с ним. Кого-то видит, кому-то звонит. Все это узнать можно. Понял ты меня?
— Понял, Федор Кузьмич. Узнать-то это все, наверное, можно, если только… если не уехали они уже.
— Навряд, — задумчиво качает головой Кузьмич. — Не так это просто теперь для них. И Колька этот лучше выждет. Он же знает, что его стерегут всюду. Он опытный, Колька этот. И хитрый. Из прошлого дела то видно. И потому ищи Музу, она скорей высунется. И приведет к нему. Плохо, конечно, что дочку свою она мало любит. Плохо. И не для нас, мы ее все равно найдем. Для дочки плохо. И для нее самой, для Музы этой.
Он досадливо трет ладонью седой ежик волос на затылке и продолжает рассуждать:
— Значит, так. С тобой ясно, Денисов. Теперь ты, — обращается Кузьмич ко мне. — Лучше познакомиться с тем домом, с жильцами, с той квартирой, конечно. И двор не забудь. Особенно двор. Надо разобраться, кто там все эти дни кружил. И в уме еще машину держи. Их машину. Она, конечно, московская. А значит, в банде есть еще и москвич, у которого своя машина или казенная. Улавливаешь?
— Как-нибудь улавливаю, — бодро отвечаю я. — Не в первый раз.
— Ишь ты, — усмехается Кузьмич. — Тут на двадцать восьмом году не все всегда улавливаешь, а у тебя на пятом, я смотрю, никаких уже сомнений нет.
— Ну что вы, Федор Кузьмич! Я их просто про себя держу, чтобы другим настроение не портить, — довольно неуклюже пытаюсь оправдаться я.
— Гуманист, — смеется Петя Шухмин. — Как нас бережет-то!
— А вообще, милые мои, что-то меня с этой кражей жмет, — задумчиво произносит Кузьмич. — Заурядное дело вроде бы. Так? И все как будто сходится. Но… есть какие-то мелкие неувязочки. Ну, во-первых, состав шайки этой. Какой-то он… — Кузьмич делает неопределенный жест рукой — Допустим, Гвимар Иванович тот — наводчик. А седой кто? И еще какой-то москвич с машиной… И убрали они этого самого Гвимара там же, где наутро предстояло… М-да…
Он качает головой.
— А во-вторых, что? — спрашиваю я.
— А во-вторых, Леха тебе говорил про свои дела как-то не так. Когда вы в квартире Чуму ждали. Помнишь? Мол, живут люди с громадными деньгами, а где берут, туда нас с тобой не пустят. Нам они копейки бросают. И попробуй, мол, поближе сунься.
— Да, да, — подтверждаю я. — Помню. Еще он сказал, что как мы с Чумой того, так они и каждого кончат, если сунется. Они!
— Вот, — кивает Кузьмич. — Что-то не похоже это на обычную квартирную кражу, пусть даже самую крупную.
— Но Чума и Леха все же ее совершили, — убежденно замечаю я. — И убитый Семанский на той квартире бывал.
— Все так, — вздыхает Кузьмич. — Все так. И потому кражей этой нам придется заняться. Но… как говорится, три пишем, а один в уме. Или даже наоборот, милые мои.
— Федор Кузьмич, — спрашивает Денисов, — а что, из Южноморска пока ничего не поступало на наш запрос?
— Нет пока. Сегодня напомним, — отвечает Кузьмич.
— Может, у них что-нибудь есть и на этого Гвимара Ивановича? — продолжает Валя. — Тоже хорошо бы запросить.
— Дело, — соглашается Кузьмич. — Вы пока действуйте, милые мои. К вечеру авось тут уже новости будут ждать. А может, и сами чего добудете. Это еще важнее.
Мы выходим в коридор и все как по команде закуриваем, кроме Вали Денисова. В кабинете Кузьмича мы по-прежнему ни одной сигареты не выкуриваем. При этом замечаем, что и сам Кузьмич закуривать стал гораздо реже.
У меня в комнате мы с Петей Шухминым делим работу, и мне кажется, что я беру на себя более трудную часть — то, что сказал Кузьмич насчет хозяев ограбленной квартиры, а также двора, особенно двора, и странных событий, которые там происходили. А Шухмину достается не такое уж сложное дело, по нашим понятиям — встретиться со всеми четырьмя водителями машин, которые в день ограбления квартиры покойного академика Брюханова побывали во дворе этого дома, и выяснить, не видел ли кто-нибудь из них некую пятую машину в том дворе и кто в ней сидел, что на ней привезли или увезли и что это вообще за машина была. Ну, и вообще, что эти четверо водителей заметили в том дворе и кого заметили. Вот, собственно, все, что от Шухмина требуется. Список этих машин, с номерами, фамилиями водителей и наименованием организаций, кому эти машины принадлежат, мы взяли у Паши. Словом, самое простое задание получает Шухмин. Но если бы я только знал, чем оно для него кончится…
Итак, в списке было четыре машины, все легковые «Волги» «двадцатьчетверки», все учрежденческие, вернее, три из них, четвертая была такси. Все четверо водителей ровным счетом никакого отношения не имели к ограблению квартиры, ребята из группы Паши Мещерякова установили это абсолютно точно. И потому разговаривать с ними можно было вполне откровенно и рассчитывать на их помощь тоже было можно. Так заверил нас Паша, и так оказалось на самом деле, с некоторыми поправками, однако.
…Петя Шухмин отправился выполнять полученное задание.
Первый из водителей, Владимир Павлович Храмов, которого Петя застал дома по случаю полученного им отгула за какие-то переработанные дни, оказался человеком немолодым и хмурым. Одет он был по-домашнему, в старых брюках и шлепанцах.
Узнав, что Шухмин из милиции, Владимир Павлович нахмурился еще больше и через силу пригласил его раздеться и пройти в комнату. Там на чисто прибранном столе лежали очки и развернутая газета. В маленькой квартире никого больше не оказалось.
Выслушав Петю, Храмов почесал за ухом и мрачно изрек:
— Я, между прочим, там галок не считал. По делу приехал.
— По какому же делу? — спросил Петя с единственной целью хоть немного «разговорить» своего собеседника.
— Велено было профессора Томилина Валерия Алексеевича на совещание привезти, для доклада. В путевке все отмечено, можете проверить, если желаете.
— Не желаем, — весело ответил Петя. — Желаем узнать другое: вы долго товарища профессора ждали там, во дворе?
— Кто его знает. Ну, минут, может, двадцать, полчаса.
— Кого видели за это время в том дворе, кто проходил, не помните?
— Всякие проходили. Разве запомнишь.
— Ну, все-таки. Хоть кого-нибудь запомнили? — настаивал Петя.
— Да никого я не запомнил. А так, знаешь, лепить я не привык. Отвечай потом. Ведь затаскаете, что, я не знаю?
— Да что вы, Владимир Павлович! Зачем мне вас таскать? — взмолился Петя. — Мне бы только ниточку какую-нибудь, чтобы ухватиться. Ведь как раз в это время четыре, а то и пять чемоданов вынесли с крадеными вещами, представляете? И непременно в машину должны были погрузить.
— Не видел, не видел, — замотал лысой головой Храмов. — Никаких таких чемоданов не видел. Я вон газету читал, — он кивнул на лежавшую перед ним газету.
— Не может быть, чтобы вы ничего не видели, — сердито возразил Шухмин.
— Вы просто не хотите помочь. В чем дело, Владимир Павлович? Вы же честный человек.
— Честный, — с достоинством согласился Храмов. — Вот уже пятьдесят два стукнуло, а я за всю жизнь не только под судом, но и в свидетелях никогда не был. И не желаю. Нервы беречь надо, еще в «Здоровье» писали. Они на всю жизнь одни, не восстанавливаются.
— Так ведь и я не ради себя стараюсь.
— У вас работа такая. У меня вот тоже, слава богу, работенка нервов требует. Ведь каждый норовит под колеса сунуться. Тут во нервы как дрожат. А мне до пенсии еще восемь лет трубить.
— Да разве нужны нервы, чтобы сказать, что вы во дворе видели? Тут совесть нужна, а не нервы, — начал закипать Шухмин.
— Как же тут без нервов? А если они на суд придут?
— Кто придет?
— Да эти, которые, значит, с чемоданами перли?
— Их приведут. Они не сами придут. И вы-то тут при чем? Вас же на суде не будет.
— Вытащите. Что, я не знаю? Вам слово скажешь…
— Ну, хватит, Владимир Павлович, — прервал его Петя. — Не хотите помочь, не надо. Больше я уговаривать вас не буду.
— Так я же со всей душой, — спохватившись, торопливо произнес Храмов, видимо встревоженный какими-то злыми нотками в голосе Пети.
— А если со всей душой, то давайте рассуждать по-другому, — с новым запасом терпения сказал Петя. — В котором часу вы приехали за профессором?
— Я-то?
— Ну да. Вы.
— Не помню уже.
— Владимир Павлович! — укоризненно произнес Петя. — Вспомните, пожалуйста.
Храмов вздохнул.
— В девять тридцать…
— Так. И стояли минут двадцать — тридцать. Прекрасно.
— И чемоданов никто не нес, — напомнил Храмов.
— Тоже прекрасно. А там, посередине двора, детскую площадку помните? Там еще с краю здоровенное дерево кривое растет.
— Ну, помню.
— Там ребятишки играли?
— Ну, играли. Что с того?
— И на здоровье. Их трое было?
— Двое. Пацаны. Вот такие, — Храмов поднял руку невысоко над полом.
— Одни гуляли?
— С бабкой. В очках. Книгу читала. Носа не оторвала.
— А к бабке этой никто не подходил?
— Другая бабка, — усмехнулся Храмов, чувствуя себя в полной безопасности за этими бабками. — Рядом села. Воротник у ней рыжий, пушистый, головы не видно. Ну, и пошла тары-бары.
— Вы уехали, а они все болтали?
— Ясное дело, если уже языками зацепились.
— А кто еще заходил во двор?
— Ну зашел один. У меня спрашивает: «Ты с комбината? За Виктором…» — «Нет, говорю». Он и отошел.
— Совсем ушел? — насторожившись, спросил Петя.
— Да нет, на скамеечку сел. Видно, ждать решил.
Это был первый важный факт, на который Петя натолкнулся.
— А какой из себя мужик тот?
— Не мужик. Парень. Ну, обыкновенный. Какой еще?
Петя достал из кармана несколько фотографий и протянул их Храмову.
— Взгляните, тут его нет?
— Да не запомнил я его, — с деланным равнодушием отмахнулся Храмов. — Всего минуту и видел-то.
— Владимир Павлович! — снова укоризненно произнес Петя. — Поймите, наконец. Не для себя же стараюсь. Завтра с вами чего случится, ведь тоже искать буду.
— Ох… — вздохнул Храмов и взял в руки фотографии.
С минуту он всматривался по очереди в каждую из них, потом вернул Пете и с облегчением объявил:
— Нету тут его, точно говорю.
— А как он был одет?
— Пальтишко такое темное, кепочка, шарф пушистый, зеленый.
— И сидел, пока вы не уехали?
— Точно.
— Один?
— Один.
Больше Шухмин ничего от Храмова не добился. Но он был уверен, что и полученные сведения представляют немалый интерес, причем не только в связи с человеком в зеленом шарфе. Две старушки на скамейке тоже привлекли его внимание. Хотя никакой машины Храмов во дворе не видел.
…Второго водителя, Севу Добрынина, Шухмин застал в гараже. Сева только что привез кого-то из начальства своего главка и сейчас томился от безделия, ожидая нового указания диспетчера. Его машина была «разгонной», и потому задания у него были самые разнообразные, а дежурства выпадали и на субботу. Севе нравились его «разгонные» обязанности. Он, по его собственному выражению, любил «крутить колесами», а не дожидаться по два часа у подъезда, пока выйдет «хозяин». Был Сева длинным, тощим, имел светлый чуб, плутовские карие глаза и всегда улыбающийся толстогубый рот до ушей. На затылке еле держалась замасленная кепка, старенькая куртка на «молнии» была расстегнута, на шее небрежно болталось свернутое в жгут серое кашне.
Приходу Пети Сева обрадовался.
— Шерлоку Холмсу привет, — бодро сказал он. — Приемы знаешь?
— Кое-чего, — усмехнулся Шухмин.
— Плохо, — внушительно сказал Сева. — Надо все знать. На одну физическую силу никогда не полагайся. Я одного парня знаю, он таких, как ты, недоучек, во как прикладывает. По стрельбе разряд есть?
— Ну, допустим.
— Надо иметь, — тем же тоном произнес Сева. — Покажи пистолет.
— Нельзя, — снова усмехнулся Петя. — Секретное оружие.
— Ну да? Новое, выходит, выдали?
— А ты старое видел?
— Не.
— Ну вот. Ты слушай, чего я у тебя хочу спросить.
Сева, как оказалось, прекрасно помнил тот день и тот двор. Он уже слышал о случившейся там краже, но побеседовать с ним ребята из группы Паши Мещерякова еще не успели. И без того громадную работу провернули они за эти три дня. А Сева горел желанием побеседовать на такую необычную тему и конечно же оказаться полезным, а еще лучше — незаменимым. Но, как назло, во дворе, пока он там находился, ничего интересного, с его точки зрения, не произошло. Поэтому Сева стремился не столько сам рассказать, сколько побольше узнать от Пети.
— В котором часу, выходит, ты туда приехал? — спросил Петя.
— Сейчас сообразим, айн момент. — Сева на секунду задумался. — Ага! В десять ноль-ноль. Механика нашего, дядю Андрея, привез к Федьке Блинову, захворал он, ну, и ключи надо было забрать. А потом за запчастями поехали. А кража-то когда случилась, установили или еще нет?
— Сколько же времени ты в том дворе стоял? — снова спросил Петя, подчеркнуто игнорируя заданный ему вопрос.
— Да с полчаса стоял. Они там с Федькой еще по рюмашечке тяпнули с утра пораньше. Оба на это дело страшно как слабы. Но я ж тебя спрашиваю…
— Нет, Сева, — мягко оборвал его Шухмин. — Ты, брат, забыл. Это я тебя спрашиваю. Понял? Вот расскажи, кого ты во дворе видел, пока там стоял?
— А тебя кто интересует: кто шел, кто стоял или кто сидел? — засмеялся Сева. — Всех помню. У меня глаз один на вас, другой на Арзамас. Все сразу усекаю. И реакция мгновенная. Вот вчера, допустим…
— Начнем с тех, кто сидел, — не очень вежливо перебил его Петя. — Проверим твой глаз.
— Пожалуйста, — с готовностью откликнулся Сева. — На лавочке две бабули сидели. Одна в очках, с книжкой. Другая с рыжим воротником, в валенках.
— Все?
— Все.
— Ну, а кто стоял?
— У ворот парень стоял, в зеленом кашне, в кепке. Ждал кого-то. Все шеей крутил.
— И дожидался?
— Ага. На улицу побежал, за ворота.
— А потом?
— Потом все. Машина въехала во двор. Такси.
— А парень?
— Больше не видел. Или нет, стой. Он потом снова к воротам подошел.
— Один?
— Не, еще с одним. Показывал ему что-то.
— Как тот, второй, выглядел помнишь?
— Вообще-то не разглядел я его как следует. Далеко стояли. И потом, я их только в зеркальце видел. Ну, шапка на том черная была, пальто черное, и красное чего-то, не то рожа, не то кашне, — засмеялся Сева и, не удержавшись, спросил: — Думаешь, они очистили?
— Ничего пока не думаю, — ответил Петя. — А что он ему показывал, этому, с красным, как думаешь?
— Чего? Да кто его знает. Я, честно сказать, в тот момент внимания на это не обратил, — задумчиво ответил Сева и почесал затылок под кепкой. — А сейчас задним ходом соображаю, что он ему на старушек показывал. Вернее сказать, на одну, в очках. Вторая ушла. А еще вернее, не на нее! — воскликнул Сева, точно идея эта осенила его только что. — К этой, второй, в очках, сел какой-то человек. Ну да! Вот на него этот парень и показывал. Точно.
— Думаешь, знакомый их?
— Не. Как на чужого показывал. Но, знаешь, сердито как-то, со злобой. Так мне, в общем, показалось.
Петя ощутил беспокойство. Почему эти двое следили за тем третьим, если это был посторонний для них человек? Значит, не совсем посторонний? Конечно. Если они со злобой на него смотрели. В чем же дело? Что-то непонятное происходило в этом дворе. И кто те двое, у ворот, интересно знать.
На всякий случай Петя снова вытащил свои фотографии, среди которых были Леха и Колька-Чума. Но Сева, с любопытством рассмотрев каждую из них, не узнал там ни парня в зеленом кашне, ни второго, в черном пальто.
Петя с сожалением спрятал в карман фотографии и, помедлив, спросил:
— Значит, ты уехал, а такси приехало, так, что ли?
— Точно. Я еще его пропустил и двинул к воротам.
— А те двое?
— Не видел я их больше.
— А тот, который со старушкой сидел?
— И он ушел.
Сева огорченно махнул рукой. Ему ужасно хотелось еще что-то сообщить, что-то важное, решающее. Ведь на месте преступления он был, можно сказать, в самый горячий момент. Когда еще раз такое случится? Ему даже могут потом награду вручить за помощь в раскрытии этого преступления. Так ведь не раз бывало. Он даже подумал, как это неудобно — носить именные часы на руке, и никто не может видеть торжественной дарственной надписи на их тыльной стороне. Эх, если бы он заметил эти паршивые чемоданы, которые тащили через двор! Уж он бы это так не оставил, будьте спокойны. Он бы… Но что теперь говорить. Не везет! И этому парню он сообщить решительно ничего больше не может.
Да, больше Сева ничего полезного сообщить не мог. Но Шухмин остался вполне доволен беседой с ним. «Все горячей становится, — подумал он. — И все непонятнее. Какие-то другие люди кружат тут. И ни Лехи, ни Чумы не видно. Странно как-то». Однако это только могло означать, что Петя вышел на след новых членов шайки. И это было очень важно.
Теперь следовало разыскать таксиста, приехавшего во двор почти одновременно с Севой. Это тоже не составляло особого труда, потому что в списке у Пети значились и фамилия таксиста, и парк, где он работает, и даже номер его машины. Все это установила группа Паши Мещерякова.
Пете повезло. Диспетчер таксопарка, куда он позвонил, сообщила, что водитель Аверкин только что вернулся с линии и находится в ремонтной зоне по причине незначительного дорожно-транспортного происшествия. Диспетчер прибавила, что водитель тут не виноват и акт составлен по всей форме там же на линии инспектором ГАИ.
Не теряя времени, Шухмин помчался в таксопарк.
Толя Аверкин оказался невысоким крепышом, спокойным и рассудительным. Он совсем недавно демобилизовался из армии и сохранил армейскую серьезность и подтянутость. Словно необычайная, грозная ракетная техника, с которой Толя имел дело все два года службы, воспитала в нем особую собранность и ответственность за каждый свой шаг и даже, казалось, за каждое произнесенное слово.
И Шухмин сразу почувствовал доверие к этому спокойному, основательному парню, полное доверие, даже больше того: постепенно ощутил в нем как бы родную армейскую душу. И с этого момента беседа их пошла так, словно они давно уже знали друг друга и были полны взаимной симпатии.
Петя коротко рассказал, что произошло в том дворе, куда три дня назад заехал Толя на своей машине, рассказал о ситуации в тот момент и о находившихся там людях. Всех их Толя без труда вспомнил.
Но он вспомнил и кое-что еще, поважнее. Однако рассказывать начал все по порядку, с момента, когда он принял по радио заказ и отправился на поиски нужной улочки и дома там. И вот, еще на улице, недалеко от ворот того самого двора, который ему был нужен, Толя увидел возле тротуара зеленые «Жигули» и обратил внимание на сидевшего за рулем парня. Тот пригнулся, подался вперед и напряженно следил за чем-то. Толя ехал медленно, разглядывая номера домов, и необычность позы того парня бросилась ему в глаза. Объехав «Жигули», Толя решил притормозить и сориентироваться, прежде чем заезжать во двор. В этот момент тот парень вылез из машины, и, чем-то недовольный, отправился к воротам, а к нему навстречу торопливо побежал другой парень, стоявший у ворот, в зеленом кашне. Они встретились прямо около Толиной машины. Боковое стекло у него всегда приспущено, и он хорошо слышал их разговор. «Ну, скоро там? — нетерпеливо спросил парень, вылезший из машины. — Учти, мне к двум надо в Москве быть как штык. А до дачи пилить небось километров сорок?» — «Ты что? — ответил другой, в зеленом кашне. — Мы ж с тобой там были, забыл? Поворот под мигалкой на двадцать первом километре, так? Ну, еще два до мостика, и сразу направо, а там метров двести, и все».
— Я еще подумал, — сказал Толя, — где это может быть? А сейчас вот сам поеду туда, представляешь?
— Как так, поедешь? — удивился Петя.
— Да так. Заказ передали. Вот фару заменят, и поеду. Как раз туда. Все точно.
— Откуда же ты знаешь, что именно туда?
— Понимаешь, из тамошнего кардиологического санатория больного надо забрать. Ну, и объяснили, как ехать. Все точно. Ручаюсь. Поворот под мигалкой на двадцать первом. Потом мостик. Дача та около него. А мне надо дальше, мимо кладбища и станции, — Толя испытующе посмотрел на Петю и неожиданно предложил: — Хочешь, подброшу? Всего-то делов на два часа. Сорок минут туда, сорок обратно. Ну, и там сорок. Посмотришь дачу, и все. А я могу тебя обратно подхватить. Всего двоих повезу. Жди у мостика, и все дела. Ну как?
И Шухмин решил, что такой случай упускать ни в коем случае нельзя. Это был единственный, редкий шанс разыскать ту подозрительную дачу. Без Толи ее так просто не разыщешь. А подозрительна она потому, что, вполне вероятно, именно на тех зеленых «Жигулях» и могли увезти краденые вещи. А если так, то и спрятали их именно на той даче. Все это, конечно, отнюдь не точно, но, однако, вполне вероятно. А Петя уже привык не отбрасывать, не проверив, даже малейший намек, самую слабую ниточку, самый казалось бы сомнительный след, все, что могло неожиданно указать путь к цели. Ну, а тут вероятность удачи была вполне реальна. И если Петя будет знать дорогу на эту дачу, то завтра он уже приедет туда не один, а со мной и с Валей Денисовым, и мы проделаем все, что надо. А пока будет так, разведка.
— Поехали, — решительно сказал Петя.
По дороге новые приятели беседовали о жизни.
— У меня философия такая, — говорил Шухмин. — Бороться как могу. Грязь кругом есть? Есть. Отрицательные моменты тоже? Тоже.
— В смысле пережитков? — уточнил Толя.
— Не только. Тут, брат, криминология свое слово должна сказать. Наука о причинах преступности. Слыхал про такую?
— Нет, — честно признался Толя. — Криминалистика — это я знаю.
— Совсем другое, — назидательно поднял палец Петя. — Криминалистика учит, как раскрывать преступление. Тоже серьезное дело.
Толя скупо усмехнулся, по-прежнему не отрывая глаз от дороги.
— Выходит, по науке работаете?
— А как же.
— И все, как есть, выходит, раскрываете?
— Стараемся, — вполне искренне ответил Петя.
— Вот насчет твоей философии я хотел сказать, — вернулся к прерванному разговору Толя. — Ведь сейчас без знакомства никуда не сунешься, ничего не достанешь. Скажешь, нет? Все на знакомстве, на блате. Даже кино такое есть: «Ты — мне, я — тебе». Это все ведь тоже преступление, я считаю. Но бороться нельзя. Закона нет.
— Это точно, — согласился Петя. — А зло опасное. Сегодня ты с переплатой, допустим, шапку ондатровую купил, завтра должность купишь, послезавтра — свободу, если за решетку попал. Мораль ведь одна и та же тут. А с моралью одним законом не поборешься, — глубокомысленно заметил Петя.
— И не обойдешь эту подлость — вот ведь что, — зло сказал Толя. — Вон у нас в парке. Слесарю, если что случилось, дай, мойщице — дай, вахтеру — тоже дай, учетчице — тоже. А как не дать? Работать не сможешь. Так в день иной раз рубля два раскидаешь, не заметишь, как. А откуда их взять? Первое, значит, «чаевые». В чужую руку, как нищий, смотришь. Второе, это «химичить» надо. Эх, не по мне тут все, вот что я тебе скажу. Но это еще мелочи. Ты гляди шире. Что тебе тут твоя философия говорит?
— Понимаешь, — доверительно и с убеждением сказал Петя, — я ведь человек маленький, я не министр, допустим. И не буду им никогда. Но что я могу, то я делаю. Чтобы к самому себе уважение иметь. — И неожиданно спросил: — А ты не хочешь к нам на работу пойти? Ты нам подойдешь. И работа наша как раз по тебе, я же вижу. Справедливая работа. Уголовный розыск — это тебе не что-нибудь.
— И даже взятки не берете? — ухмыльнулся Толя.
— Ради тебя постараемся воздержаться.
— Чудная работа какая-то.
— А ты попробуй. Я тебя, так и быть, по блату устрою. Я тебе, ты мне.
Оба засмеялись. Потом Толя, вздохнув, сказал:
— Для вашей работы небось сначала жениться надо.
— Это еще почему? — удивился Шухмин.
— Девок испорченных вокруг вас много. Голову с ними враз потеряешь.
— Ну, ты даешь, — только и смог сказать Летя, так он был ошарашен этим неожиданным умозаключением.
— А что, нет, скажешь?
— Это, брат, смотря какая у тебя голова, — засмеялся Петя. — Если слабая, то, конечно, не ручаюсь, можно и потерять.
— А у тебя самого жена есть?
— Не. Держусь пока. И еще один мой дружок, Денисов такой, тоже, понимаешь, держится. Еще крепче, чем я. И у обоих, представь, головы целы вроде бы. А вот другой женился недавно, третий — развелся. Так что все варианты имеются. Любой выбирай, по вкусу.
— Серьезное это дело, — сказал Толя, не принимая Петиного шутливого тона. — Я, знаешь, нагляделся.
— Ты к нам приходи. Вот где всякую жизнь увидишь. А вообще, — продолжал Петя, — нам из армии главное пополнение идет. Лучше нет школы, по себе знаю. Из боя в бой, только у нас еще жизнь знать надо.
Они тем временем уже выехали за город, миновав шумную кольцевую магистраль вокруг столицы. Широкая серая лента шоссе с редкими наледями по бокам тянулась среди заснеженных полей и темных перелесков. С серого неба, кружась, падали редкие снежинки. Машин на шоссе было мало.
Вскоре далеко впереди, над дорогой, возникла маленькая желтая точка. Она то гасла, то вновь вспыхивала, с каждой минутой все ярче, по мере того как машина к ней приближалась.
— Вот она, — кивнул Толя. — Как раз двадцать первый километр, видишь?
Петя вгляделся в мелькнувший на обочине километровый столбик.
— Точно, — согласился он и в последний раз все же усомнился: — А может, еще на каком-нибудь шоссе то же самое?
— И мостик через два километра, да? — саркастически осведомился Толя и решительно заключил: — Не может в двух местах так все совпадать.
Под желтым глазом мигалки машина свернула с шоссе и, сбросив скорость, осторожно пошла по узкой, уходящей в лес дороге, местами совсем обледенелой и занесенной снегом.
Громадные заснеженные ели молчаливо выстроились по сторонам, и Шухмин невольно залюбовался их сказочной, застывшей, почти неправдоподобной красотой. Что-то даже защемило у него в груди и неожиданно потянуло в эту морозную, глухую, загадочную чащу. Петя непроизвольно вздохнул, словно отгоняя от себя это минутное наваждение.
Потом они въехали в какой-то дачный поселок, миновали дамбу между двумя замерзшими прудами, продуктовый магазин. Дорога свернула опять, и снова по одну ее сторону раскинулось снежное поле, а по другую все тянулись и тянулись дачи и прямые как стрелы улицы уходили в мерзлую лесную даль. Дорога пошла под уклон, и Петя вдруг увидел впереди и внизу небольшой мостик с металлическими перилами. За ним дорога вновь взбиралась вверх, и по одной ее стороне, между соснами, раскинулось кладбище.
У мостика Толя притормозил.
— Прибыли, — объявил он и взглянул на часы. — Сейчас, значит, пятнадцать тридцать пять. Я тут буду не раньше, чем через тридцать минут. В случае чего постараюсь тебя тут еще минут десять подождать, если пассажиры разрешат. Ну, а в крайнем случае сам доберешься. Станция рядом.
— Само собой, — согласился Петя. — Спасибо тебе. И вот еще что. Ты мой номер давай запиши. А я твой, если не возражаешь. Не договорили мы с тобой.
— Ага. Давай, — согласился Толя.
Они обменялись номерами телефонов. Шухмин выбрался из машины и, махнув вслед ей рукой, стал оглядываться.
В сторону от мостика уходила вверх узкая асфальтовая дорога, на которой с трудом могли разъехаться две машины. По обеим сторонам дороги тянулись заборы дач. За густой паутиной высоких кустарников и голых веток деревьев домов не было видно. Вокруг лежал снег непривычной для горожанина белизны и резал глаза даже в этот пасмурный день. И еще звенела в ушах тишина, только птичьи голоса нарушали ее.
Шухмин не спеша двинулся вверх по дороге, размышляя, как же найти нужную ему дачу. Двести метров, о которых говорил тот парень в зеленом кашне, свободно могли оказаться и тремястами, а на таком отрезке по обе стороны дороги могла разместиться уйма дач. Как же узнать нужную? Ну, первое, это автомобильная колея. За три дня, да еще при условии, что не было сильного снегопада, колеи должны сохраниться, хотя бы слабый намек на них возле той дачи. Вряд ли сюда сейчас часто ездят на машинах. Второй путь — это расспросить живущих вокруг людей. Их не много, таких «зимников», но все-таки кое-кого найти можно и осторожно расспросить, не вызывая никаких подозрений и излишнего любопытства. Ведь разные могут попасться люди.
Шухмин уже миновал три или четыре участка, как вдруг заметил на середине дороги неожиданно вынырнувший из-под снега неровный след автомобильного протектора. Дальше Петя уже шел, не отрывая глаз от то полузасыпанного, то вполне четкого следа машины. Местами по дороге тянулись даже обе колеи. В каком-то месте автомобильный след неожиданно завернул в боковой переулочек, чтобы вывести Петю на новую улицу, и тут же свернул с дороги к каким-то воротам в низком и длинном штакетнике. Здесь след оказался совсем уже четким, так что Петя даже усомнился в своей удаче. Такой свежий, чуть не сегодняшний след совсем не требовался. А за палисадником и темной стеной кустарника в глубине заваленного снегом участка, виднелась небольшая дача.
Подойдя поближе, Шухмин увидел, что все окна на даче плотно закрыты ставнями, из трубы не вился дымок. Дача казалась покинутой. Но след протектора был ведь совсем свежий, след был сегодняшний, чем ближе подходил Петя, тем более он в этом убеждался. Наконец, очутившись уже возле самых ворот, Петя увидел, что они лишь небрежно прикрыты, а на замочных петлях виднелись совсем свежие царапины, словно замок только что сняли и проделали это тоже небрежно и торопливо. А за воротами след протектора тянулся совсем уж четкий, недавний, прямо к даче, и, обогнув ее, исчезал за углом. Разглядывая все это, Петя невольно замедлил шаг, а потом и остановился.
— Чего рот разинул? — услышал он чей-то голос из-за забора.
Петя оглянулся. В кустах стоял высокий плотный парень в пальто и кепке, шея его была замотана зеленым пушистым шарфом. «Тот самый», — мелькнуло в голове у Пети.
— Да вот иду, — добродушно улыбнулся он. — Тебе-то чего?
— Вон, видал? — парень указал на что-то рукой. — Там такие же вот шли, как ты. И дачу спалили. Понял?
— Ты что, рехнулся? — сердито спросил Петя. — Чего это я буду дачи палить?
— А кто знает, чего тебе тут надо. Человек ты тут чужой. Вот и ступай себе и рот по сторонам не разевай.
— Ты не указывай, чего мне делать. Я тебе чужой, а ты мне чужой, — обиженно ответил Петя. — Так что квиты.
В это время со стороны дачи раздался чей-то окрик:
— Степка! Иди подсоби, ехать пора!
— Иду! — крикнул в ответ парень с зеленым шарфом и снова повернулся к Пете: — Топай отсюда. Еще раз увижу, гляди тогда.
И он вразвалочку, не спеша побежал к даче.
«Сейчас уедут, — обеспокоенно подумал Петя. — И чего-то увезут. Небось те самые вещи, не иначе. И кто там второй, не Чума ли?» Впрочем, их там могло быть и двое, и трое, и четверо. В том числе, возможно, и Чума, и хозяин зеленых «Жигулей». Но было ясно, что задержать их всех Петя один не сможет. Впрочем, задерживать сейчас и не следовало. А вот поехать за ними и посмотреть, куда они путь держат, куда вещи повезут, было бы очень важно. Но у Пети под рукой не было машины, а когда приедет Толя, он точно не знал. И Петя подумал, что на дороге он поймает какую-нибудь машину. Ведь любой водитель обязан ему помочь.
Петя выждал, пока парень не скрылся за дачей, и решительно повернул назад, к шоссе. Он пошел быстро, потом даже побежал. И, конечно, не заметил, что из-за угла дачи за ним внимательно следили чьи-то глаза.
Когда Шухмин отошел уже довольно далеко, до него донесся звук заработавшего мотора. На той самой даче завели машину. Они сейчас выедут, обгонят Петю, и поминай их как звали. Не удержавшись, Петя побежал уже изо всех сил, быстро, легко, под уклон, то и дело скользя и взмахивая для равновесия руками.
Наконец он увидел впереди мостик, и слегка задыхаясь, перешел на шаг. Машины нигде видно не было, пустынная дорога лежала перед ним, за ней раскинулось бескрайнее заснеженное поле под серым небом, а в стороне, за узкой, замерзшей речушкой взбиралось по косогору кладбище. В высоких соснах там кричали птицы. Слышался далекий шум электрички.
Шухмин остановился возле мостика, нетерпеливо поглядывая по сторонам. Черт возьми, как назло, ни одной машины! А ведь сейчас пронесутся эти зеленые «Жигули», и только он их и видел. То есть потом-то он их увидит, но вещей там уже не будет, вещей с кражи, вот ведь что! И угораздило же его к тому же нарваться на этого парня. Петя не подозревал, что главную ошибку он совершил уже потом.
А машин на шоссе все не было, и Толиной салатной «Волги», между прочим, тоже. Становилось холодно. Ледяной ветер сек лицо, на глаза наворачивались слезы и мешали смотреть.
Неожиданно за Петиной спиной послышался нарастающий рокот мотора. Из-за поворота на узкой дороге, по которой только что сбежал Петя, показался красный «Москвич». Петя рванулся ему навстречу, замахал рукой и вдруг увидел, как машина, набирая скорость, устремилась прямо на него. Петя неловко отпрыгнул в сторону, ощутил внезапную, резкую боль в ноге, затем тяжкий, шумный удар и… темнота. Беспамятство на какие-то считанные секунды.
Когда Петя открыл глаза, он увидел лишь удаляющийся красный «Москвич». Сам же он лежал на обочине, возле моста. Нога горела и ныла, внизу где-то, возле ступни. При первой попытке шевельнуть ею — острая боль пронзила все тело, и Петя чуть снова не потерял сознание. И невозможно было вздохнуть, рвущая, тупая боль словно стерегла каждую его попытку и тут же била в мышцы, в кости, разламывала грудь. И Петя, морщась от боли, дышал короткими, судорожными всхлипами, напоминавшими стон:
— Ах-ой… ах-ой… ах-ой…
Но встать было необходимо, чтобы его увидели, чтобы смертельно не простудиться на этой ледяной, смерзшейся в камень земле.
Медленно, чтобы от внезапной боли снова не потерять сознание, Петя подобрал под себя локти, потом напрягся и подтянулся на них, чуть приблизившись к перилам моста. Потом, отдохнув, повторил это еще раз, еще… Он еле полз, все сильнее ощущая режущую боль во всем теле и холод, ледяные ниточки его, которые пугали Петю больше, чем любая боль. Лицо его все было в снегу, и Петя слизывал его с губ, руки были заняты, на них он лежал, они тянули его вперед и, стиснутые в локтях, прижатые к груди, спасали хоть чуточку от ледяного, жуткого холода, идущего от земли.
Еще одно усилие, как судорога, сотрясло все его тело, еще, еще… Совсем немного еще… Всхлипывая, Петя полз. Подтягивался на локтях, на несколько секунд замирая после каждого усилия.
— Врешь… врешь… — скрипел зубами Петя.
Если бы кто-нибудь только видел его в этот момент.
Вот он, мост. Боль в теле как будто даже притупилась, заморозилась. И, наконец, уцепившись руками за железные, липкие от мороза стойки перил, Петя начал медленно-медленно приподыматься. Выше, выше… «Господи, хоть бы один человек прошел», — с отчаянием подумал он, наваливаясь всею тяжестью на перила, почти перегнувшись через них. И голова начала тихо-тихо кружиться, какой-то неслышный хоровод возник в ней, подступила тошнота. Петя подавил, отогнал ее. Потом он приподнял больную ногу, на нее не только нельзя было встать, ею нельзя было даже дотронуться до земли, такой резкой, невыносимой болью отдавалось это во всем теле.
Петя не мог сказать, сколько времени висел он так на перилах моста, не имея сил пошевелиться. То всхлип, то стон рвались у него из груди, тихие — прислушиваться надо было, чтобы их услышать.
И вдруг он уловил шум мотора. Машина катила сверху, со стороны кладбища. Но у Пети не было сил посмотреть даже в ее сторону.
Машина подлетела и остановилась. Хлопнула дверца. Петя, стиснув Зубы, попробовал приподняться, оторваться наконец от перил, но сил не было. Он только чуть было не наступил на больную ногу и, испугавшись, зажмурился, ожидая удара боли и внутренне весь сжавшись в комок.
— Петька! — услышал он за спиной отчаянный Толин возглас. — Что с тобой?!
Толя схватил его за плечи, и Петя громко застонал сквозь стиснутые зубы.
— Довезешь?.. — с усилием спросил он.
— Ты что, очумел? — сердито ответил Толя. — Нет, брошу тут. Ну-ка, вались на меня… Так… Ох, медведь… Ну, давай, давай… А пассажира у меня нет. Оставили. Что-то хуже ему вдруг стало, бедняге… Ну вот так…
Продолжая говорить, Толя осторожно подтащил Петю к машине, открыл одной рукой заднюю дверцу и, согнувшись, начал медленно втаскивать Петю на заднее сиденье. Наконец тот без сил повалился на подушки, тихо, сквозь зубы цедя ругательства, которые в другое время никогда бы себе не позволил. Сейчас они помогали терпеть боль.
Толя тем временем захлопнул дверцу и, обежав машину, уселся за руль.
— Ну, куда поедем? — не поворачивая головы, спросил он.
— Дуй… что есть силы… — с трудом проговорил Петя. — Красный «Москвич»… догони… Бандиты уходят…
Толя рванул с места так, что завизжали покрышки, и машина, набирая скорость, понеслась вверх по дороге, подскакивая на обледенелых выбоинах асфальта и, казалось, еле удерживаясь, чтобы не улететь куда-то в кювет.
Что говорить, Толя был классный водитель и отчаянный парень. Машина его неслась, легко обходя попутные, и встречные водители еле успевали шарахаться в сторону, уступая дорогу, и осуждающе качали вслед ей головой.
А Толя, вцепившись в баранку руля и не отрывая глаз от дороги, чуть не до конца выжимал педаль газа и словно слился в этот момент с машиной. Он понимал: догнать красный «Москвич» можно только до кольцевой дороги, потом он мгновенно затеряется в паутине улиц и несметном потоке машин. А до кольцевой оставались считанные километры.
Несколько раз Толе казалось, что он все же угодит в кювет, что машина вот-вот улетит куда-то в сторону от дороги, что она не впишется в поворот, не выдержит этого бешеного напряжения. Но мотор ревел сильно и ровно, с ощутимым запасом, машина чутко слушалась руля, и стремительное мельканье но сторонам деревьев, домов, оград не мешало Толе ощущать даже некоторую радость от этой сумасшедшей скорости, с которой он так уверенно справлялся.
Они уже выскочили, наконец, под мигалкой на главное шоссе.
Петя тем временем, превозмогая боль, кое-как приподнялся, уцепившись руками за спинку переднего сиденья, и напряженно вглядывался вперед. На шоссе было оживленно и впереди мчалось немало машин. Но красного «Москвича» среди них видно не было.
— Сейчас пост ГАИ будет, — нервно бросил Толя. — Задержат, боюсь.
— Гони… — с усилием прохрипел Петя у него над ухом. — Поймут… а нет… потом оправдаемся… Догнать бы гадов…
— Вон! — воскликнул Толя.
Впереди мелькнула красная машина.
Толя пригнулся к рулю, дал еще газу и, легко обойдя две или три машины, боязливо притормозившие перед постом ГАИ, чуть не наткнулся на красную и тут же досадливо крякнул. Это была красная служебная «Волга». И Толя, перегнав ее, понесся дальше, иногда даже выскакивая на резервную полосу и поражая других водителей своей немыслимой скоростью.
Далеко впереди уже мелькнул мост через кольцевую дорогу. У Толи забилось сердце. «Ну, все… все… все…» — стучало в висках. Но он упрямо, как будто не в силах остановиться, продолжал обгон попутных машин, одной, второй, третьей. Четвертый водитель не желал его пропускать. И тогда Толя, улучив миг, выскочил за сплошную линию разметки на полосу встречного движения и буквально облетел упрямую машину. И словно в награду за этот безрассудный, отчаянный маневр впереди снова мелькнула красная машина. И Толя, как ястреб, устремился за ней.
Это был «Москвич», тот самый. Петя был уверен в этом, хотя номера той, сбившей его у моста машины он, конечно, разобрать не успел.
— У тебя… вон… радио… — просипел Петя, цепляясь за спинку сиденья, когда машина миновала мост над кольцевой дорогой. — Передай… Диспетчеру…
Толя уже слегка сбросил скорость, машина пошла устойчивей. Одной рукой он включил рацию и взял трубку.
— Бутон! Бутон! — вызвал он и, когда диспетчер отозвалась, стал повторять то, что ему подсказывал Петя. — …Со мной инспектор уголовного розыска Шухмин. Ведем преследование. Соединитесь с дежурным по городу. Пусть подключит оперативные машины. Дам свой маршрут. Как поняла? Прием.
И в ответ из динамика раздался взволнованный женский голос:
— Вас поняла, поняла! Соединяюсь с дежурным. Минуточку!.. — Голос на секунду исчез и тут же возник снова: — Готово! Давайте маршрут. Прием.
— Преследуем красный «Москвич» номер…
Толя пригнулся к рулю, дал газ, обошел шедшую перед ним «Волгу» и, пристроившись за красным «Москвичом», назвал его номер. Потом он назвал улицу, по которой сейчас ехал, вслед за тем новую улицу, на которой затем свернул, площадь, еще улицу…
Через некоторое время Толя неожиданно обратил внимание, что все регулировщики дают ему возможность проскочить вслед за красным «Москвичом». А с какого-то момента то вслед за ним, то обгоняя его пошла незнакомая темная «Волга». И сразу же замигала лампочка «вызова» на его рации. Толя щелкнул троблером и сказал в трубку:
— Прием.
— Прекратите преследование, — передала диспетчер, и в голосе ее сквозило облегчение. — Вас сменили. Следуйте с Шухминым в его управление. Вам передают благодарность. Молодцы!..
Толя, усмехнувшись, скосил глаза и увидел, что Петя без сил откинулся на спинку сиденья.
После совещания у Кузьмича Валя Денисов отправился к Своему приятелю, следователю Грачеву, который вел дело по краже из квартиры покойного академика Брюханова. Сообщив ему об убийстве Гвимара Ивановича Семанского и новые данные по краже, которые, видимо, позволяют теперь объединить эти два дела, Валя спросил:
— Вот скажи. Ну, допустим, я все-таки отыщу этого подлеца Чуму. А вот можно его сразу брать или нет? Даст прокурор санкцию на арест?
— Что за вопрос? Конечно, даст, — удивился Грачев. — Ты гляди. Нападение на Лосева — раз. Перчатка в квартире — два. Наконец, участие в убийстве Семанского — три. Впрочем, по последнему делу улик пока нет. Это все со слов Лехи. А его ты задерживать, кажется, не собираешься.
— Я тебя не острить прошу, — строго сказал Валя.
— Ну, ну, скучный ты человек, — засмеялся Грачев. — Словом, насчет санкции не сомневайся. Ищи этого Чуму и хватай.
— А я вот сомневаюсь. Все не так просто, ты смотри. По нападению на Лосева есть показания только самого Лосева. Мало этого, между прочим. Дальше. Перчатку у Чумы видел опять же один Лосев. Да и выбросил Чума эту перчатку уже, на кой она ему одна нужна. Вот и по краже, выходит, улики нет. Ну, а по убийству, сам говоришь, что нет. Что же получается?
— Кое-что получается все же, — возразил Грачев. — Каждого в отдельности факта, согласен, было бы мало для ареста. Но вместе… И потом, учти личность. Три судимости, да? И статьи не дай бог. Потом. Он же в любой момент может скрыться. Вернее, уже скрывается. Нет, даже не сомневайся, — уже серьезно заключил он. — Сразу бери, как только выйдешь на него.
— Задание у меня — найти. А вот что потом с ним делать, это я должен точно знать. А то вдруг да осечка получится.
— Ну, ты даешь. Первый раз такого осторожного человека в уголовном розыске встречаю. Перестраховщика такого, — снова засмеялся Грачев.
— Зато я всегда знаю, что делаю, на три хода вперед, — спокойно возразил Валя. — И все варианты просчитаю, до последнего.
Вот таким был Валя Денисов, жутко осторожным и невозможно педантичным.
Простившись с Грачевым, он, задумавшись, даже не заметил, как спустился на свой этаж, миновал длиннейший коридор, рассеянно кивая по пути сослуживцам, и наконец очутился в собственной комнате.
Итак, с чего же следовало начать поиск этого самого Кольки-Чумы? Обманчивый его облик и коварный, жестокий характер Денисов уже знал. И опытен в таких делах Чума, это тоже известно. И возможно, еще кто-то, поопытней, им руководит. Или руководил… Возможно, главарем и инициатором кражи был этот самый Гвимар Иванович? С ним и разделался Чума, не поделив добычу. Если так, то сейчас Чума свободен, сам себе хозяин и сидит в Москве только потому, что напуган, хочет выждать, а может быть, и выгодно сбыть кому-то украденное.
«Как же подобраться к Чуме, через кого?» — размышлял Денисов, сидя один в своей комнате — Петя Шухмин давно куда-то уже умчался — и покуривая сигаретку. Сам Валя не спешил бежать куда-то, его не нервировало это кажущееся бездействие в момент, когда надо было спешить, когда и в самом деле дорог каждый час. Ему и в голову не приходила обычная в таких случаях мысль: «Надо немедленно ехать, ну хотя бы туда-то, а по дороге все обдумаю». Валя был убежден, что по дороге думается плохо. Поэтому он сидел на месте, курил и думал. И так могло продолжаться и два, и три часа, если быстрее не удавалось все взвесить и рассчитать заранее, «еще на берегу», как любил выражаться Валя.
Итак, как же подобраться к Чуме? Через кого? Легче всего это сделать, конечно, через Музу. И найти ее тоже легче, хотя она сейчас и с Чумой. Все-таки у Музы в Москве больше всяких связей, дел, зацепочек… И что-то такое беспокоило Валю, когда он об этом думал. Вроде бы какая-то зацепочка попалась ему вчера, но тогда он ее не углядел, не оценил, мимо прошел. Осталась как бы легкая царапина и вот чуть-чуть напоминает о себе, не дает покоя. Что же такое было вчера?
Валя решил аккуратно и последовательно перебрать в памяти все факты, с которыми вчера столкнулся, где был, что видел, что слышал, от кого именно.
Сначала он приехал в дом, где жила Муза, пришел в домоуправление, там бухгалтер сказала… Что же она сказала?.. почистила крылышки… без хахалей не бывает… Муж, инженер, бросил… Нет, не то. Потом Валя говорил с соседкой… Не ссорятся… не ночевала… тоже все не то… Дальше идет мать Музы, Альбина Афанасьевна. Так, так… истерика… дочь терпеть не может… но все-таки богатого мужа ей желает… Чуму не любит… Гвимар Иванович — вот, другое дело… Кольцо подарил… Дом подарит… Что-то еще… Стоп, стоп! Тут еще что-то было… Искать ее хотела бежать… Нет, что-то из подарков… Значит, кольцо, дом… Что еще? Ах да! Телевизор еще. Цветной. Деньги дал… И что?.. Велел в рассрочку взять. Ишь ты… А дальше что?.. А-а, Альбина Афанасьева ездила его оформлять. На Музу, конечно. Ну, и что из… Что же из этого следует?.. Поехала оформлять, паспорт взяла, справку с места работы… Позавчера Альбина Афанасьевна по этому делу ездила… Позавчера… Муза больше у нее не появлялась… Как же она… Как же она без паспорта уедет? Ведь паспорт у матери! Вот оно что! Докопался!
И тут Вале изменила его обычная выдержка. Он вскочил как ужаленный, схватил с вешалки возле двери свое пальто, шапку и выскочил в коридор, на ходу натягивая пальто, даже забыв накинуть на шею кашне. Такой небрежности за ним еще никто не замечал.
Валя пулей скатился с лестницы и, пробежав длиннейший коридор, по пути показав свое удостоверение молоденькому дежурному милиционеру, наконец выскочил из высокого подъезда в переулок. Ему повезло, двое знакомых сотрудников из их управления, не торопясь садились в машину.
— Братцы, — взмолился Валя, — подбросьте в направлении Первомайской. Горит все.
Сотрудники переглянулись, и один из них сказал другому:
— Этот парень никогда не преувеличивает, я его знаю.
Второй, скрывая улыбку, подтвердил:
— Я тоже. — И добавил, обращаясь к Денисову: — Прошу, маэстро. В какое место Первомайской прикажете доставить?
Сорвавшись с места, машина понеслась по путанице московских улиц.
Пока ехали, шел общий разговор «за все». Дела, по которым работали сотрудники отдела Цветкова, всегда привлекали внимание. Как правило, они были особенно запутанными, сложными, а порой и опасными. Впрочем, удивить всем этим было трудно, но заинтересовать могло всякого из любого отдела.
Так незаметно и дружески Денисова подкинули до самой Первомайской и высадили совсем недалеко от дома, в котором жила Альбина Афанасьевна, мать Музы-Шоколадки.
Валя торопливо вбежал в просторный, заснеженный двор и, подгоняемый сильными порывами ветра, пересек пустынную детскую площадку с двумя сиротливыми, облупленными «грибками» и неизменной снежной горкой. Перебежав асфальтовую дорожку возле дома, Валя уже собирался нырнуть в подъезд, когда за его спиной раздался веселый и очень знакомый голос:
— Куда вы так спешите, молодой человек?
Валя оглянулся.
Возле подъезда, за выступающей, невысокой стенкой, украшенной цветной плиткой, спряталась от ветра Альбина Афанасьевна. Она была в меховой красивой шубке и пуховом белом платке. На румяном лице молодо блестели черные глаза. Возле нее стояла детская коляска. «И не скажешь, что бабушка», — подумал Валя.
— А я к вам, — сказал он.
— Вот и прекрасно. Помогите тогда коляску занести.
Валя охотно помог затащить коляску на второй этаж, подмигивая удивленно таращившейся на него девчушке. Пока Альбина Афанасьевна возилась в комнате с внучкой, он, следуя приглашению, снял в передней пальто и шапку и прошел на кухню. Валя все еще не мог решить, продолжать ли играть роль приятеля Кольки-Чумы или говорить с этой женщиной открыто. Вале очень хотелось поговорить с ней открыто. Притворяться всегда не только трудно, но и противно, даже как-то унизительно. Ну, что, в самом худшем случае, может произойти, если Валя представится работником милиции? Альбина Афанасьевна замкнется и ничего не скажет больше? Но, во-первых, она уже столько сказала, так перед ним раскрылась, что больше скрывать, кажется, уже нечего. А потом — и это главное, — он же хочет помочь ее дочери, спасти ее. В конце концов, если даже она и в самом деле дочь не любит, то все равно заинтересована, чтобы та была жива и здорова, чтобы хоть сколько-нибудь заботилась о своем ребенке. Ведь как она хотела, чтобы Муза вышла замуж за богатого Гвимара Ивановича. Да, пожалуй, можно поговорить с ней в открытую. Хотя, конечно, риск тут есть…
В этот момент в передней раздался звонок.
— А вот и Ниночка! — услышал Валя возглас Альбины Афанасьевны. — Вам не скучно будет ждать меня!
Она поспешно выбежала в переднюю и открыла входную дверь. Послышались оживленные возгласы, какая-то возня.
— Проходите, проходите, Ниночка, — говорила Альбина Афанасьевна. — Вон туда, на кухню. Там меня один молодой человек ждет. А я сейчас, только с Наташкой кончу.
А Денисов тем временем лихорадочно соображал, что же ему теперь делать. Черт возьми, ну и положение! Нине вовсе не следовало пока знать, что он сотрудник уголовного розыска, как не следовало это знать вообще никому из работников ресторана. Но и инспектором из треста в присутствии Альбины Афанасьевны он представляться уже не может. А приятелем Кольки-Чумы при Нине — тем более. Ну и ну. Валя даже усмехнулся от почти комедийной ситуации, в которой неожиданно очутился. Да, все было бы очень смешно, если бы не надо было искать такого опасного человека, как Колька-Чума.
На кухню зашла Нина и в изумлении остановилась на пороге.
— Это вы?..
Взгляд ее неожиданно напомнил почему-то Вале взгляд той девчушки из коляски, ну совершенно такой же, растерянный и любопытный. Он невольно рассмеялся, и сразу же исчезло владевшее им напряжение. И как-то сама собой нашлась единственно, кажется, возможная в этой ситуации линия поведения.
— Да, это я, — подтвердил Валя и очень серьезно добавил: — И я вас прошу, Нина, ничему не удивляйтесь. Я вам потом все объясню. А пока скажите, зачем вы приехали?
— Муза просила взять ее паспорт.
— Что вы говорите!.. Хотя… Я так и думал. Что ж, берите, и выйдем обязательно вместе. Хорошо?
— Ну конечно…
Нина все еще не могла прийти в себя от неожиданной встречи.
Но тут на кухне появилась наконец Альбина Афанасьевна в открытой, пестрой кофточке и ладных брючках, подчеркивавших ее стройную фигуру.
— Ну, познакомились, понравились? — с веселым возбуждением спросила Альбина Афанасьевна. — Долго ли умеючи, так, что ли?
— Познакомились, — сдержанно ответил Денисов и тем же тоном добавил: — Я зашел только узнать насчет вашей дочки.
— Нечего узнавать, — запальчиво ответила Альбина Афанасьевна. — Плевать ей и на мать, и на ребенка. Вот видите? — она указала на Нину. — Через подружку даже паспорт просит у родной матери. А? Это вместо спасибо!.. Это за все мои слезы, за все мои муки!.. Вот что имею!.. Вот, вот, глядите!..
Она опять начала взвинчивать себя, распалять, доводить до припадка, до истерики, как в тот раз. Уже округлились, возбужденно заблестели глаза, затряслись губы. Но тут Денисов, вмешавшись, сухо и деловито сказал:
— Идите, Альбина Афанасьевна, принесите паспорт. Идите, идите…
Он взял ее за плечи и увлек в переднюю. Это внезапное вмешательство сорвало подступавшую истерику, внимание Альбины Афанасьевны невольно переключилось на конкретное, необходимое дело. Она словно проснулась и, спохватившись, торопливо сказала:
— Да, да. Сейчас. Где же он, господи?..
Она вывернулась из Валиных рук и, не оглядываясь, побежала в комнату. Ей вдруг стало, видимо, неловко, так, по крайней мере, показалось Вале.
Нина и он, оставшись одни, теперь молча стояли посреди кухни, сами взвинченные всем происходящим и не зная, что можно сейчас сказать друг другу. Нина выглядела еще и испуганной. Тоненькая фигурка ее показалась Вале такой слабой и беззащитной, что ему даже на миг стало почему-то совестно.
Он уже собрался сказать что-то, но в этот момент на кухне появилась Альбина Афанасьевна с паспортом в руке. Смуглое, красивое лицо ее было уже спокойно и чуть грустно. Она протянула Нине паспорт и сказала:
— Вот, Ниночка. Передайте ей. Пусть свое счастье поищет, пусть хоть кого-нибудь полюбит по-настоящему. Пусть. Бог с ней. А мы уж с Наташкой как-нибудь сами. Не пропадем авось.
На глаза ее навернулись слезы.
— Ну что вы, Альбина Афанасьевна, — взволнованно сказала Нина. — Она же вернется, скоро вернется, увидите. Она вас любит, и Наташу тоже.
— Не знаю, кого она любит! Не знаю! И знать не желаю! — сжав кулак, закричала вдруг Альбина Афанасьевна. — Так ей, дряни, и передайте!.. Ой! — она прижала ладони к щекам и умоляюще посмотрела на Валю. — Простите уж…
Больше она не произнесла ни слова, пока Валя и Нина одевались в передней, и, кивнув, с виноватой улыбкой молча закрыла за ними дверь.
Только очутившись во дворе, Нина, вздохнув, сказала:
— Ой, какой ужас! Она же так мучается.
— Да уж, — согласился Валя. — Никому не пожелаешь. Но вы поняли, что происходит с вашей подругой?
— А! — досадливо махнула рукой Нина. — Просто очередное увлечение. Это пройдет, как всегда. Тут с ней невозможно ничего поделать. Такой уж взбалмошный характер. А вы, значит… — она украдкой посмотрела на Валю, — …так ею заинтересовались?
— Больше ее приятелем, честно говоря.
— Почему? — удивилась Нина и, неожиданно спохватившись, неуверенно спросила: — Об этом, наверное, нельзя спрашивать?
— Можно. И я ведь обещал вам все рассказать, помните? Но сначала скажите, как вы передадите Музе паспорт?
— Я ей сейчас позвоню, и мы встретимся.
— Где?
— Ну, где-нибудь. Она не хочет приезжать на работу.
Некоторое время они шли молча.
Денисов мысленно прикинул: если взять Музу под наблюдение в момент встречи с Ниной, то она, очевидно, приведет к Чуме, туда, где он скрывается, на какую-то квартиру. Второй путь туда — через номер телефона, по которому Нина должна сейчас позвонить. Словом, место, где скрывается Чума, а с ним, вероятно, и Леха, установить теперь нетрудно. А дальше должна действовать группа захвата. Это будет сложная и опасная операция. Двое бандитов, и у одного из них пистолет. И сопротивляться будут отчаянно. Им ведь терять нечего: рецидив и убийство, хуже не придумаешь. Поэтому тут нельзя действовать в лоб, нужна какая-то хитрая комбинация. Жертв в момент захвата не должно быть. Денисов чувствовал, что придумать тут что-то не только нужно, но и можно. Однако прежде всего об этом следовало доложить Кузьмичу. Сам Валя, по его мнению, сейчас не должен был принимать никаких самостоятельных решений. И вообще ни одного шага дальше, пока не будет приказа и общего плана операции, утвержденного начальством. Момент такой, что надо сто раз все взвесить, и не ему одному. Вот таков был Валя Денисов.
— Когда вы должны звонить Музе? — спросил он Нину.
Девушка посмотрела на часы.
— Сейчас половина первого. А звонить я ей должна от часа до двух.
— Отлично. Едем.
— Куда? — испуганно спросила Нина.
Денисов виновато улыбнулся. Он и самом деле произнес это слишком уж решительно, словно приказ отдал.
— Не бойтесь, — сказал он уже совсем другим тоном. — Просто мы сейчас заедем ко мне на работу. На одну минуту, хорошо? Очень вас прошу. Надо посоветоваться с товарищами. Ах, да! Дело в том, что я работаю… — он секунду помедлил, — …в уголовном розыске.
Нина, улыбнувшись, кивнула.
— Я сразу что-то вроде этого подумала. Еще тогда.
— Почему вы так подумали? — заинтересованно спросил Валя.
— Потому что я знаю инспекторов треста, — засмеялась девушка. — И они задают совсем другие вопросы.
— Да-а… — досадливо произнес Валя. — Выходит, не очень-то удачно это у меня получилось. Провалил роль, значит?
— Нет, нет, — поспешно возразила Нина. — Ведь такие вопросы вы задавали только мне почему-то. Сергей Иосифович, например, уверен, что вы инспектор. Новый. Они у нас часто меняются.
— Пусть так и думает, ладно? И остальные тоже, очень вас прошу. Сумеете не проболтаться?
— Ну конечно.
Разговаривая, они спустились в метро, доехали до центра и там пересели на троллейбус. Пассажиров в этот час было мало, и разговор не прерывался.
— А что я скажу на работе? — спохватилась Нина, когда они уже зашли в высокий вестибюль и миновали окошечко бюро пропусков.
— Пустяки, — Валя махнул рукой. — Что-нибудь придумаем.
К счастью, Кузьмич оказался у себя. Он уже собирался идти обедать, когда в кабинет заглянул Денисов.
— Ну, заходи, — сказал Кузьмич. — Что у тебя?
Валя зашел, аккуратно закрыл за собой дверь и только после этого сообщил о возникшей непростой ситуации.
— Если брать их в квартире, то возможны жертвы, — заключил он. — Поэтому у меня, Федор Кузьмич, есть предложение.
— Что же это за предложение, интересно?
— Я пойду с Ниной. Ну, как приятель ее, допустим.
— Так, так. Ну, а дальше?
— Познакомлюсь с Музой, проводим ее, зайдем в ту квартиру. Посидим, выпьем. И в нужный момент я открою дверь. Ребята войдут…
— Нет, — покачал головой Кузьмич. — Тебе не дадут открыть дверь. Я вижу, это народ опытный. Да и в квартиру тебя тоже не впустят.
— Зависит от того, как я сыграю.
— Еще и Нина должна сыграть, не забывай, — добавил Кузьмич и спросил: — А ты в ней до конца уверен? Ведь подруга Музы, что ни говори.
— Муза и ей врала.
— Что-то врала, а что-то и не врала. Это ей ты поверил, что Муза ничего про Чуму не знает?
Валя нахмурился и отвел глаза.
— Ей.
— Ну, вот видишь? Тогда заплатил за это Лосев. Сейчас заплатишь сам, если снова ошибешься.
— Она хорошая девушка, Федор Кузьмич. Вы с ней сами поговорите.
Валя поймал себя на том, что ему и в самом деле хочется, чтобы Кузьмич поговорил с Ниной, чтобы посмотрел, какая она, ну, и, между прочим, утвердил бы самого Валю в его мнении. Валя, как и все, свято верил в проницательность старика.
— Позови ее, — приказал Кузьмич.
Валя поспешно сорвался со стула.
Уже через пять минут после начала разговора Валя понял, что Нина нравится Кузьмичу, безусловно нравится. Он, кажется, даже поверил ей и решил, что Нина не подведет, не смалодушничает, не выдаст Валю. Но всего этого было мало. Кузьмич должен был еще решить, способна ли девушка «подыграть» Вале, помочь ему в опасной ситуации, которая непременно возникнет после встречи с Музой. В глубине души Валя не был в этом уверен. Поэтому он и хотел, чтобы решение тут принял сам Кузьмич. Валя же мог поручиться только за Нинину честность. Что делать, большего он взять на себя не мог. Ведь на карту ставилось слишком много. И Валя ждал.
Но вот Кузьмич медленно, со значением сказал, вертя в руках очки:
— Так вот, Нина. Вы можете нам очень помочь. А нам — это значит и всем. Мы ведь не для собственного удовольствия и не для собственной безопасности, между прочим, преступников ловим. Такая уж у нас малоприятная, но, я считаю, полезная служба. И не всякому мы, кстати говоря, доверимся. Это вы, наверное, понимаете?
— Конечно… — тихо ответила Нина, все еще удивленная и растерянная от этой неожиданной беседы.
А Кузьмич, помолчав, вдруг спросил:
— Вы Музу, когда встретитесь, можете куда-нибудь пригласить?
— Я не знаю… куда мне ее пригласить.
— А я знаю! — неожиданно воскликнул Валя. — Я приглашу вас обеих. А Муза позовет этого… Колю. Ручаюсь.
— А куда вы нас пригласите? — улыбаясь, с любопытством спросила Нина.
И Валя заметил, что ее улыбка тоже понравилась Кузьмичу.
На самом деле Кузьмичу понравилось другое. Он заметил, что девушка постепенно успокаивается и осваивается с необычной ситуацией, что она внутренне уже как бы настраивается на ту линию поведения, которую от нее ждут, и это, кажется, не требует от нее особых усилий, не требует преодоления какого-то внутреннего сопротивления, то есть сопротивление, конечно, было, не могло не быть, но преодолелось, вот сейчас уже преодолелось. Да, Нина, кажется, подходила к той роли, которую ей собирались поручить.
— Так куда же вы нас пригласите? — повторила свой вопрос Нина уже уверенней и даже с вызовом, словно подзадоривая Валю.
— Увидите, — загадочно ответил он. — Только не отказывайтесь.
— Это новый ваш приятель, — пояснил Кузьмич без тени усмешки. — Вы еще не успели познакомить его с Музой. А он, понимаете, за вами изо всех сил ухаживает. И вам он нравится, не забудьте.
— Не забуду, — засмеялась Нина.
Сейчас она была совсем не робкой, а очень даже бойкой, и это неожиданно было Вале приятно.
— А я с удовольствием буду ухаживать, — сказал он.
— Ты, милый мой, потом будешь от этого удовольствие получать. А пока советую не забывать про главное. Дорого может твоя забывчивость обойтись.
Кузьмич был удивлен и слегка раздосадован: кого-кого, но Денисова предупреждать о таких вещах ему еще не приходилось.
Затем Нина позвонила Музе, и та предложила встретиться на площади Маяковского, возле входа в метро.
Когда они вышли из кабинета Кузьмича, Валя остановился и виновато сказал:
— Ой, Ниночка, извините, забыл кое-что спросить. Подождите меня одну минуту.
Он чуть не бегом вернулся в кабинет. Кузьмич ждал его.
— Значит, так, — сказал он. — Группа следует за вами. На машинах. Твоя задача не входить в ту квартиру, а выманить их из нее. Или, в крайнем случае, вместе потом выйти с Чумой. Ты меня понял?
— Понял, Федор Кузьмич. И когда он будет рядом, я…
— Дальше действуйте по обстановке. Но сигнал даешь ты.
…До площади Маяковского их довезли на одной из машин. Дальше Нина и Валя, оживленно беседуя, не торопясь пересекли площадь, миновали памятник Маяковскому и подошли ко входу в метро, рядом с массивными квадратными колоннами концертного зала.
Стоял редкий теперь для зимней Москвы морозный, солнечный день. Бесконечный поток прохожих обтекал огромные колонны, и снег, видимо перемешанный с солью, черным месивом жирно чавкал под ногами. Только на дальних крышах да на темной фигуре памятника он лежал неправдоподобно белый, стерильной, казалось, чистоты.
Нине удивительно шло, по мнению Вали, синее пальто с пушистым белым воротником и белая, из того же меха, шапка. Глядя на ее разрумянившееся лицо и потемневшие от сдерживаемого волнения глаза, он поминутно спрашивал:
— Вам не холодно?
— Что вы, — улыбалась Нина и, глядя на его драповое пальтишко и тонкие ботинки, добавляла: — Это вам, наверное, холодно.
— Мне холодно не бывает, у меня пальто специальное, с электрическим подогревом.
Так они по очереди уверяли друг друга, что им не холодно, пока Нина вдруг не воскликнула:
— Вот и Муза!..
Валя посмотрел в ту сторону, куда смотрела она, и сразу узнал Музу. Она была удивительно похожа на мать, только выше и краски на смуглом лице были ярче, а походка легче и порывистей. «Красавица, конечно», — неприязненно подумал Денисов. А Муза уже подошла к ним в своей красивой дубленке, пушистой огромной шапке и изящных сапожках, вся словно сошедшая со страницы журнала мод, оживленная, улыбающаяся, сознавая, что привлекает всеобщее внимание, и радуясь этому. Она увидела Нину, обняла ее. И Валю покоробило от этого объятия.
— А я не одна, — сказала Нина. — Знакомьтесь.
Муза быстро оглянулась на Валю и погрозила пальчиком подруге.
— Ой, Нинок! Это твой друг? Ой, я не верю!
— Почему же? — улыбаясь, спросил Валя. — Разве у вас нет друга?
— Нет, это я от неожиданности, — рассмеялась Муза. — Чтобы эта скромница… и вдруг… Имейте в виду, вам очень повезло.
— Тогда давайте это отметим, — предложил Валя. — Дело в том, что я имею некоторое отношение к Москонцерту, Нина знает, — для убедительности он достал из кармана какую-то книжечку и помахал ею. — Так вот, сейчас в Москве впервые начинает гастроли мировой славы негритянский ансамбль «Блэк Бенд». Слыхали, надеюсь?
— Еще бы! — азартно воскликнула Муза. — Это неслыханное событие. За билетами душатся. Сутками стоят. Говорят, один парень, не достав, сошел с ума.
— Все правильно, — подтвердил Валя. — Так вот завтра у них первый концерт.
— Ой, завтра мы уже уезжаем, — горестно сообщила Муза.
— Нет, я вас хочу пригласить сегодня, — сказал Валя. — В четыре часа у них генеральная репетиция. Хотите?
— Валечка! — Муза взволнованно погрозила ему пальчиком. — А вы не шутите? Это же неслыханное дело! Боже мой, попасть на «Блэк Бенд»! С ума сойти!
— Так вы не возражаете?
— Ну еще бы! А мы пойдем…
— Вчетвером. Если у вас есть друг, конечно. Есть, надеюсь?
— Допустим, — лукаво улыбнулась Муза.
— Тогда поторопимся. У нас всего час пятнадцать. Погодите!.. Вон такси. Момент!
Валя сорвался с места. Девушки, улыбаясь, следили за ним.
Спустя минуту они уже садились в машину.
— Куда ехать? — оглянулся Валя.
— К Белорусскому. На Лесную, — ответила Муза. — Там я покажу.
— Поехали, — распорядился Валя и добавил, обращаясь к водителю: — только не спешите ради бога. Время у нас есть.
Водитель снисходительно усмехнулся. Такая же усмешка мелькнула и на губах Музы.
Машина медленно вывернула на улицу Горького. Развернувшись возле центрального телеграфа, она двинулась в сторону Белорусского вокзала. Валя изредка поглядывал на заднее стекло, перебрасываясь шутками с девушками. Впрочем, Нина больше помалкивала, с напряженной улыбкой следя за болтовней подруги.
Когда машина, следуя указаниям Музы, наконец остановилась в одном из тихих переулков недалеко от Лесной улицы, Валя, помогая девушкам выйти, сказал Музе:
— Мы с Ниной заходить не будем. Подождем вас здесь. Чтобы шеф не нервничал. Хорошо?
— Вы подождите, а Ниночка пойдет со мной, — распорядилась Муза и, сияя глазами, добавила: — Вы просто волшебник. «Блэк Бенд»! Мне же никто не поверит!
— Следующий раз только через пятьдесят лет, — засмеялся Валя. — Спешите, почтеннейшая публика!
Девушки исчезли в дверях подъезда.
Томительно потянулось время. Валя, сунув руки в карманы пальто, медленно прогуливался по тротуару. Шофер такси, проехав немного вперед по указанию Вали, уже дремал за рулем. У подъезда противоположного дома остановилась машина. Спустя минуту еще одна остановилась невдалеке. Прохожих почти не было видно. По улочке проехала с шумом грузовая машина, мелькнуло такси. На бледно-голубом, подернутом дымкой небе весело светило солнце, чуть заметно уже начиная пригревать.
Валя заставлял себя не ускорять шаг и чувствовал, как легкий озноб холодит спину. Хуже всего ждать. Он небрежно посмотрел на часы. Пора бы уже…
И в тот же миг, словно следуя его указанию, хлопнула дверь подъезда и оттуда вышли Нина, Муза и высокий рыжеватый парень в светлой дубленке и пушистой ушанке. Валя сразу его узнал. Он самый, Чума!
Улыбнувшись, Валя быстро направился к ним. Парень небрежно протянул ему руку:
— Ну, будем знакомы. Нико…
Он не успел закончить. Нелепо поскользнувшись, он вдруг перелетел через пригнувшегося Валю, и со всего размаха грохнулся на тротуар. В ту же секунду Валя очутился на нем и заломил его правую руку за спину с такой резкой силой, что Чума лишь глухо вскрикнул и уткнулся лицом в снег.
От стоявших невдалеке машин уже бежали к ним люди.
Итак, я снова отправляюсь в тот злосчастный двор. О событиях, которые там разыгрались, мы с Шухминым будем сегодня собирать сведения, как бы с двух сторон. Он — у шоферов машин, побывавших там, а я у местных жителей. На этот раз я не зову с собой Егора Ивановича. Одному сейчас удобнее, спокойнее как-то, незаметнее, проще. Такой настал момент, такой этап в работе.
Я бреду по тихому, уже знакомому мне переулку, пешеходов тут почти нет, машин тоже. Трудно идти по обледенелому, неровному тротуару. Куда только подевались все дворники, интересно знать. Какая-то вымирающая профессия.
Наконец я добираюсь до зеленых ворот и на минуту задерживаюсь, разглядывая их. В самом деле, кому пришло в голову выкрасить их сейчас? Наверное, по смете остались деньги, а потом их уже не будет. Какая нелепость то и дело возникает с этими сметами. И вот свежая краска уже наполовину отлетела, отслоилась, ворота обросли льдом и комьями смерзшегося снега. Так что Егор Иванович напрасно огорчается, зеленой краски уже почти не видно. Усмехнувшись, я протискиваюсь в узкую, на длину цепи, щель в воротах. На эту цепь их замкнули совсем недавно, лишь после случившейся кражи. Ведь до этого машины свободно заезжали во двор. Но теперь, видимо, решено принять особые меры предосторожности.
Я миную сумрачный тоннель подворотни. Вот и двор, тоже уже знакомый. Тесный, как и все старые дворы, окруженный кирпичными стенами соседних домов, сараями, какими-то гаражиками. Посередине втиснулась крохотная детская площадка, вся заваленная снегом, с протоптанными в разных направлениях тропинками, двумя скамейками и ледяной горкой. Возле горки я вижу, как и в прошлый раз, двух карапузов в одинаковых желтых теплых комбинезончиках, с санками и лопатками. Сейчас оба деловито пыхтят и что-то роют в снегу. На скамейке возле них сидит укутанная в платок женщина, читает толстую книгу. Вторая скамейка пустая. И вообще больше во дворе никого нет.
Я направляюсь к скамейке, где сидит женщина. Здороваюсь и сажусь рядом. Город не деревня, здороваться при встрече с незнакомыми людьми не принято. И женщина, оторвавшись от книги, бросает на меня равнодушный взгляд. Я успеваю, однако, ее рассмотреть. Усталое, немолодое, интеллигентное лицо, впалые, морщинистые щеки и живые, темные глаза за сильными стеклами очков. С внуками гуляет, не иначе.
— Ваши внуки? — спрашиваю я, кивая на ребятишек.
Женщина снова отрывается от книги и вздыхает.
— Внуки…
— Отличные ребята, — улыбаюсь я. — Напрасно вы вздыхаете.
— Как же не вздыхать? Из-за них вот работу бросила. Дочь упросила. Поэтому они и отличные, — не без гордости заключает она.
— Знаменитая проблема бабушек, — говорю я. — Социологи теперь все изучают. И вот в этой области недавно тоже открытие сделали. Своими глазами читал. Оказывается, в воспитании внуков участвует вдвое больше бабушек, которым полчаса надо ехать до внуков, чем бабушек, которым до внуков ехать час. Теперь кто-то на эту тему уже диссертацию пишет, ручаюсь.
Женщина улыбается и смотрит на меня уже внимательнее.
— Мой случай они, видимо, не учитывают. Я с этими сорванцами вместе живу.
— Значит, в семье есть теща, — поучительно говорю я. — На этот счет социологи тоже исследование провели. Оказывается, свекрови чаще разрушают молодые семьи, чем пресловутые тещи. И проценты приводят. Все выглядит очень убедительно.
— Батюшки! А вы сами, случайно, не социолог?
— Почти, — весело соглашаюсь я. — Тоже, знаете, изучаю всякие жизненные ситуации. Но несколько по другой линии. Вы слышали, какая кража вон в том доме была?
Я указываю на дом, где находится квартира покойного академика.
— Еще бы не слышать! А через два дня тут еще и убитого нашли. Просто ужас какой-то. Гулять с детьми стало страшно.
— А вы, наверное, каждый день гуляете, в одно время?
— Конечно. Два раза. Утром и вот сейчас, после обеда. И вы знаете, — женщина, я замечаю, постепенно проникается ко мне доверием, — если бы меня спросили, я бы сказала, что почти предвидела все это.
— То есть как это предвидели? — с неподдельным интересом спрашиваю я. — Предчувствие какое-нибудь у вас было?
— Нет, тут было не предчувствие. Кое-что пореальнее. Вы не думайте, что выдумывает старуха. Я вот тоже люблю детективные романы. И уверяю вас, из меня вышел бы прекрасный сыщик. Да, да.
— Как из большинства женщин, — смеюсь я.
— Конечно. Они талантливей и благородней. И еще они тонкие психологи. А мужчины пусть бегают и стреляют, — она небрежно машет рукой.
— Но что же вы могли предвидеть? — спрашиваю я. — Кражу или убийство?
— Что-то вроде того или другого.
— Каким же образом?
— Только гуляя с внуками.
— Вы что-нибудь стали замечать во дворе?
— Вот именно. Один раз ко мне подсел человек, вот как вы сейчас, и стал расспрашивать про всяких жильцов. Всяких, обратите внимание. Из разных квартир. Он, конечно, хотел меня запутать.
— Он не знал, с кем имеет дело, — улыбаясь, вставляю я.
— Вот именно. И между прочим, про Брюхановых. Когда приходят, когда уходят, кто у них бывает. И все это, повторяю, между прочим, вскользь. А я Бориса Кирилловича еще студентом помню, я тогда в школе училась. Их семья и до войны тут жила. И наша тоже. И отца его помню, и мать.
— А кто же вас расспрашивал?
— Молодой человек вроде вас… то есть совсем не вроде вас, — поправляется она, усмехнувшись. — Словом, рыжеватый, худощавый, вполне прилично одет, но… малоприятный, надо сказать. Ухваточки такие, знаете…
«А ведь это Чума, — думаю я. — Скорей всего, он».
— Так вот, — продолжает женщина с возрастающим увлечением. — Сначала, значит, появился этот молодой человек. А через день или два, уже не помню точно, смотрю, встречаются тут два человека, совершенно незнакомые мне, посторонние. Жильцов-то я тут всех знаю. Причем солидные такие люди, немолодые, одеты хорошо. А ругаться стали совершенно неприлично. И ведь видят, что недалеко женщина сидит, дети.
«А это уже, наверное, Гвимар Иванович с тем низеньким», — вспоминаю я рассказ Инны Борисовны и спрашиваю:
— По какой же причине они ругались, вы не уловили?
— Точно вам не скажу. Я все-таки специально слушать не старалась. Но так я поняла, что один требовал от другого, чтобы тот куда-то не ходил больше. И грозил, знаете, так. Ну, а второй, значит, не соглашался. Словом, не очень я все это поняла. Неприятно было даже смотреть в их сторону.
Зато понял этот спор я. Это они, видимо, делили вещи с кражи. Будущей кражи, которую только еще готовили. И в результате Гвимар Иванович поплатился жизнью. Все, между прочим, закономерно в том волчьем мире.
— А в это время, представьте себе, — продолжает между тем моя собеседница, — я вдруг замечаю, что за ними какой-то человек наблюдает, вон оттуда, — она указывает в сторону ворот. — Я его прекрасно видела. А они нет, им не до него было. Какой-то молодой человек. Очень похож на того, который ко мне подсел. И вообще я его часто стала во дворе нашем замечать. А однажды я знаете что видела? Вы только послушайте. Наша квартира этажом выше Брюхановых. Выхожу я как-то на площадку, в магазин шла. Вдруг слышу на нижней площадке что-то лязгнуло. Наклонилась через перила и вижу этого самого молодого человека, как он из почтового ящика у Брюхановых что-то вытащил и бегом вниз по лестнице. Я его еле разглядела. А вечером я Инночке, конечно, сказала. Но ей, бедняжке, не до того было. Вы подумайте только, с родным братом судиться пришлось! Это такой подлец, такой подлец, что слов нет! Ну все буквально, что после отца осталось, себе хотел забрать. Все, все. А отец-то вообще знать его не желал и из дома выгнал. Вы сами посудите. Работать не пожелал, институт медицинский бросил, пьянствовал. И женился-то на какой-то пьянице, проститутке, говорят. Просто урод в семье, право. И Инночка все бы ему отдала. Хорошо, ей муж помешал. Вот уж это энергичный человек, ничего не скажешь! Он этому Олежику так хвост накрутил, как говорится, что тот теперь в дом прийти боится, после суда. А то являлся когда хотел, якобы картинами любоваться. Да еще супругу как-то привел. Это уж последняя наглость была.
Вот так, обратите внимание, бывает всегда. Стоит только человека «разговорить», внушить ему доверие и воодушевить искренним интересом к тому, о чем он вам рассказывает. И тогда нет такого человека, который бы, если у него не имеется особых причин молчать, не увлекся бы собственным рассказом. Не все люди умеют и любят слушать, но все любят, чтобы их слушали, все, даже самые молчаливые и робкие, последние даже особенно: им реже удается овладеть чьим-либо вниманием. Вот и на этот раз мне удается «разговорить» мою собеседницу, и у нас с ней получился очень, как видите, содержательный разговор. Ее, кстати, зовут Софья Семеновна, и она до недавнего времени работала редактором в одном крупном издательстве.
Последнее обстоятельство мне особенно импонирует, ибо я сразу вспоминаю свою дорогую тещу и потому невольно проникаюсь к Софье Семеновне симпатией. Наверное, она это улавливает и говорит со мной особенно доверительно и охотно.
А под конец она неожиданно замечает:
— Вы только не подумайте, что я со всяким случайным человеком такие беседы веду, — и при этом она многозначительно улыбается. — Просто вы мне показались не случайным человеком.
— Это почему же вы так решили? — спрашиваю я.
— А потому, что из меня мог бы выйти хороший сыщик, я же вам говорила. Я все разгадываю. Дочь просто поражается.
— И что же вы во мне разгадали, разрешите узнать?
— Коллегу, — смеется Софья Семеновна.
— Ну, знаете, — в тон ей отвечаю я, — перед вами надо снять шляпу.
— И снимите. Не простудитесь.
Я торжественно снимаю шапку и кланяюсь, а оба карапуза, оторвавшись от своих занятий и разинув рты, удивленно лупят на меня глаза.
— Раз мое инкогнито раскрыто, — говорю я, — то разрешите вас спросить, как специалист специалиста. Вот взгляните, — я вынимаю из кармана несколько фотографий, в том числе Лехи и Чумы. — Никого из них вы здесь, во дворе, не видели?
Софья Семеновна снова надевает очки, берет у меня из рук фотографии и начинает одну за другой их рассматривать.
— Не те очки с собой взяла, еле читаю, — досадливо говорит она. — Эти для дали. А идти за другими не хочется… — И, оборвав фразу, вдруг неуверенно произносит: — Вот этот, кажется, похож… он со мной беседу вел, если не ошибаюсь, — и указывает на фотографию Кольки-Чумы. — Очень неприятная физиономия.
«Он, он», — мысленно подтверждаю я, даже не очень взволнованный этим открытием, настолько я уже заранее его предвидел.
Мы наконец прощаемся с Софьей Семеновной, вполне довольные друг другом.
Я машу рукой обоим карапузам. Один из них, улыбаясь до ушей, машет мне в ответ, а другой, не решаясь на такую вольность, смотрит мне вслед с боязливым любопытством.
Выйдя через ворота в переулок, я смотрю на часы. Ого! Немало времени мы, оказывается, проговорили с Софьей Семеновной. Впрочем, весьма плодотворно. Вот только один пункт остался неясным: пятая машина. Софья Семеновна видела во дворе только те, которые значатся уже у нас в списке. Но пятая машина была. Возможно, она не заезжала во двор и ждала в переулке. Ведь, как мы прикинули, все украденные вещи могли уместиться, самое меньшее, в четырех чемоданах, а то и пяти. Однако никого с чемоданами в руках Софья Семеновна не видела, пока гуляла с внуками.
Кстати, теперь можно более или менее точно установить момент кражи. Софья Семеновна гуляет с внуками первый раз с половины десятого до половины двенадцатого. Инна Борисовна и ее супруг уходят на работу в половине девятого. А Леха сел к Володе в такси уже после кражи, около двух часов дня, заехав предварительно на дачу и отвезя туда краденые вещи. Следовательно, кража могла произойти либо с половины девятого до половины десятого, либо с половины двенадцатого до половины первого, с учетом того, что Лехе надо было время отвезти вещи и очутиться у Белорусского вокзала.
И все-таки — пятая машина. Она не дает мне покоя. Кто мог бы ее видеть, если, допустим, она стояла не во дворе, а здесь, в переулке?
Я останавливаюсь и внимательно оглядываюсь по сторонам. Но переулок пуст. Редкие прохожие не в счет, как и редкие машины, проезжающие мимо. Впрочем, это сейчас, в середине дня. Ну что ж, завтра я приду сюда в половине девятого, тогда посмотрим.
Так размышляя, я выхожу из переулка на шумную, бойкую, кривую улицу со старой, невысокой застройкой и бесчисленными магазинчиками, мастерскими, ателье. Через несколько шагов я натыкаюсь на небольшую закусочную с величественным названием «Памир». Такое название! Я не могу устоять перед искушением и захожу, тем более что изрядно продрог и время как-никак самое обеденное.
В закусочной людно, шумно, накурено, но зато тепло. С трудом отыскиваю свободное место. Никому тут нет до меня дела, я полностью предоставлен самому себе. Особое одиночество в большом городе, когда весь оглушительный шумовой фон вокруг воспринимается как защита, укрытие, нечто вроде спасительной тишины леса, как это ни парадоксально. Но я, по привычке, незаметно и внимательно оглядываю сидящих вокруг людей. Никто не привлекает внимания, глазам решительно не за что зацепиться. И какая-то вечно натянутая, тревожная струна внутри меня на время успокаивается.
Равнодушная толстая женщина в несвежем переднике небрежно сует мне мятый, в жирных пятнах листок с коротким меню.
— Будете выбирать? — спрашивает она, готовясь уйти.
— Нет, нет, — торопливо отвечаю я. — Дайте вот это и это.
Я тыкаю пальцем в первые попавшиеся строчки.
— Этого нет.
— Ну, тогда — что есть.
— Так бы сразу и сказали.
Она исчезает. Я обречен на долгое и тоскливое ожидание.
Всегда есть, слава богу, над чем поломать голову, к чему приглядеться. За соседним столиком, к примеру, идет азартный разговор. Там вплотную уселось человек шесть или семь и, отчаянно дымя, стараются перекричать друг друга. Перед ними пивные кружки, но под столом я различаю и бутылки. Да не так уж старательно их и прячут.
— …А я им говорю: «Фраера, не там ищете». И чуть не носом их сую, веришь? — наконец завладевает вниманием остальных небритый, нагловатый человек лет сорока, всклокоченный, в мятом пиджаке и расстегнутой у ворота рубашке.
— Куда же ты их суешь-то? — спрашивает кто-то.
— Дык в сарай. Где, значит, труп лежит. А один мне говорит: «Ты, грит, выпивший. Давай отсюда». — «То есть как, говорю, давай? Сейчас, говорю, все пьют, кроме совы, и то потому, что она днем спит, а ночью магазины закрыты».
Приятели закатываются смехом.
— А дальше чего было?
— А дальше, — самодовольно продолжает рассказчик, — я, значит, замок с сарая сбил, все внутрь вошли. Куда деться? Сами все увидели. И началось: «Спасибо вам, Василий Прокофьевич», «Что бы мы без вас делали, Василий Прокофьевич», «К награде мы вас, Василий Прокофьевич». Хвостом метут и руку жмут. Век бы они его без меня искали и не нашли.
— И кто же такой?
— Ну-у… Большой человек. Убит при исполнении, можно сказать…
— А Розка моя говорила, артист какой-то. Раздели его во дворе и зарезали. Темень у нас по вечерам, говорят, жуть.
— А ты сам-то что, не видел?
— У него к вечеру глаза уже водкой залиты, — хохочет кто-то.
— Не, Розка знает. Она, значит, вышла меня искать…
— Да иди ты со своей Розкой. Что ж тебе-то, Вась, дадут, сказали?
— Леший их знает. Орден, конечное дело, не дадут. Это они только самим себе дают, по блату, — небрежно отвечает всклокоченный Васька. — Ну, может, грамоту. Они же без меня никак, понял? А ну еще кого хлопнут? Опять ко мне прибегут. Вон наш участковый, Егор Иванович. Строг, стервец. У-у… Мне завсегда говорит: «Вася, ты моя опора. Без тебя, Вася, я никуда».
— Ха! Нашел опору! — насмешливо восклицает кто-то из сидящих за столом.
— Он что у вас, на две ноги хромает и на башку тоже?
Начинается перебранка.
А мне приносят наконец жиденький холодный харчо.
Вот так, между прочим, и возникают слухи. В частности, и от таких вот пропойц. Глупые, вредные, оскорбительные слухи. И только потому, я считаю, что мы сами не даем никакой информации, правдивой, точной, которой привыкли бы верить. Ведь вот о том, что произошло во дворе и в квартире покойного академика, знает уже, наверное, вся округа, а еще через несколько дней будет знать пол-Москвы, по закону прогрессии, как известно. И чего при этом только не напридумает буйная человеческая фантазия, каких только не добавит жутких подробностий и кошмарных фактов, пока не исказит все до неузнаваемости и не заставит дрогнуть самых мужественных и сознательных. А мы продолжаем наивно думать, что если мы ничего не сообщили, то никто ничего и не знает и все кругом спокойно.
Размышляя обо всех этих невеселых материях, я заканчиваю свою трапезу и, закурив, начинаю обдумывать предстоящие дела. Их много у меня, всяких служебных заданий, и вовсе не все они связаны с делом, о котором я вам рассказываю. Ну, а по этому делу мне сегодня надо непременно повидать Виктора Арсентьевича Купрейчика, мужа Инны Борисовны, который так круто обошелся с ее непутевым братцем. Но меня в предстоящем разговоре интересует, конечно, не это. И встретиться нам с Виктором Арсентьевичем лучше всего, пожалуй, в спокойной, домашней, неторопливой обстановке.
Поэтому я из ближайшего телефона-автомата звоню Виктору Арсентьевичу на работу (номер телефона я взял у того же Паши Мещерякова), и мы уславливаемся о встрече. Виктора Арсентьевича мой звонок, как я и предполагал, нисколько не удивляет. За истекшие после кражи дни работники милиции обращались к нему не раз.
Честно вам признаюсь, я, конечно, знал, что эта встреча очень нужна для дела, но всех ее неожиданных последствий я не мог предвидеть.
Итак, около семи часов вечера я звоню, вернее, с силой кручу старомодный звонок в высокой, обитой кожей двери на третьем этаже теперь уже хорошо знакомого мне дома.
Дверь мне открывает седоватый, невзрачный с виду человек, среднего роста, средней упитанности и совершенно незапоминающейся внешности — мелкие, очень правильные черты лица, и никаких особых примет, так, тоже что-то среднее. Таков Виктор Арсентьевич Купрейчик. На нем красивая коричневая пижама поверх белоснежной, расстегнутой у ворота рубашки, коричневые, изящно сшитые брюки и теплые, отороченные мехом домашние туфли.
— Прошу, — говорит мне Виктор Арсентьевич, делая приглашающий жест рукой, и указывает мне на вешалку. — Раздевайтесь.
Из передней мы проходим не в комнату, где я разговаривал с Инной Борисовной, а сворачиваем в узкий коридор и оттуда попадаем в другую комнату. Это, очевидно, кабинет покойного академика, ставший теперь кабинетом Виктора Арсентьевича. Однако прежняя обстановка здесь, как мы говорим, «не нарушена». Громадные стеллажи, набитые книгами, занимают тут две стены, от пола до потолка, возле них на двух овальных, необычайно массивных столах с мощными резными ножками в беспорядке навалены книги и журналы, некоторые даже раскрыты, в других топорщатся бесчисленные закладки. Все это Виктор Арсентьевич, видимо, оставил в неприкосновенности, что, признаться, вызывает уважение, охватывает даже некий священный трепет при входе в такой кабинет.
Третья стена, возле которой стоит огромный кожаный диван, сплошь занята картинами. Я не успеваю их рассмотреть. Они висят плотно, одна возле другой, очень разные по размерам, — пейзажи, портреты, какие-то жанровые сцены, натюрморты. Впрочем, в рядах картин зияют и пустоты. Наверное, это следы кражи. Как это ужасно, черт возьми!
Ну, а дальше, возле высокого окна с плотными шторами, расположен огромный письменный стол, редких размеров, стол, обтянутый посередине зеленым сукном, с красивыми резными тумбами. Стол идеально прибран и почти пуст. Этим он удивительно контрастирует с остальной обстановкой кабинета. Стол, очевидно, — владение Виктора Арсентьевича, это пространство он себе все же отвоевал, решился, расчистил.
Виктор Арсентьевич подводит меня к дивану, придвигает небольшой столик и, попросив секундочку подождать, неслышно исчезает. Я даже не успеваю как следует осмотреться. Кажется, и в самом деле через секунду он возникает вновь, уже с подносом в руках, на котором стоят кофейник, чашки, лимон, сахар, вазочка с печеньем и кувшинчик с молоком.
— Ну, знаете, — улыбаюсь я, — если вы каждого работника милиции будете угощать кофе… Он теперь, между прочим, дорогой.
— Каждого я угощать не собираюсь, — спокойно, даже деловито возражает Виктор Арсентьевич. — Но первое знакомство надо как-то отметить.
Я еще по дороге вспомнил все, что Петя мне рассказал о нем: пытался ухаживать за молоденькой соседкой Гвимара Ивановича Лелей, с которой тот его познакомил; показывал вот эти самые картины сестре художника Кончевского и выдавал себя за знатока. Гм… Что-то больно уж легкомысленно для такого серьезного, сдержанного человека. Что-то не верится, чтобы он вдруг принялся ухаживать за первой попавшейся девчонкой. Та ведь могла и придумать, или Петя, возможно, что-то напутал. После случая с Музой-Шоколадкой я с особой настороженностью отношусь к сведениям, которые мы получаем. Ну, а если все верно, то этот человек, выходит, в разных ситуациях бывает очень разным, и это надо иметь в виду.
— Ну-с, теперь я вас слушаю, — говорит Виктор Арсентьевич, аккуратно и не спеша разливая по чашечкам кофе.
— У вас есть какие-нибудь подозрения относительно этой кражи? — спрашиваю я. — Ведь воры не случайно набрели на вашу квартиру.
— Согласен. Но подозрения…
Он задумчиво отхлебывает дымящийся кофе и качает головой.
— У нас, между прочим, есть подозрение, что кражу совершили приезжие, — продолжаю я, тоже берясь за чашечку с кофе. — Пока, правда, это только подозрение. У вас в доме бывают приезжие?
— Бывают. Изредка, — сдержанно отвечает Виктор Арсентьевич.
— Вам знаком, например, Гвимар Иванович Семанский?
Я чувствую, как настораживается мой собеседник, хотя выражение лица у него по-прежнему устало-спокойное и рука, держащая чашечку с кофе, ничуть не дрогнула. Вот только еле заметно сошлись вдруг тонкие брови и прищурились глаза. Всего лишь на миг.
— Да, знаком.
Он не торопясь ставит чашечку на столик и закуривает, машинально придвигая к себе большую хрустальную пепельницу. И, видимо, ничего больше рассказывать мне не собирается.
— Кто он, откуда? — спрашиваю я.
— Вы, простите, в связи с чем им интересуетесь, если не секрет? — впервые сам задает вопрос Виктор Арсентьевич.
— В связи с его смертью, — говорю я.
— Что-о?!
Он подскакивает в кресле как ужаленный и чуть не роняет сигарету. В глазах неподдельный испуг. Ого, как он умеет волноваться, оказывается.
— Он что же… умер?
В ответ я лишь сокрушенно вздыхаю и утвердительно киваю головой. Пусть теперь он задаст мне несколько вопросов. Из них порой можно узнать больше, чем из ответов. Ведь вопросы человек задает тоже не случайные и при этом контролирует их не так строго, как свои ответы, особенно когда взволнован вот так, к примеру, как сейчас Виктор Арсентьевич.
— Как же так… умер? Отчего, разрешите узнать? — нетвердым голосом спрашивает наконец Виктор Арсентьевич, и сигарета пляшет у него в руке.
— Убит, — коротко отвечаю я.
— Не… не может быть… — лепечет Виктор Арсентьевич, не сводя с меня перепуганных глаз и окончательно забыв о сигарете и о кофе. — За… за что, боже мой?
Казалось, такой спокойный человек — и вдруг… Близким другом был ему этот Гвимар Иванович, что ли? Но тогда он бы уже знал о его смерти или давно искал бы его. Ведь прошло уже пять дней с момента убийства.
Но тут Виктор Арсентьевич, словно прочтя мои мысли, внезапно успокаивается и берет себя в руки. Лицо его снова приобретает устало-спокойное выражение, лишь легкий румянец на скулах напоминает о пережитом волнении.
— Кто же совершил это… преступление? — слегка запинаясь, спрашивает он.
— Вот, ищем.
— Вы, значит, не кражей занимаетесь, а… убийством? — снова задает вопрос Виктор Арсентьевич, впервые решившись произнести это страшное слово, и добавляет: — Или… они связаны?
— Пока ничего вам на этот счет сказать не могу. Сами еще не знаем, — вполне искренне отвечаю я. — Хотя связь тут, конечно, напрашивается.
— Кражей ведь до сих пор занимались другие товарищи, — замечает Виктор Арсентьевич, — поэтому я и подумал… Вы, наверное, из другого подразделения? Они про убийство, — он все легче произносит это слово, — меня не спрашивали.
Ишь ты, какой наблюдательный. Но я оставляю его вопрос без ответа, давая понять, что такие детали его не должны интересовать, и в свою очередь спрашиваю:
— Надеюсь, теперь вам понятно, в связи с чем я интересуюсь Гвимаром Ивановичем? Поэтому расскажите, кто он, откуда, зачем приехал в Москву?
Постепенно Виктор Арсентьевич более или менее успокаивается, с минуту он задумчиво курит, потом не спеша отхлебывает кофе и наконец говорит:
— В сущности, я его мало знаю. Говорил, что в командировке здесь. Работает в Киеве, кажется, в Министерстве текстильного машиностроения. А познакомились случайно, в доме одного художника. Я, знаете ли, интересуюсь живописью. Правда, это все, — он указывает на висящие над моей головой картины, — от тестя осталось. Но кое-что я все-таки добавил. Если бы не эта кража… Ведь лучшие вещи, негодяи, унесли!
— Выходит, разбирались в живописи, — замечаю я.
— Вот именно! Такой теперь жулик пошел.
— А Гвимар Иванович тоже разбирался в живописи?
Виктор Арсентьевич бросает на меня быстрый взгляд и тут же отводит глаза, потом, чуть помедлив, задумчиво говорит:
— Я, между прочим, об этом не подумал. А это мысль. Гвимар Иванович бывал у меня, он разбирался в живописи, да я ему и сам указал наиболее ценные картины, и он был приезжим. Неужели все сходится?
— Далеко еще не все, — усмехаюсь я. — Почему вы так быстро заподозрили Гвимара Ивановича, что-то еще вспомнили?
— Я? И не думал подозревать. И решительно ничего не вспомнил, — равнодушно пожимает плечами Виктор Арсентьевич. — Вы же сами меня спросили о нем. И сказали что подозреваете приезжих. А он ведь приезжий. Только и всего. Но вот кто мог его убить и за что, за что? — снова задает он вопрос, который, видно, не дает ему покоя.
— Узнаем, — заверяю я его. — Все тайное становится явным. Где-то я про это читал.
— А все-таки жутковато, признаться, — он ежится. — Где-то рядом ведь смерть ходит. Бр-р-р… Одна надежда, что найдете этих душегубов.
— Особенно если вы нам поможете.
— Охотно. Сам заинтересован не знаю как. Но чем я могу помочь?
— Пока что меня интересует Гвимар Иванович — все, что вы о нем знаете.
— Я же вам все сказал.
— Думаю, не все еще, — улыбаюсь я. — Сразу разве все вспомнишь.
— А вы мне подскажите, что именно вас интересует, — ответно улыбается Виктор Арсентьевич, закуривая новую сигарету. — Легче будет вспоминать.
— За подсказку наказывают, — отвечаю я. — Вы уж сами.
— Надо подумать… Дайте на всякий случай ваш телефон.
Он записывает мой телефон, имя, фамилию. И разговор продолжается.
— Вы не вспомните, — говорю я, — кто еще из приезжих бывал у вас за последнее время?
— Больше никто не бывал, — отвечает Виктор Арсентьевич и бросает на меня усталый взгляд, потом слабо улыбается. — А насчет Гвимара Ивановича, я чувствую, вы что-то недоговариваете. Так ведь?
— Это не столь опасно, как если вы будете недоговаривать, — уклончиво возражаю я, давая понять, что и в самом деле знать все, что знаем мы, ему не положено, потом задаю новый вопрос: — Ваша супруга тоже знала Гвимара Ивановича?
— Так, мельком. Как-то чаем его угостила.
— Рассказывал вам Гвимар Иванович о своей семье?
— Нет. Я даже не уверен, что она у него была.
— Но адрес свой он вам оставил, в Киеве?
— Представьте, нет, — разводит руками Виктор Арсентьевич. Он снова разливает по чашечкам кофе, и мы продолжаем беседу.
— А где вы бывали с ним, кроме сестры художника Кончевского?
— Пожалуй… Сейчас что-то не припомню. Но я постараюсь.
Трудный идет разговор. Главная ниточка его причудливо петляет, то исчезая, то возникая вновь уже в другом месте, то натягиваясь, то ослабевая. В таких непростых разговорах необходимо улавливать каждую интонацию, каждый взгляд и пытаться понять затаенную мысль человека, сидящего напротив тебя, мелькнувший в его словах намек или случайную оговорку.
Вот и сейчас мне начинает казаться, что мы словно играем с Виктором Арсентьевичем в известную детскую игру «тепло — холодно». Я то приближаюсь к чему-то важному, и становится «теплее», то невольно или сознательно удаляюсь в сторону, и тогда становится «холодно». И у Виктора Арсентьевича происходит то же самое, с той лишь разницей, что он, по-моему, знает, где «горячо», но пускать меня туда не собирается. Да, он явно чего-то недоговаривает. Боится? Но чего? Скорей всего, быть замешанным в какую-нибудь историю. Ведь подозрительным знакомым обзавелся он, что ни говори. Вот тот и устроил ему сюрприз.
Мы оба наконец устаем и по обоюдному согласию откладываем разговор до следующего раза, условившись о новой встрече.
— Скажите, по работе вы с Гвимаром Ивановичем не сталкивались? — мельком спрашиваю я напоследок.
— Нет, что вы, — снисходительно улыбается Виктор Арсентьевич.
Мы прощаемся.
Да, какой-то странный происходит у меня в тот вечер разговор. Однако дальнейшие события запутывают все еще больше.
Глава 5
ПУТЬ ВЕДЕТ НЕПОНЯТНО КУДА
Допрос Музы Кузьмич провел сразу после задержания Чумы. Сам провел, лично. Ведь он был полностью в курсе дела. А я в это время еще только шел на свидание с Виктором Арсентьевичем, ничего не ведая о случившихся в этот день важных событиях. Да и все равно допрашивать Музу мне не следовало. У нас с ней возникли «свои» отношения, ведь она меня обманула и предала. У Денисова тоже отношения с ней были непростые. Правда, обманул ее он, хотя и не предал, а скорее даже спас от Чумы, помешал отъезду из Москвы, которого она и сама не хотела. Но все равно нужного разговора с ней у Вали могло не получиться. А вот Кузьмич — другое дело, его Муза вообще не знала. Кроме того, разговор с ней следовало провести очень тщательно, ведь Музу потом предстояло отпустить. И кто знает, с кем она после этого встретится, чтобы рассказать о случившемся. Веры ей нет никакой. И потому каждое необдуманное слово, сказанное ей, может привести к неприятности, а то и к беде.
…Музу попросили подождать в коридоре, возле кабинета Цветкова. Она все еще находилась в каком-то шоковом состоянии и не могла прийти в себя после всего, что случилось, особенно, конечно, после сцены задержания у нее на глазах Кольки-Чумы. Первые минуты в машине (ее везли, естественно, отдельно от Чумы) она рыдала в три ручья, и ребята дали ей выплакаться, никак не пытаясь успокоить. Последнее обстоятельство Музу, очевидно, раздосадовало, она не привыкла к такому безразличному отношению к себе мужчин. Она постепенно перестала плакать и, лишь обиженно всхлипывая и осторожно промокая глаза скомканным платочком, попыталась узнать, что же все-таки произошло и куда ее везут. Вид у нее был растерянный, испуганный и чуть заискивающий. Видно было, что она и в самом деле не понимает, что произошло. Ей коротко сказали, что везут ее в милицию и там все объяснят.
— Не имеете права! — раздраженно воскликнула Муза. — Вы за это ответите! И за Колю тоже, вот увидите.
Уже в коридоре, перед кабинетом Цветкова, она судорожно схватила одного из сотрудников за рукав и испуганно спросила:
— Меня отпустят? Имейте в виду, у меня маленький ребенок один дома. Мне надо к нему.
— Уж как-нибудь мама ваша за ним присмотрит, — насмешливо ответил сотрудник. — Ей, кажется, не привыкать.
— А вам какое дело, кто за моим ребенком смотрит! — прицепилась к нему Муза. — Вам-то что? Я вас о другом спрашиваю!
Но крикнула она это все ему вдогонку и ответа не дождалась, а больше прицепиться в этот момент было не к кому.
Через минуту ее пригласили в кабинет Кузьмича. И она сразу притихла, снова став робкой и испуганной.
Вид Кузьмича, седая его голова и спокойный, твердый взгляд к ссоре и истерике не располагали.
— Садитесь, Муза Владимировна, побеседуем, — негромко сказал Кузьмич, указывая на стул возле своего стола.
Муза послушно и молча опустилась на самый краешек стула. Она с трудом сдерживалась, чтобы снова не разрыдаться, и машинально продолжала мять в руке мокрый от слез платочек.
— Мне кажется, вы не совсем поняли, что случилось? — все так же спокойно и даже чуточку участливо спросил Кузьмич.
Муза молча кивнула, боясь расплакаться.
— Что ж, я вам объясню, — едва заметно усмехнувшись, продолжал Кузьмич.
— У вас на глазах был задержан опасный преступник, трижды до этого судимый и отбывший разные сроки наказания, некий Совко Николай Иванович. Задержан он сейчас по подозрению в убийстве и краже. Вот с кем вы подружились, Муза Владимировна.
— Неправда! — вдруг с силой произнесла Муза и впервые взглянула в глаза Кузьмичу. — Он секретный сотрудник, он майор.
— Что?! — изумленно переспросил Кузьмич. — Какой он секретный сотрудник, какой он майор, да вы что?
— Да, да. Он мне сам сказал. Он в Москву только в командировку приезжает, — горячо продолжала Муза. — Здесь какая-то ошибка. И убивал… у него такое задание было. И ему выдали пистолет.
— И это все он тоже вам сказал? — хмурясь, досадливо спросил Кузьмич.
— Да. И я дала ему слово, что никому об этом не скажу. Но теперь… приходится.
Кузьмич внимательно и как бы заново посмотрел на Музу, словно желая понять, кто все-таки перед ним сидит — обманщица или вовсе сбитая с толку, глупая девчонка, и, видимо, остановился на последнем.
— Ну и ну, — он покачал головой. — Надо же суметь поверить такой чуши. Вы, простите, какое кино больше всего любите смотреть, про шпионов, да?
— Вы из меня дурочку не делайте, — осмелев, обиженно сказала Муза.
— Это не я из вас дурочку сделал, — поморщился Кузьмич. — Ну, а чтобы вам сразу стало ясно, сейчас мы кое-что вам покажем.
Он снял трубку одного из телефонов и, набрав короткий номер, сказал:
— Мария Николаевна, вы получили последние материалы на Совко и его фотографии?.. Прекрасно. Принесите их мне, пожалуйста… Да, да. Все, какие получены… Ну и отлично.
Положив трубку, он посмотрел на притихшую, испуганную Музу и досадливо потер ладонью ежик седых волос на затылке.
— Сейчас вы убедитесь, кто ваш приятель, — сказал он, вздохнув. — А пока расскажите, как вы с ним познакомились.
— Мы случайно познакомились, — тихо, не поднимая глаз, ответила Муза. — Он в наш ресторан зашел, сел за мой столик. Это год назад было.
— Один зашел?
— Нет. Еще с одним… гражданином.
— Больше вы этого гражданина не видели?
— Как-то видела. Не помню уж когда.
— А вы вспомните. Я вас не тороплю.
— Кажется, в другой Колин приезд… Они опять к нам в ресторан зашли, обедали.
— Имя его помните, этого гражданина?
— Нет…
— Постарайтесь вспомнить.
В этот момент в кабинет вошла немолодая, строгая женщина и, даже не взглянув на Музу, положила перед Кузьмичом темную папку. Тот кивком поблагодарил, и женщина вышла.
— Ну вот, — Кузьмич раскрыл папку. — Узнаете?
Он достал из папки несколько фотографий и протянул Музе. На них стандартно, анфас и профиль, прижавшись затылком к специальной стойке, был снят явно в разные годы Колька-Чума. Потухшие его глаза на отрешенном, заросшем светлой щетиной лице не вызывали сострадания, такая злая, согнутая лишь до времени сила угадывалась в этом человеке.
Муза испуганно перебрала фотографии и спросила:
— Это что такое?
— Сначала вы мне скажите, кто это такой?
— Это… Коля.
— А снят в разные годы, когда его судили. Сначала за драку, потом за кражу, наконец, за вооруженный грабеж. Вот такая распрекрасная биография. Можете посмотреть последнее обвинительное заключение, если желаете. Вот оно.
Кузьмич достал из папки толстую, прошитую стопку листов.
— Нет, нет, не надо, — Муза устало махнула рукой. — Я и так верю.
— Как угодно, — пожал плечами Кузьмич, снова пряча бумаги в папку. — Тогда вернемся к нашему разговору. Как же звали того гражданина, постарайтесь вспомнить. При вас Николай к нему как-то обращался, наверное?
— Кажется, обращался…
— Вот, вот. Как он его называл?
— Ну, не помню сейчас… как-то… Лев… Лев… не помню дальше.
— Ладно. Хотя бы — Лев. А выглядел он как?
— Выглядел?.. — Муза, задумавшись, провела рукой по лбу. — Ну, такой невысокий, пожилой, усы седые…
— Николай не говорил вам, кто этот человек?
— Нет. Я вообще ничего не должна была его спрашивать. У него была секретная работа, так он мне сказал.
— Так, так. Ну, а как вы познакомились с Гвимаром Ивановичем?
Муза метнула на Кузьмича испуганный взгляд.
— А вы… откуда его знаете?
Кузьмич вздохнул.
— Приходится кое-что знать. Чтобы вот таких «секретных майоров» разыскивать. Так как вы с Гвимаром Ивановичем познакомились?
— Он однажды пришел обедать. С Колей и с тем седым…
— А потом?
— А потом один пришел.
— Когда это было?
— Не помню уж. Давно.
— Что вам Гвимар Иванович рассказывал о себе, где живет, где работает?
— Ну, что… Холостой, конечно. Живет на Кавказе, в Южноморске. Дом прямо около моря. А работает… я даже точно не знаю.
— Он предлагал вам замуж за него выйти?
— Предлагал…
— Вы отказались?
— Да…
— А почему?
— Ну, как так — почему? Не люблю его, и все.
— Но дорогие подарки вы у него все-таки брали, так?
— Ну, если дарит… — Муза пожала плечами. — Он сказал, что обидится, если я не возьму. Вот я и…
— Понятно, — вздохнул Кузьмич. — Как тут не взять. Хорошо еще, что не вы свою дочку воспитываете.
— Захочу, и буду сама воспитывать, — Муза дерзко блеснула глазами. — Не запретите.
— В том то и дело. Вопрос только, удастся ли нам потом ее перевоспитать, чтобы понимать научилась, что хорошо и что плохо.
— Не беспокойтесь, как-нибудь сама объясню.
— Приходится беспокоиться. Чтобы дочке вашей тоже какой-нибудь Колька-Чума поперек жизни не встал.
— Как… вы сказали? — неуверенно спросила Муза. — Чума?..
— Чума, — спокойно подтвердил Кузьмич. — Это его воровская кличка. Не очень приятная, а? Зараза, причем опаснейшая. И вы, Муза Владимировна, сами были уже в двух шагах от преступления, от тюрьмы. Потому что связаться с Колькой-Чумой и не совершить преступления невозможно. Он бы вас заставил. Ведь заставил бежать из Москвы? Очень вам это хотелось?
— Нет, что вы! — испуганно воскликнула Муза.
С нее уже сошла минутная дерзость, она снова выглядела жалкой, растерянной и в этот момент совсем некрасивой.
— С Колькой можете проститься, — сухо продолжал Кузьмич. — Но, к сожалению, нет уверенности, что какой-нибудь другой Чума не подцепит вас на веселую жизнь и на такую вот дубленку. Куда уж вам дочку воспитывать. Вас еще… Словом, должен предупредить, — перебил сам себя Кузьмич. — Мы с вас теперь глаз не спустим, учтите. И с нами вам будет не очень-то весело, тоже учтите. А сейчас пойдем дальше. Да! И еще учтите, что Гвимар Иванович убит.
— Что?! — Муза в испуге прижала ладонь ко рту, словно боясь закричать.
— А кого Колька-Чума по секретному заданию убил, он вам разве не сказал?
— Он сказал… глупость какую-то… Я уже не помню…
— Ага. Хорошо, что вам хоть сейчас это кажется глупостью. А теперь, Муза Владимировна, попрошу вас хорошенько вспомнить последнее воскресенье. Что вы с утра делали в тот день?
— Я… сейчас… — она помедлила. — Ну, да… Я на работу поехала.
— А Николай?
— Он тоже ушел.
— Когда вы его снова увидели?
— Вечером. Поздно. Когда с работы вернулась. Я хорошо помню. Он очень взволнован был. Тогда и признался… Насчет задания.
— И показал пистолет?
— Да…
— Что он вам сказал про убийство, где убили, кого, когда?
— Сказал, что два часа назад убили или три. Не помню. И все. А кого… Ну, сказал, что врага. Я больше не спрашивала. Да! Еще сказал, что теперь его самого могут выследить и… тоже убить. Враги…
— Поэтому вы ему и сообщили про того человека, который с Лехой пришел к вам на встречу?
— Да…
— Ловко вы того человека обвели. Ловко, ничего не скажешь. Дорого ему обошлось это доверие к вам, очень дорого.
— Что они с ним… сделали? — робко спросила Муза.
— Напали. Внезапно, вдвоем. Однако жив он остался. Иначе… Ну да ладно. Значит, воскресенье вы вспомнили. Пойдем дальше. Следующий день — понедельник. С утра вы были дома?
— Да…
— А Николай когда ушел?
— Он со мной был.
— Это не так. Вспомните получше. Утром он ушел.
— Да не уходил он. Точно вам говорю. Он боялся выйти. Даже в булочную. Только по телефону звонил. Я же помню.
— Не может быть, — покачал головой Кузьмич. — Утром он ушел.
Конечно же Чума ушел. Ведь утром он участвовал в краже из квартиры покойного академика и потерял там перчатку.
— А я вам говорю, не уходил, — упрямо повторила Муза. — Я очень хорошо помню. И вообще… Ну, зачем мне вас обманывать… теперь уже?
«В самом деле, — подумал Кузьмич, — зачем ей обманывать именно в этом пункте? Может быть, Колька спрятал у нее часть вещей с кражи? И, выгораживая его, она отводит подозрение и от себя? Тогда нужен немедленный обыск у нее, у матери, где-то еще, куда она могла отнести краденые вещи. И если ее сейчас отпустить, она может эти вещи сразу же перепрятать, даже уничтожить. Но если она знает про кражу, значит, врет про „секретного майора“, тот никак не мог совершить квартирную кражу. Хотя придумать этого „майора“ сама она не могла, она могла только в него поверить. Значит… значит, она ничего о краже не знает. Но тогда почему ей не сказать, что Колька утром ушел из дома? Странно. Рассказать про убийство и скрывать кражу. Почему она это делает? До этого необходимо докопаться».
— Вас сейчас допросит следователь, который ведет дело Совко, — строго сказал Кузьмич. — Советую хорошенько вспомнить утро понедельника. Хорошенько.
На тумбочке возле кресла зазвонил один из телефонов. Кузьмич взял трубку и, откашлявшись, сказал:
— Цветков.
— Товарищ подполковник, — донесся до него голос дежурного. — Только что получено сообщение. Раненый Шухмин в машине такси ведет преследование какого-то красного «Москвича». Маршрут движения известен. Подключил оперативные машины. Сейчас они примут объект.
Когда я возвращаюсь на работу после беседы с Виктором Арсентьевичем, то застаю в кабинете Кузьмича, следователя прокуратуры Виктора Анатольевича, тезку моего недавнего собеседника, и Валю Денисова.
— Вовремя прибыл, — кивает мне Кузьмич. — У нас тут все дымится. Вот он, — Кузьмич указывает на Валю, — только что Чуму взял.
— Ну да?! — удивленно восклицаю я.
Но это, конечно, от неожиданности, ибо рано или поздно, но это должно было неизбежно случиться.
— А Муза? — тут же спрашиваю я.
— У нас, — отвечает Кузьмич. — Виктор Анатольевич сейчас будет ее допрашивать. Так вот, — он поворачивается к следователю. — Странное дело. Убийство за Совко она подтверждает, мол, признался он ей в этом. А вот его участие в краже — нет. По ее словам, он все утро то сидел, мол, дома. Никуда якобы не выходил. Боялся нос высунуть. А у нас между тем…
В этот момент ко мне наклоняется Денисов и негромко сообщает:
— Петр наш в госпитале.
— Что случилось?!
Черт возьми, сколько событий в один день! Дело разворачивается, как туго сжатая пружина.
Валя коротко рассказывает, что произошло с Шухминым, и в заключение говорит:
— Отличный парень этот Аверкин. К нам попросился. Говорит, пока его Петр по пути уговаривал, он еще колебался, а как раненого его подобрал, так сразу решил. Во чудик! Всякий другой как раз наоборот бы поступил. — И, как бы объясняя этот странный поступок, Валя заключил: — Ракетчик. Только что демобилизован.
И мне почему-то тоже все становится ясно.
— От группы наблюдения за этим «Москвичом» сведений нет? — спрашиваю я Валю.
Но отвечает услышавший мой вопрос Кузьмич:
— Есть. Довели машину по адресу. Вышли двое. Один в зеленом кашне. Его до убийства и кражи несколько раз видели во дворе.
— Да, — подтверждаю я. — Он и по моим данным проходит.
— Из машины ничего не вынесли, — продолжает Кузьмич. — Вещей при них, выходит, не было. И задерживать их было бессмысленно.
— А по факту наезда? — спрашиваю я.
— Наши осмотрели машину, пока она там стояла. Следов от удара нет. Свидетелей тоже нет. А Шухмин в качестве пострадавшего спутает нам все карты, мне кажется. Лучше мы некоторое время за ними посмотрим. Они же нас куда только не приведут. Как считаешь, Виктор Анатольевич, или брать их немедленно?
Виктор Анатольевич следователь старый, опытный, мы с ним не одно дело «поднимали», и к его мнению все прислушиваемся. Формально он может дать любое распоряжение нам, но он прекрасно понимает, что мы тоже не бобики, что у нас в руках куда больше не фактов, нет, о них мы ему все сообщаем, а всяких предположений, что ли, не проверенных еще до конца, всяких, казалось бы, побочных сведений, которые, однако, если их сопоставить, могут натолкнуть на полезные выводы. У нас, наконец, уйма связей, знакомств, источников информации, которых у него нет. И потому Виктор Анатольевич всегда очень уважительно относится к нам. Особенно к Кузьмичу, и тот ему платит тем же. Кузьмич о нем сказал как-то: «Видите? Никогда внутри дела не бегает. Стратег. Учиться у него надо». Впрочем, иногда они спорят между собой, но по-особому, я, например, так спорить не умею — спокойно, не спеша, даже как будто задумчиво.
Но сейчас Виктор Анатольевич согласен с Кузьмичом.
— Да, — говорит он, — арестовывать их сейчас не стоит. Это всю шайку переполошит, разбегутся кто куда.
— А арест Чумы разве их не переполошит? — спрашиваю я.
— Другое дело, — качает головой Кузьмич. — Они уже в курсе, что мы Чуму и Леху знаем в лицо. Чума может попасться в любой момент, они это понимают. Даже на улице.
— Но ведь Муза расскажет, как было дело, — не сдаюсь я.
— Не думаю, — медленно говорит Кузьмич. — Убийство Гвимара Ивановича очень ее напугало, сидеть будет сейчас как мышь. Да и кому ей рассказывать? Знает она, кроме Чумы, одного только Леху, и тот к ней сейчас ни за что не придет. Вот интересно, что нам скажет Виктор Анатольевич после допроса.
А Виктор Анатольевич смотрит на часы и поднимается.
— Пойду, — говорит он. — Пора.
Когда он уходит, Кузьмич заключает:
— Путь к Лехе, милые мои, сейчас только через Чуму. Да и к другим, кто покрупнее, тоже. Муза нам тут не помощник.
— Федор Кузьмич, — подает голос молчавший до сих пор Денисов, — а что из Южноморска сообщают?
— Вот, вот, — подхватывает Кузьмич. — Кое-что сообщают.
Он встает из-за стола и, оттянув тяжелую дверцу несгораемого шкафа, в которой болтается связка ключей, достает тонкую зеленую папку и с ней возвращается к столу.
— Значит, так, — надев очки, он просматривает бумаги. — Вот по Совко они сообщают… ну, кроме судимостей, это мы и сами знаем… так. Вот адрес его. Мать пенсионерка, работала в санаториях поварихой. Отец умер. Имел, между прочим, две судимости. Правда, хищения. В торговой сети работал.
— Это уже для ученых, — смеюсь я. — Насчет преступной наследственности. А давно умер?
— Всего пять лет назад. Когда Чума уже второй срок отбывал. Теперь дальше. Жена у него. Тоже повар, кстати. В санатории работает. Дочь, семь лет, в первом классе учится. Отношения в семье плохие. Жена на развод подала. А мать за него. Ну, и ссоры, конечно. А дочка между ними.
— Веселая жизнь, — вздыхаю я. — Девочку вот жалко.
— Всех жалко, — сурово поправляет меня Кузьмич. — Один подлец три жизни калечит, не считая своей собственной.
— А с виду прямо-таки высококультурный товарищ, — усмехается Валя. — Такой придет в гости, не будешь знать, куда посадить.
— И потому вдвойне опасен, — заключает Кузьмич. — Теперь дальше. Леха, — он достает новую бумагу. — То есть, значит, Красиков Леонид Васильевич. Есть мать и сестра, живут вместе. Сестра разведенная, бухгалтер в магазине. Но Леха бывает там редко.
— Где же он живет? — интересуюсь я.
— А вот и неизвестно, — многозначительно отвечает Кузьмич. — И у него и у Чумы обширные связи среди подучетного элемента. Однако об их поездке в Москву никто ничего не знал. Никто! Даже под пьяную лавочку они никому о поездке не проговорились. И еще есть непроверенные данные о их связях с какими-то дельцами. Характер этих связей тоже неизвестен. Словом, все туманно. Хотя намеки и есть, улавливаете?
— А как же, улавливаем, — отвечаю я за себя и за Валю.
Тот лишь рассеянно кивает. И чудится мне, что мысли Вали где-то очень далеко в этот момент. Совсем это на него не похоже. Что-то с ним творится.
— Но самое интересное, — продолжает Кузьмич, перебирая бумаги, — это насчет Гвимара Ивановича Семанского. Был директором магазина мелкооптовой торговли. Это, между прочим, необычные магазины, за наличный расчет не торгуют, а только безналичным путем со всякими предприятиями. И идет через такой магазин всякая мелочь — спецодежда, обувь, белье для общежитии, инструмент кое-какой. Вот так мне объяснили, словом. И много, говорят, там не наглотаешься.
— Потому небось и ушел, — насмешливо замечаю я. — С голода.
— Возможно, — соглашается Кузьмич. — Потому как ушел чистым и по доброй воле, так сказать. Но был бы голоден, в другое место устроился, посытнее. А он… — Кузьмич берет в руки следующую бумагу. — Вот пишут: «По нашим данным никуда до сих пор на работу не устроился». По их данным! — Кузьмич многозначительно поднимает палец. — А в Москве представился командировочным. Так ведь?
— Так, — подтверждаю я. — И Виктору Арсентьевичу, и Александре Евгеньевне Кончевской, и Леле, и Музе. Словом, всем.
— А посмотрите, Федор Кузьмич, — неожиданно вмешивается Денисов. — Там не сказано, в каком магазине работает бухгалтером сестра Лехи?
— Поглядим, — отвечает Кузьмич и начинает перебирать лежащие перед ним бумаги. — Так… так… Не указывают. А, погоди-ка! Может, тут… Ну вот. Магазин мелкооптовой торговли. Смотри пожалуйста. Весьма интересно. Молодец, Денисов, ухватил. Это запомнить надо. Тот самый магазин. Вот и номер сходится. Ну, а теперь давай, Лосев…
В этот момент звонит один из телефонов, и Кузьмич, на секунду задумавшись, который же из них звонит, снимает трубку, тут же бросает ее и хватается за другую.
— Цветков слушает… Так… Так… Соберите все установочные данные на обоих и — Мещерякову… Да, да, он полностью в курсе. Красный «Москвич» на чье имя?.. А зеленые «Жигули»?.. Аверкин часть номера, кажется, назвал. Погоди… — Кузьмич смотрит на Валю. — Ты не помнишь?
— Серия МКЖ, а первые две цифры один и семь, — немедленно отвечает Валя. — Аверкин уверенно назвал, можно не сомневаться.
Кузьмич кивает, как бы соглашаясь, и передает невидимому собеседнику то, что сообщил Валя, после чего они прощаются.
— Выходит, красный «Москвич» и зеленые «Жигули» связаны только парнем с зеленым кашне, — говорю я. — Жидковато что-то.
— И еще дачей, — добавляет Валя. — Зеленые «Жигули» собирались туда ехать, а красный «Москвич» ехал оттуда. Одна и та же дача.
— М-да, — скептически произносит Кузьмич. — Что-то тут жмет, как хотите. Две машины. И сама преступная группа больно большая. И пестрая какая-то. Глядите: Чума, Леха, тот низенький, седой и эти двое, из «Москвича».
— Не считая убитого Гвимара Ивановича, — добавляю я. — Кстати, Виктор Арсентьевич тоже на него указал. Ну, с сомнением, конечно, но все же.
— Вот, вот, — подхватывает Кузьмич и с досадой качает головой, потом обращается ко мне: — Давай-ка, Лосев, доложи, что ты сегодня успел.
— Главное, это, я считаю, встреча с Виктором Арсентьевичем Купрейчиком, — говорю я. — Очень интересный у нас был разговор. Он, видимо, хорошо знал Гвимара Ивановича, гораздо лучше, чем хочет показать. Есть в его рассказе несколько таких слабинок. Ну вот, например. Говорит, что познакомился с Гвимаром Ивановичем у какого-то художника, случайно. Но имени этого художника не назвал. Я, правда, не нажимал, еще раз об этом мимоходом спросил, и все. И он вторично от ответа ушел. Но к Кончевским, брату и сестре, они пришли около года назад уже приятелями. Дальше. Жена Купрейчика называет Гвимара Ивановича сослуживцем мужа, он якобы в командировку на фабрику приезжает, где Купрейчик работает. Говорит о их служебных разговорах в кабинете, куда они удалялись. Она им чай туда подавала. А вот Купрейчик мне сказал, что знакомство это случайное и что связывал их только интерес к живописи. Дважды об этом упоминал. Дальше, третья неувязочка. Купрейчик мне сообщил, что Гвимар Иванович приехал якобы из Киева, работает там в Министерстве текстильного машиностроения. Неясно, то ли Гвимар Иванович его обманул, то ли Виктор Арсентьевич решил обмануть меня. Скорее все-таки первое. И еще один неясный момент. На мой вопрос, бывал ли он у Гвимара Ивановича, когда тот в Москву приезжал, ответил, что нет, не бывал. А он бывал, даже пытался там за соседкой ухаживать, помните, Шухмин докладывал, Лелей ее зовут?
— Помню, помню, — кивает внимательно слушающий меня Кузьмич, не отрывая глаз от карандашей, которые он машинально раскладывает перед собой на столе.
— Это еще в прошлый приезд Гвимара Ивановича в Москву он его с этой Лелей познакомил. И уже тогда представил Купрейчика как приятеля. Следовательно, знакомство их было давнее и близкое. А мне он старался представить сегодня это знакомство как совсем недавнее и шапочное. Впрочем, прямого вопроса, когда именно они познакомились, я не задавал. Лишь уловил его позицию, и все, уличать не стал.
— Правильно, — одобряет Кузьмич и добавляет: — Вообще это по-человечески даже понять можно. Позицию такую. Человек убит, дело темное. А тут еще и кража к нему тянется. Лучше подальше от всего держаться. Такой возможности не упускай. Не настраивай себя заранее на обвинительный лад, опасно это. Пока что Купрейчик жертва преступления, не забывай.
— Не забываю, Федор Кузьмич, — с сомнением в голосе отвечаю я. — Но все-таки кое-что тут настораживает, вы согласны?
— Что ж, пожалуй. Разговор надо с ним продолжить, вот и все.
— Он и сам так настроен. Телефон мой записал.
— Вот и прекрасно. Что еще у тебя?
— А еще одна женщина во дворе узнала по фотографии Чуму.
— Та-ак, — настороженно произносит Кузьмич.
— Он к ней подсел во дворе, когда она с внуками там гуляла, — продолжаю я. — Расспрашивал про жильцов, и в том числе про квартиру Купрейчика. Кто там живет, когда уходят, когда приходят. Словом, велась обычная подготовка к краже.
— Все это они должны были от Гвимара Ивановича знать, — говорит Денисов.
— Всего он мог и не знать, — возражаю я.
— Узнала Чуму, говоришь? — задумчиво спрашивает Кузьмич.
— В том-то и дело. И это тоже подтверждает его участие в краже. Не говоря уже о перчатке. Кстати, вторую при нем не нашли? — обращаюсь я к Вале.
— Нашли, — отвечает тот, — почему-то он ее не выбросил. — И в свою очередь спрашивает: — А зеленые «Жигули» эта женщина во дворе не видела?
— Нет, — говорю я. — Они же на улице стояли, их ведь тот таксист видел, как его?
— Аверкин, — подсказывает Денисов. — Он-то и видел их там. Но во двор они, значит, не заезжали ни разу, даже в день кражи?
— Выходит, что нет.
— А я все-таки думаю, что в тот день, вернее в то утро, они во двор заехали, — качает головой Валя. — Хоть на минуту. Четыре или даже пять чемоданов тащить через весь двор и по переулку опасно. Лишний риск.
— Пожалуй, что так, — соглашается Кузьмич. — А значит, кто-то машину во дворе должен был видеть.
— Кража могла произойти, — говорю я, — или с половины девятого, Когда Виктор Арсентьевич и его супруга уходят на работу, до половины десятого, когда выходит гулять та женщина с внуками, или с половины двенадцатого, когда они уходят домой, до половины первого, допустим, потому что около двух Леха уже садился в такси у Белорусского вокзала.
— Вещи они увезли на дачу, — замечает Валя. — Это мы уже, считайте, знаем. А езда туда и обратно занимает часа полтора. Значит, второй промежуток следует сократить, я думаю, вдвое, с половины двенадцатого до двенадцати. Вот тогда Леха мог около двух оказаться возле Белорусского.
— Вообще странно, почему ему надо было обедать непременно на Белорусском вокзале, — добавляю я. — Ведь они с дачи возвращались мимо Киевского вокзала. И потом, время ему потребовалось не только чтобы добраться до Белорусского вокзала, но еще и заскочить в ресторан там, испугаться, выскочить обратно, найти такси. Нет, второй промежуток для квартирной кражи вообще отпадает. — И я убежденно заключаю: — Она произошла с половины девятого до половины десятого.
— Про все про это, милые мои, — говорит, вздохнув, Кузьмич, — нам должен рассказать Чума. Обязательно должен будет рассказать. Его допрос сейчас — самое главное дело. Вот завтра с утра мы с Виктором Анатольевичем и займемся. Ты от этого будешь освобожден, — оборачивается Кузьмич к Вале. — Твой вид сильно ему настроение испортит. А он и без того обозлен не знаю как. А вот ты, Лосев… — Кузьмич задумчиво смотрит на меня. — Ты, пожалуй что…
— Мне хорошо бы поприсутствовать, Федор Кузьмич, — говорю я. — Мой вид не злость, а испуг вызовет. Как привидение, можно сказать. Как тень отца Гамлета, что ли.
— Ладно, — усмехается Кузьмич. — Присутствуй, — и смотрит на часы. — Пора ехать, милые мои. А то вообще не пустят.
Он достает из ящика стола большой пакет с апельсинами, и мы все едем в госпиталь к Пете.
Утром Кузьмич вызывает меня к себе и говорит:
— Виктор Анатольевич приехать не может, сейчас звонил. Предложил первый допрос Чумы провести без него. Откладывать это нельзя. Давай-ка прикинем план и тактику. Допрос важный и не простой.
Я когда-то уже рассказывал, как сложен допрос по тяжкому преступлению, тем более опытного преступника. Вот к такому допросу мы с Кузьмичом и начинаем готовиться. На столе перед нами довольно пухлая папка уже скопившихся материалов по делу. Кузьмич придвигает ее ко мне и говорит:
— Давай-ка, милый мой, для начала вспомним все, что мы знаем о Чуме. Поройся-ка здесь.
Я перебираю бумаги и медленно начинаю перечислять:
— Ну, во-первых, его зовут Совко Николай Иванович…
— Вот, — поднимает палец Кузьмич, переставая вертеть в руках очки. — С этого момента кличку забудем. Николай Совко он для нас. Так. Давай дальше.
— Дальше адрес, — продолжаю я, — по которому он, однако, редко бывает. Там живут его мать, жена и дочь. Мать его любит и защищает. Жена, видимо, уже не любит и подала на развод. Дочка… Ну, он ее явно не любит, как и жену. Иначе заботился бы, появлялся в доме. А вот дочка его — мы не знаем, может, и любит. Но скорей, нет. Это чувство взаимное, мне кажется.
— Правильно, — кивает Кузьмич. — Исключения подтверждают правило. А как думаешь, мать он любит?
— Не знаю, — помедлив, отвечаю я. — Мать ведь может любить и без взаимности.
— Именно что. Словом, по его месту жительства мы мало что знаем. А в интересах дела надо знать. И не только отношения в семье. Там все его связи, и преступные, и личные, все главные связи. М-да… Придется тебе, Лосев, в тот город съездить, вот что я скажу. А пока, в допросе Совко, это больше область разведки, чем средство уличения или даже воздействия. Жаль. Место жительства — важная область. Ну ничего. Сохраним для будущего. Давай дальше. Что мы еще о нем знаем? Перейдем-ка теперь к московским его связям.
— Тут дело обстоит веселее, — говорю я. — Знаем мы их почти всех. Это Леха, покойный Гвимар Иванович, тот седенький, с которым Гвимар Иванович ссорился во дворе, и двое из красного «Москвича», имена их мы сегодня узнаем.
— А того седенького, видимо, Лев зовут, дальше пока неизвестно, — задумчиво вставляет Кузьмич.
— Но пока ясно, — продолжаю я, — что те двое — москвичи. Владелец красного «Москвича», скорей всего, парень с зеленым кашне, в день кражи он выбегал из ворот к «Жигулям», значит, за рулем сидел второй. Вот такие связи в Москве у Чумы, то есть у Совко.
— Да, — кивает Кузьмич. — И еще Муза, не забудь.
— Ну конечно! — спохватываюсь я. — Самое главное.
— Не самое. Но забывать нельзя. Как, по-твоему, он к ней относится?
— Кажется, сильно увлечен, — говорю я. — Мне он даже сказал, что убьет ее, чтобы другому не досталась. И вот хотел с собой увезти, чуть не насильно.
Мы еще некоторое время обсуждаем наши сведения о Совко, его связи и его характер. Да, характер его мы уже тоже в общих чертах знаем — коварный характер, обманчивый, злобный и опасный. И манеры такие же. Словом, для первого разговора с Совко мы, пожалуй, готовы.
Кузьмич смотрит на часы, потом звонит в наш внутренний изолятор, где сейчас находится Совко, и просит доставить его на допрос.
Проходит совсем немного времени, и в дверь раздается аккуратный стук. На пороге появляется конвойный.
— Товарищ подполковник, — докладывает он, — арестованный Совко доставлен для допроса.
— Заводите, — кивает Кузьмич.
И вот Совко перед нами.
Он все такой же — пухлые, яркие губы, голубые, прозрачные глаза, даже светлые волосы по-прежнему лежат аккуратно и почти изящно. Да и сам он за эти сутки не потерял изящества в своем хорошо сшитом и почти не измявшемся костюме. Видно, в камере он устроился по-хозяйски, привычно и уверенно. Он и вообще-то не потерял уверенности и, кажется, вполне пришел в себя после столь неожиданного ареста.
Высокий, стройный, он входит энергично и подчеркнуто спокойно, а на узком нежно-розовом лице сияет безмятежная, прямо-таки детски-наивная улыбка. Он уже готов и сказать что-то в таком же роде сидящему за столом Кузьмичу, но тут он видит вдруг меня, расположившегося в стороне, на диване, и сразу, конечно, узнает. Как будто облачко проходит по его лицу, на миг стискиваются зубы, даже ритм движений сбивается, когда он делает несколько шагов, подходя к столу. Все это, конечно, едва заметно, но слишком велико напряжение встречи, чтобы я мог упустить такие признаки очевидного его смятения. Да, увидеть меня он, конечно, не рассчитывал, и теперь его план поведения на допросе скомкан, даже вообще проваливается, — надо срочно перестраиваться, искать новую линию поведения и защиты. А пока он в явном смятении, и надо быстрее воспользоваться этим моментом.
— Садитесь, Совко, — как всегда спокойно, даже буднично говорит Кузьмич. — Для начала хочу вас предупредить. Игра в прятки не состоится. Не подойдет к данному моменту. Мы вас уже знаем, и прошлые ваши дела, и сегодняшние. И, в отличие от правил, о которых вы, полагаю, наслышаны, я намерен сразу сообщить вам то, что мы знаем, чтобы вы поняли, в чем упираться бесполезно, даже, пожалуй, вредно для вас.
— А в чем и полезно? — усмехается Совко.
— Что для вас полезно, это вы, я думаю, сами сообразите, — равнодушно замечает Кузьмич. — В отличие от прежних судимостей, эта ведь будет особая.
— Почему же такое?
— За вами убийство, покушение на другое убийство и крупная квартирная кража. Это тянет на серьезный приговор, Совко.
— Надо еще доказать.
— Непременно, а как же.
— И помогать я вам не собираюсь, не надейтесь, — криво усмехается Совко.
Нет, он еще не пришел в себя, он чувствует себя очень неуютно, паршиво себя чувствует и плохо это скрывает.
— Если вы имеете в виду, — замечает Кузьмич, — что не собираетесь говорить правду, то ведь это, Совко, и очень трудно и очень вредно. Очень трудно потому, что, когда вы будете врать и выдумывать, у вас перед глазами будут стоять истинные события, в которых вы участвовали, ярко стоять, зримо, можно сказать, и снова вернутся к вам все переживания, которые вы в тот момент испытывали. И все это вам придется намертво зажать в себе, побороть. А на их место все время ставить бледные картинки придуманного, и при этом не сбиться, не забыть чего-то, повторить точно, во всех подробностях свои выдумки через неделю, через месяц… Трудная, скажу вам, задача. Почти невыполнимая.
— А вы за меня не бойтесь, пусть за меня другие боятся, чтобы не сбился, — зло отвечает Совко и заметно краснеет.
— К другим мы еще подойдем, обязательно подойдем, — обещает Кузьмич.
— Ну вот. А я уже битый, не такие допросы выдерживал.
— Не только выдерживали, но и кое-чему научились, надеюсь. Если их, конечно, правильно вели, как надо. Но только такого допроса у вас еще не было, Совко.
— Это почему же такое?
— А потому, во-первых, что таких, особо тяжких преступлений вы до сих пор не совершали. И потому, во-вторых, что вы еще не знакомы с МУРом. О МУРе вы вон только его спрашивали, если помните, — Кузьмич кивает в мою сторону.
— Ну, как, мол, тут ваш великий МУР воюет.
— Теперь сам вижу и хвалю, — старается вести себя как можно развязнее и увереннее Совко. — Ловко вы, оказывается, воюете.
— Да нет, — небрежно машет рукой Кузьмич. — Ничего вы еще не увидели. Главное впереди.
— Запугать хотите?
— Ни в коем случае, — серьезно говорит Кузьмич и повторяет: — Ни в коем случае.
Он мне сейчас удивительно напоминает Макаренко, каким я его запомнил по известному фильму, — длинный, ширококостный, чуть сутулый, круглое, слегка монгольского склада лицо, очки в простой, тонкой оправе, ежик седеющих волос на голове, мешковатый костюм. И манеры неторопливые, основательные, невольно внушающие доверие. Впрочем, никакого доверия он Совко пока не внушает.
— Так вот, надеюсь, — продолжает Кузьмич, — вы кое-чему научились. Например, что глупо и вредно запираться, когда все ясно, известно и доказано. Так ведь?
— Ну, допустим, этому я научился, — снисходительно соглашается Совко. — Только никакого убийства я на себя не возьму, уж будьте спокойны.
— На Леху спихнешь? — тихо спрашиваю я.
И от моего тихого голоса откуда-то со стороны невольно вздрагивает Совко и, повернув голову, мутно, пристально смотрит на меня.
— Скажешь, — медленно продолжаю я, — что ты только присутствовал тогда во дворе, ну, еще лампочку разбил, помог труп затащить в сарай. И все. Так скажешь, да? А бил ножом Леха, два раза бил. И еще оправдаешься перед самим собой: Лехи, мол, тут нет, его еще искать надо, а я уже тут. А что Леху мы теперь в два счета найдем, об этом ты не думаешь сейчас, об этом думать тебе не хочется…
Чем дольше я говорю, тем больше наливается Совко лютой ненавистью ко мне. Я вижу, как темнеют его водянистые глаза, как сцепились пальцы на коленях.
— М-мусор… — цедит он сквозь зубы, не отводя от меня ненавидящих глаз. — Не добил тебя тогда Леха…
— Во, во, — насмешливо и зло говорю я, — опять Леха. А ты, значит, в стороне, ты и тут ни при чем, да, Чума? Ну что ж, давай, давай, защищай таким способом свою поганую жизнь. Очень эта линия нам на руку. А еще говоришь, помогать не собираешься. Вали все на Леху. Он потом очень благодарен тебе будет, увидишь.
Но Совко уже берет себя в руки, на пухлых губах появляется безмятежная улыбка, а пустые, светлые глаза становятся даже какими-то лучистыми. Он пожимает плечами и говорит:
— Не собираюсь ни на кого валить. Собираюсь просто все отрицать. Не знаю никакого убийства, никакого покушения и никакой квартирной кражи. Может, вы еще чего хотите на меня повесить? Валяйте, доказывайте. Как докажете, так приму. Никак иначе.
— Это я вам уже обещал, — снова вступает в разговор Кузьмич. — Наше дело такое — все доказывать. Но сперва давайте уточним вашу позицию. Значит, очевидные вещи вы отрицать не будете, так я вас понял?
— Не буду, — соглашается Совко.
Видно, что с Кузьмичом ему разговаривать куда приятнее, чем со мной. Это понятно.
— Вот и давайте разберемся, — продолжает Кузьмич. — Сначала по людям, потом по фактам. От матери, жены и дочки вы, конечно, не отказываетесь?
— Нет…
— Как бы они от него не отказались, — негромко замечаю я со своего дивана.
— А ты… — резко поворачивается ко мне Совко, но тут же, оборвав себя, уже спокойнее добавляет: — Никого это не касается. Мое это дело, понял?
— Итак, будем считать, что вы от них не отказываетесь, — спокойно говорит Кузьмич, словно не замечая этой новой вспышки. — Хотя… Впрочем, это потом. А касается нас сейчас, Совко, все, что касается вас. Абсолютно все, к сожалению. Раз уж вы решили построить свою жизнь во вред всем вокруг, раз решили одно только горе людям приносить. Даже тем, кого любите.
При этих словах Совко лишь снисходительно усмехается, но в пустых его, светлых глазах появляется настороженность.
— Пойдем дальше, — все так же спокойно продолжает Кузьмич. — Свое знакомство с Лехой, то есть с Красиковым, вы, надеюсь, тоже отрицать не будете?
— Конечно, — соглашается Совко.
— А Гвимара Ивановича Семанского вы знали?
— Нет.
— Ну, ну. Это ведь отрицать тоже глупо.
— Докажите, что знал.
— Пока это могут подтвердить два человека. Красиков и…
— А где он, ваш Красиков? — насмешливо спрашивает Совко, оглядываясь по сторонам.
И встречается с моим взглядом. Шутовское настроение у него сразу пропадает.
— Скоро будет здесь, — с угрозой говорю я. — Ты же знаешь, что из Москвы ему теперь не выбраться. И здесь долго тоже не прокантоваться. Его фото уже у всех на руках, у каждого постового.
— Так вот, во-первых, Красиков, — продолжает как ни в чем не бывало Кузьмич. — А во-вторых… Леснова.
— Это еще кто? — грубо спрашивает Совко.
— Разве не знаете? — удивляется Кузьмич. — Это же Муза.
— А-а… И ее, значит, втянули?
— Вы сами ее втянули, Совко, — Кузьмич огорченно качает головой. — Но о Музе мы еще поговорим. Так Гвимара Ивановича вы знали?
— Ну, знал.
— И об его убийстве?
— Ну… слышал.
— От кого? — без тени усмешки, серьезно спрашивает Кузьмич.
— Не помню.
— Так. Значит, в этом пункте вы считаете, что отпираться разумно?
— Да, считаю, — резко отвечает Совко, и пухлые, яркие губы его вдруг расплываются в усмешке. — А вы не считаете?
— Пожалуй. Тут нам придется, конечно, доказывать. Так легко убийство не признают, — соглашается Кузьмич и неожиданно спрашивает: — Льва Захаровича знаете?
— Льва Игнатьевича… — машинально поправляет его Совко.
— Конечно. Значит, знаете?
— Ну, знаю…
— Так. Видите? Пока мы идем с вами только по людям. А потом пойдем по фактам. И пока вы ведете себя, я бы сказал, вполне разумно.
— А я вообще разумный человек.
— Хомо сапиенс, — насмешливо замечаю я.
Совко этого не понимает и на всякий случай со мной не связывается, даже головы не поворачивает. Но все непонятное всегда беспокоит, мешает а порой и пугает. Черт его знает, что я такое сказал и как это его, Совко, касается. А тут еще и Кузьмич кивает мне и загадочно говорит:
— Именно что, — потом поворачивается к Совко: — Пойдем дальше. Виктора Арсентьевича Купрейчика знаете?
— Нет.
Что-то в этом твердом «нет» Кузьмича явно настораживает. По-моему, какой-то намек на искренность.
— Залезли в квартиру, даже не зная, кто хозяин?
— Какую еще квартиру? — резко спрашивает Совко. — Ни в какую квартиру я лично не залезал.
Это уже очевидная ложь, и разоблачить ее весьма просто, стоит только показать Совко утерянную им там перчатку. Но это делать еще рано. Кузьмич придерживается принятого плана допроса.
— Ладно, — соглашается он. — Значит, о Купрейчике Викторе Арсентьевиче ничего не знаете, так, что ли?
— Ничего.
— Что ж, выходит, это тоже надо будет доказывать. Только и всего. Знать вы его должны, деться тут некуда.
— Попробуйте докажите, — нахально улыбается Совко. — Интересно, что у вас получится.
— Попробуем, — кивает Кузьмич. — А вот парень такой, в зеленом кашне, в кепке, у него еще «Москвич» красный. Его как зовут?
Совко напряженно смотрит на Кузьмича, словно пытаясь угадать, какой ответ тот хочет услышать и что вообще этот вопрос означает. И тут я впервые за весь допрос перестаю его понимать. О чем думает сейчас Совко? Почему возникло вдруг такое напряжение? Ведь самый, казалось бы, простой вопрос, его Совко должен был ждать. Ну, откажись отвечать, скажи, что не знаешь этого парня, только и всего. Чего тут волноваться, чего медлить? Непонятно. А все непонятное… Да, теперь мы с Совко, кажется, поменялись ролями.
Видимо, и Кузьмич ощущает эту внезапную напряженность и говорит с каким-то скрытым и мне пока непонятным смыслом:
— Он здорово намозолил там всем глаза, этот парень.
— Это где же такое? — с напускной небрежностью спрашивает Совко, но эта небрежность немало стоит ему сейчас, я чувствую.
— В том дворе, — отвечает Кузьмич.
Совко молчит. Он не спрашивает, что это за двор, его сейчас спектакль явно не занимает, он пытается что-то сообразить или вспомнить. Но что именно? Я по-прежнему не понимаю его и начинаю нервничать.
— А на их даче вы были? — снова спрашивает Кузьмич.
Ага. Он начинает «кольцевать» Совко вопросами по этому пункту, вызвавшему такую странную реакцию, искать слабое место здесь, чтобы через него прорваться или незаметно проскользнуть к истине, к разгадке этой странной заминки в допросе.
Почему, назвав трех соучастников, Совко не желает называть двух других? Потому что они москвичи? Ну и что? Потому что они в данный момент ближе всех к краденым вещам, к его, Совко, доле, которую он не хочет потерять?
— Так были вы на их даче? — повторяет свой вопрос Кузьмич.
Совко колеблется, медлит с ответом и наконец выдавливает из себя:
— Не был…
Эге, кажется, он тоже начал какую-то игру с нами. Нервы мои так напряжены, что ловят, как самый чуткий камертон, его напряжение, его попытку сбить нас со следа.
— Ну конечно, — говорю я насмешливо, — такой мелкой шавке не положено знать, где что лежит. Ее дело кусать кого прикажут и тявкать на ветер.
Совко резко поворачивается в мою сторону. Узкое лицо его вспыхивает, заливается краской, кривятся, дрожат пухлые губы, и пустые глаза сейчас полны злобы. Здорово, кажется, я его задел, самолюбивый он парень, с гонором.
— А ты… — еле сдерживаясь, говорит он. — Ты помалкивай. Еще увидим, кто из нас тут шавка.
— Давай, давай, — подстегиваю я его. — Но на дачу тебя все-таки не пустили, выходит. Ты небось и зеленые «Жигули» тоже ни разу в том дворе не видел.
Я помогаю Кузьмичу «кольцевать» слабый пункт, на который мы так неожиданно наткнулись.
— Какие еще «Жигули»? — раздраженно спрашивает Совко, но тут же, спохватившись и не желая, видимо, выступать в роли мелкой шавки, которой чего-то не доверяют, добавляет: — Меня на солому не купишь. Фиг я тебе чего скажу, заруби это себе.
Странно, но у меня такое ощущение, что он ничего об этих «Жигулях» не знает. Неужели у них так поделены роли? Что-то не верится. Тем не менее на «Жигулях» Совко оступился. Уловил это Кузьмич? Наверное. Во всяком случае, он переходит к новой теме.
— Учтите, — говорит он Совко, — Музу мы пока отпустили.
— А если бы и захотели посадить, то не смогли бы, — усмехается Совко. — Нет за ней ничего, не прицепитесь.
— Да, не успели вы втянуть ее в свои дела, это мы знаем. А верно, что вы жениться на ней собрались?
— Не ваше дело, — снова начинает грубить Совко.
— Ошибаетесь, — терпеливо, не повышая голос, возражает Кузьмич. — Я уже вам сказал: теперь все, что касается вас, касается, к сожалению, и нас. А Музе вы только искалечите жизнь. Куда например, вы хотите ее увезти? Домой, где жена с дочкой вас ждут?
— Увез бы — не нашли, — нагло говорит Совко, — сколько бы ни вынюхивали. Такими бабами не бросаются, когда они сами в руки идут.
— Еще бы, — усмехаюсь я. — Она же по глазам гадает и своя до смерти, так, что ли? Еще и завалить обещал, когда надоест, чтобы другому не досталась.
И тут Совко резко поворачивается, готовый, кажется, кинуться на меня, светлые глаза его странно вспыхивают и заметно бледнеют покрытые золотистым пушком щеки. Он стискивает кулаки и, захлебываясь, кричит:
— Не цапай!.. Убью!.. Моя Музка, понял?!. Моя!.. С Гвимаром не пошла, на миллионы его плюнула!.. А на тебя, копеечника, гниду, и не посмотрит!.. Ни с кем не пойдет!.. С Ермаковым даже не пойдет! Понял?! Ни с кем! А со мной на край света!.. Пальцем только поманю!..
— Чтобы ты ее там завалил? — насмешливо осведомляюсь я.
— У-у!..
Совко по-тигриному, стремительно кидается на меня. Я даже не успеваю вскочить и бью его двумя ногами, когда он уже совсем близко и защиты от этого удара нет.
Он валится на пол и истошно орет. Это уже симуляция. Я ударил его в четверть силы, это, скорее, был даже не удар, а толчок, который лишь свалил его. Но Совко орет истошно, симулируя боль и истерику.
Я по-прежнему сижу на диване. Кузьмич невозмутимо крутит в руках очки. Мы терпеливо и равнодушно ждем. Совко постепенно затихает и настороженно поглядывает на нас, продолжая лежать на полу.
— Так, — говорит наконец Кузьмич. — Ну, вставайте, Совко. Чего уж там.
Но Совко продолжает лежать, неудобно подвернув под себя ногу и закрыв локтями лицо; мне виден только один его глаз, в нем настороженность и злоба прямо-таки волчья.
— Решил отдохнуть, — насмешливо говорю я. — Собраться с мыслями хочет, чего бы такое еще выкинуть.
Совко меняет позу, нога, видно, затекла. И это движение заставляет его невольно сделать еще одно, потом еще. В конце концов он медленно поднимается и, ни на кого не глядя, усаживается на стул, машинально поддернув на коленях брюки. Ишь ты, навыки какие заимел.
— Ну вот, — удовлетворенно говорит Кузьмич. — Если не возражаете, то продолжим наш разговор.
К такому обращению Совко, кажется, не привык. Он недоверчиво взглядывает на Кузьмича и усмехается.
— Можно и продолжить, — снисходительно соглашается он.
— Тогда перейдем от людей к фактам, — говорит Кузьмич. — Как договорились. Напомню только, что о половине из названных мною людей вы нам ничего еще не успели рассказать. Так будем считать.
— Не последний раз видимся, еще успею, — приходит в себя и пытается острить Совко.
— Уж это конечно, — спокойно соглашается Кузьмич. — А мы не забудем спросить. Так вот, факты. Первый из них — это убийство Семанского. Вы не будете отрицать, что присутствовали при нем?
— Во, во, — удовлетворенно подхватывает Совко. — Присутствовал. Это точно.
— Так и Красиков говорит, — замечает Кузьмич.
При этом он словно не замечает ошарашенного взгляда Совко. Как это так, «Леха говорит», если его тут нет и никогда не было.
— Он же сказал и про лампочку, и про сарай, — как ни в чем не бывало продолжает Кузьмич. — Между прочим, вы с того двора сначала бежать было собрались, а потом вернулись. Почему?
— Леха его в сарай уволочь захотел.
— Леха? — переспрашивает Кузьмич. — Стоит ли в этом пункте путать, Совко?
— Леха, — упрямо повторяет тот.
— Давай, давай, вали на него все, — говорю я. — Он тебе пока ответить не может. Но мне он сказал, что ты велел вернуться.
— Врет.
— Кто врет, это мы скоро разберемся, будь спокоен.
— А может, и не он, и не вы? — спрашивает Кузьмич. — Может… Лев Игнатьевич велел, ну-ка, получше вспомните.
— Не было его там, — твердо говорит Совко.
— Но спрятать он мог велеть. Днем-то он в том дворе бывал, сараи видел.
— Откуда взяли, что бывал?
— Откуда, — усмехается Кузьмич, — про это мы друг друга пока спрашивать не будем.
Это звучит у него вполне миролюбиво, даже деловито и располагает к спокойному разговору. А Совко, видимо, уже устал от напряжения, от необходимости все время быть начеку, все время что-то придумывать и что-то скрывать. Ему сейчас страсть как хочется поговорить спокойно, как бы доверительно и тихонько попытаться выяснить, что же мы в конце концов знаем, чем располагаем. Я же вижу, сейчас у него в голове от наших разнообразных и неожиданных вопросов полный ералаш. И это больше всего его волнует.
— Так правильно я говорю насчет Льва Игнатьевича? — спрашивает Кузьмич.
— Мы ведь договорились очевидные вещи не отрицать.
Ничего тут, конечно, очевидного нет, но фраза эта толкает на откровенность. И Совко сейчас не до ее точного смысла.
— Да не влезает он в такие дела, — машет он рукой.
— Ладно, — соглашается Кузьмич. — Не влезает так не влезает. Кстати, где он сейчас находится, вы, конечно, не знаете?
— Само собой, — нахально улыбается Совко.
— Напрасно. Впрочем, подумайте. Может быть, он тоже подтвердит, что не вы совершили убийство. Одних ваших слов мало, сами понимаете. И на Красикова надежды тоже мало, ему себя надо будет спасать. Словом, я вас не тороплю. Подумайте. Ничего страшнее этого обвинения вам не грозит. И тут каждый свидетель важен. Кстати, с какого этажа спускался в тот вечер во двор Семанский?
— Черт его знает, с какого, — рассеянно отвечает Совко.
Похоже, он всерьез задумался над словами Кузьмича, и ему не до пустяковых вопросов.
— Красиков сказал, с третьего…
— Ага. Вроде с третьего.
— Кто там живет, не знаете?
— Деятель какой-то. Гвимар к нему все шастал.
— Как этого деятеля зовут?
— А хрен его знает.
— Ты же его квартиру обчистил, — насмешливо замечаю я со своего дивана.
— Хоть бы узнал, кого грабишь.
— Пошел ты к… — Совко мгновенно вскипает. — Не знаю никакой кражи. Понял?
Смотри-ка, убийство признает, а квартирную кражу признавать не желает. Интересное кино. Впрочем, от убийства он надеется отвертеться, а от кражи не удастся. Кроме того, кража — это немалая добыча, и в ней немалая его доля, которую он надеется, видно, получить, когда выйдет на свободу. Интересно, дожмет его сейчас по этому пункту Кузьмич или отложит.
— Ладно, — говорит Кузьмич. — И это тоже оставлю вам для размышлений. Только имейте в виду, по краже мы имеем в отношении вас прямые улики. Так что отрицаете вы сейчас тоже очевидную вещь. И еще, — многозначительно добавляет Кузьмич, — впереди у нас с вами разговор о Ермакове.
— Чего?! — ошеломленно спрашивает Совко и таращит свои светлые, пустые глаза на Кузьмича.
— О Ермакове, — властно повторяет Кузьмич.
Совко уже, конечно, забыл, что в припадке ярости случайно назвал эту фамилию: «Даже с Ермаковым», по его мнению, не уйдет Муза. «Даже»! И вот сейчас, когда эту фамилию называет Кузьмич, на Совко такая осведомленность действует, конечно, ошеломляюще.
В таком состоянии и уводит его конвой.
Допрос окончен.
Теперь Совко будет мучительно соображать, в какую ловушку он угодил, что нам еще известно и что ему грозит теперь. Не позавидуешь его состоянию.
Но и нам тоже не позавидуешь. Дело все больше осложняется, все новые люди появляются в нем, все загадочнее их роль, все запутанней связи.
— Давай-ка, милый мой, подведем кое-какие итоги, — предлагает Кузьмич, когда мы остаемся одни. — Кое-что мы до конца все-таки не довели, как считаешь?
— И кое-что новое нам открылось, — добавляю я.
— Именно что, — кивает Кузьмич. — Словом, давай, разберемся, пока все в памяти свежо. И кое-какие пункты себе запишем. Возьми-ка листок, — он достает из ящика стола лист бумаги, протягивает мне, потом придвигает к себе стопку остро очиненных карандашей и продолжает: — Значит, первое. Кое-какие пункты мы не дожали, их запомнить надо и потом Виктору Анатольевичу передать. Например, об этом самом Семанском. Раз уж Совко признал, что знаком с ним, надо было поглубже копнуть: чего он про него знает? Вот, допустим, он сказал, что тот шастал часто к Купрейчику. А зачем? Случайное знакомство ведь.
— Это по словам самого Купрейчика, — с ударением подчеркиваю я. — И якобы исключительно из-за интереса обоих к живописи.
— Вот, вот. Словом, пункт этот остается открытым. До следующего допроса. Так. Что еще?
— Еще неведомый Лев Игнатьевич, — напоминаю я. — Кроме имени мы, по-видимому, и приметы его знаем.
— М-да… — задумчиво соглашается Кузьмич. — Фигура, кажется, интересная. Это с ним Совко приходил обедать в ресторан к Музе. И его видели во дворе. Но тут… Да, тут, пожалуй, рано подступать к Совко. Тут, милый ты мой, надо будет чуток подготовиться. Для начала сделаем-ка мы о нем запрос в Южноморск, а? Запиши-ка это вторым пунктом, запиши.
Я добросовестно записываю.
— Сейчас и позвони, — добавляет Кузьмич. — Прямо по спецсвязи. Может, у них что и есть на этого Льва Игнатьевича. Тоже небось оттуда. Вот так, — он удовлетворенно вздыхает. — Ну-с, что там еще у нас?
— А еще Ермаков, — говорю я, — если пока по людям идти. Это и вовсе для нас темное место.
— Да уж. Прямо удивительно, как это у него сорвалось. Ты его, между прочим, довел, чего уж там говорить.
И непонятно, чего больше в этот момент в голосе Кузьмича — удовлетворения или укоризны. Поэтому я предпочитаю на реплику не реагировать.
— Может, и о нем заодно запрос сделать, о Ермакове этом? — предлагаю я.
— Давай попробуй…
Но в голосе Кузьмича сквозит какое-то сомнение.
— Думаете, его там не знают? — спрашиваю я.
— Думаю я другое… — качает головой Кузьмич.
В который раз он начинает выравнивать карандаши, лежащие перед ним на столе. У Кузьмича прямо-таки страсть к остро отточенным карандашам.
Я молча жду, стараясь угадать, что он думает.
— Видно, это еще тот судак, — говорит наконец Кузьмич. — Голыми руками его не возьмешь. Тут, милый мой, очень осторожно надо идти. Очень. Чтобы чего не испортить. Понятно тебе?
— Так не запрашивать пока?
— Здравствуйте! Кто же это говорит? — почему-то вдруг сердится Кузьмич.
— Пиши, пиши. Пункт третий это будет.
Он недовольно следит, как я делаю очередную запись, и, когда кончаю, добавляет сварливо:
— И, чтобы с людьми кончить, заметим себе, что парня с зеленым кашне и этого самого Купрейчика он, видите ли, и вовсе вроде бы не знает.
— Вот именно, что «вроде бы», — говорю я. — Врет он.
— То, что врет по этому пункту, тоже интересно. Запиши, будь добр.
Кузьмич уже не сердится, он даже как будто извиняется за невольный срыв. Я понимаю, ему тоже нелегко дался этот допрос.
— А теперь чего мы не дожали с тобой по фактам? — говорит Кузьмич. — Как думаешь? Что-то ведь не дожали.
— Насчет зеленого «Жигуля». По-моему, он эту машину ни разу не видел, — говорю я. — А с другой стороны, быть этого не может.
— Да, — соглашается Кузьмич. — Странный момент. Как только подобраться к нему, пока неясно.
— Надо подумать, Федор Кузьмич. Стоит подумать.
— Именно что. Запиши пока. — Он делает паузу, пока я записываю, потом спрашивает: — Что у нас еще по фактам осталось неясным?
— Убийство признает, а кражу нет, — напоминаю я.
— Ну, это, пожалуй что, понятно. С убийством, с кражей. Тут только… Да, вот что! Мотив убийства остался неясен. Ведь это только наше предположение, что добычу не поделили. А на самом деле? Вот о чем мы с Совко еще не поговорили. Ну-ка, запиши.
В голосе Кузьмича чувствуется досада. Действительно, это важный момент, и мы чуть было его не упустили. Я так, честно говоря, просто упустил.
— Да, запиши-ка, — повторяет Кузьмич и заключает: — Вот теперь, я думаю, все. Как считаешь?
— Вроде бы да, — соглашаюсь я, проглядывая свои записи.
— Тогда двигай, — говорит Кузьмич и смотрит на часы. — Вон уже четвертый час. Быстро время как идет. Поторапливайся, пока они все на месте в Южноморске, пока рабочий день там не кончился. И погляди, Денисов вернулся? Что-то он не звонит. Ну, давай, давай. Я пока в госпиталь позвоню, как там сегодня наш Петр.
Я торопливо выхожу из кабинета Кузьмича, закуриваю и уже не спеша иду по длиннейшему коридору в дежурную часть. Оттуда я звоню в Южноморск. К аппарату зову знакомого сотрудника уголовного розыска.
За эти годы у меня появилось бесчисленное количество знакомых коллег в самых разных уголках страны. То я туда приезжал по служебным делам, и эти люди помогали мне выполнить задание; то приезжали в столицу они, и тогда помогал им я. Это один из главных законов нашей непростой и не совсем обычной работы: взаимопомощь, быстрая, четкая, заинтересованная. Без нее мы как без рук. При современной технике, которой ведь пользуется и преступник — телеграф, междугородный телефон, поезд, самолет, автомобиль, — только быстрота принятия и выполнения решений может обеспечить успех любой операции. Если вчера нельзя было отложить что-то на день в наших делах, то сегодня это нельзя отложить даже на час, в таком темпе мы теперь живем.
На другом конце провода меня отлично понимает Давуд Мамедов, давний мой приятель. Я ему как-то здорово помог в Москве, и он до сих пор не может успокоиться, горит желанием ответить мне тем же. Кажется, это ему скоро удастся.
— Значит, приедешь? — радостно переспрашивает он. — Ай как хорошо! Непременно приезжай. Пусть зима, пусть снег, у нас его ай сколько в этом году! Все равно приезжай. Все сделаем. Правда приедешь? — словно не веря собственным ушам, снова спрашивает он. — Или нет, а?
— К тому идет, — отвечаю я. — А пока ты мне тех двоих побыстрее установи. И незаметно, Давуд. Совсем незаметно. Лучше ничего не узнавай, только не засветись. Ты меня понял?
— Как не понять? Понял, конечно.
Я отправляюсь к себе. По дороге выясняю, что Валя Денисов еще не появился. У Вали важное задание, и я жду его тоже с нетерпением.
У себя в комнате я устало опускаюсь в кресло и снова смотрю на часы. Половина пятого. Вроде ничего особенного сегодня не сделал, но чертовски устал. А ведь дел еще уйма. И они почему-то не убывают. Даже наоборот. Прямо как гидра какая-то сказочная. Выполнишь одно дело, а на его месте появляются два новых. Вот и крутись как хочешь. Кстати, обедать тоже надо, и я машинально опять смотрю на часы.
Звонит городской телефон. Я снимаю трубку:
— Слушаю. Лосев.
— Здравствуйте, Виталий Павлович, — раздается незнакомый мужской голос, солидный, скрипучий, немолодой, вполне спокойный и уверенный. — Вы меня не знаете. Но я могу быть вам полезен. По телефону всего, конечно, не скажешь.
— Понятно, — говорю я, не очень удивляясь такому звонку: в нашей работе нечто подобное случается нередко. — Что ж, заходите, потолкуем.
— Нет. Желательно встретиться в городе, — говорит незнакомец.
Ну что ж. И к таким встречам я тоже привык.
— Где именно? — спрашиваю я.
— Допустим, в центре. На улице Горького. Перед Центральным телеграфом.
— Когда?
— Через час, если вам удобно. Сейчас… половина пятого.
— Да. Сейчас половина пятого, — подтверждаю я, взглянув на часы. — Согласен. Через час. Как мы узнаем друг друга?
— Узнаю вас я. И подойду, если… все будет тихо вокруг вас.
— Не беспокоитесь, — усмехаюсь я.
Ишь ты! Какой осторожный господин. Мне только не очень нравится, что он меня знает, а я, видимо, его нет. Это уже, выходит, кое-какое у него преимущество. А я люблю начинать игру во всяком случае на равных условиях. Но это, к сожалению, не всегда удается.
Я мысленно перебираю все законченные и незаконченные дела, по которым может произойти такая встреча, и, конечно, прихожу к выводу, что она может произойти по десятку поводов. Остались, например, некоторые неясности по недавно законченному нами делу, а на свободе кое-какие личности продолжают суетиться, и некоторые из них меня знают. То же происходит и еще по одному непростому делу, даже я бы сказал, неожиданному, в области, как мы полагали, вовсе не «криминогенной», то есть не чреватой преступлениями. Как-нибудь я об этом деле расскажу. Наконец, мы сейчас вместе с уехавшим в командировку моим другом Игорем Откаленко подбираемся к одной потенциально весьма опасной группе и, увы, только что сделали крайне неосторожный шаг. И теперь подобный звонок вполне может последовать и оттуда. Вот это было бы очень неприятно.
Словом, гадать бессмысленно, проще всего подождать час. Кстати, может быть, вернулся наконец Денисов?
Я звоню ему, но никто не отвечает. Досадливо бросаю трубку и тут же снова хватаюсь за нее и набираю новый номер. Нет. Кузьмич тоже куда-то ушел. Интересно, он дозвонился в госпиталь? Впрочем, я это могу превосходно сделать и сам, даже лучше его. Ох, у меня уже немало знакомых в этих безрадостных местах, и в частности, в нашем госпитале.
Набираю длинный городской номер и, когда мне отвечает мелодичный девичий голосок, осведомляюсь:
— Это Лена?
— Да. Кто говорит?
— О, как я удачно попал, — вполне искренне радуюсь я. — Это Лосев, такой длинный-длинный, несчастный пижон из угрозыска. Может быть, остался в памяти?
Лена смеется.
— Чего это вы на себя наговариваете? Кавалер что надо. Вы, конечно, насчет Шухмина интересуетесь?
— Нет. Я насчет Пети. Знаете такого? Толстого-толстого, несчастного…
Лена снова смеется. И по ее беззаботному смеху я уже догадываюсь, что Петя в порядке, в относительном, конечно, порядке, но все же.
Так оно и оказывается.
— На той неделе встречайте, — говорит Лена.
— Непременно. С цветами. Конечно, для вас.
— Придется с этим подождать до весны, — вздыхает Лена.
— Леночка, вы недооцениваете нашу фирму. Мы все можем, если захотим.
Некоторое время мы еще болтаем, и Лена сообщает мне всякие дополнительные сведения о Пете, которыми справочная обычно не располагает. Мне ясно, что Лена сегодня сама забегала к нашему другу. Кроме того, она охотно берется передать от меня привет и всякие туманные слова, из которых Петя поймет, что дела развиваются нормально и даже есть кое-какие успехи. Очевидно, Лена собирается еще раз посетить Петра. С ее стороны это очень чутко.
Мы заканчиваем разговор, и я смотрю на часы. Пора, однако, двигаться. До телеграфа я, пожалуй, пройдусь пешком, и еще останется минуты три, чтобы приглядеться со стороны к месту встречи.
На улице холодно и вьюжно. Правда, таких сумасшедших холодов, как в декабре, уже, слава богу, нет. Они же доходили до сорока градусов! Для Москвы эта невиданная температура оказалась прямо-таки стихийным бедствием. Лопались отопительные трубы, кое-где родители с детьми ночевали в школах, возникли было перебои со снабжением, опаздывали газеты, а нам прибавилось работы, как ни странно.
Словом, сейчас ничего похожего нет. Просто легкий морозец и метель. Пройтись даже приятно. На город опустились сумерки. На высоченных мачтах фиолетовыми бутонами начинают раскаляться мощные светильники.
Я подхожу к телеграфу ровно за три минуты до условленного срока, не переходя узкую проезжую часть улицы Огарева, напряженно вглядываюсь в толпу людей возле здания телеграфа и на красивой площадке между двумя старинными фонарями, к которой ведет от тротуара широкая, с двумя каскадами мраморная лестница. Нет ни одного знакомого лица. Да и видно-то плохо. Остается только выйти на условленное место и ждать.
Так я и делаю. Впрочем, ждать приходится совсем недолго.
Ко мне подходит невысокий пожилой человек в темном пальто с пушистым меховым воротником и в шапке из того же меха. На шее повязано ярко-красное кашне. И лицо его тоже красное от ветра и холода. Брови и усы в морозном белом инее.
— Здравствуйте, Виталий Павлович, — хрипловато произносит он.
— Здравствуйте, — сдержанно отвечаю я.
Секунду мы внимательно рассматриваем друг друга.
— Не согласитесь ли перейти дорогу и посидеть за столиком? — спрашивает незнакомый мне человек.
Да, абсолютно незнакомый, в этом я сразу убеждаюсь. С этим человеком я никогда не встречался. Но… что-то в его внешности меня все же настораживает.
— Отчего же, — соглашаюсь я. — Тут, конечно, не поговоришь.
Мы спускаемся по широкой лестнице, переходим улицу и через минуту оказываемся в двухэтажном застекленном кафе.
Освободившись в гардеробе от пальто и шапок, мы снова исподтишка, пытливо оглядываем друг друга. Незнакомцу лет за пятьдесят, пожалуй, одет солидно, манеры тоже солидные, уверенные и энергичные. Взгляд из-под густых бровей умный, слегка ироничный, мне такой взгляд обычно нравится.
Мы усаживаемся за столик и закуриваем. Эта дурная привычка создает, однако, благоприятную обстановку для начала непростого разговора, который, видимо, нам предстоит.
— Как прикажете мне вас называть? — осведомляюсь я.
— Допустим, Иван Иванович, — усмехается мой собеседник.
— Не пойдет, — решительно возражаю я.
— Почему же?
— Во-первых, у нас оказываются неравные условия, вы-то знаете, как меня зовут. А неравные условия не обещают доверительного разговора, сами понимаете. Но главное даже не в этом, — я с улыбкой машу рукой. — Иван Иванович — очень уж банально и нарочито. Называя вас так, я каждый раз буду невольно улыбаться. А при серьезном разговоре это неуместно. Как вы считаете?
Мой собеседник усмехается. При этом седые стриженые усики его приподымаются, обнажая влажные, ровные, прямо-таки перламутровые зубы, явно вставные.
— А с вами приятно беседовать, — говорит он. — Что ж, будь по-вашему. Меня зовут Павел Алексеевич.
— Это другое дело, — соглашаюсь я. — Во всяком случае, ближе к истине.
— Абсолютная истина. Что будем пить?
К нам подходит официантка. Как этих девушек приучить улыбаться, хотя бы профессионально? Как приучить их делать вид, что мы, посетители, гости, так сказать, их хотя бы интересуем, если не радуем?
Сделав заказ, мы некоторое время обсуждаем эту животрепещущую проблему, пока хмурая официантка не приносит нам кофе и по рюмке коньяку.
— За приятное знакомство, — говорит Павел Алексеевич, поднимая свою рюмку.
— За полезное знакомство, — уточняю я.
Ах, с каким наслаждением я съел бы сейчас порцию жаркого, но приходится соблюдать этикет.
— Вот видите, оказывается, я — романтик, а вы — материалист, — шутливо говорит Павел Алексеевич, помешивая ложечкой кофе. — Мне важно удовольствие, а вам нужна непременно выгода.
— Просто вы притворяетесь, а я нет, — тем же тоном возражаю я. — Как раз вы позвали меня из расчета, а я пришел из любопытства, а это тоже почти романтика.
— Вы пришли не из простого любопытства, — усмехается Павел Алексеевич.
— Вы пришли в расчете на добычу. И не ошиблись, могу вас заверить. И поскольку вы меня не знаете и никогда не узнаете — я в сферу вашей деятельности не попадаю, — то буду с вами откровенен. Впрочем, для этого есть еще одна причина. Вы помните некоего Цыгана?
— Конечно.
Этот человек проходил по одному сложному делу, которое мы вели. Я его сам арестовывал. Правда, его вскоре пришлось выпустить, доказать его вину мы не смогли. К сожалению, бывает и так. Я же его и отпустил после долгой беседы.
— Так вот, я тоже знаю Цыгана, — говорит Павел Алексеевич задумчиво. — То есть Бориса Викторовича Свиристенко. И он мне рассказывал о вас.
Я настораживаюсь. Связь этого человека с Цыганом подозрительна. По-моему, ничего хорошего тот обо мне рассказывать не мог. Расстались мы с ним весьма холодно. Но неужели я сейчас узнаю об этом Свиристенко что-то новое? Это было бы совсем неплохо.
— Что же он вам рассказывал обо мне? — интересуюсь я, отпивая кофе.
— Первое — что вы умный человек. Второе — что вы в высшей степени чуткий человек, а это в наше время дорого стоит.
Я начинаю кое-что понимать. Видимо, Свиристенко кому-то сказал, что выскочил из того дела благодаря мне и это ему, видите ли, дорого обошлось. Ах, прохвост! Интересно, зачем ему понадобилась эта выдумка? Но, кажется, нет худа без добра.
— Что же из этих сведений, по-вашему, вытекает? — нахмурясь, спрашиваю я.
Конечно, мне должна быть неприятна болтливость этого Свиристенко. И Павел Алексеевич так именно меня и понимает.
— Ради бога, — он дружески дотрагивается до моей руки. — Не сочтите за бестактность мою ссылку на Свиристенко. Он доверился только самым близким. Выхода другого не было: ему же, простите, всю сумму собрали. Но это между нами. Так вот, у меня к вам важное дело. Но самое главное, вы мне действительно понравились.
Павел Алексеевич, улыбаясь, снова треплет меня по руке.
Ах, ловкач этот Свиристенко! На сколько же он облапошил своих коллег, хотелось бы мне знать?
— А вам я чем так понравился? — продолжаю я разговор.
— Самым главным, на мой взгляд. Вы действительно умный человек. Я убежден. А это, я вам доложу, важнее всего, важнее даже честности, если хотите знать. Она для людей ограниченных, — он зорко смотрит на меня и добавляет: — Обратите внимание, я говорю — не глупых, а именно ограниченных, тут большая разница, улавливаете ее?
— Конечно.
— Так вот, я и буду говорить с вами прежде всего как с умным человеком. Каждый по-своему хочет прожить жизнь. Одни — просто, как проживется. Это пустые, вялые, слабые люди. Другие — в служении обществу, отказывая во всем себе лично или, по крайней мере, во многом. Таких сейчас мало. Это — романтики, идеалисты, люди ограниченные и близорукие. Третьи, и их большинство, громадное большинство, это материалисты, люди энергичные, практичные, не сентиментальные. Они понимают, что главное сегодня — материальные блага, ради чего только и стоит крутиться, работать. Причем работать не на внуков и правнуков, а на себя, чтобы стало лучше не через сто лет, а сегодня, и именно тебе, а вовсе не обязательно всем. Это, конечно, эгоизм, но я бы сказал — разумный эгоизм. Эгоизм все понимающего и все видящего вокруг себя человека.
Я слушаю его с каким-то брезгливым интересом. Впервые вот так выворачиваются передо мной, так обнажаются, что ли. Это опасная и подлая философия. Кажется, мой собеседник решил не только сослаться на прецедент, но и подвести теоретическую базу.
Мое вроде бы благожелательное молчание явно вдохновляет Павла Алексеевича, и он убежденно продолжает:
— …Люди последней категории очень разные по подготовке, по запросам, по своим возможностям. Один, допустим, выращивает ранние огурцы или помидоры на своем садовом участке, а потом первым продает на рынке, другой ловко чинит всякие электроприборы жильцам всего дома и окрестных тоже, третий — демагог и честолюбец, делает карьеру, командует и ездит за границу, четвертый — обвешивает покупателей, занимается пересортицей, пятый — изучает наше планирование, систему снабжения и ищет там возможности к обогащению. Как вам нравится такая схема общества?
— Вполне реальная, — соглашаюсь я. — Если не считать пропорций. Тут у вас серьезная промашка. Ну, а вам самому, очевидно, ближе всего реалисты пятой категории?
— Теоретически — да.
— Это непонятно, признаться.
— Между тем, все тут предельно ясно. Если бы я практически работал в этой, по вашим понятиям, незаконной области, я, пожалуй, все же не решился встретиться с вами. А так я знаком с этой областью как бы издали, получая некоторый гонорар за услуги, ну вот вроде сегодняшней. Я ведь тоже, не скрою, материалист.
— Шестой категории? — смеюсь я.
— Если угодно. Их ведь вообще много.
— Но какую же услугу вы взялись оказать и кому?
— Вам тоже. Ибо вы тоже умный человек.
— Что ж, слушаю вас.
Мы снова закуриваем.
У Павла Алексеевича забавная привычка: закурив, он не гасит спичку, а, ловко перехватив ее за обгорелый конец, старается, чтобы она сгорела вся и остался только черный, обугленный червячок. Это занятие, отвлекая внимание собеседника, вероятно, помогает успешнее вести сложный разговор.
Осторожно положив в пепельницу очередную обгоревшую спичку, Павел Алексеевич внушительно говорит:
— Так вот. Первое предложение: не воюйте с ветряными мельницами.
— Как же это расшифровать применительно к конкретному случаю? — спрашиваю я, все еще не понимая, к чему же, в самом деле, относится вся эта грандиозная артподготовка.
— Как расшифровать? А вот так.
Мы не спеша отхлебываем кофе, изредка пригубливаем рюмку с коньяком, курим, и со стороны, вероятно, кажется, что ведем неторопливую, дружескую беседу, иногда шутливую, иногда серьезную. Так, встретились некие сослуживцы или, допустим, дядя с племянником, и дядя, конечно, между делом поучает, а племянник делает вид, что усваивает. Идиллическая, наверное, картинка.
На самом же деле разговор приобретает все более напряженный и опасный характер. И я жду, когда мой не в меру эрудированный собеседник перейдет от теоретических рассуждений к грубой прозе, к практическим предложениям. Дело, очевидно, пахнет предложением взятки, причем крупной, может быть даже очень крупной. Но за что, на каких условиях? Меня прежде всего интересуют условия. Ведь чем крупнее взятка, тем важнее и интереснее условия. Это во-первых. А во-вторых, я пока так и не могу уловить, «откуда дует ветер», кто послал этого человека. Свиристенко? И это связано с тем, прошлым делом? Но по нему предлагать мне взятку уже бесполезно. Да и навряд ли Свиристенко мог подкинуть такую мысль, уж очень рискованно это для него. Ведь узнай его компаньоны, что взятка не была дана, что денежки их просто присвоены им, тогда… ну, не жить ему тогда, и так может случиться. Нет, тут что-то другое…
— Вот как это расшифровать, — продолжает между тем Павел Алексеевич, тяжело отваливаясь на спинку кресла и в очередной раз закуривая, при этом крутит в руках зажженную спичку, стараясь, чтобы она сгорела до конца.
И я невольно наблюдаю за его манипуляциями.
— …Обратите внимание, — говорит Павел Алексеевич, с удовлетворением бросая обгорелый крючочек в пепельницу, — наше планирование построено так, что то и дело остаются неиспользованные, неучтенные резервы.
— Кем неучтенные?
— Вышестоящими органами, конечно. А предприятия, обладатели этих резервов, этих материальных излишков, причем чаще всего весьма дефицитных, вольны или копить их, или пускать их в дело. Об этом, кстати, не раз писалось в газетах, небось читали?
— Читал.
— Ну так вот. И эти излишки, всякие комбинации с ними сулят предприимчивым людям немалый доход, а населению — нужные товары, дополнительно, как бы сверх плана. Парадокс заключается в том, что при этом не страдают планы ни самого предприятия, ни даже всей отрасли.
— На бумаге?
— Планы, уважаемый Виталий Павлович, всегда составляются на бумаге.
— Но должны, очевидно, иметь реальную, материальную основу. А тут основа оказывается липовой, раз такой план рождает неучтенные излишки.
Незаметно я втягиваюсь в спор. Наглость и очевидная удачливость этих ловкачей начинает бесить меня. И я с трудом сдерживаюсь, чтобы не наговорить лишнего. Пусть выкладывает, пусть. Это полезно услышать.
— Да, в некотором смысле, план получается… с изъяном, — иронически усмехается Павел Алексеевич. — Но этим планом, однако, все довольны, его все утверждают. И это второй парадокс указанной ситуации.
— Довольны от незнания всех возможностей, кем-то скрытых ресурсов, от некоего неразоблаченного обмана, так, что ли?
— Это уже не имеет никакого значения, от чего довольны. Тем более практического, — небрежно машет рукой Павел Алексеевич и отхлебывает из чашечки кофе. — Наоборот, население, как я сказал, получает дополнительные товары из фондов, которые иначе бессмысленно копились бы на предприятии.
— Нарочно скрытые от планирования?
— Если хотите, да. Хозяйственники народ запасливый и боятся всяческих невзгод. Накопленные ими излишки на черный день все равно никто не найдет и не станет искать, вот ведь в чем дело. Естественные издержки гигантского, всеобщего планирования. Наказывать за их использование хоть и законно, но в принципе, я полагаю, несправедливо.
— Очень спорное утверждение, — насмешливо замечаю я.
Но Павел Алексеевич убежденно прихлопывает рукой по столику.
— Да, да. А главное — бессмысленно. Накажут одного, но об этой возможности знает еще десяток предприимчивых людей. Появится свободное место, и на него найдется немало охотников, уверяю вас.
— На свободное место?
— Вот именно.
— А если мы вообще заткнем эту щель?
— Найдется другая. Без работы вы, кажется, еще не оставались. И не останетесь.
— Спор бесполезен, — говорю я. — Мы, очевидно, друг друга не убедим. Предлагаю от общего перейти к частному. В конце концов не ради же теоретической дискуссии вы предложили мне эту встречу. Я вообще не понимаю, если на то пошло, зачем эта дискуссия вам понадобилась.
— Ради самоутверждения, — усмехается Павел Алексеевич. — Хотелось, чтобы вы увидели перед собой мыслящего человека, а не… корыстного практика, так скажем. Ну, и, конечно, кое в чем надеялся вас убедить.
— Считайте этот этап пройденным, — решительно говорю я. — Извините за огрубление ситуации, но вы, очевидно, хотите, чтобы я совершил кое-какое служебное нарушение, говоря мягко, а вы, в свою очередь, готовы на некоторую материальную компенсацию. Так, если не ошибаюсь?
— Не совсем так. Я хочу, во-первых, чтобы вы поняли, что борьба с подобного рода явлениями бессмысленна, как сражение с ветряными мельницами.
— Пойму я это или не пойму, для вас значения не имеет. Я подобными явлениями, а точнее — преступлениями, не занимаюсь, это…
— Знаю, — перебивает меня Павел Алексеевич. — Вы хотите сказать, что это дело ОБХСС, а вы уголовный розыск. Так?
— Вот именно.
— Но в данном случае ваша работа имеет для нас значение. Потому что мы хотим, чтобы вы занимались только своим прямым делом. Только. И не уходили в сторону. И не отказывайтесь от живых, огромных денег. Это будет в высшей степени глупо. Как видите, от вас не требуется никаких служебных нарушений. Работайте по своей линии, и только. Деньги же будут переданы вам так, что никто и никогда не сможет поставить их вам в вину.
— Очень соблазнительно, — улыбаюсь я. — Но поясните сперва, что значит «занимайтесь только своим прямым делом»? А чем я еще могу заниматься?
— Что ж, поясню. Теперь это можно. Вы расследуете убийство некоего Семанского Гвимара Ивановича, так ведь?
Ну вот. Ситуация начинает наконец проясняться.
— И еще кражу, квартирную кражу, не забудьте, — усмехаясь, говорю я.
— Ах да. Верно. Так вот, это и есть ваше прямое дело. Кстати, убийство и кража увязываются между собой?
— Возможно.
— Да, да. Я не вправе ставить такие вопросы, понимаю. Так вот, расследуйте все это на здоровье. Но… не уходите в сторону, не залезайте в чужой огород, даже если вдруг… что-то такое вам померещится, скажем так. Согласны?
— Что вы называете «чужим огородом»?
— Область деятельности ОБХСС, — решительно произносит Павел Алексеевич, и красное лицо его с тяжелыми мешочками под глазами и седыми усиками как бы твердеет в этот момент и перестает быть благодушным.
— Что же меня может привести в этот огород?
— Ну, такие вопросы уже вы не вправе ставить, — укоризненно качает головой Павел Алексеевич, стряхивая пепел с сигареты. — Вы и сами, возможно, вдруг что-то нащупаете. А возможно, и не нащупаете, возможно, вообще ничего не окажется. И тогда вознаграждение будет просто найденным кладом. Так как, в принципе вас устраивает такое предложение?
— В принципе, конечно, нет, — говорю я задумчиво. — А в частности хотелось бы прикинуть. Вам я, очевидно, позвонить не смогу?
— Естественно, Позвоню я. Когда?
— Завтра суббота. Позвоните в понедельник в конце дня.
— Прекрасно. Но меня просили передать еще вот что. Учтите, мне лично это не нравится. Но передать я обязан.
— Что ж, слушаю вас.
— Так вот. Если вы пренебрежете их предложением и все-таки сунетесь в чужой огород, вы очень рискуете. В дело втянуты серьезные люди и на карту поставлено слишком много.
— Понятно… — медленно говорю я.
— Вот, пожалуй, и все, — заканчивает нашу встречу Павел Алексеевич. — До понедельника, следовательно.
Мы допиваем кофе, расплачиваемся и встаем из-за столика.
Прощаемся мы уже на улице и направляемся в разные стороны.
Ну и ну. В веселенькое положение я, однако, попал.
Глава 6
ВСЯКИЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ И ПРОЧИЕ НЕУДАЧИ
Валя Денисов приехал в тот переулок утром, сразу после оперативки у Кузьмича. Задание у него было далеко не простое. Следовало не только выяснить, в какой именно квартире скрывался Чума вместе со своей Музой, — но кто их там и почему приютил. А главное — нет ли «выходов» от той квартиры к кому-нибудь еще из членов шайки, и вообще какие от этой квартиры тянутся ниточки, куда, к кому, через кого.
Заваленный чистым и свежим, еще ночным снегом переулок был, как и вчера, пустынен, пасмурен и на этот раз словно бы насторожен. Особенно сгущалась разлитая тут напряженность, как показалось Денисову, именно возле дома номер семь, старенького, невзрачного, трехэтажного дома постройки начала века, с обвалившейся кое-где по фасаду штукатуркой, узкими, подслеповатыми оконцами и заснеженными, маленькими, какими-то пряничными балкончиками с черными, замысловатыми чугунными решетками.
Денисов пока что знал только номер нужной ему квартиры, его сообщила Нина. Больше она в тот момент ничего не в состоянии была сообщить, до такой степени ее ошеломило все происшедшее. Да и номер-то квартиры она вспомнила с немалым трудом и вовсе не была уверена, что вспомнила точно. Нина только уверяла, что они поднялись на третий, последний, этаж и там, кроме двух высоких дверей, была третья, низенькая, кажется, под номером девять, вот в нее-то они с Музой и вошли.
Беспечной, гуляющей походкой Валя зашел в подъезд, не спеша поднялся по сумрачной, грязноватой лестнице с расшатанными, тонкими перилами на третий этаж, улавливая на каждой площадке свои запахи — то жареной рыбы, то какой-то дезинфекции, а на последней площадке стойко и ядовито пахло кошками. Здесь Валя и в самом деле обнаружил низенькую дверь под номером девять. После этого он, так и не встретив на лестнице ни одной живой души, круто развернулся и, стремительно спустившись, снова оказался в пустынном заснеженном переулке.
Найти жэк, которому принадлежал дом номер семь, было дело несложным. И через каких-нибудь десять минут Валя уже беседовал с немолодой, болезненно полной женщиной-счетоводом. Она сняла очки, и бледное, отечное лицо ее казалось до того усталым, что Вале на миг стало даже неловко беспокоить ее своими расспросами. Однако женщина, разговаривая с ним, казалось, даже оживилась, и в глазах ее засветилось любопытство.
В отличие, скажем, от Пети Шухмина, располагавшего к себе людей своей неизменной шумной веселостью, добродушием и какой-то свойской, доверительной простотой, Валя вел себя с людьми серьезно, внимательно и необычайно деликатно, что ли. И эта его чуткость и деликатность порой привлекали людей больше, чем Петины шутки и панибратство. Вот и на этот раз женщина прониклась к Вале доверием и безотчетной симпатией.
— …Ну, а на третьем этаже этого дома у нас тоже три квартиры, — продолжала между тем свой рассказ женщина, и по ее напряженному, любопытному взгляду Валя понимал, что она все еще не может догадаться, что же ему все-таки надо. — Две, как и внизу, такие же многокомнатные, коммунальные, а третья, номер девять, выгорожена из соседней. Уж и не помнит никто, как это получилось. Там только комната и кухня, ну, конечно, туалет еще. А ванной нет, рукомойник только на кухне. В ней водопроводчик, слесарь наш, много лет жил, может, он когда сообразил выгородиться, кто его знает. Уж он лет десять как помер. Ну а бабка его так и живет там. Детки поразъехались, о матери забыли, а она целый день пьяненькая, то спит, то поет.
— На что же она целый день пьяненькая? — усмехнулся Валя. — Пенсии на это небось не хватит.
— Господи, да она у нее такая, что ни на что не хватит. А выпивать ей гости подносят. Она их на вокзале подбирает, на ночевку. Вокзал-то от нас близко.
— Запрещено ведь это.
— Конечно, запрещено. А что с ней поделаешь? У квартиры милиционера не поставишь. Да и бог с ней, скажу я вам. Доживает свой век и никому не мешает. И для людей иной раз выход из положения. Пойди в гостиницу устройся.
Вале захотелось было рассказать, кого на этот раз приютила пьяненькая старушка Полина Тихоновна, но он тут же поборол это неуместное желание и только спросил:
— А соседи не жалуются?
— Сочувствуют, — вздохнула женщина. — И тоже старушку подкармливают. Это при двух-то взрослых детях. Надо же.
— По закону с них следует получать, — досадливо сказал Валя. — Через суд, раз так.
— Уж ей жильцы тоже насчет этого говорили. Не желает. В большой обиде на них. О господи, — снова вздохнула женщина. — Вот так — воспитываешь, воспитываешь, себя не жалеешь, последнее отдаешь, а разве знаешь, чем они тебе вернут? Вот в четвертой квартире семья живет…
Разговор вполне естественно ушел в сторону от интересовавшей Валю квартиры, и он не мешал его свободному течению, наоборот, проявил интерес и к жильцам из четвертой квартиры, а потом и к другим людям, о которых упоминала его словоохотливая собеседница. И, только убедившись, что та уже потеряла всякую надежду понять, зачем он к ней пришел, Валя стал прощаться.
По тихому заснеженному переулку он снова подошел к знакомому уже дому, уверенно поднялся на третий этаж и позвонил в низенькую дверь под номером девять. Однако отворять ему никто не спешил. Тогда он позвонил еще раз, потом еще, уже длинно, требовательно, и, наконец, решил, что старушка, потеряв вчера постояльцев, видимо, отправилась за новыми и придет теперь, к сожалению, не скоро и, возможно, не одна. Досадуя, Валя собрался уже было уходить, когда за дверью послышалось какое-то движение, возня. Лязгнул замок, дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель показалось старушечье лицо, крупное, морщинистое, усатое, со слезящимися глазами, с наползающей на них темной косынкой, из-под которой выбивались седые патлы волос.
— Кого тебе? — спросила старуха скрипучим басом.
— Вас, Полина Тихоновна, — вежливо ответил Валя. — Зайти к вам разрешите?
— Тебе-то? — Старуха с сомнением оглядела Валю и покачала головой. — Чтой-то я тебя не помню.
— А я к вам первый раз.
— А-а… Бутылочку прихватил?
— Да нет. Поговорить надо.
— Ишь ты, разговорчивый какой нашелся, — ворчливо сказала старуха и распахнула дверь. — Ну, заходи, коли пришел.
Валя шагнул через порог и оказался в тесной, грязноватой кухне. За ней виднелась комната, и Валя, уже не спрашивая, прошел туда и огляделся. Тяжелый, застойный запах стоял в комнате. Валя увидел широкую, неприбранную постель, стол, заставленный грязной посудой и бутылками, какое-то тряпье на стульях, а в дальнем углу, на полу, целую батарею пыльных бутылок возле старенького, покосившегося шкафа.
— Ну, садись куда хочешь, гость дорогой, — с одышкой произнесла старуха и, тяжко кряхтя, опустилась на кровать, не подумав даже запахнуть старый, вылинявший халат. — Ох, господи, господи. Никому не нужна, всеми брошена…
— Однако гостей у вас хватает, я гляжу, — заметил Валя, очищая себе место на стуле. — Не одна же вы столько употребили, — и он кивнул на бутылки в углу возле шкафа.
— Известное дело, — спокойно согласилась старуха. — Вот после Кольки, к примеру, сколько осталось, — она указала на стол. — Подсаживайся, угощу. Мне не жалко, если человек хороший. Чего мне жалеть?
— Спасибо. А Колька-то не один был небось?
— Ясное дело. С красавицей своей. Два дня прожили.
— А потом?
— Вчерась забрали. Не приведи господь как. Чего тут было!.. Одних машин — пять штук иль десять. Этих — человек двадцать. Полк целый. Палили во все стороны. Страшное дело. Говорили, самолет должен был прилететь. Я и то, веришь, еле жива осталась.
— Выходит, и в вас палили? — улыбнулся Валя.
— Не. Я от страха. Они, значит, в концертную залу себе пошли, Колька-то с бабами. А я следом на угол, в продуктовый. Чуть вышла из дома-то, тут уже, значит, и началось. Ну, я и обмерла вся.
Валя про себя облегченно вздохнул. Старуха, видимо, его не запомнила, а может, и вообще не разглядела.
— Как же Колька к вам залетел?
— Дружок привел, Леня. Он у меня до того уже с неделю жил.
— В первый раз?
— Ага. В первый.
— А его кто привел?
— Да нешто я помню? Кто-то, значит, привел. А как же?
— Ну, мог и сам подойти, на вокзале, к примеру.
— Мог и сам, ясное дело, — охотно согласилась она. — Ну да. Подошли. На вокзале как раз. Леня и еще один, видный такой, пожилой весь. Вот он мне и говорит: «Бабуся, местечка для молодого человека не найдется переночевать ночки на три-четыре? Довольны будете». И Леню, значит, выставляет мне. Ну, я его и забрала, Леню-то.
— А до того вы этого пожилого и не знали?
— И не знала, и не видела. Случайный человек.
— А Леня вам говорил, откуда он сам?
— Дык когда говорить-то? Я ж его и вообще, считай, не видела. Утром шасть, и до ночи. А вот… Когда ж это, дай бог память, было-то?.. Ну да. В прошлое воскресенье как раз. Пришел, значит, тоже к ночи уже. Ой, я прямо обмерла. Сам не свой. Лица на нем не было, вот те крест. «Бабушка, говорит, давай скорей выпьем. Чего я наделал, чего я натворил…» Ну, бутылочка, конечным делом, нашлась. Выпили, значит. Я его и спрашиваю: «Чего же ты, бедолага, наделал-то?» — «Ой, говорит, мы, бабуся, человека убили». И чуть не плачет сам. «Как же рука поднялась, спрашиваю? Ведь божье создание, как и ты сам. Что он тебе сделал?» — «Ничего он мне не сделал. И рука-то у меня дрогнула. А сотоварищ, значит, нож перехватил и… скончал человека. А кровь на мне, говорит, тоже лежит». И дрожит весь. А сам-то — во! — Полина Тихоновна широко развела руки. — И по виду разбойник. А душа в ем осталась, точно тебе говорю.
— А кто ж сотоварищ был, не сказал? — негромко спросил Валя.
— Да мне-то на кой знать? Душегуб, он и есть душегуб.
— А потом что?
— Всю ночь, значит, угомониться не мог. Душа его на части рвалась. Не просто это, человека-то порешить. Против естества это человеческого, я так скажу. Человек должон али рассудок потерять, али душу. Одним словом, перестать человеком быть, упаси господи.
Она мелко перекрестилась и глянула в дальний угол комнаты, возле окна, где висели две небольшие темные иконы.
— Выходит, переживал он этот случай, — сказал Валя.
— Ужас как, — подтвердила Полина Тихоновна. — «Все, говорит. Больше у меня жизни так и не будет. Не заарестуют, так от мыслей помру. И мать не увижу, и сестру, и Зину тоже».
— Какую Зину? — почти непроизвольно вырвалось у Вали.
— Кто ее знает какую. Жена небось али невеста.
— Ну, а на другой день что, в понедельник?
— Дык что? Спал полдня, а потом говорит…
— Как это — полдня спал? — снова не удержался Валя.
— Так вот и спал. Ночь-то всю колобродил. А потом встал и говорит: «Пойду пообедаю. Где тут можно-то рядом?» — «Да на вокзале, говорю. Там ресторан есть». Ну, он и пошел. А перед уходом говорит: «Ох, страшно мне, бабуся». Ушел, и нет его. Ночь пропадал где-то. Я уж думала — все. А он на другой день, к вечеру, вот с Колькой заявился и с красавицей его.
— А где же Леня сейчас?
— Домой уехал.
— Как так — домой?!
— Да так. Как Кольку-то с его кралей повязали, вскорости и Леня приходит. Вечер уж, правда, наступил.
И тут Валя подумал, какую же ошибку они допустили, не оставив в квартире засаду. Они, конечно, не знали, что там же скрывается Леха, они даже предполагали, нет, были уверены, что если Чума с Музой, то Леха с ним не будет И все же это их промах, а точнее его, Валин, личный промах, он руководил операцией. И вот Леха исчез. Так и придется доложить Кузьмичу.
— …Пришел, значит, — продолжала между тем свой рассказ старуха. — Ну, я ему и преподнесла про дружка его. Он весь аж затрясся. «Спасай, говорит, бабуся». — «Да что же я теперича сделать могу?» — спрашиваю. «Билет ступай мне возьми куда хочешь, говорит, только подальше». — «Может, спрашиваю, тебе на родину взять?» — «Уж какой будет, отвечает, только чтобы, значит, сразу уехать». Ну, я ему билет и взяла. Той ночью и уехал, грешный.
— Куда же вы ему билет взяли?
— Уж и не помню. За шесть десять. В жесткий вагон.
— Брали на Белорусском?
— А где же еще? Свой вокзал-то.
— И в котором часу его поезд ушел?
— Ушел-то? Да тут же и ушел. Часов, стало быть, в одиннадцать.
— Ну, бабуся, будешь к себе постояльцев водить, и не такого еще душегуба приведешь! — с досадой сказал Валя. — Лучше уж деток своих заставьте помогать. Мой вам совет.
Валя поднялся.
Старуха, по-прежнему сидя на кровати, оглядела его мутным взглядом и с неожиданной враждебностью спросила:
— А ты сам кто такой будешь, милый человек?
— Да вот рассчитывал Леню у вас застать, — неопределенно ответил Валя.
— Привет ему просили передать.
— Из родины его, выходит, будешь?
— Вроде того.
— Он туда приедет, помяни мое слово. Сердце у него там осталось, с матерью, значит. У кого где сердце-то. Вот оно как устроено все.
— Какое у него сердце, — махнул рукой Валя.
— Обыкновенное, — строго сказала старуха. — Как у нас с тобой. У всех оно тепла просит, у всех надрывается, коли чего недоброе сам человек сделает. Христос учил, нет врагов на свете. Коли я, значит, одно люблю, а он другое, то не враги мы друг другу.
— А коли я у другого чего отниму, тогда как? — спросил Валя.
— Тебе и хуже. Другой-то вещи какой лишился, а ты покоя. У тебя душа с той поры не на месте будет. Днем-то, может, еще ничего, а вот ночью, не приведи господь, какие мысли к тебе придут.
— Эх, бабушка, всем бы такую совесть, — покачал головой Валя. — Ну, прощай пока. А совет мой все-таки попомни.
Очутившись на улице, Валя вздохнул полной грудью морозный, чистый воздух и заторопился на вокзал. «Куда же это старуха взяла ему билет, интересно знать? — думал он по дороге. — Может, он еще в пути? Может, перехватим его»?
Добравшись до вокзала, Валя отыскал отдел милиции. Нужным ему человеком оказался бравый усатый капитан, который понял Валю с полуслова и немедленно кинулся наводить справки.
Это, однако, оказалось не быстрым делом, и Валя, то и дело поглядывая на часы, начал уже было терять терпение, когда капитан наконец вновь возник перед ним.
— Значит, так, — энергично начал он. — Поезд номер сто девяносто три. Отправление в двадцать два двадцать шесть, Калининградский. Билет за шесть десять как раз, выходит, и взят до Калининграда, в жестком вагоне, причем купейном. Сейчас поезд где-то на подходе к Вильнюсу. Идет пока по расписанию. Пошли, друже, звонить в Вильнюс. Они его там встретят и снимут.
— И уже на ходу добавил: — Там ребята знаешь какие? Все сделают, как в аптеке, будь спокоен.
— Не могу я быть спокойным, — признался Валя. — Пока своими глазами не увижу этого гада. Ты передай: особо опасный преступник. Убийство за ним. Скорей всего вооружен. Опасен при задержании. Ему терять нечего. Так что пусть готовы будут. Он еще и нашего чуть не прикончил. Лосева.
— Ну да? — изумился капитан. — Лосева?
Я, оказывается, стал довольно известной фигурой. Впрочем, и я этого капитана припоминаю.
Через несколько минут Валя уже говорил с Вильнюсом. Оттуда сообщили, что сто девяносто третий уже стоит у перрона и через пять минут отходит. Оперативная группа сейчас зайдет в поезд. Но задержат преступника, естественно, уже в пути и сообщение дадут или через час десять, из Кайшядориса, или еще через сорок минут, из Каунаса. На особую опасность преступника группа ориентирована. Меры приняты. Группа садится в поезд.
— Будешь ждать сообщение? — спросил Валю усатый капитан.
— Еще бы!
— Тогда пошли к нам в комнату.
Приняли Валю радушно. Угостили крепчайшим, душистым чаем с пряниками, обменялись последними новостями. Валя коротко рассказал о деле, которым сейчас занимается. Крупная квартирная кража. Она по сводке неделю назад прошла. Группа в основном приезжая, с юга. А убили — это тоже по сводке прошло — своего, который видно, и дал подвод к этой квартире. Скорей всего, большую долю себе потребовал. Сейчас один преступник взят, другой вот в бега ударился, ну, а остальные тоже почти все на крючке, в основном это уже москвичи. Словом, все в общих чертах вроде бы вырисовывается. Хотя кое-какие неясности все же остаются, добавил Валя со свойственной ему осторожной педантичностью, чего, например, Петя Шухмин никогда бы не счел нужным оговаривать, хотя бы из чисто престижных соображений да и для эффектности своего рассказа тоже.
— Неясности всегда будут, пока дело не закончено, — рассудительно заметил один из слушателей.
— Они иной раз и после остаются, — сказал усатый капитан. — Вот у нас осенью было дело по камерам хранения. Девица одна проходила. Так вот она…
За всеми этими историями время могло пройти совсем незаметно, если бы Валя каждую минуту не ждал сообщения из поезда Москва — Калининград, который сейчас несся где-то среди заснеженных лесов и вез этого проклятого Леху.
И все-таки сообщение из неведомого Кайшядориса пришло как бы совершенно внезапно. И в первую секунду ошеломило Валю.
Дело в том, что Лехи в поезде не оказалось. Из расспросов проводников и пассажиров выяснилось, что парень, очень похожий на разыскиваемого, сошел еще утром, в Орше, хотя билет у него был до Калининграда, и вообще, как заметила одна из проводниц, он очень нервничал и спешил.
— Куда же он может из этой Орши рвануть? — с досадой спросил Валя.
— Да куда угодно, — ответил не меньше его раздосадованный капитан. — Прошло чуть не восемь часов, как он в Орше сошел. Там за это время одних поездов дальнего следования… Вот я тебе сейчас скажу, сколько прошло.
Он вытащил толстую книгу с бесконечными и малопонятными таблицами расписаний бесчисленных поездов по всему Союзу и с непостижимой для Вали быстротой стал рыскать по ним, водя пальцем вдоль строчек и столбцов и делая короткие выписки.
— Так… — бормотал он. — Орша… Один момент… Таблица шесть… вот… Три поезда в направлении Минска… дальше… шесть поездов на Москву. Видал? Это еще не все… Таблица двадцать один… Где тут Орша?.. Вот. Пишем… Из Ленинграда на Гомель и Прилуки… три поезда. И в обратном направлении, тоже через Гомель… Та-ак… Два. Итого… вот! Четырнадцать поездов прошло за эти восемь часов. Понял? Во все стороны.
— Вот и надо их все проверить. Немедленно, — решительно заявил Валя. — Подумаешь, четырнадцать поездов. Надо только знать, где они сейчас находятся. А он больше выскакивать не будет. Теперь он едет спокойно.
— А почему ты так уверен, что он вообще на поезд сел? — иронически осведомился капитан, отрываясь от таблиц расписаний. — Может, он на междугородный автобус кинулся, или сел на местный поезд, или просто в какую-нибудь грузовую машину попросился? Его, друже, сейчас всюду надо искать. Такая наша работка.
— Знали, куда идем, — усмехнулся Валя. — Давай крутиться. С чего начнем?
— Прежде всего составим ориентировку. Значит, так. Станция Орша, Белорусская дорога, Юго-западная, все территориальные органы там. — Капитан, как бы диктуя самому себе, все это уже писал на листке бумаги — Разыскивается в связи с убийством и квартирной кражей особо опасный преступник, по паспорту Красиков Леонид Васильевич. Правильно?.. — Он приостановился, взглянул на Валю и, дождавшись его кивка, продолжал: — Приметы… Давай диктуй, — обратился он к Вале.
Когда текст ориентировки был составлен, капитан довольно крякнул и объявил Вале:
— Ты пока обожди. Сейчас завизирую у начальства и лично передам на телеграф, наш, железнодорожный. Через час такую сеть закинем, что будь здоров. Заяц не проскочит. Не кого-нибудь — убийцу ищем.
Валя вышел из вокзала на площадь, когда уже совсем стемнело. Возвращаться на работу не было смысла, и он поехал домой.
Что говорить, сложнейшая машина была пущена в ход, и только случайность теперь могла спасти Леху.
Утром, сразу после оперативки в отделе, я совещаюсь с Кузьмичом, присутствует, конечно, и Валя Денисов.
После моего подробного сообщения о вчерашней встрече в кафе Кузьмич интересуется, не отрывая глаз от разложенных на столе карандашей:
— И сколько он тебе предложил отступного, чтобы ты их не трогал?
— Цифры не назвал, — отвечаю я и шутливо добавляю: — Но стою я дорого, будьте уверены. Уж две годовых зарплаты отвалят, а то и три.
— Ну, ну, не заносись, — усмехнулся Кузьмич. — Больно много ты о себе понимаешь.
На этом шутки кончаются. Валя вообще себе этого не позволяет. Он, как всегда, молчалив и сосредоточен. Кузьмич, кстати, на оперативке похвалил его за вчерашний выход на Леху, а отсутствие засады в квартире признал общей промашкой, и весьма досадной. А я намотал себе на ус и Лехины слезы, и Лехину подругу Зину, в Южноморске она, скорей всего.
Итак, шутки кончаются, можно сказать, не успев начаться.
— М-да… интересная у тебя была встреча, — задумчиво произносит Кузьмич. — Очень интересная. Скажи на милость, какой философ выискался.
— Занервничали и делают глупости, — говорю я. — Сами же выводят нас на цель.
— Ты что, ее видишь? — спрашивает Кузьмич.
— Нет пока.
— То-то и оно. И в какую сторону копать, тоже пока неясно. Думаю, милые мои, что надо нам идти, как шли. Этот наш путь их как раз и забеспокоил. Значит, он верен. Убийство, считайте, нами уже раскрыто. Вот только мотив его…
— Между собой что-то не поделили, — говорю я. — Сколько раз уже так бывало, Федор Кузьмич.
— Да. Но что именно не поделили, если так?
— А кража?
— Нет. Твоя встреча тянет куда-то в сторону от кражи, — качает головой Кузьмич. — И кража начинает вроде бы даже мешать, сбивать с толку.
— Доказательств тут нет. Но логика… — пытаюсь возразить я.
— А ты чего молчишь? — обращается Кузьмич к Вале.
Тот пожимает плечами, словно говоря: «Все тут само собой очевидно», но вслух говорит совершенно другое:
— Я вот думаю: откуда у них телефон Лосева, откуда они его имя и отчество знают. От Свиристенко? Телефон вряд ли. Да и на Свиристенко, я думаю, они не случайно вышли. Они искали среди своих, кто Лосева знает. И им, наверное, указали на Свиристенко. Они, конечно, сразу ухватились. Еще бы, раз Свиристенко ему взятку дал, то и они могут, возьмет и у них. Шутка — такая находка? Вот так, я думаю.
— Правильно думаешь, — соглашается Кузьмич. — А телефон у них может оказаться. Да и вообще это не секрет. Позвони нашему секретарю, она и даст его номер. Интересно другое. От кого они узнали, что именно Лосев занимается этим делом, убийством Семанского и кражей у Купрейчика. Из установленных нами членов шайки его фамилию ведь никто не знает. Ни Совко, ни Леха, ни те двое москвичей с машинами, ни Муза даже.
— Пожалуй, — соглашаюсь я. — А телефон свой я, между прочим, оставил Виктору Арсентьевичу. Но чтобы он подослал ко мне этого типа… Отпадает. Правда, кое-какие неувязочки с ним возникли по части покойного Гвимара Ивановича. Но ясно же, что никакого отношения к краже из собственной квартиры он не имеет. И к убийству Семанского тоже. На него надо было только посмотреть, когда я ему об этом убийстве сообщил. И вообще тут путь другой, мне кажется. Установим, кто такой этот Павел Алексеевич, и дело в шляпе. А установить это теперь пара пустяков. Он мне в понедельник позвонит, мы встретимся и… Дальше уже, как говорится, дело техники.
— Что ж, по-твоему, он этого не понимает? — насмешливо спрашивает Кузьмич. — Глупей себя-то его не считай. Тут что-то не так. Пока лучше вспомни-ка, кто еще тебя по этому делу знает.
— И по соседнему, — усмехается Валя.
— Ну, соседние пока можно не трогать, — в тон ему замечает Кузьмич. — Лосев у нас в том мире теперь человек популярный. Даже из Одессы могли сведения передать, из Тепловодска, да мало ли откуда. В этом подполье свои связи. Нет, ты вспоминай именно это дело. Именно тут что-то не так.
— А по этому делу, — говорю я, — кроме тех, кого вы назвали, остается только двор и дом Виктора Арсентьевича Купрейчика, его супруга и он сам. Вот и все.
— Да, все это пока неясно, милые мои, — даже как будто удовлетворенно кивает Кузьмич. — Того и гляди, на крупную обэхаэсэсовскую клиентуру выйдем. При этом мы их, а они нас, конечное дело, изучают. Тоже не дураки. И вот ты, Лосев, сейчас каким-то боком к ним залез, не иначе.
— Или приблизился хотя бы, — осторожно замечает Валя.
— Но как нагло действуют, — сержусь я. — Как уверенно.
— Потому что когда-то у кого-то такое дело выгорело, — с обычным своим спокойствием, почти равнодушно отвечает Валя. — Вот и ты, по их расчетам, должен взять.
Я угрожающе киваю головой.
— Возьму, возьму, пусть даже не сомневается. Я так возьму, что костей, подлец, не соберет. А все-таки начинать надо с этого типа, с Павла Алексеевича — кто он такой, и с фиксации его связей. — Я обращаюсь к Кузьмичу: — Разрешите назначить ему встречу.
— Неужто он так просто попадется? — сомневается Валя. — Ведь, судя по той вашей встрече, совсем не глупый мужик, хваткий мужик, осторожный.
— Все так. Но сказавши «а», надо говорить «б». Куда теперь деться, — возражаю я. — Да и шел он на это, раз дал время подумать.
— На что он шел, посмотрим, — заключает Кузьмич и засовывает карандаши в деревянный стакан, надоели они ему. — Значит, так, свидание назначай, и сразу берем его под наблюдение. Все. — И обращается к Вале: — Сведений с железной дороги никаких?
— Никаких, Федор Кузьмич, — сдержанно отвечает тот. — Сам уже звонил туда.
— Гм… Плохо. Упустили мы Леху. Сутки уже прошли, как он в Орше сошел. Далеко мог уйти. Ищи его теперь где хочешь.
— Полина Тихоновна говорит, он непременно домой потянется. Сердцем она, мол, чует. Полагаю, вполне возможно, что и так. Тем более, там Зина какая-то его ждет.
Кузьмич поворачивается ко мне:
— Свяжись еще раз с Южноморском. Ориентируй насчет Лехи. Если он проскочил зону розыска, то сегодня может быть у них. А заодно узнай, что они там насчет этих самых Льва Игнатьевича и Ермакова узнали.
— Понял.
Я уже направляюсь к двери, когда Кузьмич говорит мне вслед:
— А потом все же повидай Купрейчика. Пора, я думаю, потревожить. И все наши вопросы ему поставить. Кстати, он, может, кроме Гвимара Ивановича, еще кого-нибудь из той шайки знает. Может, Гвимар Иванович его с кем-нибудь случайно знакомил?
— С кем? Со шпаной вроде Лехи или тем, в зеленом кашне? — скептически спрашиваю я. — Ну что вы, Федор Кузьмич.
— С ними-то, конечно, нет. А вот с таким, как Лев Игнатьевич, вполне мог познакомить. Словом, прощупай.
— Ладно. Только сомнительно, по-моему. Зачем им двоим в одну квартиру соваться? Подвод-то давал к ней Гвимар Иванович — это ясно. — Я останавливаюсь возле двери и рассуждаю все с большим воодушевлением: — Но какова все же роль этого Льва Игнатьевича — вот что интересно. С остальными ясно. Гвимар Иванович — наводчик, Чума и Леха — исполнители, двое москвичей с машинами — увезли, спрятали, может даже, и покупателей должны найти. А этот Лев Игнатьевич? Главарь, что ли?
— Тогда кто такой Ермаков? — задает вопрос Валя.
— А он, скорей всего, вообще к этой группе отношения не имеет, — отвечаю я. — Так, подпольный делец какой-нибудь, местная знаменитость среди уголовников. А вот этот неведомый Лев Игнатьевич отношение к группе имеет самое непосредственное. С Чумой в ресторане бывал, во дворе с Гвимаром Ивановичем ссорился, и того потом Чума убивает.
Говоря об этом самом Льве Игнатьевиче, я вдруг ощущаю какое-то непонятное беспокойство, какую-то взвинченность, что ли, как, знаете, больные люди от предстоящей перемены погоды: вроде бы зримого повода никакого пока нет, а тревога уже откуда-то приходит. Или это просто нервы?
— Вот-вот, — кивает Кузьмич. — Именно что поссорились. И возможно, веры Гвимару Ивановичу не стало. Тогда мог и сам Лев Игнатьевич появиться в квартире Купрейчика. Под благовидным предлогом, конечно. Чтобы самому осмотреть, так сказать, поле боя. Проверить данные Гвимара Ивановича. Вполне допустимо. Тем более, солидный человек, под солидным предлогом, конечно. Доверие ему было бы полное. Как считаете, а?
Всегда Кузьмич кончает свою мысль вопросом, вы заметили? Всегда стремится втянуть нас в обсуждение, заставить возражать или соглашаться. Это вовсе, между прочим, не педагогический прием; я заметил, что ему самому это необходимо, он привык, ему требуется, чтобы кругом него люди тоже думали над тем, над чем думает он, и вопрос престижа при этом его нисколько не волнует.
— Если была необходимость, то появиться он у Купрейчика мог, — соглашаюсь я.
— Ну вот, — с облегчением констатирует Кузьмич. — Но это я, конечно, к примеру. Ты смотри разберись получше, что там к чему. И потревожь, потревожь его, не бойся. Они его сильнее потревожили. — И деловито заключает: — Ну, ступай. Звони в Южноморск. А с Купрейчиком постарайся днем встретиться. К вечеру Мещеряков обещал доложить результаты работы по обоим москвичам. Говорит, кое-что там уже накопали.
Я киваю и, наконец, выхожу из кабинета.
Вот, между прочим, такие у нас субботы, в нашей работе. И воскресенья часто тоже такие. Расследование тяжких преступлений должно идти непрерывно, тут дорог каждый час, не только что день. Паузы, конечно, возможны, но они зависят не от дня недели.
В дежурной части мне тут же дают Южноморск. Разница во времени у нас всего лишь час, и там тоже разгар рабочего дня. Дежурный горотдела Южноморска принимает мое сообщение о возможном появлении Лехи и обещает принять все меры к его задержанию. В последнем случае будет немедленно сообщено нам. Голос у него при этом торопливый и нервный. Что-то, наверное, случилось у них, скорей всего какая-то неприятность.
— Разыскивается в связи с убийством и крупной квартирной кражей, — подчеркиваю я и еще раз настойчиво предупреждаю: — Помните, вооружен и очень озлоблен. Потому опасен при задержании.
— Понятно, понятно, — нетерпеливо говорит дежурный. — Все будет сделано, товарищ Лосев.
Мне не нравится его тон, но ничего больше не остается, как пожелать удачи. Моего дружка Мамедова на месте не оказывается. Я прошу передать, что жду от него известных ему сведений. На этом мы с дежурным прощаемся.
Я иду к себе и уже по городскому телефону звоню Купрейчику. Он, конечно, дома. Время около одиннадцати, и Виктор Арсентьевич, судя по его вальяжному тону, небось еще попивает утренний кофе и проглядывает свежие газеты. Эх, живут же люди, черт возьми!
Виктор Арсентьевич отменно любезен и конечно же не отказывается повидаться со мной. Больше того, он как будто даже рад предстоящей встрече. И мы уславливаемся, что через час я буду у него.
Конечно, я мог бы вызвать его к себе. Несмотря на субботу. Но это не тот случай. Виктор Арсентьевич приедет недовольный, раздраженный причиненным ему беспокойством, настороженный, конечно, и с одной лишь мыслью поскорее от меня отделаться. И нужного разговора — доброжелательного, неторопливого, благодушного даже, с желанием все припомнить и максимально тебе помочь, — такого разговора уже не получится. А мне нужен именно такой разговор.
И потому я уславливаюсь, что через час приеду к Виктору Арсентьевичу. Ничего не поделаешь, так надо. Хотя погода по-прежнему мерзкая. Стеной валит мокрый, тяжелый снег, сырость пробирает до костей, под ногами глубокие ледяные лужи.
Ровно через час я пересекаю знакомый двор. Моей приятельницы с внуками не видно. Впрочем, время их уже кончилось. Да и вообще вряд ли они гуляли в такую жуткую погоду. Заваленный снежными сугробами двор пустынен, насколько можно разобрать что-либо сквозь густую белую пелену снега.
Я пробираюсь к подъезду и поднимаюсь на третий этаж, по дороге стряхивая с себя снег.
Дверь открывает сам Виктор Арсентьевич. Он в знакомой уже мне красивой коричневой пижаме, под ней белоснежная рубашка, но галстука на этот раз нет, ворот по-домашнему расстегнут. Виктор Арсентьевич свеж, бодр и приветлив. Похоже, он и в самом деле доволен встречей со мной.
Мы проходим в кабинет, и я снова как бы погружаюсь в книжный хаос вокруг. Однако он имеет свою какую-то неуловимую, но стойкую композицию, что ли. Мне кажется, что за два дня тут не тронута ни одна книга на огромных, вдоль двух стен, стеллажах, ни один даже раскрытый журнал на овальных тяжелых столах.
Возле кожаного дивана, над которым развешаны картины, стоит другой столик, полированный, на тонких ножках, за которым мы прошлый раз пили кофе. Сейчас на нем стоит ваза с апельсинами и яблоками, две тарелочки и фруктовые ножи.
— От этой мерзкой погоды есть только одно средство, — говорит Виктор Арсентьевич.
Он приносит бутылку коньяка и две рюмки и, в ответ на мой протестующий жест, добавляет:
— Знаю, знаю. Вы на работе. И потому спаивать вас не собираюсь. Но даже комиссар Мегрэ в мерзкую погоду не отказывался от рюмочки.
— Вы меня сразили этим классическим примером, — сдаюсь я.
Мы чокаемся и делаем по глотку. После чего не спеша закуриваем. Между прочим, коньяк в такую погоду действительно очень к месту. Я сильно продрог, и сейчас приятное тепло разливается по телу. Что ж, пора приступать к серьезному разговору, «разминка» кончилась. И я приступаю.
— Вы обещали мне вспомнить все о Гвимаре Ивановиче, — напоминаю я. — Удалось вам что-нибудь вспомнить?
— Кое-что, хотя и не очень значительное, — пожимает плечами Виктор Арсентьевич. — Потому и не звонил вам. Пустяки, в общем-то.
— Что же все-таки?
— Ну, во-первых, вспомнил, как мы познакомились. Он зашел ко мне на работу. Сказал, что он тут на фабрике у нас в командировке. По линии своего Министерства текстильного машиностроения. Разговорились, помню. Так, обо всем. Человек он был общительный необычайно. Он, я вам, кажется, уже говорил, живописью интересовался. Я тоже. Слово за слово, напали на эту тему. Узнал, что у меня картины, загорелся. Симпатичный такой человек оказался. Вот с тех пор и виделись, когда он в Москву приезжал. Он меня и с художником Кончевским познакомил и с сестрицей его.
Итак, один из главных сомнительных пунктов прошлой беседы вроде бы получил объяснение. Ну что ж, тем лучше.
— А можно ли предположить, что он навел воров на вашу квартиру? — спрашиваю я. — Прошлый раз вы, кажется, об этом подумали.
— Ну да! — как-то странно, не к месту вроде бы обрадовавшись, кивает Виктор Арсентьевич. — Я, представьте, и сейчас об этом думаю.
Мне непонятна его реакция, и я невольно настораживаюсь. Начинает даже казаться, что Виктор Арсентьевич не до конца объяснил тот сомнительный пункт. Все-таки тут кое-что требует уточнения.
— А к кому именно и по какому поводу приезжал к вам на фабрику в командировку Гвимар Иванович, не помните? — спрашиваю я.
— Уже не помню, — небрежно машет рукой Виктор Арсентьевич. — Кажется, по вопросам новой техники, к главному инженеру. Но боюсь соврать, давно все-таки было. После он, кажется, приезжал уже по каким-то другим делам и не к нам. Ну, и непременно звонил мне. Заходил. Приятнейший собеседник был, доложу вам. Живопись любил. Не хочется даже плохо думать, — он горестно вздыхает. — Все-таки ужасная история с ним приключилась. Где же на него напали?
— У вас во дворе и напали.
— О господи! Я думал, просто слухи какие-то дурацкие. Прямо во дворе?
— Именно.
— И никого не нашли?
— Пока нет. А тут еще у вас кража.
— Да. Кошмар какой-то.
Я вижу, что Виктор Арсентьевич не на шутку взволнован. Еще бы не волноваться, когда вокруг тебя происходят такие события.
— А тогда, раньше, у вас не возникало никаких подозрений на его счет?
— Подозрений?..
Виктор Арсентьевич несколько нервно потягивает коньяк из своей рюмки и задумчиво трет подбородок, стараясь успокоиться.
Он, кажется, сейчас заново припоминает свои встречи с Гвимаром Ивановичем и напряженно что-то прикидывает в уме, время от времени испытующе поглядывая на меня, потом неуверенно говорит:
— Подозрений, пожалуй, не было… Но… так, знаете… Кое-что странным казалось. Ну, например. Он почему-то ничего не рассказывал мне о своей работе. Словно и вовсе не работал. О семье тоже… Ах да! Последний раз вдруг сообщил, что женится. Даже пригласил нас с женой на свадьбу. Это было весьма неожиданно.
— А кто невеста, сказал?
— Нет, ничего не сказал. Даже когда именно свадьба будет, где. Тоже странно, я вам скажу. Хотя в тот момент я как-то не обратил на это внимания.
— Где же он в Москве останавливался?
— На квартире у приятеля, художника Кончевского. Я там разок был у него.
Виктор Арсентьевич улыбается, словно это воспоминание связано с чем-то приятным для него. Впрочем, ведь он там познакомился с симпатичной соседкой Лелей, хотя продолжения это знакомство, кажется, не имело. А может, он доволен, что прояснил мне еще один неясный пункт в нашей прошлой беседе? Точнее, исправил свою оплошность. Вторую, кстати говоря. И теперь, пожалуй, у меня не осталось к нему претензий.
— Скажите, а Гвимар Иванович знакомил вас еще с кем-нибудь?
— M-м… Кажется, нет.
— Пожалуйста, припомните. Это очень важно.
Виктор Арсентьевич разрезает яблоко, очищает дольку и задумчиво ее жует. Наконец сообщает:
— Ну, познакомил как-то с соседкой, милой молодой особой.
— Ее зовут Леля?
— Да. Так вы ее тоже знаете?
— По долгу службы, — улыбаюсь я. — А еще с кем он вас знакомил?
— Больше, ей-богу, не припомню.
— Например, с кем-нибудь из приезжих. Скажем, со своими земляками?
— Нет. Не припоминаю, — качает седоватой головой Виктор Арсентьевич, продолжая чистить новую дольку. Потом, спохватившись, придвигает вазу ко мне: — Прошу. Вы ничего не берете. Прошу.
Я благодарю и задумчиво добавляю:
— А ведь Гвимар Иванович не один приехал в Москву, а со своим земляком. Они даже поссорились однажды у вас во дворе.
Виктор Арсентьевич перестает чистить яблоко и пристально смотрит на меня.
— Поссорились? — недоверчиво переспрашивает он.
— Да. И сильно.
— А вот это уже меня не касается, — вдруг резко говорит Виктор Арсентьевич. — Кто там с кем изволил поссориться.
— Это конечно, — охотно соглашаюсь я.
А про себя удивляюсь его внезапному раздражению. Оно возникло при упоминании ссоры во дворе его дома. Что ж, усилим этот момент и проверим реакцию.
— Скажите, — спрашиваю я небрежно, как бы вовсе между прочим, — вы случайно с неким Львом Игнатьевичем не знакомы?
И тут мне кажется, что именно эта небрежность производит впечатление на моего собеседника. Впрочем, и сам вопрос ему тоже явно не нравится.
— Понятия не имею, — раздраженно говорит он. — Кто это такой? Тоже приезжий, так, что ли?
— Да. Приезжий.
— Как, интересно, вы их узнаете?
— Иногда по сущим пустякам.
— А этого… Льва… Льва Игнатьевича, так, кажется?
Он делает вид, что не сразу вспоминает это имя. Но мне почему-то кажется, что он этого человека знает.
— Тоже по пустякам, — загадочным тоном говорю я.
Если его этот ответ не устраивает, то пусть понервничает, это полезно.
— Конечно, сверхсекретные методы, не так ли? — пытается иронизировать Виктор Арсентьевич, которого и в самом деле нервирует мой ответ.
— Только отчасти, — спокойно говорю я, словно не замечая его иронии, и возвращаюсь к прерванному разговору: — Значит, вы такого Льва Игнатьевича не помните? Странно.
— Почему странно?
— Мне казалось, вы должны его знать.
— А мне вот кажется, что вы не должны его знать, — запальчиво говорит Виктор Арсентьевич и, спохватившись, поправляется: — То есть мне, конечно, ничего такого не может казаться, но… и вам тоже. А впрочем, чепуха все это!
Он досадливо машет рукой и вытягивает из лежащей перед ним пачки сигарету.
Все-таки странно. Почему, признав знакомство с Гвимаром Ивановичем, он не хочет признать, что знаком и с Львом Игнатьевичем? Какая разница? А может быть, это мне только показалось, что он его знает? Ведь этот Лев Игнатьевич… Он ругался с Гвимаром Ивановичем так, что на них обратили внимание и сидевшая недалеко Софья Семеновна, и проходившая через двор Инна Борисовна. Обе дали приметы этого Льва Игнатьевича… приметы… Я их прекрасно помню. Но сейчас, кажется, впервые представляю себе по ним живого человека, такого плотного, невысокого, пожилого, седые стриженые усики, мешки под глазами… И неожиданно меня берет оторопь. Я вдруг понимаю то безотчетное беспокойство, которое овладело мной утром, в кабинете Кузьмича, когда мы заговорили об этом Льве Игнатьевиче. Неужели?.. Неужели я вчера вечером встречался с ним? Да, да, очень похоже, что так. Но тогда…
Чтобы иметь хотя бы еще минуту времени для размышлений, я тоже тянусь за сигаретой, медленно вытягиваю ее из пачки, щелкаю зажигалкой, прикуриваю, затягиваюсь… И у Льва Игнатьевича оказывается мой телефон, имя и отчество. Уж не Виктор ли Арсентьевич всем этим его снабдил? Нет, не может быть. Мы уже об этом думали. Достал, конечно, другим путем. Вот и Свиристенко он откопал. Нет, тут непонятно другое. Зачем совсем неглупому Льву Игнатьевичу понадобилось совершить такой наглый и такой рискованный шаг? Зачем? Ведь квартирная кража, в которой он замешан, и даже убийство Семанского не имеют никакого отношения к тому, о чем он меня предупреждал. Это именно «мой огород», и именно этим он и предлагал ограничить мою работу. Что ж, он нарочно пускал меня по своему следу, чтобы сбить с другого? Непонятно. И выходит, его кто-то действительно подослал ко мне. Но кто? Зачем?
Я с усилием прогоняю от себя все эти вопросы. Потом, потом. Сейчас надо каким-то путем убедиться, знает мой собеседник Льва Игнатьевича или нет, и что именно он о нем в этом случае знает.
— Совершенно верно, — соглашаюсь я. — Чепуха это все. И вы вовсе не обязаны его знать, и я тоже. Хотя я его, представьте, знаю. Дело в том, что незадолго до кражи у вас он встретился во дворе с Гвимаром Ивановичем и они поссорились.
— Так вот вы о каком земляке упоминали, — усмехается Виктор Арсентьевич.
— Именно. Их-то и видели во дворе. И запомнили.
— И вам рассказали?
— Конечно. Вот я и подумал: если Гвимар Иванович бывал у вас, мог быть и…
— Не был, — решительно обрывает меня Виктор Арсентьевич. — Представьте себе, никогда он у меня в гостях не был.
— Ну что ж, не был так не был, — соглашаюсь я. — Но вот к краже у вас этот человек какое-то отношение, видимо, имеет. И возможно, к убийству тоже.
— Тут я вам плохой помощник, — машет рукой Виктор Арсентьевич и указывает на вазу. — Да возьмите же что-нибудь.
— Спасибо.
Я машинально беру апельсин и начинаю его чистить.
Виктор Арсентьевич после некоторого колебания все же интересуется:
— А почему вы решили, что он имеет отношение к убийству?
— Кто?
— Да этот… Лев Игнатьевич.
— Потому что он серьезно поссорился с Гвимаром Ивановичем и знал одного из убийц.
— Что вы говорите?! Значит, и вы этих убийц знаете?
— Знаем.
— И не задержали?
Я усмехаюсь.
— Пресс-конференцию по этому делу проводить еще рано.
— Да, да. Извините. Я не должен вам задавать такие вопросы, понимаю.
— А я не должен был вам на них отвечать.
— И все-таки ответили, — улыбаясь и как бы с упреком говорит Виктор Арсентьевич.
— Да. По слабости характера, — я тоже улыбаюсь. — А вот вы наоборот — должны были ответить, но не ответили.
— Так я же вам уже…
— Да, да, — киваю я. — Вы его не знаете. Я понимаю.
Однако понимаю я совсем другое. Поведение Виктора Арсентьевича мне не нравится. Что-то он все-таки от меня скрывает, что-то не договаривает. Почему? Возможно, он боится, что все эти знакомства конечно же запачкают его. А тут еще и убийство. Что ж, это вполне возможно. И все же он должен мне довериться, и все рассказать. Вот как только этого добиться? Но, в конце концов, он же сам заинтересован, чтобы все распуталось.
— Я хочу, Виктор Арсентьевич, обрисовать вам ситуацию, в которой вы оказались, — говорю я. — До конца вы ее, по-моему, не оценили. Это и понятно. Мне все же как-никак виднее. И я вам помогу.
— Что ж. Слушаю вас.
— Так вот. Ситуация, конечно, малоприятная. Вокруг вас, а точнее, вокруг вашей квартиры, крутилась целая шайка. Наблюдали, изучали, составляли план. Но предварительно им надо было убедиться, что игра стоит свеч, то есть что в квартире, грубо говоря, есть что брать. Кто-то дал такую информацию, и игра началась. По всему видно, что готовились умело и тщательно. Интерес к вам, а точнее, к вашей квартире…
— Почему вы все время в этом пункте сбиваетесь? — подозрительно, даже нервно спрашивает вдруг Виктор Арсентьевич. — Лично я для них интереса, надеюсь, не представляю?
— Я тоже так надеюсь.
— Но не уверены? — продолжает цепляться Виктор Арсентьевич.
— Пока дело не раскрыто, ни в чем нельзя быть уверенным, — спокойно отвечаю я. — Так вот, повторяю, интерес к вам, а скорее, конечно, к вашей квартире, был так велик, что в какой-то момент пошли даже на убийство. То ли что-то не поделили, то ли решили убрать конкурента.
— Это уже коммерческий термин, он тут не применим, — прерывает меня Виктор Арсентьевич.
— Коммерческий? — машинально переспрашиваю я и добавляю: — А ведь Гвимар Иванович имел отношение к коммерции.
— То есть? — настораживается мой собеседник. — В каком смысле?
— В прямом. Он в прошлом был директором магазина.
— Ого! Так вы уже изучили его биографию, оказывается?
— Пришлось. Но я пока вот на что хочу обратить ваше внимание. Для вас из возникшей неприятной ситуации желательны, мне кажется, два, ну, результата, что ли. Первый — это возвращение украденных вещей. Не так ли?
— Да, конечно, — соглашается Виктор Арсентьевич. — А какой второй?
— Второй результат скорее, так сказать, моральный, а не материальный. Что ни говорите, а вы сейчас, наверное, жалеете, что дружили с Гвимаром Ивановичем. Некую тень это все же на вас бросает, не так ли?
— Жалеть я, конечно, жалею, — твердо говорит Виктор Арсентьевич. — Но никакой тени это на меня, извините, не бросает. Разве мог я предположить, что он… жулик!
— При некотором желании могли бы.
— Не понимаю.
— Да очень просто. Вот вы сказали, что он вам никогда не рассказывал о своей работе, словно и вовсе не работал. Так?
— Ну, так.
— Но ведь вам ничего не стоило выяснить, что командировки к вам на фабрику ему никто не давал.
Тут впервые в глазах Виктора Арсентьевича мелькает испуг.
— Но позвольте… — лепечет он. — Вы куда-то в сторону уходите… Ну, допустим, я не догадался это выяснить… Допустим… Но кража у меня…
— Вы правы, — перебиваю я его. — К краже это отношения не имеет. И мы действительно ушли несколько в сторону. Но к личности Гвимара Ивановича все это имеет прямое отношение, согласитесь. И ее не украшает, не правда ли?
— Безусловно, — с явным облегчением соглашается Виктор Арсентьевич.
— А потому и дружба с такой личностью, так сказать, не украшает вас. И вы об этой дружбе, по вашим словам, жалеете.
— Да, конечно, — вздыхает Виктор Арсентьевич. — Но кто бы мог подумать.
— Так вот второй результат, которого вы хотите, это избавиться от пятнышка, которое эта дружба на вас все же бросила.
— Ну, пожалуй…
— Но чтобы достигнуть этих двух результатов, Виктор Арсентьевич, необходимо, чтобы вы были с нами полностью откровенны. Полностью. А сейчас, простите, я в этом не уверен.
— Вы считаете, что я что-то скрываю? — вспыхивает Виктор Арсентьевич. — Ну, знаете… у вас… у вас нет оснований!
— Точнее сказать, что-то недоговариваете. Такое, простите, у меня ощущение. Видите, я с вами вполне откровенен. Больше того, я искренне хочу вам помочь. Хочу добиться и первого результата, и второго. Но и вы, в свою очередь, мне помогите.
— Но… в чем же, по-вашему, я недоговариваю? — растерянно спрашивает Виктор Арсентьевич.
— По крайней мере, в двух пунктах, — отвечаю я. — Первый — насчет Льва Игнатьевича. Мне все же кажется, что вы его знаете. Просто вы боитесь второго пятнышка. Так ведь, согласитесь?
Я его уговариваю, как заупрямившегося мальчишку, и он, именно как заупрямившийся мальчишка, капризным тоном возражает:
— Нет, не так. Я его действительно не знаю.
— Ладно, Виктор Арсентьевич, отложим этот разговор, — предлагаю я. — Подумайте. Все-таки лучше всего, если вы будете со мной до конца откровенны.
— Как угодно. Только…
Я наклоняюсь и кладу свою руку на его, как бы призывая не продолжать.
— Подумайте, — повторяю я. — Мы еще увидимся. И тогда я вам скажу о втором пункте, где вы со мной не откровенны.
Я поднимаюсь. Разговор окончен. Совсем нелегкий разговор. Я вижу, как утомлен Виктор Арсентьевич. И сам я утомлен не меньше. Хотя время я провел с пользой, однако кое-какие детали состоявшегося разговора пока от меня ускользают.
Я возвращаюсь на работу только к середине дня. Рюмка коньяка и апельсин обед заменить, естественно, не могут. Когда же я узнаю, что и Кузьмич отправился перекусить, то уже решительно направляю свои стопы в сторону столовой. Кстати, столовая у нас очень неплохая, возможно потому, что над ней взяли своеобразное шефство сотрудники ОБХСС. Поэтому я стараюсь, когда возможно, обедать здесь. К сожалению, это далеко не всегда удается.
Сегодня здесь народу совсем мало, все-таки суббота. В основном обедают сотрудники нашего управления. Картина, в общем, обычная. Я подсаживаюсь к знакомым ребятам из другого отдела, и за интересным разговором обед пролетает быстро. Я даже не успеваю узнать все подробности одного ловкого мошенничества и обсудить вчерашнюю газетную заметку об одном нашем сотруднике, очень нас развеселившую своей розовой наивностью.
Когда я наконец поднимаюсь к себе, Кузьмич уже на месте. Прежде всего я ему подробно докладываю о своем разговоре с Купрейчиком, очень подробно. Это уже вошло у нас в привычку. Кузьмич слушает молча, не перебивая, то крутя в руках очки, то выравнивая на столе свои карандаши.
— Так, — наконец говорит он, когда я заканчиваю свой доклад. — Совсем неплохо поговорили. Хотя и не все прояснилось. Не все.
— Но хоть видно, что еще надо прояснить.
— Именно что, — соглашается Кузьмич. — Вот к примеру. Семанский, выходит, чуть не год дружил с Купрейчиком и вдруг решил навести на него шайку. Значит, и сам с ней недавно связался, так, что ли? А чем он промышлял до этого? Ведь он года два как работать бросил. Неясно. Еще более неясен этот Лев Игнатьевич, уж как хочешь. Пожилой, солидный человек, вон какой философ, и занимается квартирными кражами, шайку организовывает?.. Не верю. Что-то тут не так. Да и сам он отрекомендовался тебе, как… ну, делец, что ли, коммерсант, представитель чей-то. Предложение деловое сделал. И вдруг квартирная кража за ним. Не бывает так, милый мой.
— Да, — соглашаюсь я. — Странно все это с Львом Игнатьевичем, не спорю.
— Боюсь, не ошибаешься ли ты, — качает головой Кузьмич. — В кафе с тобой сидел не Лев Игнатьевич. Не может такой солидный человек квартирные кражи совершать. Он вот там, в кафе, на своем месте был, когда философствовал и деловые предложения делал. А Лев Игнатьевич с квартирной кражей у Купрейчика связан накрепко, через Чуму и Семанского.
— И с убийством, видно, тоже, — добавляю я.
— Именно что, — кивает Кузьмич и, вздохнув, заключает: — Нет, милый мой, скорей всего, ты ошибся. Бывает.
— Уж очень похожи.
— Тем более. Ну да поглядим еще. Если повезет, то ты с тем Павлом Алексеевичем еще встретишься. Он в понедельник звонить должен?
— Да.
— Ну вот. А пока пойдем дальше. Не нравится мне твой Купрейчик. Ты прав, что-то он недоговаривает.
— Что знаком с Львом Игнатьевичем.
— Это во-первых. А потом насчет Семанского. Проверим-ка на фабрике, появлялся там Семанский или нет и у кого. Ведь Купрейчик испугался, когда ты сказал насчет командировки этого Семанского, что не могло ее быть. Испугался или нет?
— Точно, испугался, — подтверждаю я. — Сказал еще, что мы, мол, в сторону уходим от кражи… Федор Кузьмич! — вдруг вспоминаю я. — А ведь в сторону от нее просил не уходить и этот… Павел Алексеевич, там, в кафе.
— Ишь ты, — довольно усмехается Кузьмич. — Чего увязать вздумал.
— Так само вяжется.
— Ну, ну, не торопись. Этот Купрейчик чем на фабрике у себя занимается, не узнавал?
— Да нет.
— Когда насчет Семанского туда поедешь, этим тоже поинтересуйся. Осторожно только. Он для нас пока лишь потерпевший, жертва, так сказать.
— Он и в самом деле потерпевший.
— Ну, а я что говорю? Поэтому особая осторожность нужна. Но проверить тут кое-что надо, милый мой, как уж ни крути. Непременно надо. Помни навсегда: самая малая неувязочка в деле, малейшая неясность должна быть прояснена, не забыта. Как в школе учили, — приводит свой любимый пример Кузьмич. — Один малюсенький уголок не совпадает, и два громадных многоугольника уже не подобны. А тут у нас не одна такая неувязочка, вот ведь что.
Да, многовато неясностей в простом, казалось бы, деле о квартирной краже, даже слишком много. Что-то не складывается цельной картины, наоборот, все разваливается. Чем дальше, тем больше. Точнее, за квартирной кражей вырастает другое дело — убийство, а за этим другим расплывчато, неясно начинает как будто бы маячить что-то еще. Вот ведь какая странная история. И главное, не один я, оба мы чувствуем, и Кузьмич, и я.
— Что там у Денисова? — спрашиваю я.
— Час назад звонил с вокзала, — досадливо говорит Кузьмич. — Видно, ушел Леха из зоны активного поиска. Выпустили его. Вот уже… — он смотрит на часы. — Ну да. Как раз сутки прошли, как розыск объявили. И ни слуху ни духу.
— Могли недавно взять, а сообщить еще не успели.
— Посмотрим. Денисов там шарит по всем дорогам.
Звонит один из телефонов. Кузьмич снимает трубку.
— А-а, ты. Привет… Ну, давай, давай. Ждем… Тут, тут, — он кладет трубку и сообщает: — Паша Мещеряков. Сейчас зайдет.
Наш «небесный Паша» в своем неизменном синем костюме и голубой рубашке появляется почти мгновенно. Он, как всегда, сосредоточен и неулыбчив. В руках у него дерматиновая зеленая папка с металлическим замочком. Паша раскрывает ее и вынимает всякие бумаги. На каждой почти стоит знакомый гриф «секретно». Бумаг немало, ребята успели, видно, поработать.
— Двое граждан из красного «Москвича», — хмурясь, говорит Паша, — нами установлены. Один — Шершень Степан Иванович, второй — Гаврилов Иван Степанович. Под наблюдением двое суток, с момента наезда на Шухмина. Но сначала о них самих. Оба давно нигде не работают. Шершень, тот широко живет, деньгами кидается, рестораны, девки, шмутки заграничные. Одинокий. Имеет «Жигули» зеленого цвета. Последнее место работы — техник-смотритель в жэке. Веселый, контактный, многочисленные связи, все больше по части выпивки. А когда выпивает, становится агрессивен и подозрителен. Боится только одного человека — Гаврилова. Тот замкнутый, молчаливый, всегда подозрительный. Никого к себе не подпускает. Внешне живет скромно. Жена работает в аптеке. Есть дочка, во второй класс ходит. У Гаврилова свой дом под Москвой. Солидный дом. На тестя записан.
— Это куда Петр ездил? — спрашиваю я.
— Нет. То дача. Сейчас расскажу — упадешь. Но сначала кончу об этих двоих. Гаврилов слесарь, тоже в жэке работал. Там они с Шершнем и познакомились. От этого жэка, видимо, и интерес к чужим квартирам. Насмотрелись, как люди живут, а заодно и как двери запирают, какие замки ставят, что как в квартирах лежит, хранится. Гаврилов, надо сказать, слесарь первоклассный. Для него вообще нет замков, которые нельзя открыть. Однажды английский сейф в соседнем учреждении открыл, позвали его, ключи куда-то затеряли. И вот даже после такого дела он к нам в поле зрения не попал. Я считаю, серьезная эта наша недоработка.
— Правильно считаешь, — кивает Кузьмич. — На заметку надо было взять.
— Значит, в кепке и зеленом шарфе это он, Гаврилов? — спрашиваю я.
— Он самый.
— И красный «Москвич» его?
— Тоже на тестя записан. Водит по доверенности.
— Да что это за тесть такой?
— Граф, — деловито сообщает Паша.
— Чего, чего?.. Граф? — удивленно переспрашиваю я.
— Самый настоящий. Вернее, потомок. Его мать из крепостных была, приз по красоте в Париже получила. А отец подлинный граф, младший отпрыск, правда. После революции пошел работать. Вот теперь сынок, то есть тесть этот самый, говорит, что ему якобы от предков кое-что перепало. На это, видишь ли, все и приобрел. Сам он сейчас пенсионер уже.
— Ну и ну, — улыбаюсь я. — И не подкопаешься. Хитер Гаврилов. С графом породнился. Не всякому такое привалит.
— Точно, — соглашается Паша. — Но вот с этими двумя рядом, так сказать, третий человек есть. Неожиданная фигура. До конца мы пока с ним не разобрались. Вернее, только начали разбираться. Вчера на него вышли.
— А почему ты говоришь «рядом»? — интересуюсь я.
— Видимо, в их группу непосредственно не входит.
— Кто ж он такой?
— Зовут Олег, фамилия Брюханов.
— Брюханов? — недоверчиво переспрашиваю я. — Это что же, однофамилец покойного академика или…
— Вот именно. Сын, — угрюмо подтверждает Паша и добавляет: — Сначала сами не поверили. Ну, а потом пришлось поверить.
— Он-то, во всяком случае, квартиру отца, надеюсь, не грабил?
— Тоже надеюсь. Но с Шершнем знаком, выпивают вместе.
— А что этот Олег Брюханов делает, где работает?
— Ассистент в одной из лабораторий института, где отец был директором. Спирт оттуда тащит. Алкаш немыслимый. Где выпивают, там и он. Магнитом тянет. В любую компанию. Если не зовут, сам втирается. И принимают. Болтун, добряк, безобидный парень.
— А с сестрой судился, — говорю я. — Все отцовское добро себе тянул, говорят.
— Так это, видимо, жена его накрутила.
— Во-во. Третья, говорят, она у него. Пьяница, проститутка, — вспоминаю я рассказ Софьи Семеновны во дворе. — Так, что ли?
— С женой мы еще познакомиться не успели. Вчера только на него самого вышли. Все возможно, между прочим.
— И где она работает, неизвестно?
— Известно. В том же институте, лаборантка. Сегодня мои ребята туда поехали. Вот-вот вернуться должны. Разрешите? — обращается Паша к Кузьмичу и указывает на телефон.
— Давай, — кивает Кузьмич.
Паша, обойдя стол, снимает трубку, набирает короткий номер и говорит:
— Волков?.. Уже прибыл?.. Зайди к подполковнику Цветкову, я здесь. Все сразу доложишь… Да, захвати, — он кладет трубку и говорит нам: — Сейчас придет.
Через минуту появляется Витя Волков, ладный, белобрысый паренек с университетским значком на лацкане модного пиджака. Он в белоснежной рубашке с красивым полосатым галстуком.
— Что ты такой нарядный? — интересуюсь я.
— Сознательно, — приосанивается Витя. — В институте Академии наук был все-таки. Пусть не думают, что сыщики некультурный народ. Престиж фирмы, так сказать. Ну, и в смысле контакта тоже, — туманно добавляет он.
Но мы его прекрасно понимаем.
— Давай, — говорит Паша. — Докладывай.
— И садись, садись, — добавляет Кузьмич.
— Значит, так, — Витя располагается возле столика, придвинутого к письменному столу Кузьмича. — Беседовал я с заведующим лабораторией, с замсекретаря партбюро, с одной лаборанткой и одним доктором наук, профессором.
— Аккуратно, надеюсь? — сурово спрашивает Паша.
— Ясное дело. Никто из них не понял, что мне на самом деле надо. Словом, так. Все они Олега Брюханова отлично знают и супругу его тоже, конечно. Насчет Олега мнения не расходятся. Выпивоха, лентяй, добряк, воли никакой, принципов тоже. Все пропил. Из института с третьего курса его вышибли. А в лаборатории его держат только из уважения к памяти отца.
— Самого ты его видел? — спрашиваю я.
— Под конец. Метнулся в коридоре пугливым зайцем и пропал. Сильно чем-то был взволнован. Моим приездом, возможно. Узнал от кого-нибудь.
— Вполне возможно, — кивает Кузьмич, выравнивая на столе свои карандаши.
— Ну, а супруга что собой представляет? — с нетерпением спрашиваю я.
— Кобра. Ее все там так и зовут. И даже показывают. Вот так.
Витя поднимает руку, сгибает ее в локте, а пальцы складывает вместе, как змеиную головку. Рука удивительно напоминает приподнявшуюся кобру, когда она высматривает добычу.
Мы все смеемся.
— Вертит Олегом как хочет, — продолжает Витя. — Говорят, даже бьет. Полна на всех злости. И всем на мужа жалуется. Ну, и жадна, говорят, до невероятия.
— Видел ее? — спрашивает Паша.
— Ага. Издали.
— Боялся приблизиться? — смеюсь я.
— Ты сам попробуй, — отшучивается Витя.
— А почему и не попробовать? — я смотрю на Кузьмича. — Змей я не боюсь. Алкашей тоже. Разрешите, Федор Кузьмич?
— Решайте, — говорит Паша. — Дела по краже и по убийству объединяем и передаем вам. Вот, последние мероприятия провели.
В этот момент дверь кабинета приоткрывается, и на пороге появляется Валя Денисов.
— Разрешите, Федор Кузьмич? — вежливо осведомляется он.
— Заходи, — кивает Кузьмич.
А я тем временем напоминаю Паше:
— Ты еще ничего не сказал насчет дачи, где наш Петр был.
— Тьфу ты! — хлопает себя по лбу Паша и загадочно улыбается. — Эту дачу надо непременно осмотреть. Если они там что-то с кражи спрятали, то это, я вам скажу, просто гениальный ход.
— Почему же сразу так уж и гениальный?
— А потому, что эта дача академика Брюханова.
— Чья?!
Мы все на секунду даже немеем от изумления.
— Академика Брюханова, — торжественно повторяет Паша, теряя даже на момент свою обычную суровую сдержанность.
— Вот это финт, — наконец говорю я. — Интересно, чья голова это придумала.
— Скорей всего, Гаврилов, — отвечает Паша. — Он и не такое придумает.
— Как знать, — говорю я. — Там и похитрее твоего Гаврилова головы есть. Один этот Лев Игнатьевич небось кое-чего стоит. Да и Чума тоже.
— Гаврилов, мне кажется, другое дело, — качает головой Кузьмич, выкладывая по росту карандаши и не отрывая от них глаз. — Это мастер, специалист. Он небось и убийство Семанского не одобрил. Учесть это надо будет.
— Но все добро они на даче не спрячут, — говорю я. — Тот же Лев Игнатьевич не разрешит. По разным местам небось рассовали. Думается мне, что, в лучшем случае, эти двое, Гаврилов и Шершень, свою долю там спрятали, на даче этой.
— Как они про нее вообще узнали, интересно, — замечает Валя. — И как туда проникли.
Ему объясняют, кто такой Гаврилов и что для него вообще никаких запоров не существует. Ну, а про дачу им сказал, конечно, Олег, кто же еще? Выпил и сказал. Тут у нас даже сомнений нет.
— Он им и про квартиру отца мог рассказать, — говорю я. — И про вещи всякие, про картины, из-за которых с сестрой судился. Кстати, на это, видимо, жена его подбила, а?
— Она. Кобра, — подтверждает Витя. — Весь институт знает.
— Про нее говорят, что пьяница, проститутка, — снова повторяю я.
— Не слыхал, — Витя качает головой. — Баба собранная, волевая. И, между прочим, неплохой лаборант. А с виду худа как жердь, черна как уголь, а нос… как у Гоголя.
Все невольно улыбаются.
— Ну, ты художник, Витя, — говорю я. — Такой портрет.
— Так вот, — вмешивается Кузьмич, отрываясь от своих карандашей и решительно смешивая их, словно кончая игру. — Брать сейчас Гаврилова и Шершня нельзя, их надо, милые мои, брать с поличным, не иначе. А вот смотреть за ними надо неотступно.
— Смотрим, — кивает Паша. — Так вам с рук на руки и передадим.
— Это раз, — подолжает Кузьмич. — Второе — дача. За ней, я полагаю, отдельно придется смотреть. Туда ведь может и кто другой пожаловать. Как полагаете?
Он оглядывает нас.
— Только Лев Игнатьевич, — откликаюсь я. — Если он об этом номере их знает, конечно. А больше некому. Леха в бегах, Чума у нас. Но я думаю, Федор Кузьмич, дачу эту надо осмотреть пока самим.
Кузьмич не возражает.
— Только без нарушения обстановки, — говорит он и продолжает: — Теперь — третье. С этим Олегом надо побеседовать. По факту кражи из квартиры отца. Вполне это естественно, даже если и нет у нас против него никаких подозрений.
— И с супругой его надо встретиться, — добавляю я. — И тоже это никаких подозрений вызвать не может с их стороны. Как ее, кстати, зовут?
— Галина Осиповна, — сообщает Витя. — Фамилия Голованова, по первому мужу.
— Так вот, — заключает Кузьмич, — дачу мы берем под наблюдение немедленно. А завтра…
— Завтра воскресенье, Федор Кузьмич, — деликатно напоминаю я.
— М-да… — осекается он и, досадливо потерев ладонью ежик волос на затылке, продолжает уже спокойно: — Тогда, значит, в понедельник утром приглашаем этого Олега сюда, беседуем, как полагается, и сразу едем вместе с ним на дачу. Под самым пустяковым предлогом. Ну, и осмотрим, что там и как. Если, конечно, до этого туда никто не заявится.
— А если все же завтра кто-нибудь да заявится? — осторожно спрашиваю я.
— Придется немедленно брать, — пожимает плечами Кузьмич. — А как же? В чужую дачу залезли. Есть, так сказать, полное основание задержать. Ну, и сразу, конечно, летите туда. Поэтому чтоб дежурный завтра каждую минуту знал, где вы находитесь.
Это уже относится ко мне и к Вале.
— Да-а… — вздыхаю я. — Плакали наши лыжи со Светкой.
— Светлана твоя человек сознательный, — говорит Кузьмич. — И нашу работу знает.
Я замечаю, как Валя тоже вздыхает, но молча. Тоже, наверное, какое-то свидание намечалось. Я за Валей кое-что в последнее время стал замечать, некие подозрительные и знакомые мне признаки, так сказать.
На этом совещание наше заканчивается, и Кузьмич отпускает нас на заслуженный отдых.
Воскресенье, представьте себе, проходит спокойно, без всяких чепе. Днем Светка пишет какую-то ученую статью по своим библиотечным проблемам, а ужинать мы едем к моим старикам, и я весь вечер играю с отцом в шахматы. Именно за шахматами, как ни странно, у нас возникают с ним самые интересные разговоры. На этот раз я ему рассказываю о семье академика Брюханова, вернее, о его детях. Самого академика отец, оказывается, хорошо знал. «Типичный ученый был, — говорит он. — Блестящий концептуальный и эстетический ум. Но директор был никакой. На уровне первого ранга рефлексии. При этом мягок, добр, расположен к людям. Очень его все в институте любили. Дочка в него, Инна. Только масштабом куда как меньше. А вот про сынка я и не знал даже». — «Специально тебе рассказал, — смеюсь я. — Чтобы ты меня больше ценил». Потом мы ужинаем, и моя дорогая теща (а мы всегда приезжаем к моим с Анной Михайловной), задыхаясь от своей непомерной полноты и больного сердца, жалуется маме, что я плохо ем, плохо сплю и плохо выгляжу, и Светка, мол, плохо за мной смотрит. Видели вы когда-нибудь такую тещу? И мама, как врач, начинает уверять ее, что все обстоит не так уж плохо и защищает Светку. Отец лишь молча улыбается, а Светка сидит тихая, скромная, и со стороны может показаться, что она и всегда именно такая. Уходим мы не поздно: завтра всем на работу. По дороге я ворчу, что потерян для лыж такой чудесный, солнечный день, и Светка, в полном соответствии с мнением о ней Кузьмича, заявляет, что все правильно и сидеть мне весь день дома, видите ли, было необходимо. «А дышать свежим воздухом? — негодует Анна Михайловна. — Когда вы им дышали последний раз, ты помнишь?» Словом, вот так, тихо и весело, проходит воскресенье.
Наутро я не успеваю вернуться после оперативки к себе в комнату, как один из наших сотрудников уже привозит Олега Брюханова.
— Мадам тоже увязалась, — сообщает он мне. — Не пожелала отпускать супруга одного. «Еще не то брякнет», — заявила. Ну, дамочка, я тебе доложу. Федор Кузьмич ее к себе пригласил. Теперь намучается.
— Понедельник день тяжелый, — вздыхаю я. — Давай этого Олежика сюда. А я начальство изображать буду. Пусть ему будет лестно, заодно уважением проникнется.
Через минуту ко мне в комнату, улыбаясь, входит щуплый, плешивый человек в очках. Глаза у него испуганные, и потому улыбка кажется совсем неуместной. Одет он плохо и небрежно, галстук съехал набок, одна из пуговиц на поношенном пиджаке еле держится, брюки давно неглажены. Словом, вид у этого человека какой-то линялый и жалкий. При этом он не только улыбается, но еще и время от времени странно хихикает.
— Мое почтение, — говорит он как можно развязнее, изображая из себя эдакого рубаху-парня. — Чем могу служить?
И при этом он плотоядно потирает руки, словно готовясь сесть за стол с хорошей выпивкой и закуской.
— Присаживайтесь, Олег Борисович, — холодно говорю я, хотя в душе мне почему-то жалко этого человека. — Побеседуем.
На вид ему не меньше сорока, но я-то знаю, что ему всего двадцать шесть лет. В армии он не служил: кроме плохого зрения, у него еще плоскостопие и что-то с печенью, это уже от бесконечных выпивок, от них, конечно, и весь его сорокалетний облик.
Олег боком устраивается на стуле и вынимает мятую пачку «Беломора». Я замечаю, что руки у него слегка дрожат.
— Разрешите, надеюсь? — церемонно спрашивает он.
И, получив разрешение, торопливо, даже жадно закуривает.
— Любили вы отца? — неожиданно спрашиваю я.
— Я-то любил, он не любил, — машет рукой Олег и хихикает. — Да и за что нас любить-то, если разобраться? Брак, одним словом, получился. Ха, ха, ха…
Плечи его, усыпанные перхотью, трясутся от смеха, глаза под стеклами очков заметно влажнеют, и все узенькое, небритое личико становится каким-то горестным. Смеется он странными всхлипами и тоже невесело.
— А сестру? — снова спрашиваю я. — Как вы к ней относитесь?
— К Инке-то? Уж больно ее всегда много было. Пять меня. Я говорю, весь вес ей пошел, а вся веселость мне. В ней одна угрюмость осталась, ей-богу. Ну, как такую тушу любить, сами посудите? Столько, значит, килограмм угрюмости. Это же ужас! Жить надо легко, свободно, как дышится. Ласковы люди должны быть к ближнему. Верно я говорю?
Интонации у него при этом доверительные, дружелюбные и, пожалуй, чуть заискивающие, точно он одновременно и уговаривает меня и просит.
— Верно, — соглашаюсь я. — Только зачем же вы тогда с Инной Борисовной судились? Неужто по-доброму все не могли поделить после отца, по-справедливому?
— Да господи! — страдальчески восклицает Олег, и глаза его снова наполняются слезами. — Так это все Галка. Как бормашина, знаете таких женщин? З-з-з… Деться некуда. Днем и ночью. Я говорю, убежал бы. Так некуда. Опять, что ли, разводиться? Надоело. Ну, плюнул и подал на Инку. Сама Галка мое заявление в суд и отнесла. И вот ребята говорят, правильно, мол, сделал. Только мне это, честно скажу, тошно все. Но куда бедному христианину податься? Я говорю, только в монахи, ей-богу, там уж она меня не достанет.
Он снова хихикает.
— Какие же ребята говорят, что вы правильно сделали?
— Какие? Ну, всякие приятели, господи. У меня их, знаете, пруд пруди, Я ведь человек простой. И выпить, признаться, люблю. И со мной выпить тоже любят. А кто сейчас выпить не любит, если уж так спросить? Одна радость, я вам скажу. Сядешь, знаете, так спокойно, с приятелями, конечно. Ну, разольешь, что-то скажешь хорошее такое, душевное, и, значит…
— Погодите, Олег, — невольно улыбаюсь я. — Вы мне лучше друзей своих назовите, ну, самых близких сначала, с кем чаще всего встречаетесь.
— Друзей? — весело откликается Олег. — Да ради бога! Вот только разуться придется, уж как хотите. Лады?
И он поднимает ногу.
— Это еще зачем?
— А на руках пальцев не хватит, — хихикает Олег, видимо довольный своей шуткой. — Ей-богу, не хватит. У меня их, я говорю, как одуванчиков в поле. Дикорастущие все. А вот как дунешь, так их и нет, — вдруг грустно заключает он. — Ей-богу, как не было. Сам иной раз удивляюсь. Но, знаете, природа пустоты не терпит. Новые находятся.
И он через силу улыбается.
Жалкий человек, пропащий какой-то. При взгляде на него даже в груди щемить начинает.
— Ну, назовите тех, кто еще не улетел, — предлагаю я.
— Извольте, извольте, — с готовностью подхватывает Олег. — Не знаю только, с кого начать. По дому, по работе или так просто, случайных? Я говорю, на любой вкус, на любой цвет, как в Греции.
— По дому, — говорю я.
Дело в том, что Шершень был техником-смотрителем того самого жэка, где живет Олег. Там же работал слесарем и Гаврилов.
— Извольте, извольте, — повторяет Олег с каким-то натужным возбуждением. — Это как раз самые близкие и будут. Я говорю, приятелей надо всегда под рукой держать. Чуть что — и пожалуйста, с нашим удовольствием, они уже тут. А до работы или там до стекляшки еще бежать надо. Это, знаете, как один в баню приходит…
Отчаянно жестикулируя, Олег рассказывает старый-престарый анекдот. Он все время находится в каком-то взвинченном состоянии, все время дергается и ни минуты не может сидеть спокойно.
— Ну, так, значит, — на миг задумывается Олег. — С кого бы это начать, чтобы никого не обидеть, вот вопрос вопросов, — и весело добавляет: — Это, знаете, как одного спросили…
— Со Степана начните, например, — обрываю я его.
— Со Степика? А чего с него начинать? — нисколько не обидевшись, охотно подхватывает Олег. — Он уже не под рукой. Все. Ушел. Они теперь когда позовут, то, конечно, хорошо посидим, богато, душевно. Но редко. А я говорю, лучше часто, но немного. А они много, но редко. Вот такая у меня с ними неблагоприятная ситуация возникла. Я говорю…
— С кем «с ними»?
— А Степик и Иван Гаврилов, не знаете? Слесарем у нас работал в доме. Вот душевный тоже человек, если бы вы знали. Поискать, ей-богу, поискать. Я говорю, в Греции и то такого не найдешь. А уж мастер… — Олег всплескивает руками. — Истинно тульский умелец. Запросто блоху подкует, а не то что там кран новый поставить или, допустим, бачок. Он, я говорю, артист, а не поденщик, в нем искра…
— Вы и с ним советовались, подавать в суд или нет?
— Ну, зачем? Просто рассказывал. Что, мол, Инке остается, а что мне отходит, по справедливости если. Так, значит, и беседовали. Я им картинку за картинкой описывал, — умиленно говорит Олег. — И слушали, представьте. В людях тяга к красоте живет.
— Неужели вы все отцовские картины помните?
— А как же? Все до одной. Вот, знаете, закрою глаза и стены с картинами вижу, где какая висит и в кабинете, и в столовой. И душа, я вам скажу, радуется. Как с родными людьми повидаешься, с любимыми, — Олег вздыхает. — Картины я ужасно люблю, признаюсь вам. С детства люблю. Сколько себя помню. Я говорю, если бы отец разрешил мне по этой линии идти, может, и вышло бы что. Но он — нет. Медицина, мол, и все. А медицина это мне — тьфу! Чтоб даже и не снилась. Но против отца пойти не посмел. Это все равно, как один…
И, снова оживившись, рассказывает пошлый анекдотик.
— Ну, а зачем вы с этими друзьями на отцовскую дачу ездили? — спрашиваю я.
— Да ведь это когда было! — беспечно восклицает Олег и в который раз уже поправляет съезжающие с носа очки. — Это, считайте, год назад было. И у нас зимой там вообще никто не живет. Ну, посидели часок, другой. Выпили на свежем воздухе, побеседовали душевно. Я, знаете, очень люблю беседовать, когда выпью, но только откровенно так, от души.
Да, этот жалкий алкаш мог быть дополнительным источником информации для шайки, сам того, конечно, не ведая. А уж они ее искали всюду вокруг. И к краже Олег никакого отношения не имеет, это ясно. Он, кажется, и не знает ничего о ней, иначе бы хоть спросил что-то. Он ведь в отцовский дом давно не показывается, с момента, как выгнал его Виктор Арсентьевич.
— Вы Инну давно последний раз видели?
— Да вот после суда ни разу. Откровенно говоря, стыдно. Я Галке этого суда никогда не прощу, умирать буду… — На глазах у него наворачиваются слезы. — Ведь на какой позор меня выставила. А главное, я говорю, самому себе в душу наплевал. Как можно, а?
Олег сокрушенно вздыхает и смотрит куда-то в сторону, сгорбившись и по-стариковски сложив на коленях руки.
И снова становится его жалко.
С этим чувством я его и отпускаю, подписав пропуск.
— Жену подождете? — спрашиваю я, прежде чем проставить время ухода.
— А! — машет он рукой и, сутулясь, выходит из кабинета.
Я звоню Кузьмичу.
— Заходи, — коротко говорит он.
— Дамочка еще у вас?
— Выгнал.
— Не может быть! — невольно вырывается у меня.
Я же знаю, каким галантным бывает Кузьмич с женщинами, подчеркнуто галантным, даже с теми из них, которые совершили самое мерзкое преступление и полны злобы, дерзят, ругаются порой так бесстыдно, что от мужчины никогда такого не услышишь. Но в любом случае Кузьмич остается невозмутим и неизменно корректен, этому он научил и нас. Видеть в любой женщине прежде всего женщину, которая требует уважения и защиты. Это благородное чувство заложено в нас самой природой, некоей биологической необходимостью. Такое уважительное отношение к любой, повторяю, женщине, во-первых, не дает нам самим распускаться, потерять важные нравственные ориентиры, а во-вторых, это часто действует и на саму женщину, напоминает ей, даже требует от нее адекватного нашему отношению поведения. И я наблюдал, как порой самая, казалось бы, опустившаяся пьяница и воровка вдруг постепенно приходит в себя после безобразной истерики, слез и ругани и непроизвольно начинает с робким кокетством вдруг одергивать юбку, поправлять волосы и улыбаться. И это уже победа, немалая победа над пороком.
Да, на нашей необычной и тонкой работе можно, конечно, огрубеть. Но и Вырасти тоже можно. Нигде, мне кажется, нельзя пройти такую школу нравственного воспитания, как у вас, и стать такой цельной и чистой натурой, как, например, наш Кузьмич. Он этого не слышит, а то бы вполне искренне пожал плечами. И вот — чтобы Кузьмич выгнал женщину из кабинета! Такое у меня не укладывается в голове.
— Ну, прямо так не выгнал, конечно, — хмуро отвечает он на мой вопрос.
— Это слово больше выражает желание, чем поступок, — Кузьмич усмехается. — Видал, как начал выражаться, на тебя глядя?
— Ничего интересного она не сообщила? — спрашиваю я, пропуская мимо ушей его последнее замечание.
— И не могла, — пожимает плечами Кузьмич. — Ничего по делу не знает. И лютым зверем живет. Все кругом враги и гады. Мужа кроет, сестру его, даже покойного академика не забыла. Ну, и на работе все кругом тоже враги и гады. И, между прочим, воры. Все буквально. И ее, бедную, со света сживают. Тьфу! Это, я тебе скажу, редкий случай. Злость прямо в крови разлита и уйдет из нее только вместе с кровью, точно тебе говорю. Одним словом, я ее выпроводил. Что у тебя?
— Подтвердил, что знает обоих, дружат, что рассказывал им о квартире отца, что на даче с ними прошлой зимой был, выпивали там. Но к краже, как мы и предполагали, никакого отношения не имеет. Да и главная информация к ним, видимо, от Гвимара Ивановича пришла.
— А сам что из себя представляет?
— Неглупый, добрый, слабый человек. Спился и последние волевые качества потерял. Честно говоря, жалко его.
— Помочь нельзя?
— Трудно, — вздыхаю я. — Тем более при такой жене. Да и сам он на себя рукой махнул, вот что. Молодой парень…
— Сколько ему?
— Двадцать шесть всего.
— Ну, ну. Может, его лечиться послать?
— Сначала подготовить надо. Чтобы сам захотел. — И вдруг я вспоминаю: — Он очень живопись любит. А отец непременно хотел медика из него сделать. Знаю я такие штучки. Ну, парень слабый, уступил и сломался. Одна тоска у него на душе, и все из рук валится.
— М-да… Надо парня лечить и на новые рельсы ставить, — подытоживает Кузьмич. Выбери время, съезди в институт к нему. Там же медики, должны понять. В партбюро зайди. В память отца пусть помогут. Нельзя же так.
На тумбочке звонит один из телефонов, вернее басовито шуршит: Кузьмич во всех своих аппаратах почти снял звук, чтобы не раздражал внезапный резкий звонок. Сейчас он берет одну из трубок.
— Цветков… А, это ты… Хорошо, жду… Он у меня как раз… Ладно.
Кузьмич вешает трубку и сообщает:
— Денисов. С вокзала звонит. Едет сюда. Новости какие-то есть. Просил тебя тоже его дождаться. Да, вот еще что, — добавляет он. — Поступил материал из Южноморска. Давай-ка пока им займемся.
Он поднимается, подходит к сейфу и с усилием оттягивает тяжелую дверцу, в которую, как всегда, вставлена связка ключей. Из сейфа Кузьмич вынимает толстую папку и возвращается к столу. Усевшись и надев очки, он начинает перебирать бесчисленные бумаги.
— Вот, — он достает несколько сколотых листков с обычным строгим грифом. — Ответ на наш запрос. Так… Ну, во-первых, никакого Льва Игнатьевича они вообще не нашли. То ли имя вымышленное, то ли в поле зрения к ним не попадал. Скорей, пожалуй, первое. Как считаешь?
— То ли искали плохо, — сердито говорю я.
— И это возможно, — соглашается Кузьмич. — Кстати, мы им на всякий случай фото Павла Алексеевича пошлем, после того как ты с ним встретишься. Он тебе сегодня должен звонить, так, что ли?
— Должен. В конце дня.
— Вот-вот. Назначай встречу, поддавайся, так сказать, соблазну.
— Даже не торговаться? — улыбаюсь я.
— Ты сначала попробуй встретиться с ним. Это главное. А вот потом… Потом лучше всего оставить вопрос открытым. Расположи к себе, условься о связи. И лови каждый Намек, каждую, ну, что ли, оговорку. Постарайся все понять и разгадать. Ведь все еще не ясно, где им хвост прищемили. А больше в эту игру вводить пока никого нельзя. Ты один. Тебя они сами нашли. Ну, дай ему понять, что от тебя многое зависит. Набивай цену.
— Ясно, Федор Кузьмич.
— Тогда пойдем дальше. Теперь второй наш запрос, насчет Ермакова, — он проглядывает уже другой листок и указывает пальцем на какое-то место там: — Вот. Пишут, что обнаружено трое подходящих Ермаковых. Все по линии ОБХСС. С шайкой квартирных воров связь исключается. Так что Совко может только понаслышке о ком-нибудь из них знать. И вообще конкретных сигналов ни на одного из них нет. Теперь гляди, кто они такие. Один — директор плодоовощной базы, тут, я думаю, развернуться есть где. Второй Ермаков — палаточник, на рынке торгует, инвалид. Ну, а третий — директор магазина готового платья, передовое предприятие, пишут. Вот такая троица. Первый Ермаков, по их мнению, самый перспективный для разработки.
— Все они перспективные, — усмехаясь, говорю я. — Разве что инвалид далеко не ускачет. И то попадаются резвые.
— Ну, словом, все это требует специальной проверки. Улавливаешь?
— Улавливаю. Видно, придется ехать.
— Именно что. Конечно, в курортный сезон приятнее, я понимаю, — усмехается Кузьмич. — Но не каждый раз получается, уж извини.
Это он намекает на то, как я однажды отправился, так сказать, лечиться в Тепловодск, в один санаторий, правда не в самый разгар сезона. Помню, даже курортную карту пришлось оформлять, анализы какие-то делать. И вообще удовольствие я получил от той поездки весьма относительное.
— На бархатный сезон не претендую, — говорю я.
В это время в дверь кабинета раздается деликатный стук, она приоткрывается, и на пороге возникает изящная фигура Вали Денисова. Он даже слегка как будто запыхался и вообще возбужден. Это на него не похоже.
— Ну, заходи скорей, — говорит нетерпеливо Кузьмич, снимая очки. — Рассказывай, чего там у тебя стряслось.
— Весьма прискорбное событие, — с угрюмой насмешливостью говорит Валя — Погиб Леха. Героически, на посту, можно сказать, погиб.
— Что-что?! — удивленно восклицаю я. — Как так — погиб?
— Очень даже просто, — отвечает Валя, подсаживаясь к столу. — Знал, подлец, что надо быстрее удирать куда подальше. Потому ведь в Орше и с поезда соскочил. Затем попуткой, видимо, машиной до Могилева добрался, это всего-то километров восемьдесят. И только там, оказывается, на поезд сел. Мурманск — Киев. В направлении на Киев. Видно, все же к дому тянулся. Ну, угодил в первый вагон, общий. И тут подлая его натура не выдержала. Ночью, в Чернигове уже, стянул чей-то чемодан и с поезда бежать. Кто-то заметил, и за ним, конечно, кинулись. Так вот, на площади уже, перед вокзалом, он под единственную в тот час грузовую машину угодил, которая там проезжала. Представляете? Тут же и скончался. Прямо в морг его уже отправили. Вот так карьера и кончилась раба божьего Леонида Красикова.
— Документы при нем какие-нибудь оказались? — спрашивает Кузьмич.
— Нет. Но приметы в точности совпали. Я с замнач по розыску линейного отдела в Чернигове сейчас говорил. Он сам в морг ездил.
— Да-а… — невольно вздыхаю я. — Кончился Леха. Даже не успел пожить по-человечески. Жалко все-таки.
— Как жил, так и подох, — брезгливо говорит Валя. — Видно, на роду ему было так написано. По Ламброзо. И вообще лучше уж он, чем от его руки кто другой.
— Другой уже, считай, от его руки погиб.
— Вот именно. Хоть и плакал, а через некий порог он уже переступил, — все тем же враждебным тоном продолжает Валя. — Второй раз убить ему уже нипочем было. Еще опаснее, я считаю, он стал после этого убийства.
— И ты подумай, — добавляю я. — В такой момент он все же на воровство пошел. Это же совсем сдуреть надо. Денег у него больше при себе не было, что ли?
— Что у него вообще при себе было, ты узнал? — спрашивает Кузьмич.
— Пустяки, — машет рукой Валя. — Ключи какие-то, нож перочинный, расческа, платок, ну, и кошелек, а там всего три рубля с мелочью.
— Да не может быть! — решительно заявляю я. — Были у него деньги. Он мне сам три сотни показывал. В морге небось забрали.
Валя небрежно пожимает плечами.
— Кто его знает. — И добавляет с усмешкой: — Еще два пирожка при нем оказались с картофелем. В могилевском буфете куплены были.
— Никаких записок, писем? — спрашивает Кузьмич.
— Никаких.
— Пусть официальный протокол и заключение о смерти вышлют. И все вещи, до единой. Передай туда, в Чернигов, — приказывает Вале Кузьмич. — Мы тут сами все исследуем. Фото, кстати, тоже… — И вдруг вздыхает. — Досадно вообще-то. Глупо погиб, безобразно.
— Мать его ждет и Зина какая-то, — добавляю я. — И еще не могу забыть, что рука у него все-таки дрогнула, когда он меня сзади бил. И Чуму он теперь ни в чем не уличит. Чума теперь на него все повесит, увидите. Как только узнает, что его в живых нет. Да, ничего не скажешь, повезло Чуме.
— Его москвичи уличат, — говорит Валя и обращается к Кузьмичу: — Когда мы их брать будем, Федор Кузьмич?
— Они непременно должны на дачу заскочить, — рассеянно отвечает тот, думая, видно, о чем-то другом. — Там их и дождаться надо. Пусть сами достанут то, что спрятали там.
— Значит, с поличным будем брать? — уточняет Валя.
— С поличным, с поличным, — отвечает Кузьмич нетерпеливо и обращается ко мне: — Приедешь в Южноморск, непременно навести его мать и сестру. Возможно, кое-кто туда и заскочит из интересующих нас людишек. Да и связи его все равно надо там устанавливать. Тоже, в случае чего, могут пригодиться. Ведь его связи — это, в большинстве случаев, будут связями и Совко. А тут уже ухо держи востро, тут промашки быть не может. Ну да мы с тобой об этом еще поговорим перед отъездом.
— Когда же мне ехать, Федор Кузьмич?
— А вот встретишься с этим Павлом Алексеевичем, возьмем его под наблюдение, и тогда езжай себе. Тут мы уже без тебя управимся.
— А если не встречусь?
— Поглядим, поглядим. Исходя из обстановки. Гадать не будем.
Собственно говоря, вторая половина дня, когда Павел Алексеевич должен мне звонить, уже наступила. И потому я отправляюсь ждать его звонка. Сейчас нет задачи важнее, чем засечь этого таинственного типа и установить, кто ж он есть на самом деле и с кем связан.
Воспользовавшись такой неожиданной паузой в своих бесконечных делах, я пишу всякие служебные бумаги и «увязываю» по второму, внутреннему телефону некоторые неотложные вопросы, стараясь не занимать прямой городской телефон. Он уже взят под контроль, и сейчас, кто бы мне ни позвонил, телефон тот на всякий случай будет немедленно зафиксирован. Здесь все представляет оперативный интерес, даже если звонок последует из какого-нибудь уличного телефона-автомата.
Пока что я пишу различные бумаги, но внезапно замечаю, что мысли мои то и дело возвращаются к Лехе. Как он все же нелепо погиб! Действительно, как жил, так и погиб. Что говорить, впереди ему ничего радостного не светило. За соучастие в убийстве предстояло отвечать, и за крупную квартирную кражу тоже. А если учесть, что у него была бы уже третья судимость, то эта самая Зина вряд ли его дождалась, и мать тоже. По разным причинам, конечно. К тому же неизвестно еще, каким бы он вообще вышел на свободу. Долгий срок заключения тоже, я вам скажу, чреват опасностями. Мы уже не раз это замечали — рвутся семейные и благоприятные, положительные дружеские связи на свободе, а вместо них появляются другие, отрицательные, опасные и к тому же весьма устойчивые за долгие годы совместного заключения. Окружать его там будут не проказливые мальчики-шалунишки, не впервые оступившиеся юнцы. Нет, Леха наверняка попал бы в серьезную колонию со строгим режимом, и надо много решимости и душевных сил, чтобы противостоять там отрицательным влияниям, Леха к этому готов не был, это уж точно.
И все же как знать. Мне сейчас даже кажется, что я бы Леху не выпустил из поля зрения. Чем-то он меня заинтересовал. Черт его знает чем, но теперь это не имеет значения. А впрочем… Пожалуй, я все же понимаю, чем он меня заинтересовал. Это даже не то слово. Какое-то подспудное чувство признательности. У Лехи дрогнула рука, когда он бил меня сзади. Дрогнула. Это была вспышка совести, наверное, вспышка жалости. Значит, не все умерло в его душе. И потом, вот те слезы его. Нет, не интерес испытывал я к Лехе, а надежду. Именно надежду. И вот все кончено.
А если бы его ждала засада тогда, у той старухи… Леха теперь был бы жив. И засаду там оставить было необходимо. Необходимо! Не подумали, спешили, радовались, что взяли Чуму. Какой серьезный промах! Утешать себя сейчас, что никакое большое, сложное дело не обходится без ошибок, промахов, недоработок? Хорошенькое утешение. Тут локти впору кусать.
Мои размышления прерывает телефонный звонок.
— Виталий Павлович? — слышу я знакомый скрипучий голос. — Мое почтение. Это Павел Алексеевич. Звоню, как условились. Помните?
— А как же? Конечно, помню, — говорю я как можно дружелюбнее. — Что ж, надо бы встретиться еще разок.
— Нет, не надо, — мягко возражает Павел Алексеевич. — Во всяком случае, пока. Если вы согласитесь со мной, то мы это сами увидим по вашей, так сказать, линии действия. И немедленно отреагируем. За это не беспокойтесь.
— Гм… Кое-что все-таки надо было бы оговорить, — с сомнением произношу я, подавляя при этом досаду.
— Единственный вопрос, который, как я понимаю, вам хотелось бы оговорить, — усмехается Павел Алексеевич, — будет решен так, как вам и не снилось. Но пока мы, к сожалению, не уловили с вашей стороны встречных шагов. Учтите. Смотрим мы внимательно. Так что всего доброго. Спешу. Я вам позвоню недели через две.
В трубке слышатся короткие гудки. Я медленно опускаю ее. И тут же раздается звонок. Мне докладывают, что разговор происходил по телефону-автомату у центрального телеграфа. Что и следовало ожидать.
Да, ушел от меня загадочный Павел Алексеевич, буквально из рук ушел.
Глава 7
ОПЯТЬ НЕ САМАЯ ПРИЯТНАЯ КОМАНДИРОВКА
Вот еще новости: Светка стала бояться самолетов. Пристала ко мне, чтобы я ехал поездом. А я уже отвык даже спать в вагоне, отвык от этого вагонного быта, от этого томительного безделия. Еле-еле я Светку успокоил. Скорее даже, она сделала вид, что успокоилась. Анна Михайловна деликатно помалкивала, но я видел, что она на этот раз всей душой на стороне Светки.
Самолет мой вылетает в середине дня, утром я еще заскакиваю на работу. Мне надо повидаться с Валей Денисовым. Дело в том, что вчера, пока я дожидался звонка Павла Алексеевича, Валя побывал на фабрике, где работает Купрейчик. Во-первых, уточнил служебное положение Виктора Арсентьевича. Он, оказывается, начальник отдела снабжения. И на прекрасном счету. Но главное, Валя проделал важную, хотя и жутко нудную работу: он пролистал в отделе охраны все книги регистрации посетителей, которым выписывались по чьей-либо заявке разовые пропуска. Эти книги, оказывается, положено хранить довольно долго. Почему — неизвестно. Не могли же руководящие инстанции предвидеть наш случай или что-либо подобное? Так или иначе, но нам повезло. Однако лишь в том смысле, что Валя смог убедиться: фамилия Семанского в книгах ни разу не упоминается. Не был Гвимар Иванович на фабрике, не был никогда. Валя, однако, человек осторожный и недоверчивый. Он резонно предположил, что выдачу разового пропуска Семанскому могли случайно не зарегистрировать, по оплошности, допустим, или по небрежности. Поэтому Валя попросил начальника охраны показать ему копии актов проверки работы бюро пропусков. Такие копии нашлись, и Валя смог убедиться, что среди кучи всяких обнаруженных недостатков, однако, ни разу не было случая, чтобы выписанный разовый пропуск оказался незарегистрированным. Трудно было предположить, что единственный такой случай пришелся именно на Семанского и к тому же не был отмечен проверяющими. Нет, куда вероятнее был вывод, который Валя и сделал: Гвимар Иванович ни разу не был на фабрике, ни у главного инженера, ни у главного механика, ни у кого вообще.
Выходит, соврал Купрейчик насчет визита Гвимара Ивановича Семанского на фабрику. Где-то еще и каким-то другим путем познакомились они. Только не хочет, видимо, рассказывать мне об этом Виктор Арсентьевич. Не хочет почему-то, и все. Это весьма странно и неприятно. Чего бы ему тут скрывать от меня, в самом деле?
В связи с этим опять под вопросом, под большим вопросом, становится вообще искренность уважаемого Виктора Арсентьевича. Это, кстати, уже вторая причина, заставляющая меня в этой искренности усомниться. А первая заключается в том, что я по-прежнему не верю, будто Купрейчик не знает, как он меня уверял, неведомого мне пока Льва Игнатьевича, как, впрочем, и весьма похожего на него Павла Алексеевича. Я вам забыл сказать, что и насчет этого Павла Алексеевича я у него на всякий случай тоже осведомился. Нет, и его тоже Купрейчик, оказывается, не знает. Ну, тут я, признаться, особой надежды и не питал. А вот Лев Игнатьевич после известной ссоры во дворе с Гвимаром Ивановичем вполне мог появиться сам у Купрейчика. «Но мог и не появиться?» — спросил меня Кузьмич. «Мог, — ответил я ему. — Но мне почему-то кажется, что появился, что знает его Виктор Арсентьевич». Почему мне так кажется, это я объяснить не мог и сейчас не могу. Кажется, и все тут. По каким-то неуловимым интонациям в голосе Виктора Арсентьевича, когда он говорил со мной об этом человеке, по его вопросам, ответам, по выражению его лица, наконец, черт его знает еще по чему.
Обо всем этом я размышляю, прогуливаясь по огромному залу ожидания Внуковского аэропорта. Кругом царит привычная суета и неутихающий гул голосов, он вдруг покрывается далеким и могучим ревом авиационных моторов или трескучим голосом диктора, объявляющим об отлете или прилете самолетов. Однако весь этот нескончаемый шум и суета нисколько не мешают мне размышлять о своих делах. Не мешает мне и мелькание лиц вокруг, в которые я по привычке всматриваюсь. Какой-то внутренний фиксатор не подает при этом сигналов тревоги.
Наконец объявляют посадку и на мой рейс. С некоторым опозданием, правда. Мой коллега из местного отдела милиции, который считал своим долгом время от времени проведывать меня, объяснил опоздание тем, что самолет этот опоздал и с прилетом в Москву тоже. Что ж, разве нет резервного самолета на такой случай? Словом, так или иначе, но посадку наконец объявляют. И я иду вместе с толпой пассажиров по заснеженным плитам аэродрома к стоящему невдалеке самолету. Потом в тесной толкучке между креслами длинного салона нахожу свое место. Оно оказывается возле самого иллюминатора, и я, скинув пальто и забросив на сетку свой дорожный портфель, с пачкой свежих газет в руке погружаюсь наконец в глубокое, мягкое кресло и вытаскиваю из-под себя пристяжные ремни.
Весь полет занимает каких-нибудь два-три часа и проходит над сплошной пеленой облаков, а под конец и в кромешной тьме рано наступившего зимнего вечера. Самолет временами довольно сильно бросает, раза два он даже проваливается в какие-то воздушные ямы, и тогда неприятная тошнота подступает к горлу. Словом, мы испытываем все прелести полета зимой. Я даже начинаю опасаться, что нас не примет наш аэропорт и ушлет на посадку в какое-нибудь другое место. Сколько раз уже так бывало на моей памяти, и именно зимой, когда погода неустойчива и коварна.
Однако аэропорт безропотно, даже радушно принимает нас. И вот я уже в объятиях Давуда Мамедова. Он невысок, худощав и подвижен. Лохматые брови на узком, смуглом лице придают не свойственную ему вообще-то суровость. Но глаза его сияют от радости. Вообще мой экспансивный друг радуется так шумно, что мне становится неловко, и я увлекаю его к выходу. На площади перед аэропортом нас ожидает машина. Здесь ветрено, сыро и слякотно, к тому же с черного, беззвездного неба начинает густо падать крупными, мокрыми хлопьями снег, и вокруг уже ничего не видно.
Машина еле ползет. Давуд, отчаянно жестикулируя, рассказывает всякие смешные истории, случившиеся в городе. Их он знает в несметном количестве и рассказывает очень забавно. Он, наверное, незаменимый тамада за дружеским столом. Таким образом, время в дороге проходит незаметно.
В гостинице мне не только заказан номер, но в этом номере уже накрыт стол, и нас поджидают еще трое ребят из уголовного розыска. Словом, конец вечера проходит весело и приятно.
Утром я прихожу в городское управление, и уже совсем другой Давуд, собранный и серьезный, подробно информирует меня о положении дел.
Что касается Лехи и Чумы, то, кроме родных, Давуд установил несколько их связей, среди которых есть некий Хромой, в прошлом дважды судимый, где-то лишившийся ноги и сейчас работающий холодным сапожником в маленькой палатке на набережной. Хромой знает в городе все и всех и пользуется немалым авторитетом. Впрочем, и врагов у него, по словам Давуда, тоже хватает. Парень умный, сообразительный и деловой.
— Артист, — выразительно поднимает обе руки Давуд, словно собирается пуститься в пляс. — Берегу для тебя, дорогой. Мой личный подарок, учти. Никто с ним из нас еще не работал. Это работа для мастера.
— Большое спасибо, — церемонно благодарю я. — А как все-таки его зовут и что еще о нем тебе известно?
— Зовут его, понимаешь, Сергей, фамилия Голубкин. Живет, по всем сведениям и по его словам, один, бедняга. И никаких родных, кажется, нет. Приехал сюда из Новосибирска, уже без ноги и уже с двумя судимостями. Такой, понимаешь, подарок из Сибири мы получили.
— Давно приехал?
— Четыре года назад.
— Может, в Новосибирске родные остались?
— Наши товарищи оттуда сообщили — я, понимаешь, специально о нем запрашивал, — что родители у него умерли. Он, значит, домик продал, когда второй раз на свободу вышел, и сюда прикатил.
— Почему же он решил из родного города уехать, не знаешь?
— Не знаю, дорогой. И не спрашивал его. Так, стороной, конечно, интересовался. Но, представь, никто не знает. Ни с кем не делился.
— Здесь у него не жена так подруга есть?
— Представь, нет. Кажется, нет. И потом, без ноги парень.
— Так-так… — Я на секунду задумываюсь, потом говорю: — Ладно. Тут, видно, придется нам с тобой еще поколдовать. Давай теперь другими объектами займемся. Во-первых, Семанский. Убит в Москве, это ты знаешь. Что тебе о нем известно, кроме его бывшей работы?
— Эх, дорогой, — досадливо цокает языком Давуд. — Понимаешь, не наш объект. Ребята из ОБХСС мне сообщили про тот магазин его, и все. Их надо спросить, их. Я тебя прошу, дорогой, а?
— Ну, давай позови кого-нибудь.
— О! Правильно говоришь. Сейчас будут.
Давуд поднимает трубку телефона и набирает номер.
— Виктор? — спрашивает он. — Товарищ из Москвы приехал, хочет с тобой поговорить… Давай, дорогой, заходи ко мне. Он здесь, — Давуд вешает трубку и, очень довольный, сообщает: — Сейчас будет. Большой специалист.
— Ладно. А пока пойдем дальше, — говорю я. — По Льву Игнатьевичу этому самому так ничего у вас и не нашлось?
— Его самого у нас не нашлось. Понимаешь?
— Стараюсь понять. Значит, он или москвич, или… плохо искали… — И в ответ на негодующий жест Давуда добавляю: — Не обижайся. Всякое ведь бывает. Ты же не один искал. Но он был знаком с Семанским, хорошо знаком. И с Чумой тоже.
— Москвич тоже может с ними быть знаком. Ведь так? Почему нет? Значит, москвич этот Лев Игнатьевич, вот увидишь. Мы искать умеем, дорогой.
Я улыбаюсь, и Давуд смущается.
— Ладно, проверим, — говорю я. — Теперь насчет Ермакова. Эта личность вообще загадочная и, возможно, к делу никакого отношения не имеет. Чума сам не свой в тот момент был. Ну, и закричал, что Муза даже, мол, с самим Ермаковым от него, Чумы, не уйдет. Вот единственное упоминание Ермакова вообще. А до этого он, между прочим, кричал, что Гвимар за миллион ее купить не сможет.
— Вот, трех Ермаковых тебе нашли, — улыбается Давуд. — А вообще их у нас в городе больше сорока человек оказалось, представляешь? Но остальные никаких даже подозрений не вызывают.
— А эти трое вызывают?
— Да ты пойми, дорогой, — Давуд выразительно прижимает руки к груди. — Не моя область. Деятели тут, черт бы их…
В этот момент в комнату без стука входит полный невысокий человек в красивом бежевом костюме самого модного покроя, с красным в белую полоску галстуком. Черные, как галочье крыло, блестящие волосы гладко зачесаны назад, волосок к волоску, на круглом, полном лице торчит маленький вздернутый нос, под тонкими, словно нарисованными бровями глубоко вдавлены живые маленькие глазки, толстые губы, тугие, румяные щеки. Словом, этот человек сразу же мне не нравится. В руке у него красивая кожаная папка с большим металлическим замком.
— Капитан Окаемов, — сухо представляется он, протягивая мне руку. — Замнач отдела ОБХСС. Зовут Виктор Иванович.
Мы сдержанно и коротко пожимаем друг другу руки. Я, видно, тоже не пришелся ему по душе. Бывает, ничего не поделаешь.
— Меня, во-первых, интересует Семанский Гвимар Иванович, — говорю я. — Убит в Москве десять дней назад. Мы делали вам запрос. Что о нем известно?
— О! — поднимает тонкую бровь Окаемов. — Даже так? Убит?
— Вашими, кстати, уголовниками, — добавляю я и поворачиваюсь к Давуду.
— Убийц, как знаешь, двое. Совко Николай, по кличке Чума, и Леха, то есть Красиков Леонид. Так вот, Совко нами арестован. Красиков погиб.
— Ай, ай, — качает головой Давуд. — Как же он погиб?
Я коротко рассказываю историю гибели Лехи.
— …А сейчас меня интересует Семанский, — заканчиваю я, обращаясь к Окаемову.
Он снисходительно улыбается.
— Это объект посложнее вашего Лехи. Вообще наш контингент, между прочим, голыми руками не возьмешь. Мозгой шевелить надо. Ибо…
Он необычайно доволен собой и, кажется, собирается прочесть нам маленькую, но нравоучительную лекцию. Я, однако, предупреждаю это намерение.
— Пошевелите, пожалуйста, мозгой в отношении Семанского, — говорю я, еле сдерживая саркастические нотки в своем голосе.
— К примеру, этот вот Семанский, — подхватывает Окаемов, никак не реагируя на мой тон, скорее всего вообще его не замечая. — Мы этого голубчика, чтоб вы знали, в свое время чуть на крючок не подцепили. В последний момент, однако, ушел. Сорвался, можно сказать. Но от меня не очень уйдешь, чтоб вы знали. Его временно спасло то, что он на дно лег. А на его месте, в том магазине, появился новый человек. Шпринц по фамилии, Георгий Иванович, приглядываюсь пока, — торжественно и многозначительно объявляет Окаемов. — Вот-вот тоже на крючок возьму.
— Чем же Семанский там занимался, в магазине у себя? — спрашиваю я.
— Да, в общем-то, не крупно, — пренебрежительно говорит Окаемов. — Плевый у них, надо сказать, товар-то идет. Ну, к примеру, халаты, комбинезоны, одеяла байковые для общежитии, сапоги резиновые. Дефицита никакого. И все по безналичному на предприятия.
— Как же они там комбинируют?
— Элементарно. Безтоварные операции. Допустим, у Шпринца с фабрикой безалкогольных напитков. Там начотдела снабжения некий Влахов. Ну, сговорились. Влахов, допустим, передает в магазин доверенность на приобретение для фабрики товара, к примеру белья и одеял. Сам, конечно, эту доверенность изготовляет, подписи, какие надо, подделывает. А потом расписывается в накладных о якобы получении этого товара. И магазин вполне официально выставляет в госбанк платежное требование, а фабрика перечисляет ему по безналичному расчету деньги. Идет оплата похищенного товара. Вполне, чтоб вы знали, элементарно.
— Ну и наглость! — говорю я. — И Семанский этим занимался?
— А как же. Все этим занимаются, — хитренько улыбается Окаемов.
Я невольно вдруг вспоминаю Виктора Арсентьевича Купрейчика. Он ведь тоже начальник отдела снабжения. Неужели и он занимается подобными комбинациями? Ерунда какая-то.
— А вы не знаете, — спрашиваю я, — чем занимался Семанский после того, как ушел из магазина?
— Больше на глаза не попадался, — пожимает плечами Окаемов и закуривает, щелкая какой-то мудреной зажигалкой, потом снисходительно поясняет: — Нагрузился и ушел на дно. Нервы лечить. Элементарно.
— Как же он нагрузиться сумел, если, по вашим словам, мелочами занимался?
— Уметь надо, — туманно замечает Окаемов.
Больше ему сказать нечего. Ни о каких других делах Семанского он, видимо, сведений не имеет. А дела-то были, иначе чего бы это ему в Москву шастать.
— Выходит, у вас с горизонта исчез, а у нас вынырнул, — усмехаюсь я. — Дал, представьте, подвод под квартиру одного покойного академика. И ее обчистили. Довольно квалифицированно. Картины, антиквариат.
— А за что же его, к примеру, ухлопали? — все тем же снисходительным тоном интересуется Окаемов. — Располагаете сведениями?
Он присаживается на уголок стола, за которым сидит Давуд, и, изящно отставив в сторону мизинец, покуривает свою длинную сигарету.
— Скорей всего, чего-то не поделили, — отвечаю я.
Окаемов усмехается.
— С грубиянами работать начал. Элементарно.
— Бывали у вас в практике такие случаи? — интересуюсь я.
— Пожалуй, что нет.
— А вот у меня бывали, — вздыхаю я. — С вашим, кстати, контингентом.
И вспоминаю одну свою малоприятную командировку в Одессу. Потом спрашиваю:
— А семья у Семанского была?
— С сестрой жил. Большой дом у них здесь. Летом отдыхающих пускают. Никаким заработком не брезговал.
— Да, — киваю я. — Знакомые из Москвы жили. Сестра одного художника.
— Во-во. Он их мазней интересовался, — подтверждает Окаемов.
— Ну хорошо, — говорю я. — Теперь перейдем к Ермаковым. Кто из трех у вас на особой заметке?
— Да у всех у них рыльце в пушку, только копни. Это же элементарно, чтоб вы знали, — насмешливо отвечает Окаемов, болтая ногой.
— Но нам требуется только один.
Я рассказываю, при каких обстоятельствах мы вышли на эту фамилию. Давуду все это знакомо, но он и второй раз слушает внимательно, хмуря густые брови, и его бронзовое, костистое лицо становится сосредоточенным и суровым. Окаемов же всем своим видом демонстрирует насмешливую снисходительность. Он как бы говорит: «Ну, что ваши пустяшные дела стоят по сравнению с моими, наиважнейшими делами…» Паршивая и неумная это манера.
Когда я кончаю рассказывать, Окаемов, усмехаясь, замечает:
— Чтоб вы знали, у серьезного дельца ваша клиентура может состоять только на побегушках, на подхвате. Это, знаете, элементарно. Мы такие мелкие связи иной раз даже не фиксируем.
— Вы имеете в виду и этих Ермаковых, всех троих? — уточняю я, стараясь игнорировать его неприятный тон.
— В том числе и их.
— Выходит, кого из них имел в виду Чума, установить сейчас невозможно?
— Вот именно, — подтверждает Окаемов.
— А характеристику этой троицы вы дать можете?
— Кое-что могу сообщить, пожалуйста.
Окаемов, щелкнув замочком, раскрывает свою красивую папку, пристроив ее на одном колене, и достает скрепленные между собой листки. Затем он кладет папку рядом с собой на стол, по-прежнему сидя боком на уголке, проглядывает бумаги и говорит:
— Так вот. Ермаков первый. Зовут Гелий Станиславович. Директор магазина готового платья. У магазина три филиала — на рынке, у вокзала и на набережной. На рынке — второй Ермаков торгует, Василий Прокофьевич. Они будут, следовательно, двоюродные братья. Это элементарно. Так?
— Возможно.
— Что возможно? — не поняв, переспрашивает Окаемов.
— Что это элементарно, — поясняю я.
Он не чувствует в моих словах иронии.
— Ну, а третий Ермаков, — продолжает Окаемов, заглядывая в бумаги, — это будет Иван Спиридонович, директор плодоовощной базы. Между нами говоря, тоже жулик. Ох, у него возможностей, чтоб вы знали.
— А почему «между нами говоря»?
— Еще не доказано. Но сигналы солидные. Вот такая картина Айвазовского получается. Кругом вода.
Окаемов поворачивается к своей папке, аккуратно вкладывает бумаги и победно щелкает металлическим замочком.
— А на братьев Ермаковых у вас тоже сигналы есть? — спрашиваю я.
— Прямых, конечно, нет, — уклончиво отвечает Окаемов, из чего можно заключить, что вообще никаких сигналов на этих людей у него не имеется.
На этом наше первое совещание заканчивается, я благодарю Окаемова, и он уходит с таким видом, словно одарил нас богатством на всю жизнь, но благодарности не требует. Скромная гордость написана на его круглом лице. Эх, легко живется самонадеянным людям. Быть всегда довольным и гордым собой — экое счастье, наверное. Порой такие люди своей убежденностью в собственных талантах заставляют верить в это и окружающих и делают карьеру. Вы не замечали? Не дай бог, например, пойдет вверх такой вот Окаемов.
После обеда мы с Давудом отправляемся в город.
— Покажи мне топографию, — говорю я ему. — И, по возможности, всех действующих лиц. Включая Хромого, конечно.
Погода стоит теплая, гнилая какая-то. Снег за ночь весь стаял, под ногами жидкая грязь, она веером разлетается из-под колес машин, заставляя шарахаться редких прохожих. Серое, тяжелое небо висит, кажется, прямо над головой, прижимая невысокие дома к земле. Со стороны невидимого отсюда моря дует холодный, пронизывающий ветер. Курортный город в такое время ничего привлекательного не представляет. Люди торопливо и деловито снуют мимо, это все местные, отдыхающих не видно, нет их сейчас. Тяжело переваливаясь, плывут набитые пассажирами троллейбусы и автобусы. В такое время года их, наверное, меньше на линии, чем летом. В продуктовых магазинах, мимо которых мы идем, то пусто, то густые очереди. Словом, вокруг обычный город, трудовой, озабоченный, деловой.
Сейчас мы идем по одной из центральных улиц. Светлые дома кажутся нахохлившимися и недовольными. Здесь много магазинов, кафе, палаток, закусочных, ателье, пожалуй, больше, чем в обычном городе. Хотя многие кафе и закусочные сейчас закрыты.
Давуд указывает на противоположную сторону улицы, и я вижу длинную красивую вывеску: «Готовое платье». Под вывеской тянутся зеркальные витрины. Оформлены они красиво, со вкусом, по крайней мере на мой взгляд. Небось специалист оформлял. Виден покрой вещи на манекенах, причем каждый раз в каком-то своем, изящном повороте. И ассортимент в магазине тоже, кажется, неплохой. Да, приятно смотреть на такой магазин.
— Зайдем? — улыбается Давуд.
Мы переходим улицу.
Магазин просторен и почти пуст. Редкие покупатели просто теряются среди бесконечных прилавков. Симпатичные и приветливые девушки-продавщицы в изящных темно-серых платьях с красными отворотами и поясками вовсе не заняты собственными делами и болтовней, а улыбаются именно нам с Давудом и, кажется, прямо-таки мечтают нас обслужить. Удивительно непривычное и, надо сказать, приятное ощущение. Да, магазин поставлен, видимо, как надо, ничего не скажешь, прямо-таки образцовый магазин.
Мы рассматриваем выставленные мужские костюмы. На каждом из них табличка с указанием, какие размеры есть в продаже. Деловито обсудив некоторые модели, мы переходим в отделы верхних рубашек, белья и всяких «сопутствующих товаров».
— Как ты думаешь, — тихо спрашиваю я Давуда, — мы узнаем директора, если он вдруг появится в торговом зале?
Давуд в ответ с сомнением пожимает плечами.
Как раз в это время за одним из прилавков появляется полный седовласый человек с красным лицом и пушистыми усами, фигура осанистая и представительная. Он что-то строго говорит одной из продавщиц. А я, улыбаясь, говорю той, которая стоит возле нас:
— Какой у вас сердитый директор.
Она в ответ тоже улыбается и качает головой.
— Это не директор, это заместитель. Директор у нас молодой и очень вежливый.
— Ну, этого для директора мало — быть вежливым.
— Ой, что вы! Он у нас еще очень инициативный и знающий. Он институт в Москве кончил. И магазин наш на первом месте в городе.
Больше чем все перечисляемые достоинства говорит в пользу директора это коротенькое «он у нас».
Однако увидеть этого замечательного директора нам так и не удается. Конечно же он молодой, у пожилого такого имени, как Гелий, быть не может.
Мы с Давудом не торопясь выходим из магазина, некоторое время идем по улице дальше, затем сворачиваем на другую, потом на третью, поднимаемся куда-то в гору по совсем узенькой улочке с выбитой булыжной мостовой, потом по такой же улочке спускаемся вниз. За покосившимися заборчиками протянуты бесконечные веревки с бельем, за которым еле видны маленькие домики, и кажется, будто тут живут один прачки.
Наконец мы выходим на большую пустынную площадь, в глубине ее я вижу длинный глухой забор и высокие, настежь распахнутые ворота, над которыми укреплена большая вывеска: «Колхозный рынок». Возле ворот уже что-то продают. В стороне стоят несколько легковых и грузовых машин, заляпанных грязью, а рядом две или три повозки с понурыми лошадьми.
Мы с Давудом минуем ворота и оказываемся между длинными рядами потемневших прилавков под дощатыми навесами. Продавцов и покупателей совсем мало. Час уже поздний, да и вообще зима не время для бойкой рыночной жизни, она обычно замирает до весны, до свежих овощей, первых ягод и прочих даров природы. Вот тогда, наверное, шумом и гамом наполняются эти ряды, прилавки конечно же ломятся, пестрят горами разноцветных плодов, продавцам не хватает места, и оживленная торговля выплескивается на площадь. Мне довелось видеть такие буйные южные рынки.
Но сейчас здесь тихо и почти безлюдно. Жизнь перекинулась в глубь рынка, туда, где протянулись ряды палаток и маленьких магазинчиков. Среди них я вижу скромную вывеску: «Готовое платье», а ниже выведено: «От магазина № 17». В маленькой, туманной витринке выставлен нелепый манекен в помятом костюме, шляпе и пестром галстуке, к неестественно изогнутой руке прикреплена даже трость, ботинок на манекене нет, демонстрируются только носки. Тут же на витрине, у ног манекена, разложены мужские рубашки, женские кофточки и всякая трикотажная мелочь.
В самом магазинчике толпятся покупатели. Значит, можно войти, не привлекая к себе особого внимания. Мы так и делаем. Сначала захожу я, потом Давуд.
И тут я вижу, как стоящий за прилавком могучего сложения, усатый человек с глянцево-бритой головой бросает на входящего Давуда какой-то вопросительно-обеспокоенный взгляд. Это, без сомнения, Ермаков. Ничего себе инвалид! И, видимо, Давуда он знает. Поэтому я, как посторонний, отхожу в сторону и смешиваюсь с покупателями у прилавка.
Между тем Давуд сравнительно быстро ориентируется в неожиданно возникшей ситуации. После секундного, почти незаметного замешательства, а скорее даже смущения он подходит к Ермакову и добродушно здоровается. Ермаков на голову выше его и в три раза шире. Круглая, бритая его голова с оттопыренными ушами склоняется над прилавком перед Давудом. Лица его мне не видно, торчат только пушистые усы и шевелятся могучие плечи. Бас у Ермакова под стать комплекции, густой и раскатистый, так что слышно каждое произнесенное им слово.
— Наше вам, Давуд Мамедович, — угодливо рокочет Ермаков. — Рад, душевно рад, что заглянули. Чего желаете приобрести?
— Э-э, у дочки скоро день рождения, — лениво говорит Давуд, сонным, равнодушным взглядом окидывая волки за спиной Ермакова. — Ну, шел мимо, вижу, симпатичные, кажется, кофточки лежат. Дай, думаю, зайду погляжу, потом с женой, конечно, посоветуюсь.
Между прочим, Давуд мне не говорил, что знаком с Ермаковым. А тот, оказывается, знает даже его имя. Где, интересно, они познакомились?
— Это не те кофточки, какие надо подносить в подарок, уважаемый Давуд Мамедович, — басовито мурлычет Ермаков. — Вот на днях получим кое-что, я для вас отложу. Зайдите в субботу, очень вас прошу. С супругой, конечно. И все будет в лучшем виде, не извольте беспокоиться, дочка будет довольна.
Я незаметно разглядываю Ермакова. Он уже выпрямился и хорошо виден. Лицо широкое, крупной, неуклюжей лепки, грубое в каждой своей черточке. Глаза быстрые, светлые и круглые, рысьи какие-то глаза, настороженные и недобрые. Движения порывистые и угловатые. Силища разлита в нем непомерная. По какой статье такой может числиться инвалидом, совершенно непонятно. Заматерелый мужик, в самом, что говорится, соку, лет ему на вид под сорок пять. Но, кроме силы, чувствуется в нем ловкость и хитрость. Ишь какой сейчас услужливый и ласковый, а если что не по нему, то небось грохнет кулачищем так, что прилавок расколет. Да и на расправу он, видно, скор, нрав-то крутой и Горячий, но умеет спрятать, когда надо, его, умеет притвориться простовато-добродушным и ласково-угодливым. Вот таким колоритным типом представился мне этот Ермаков. А одет, между прочим, совсем просто, даже небрежно. Расстегнутый ворот мятой рубахи под дешевеньким пиджачком открывает могучую шею. Большим цветным платком он то и дело вытирает бритую голову и лицо. Жарко ему, видно, даже в такой холодный день. Мог ли иметь его в виду Чума, могла ли им прельститься Муза-Шоколадка? Трудно представить. Нет, нет, этот Ермаков отпадает, безусловно отпадает.
— Ну, а вам-то самому или, к примеру сказать, супруге ничего не требуется? — продолжает гудеть Ермаков, и крутой, сдержанный его бас никак не вяжется с услужливыми интонациями, которые в нем слышны. — А то с нашим удовольствием, по-соседски, так сказать. Я ведь, изволите ли знать, через дом от вас с семейством помещаюсь, только не с Гоголя, а с Нагорной ежели считать. Ма-аленький такой домик, своими руками с тестем поставили, царствие ему небесное, покойнику.
Вот оно, значит, в чем дело. Соседи они, оказывается. Ермаков, видать, изучает свою округу. Неспроста, неспроста изучает. А вот высовываться со своими сведениями, тыкать их в глаза уже очень неосмотрительно. Нет, птица эта невысокого полета и ворует по-среднему, без размаха. Однако может стать опасен, если хвост прижать. Но сейчас этот Ермаков мне явно без надобности.
Я, не торопясь, выхожу из магазина и, отойдя в сторону, разглядываю витрину посудной лавчонки. Через минуту ко мне присоединяется Давуд, он недовольно хмурится.
— Слышал, э? — сердито спрашивает он. — Мы их изучаем, а они нас. По имени, видишь, узнал. И сразу с услугами суется. На что еще можно поймать слабого человека, ясно, да? Ну, а вообще что скажешь?
— Скажу, что не похож он на того, кто нам нужен.
— На молодого директора надеешься? — усмехается Давуд.
— Тоже мало. Давай до третьего доберемся, на базу плодоовощную, — предлагаю я. — Окаемов твой говорит, этот самый перспективный.
— Доберемся обязательно. Но туда с улицы не зайдешь, предлог нужен. Завтра пойдем. Я подготовлю. А сейчас пойдем, я тебя с Хромым познакомлю. Совсем другое дело, я тебе скажу.
— А стоит ли через тебя знакомиться? Может, мне самому пойти?
— Обязательно через меня. Я ему помог, он мне поможет. Уверен.
— Как же ты ему помог?
— Год назад хотели его, понимаешь, порезать. За что, не знаю. И не спрашиваю. А он не говорит. Поздно вечером на набережной кинулись на него, Хромого, сразу четверо. Подстерегли, не случайно как-нибудь. Не один день стерегли. Это мне уже сам Хромой сказал. И еще сказал: «Старый дружок счеты сводит». Ну, пустая набережная, понимаешь. Зима, вечер, темнота. Смерть, одним словом, в лицо ему глядела. Кончать его хотели. Случайно только я там оказался. Шел с работы, голова болит, ну, я круг сделал по набережной. Меня тоже ножичком задели. Но жизнь ему я все-таки спас. Хотя убежали в темноте, собаки. И он никого не отдал. Но добро помнит. Я, например, таких уважаю, да?
— Помощником тебе стал?
— Не. Я его в свои дела не втягиваю, понимаешь. Парень сильно от жизни натерпелся, я вижу. Ему покой нужен. Так, мимо иду, захожу. «Здравствуй, Сережа, говорю. Как здоровье?» — «Порядок», — отвечает и молотком стучит. «Жалобы, спрашиваю, есть?» — «Не кашляю больше», — говорит и улыбается. Такая, знаешь, печальная у него улыбка.
— А связи опасные?
— Сам он сейчас не опасный, ручаюсь. Вот что главное, дорогой.
— А судимости у него за что?
— Драка и еще раз драка. Все двести шестая статья, первый раз — часть первая, а потом и вторая. Но как и почему все было, не знаю, не спрашивал и, понимаешь, не хочу спрашивать пока.
Разговаривая, мы незаметно выходим на набережную. Вот и море. От него невозможно оторвать глаз. До этого оно один только раз серой полоской мелькнуло далеко внизу, когда мы шли к рынку. А сейчас оно рядом, вот оно, шумное, холодное, зимнее море, злое и косматое. И какое-то завораживающее в своем вечном, неуемном, яростном движении. Глаз невозможно оторвать от этих бесконечных волн, с пушечным грохотом мерно бьющих одна за другой в высокую набережную. Сильный, тугой ветер наполняет воздух водяной пылью, и лицо сразу становится мокрым, а на губах ощущаешь соль. Очень это здорово, необычно и приятно. Набережная идет вдоль самого моря, пляжа внизу нет, лишь узкая гряда зеленых мокрых камней, так что при несильном даже волнении, как сейчас, над гранитным парапетом то и дело вздымаются косматые гребни волн, а соленые брызги достигают окон домов.
Вдоль набережной тянутся невысокие белые здания. В первых этажах расположены бесчисленные магазины, кафе, рестораны. То и дело в дверях их видны таблички: «Закрыто». Эти рестораны и кафе откроются, видимо, только летом. Прохожих здесь сейчас мало, идут они торопливо, нахохлившись, морщась от брызг. Видно, только такому восторженному приезжему, как я, тут может что-то нравиться, местные жители предпочитают сейчас вообще не появляться. А вот летом набережная, наверное, самое оживленное место в городе.
Беседуя, мы с Давудом идем не спеша. Я поглядываю на море.
Но вот, наконец, мы и у цели. Между двумя домами притулилась маленькая сапожная мастерская. Это, видимо, просто заброшенная, глубокая подворотня, приспособленная под мастерскую. Весь проем подворотни заколочен досками, оставлена только узкая дверца и маленькое оконце, в котором выставлено несколько мужских и женских туфель. Нет даже вывески, и так, видимо, все ясно.
Давуд толкает дверку, и мы входим в тесное помещение. Невысокий дощатый барьер делит его на две части. За барьером на низенькой скамеечке сидит мастер, я не сразу могу его разглядеть в кажущейся после дневного света полутьме, царящей здесь Вижу худощавую, согнутую фигуру и неестественно отставленную в сторону ногу под черным сатиновым фартуком. Возле него на низком, грубом ящике разложены инструменты, вокруг лежат старые ботинки, женские туфли, сапоги, разбросаны обрезки кожи, стоят какие-то банки, металлические коробочки. В нос бьет терпкий, острый запах кожи, лака, клея, табака. С потолка прямо к глазам мастера спускается лампочка под железным, в виде конуса, абажуром. Больше освещения тут нет, и мастерская погружена в полумрак. Глаза не сразу привыкают к нему.
Когда мы входим и облокачиваемся на барьер, сапожник поднимает голову, и я постепенно различаю узкое, небритое, бледное лицо, темноватые круги под глазами, а сами глаза дерзкие и умные, но хитрости и тем более коварства я в них не замечаю.
— Здравствуй, Сережа, — улыбаясь, говорит Давуд и протягивает через барьер руку.
Хромой, прежде чем пожать ее, вытирает свою о фартук.
— Здравствуй, Давуд.
В резком его голосе чувствуется теплота.
— Жалобы есть? — спрашивает Давуд.
— Не кашляю, — в ответ сдержанно усмехается Хромой.
Это, видно, стало у них ритуалом при встрече.
— Слушай, Сережа, — уже серьезно говорит Давуд. — Я тебя, дорогой, никогда ни о чем не просил. Так или не так, а?
— Так, — спокойно подтверждает Хромой.
— А теперь вот хочу попросить. Очень нужно, понимаешь.
— Проси, — тем же тоном произносит Хромой.
— Вот, гляди, — Давуд кладет руку мне на плечо. — Это мой друг. Приехал из Москвы. Верь ему, как мне, понимаешь?
— Понимаю, — кивает Хромой, внимательно вглядываясь в меня.
— Так вот. Крепко ему помоги. Изо всех сил помоги. Он тебе сам все расскажет, что надо. Зовут Виталий. Ну, знакомьтесь, пожалуйста.
Мы с Хромым пожимаем друг другу руки.
Давуд смотрит на часы и объявляет:
— Перерыв на обед, пожалуйста. Я ухожу, вы разговаривайте В семнадцать часов я тебя жду, Виталий, а?
Я киваю, и Давуд, приветственно взмахнув рукой, уходит.
Хромой с усилием поднимается со своей скамеечки и, сильно припадая на одну ногу, выходит из-за барьера.
— Серьезная беседа не терпит суеты, — говорит он. — Пусть будет второй перерыв на обед. Все равно работы ни хрена нет.
Он запирает дверь на длинный засов, потом выставляет в оконце табличку с надписью: «Перерыв на обед».
— Прошу в мои апартаменты, — шутливо произносит он.
Я захожу за барьер. Хромой толкает заднюю дверцу, и мы оказываемся в темной и, как видно, просторной комнате. У двери Хромой щелкает выключателем. Вспыхивает посреди комнаты лампочка под розовым прогорелым абажуром. Я оглядываюсь Под лампочкой стоит старенький стол, покрытый клеенкой, возле него несколько стульев, в стороне прислонился к стене какой-то допотопный буфет со стеклянными дверцами, а в углу на четырех чурбачках установлен матрац, застеленный старыми одеялами, с двумя цветными подушками в изголовье. На стене возле буфета висят какие-то вещи.
— Здесь живешь? — оглядываясь, спрашиваю я.
— Когда домой идти неохота, — отвечает Хромой и неожиданно добавляет: — Или когда идти опасаюсь.
— И так, значит, бывает?
— Бывает, — просто отвечает Хромой. — Все в жизни бывает. Да ты садись.
Мы подсаживаемся к столу.
— А здесь оставаться не страшновато? — снова спрашиваю я.
— Здесь-то? Не-а. И потом, здесь у меня еще два выхода предусмотрены, — он кивает на дальний, плохо освещенный угол комнаты. — Один — во двор, а второй — в подъезд соседнего дома, под лестницу, его там и не видно. Так что уйти всегда можно.
— Если только в подъезде и во дворе не будут ждать.
— Ну, тут уж целый взвод нужен, — усмехается Хромой. — Столько никогда не набирается. А потом, никто про эти выходы не знает. Тебе только и говорю, раз ты Давуду друг.
— Что ж, на доверие положено отвечать доверием, — говорю я. — Курить можно у тебя тут?
— Можно. Мы не в ресторане.
— А в ресторане разве нельзя? — удивленно спрашиваю я.
— Ага. Ни в одном. У нас город некурящих. Нигде курить нельзя. Ни в кино, ни в театре, ни на пляже. В газете даже объявляли.
— Ай, ай, — я качаю головой. — Знал бы… впрочем, все равно приехал бы. Серьезное дело привело. Вот слушай, — я закуриваю. — В Москве убит человек. Из вашего города приехал. Фамилия Семанский, зовут Гвимар Иванович. Был здесь директором магазина. Не знаешь такого?
— Не-а, — качает головой Хромой, боком пристраиваясь на стуле.
— Убили ваши, — продолжаю я. — Чума и Леха. Их знаешь?
— Этих знаю, — ровным голосом произносит Хромой и тоже тянется за сигаретой, а мне показалось, он не курит.
— Так вот, Чума арестован, Леха погиб.
— Лучше бы наоборот.
— Это точно, — соглашаюсь я. — Но так уж судьба распорядилась. Только вот что пока не ясно: за что убили-то. Они там, в Москве, крупную квартирную кражу залепили. И вроде бы этот самый Семанский им подвод к ней дал. А потом, я так полагаю, что-то они не поделили.
— А Чума хоть что говорит?
— Пока ничего не говорит. Он заговорит, если крепко его прижать. Но вот Леха погиб. Теперь Чума постарается все на него свалить. И больше прижимать его пока нечем. Вдвоем они это убийство совершили. Но, скорей всего, приказал третий.
Хромой слушает напряженно, забывая даже про сигарету. Он весь как-то съежился на стуле, подобрался, будто хочет прыгнуть куда-то, и только отброшенная в сторону искалеченная нога, как подбитое крыло птицы, разрушает это ощущение. Что-то особое, личное чувствую я в этом напряженном его внимании.
— Ты такого Льва Игнатьевича, случайно, не знаешь? — спрашиваю я.
— Не-а. Это все не наша бражка. У нас другой народец, — усмехается Хромой, затягиваясь наконец сигаретой. — Но… тут есть одно обстоятельство.
Я уже успел заметить, что выражается Хромой иной раз как-то необычно, слишком, я бы сказал, культурно. Странно. Отпетый вроде бы блатняга с двумя судимостями, а такой вдруг язык, откуда бы ему, спрашивается, взяться. Это — или семья, или образование, больше взяться неоткуда.
— Какое обстоятельство? — спрашиваю я.
— Я этих двоих знаю как облупленных. Особенно Чуму. У меня с ним инцидент был еще там… — Хромой неопределенно машет рукой. — Так вот, квартирные кражи им никогда не светили. Это не их ума специальность. И вообще они уже больше года на дела не ходят. А грошей, между прочим, у каждого из них навалом. Вот кое-кто и толкует, будто они в няньки нанялись. Понял?
— К кому?
— Никто не знает. Темнят. Или теперь уже об этом в прошедшем времени говорить надо? Темнили, значит.
— А узнать можно?
— Попробовать можно.
— Попробуй. Ты ведь многих тут знаешь?
— Больше чем надо.
— И врагов, значит, тоже нажил?
— Тоже больше чем надо.
— Почему же так получилось?
— Расходимся во взглядах, — чуть заметно усмехается Хромой, не поднимая глаз. — Я кодлу не терплю. И на дела в жизни не ходил. Ну, это мне простить не хотят. Они меня за это и из родного города выдавили. А потом и здесь узнали. Спасибо Чуме. Так что отношения у меня здесь пестрые, с кем как.
— И друзья есть?
— Не без того. Оборону держим.
— Когда Давуд в драку влез, это они счета с тобой сводили?
— Если хочешь знать, Давуд меня дважды от смерти спас. Или они меня ножичком писанули бы и я копыта откинул, или же я их, и тогда мне тоже была бы хана… — Глаза Хромого сужаются, и в них появляется холодная и злая решимость. — Я ножичком совать тоже умею, не дай бог как. И ножичек у меня имеется… Ногу вот компенсирую. Не гнется она у меня, видишь? Разбили железным прутом в хорошем разговоре одном.
— Расскажи.
— Потом как-нибудь. Не будем спешить. И помни, — сурово предупреждает Хромой. — Меня нигде не называй. Мало кто тебе встретится.
— Знаю.
— Приходи завтра вечером, как стемнеет. Но до шести. Может, чего уже буду знать. Один человек утречком должен ко мне заскочить.
— Ладно, — киваю я и смотрю на часы. — Пойду пока.
Я поднимаюсь. Вслед за мной сползает со стула и Хромой.
Мы снова выходим в мастерскую. Здесь по-прежнему горит свет и плотная занавеска натянута на окошко. Я и не заметил, как это проделал Хромой. Обращаю, однако внимание, что Хромой не выпускает меня через свои запасные выходы. Правильно. Так я обычный заказчик, а так, если бы кто-нибудь заметил меня случайно, я уже какой-то секретный посетитель, которого Хромой опасается принимать открыто. При этом, правда, я, оказывается, не учитываю одной небольшой подробности.
Итак, проходим через мастерскую к двери, я жму Хромому руку и выхожу на темную и пустынную набережную. С шумом ухают где-то рядом невидимые волны, с рокотом откатываются и снова бьют в каменную стенку набережной. Соленая водяная пыль по-прежнему висит в воздухе, и лицо сразу становится мокрым от нее.
Я еще толком не успеваю сориентироваться, в какую сторону мне следует идти, как вокруг меня внезапно возникает из темноты несколько парней.
— У Хромого был? — угрожающе спрашивает один из них.
— Ну, был, — отвечаю я. — Он и в самом деле хромой.
— Зачем приходил?
— Да вот хотел узнать, не шьет ли ботинки, а он только старые чинит.
— Заливаешь, сучонок, — зло смеется другой парень за моим плечом. — Такие лбы за этим к Хромому не ходят. Лучше говори, пока ежиком не пощупали. Зачем он дверь запер, а? Чтобы примерять не мешали?
И парни довольно гогочут. Их, кажется, четверо или пятеро. Многовато.
— Так он сказал, что работу закончил, — чуть помедлив, говорю я. — Сказал, что до шести только работает.
— Точно. Он до шести работает, — подтверждает один из парней.
— Ладно вам, ребята, — добродушно говорю я. — Первый день в городе, и уже такие разговоры. Да плевал я на этого хромого.
К сожалению, я не могу как следует разглядеть их лиц. Впрочем, и они меня тоже, значит, не разглядят и не запомнят. Вот только по росту смогут узнать. Довелось же так вымахать, черт возьми! Сыщик ничем не должен бросаться в глаза. А я… Впрочем, один из парней, кажется, под стать мне.
— Ну, топай на первый раз, — решает наконец кто-то из них. — Второй раз гляди не попадайся. В море кинем, сучонок.
И вся компания тут же растворяется в темноте, словно ее и не было.
Да, малоприятная встреча. Хорошо еще, если случайная. А если нет? Тогда, выходит, что-то они снова готовят и Хромого следует предупредить. В обиду давать я его не хочу. Этот парень мне понравился. Да и сведения его очень важны. Видимо, и в самом деле какую-то хлебную работенку нашли себе два моих приятеля, Леха и Чума. Очень это интересно уточнить.
В управление я прихожу с опозданием. Но Давуд меня ждет. Я ему подробно рассказываю о том, что сообщил мне Хромой, о неприятной встрече на набережной и о всех своих соображениях по этому поводу. Давуд со мной согласен. Мы решаем, что Хромого следует предупредить. И пусть он нам расскажет, что тут и почему заваривается, пусть доверится нам. Мы все-таки кое в чем поопытней его и поумелее тоже.
Остаток вечера мы с Давудом проводим у меня в гостинице, ужинаем вместе и составляем подробный план на завтра.
Утром, однако, выясняется, что план придется менять. Третий, самый, очевидно, интересный из Ермаковых, Иван Спиридонович, директор плодоовощной базы, заболел и три дня как находится в больнице. Да, со знакомством придется повременить.
И я отправляюсь к матери и сестре Лехи. Живут они вместе. Сестра была замужем и развелась. Работает бухгалтером в магазине, где директором был Семанский, а теперь у нее директор некий Георгий Иванович Шпринц. Обе женщины, и мать, и сестра, даже видеть Леху не желают. Они ничего о нем не знают, ни о его делах, ни о его знакомых. А мне как раз и нужны его связи, его знакомства. Пожалуй, одну только ниточку здесь можно будет проверить: — Леха — Семанский. Знали они друг друга? А если знали, то как познакомились, какие отношения между ними возникли? И еще будет хорошо, если удастся узнать у Лехиной сестры — ее зовут Лидия Васильевна — что-то о самом Семанском, о его связях и всяких там комбинациях, о которых говорил Окаемов. Впрочем, в таких комбинациях, наверное, должен быть замешан и бухгалтер. Но Окаемов о Лидии Васильевне, однако, ничего не сказал.
Все это я обдумываю по дороге, пока ищу нужную мне улицу. Проще, конечно, было бы просто взять в управлении машину, она бы быстренько доставила меня по нужному адресу. Но я люблю не ездить, а ходить по незнакомому городу, это не только интересно, но и полезно, и не для здоровья, а для дела. Всегда надо как можно лучше знать место, где предстоит действовать, район боя, так сказать, причем в нашем деле бой может возникнуть в любой момент и в самом прямом смысле слова.
В конце концов, после многих расспросов, охотно воспользовавшись даже, по совету прохожих, двумя-тремя проходными дворами, я выхожу наконец на нужную мне улицу. Она, кстати, оказывается недалеко от той, по которой мы шли вчера с Давудом, направляясь к рынку. Таким образом, этот район города я в результате уже неплохо знаю. У меня выработалась отличная память на всякие городские пути-дороги, закоулки, дворы, дома, маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев. Никогда раньше, до работы в уголовном розыске, я не в состоянии был все это запомнить. Удивительная вещь — человеческая память. Кроме природных ее особенностей у каждого человека, ее можно еще и развить, причем в любом требуемом направлении. Я в этом сам убедился. Ведь я стал запоминать не только улицы и дворы, я научился, например, удивительнейшим образом запоминать лица, иной раз сначала вообразив их себе по приметам, а потом уже запомнив — это ведь еще труднее.
Но вот наконец и нужный мне дом восемь. Он трехэтажный, старый, с открытыми галереями со стороны двора. На галереи выходят двери и окна всех квартир, тут же полощется на веревках белье.
Я в полутьме поднимаюсь по скрипучей деревянной лестнице и выхожу на галерею второго этажа. Там находится нужная мне квартира. На звонок долго не открывают. За это время меня успевают рассмотреть, кажется, из всех квартир, мимо которых я прошел. Уйма любопытных женщин живет в этом доме.
Наконец дверь открывается. На пороге стоит маленькая, худенькая старушка в темном платке на плечах и теплых домашних туфлях. Просто не верится, что у нее мог быть такой огромный сын, как Леха. На гладком, розовом лице ее слезятся сильно увеличенные толстыми стеклами очков бесцветные глаза. Серебристо-седые пушистые волосы собраны в небольшой пучок на затылке. Словом, на вид добрая и вполне симпатичная старушка.
— Здравствуйте, Пелагея Яковлевна, — говорю я и чувствую, что меня слушает не только она, но, по крайней мере, еще две старушки из двух соседних квартир.
Кажется, это чувствует и сама Пелагея Яковлевна и потому торопливо и очень громко говорит мне:
— Здравствуй, голубчик, здравствуй. Ну, проходи, чего стал?
Голос у нее скрипучий, резкий, с неожиданными командирскими интонациями, словно от частых криков и ссор.
Я миную темноватую переднюю, где поспешно снимаю пальто и кепку, и оказываюсь в скромной, чистой комнате, по виду столовой. Посередине стоит квадратный стол под цветастой скатертью, на нем глиняная вазочка без цветов, у стены — буфет с посудой, у другой — диван с очень пестрой обивкой, мягкие стулья вокруг стола, какая-то картинка и две-три фотографии в рамке на стене. Словом, самая обычная обстановка.
Старушка указывает мне на стул и тяжело опускается на другой.
— Дочка-то на работе? — сочувственно спрашиваю я.
— Лидка? На бюллетень, дура, встала. Надумала! Вот уже, считай, четвертый час в поликлинике трется. Очередища. Домой приползет больней, чем была. Наша-то доктурша уволилась. Ну, и все подарки, ясное дело, прахом пошли. Теперь новую обхаживай. Халаты ей дари, то да се.
— Какие халаты?
— «Какие, какие»! — недовольно скрипит старуха. — Известно какие. Докторские. У Лидки в магазине бывают. Особые какие-то. Да нешто одними халатами нонче обойдется? Я Лидке-то еще прошлый раз говорила: «Не слазь с бюлетня. Сиди, пока держат». Нет, убежала. Ну, и вот обратно. А теперича уже при чужой болеть-то. Ох, нешто они кого слушают… — Старуха умолкает и пристально смотрит на меня, потом вдруг сердито спрашивает: — Ну, с чем пришел, бессовестный? Чего тебе еще надо?
Я, опешив от неожиданности, не знаю, что ей ответить, и, на всякий случай виновато опустив голову, молчу. Старуха, однако, мое молчание истолковывает по-своему и все так же сердито продолжает:
— Прошлый раз я тебе чего сказала, забыл? Ленька сюда ни ногой, понял? Как в тюрьму через тебя попал, так все. И твои бесстыжие глаза еще смотреть на меня могут? Сына ты у меня отнял, погубитель! Глаза все за него выплакала… А ты еще… вот…
Голос ее прерывается от сдерживаемых слез.
А у меня не хватает больше выдержки слушать ее, хотя в горе своем Пелагея Яковлевна может упомянуть и что-то важное, и назвать какие-нибудь интересные мне имена. Но горе, которым она охвачена, и мне переворачивает душу. Поэтому я нарочито бодро говорю:
— С кем-то вы меня перепутали, Пелагея Яковлевна. Неужели еще один такой длинный вам попался? Быть того не может.
— О господи! — испуганно отшатывается от меня старушка и машет рукой, словно желая, чтобы я исчез с ее глаз. — Никак обозналась? Вот горе-то. Ну, ничего не вижу. Уж ты, голубчик, меня, старую, извини. Не разглядела сослепу. Кто ж ты такой будешь?
— Да вот насчет Лени как раз и зашел, — говорю я. — Неужели он у вас такой уж пропащий… — я чуть не говорю «был», но вовремя останавливаюсь.
Если нарушить логику разговора, свернув вдруг на что-то очень больное, человек легко следует в разговоре за вами.
— Да неужто не пропащий? — горячо откликается Пелагея Яковлевна. — А коли он уже, почитай, год как вернулся и в одном со мной городе живет, а носа не кажет, не нужна я ему, выходит.
— Да, может, он стыдится?
— Кого он когда стыдился, ты что?
— Так может, он встретил кого да влюбился? — осторожно спрашиваю я.
— Мать такой любви не помеха.
— Говорил, Зина какая-то у него есть.
— Вот! Хоть ее бы слушал. Хорошая девушка. На фабрике работает. Фруктовых вод. Приходила ко мне. Поплакали вместе.
— Что ж она говорит?
— Ох, слушает он ее, как меня слушал. Ну, точно. Вот уже, считай, две недели от нее скрывается. Ни слуху ни духу. А то явился к ней, подарки всякие дорогие принес, серьги там бирюзовые, колечко тоже, денег оставил много, говорит. Это что, я тебя спрашиваю? Это бессовестные деньги, вот я тебе скажу.
— И Зина так считает?
— Ну, а как еще считать, скажи на милость? Вот работал он у Лидки в магазине грузчиком. А ведь, считай, восемь классов окончил. Если бы не злодейка эта, то кем бы он стать мог, соображаешь?
— Какая злодейка, Зина, что ли?
— Окстись! — машет на меня рукой Пелагея Яковлевна. — Водка — вот кто! От нее все зло, все несчастья. Кругом же алкоголики, чтоб они все сгорели! Ну, и здоровый человек им, конечное дело, глаз колет. Они его к себе норовят. А Ленька-то наш слаб на это дело. От отца-покойника гниль-то эта идет. Ох, грехи наши с нами родятся.
— Пелагея Яковлевна, а вы меня за кого же приняли? — спрашиваю я.
— Да за Славку, пропади он. Тоже верста коломенская. У-у… Ирод.
— А чего он делает, Славка этот?
— Славка-то? — Как-то неуверенно переспрашивает Пелагея Яковлевна. — С Ленькой работал, в магазине. А потом уже и не знаю даже. Тоже через водочку свихнулся. Общая она погубительница. Вот она и Славку… Ох, ох! А ведь человеком был.
В это время хлопает входная дверь, в передней слышна возня, и через минуту в комнату заглядывает молодая женщина, стройная, миловидная, со смущенной улыбкой на пухлых губах, а на разрумянившихся щеках видны симпатичные ямочки. Это, конечно, Лида. Она выглядит совсем юной, и я даже в мыслях не могу назвать ее Лидией Васильевной. А ведь ожидал я увидеть бледную, больную, замученную женщину.
— Кто это у нас, мама? — спрашивает она, заходя, и с любопытством чуть смущенно смотрит на меня.
— Вот человек пришел, — объясняет Пелагея Яковлевна. — Насчет Леньки говорим. Как да что. Ну, чего врач-то?
— А! — беззаботно улыбается Лида. — На работу выписала.
— Во-во. Катерина Дмитриевна, чай, не выписала бы.
— Да ладно, мама, — Лида поглядывает на меня. — А вы уже кончили говорить или я помешала?
— Кончили не кончили, а устала я, — вздыхает Пелагея Яковлевна и обращается ко мне: — Уж прилягу, как хочешь.
— Ну конечно, Пелагея Яковлевна. Отдыхайте, — подхватываю я и говорю Лиде: — Мне бы и с вами, Лидия Васильевна, поговорить надо.
— А вы откуда? — строго спрашивает Лида.
— Из Москвы, — отвечаю я и протягиваю ей свое удостоверение.
Она рассматривает его с интересом и совсем безбоязненно, потом удивленно спрашивает, поднимая на меня глаза:
— Это вы из-за Лени приехали?
— Ну, не только из-за него, конечно.
— Что ж, пойдемте ко мне, чтобы маме не мешать, — предлагает Лида и обращается к матери: — Ты, мама, приляг пока. А через часок я обедом займусь. И посуду не мой, смотри.
— Да уж помыла, — смущенно признается Пелагея Яковлевна. — Ну, ступайте, ступайте. Полежу я.
Славные, видно, женщины, и нелегкой жизнью они живут.
Комната Лиды такая же скромная и чистенькая, как и та, где мы беседовали с Пелагеей Яковлевной. Только она еще поменьше, вместо буфета стоит платяной шкаф, вместо дивана низкая тахта с пестрыми подушками, над тахтой висит пестрый коврик, а у окна стоит маленький письменный стол с одной тумбочкой, над ним, сбоку, висит зеркало, а по стенам развешаны фотографии, среди них, кажется, даже школьные. И еще висит книжная полочка, я по корешкам читаю названия с детства знакомых книг. Возле столика стоят два стула. На них мы и садимся.
— Вы старше Лени или моложе? — спрашиваю я.
— Погодки мы. Ему двадцать три, а мне двадцать четыре.
— И давно работаете бухгалтером?
Лида, кажется, не удивляется моей осведомленности:
— Как курсы окончила. Скоро четыре года.
— И все в одном магазине?
— Нет. Первый год в ателье работала. А потом уже перешла в магазин мелкооптовой торговли. Здесь легче. Безналичный расчет.
— А директор хороший?
— Георгий Иванович? — Лида вздыхает. — Из-за него, наверное, уйти придется. Пристает очень. Ну прямо прохода не дает. А у самого дочь старше меня. Представляете? Рассказывать и то неудобно.
— Прежний директор не такой был?
— А вы Гвимара Ивановича знаете? — оживляется Лида. — Ой, совсем другой человек! Культурный такой, вежливый. Правда, Леню нашего он уволил. Но я вам скажу, Леня сам виноват. Нельзя так выпивать. Ну про все забывает. И злой становится ужас какой. Другой хоть спать идет. Я ему сто раз говорила: иди лечись, если сам бросить не можешь. И Зина ему то же говорит. Ей он хоть обещает. Но все равно никуда не идет. Я даже замечаю, что он Зину втягивать начал.
Да, никуда уже Леха не пойдет, и Зине ничего не грозит. Кончилась его непутевая, неправедная, пустая жизнь. Хоть Зине этой самой жизнь не успел искалечить. А вышла бы она за него замуж?..
— Скажите, Лида, вы среди знакомых Гвимара Ивановича такого Льва Игнатьевича не знали?
— Льва Игнатьевича?.. — задумчиво переспрашивает Лида и смотрит куда-то мимо меня, сложив руки на коленях. — А какой он из себя? Может, я вспомню.
— Такой низенький, плотный, с седыми усами щеточкой, лицо красное, мешки под глазами. Пожилой уже.
Я сообщаю ей все эти приметы, а перед глазами у меня невольно возникает московское кафе напротив Центрального телеграфа и мой собеседник там. Прямо наваждение какое-то. Все ведь совпадает! Словно я сейчас не какого-то неведомого Льва Игнатьевича описываю, а того типа из кафе. Но прав, конечно, Кузьмич: не может один человек и квартирную кражу организовать, и об экономике так рассуждать, да еще чье-то поручение по этой части выполнять. Чушь какая-то!
— Нет, не знаю я такого, — вздохнув, говорит Лида.
Что ж это за таинственный Лев Игнатьевич, которого никто, кроме Чумы, не знает? А ведь он, кажется, становится центральной фигурой в деле. Вот найдем его, и развяжутся все узлы. Пожалуй, одна теперь надежда остается на московскую пару, на Гаврилова и Шершня. Уж эти-то должны его знать, я полагаю.
— Скажите, Лида, — снова спрашиваю я, — а не заставлял вас Гвимар Иванович какие-нибудь не очень законные бухгалтерские операции совершать?
— Вы знаете, меня уже об этом спрашивали, — доверчиво сообщает мне Лида. — И я совершенно честно сказала, что нет, ничего незаконного он от меня не требовал. И не сделала бы я никогда. Но… мне просто иногда казалось… Вам я скажу. Казалось — это ведь еще ничего не значит, правда?
— Конечно, — вполне искренне соглашаюсь я.
— Ну вот. А им только скажи, что кажется, они сразу готовы арестовать.
— Да что вы, Лида! Совсем не так просто арестовать. Тут улики нужны.
— Это вам нужны. А им… Вы же не знаете, вы приезжий. А я видела. Ему главное было — арестовать. Еще мне сказал: «Он потом сам во всем признается, только нажмем». Хорошее дело, да?
— Кто же он такой?
— Вызывал меня. Забыла уж фамилию. Толстячок такой, бровки бреет.
Лида насмешливо улыбается, и симпатичные ямочки на ее щеках становятся еще заметнее. А меня разбирает злость, словно кто-то лично меня оскорбил и запачкал. Неужели так себя вел Окаемов?
— Недопустимо это, — резко говорю я.
— Вот. Поэтому ему не сказала, а вам скажу, — кивает Лида. — У нас вдруг — это еще при Гвимаре Ивановиче — начала время от времени проходить пряжа капроновая. Ну, продавать мы ее стали. Совсем не наш товар. И очень дорогой. Гвимар Иванович мне сказал, что нарочно добился ее, чтобы план по обороту выполнить. Ну, все, конечно, законно было. Мы ее оприходовали. Но… Как бы сказать? Не видели. Она почему-то транзитом к покупателю шла. Минуя магазин.
— А так разве не бывает?
— Не знаю. Но у нас так никогда до этого не было.
— И куда же она транзитом шла, кому?
— В разные места, сейчас уж даже не помню все. А скажем, последний раз, недавно совсем, на трикотажную фабрику нашу, Министерства местной промышленности. Сразу вся партия.
— А откуда эта пряжа к вам поступает?
— Из самых разных мест. Даже из Москвы.
— Ого! Ближний путь.
— Из Москвы больше всего. По восемь тонн, по десять. А из других мест обычно по три-четыре тонны, больше не бывает.
— И вы сразу стали план выполнять?
— Конечно. Даже перевыполнять. И сейчас так, при Георгии Ивановиче. Премии за это получаем. При нашей зарплате это, знаете, как всем важно? Ведь каждый раз несешь эту зарплату, как воробья в руке: вот-вот улетит.
Лида улыбается. Хорошая у нее улыбка, честное слово.
— А Леша вам не помо… гает? — я чуть не говорю «помогал».
— Ой, он мне раньше все время деньги совал. Я его спрашиваю: «Откуда они у тебя?» — «В карты, говорит, выиграл». Ну, и я не брала. Это нечестные деньги.
— Скажите, Лида, — снова спрашиваю я, — а вы такого Лешиного приятеля не знаете, Николая? Фамилия его Совко.
Кличку «Чума» Лида, конечно, не знает.
— Николай? — переспрашивает она. — Совко? Вот фамилию эту я как будто слышала. От Леши, наверное. А может быть, и не от Леши. Не помню.
— Ну, а Славку вы знаете? — вдруг спрашиваю я, сам еще не представляя, зачем мне этот Славка нужен. — С Лешей грузчиком у вас в магазине работал. Длинный такой, как я, — и невольно улыбаюсь. — Меня даже с ним Пелагея Яковлевна в первый момент спутала, когда я пришел.
Но Лида сердито хмурится и поджимает пухлые губы.
— Знаю, знаю, — говорит она. — Как не знать.
— Он по-прежнему у вас в магазине работает?
— Нигде он, по-моему, не работает. Со всякой шпаной по набережной шляется, вот его работа, балды.
И вдруг я вспоминаю вчерашнюю вечернюю набережную и внезапно окруживших меня там парней. Среди них был один длинный, вроде меня. Жаль, больше ничего невозможно было разобрать в темноте. Может, это и был Славка?
Лида вдруг слабо улыбается.
— Он и правда такой длинный, как вы. Только вы светлый, а он черный. И глаза у него стали злые, смотреть страшно.
— Он с Лешей до сих пор дружит?
— Кто их теперь знает, — вздыхает Лида. — Вы лучше у Зины спросите. Мы с мамой Лешу давно не видели. Я вам Зинин телефон дам. Мы ведь с ней подруги. Через меня и Леша с ней познакомился. Так мы с мамой надеялись. Но ничего у них пока не выходит, никакой совместной жизни. Так…
Она машет рукой и вздыхает. У нее самой тоже не задалась жизнь. Вот развелась. Кто же ее бросил, такую славную? Или она сама бросила? Впрочем, все еще у нее впереди. Кто сейчас не разводится. Подумаешь, двадцать четыре года ей только.
— Пишите, — предлагает мне Лида и диктует номер телефона.
Я записываю. И не поворачивается у меня язык сообщить ей о гибели Лехи, ну никак не поворачивается. Но и скрывать это невозможно, когда-нибудь она должна будет об этом все равно узнать.
А Лида вдруг тихо говорит:
— Слава мой муж бывший.
Это так неожиданно, что я не в силах скрыть изумления.
— Вы думаете, он всегда такой был? — страдальчески улыбается Лида. — Он мастером был по телевизорам, в ателье. Его споили. Дружки всякие, клиенты. Никто с пустыми руками к нему не приходил. Никто не верил, что он и так все хорошо сделает. А у него были такие руки… — Она закусывает губу и умолкает.
А я не знаю, что ей сказать. Утешать тут глупо, соглашаться тоже глупо. И жалко мне эту славную женщину ужасно.
— Тогда я решила уйти от него, — продолжает Лида, глядя перед собой в пустоту, и на глазах у нее медленно наворачиваются слезы. — Я думала: а что, если появится ребенок от пьяницы? Искалеченный ребенок. Ужас-то какой. Мне рассказывали, что так бывает. Он, вы бы знали, что я пережила, что только передумала. И все-таки решила уйти. Жить надо по-человечески или уж… совсем не жить. Мы оба плакали. И Слава тоже. Он сказал, что будет лечиться, а потом вернется ко мне. Вот уже скоро два года, в апреле… Не надо мне его ждать больше… видно, не надо… Бесполезно…
Она словно уговаривает себя, а из глаз текут слезы. И помочь тут, главное, нечем. Никто тут не может помочь.
— …И Зине я про Лешу сказала, что пьет он, что… А она на меня, дурочка, обиделась, — глядя уже в пол, говорит Лида. — Как, мол, я могу так про брата говорить. А как же иначе? Ей судьбу свою строить надо. Я вот никогда раньше не задумывалась, зачем я живу, для чего, для кого? Для себя? А что мне нужно, веселье разве? Нет, мне не веселье, мне счастье нужно.
Лида вздыхает и смахивает слезы. Она кажется мне сейчас совсем другой, чем в первый момент нашей встречи. Черты ее лица обострились, и румянец на щеках уже не такой яркий, и губы стали тверже, резче обозначились, и в глазах сейчас боль стоит.
— А он не вернется, — грустно заключает Лида. — Все равно не вернется. Ему его дружки дороже… А-а, я вспомнила! Это от него я слышала про того Николая, про Совко. Слава им все восхищался.
— Чем же он восхищался?
— Ну, всем. Никого, мол, этот Николай не боится, делает что хочет. А вот его все боятся. А как-то даже признался, что и он этого Николая боится. И что в милиции у него… Ну, в общем, знакомые есть. Поэтому он ничего и не боится. Вот Слава этим всем и восхищался.
— Но все-таки, Лида, — с непонятной самому мне надеждой спрашиваю я, — все-таки вы его пока еще ждете?
Лида вздыхает и по-прежнему смотрит в пол.
— Женщина всегда преданней мужчины, — задумчиво говорит она. — И любит крепче. Если бы я могла Славу исправить, я бы все, кажется, отдала… всю свою кровь, наверное… Все, все…
И у меня сердце сжимается в груди от жалости, от досады, от восхищения. Я даже не могу передать вам своего состояния в этот момент.
— Вы, Лида, по-моему, сильный человек, — говорю я убежденно. — И слабый человек непременно должен тянуться к вам. А Славка, он слабый.
В ответ Лида только устало машет рукой, не отрывая глаз от пола.
— У меня еще мама, — негромко говорит она. — На нее тоже нужны силы. А я одна.
И тут я невольно вспоминаю, что Лида через час обещала заняться обедом. Пора мне уже уходить, давно пора. Но разве мог я уйти раньше? Бывает момент, когда человеческая боль вдруг требует выхода, когда сил нет больше носить ее в себе. И если вспыхивает вдруг в такой момент доверие к встретившемуся человеку, потребность поделиться с ним этой болью, разве можно не откликнуться на такое доверие, не разделить эту боль?
Но сейчас, я чувствую, надо уходить, пора.
Мы выходим в переднюю. Здесь я прощаюсь. И Лида чуть смущенно пожимает мне руку. Я так ничего и не говорю ей о Лехиной судьбе и о Лехиной смерти. Все равно, конечно, узнает, но хотя бы не от меня и не сейчас.
— Вы заходите, если что нужно будет, — приветливо говорит Лида.
Я чувствую, взаимная симпатия возникла между нами, доверие и симпатия.
— А если вам нужна будет когда-нибудь помощь, — говорю я, — то позвоните моему другу. Он тоже работает в угрозыске. Здесь, у вас. Я его предупрежу. На всякий случай. Никогда не знаешь, что может случиться. И он все для вас сделает, как для меня. Я вам ручаюсь.
— Спасибо, — тихо говорит Лида, опустив глаза.
И я пишу ей на клочке бумаги телефон Давуда Мамедова. Как хорошо иметь друзей, за которых можно без колебаний поручиться.
Улица встречает меня ярким солнцем. Впервые за эти два дня оно вдруг появилось на сером, тяжелом небе. Да и небо уже другое, оно нестерпимо голубое, без единого облачка. А далеко внизу, за домами и деревьями, я вижу полоску моря, синего-синего, неправдоподобно синего, словно кто-то провел кистью по краешку неба, чтобы еще больше отделить его от земли.
Я задумчиво иду вниз по крутой улице. Все кругом меня стало вдруг весело и ярко. Веселится грязная улица, ослепительно блестят стеклами окон и витрин только что понурые, угрюмые дома. И люди вокруг словно повеселели и приободрились, и больше, кажется, стало улыбок вокруг. И а самом деде, шагается легче и хочется улыбаться, подставляя лицо совсем теплым солнечным лучам.
Но если разобраться, то мне особенно нечему улыбаться. Никаких новых связей Лехи я не установил. Кроме, правда, какого-то Славки, непутевого Славки, который, однако, явно не имеет отношения к делу. Ну, еще я узнал, что Семанский, оказывается, уволил Леху и тот, конечно, затаил на него злость. Но за это не убивают. Кто же дал Лехе и Чуме приказ убить Семанского? Ведь такой приказ кто-то дал. Кто? Неизвестно. И за что его убили, тоже, между прочим, неизвестно. Не поделили вещи с кражи? Я все больше начинаю сомневаться в этом. Вообще кража странным образом «не вписывается» в дело, в отношения людей. И по-прежнему остается неизвестным этот проклятый Лев Игнатьевич. Приказ-то, скорей всего, дал он. Кто же он такой, откуда взялся? Все-таки, скорей всего, он москвич, поэтому здесь никто его не знает. Никто? Ну, это мы еще поглядим. А что еще рассказали мне эти женщины? Лида говорила про махинации Семанского. Какая-то пряжа приходит из Москвы и куда-то уходит. Это уже по части Окаемова. И он этим интересовался. Не очень-то, правда, умело и очень грубо. А вот по моей частя ничего нового нет. И надежда пока только на Хромого. Важный, между прочим, намек он бросил.
Однако я все кружусь что-то вокруг Лехи, которого уже нет. А вот о Чуме, который есть и которого надо уличать, я пока ничего не узнал. Хотя — стоп! О нем упомянул Хромой как о своем личном враге. И только. Мало. О Чуме нам надо знать все, с ним еще предстоит немало повозиться, от него еще предстоит добиться важных признаний. Через него лежит путь к раскрытию убийства Семанского и квартирной краже тоже. Но к краже мы, кажется, сможем скоро подойти и с другой стороны, через тех двоих, к убийству — только через Чуму. И к таинственному Льву Игнатьевичу тоже. Странные намеки того типа в кафе ушли куда-то, растворились, я не чувствую больше того нерва, который, видимо, в какой-то момент задел. Наверное, все это осталось в Москве, а тут… Да, тут главное сейчас — это связи Чумы, живого Чумы, а не мертвого Лехи. К кому же это, интересно, они в няньки нанялись, кого взялись охранять и беречь? Поглядим, что сегодня раздобудет Хромой. А пока…
Я гляжу на часы. Можно было бы и пообедать. С Давудом мы увидимся только вечером, у него своих дел по горло. Да и не нужен он мне пока. После обеда я зайду к матери Чумы, там, кстати, и жена его, и дочка тоже.
Размышляя, я незаметно выхожу на какую-то пустынную площадь и оглядываюсь. Не видно ни одного кафе, ресторанчика или даже просто столовой. Какие-то захудалые магазинчики, ларьки. Надо идти дальше, в центр, на набережную, в курортную зону города.
Я снова шагаю под гору, вниз, жмурясь от солнца, которое бьет мне в глаза. И вскоре начинаю ощущать запах моря, явственный, особенный запах соли, водорослей, еще чего-то. И уже через несколько минут я наконец выхожу на набережную и замираю от восхищения. Шумят, искрятся и играют на солнце зеленые волны, бегут по ним белоснежные пенные гребешки, бегут от далекого-предалекого горизонта, где сходятся небо и море. Глаз невозможно оторвать от этого простора и бесконечной игры света и волн.
Постояв у каменного парапета, я наконец отрываюсь от него и иду по залитой солнцем набережной. Вскоре натыкаюсь на открытое кафе. Самое обычное небольшое кафе — десятка два красных пластиковых столиков с дешевенькими солонками и стаканчиками для салфеток и по четыре белых стула возле каждого из них на тонких металлических ножках. За дальним столиком сидит женщина с маленькой девочкой в расстегнутом пальтишке. Едят мороженое. Видно, у девочки праздник. Интересно, есть ли здесь что-нибудь посолиднее, чем мороженое?
На одном из столиков я замечаю мятый листок с напечатанным меню и направляюсь к нему. Гардероб закрыт, и я бросаю свое пальто на соседний стул. Затем я читаю меню. Да, кое-что есть для голодного человека, например яичница и какие-то паровые биточки. Принимаю решение заказать и то и другое. Начинается ожидание. К счастью, мне есть что обдумать. В том доме, куда я сейчас направляюсь, говорят, идет настоящая война. Мать Кольки-Чумы воюет со своей невесткой, которая хочет с Колькой разводиться. Я невестку вполне понимаю, радости от такого мужа, как Чума, прямо скажем, не много.
Черт возьми, пока тебя тут обслужат, в этом пустом кафе, пока принесут эти несчастные биточки, можно обдумать не только ситуацию в семье Кольки-Чумы. Я вспоминаю, как сострил недавно Петя Шухмин, когда его кто-то спросил, есть ли у него машина. Петя сказал: «Геологи еще ищут тот металл, из которого она будет сделана». Вот так приблизительно обстоит дело и с этими биточками. Говядина для них еще пасется где-то на лугу.
Впрочем, не проходит и часу, как я уже полусытый иду снова по набережной и вскоре, не дойдя самую малость до мастерской хромого Сергея, сворачиваю на одну из улиц. Дом, где живет семья Чумы, где-то тут, недалеко, на территории большого санатория. Жена Кольки работает там поваром.
Вот, наконец, начинается и бесконечная решетчатая ограда санатория. Она сплошь увита диким виноградом, так что даже сейчас, сквозь паутину голых веток, ничего не видно. Около больших красивых ворот установлена будка для сторожа. Когда я подхожу, появляется и он сам, не старый, потрепанный человек в пальто и форменной фуражке с желтым околышком, лицо отекшее невыспавшееся, глаза опухшие и сердитые.
Я прохожу мимо него, небрежно бросив через плечо:
— Инспекция.
Какая именно, я, пожалуй, затруднился бы сказать, но чутье подсказывает мне, что это наиболее сейчас простой и безболезненный способ пройти на территорию. Название нашей фирмы производит порой слишком уж сильное впечатление и служит поводом для всяких домыслов. Расчет мой верен. Сторож, очумело глядя на меня, молча берет под козырек.
И вот я уже иду по длинной, обсаженной кипарисами аллее, огибаю огромное светлое здание санатория, потом еще одно здание, поменьше, с окнами чуть не во весь этаж, видимо медицинский или какой-нибудь процедурный корпус. Возле него я встречаю пожилую женщину в белом халате и, следуя ее указаниям, иду дальше. Наконец где-то в самой глубине красивого парка, даже сейчас красивого, в это время года, я обнаруживаю длинное двухэтажное светлое здание, обхожу его и вижу перед собой знакомую ограду, а за ней довольно оживленную улицу. Нужный мне дом как раз и выходит на нее.
Я отыскиваю четвертый подъезд, поднимаюсь на второй этаж и звоню в квартиру тридцать один. Звоню раз, другой, пока, наконец, дверь не открывается, и я вижу перед собой высокую, худую старуху в очках, на острые плечи накинут темный платок. Взгляд из-за очков колючий и настороженный. М-да. Беседовать подряд с двумя старушками — это, пожалуй, многовато. Но ничего не поделаешь, служба…
— Здравствуйте, Ольга Петровна, — говорю я.
— Ну здравствуй, коли пришел, — отвечает старуха, подозрительно оглядывая меня и вовсе, кажется, не собираясь пригласить войти.
Наконец старуха спрашивает:
— Кто же такой будешь?
— Насчет сына вашего пришел поговорить. Из милиции я.
— А меня не касается, чего там с ним, — уже враждебно отвечает старуха.
— Это пущай он сам за себя отвечает.
— Он сам и ответит. Но только узнать нам его надо получше. Вот и решили с вами побеседовать. Разрешите?
— Ничего такого о нем не знаю, — сердито отвечает Ольга Петровна, по-прежнему загораживая дверь. — И говорить со мной не о чем. Больная я.
— Может, он вообще вам не сын? — усмехнувшись, спрашиваю я. — И у нас ошибочка вышла, не туда я пришел?
— Ну сын. Не откажешься. Это вон жена может отказаться.
— Не зря, наверное, отказывается.
— Ну, там, зря или не зря, это уж наше дело.
— Совершенно верно, — соглашаюсь я. — Это дело семейное. Но все-таки разобраться нам с вашим Николаем надо по справедливости.
— Жди от вас справедливости, как же.
— Так я вижу, вы и сами ее не хотите.
— Мое дело, чего я хочу.
— Нет, — резко отвечаю я. — Не ваше… Колькино это дело. Вы для него сейчас хуже чужой, смотрю, а я вроде лучше матери получаюсь. Вас вот уговариваю.
— Ишь ты, — насмешливо ухмыляется старуха, — какой выискался. «Лучше матери!» И чего тебе от меня надо, репей?
— Зайти к вам и поговорить.
— Вот ведь пристал, — неприязненно говорит старуха. — Ну, заходи, коли так.
Она отодвигается, и я переступаю порог. В маленькой передней вешаю пальто и иду вслед за старухой в комнату. Она обставлена куда лучше той, в которой я был утром. Здесь разместился полированный новый гарнитур, венгерский, наверное, или румынский, на полках длинного серванта, за стеклом, стоят хрустальные вазы, красивый чайный сервиз, еще какая-то посуда. На круглом столе с пестрой салфеткой посередине стоит еще одна ваза, низкая и широкая. К столу аккуратно придвинуты тяжелые, гнутые стулья, у стены огромный диван. Под потолком, над столом, висит большая чешская хрустальная люстра. Да, полный достаток в этом доме, словно и не сидит вот уже в третий раз в тюрьме глава семьи, бандит и убийца… Ну да что уж там. Зато, наверное, жена труженица.
— Ну, говори, — все так же враждебно обращается ко мне старуха, прямо садясь на край дивана, словно аршин проглотив, и не думая предложить сесть мне.
И я говорю, первое, что приходит в этот момент в голову:
— Колька опять сидит. Ему бы передачу послать.
— Бог поможет…
— Ну нет, — неожиданно для самого себя запальчиво возражаю я. — Надо помочь. Не вы, так… пусть Ермаков помогает.
— А он-то с какой стороны? — как будто удивляется старуха.
— А с той. Он, если по совести говорить, и вам помочь должен.
— По совести-то — не говори. Нет ее ни у кого, нет и отродясь не было. Беречься людей надо, а не помощи ждать. У каждого на заднем уме чего-то растет. Завсегда чегой-то за спиной прячет, чегой-то через тебя или кого другого хочет себе достигнуть. Слава богу, навидалась.
— Вот вы и Кольку научили так к людям относиться.
— А чего же не научить, коли верно?
— Вот преступник и вышел, грабитель, чуть не убийца.
На старуху мои слова не производят никакого впечатления.
— Э, полно, — равнодушно машет она рукой. — Этому что учи, что не учи. Это само образуется, изнутри.
— А люди кругом уже ничего сделать, по-вашему, не могут? Конечно, с матери да отца начинать бы надо, да поздно уже.
— Ладно, ладно. Это ты все про себя оставь. Чего пришел-то?
Прямо неприступная какая-то старуха, бесчувственная.
— Как все-таки Колька-то у вас свихнулся, не расскажете?
— Кто его знает. Я воровать не учила.
— А кто же учил? Друзья-приятели, что ли?
— Ну! Кому же еще и учить?
— Кто же они такие будут?
— Ты у него у самого спроси, у Кольки. Я-то почем знаю?
— Эх, Ольга Петровна, — вздыхаю я. — Неужто вы добра своему Кольке не хотите? Неужели и словечка за него не замолвите?
— Ты лучше у него спроси, кому он-то добра хочет? Мать уже наполовину в могилу свел, жену старухой сделал, дочка, как травинка, растет без отца. Так пусть хоть подохнет, не сын он мне. Из сердца я его давно вырвала. И все. И не береди. Ничего больше не знаю.
Она поджимает тонкие, сухие губы и отворачивается.
— И Гвимара Ивановича не знаете?
— Не знаю.
— И Льва Игнатьевича?
— И его тоже. Пусть они все вместе с ним подохнут. Понял? Все они такие.
Злость клокочет в ней, неутихающая злость на весь свет. Колька тому причиной? Или Колька — это уже следствие? Сейчас не узнаешь. И ведь ничего о сыне не спросит, ничего. Что ж, она и в самом деле вырвала его из сердца? Но разве возможно это?
— Алеху знаете?
— Ну.
— Погиб он.
— Брешешь.
— Точно говорю. Под машину попал. Бежал с краденым чемоданом, по сторонам не глядел. Ну под колеса и угодил. Помер сразу, на улице.
— Бог, он все видит, — безразлично говорит Ольга Петровна.
— Один дружок был у Кольки, и того не стало.
— Много у него таких-то. Колес на них не хватит, иродов.
— Вам-то откуда знать, много их или мало?
Ольга Петровна молчит, отвечать не желает, даже не шелохнется, смотрит куда-то мимо меня. Потом цедит сквозь зубы:
— Не подъезжай. Никого не знаю. Никакого Ермакова. Много их там всяких.
— Где?
Но старуха снова молчит. Нет, никак не пробиться к этой омертвевшей, бесчувственной душе. И все-таки… Почему-то она назвала Ермакова.
— Внучке-то сколько вашей? — начинаю я новый разговор.
— Восьмой пошел.
— Отца-то любит?
— Ее дело.
— Так ведь ребенок же.
— Говорю, ее дело.
Старуха сидит на краешке дивана все так же прямо, неподвижно, сложив на коленях руки, и упрямо смотрит в одну точку. Ну характер!
— Наталья Викторовна на работе? — спрашиваю я.
— Ну.
— Когда мне ее повидать можно?
— Не цепляйся хоть ты к ней, за-ради Христа, — зло цедит Ольга Петровна. — Дай хоть как-никак жить-то ей.
Она враждебно смотрит на меня сквозь очки. Морщинистое, желтоватое лицо ее по-прежнему неподвижно, живут только глаза. А узкое лицо словно вырезано из старого дерева, сухого, растрескавшегося, в темных провалах блестят глаза, впалые щеки, глубокие, вертикальные морщины бороздят их, редкие седые волосы еле прикрывают бледные, с синими прожилками виски, на худой, морщинистой коричневой шее тоненькая цепочка уходит куда-то под старый байковый халат. Плоха старуха, и в самом деле плоха.
Я поднимаюсь. Больше разговаривать нет смысла. И вряд ли есть смысл искать встречи с женой Кольки-Чумы. Зла у нее на Кольку еще больше, конечно, чем у матери. И справедливо. И никакой войны тут в доме по поводу Кольки нет. Чужой человек он тут, враг даже.
— Всего вам доброго, Ольга Петровна, — говорю я, направляясь в переднюю.
Она молча следует за мной.
Так, не услышав от нее больше ни слова, я и ухожу. И при этом испытываю даже некоторое облегчение.
Я решаю побродить немного по городу. До условного часа, когда надо идти к Хромому, время еще есть.
Солнце между тем незаметно скрылось, небо затягивает серая пелена. Холодный, сырой ветер дует с моря. Снова пасмурно, тоскливо становится все вокруг. И на душе тоже.
Так уж я устроен. Не могу без какой-либо цели бродить по улицам, не умею. Даже когда хочется всего лишь прогуляться, в редкие свободные от работы воскресные дни, какая-то цель непременно должна маячить передо мной.
Вот и сейчас. Я не спеша иду по улице и невольно перебираю в уме, куда бы заглянуть по дороге, кого бы повидать. И мне приходит в голову, что неплохо бы именно сейчас заглянуть в тот необычный магазинчик, где директором был покойный Гвимар Иванович Семанский, и познакомиться с не в меру шустрым его преемником, который не дает прохода Лиде Солодухиной, сестре тоже уже, к сожалению, покойного Лехи.
Адрес магазина мне известен, и первый же встречный указывает мне дорогу. Теперь я уже иду бодро и весело. Любая интересная цель, что ни говорите, а как-то окрыляет. Даже такая, как сейчас у меня. И пасмурное небо над головой уже не кажется мне таким тягостно-тоскливым.
Пройдя две или три улицы со светлыми, невысокими, но довольно красивыми, даже живописными домами, оградами, лестницами и скверами, в которых летом, наверное, благоухают цветы, я наконец отыскиваю среди больших и маленьких магазинов нужный мне, совсем уже скромный, даже как будто стыдящийся своего названия магазинчик. Он и вывески-то не имеет, а просто рядом с дверью прибита табличка, где после крупного слова «магазин» мелкими буковками указано, что занимается он мелкооптовой торговлей и принадлежит какой-то невероятно длинно называющейся организации.
Я захожу в темноватое небольшое помещение, где за всеми тремя прилавками, окружившими меня, скучает одна-единственная продавщица. За ее спиной висит, нелепо распяленный на вешалке, темный, мятый комбинезон с безмерно длинными штанами, а рядом, на другой вешалке, — черный сатиновый халат, тоже какой-то невероятной длины.
Немолодая продавщица точно в таком же халате сонно и безразлично следит за мной, даже не меняя позы, в которой она только что дремала, и лишь приоткрыв глаза при моем появлении.
Я вежливо осведомляюсь:
— Георгий Иванович у себя, товарищ Шпринц?
От такого нестандартного вопроса продавщица слегка оживляется, даже поправляет прическу и, повернувшись и откашлявшись, громко кричит в какую-то дверь за прилавком:
— Георгий Иванович, к вам пришли!
И через минуту передо мной появляется маленький, тщедушный человек, лысый, с торчащими ушами, в больших очках с сильными стеклами. Узенькое, мышиное личико его все в морщинах, под острым носом топорщатся рыжеватые усики. На нем тоже черный сатиновый халат, под которым видны полосатая рубашка и тоже полосатый, но другого цвета галстук.
— Вы ко мне? — настороженно спрашивает Шпринц.
— Именно к вам.
— Тогда прошу, — он делает широкий жест в сторону двери, из которой появился. — Там говорить будет удобнее.
Мы проходим в темный коридорчик и тут же попадаем в маленький, тесный кабинет директора. Все тут сверхскромно, стандартно и задержать взгляд решительно не на чем. Над директорским креслом висит написанное цветными карандашами соцобязательство на прошлый квартал, рядом ежемесячный скучный календарь, какие-то бледно отпечатанные на машинке списки. Возле самой двери прибита небольшая вешалка. Я снимаю пальто.
Георгий Иванович предупредительно указывает мне на старенькое кресло возле своего стола, а сам, легко прошмыгнув между столом и стенкой с соцобязательством, привычно располагается на своем рабочем месте, причем крохотная его фигура сразу как бы растворяется среди окружающих его бумаг и папок и над столом торчат только уши и очки.
— Тэк-с. Чем могу служить? — спрашивает он, склонив лысую голову набок и водянисто глядя на меня сквозь стекла очков.
Эти огромные очки в темной тяжелой оправе словно защищают его от окружающих.
— Я из милиции, — говорю я самым миролюбивым, почти дружеским тоном. — Случилось, понимаете, несчастье.
— Какое еще, господи боже мой?
— Вы, конечно, знали Гвимара Ивановича?
— Еще бы! И знал, и, так сказать, знаю. Честнейший…
— Погиб.
— Что-о?!
Шпринц даже подскакивает на своем кресле.
— Увы! — печально говорю я. — Вы же знаете, у него были дела в Москве.
— О его делах, так сказать, понятия не имею, поверьте мне.
Он прижимает маленькие ручки к груди. Вид у него до крайности испуганный.
— Это уже не имеет значения, — я качаю головой. — Вместе с Гвимаром Ивановичем ушли и все его дела, в лучший мир, как говорится.
— Но как это случилось, господи боже мой? — весь трепеща, спрашивает Георгий Иванович. — Вы мне можете сказать?
— Убит, — коротко говорю я.
— Убит?! За что?!
— Вот это меня к вам и привело.
— Но я же, так сказать, ничего не знаю… Клянусь, ничего не знаю… — испуганно лепечет Шпринц. — Если бы я, так сказать, знал… Поверьте…
— Верю, верю. Откуда вам это знать. Но его самого-то вы же знали? По крайней мере, так же, как он вас, когда рекомендовал на этот пост.
Я указываю на стол.
— Ну, в какой-то мере, с какой-то, так сказать, стороны, конечно, я его знал. Какой может быть разговор, — разводит руки Георгий Иванович, откидываясь на спинку кресла. — Это, конечно, сам по себе факт.
— И некоторых его знакомых в Москве тоже знаете?
— Кого вы, так сказать, имеете в виду? — настораживается Георгий Иванович. — Поясните, так сказать, на факте.
— Ну, ну. Вы же знаете этих людей лучше меня, — примирительно говорю я.
— Будет даже неудобно, если я их вам буду называть. У нас же неофициальный разговор.
— Вы тысячу раз правы, тысячу! — восклицает Георгий Иванович, оживляясь и снова прижимая руки к груди. — Знакомые у него там есть… так сказать, были. Это сам по себе безусловный факт. Но, господи боже мой, зачем он туда, к ним поехал? Вы можете мне пояснить? — с мученической гримасой вопрошает Георгий Иванович.
— Полагаю, что повидаться, — говорю я.
— Да, да, — горячо подхватывает Шпринц. — Вы тысячу раз правы, тысячу! У него там есть… был, так сказать, задушевный приятель, это сам во себе факт.
— Деловой приятель, — поправляю я.
— Да, да, деловой, — снова подхватывает было Шпринц, но тут же, словно поперхнувшись, внезапно умолкает.
— Представьте, Георгий Иванович, — сочувственно говорю я. — Вот в том самом дворе, где этот приятель живет, его и убили.
— У Виктора Арсентьевича?! — в полной панике восклицает Шпринц. — Быть того не может! Господи боже мой…
— Почему же не может? Всякие споры, ссоры иногда кончаются бедой.
— Да, да… Морально, так сказать, опущенные люди… Это сам по себе факт… — растерянно лепечет Георгий Иванович, не сводя с меня испуганных водянистых глаз. — Ужас просто, господи боже мой!.. Я же говорю… Им бы только урвать… Только себе…
— Вот и Лев Игнатьевич…
— Не говорите о нем! — с негодованием восклицает Георгий Иванович. — Это шакал, уверяю вас!.. Это, так сказать, гиена… Его и сам Виктор Арсентьевич терпеть не может, господи боже мой…
— Но принимает, — на всякий случай вставляю я.
— А что, так сказать, делать остается? Только приятных людей принимать? Морально, конечно, хотелось бы. Но фактически…
— Вы давно его видели?
— Кого, простите?
— Да Виктора Арсентьевича.
— Прошлым летом. Приезжал отдыхать с супругой. Милейший человек. И абсолютно культурный. Это сам по себе тоже факт, уверяю вас.
— И деловой?
— О-о! Я понимаю, так сказать, ваш намек, — с хитрой улыбочкой грозит мне пальцем Георгий Иванович. — Понимаю. Но имейте в виду, его поставки нам вполне официальны. Он лишь выполняет указание руководства, это сам по себе абсолютный факт! — Палец Георгия Ивановича, описав плавную кривую, многозначительно поднимается над его головой.
И тут я вспоминаю рассказ Лиды о каких-то внеплановых поставках пряжи, причем самые большие партии ее шли из Москвы. Уж не от Виктора ли Арсентьевича? Это интересно проверить.
— Вы имеете в виду пряжу? — спрашиваю я.
Шпринц важно кивает.
— Именно, так сказать, ее.
— Но Гвимар Иванович после ухода из магазина разве имел к ней отношение?
— Не имею понятия! — поспешно восклицает Шпринц и выставляет перед собой обе руки, словно защищаясь от кого-то. — Уверяю вас, не имею! Бумаги идут абсолютно официальным путем. Через управление Разноснабсбыта. За высокой подписью, это сам по себе, без сомнения, факт.
— Ну, небось толкачи все-таки требуются? — наивно спрашиваю я.
В самом деле, я не очень-то разбираюсь в этих тонкостях, тут ведь не моя епархия. И, видимо, Георгий Иванович своим обостренным чутьем улавливает это и заметно приободряется. На лице его появляется даже некое покровительственное выражение.
— Всюду нужны толкачи, это сам по себе факт, — солидно кивает он. — Куда денешься? Так уж все устроено, к вашему сведению.
— И Ермаков…
— Господи боже мой, при чем тут Гелий? — снова впадает в панику мой собеседник. — У него же, так сказать, другая система. Это абсолютный факт. Даже не говорите про него, боже мой…
— Но Лев Игнатьевич…
Я нарочно сейчас подбрасываю ему эти имена, всякие имена. Пусть он разбирается по-быстрому, в спешке, что я в самом деле знаю и чего нет, где я попадаю в точку, а где пальцем в небо. Пусть разбирается и при этом, конечно, неизбежно будет путаться. В этой путанице, спешке и нервничанье я, возможно, кое-что полезное ухвачу. Даже уже ухватил, черт возьми!
— Вот тут не верьте! — захлебываясь от негодования, почти кричит Георгий Иванович и заклинающе протягивает ко мне короткие ручки. — Не верьте этому человеку, умоляю вас! Обманщик и демагог! Это абсолютный сам по себе факт. Подпустит такое, такие, так сказать, экономические обоснования выведет, что тебе ученый, боже ты мой. А сам… родного отца зарежет! Всех продаст! Ах, господи боже мой, Гвимар… Какая беда, какая беда…
И Шпринц в припадке искреннего отчаяния хватается за голову.
Но я так быстро не могу переключиться на покойного Гвимара Ивановича. «Экономические обоснования»? «Демагог»? Ведь это очень похоже на моего собеседника в кафе, на пресловутого Павла Алексеевича. А Лев Игнатьевич — ведь это простая квартирная кража, вульгарная квартирная кража без всякой демагогии и экономических обоснований. Ничего не понимаю! И на всякий случай я подбрасываю Шпринцу еще одно имя.
— А Павел Алексеевич? — спрашиваю я.
— Кто? — удивленно смотрит на меня Шпринц, обрывая свои причитания.
— Павел Алексеевич, — повторяю я.
— Извините, извините. Но такого не знаю, — категорически объявляет Георгий Иванович и, в свою очередь, спрашивает, причем голос у него начинает снова дрожать: — Кто же его, так сказать, убил, вы выяснили?
— Да, — киваю я. — Представьте, ваши же уголовники, из вашего города. И после этого они еще обокрали квартиру Виктора Арсентьевича.
— Не может быть!
— Увы, да.
— Ой, что творится, господи боже мой! — снова начинает причитать Георгий Иванович, хватаясь за голову. — Отказываюсь верить! Отказываюсь, и все! Ну, с Гвимаром я хоть как-нибудь, но понимаю. Лев на что хотите пойдет, если… если, допустим, можно крупно заработать. Но поднять руку на Виктора Арсентьевича, на золотую курочку, так сказать… Не понимаю! Не по-ни-маю!
Шпринц и в самом деле ошарашен этой кражей, поэтому у него вырываются слова, которые он конечно же никогда бы не произнес при других обстоятельствах. И вот оказывается, Виктор Арсентьевич — «золотая курочка»? Вернее, конечно, курочка, которая несет золотые яйца. В виде этой самой пряжи, что ли? Ох, как мне нужен сейчас мой друг Эдик Албанян из нашего московского ОБХСС. Окаемову я не верю, его квалификации, его способностям.
— Лев Игнатьевич действовал не сам, — говорю я. — Он подослал на квартиру Виктора Арсентьевича своих людей, понимаете? Но, возможно, и его самого тоже кое-кто подослал. Вполне возможно, — многозначительно заключаю я.
— А я вам говорю! — азартно возражает Георгий Иванович и машет на меня руками, словно прогоняя из кабинета. — Я говорю, вы с ума сошли! — он все еще не в состоянии прийти в себя от услышанного. — Да, да! Я утверждаю! Идиотом же надо быть, господи боже мой!
— А Лев Игнатьевич, я полагаю, не идиот?
— Ого! Да он нас с вами съест, и мы не заметим. Опомнимся, когда уже переваривать начнет. Вот такой он идиот.
— Да-а, опасный человек. Но что же он не поделил с Гвимаром Ивановичем, как вы полагаете? У них ведь крупная ссора была. Это точно. Но из-за чего?
— Что же вы не понимаете? — саркастически усмехается Шпринц, поправляя съехавшие на кончик носа очки. — Какой-то колоссальный куш, не иначе. Я понятия не имею какой, это сам по себе тоже факт. Откуда мне знать? Я в их дела никогда не совался. И не суюсь. Я свое место знаю. И все! И точка!
— Но разве таким кушем не может быть богатейшая квартира Виктора Арсентьевича, вернее, его покойного тестя, академика? Да там одних картин на…
— Нет, нет и нет! Это сам по себе точнейший факт! — решительно мотает лысой головой Георгий Иванович и тут же снова выставляет перед собой растопыренные руки. — Но имейте в виду, я ничего не знаю! Решительно, вы понимаете? Я, повторяю, в их дела не суюсь. У меня на все официальные документы. Это абсолютный сам по себе факт! И все! И я больше ничего не знаю! Я, извините, хочу спать спокойно, вот так!
Георгий Иванович, видимо, пришел наконец в себя и подумал о собственной безопасности. Давно пора. Как легко, однако, он выходит из равновесия и ударяется в панику. Впрочем, новости на него обрушились, конечно, ошеломляющие. И он, наверное, на минуту только поставил себя на место Купрейчика и тем более Гвимара Ивановича и, естественно, пришел в ужас. Еще бы, есть от чего.
Я сейчас даже не пытаюсь как следует осмыслить всю полученную информацию. Я спешу добавить к ней кое-что еще, если это, конечно, окажется возможным.
— Вы спрашиваете, кто его убил? — обращаюсь я к Георгию Ивановичу, не давая ему возможности сосредоточиться на мысли о собственной безопасности.
— Да, да! — нетерпеливо откликается он, подаваясь вперед. — Весьма интересно.
— Убили ваши.
— Но, господи боже мой, кто наши, какие наши? — его снова охватывает волнение, почти паника. — С ума можно сойти! Ну говорите же, говорите! Чего вы замолчали? Ну, ради бога!
— Их имена вам ничего не скажут, — отвечаю я. — Хотя нет! Один из них как раз работал в этом магазине.
— Красиков! Этот проклятый Лешка, да? — почти обрадованно восклицает Георгий Иванович. — Верно я говорю или нет?
— Точно. Работал у вас, но не на вас, — усмехаюсь я.
— Это все, так сказать, до меня было. До меня, вы слышите? При Гвимаре еще.
— Не имеет значения. Он и на Гвимара Ивановича тоже не работал.
— А на кого же тогда? — напускает на себя наивность Шпринц.
— Подумайте сами.
— Ну на кого же, господи боже мой? — нетерпеливо восклицает Шпринц.
— А я не знаю, — загадочным тоном отвечаю я.
— Нет, знаете!
— И вы знаете, Георгий Иванович. Это сам по себе факт, — насмешливо говорю я.
— Я знаю?! — запальчиво переспрашивает он, не замечая моей иронии.
— Да, вы.
— А я только с вами согласился. Ведь это вы сказали, на кого он работает. На Льва Игнатьевича. Согласен!
— А на кого работает сам Лев Игнатьевич, как по-вашему?
— Ну, это я не знаю. Абсолютно. Уверяю вас.
— Как угодно, Георгий Иванович, — я пожимаю плечами. — Можете не говорить. Я же вас не заставляю.
Я, однако, убежден, что он знает. Я и то, кажется, начинаю кое о чем догадываться. Но я и в самом деле не собираюсь заставлять его отвечать. Оставим это на будущее и пока что не станем уважаемого Георгия Ивановича особенно прижимать неудобными вопросами. Интересно, а Кольку-Чуму он знает?
— Но Леха действовал не один, — говорю я. — Был и второй.
— Убийца? — содрогаясь, уточняет Георгий Иванович.
— Да.
— Какой ужас, какой ужас, господи боже мой. Бедный Гвимар, — снова начинает стенать Шпринц. — И кто же он такой, этот второй бандит?
— Ну, этого вы наверняка не знаете.
— Ах, откуда вы знаете, кого я знаю и кого не знаю! — раздраженно машет рукой Шпринц. — Да я полгорода знаю. Я…
— Фамилия его Совко.
— Совко? — оторопело повторяет Георгий Иванович, снова поправляя сползающие очки. — Действительно… Такой фамилии не слышал, это сам по себе факт, конечно. А зовут его как, подонка этого?
— Николай.
— М-да… Понятия не имею.
— Они оба поступили к кому-то в няньки.
— Это еще что такое? — вполне искренне удивляется Шпринц.
Но мне достаточно его удивления, и объяснять я, естественно, ничего не собираюсь.
— Сам не знаю, — отвечаю я. — Кто-то сказал.
Пожалуй, пора заканчивать этот интересный разговор и прощаться с малосимпатичным Георгием Ивановичем. Только напоследок сделаю, пожалуй, одно доброе дело.
Я наклоняюсь к столу и, понизив голос, говорю:
— Теперь вы понимаете, на что способен этот Леха?
— Еще бы не понять, господи боже мой! — восклицает Шпринц.
— Так вот, учтите. Если вдруг Лида пожалуется ему на вас, — доверительно говорю я, — то и мы, боюсь, вас не убережем. Это я считаю нужным предупредить. Ну, потом-то мы его, конечно, найдем. Обязательно.
Георгий Иванович заметно бледнеет.
— Спа… спасибо… — заикаясь, говорит он.
А мне, признаться, становится немного не по себе оттого, что я приплел сюда вдруг Леху, мертвого Леху, и заставил его хотя бы после смерти сделать что-то полезное для своих близких.
Я поднимаюсь и начинаю прощаться. Шпринц отвечает мне вяло, все еще, видимо, не в силах прийти в себя от нашей беседы.
За окном совсем уже стемнело. Сейчас около шести, и мне пора спешить. Я надеваю пальто, киваю Георгию Ивановичу и выхожу из его кабинетика.
Магазин по-прежнему пуст, и по-прежнему дремлет за прилавком продавщица в черном халате. Когда я прохожу, она поднимает голову, и я ей тоже киваю на прощанье.
На улице и в самом деле темно, хотя высоко над головой, на длинных изогнутых мачтах горят яркие лампы и вокруг них серебрится воздушный нимб.
Я иду в сторону набережной, не замечая прохожих, и чувствую, как у меня медленно разбаливается голова. Слишком уж много впечатлений за один день, слишком много важных сведений надо удержать в памяти. И сейчас мне предстоит еще одна встреча, очень важная — встреча с Хромым. Не забыть бы, ведь у него тоже какие-то счеты с Чумой, что-то между ними произошло. И случилось это давно и далеко отсюда, в Сибири, то ли в колонии, то ли потом, когда Хромой отбыл свой второй срок и вернулся в родной город. Да, скорей всего, потом, когда вернулся. Из-за этого Хромой и вынужден был в конце концов уехать из Новосибирска, убежать оттуда. Что же там произошло между ними, интересно знать? Какую роль тут сыграл Чума, какую подлую и гнусную роль? Надо в удобный момент расспросить Сергея, не забыть расспросить. Возможно, сам он этого разговора не начнет. А мне необходимо знать. Все необходимо знать, что касается Чумы. Ведь с ним еще предстоит немало повозиться. Очень опасен этот человек. Когда-нибудь он снова выйдет на свободу. Каким он выйдет, таким же опасным? Что надо сделать, чтобы таким он не вышел?
Размышляя, я сворачиваю на одну улицу, потом на другую, миную небольшую красивую площадь с умолкшим на зиму фонтаном и вскоре выхожу к набережной. Только здесь я прихожу немного в себя, стихает головная боль.
Я останавливаюсь у каменного парапета и с наслаждением вдыхаю соленый, терпкий воздух и подставляю брызгам лицо. Внизу уже привычно грохочут и бьются о камень невидимые волны, летит водяная пыль, я невольно слизываю ее с губ. И постепенно просто физически чувствую, как уходит усталость. Я совсем один на пустынной, темной набережной.
Внезапно до меня доносятся далекие голоса, они постепенно приближаются, я начинаю различать отдельные возгласы, разудалые, пьяные, похабные. Да, какая-то хулиганская компания приближается к тому месту, где я стою. Там, где идут сейчас они, набережная хоть и неярко, все же освещена редкими фонарями, но здесь она почему-то погружена в полную темноту. И потому меня не видно, а компанию эту мне постепенно удается разглядеть. Они идут в ту же сторону, куда надо и мне, идут по мостовой, занимая всю ее ширину, пьяно, азартно горланят, стараясь перекричать друг друга, кто-то приплясывает, кто-то пытается запеть. Опасная компания, встреча с ней одинокого прохожего, а особенно женщины, может кончиться трагически. Набережная длинная, и такая встреча может произойти в любой момент.
Все яснее вырисовываются фигуры идущих парней. Компания приближается. Меня им по-прежнему не видно. А я неожиданно замечаю среди них длинного, на голову выше остальных, парня. Неужели тот самый Славка? Это он восхищался Чумой, он плакал, когда уходила Лида… Конечно же это он.
И неожиданно, еще не отдавая себе отчета в том, что делаю, я решительно выхожу на середину мостовой и иду навстречу этой пьяной компания. Я только чувствую, что ее нельзя пустить дальше, нельзя, что-то может случиться ужасное, что-то непременно случится. А на моей стороне сейчас внезапность, важнейшая слагаемая успеха в любом рискованном деле такого рода. Но я все еще не могу решить, как ею воспользоваться, как себя сейчас повести. Впрочем, я по опыту уже знаю, все станет ясно, когда я увижу лица этих ребят, когда угадаю их настроение, их намерения. Именно так чаще всего и бывает в нашей непростой работе. А пока меня ведет одна интуиция и ощущение острой опасности, которую я должен предотвратить. Я еще не знаю, только чувствую, что что-то надо сделать, но как это сделать, станет ясно через минуту, нет… через полминуты… вот сейчас!
Мы сходимся на середине мостовой. Я возникаю перед ними из темноты так неожиданно, что вся компания на секунду умолкает от удивления и даже некоторого испуга. Слишком уж почему-то спокоен и уверен в себе этот одинокий, странный, возникший вдруг из темноты человек. Это не соответствует логике ситуации, когда, казалось бы, одинокий человек должен испугаться их, бежать. И тогда с гиканьем, свистом, гоготом кинется за ним в погоню вся эта бешеная стая, в упоении от своей силы, от своей жестокой власти над этим одиноким, испуганным человеком, от сладкого предвкушения дикой расправы с ним.
А тут, гляди-ка, он и не собирается бежать, он непонятно спокоен и уверен, и неизвестно, что у него на уме. И, как всегда, все непонятное настораживает, даже пугает.
Вот они уже столпились передо мной. Злые, пьяные, настороженные лица. Ждут. Но вот-вот кто-то из них сейчас не выдержит, выкрикнет что-то, остальные подхватят, завопят, и тогда…
Но я предупреждаю этот опасный взрыв. Я нахожу глазами высокого, всклокоченного парня в свитере и мятом пиджаке, крепко ухватываю его, притягиваю к себе и резко, сердито спрашиваю:
— Славка?
— Ну, — набычившись, говорит он. — Допустим, Славка. Что дальше?
Мне кажется, он не так пьян, как остальные.
— Отойдем, — говорю я. — Надо сказать два слова.
— Это мусор! — вдруг вопит один из парней и подскакивает ко мне. — Сапог! Я его видел! Бей его!
Он замахивается, и я вынужден, на миг развернувшись, быстрым прямым ударом с подсечкой опрокинуть его на мостовую. Удар, надо сказать, элементарный, парень ведь полностью раскрылся. Я при этом почти не меняю позы, а парень рушится на асфальт как подкошенный. Только бы остальные сейчас не кинулись на меня, все вместе, с разных сторон. Но удар производит впечатление.
— Кто такой? — хмуро спрашивает меня Славка.
— Приезжий. Привет тебе от Чумы, — тихо говорю я.
— О-о! Погоди, ребята. Я сейчас! — оживляется Славка.
Мы отходим. Остальные сгрудились вокруг упавшего, помогают ему подняться и обсуждают мой удар. В дискуссии, как мне кажется, преобладают уважительные, а то и восхищенные нотки. При этом моя принадлежность к милиции остается под большим вопросом.
А я тихо говорю Славке:
— Чума загремел в Москве. Наглухую. И на много лет. За ним там убийство. — Последнее я нарочно говорю не на воровском, привычном для Славки жаргоне. — И еще попытка убийства работника милиции.
— Это не много лет, это вышка, — глухо говорит Славка.
— Что уж там бог и митрополит дадут, то и возьмет. Деться ему некуда теперь. И все плохо. А тебя, Славка, Лида ждет, — неожиданно заканчиваю я.
— Ну! — теперь уже он хватает меня за пальто. — Не трожь, понял?
Я в ответ пожимаю плечами.
— Гляди сам. Не упусти только. Сколько, по-твоему, можно ждать такого дурака? — И неожиданно спрашиваю: — К Хромому топаете?
— Ага… — рассеянно отвечает Славка.
— Чего от него надо?
— Чума велел. Всех продает.
— Кого же он продал?
— Чума знает.
— Понятно. Он, значит, и тут решил чужими руками все сделать. Как в Москве. Там он на убийство Леху толкал.
— А что Леха, лопух?
— А ты что, лучше Лехи? Что у тебя лично к Хромому есть?
— Ну ничего. Но, похоже, стучит.
В Славке начинает снова закипать злость.
— Похоже? — угрожающе переспрашиваю я. — А не похоже, что ты мне сейчас тоже стучишь? Чем докажешь, что нет? Вон им, — я киваю на ребят.
— Но, но, — сразу ощетинивается Славка. — Ты потише.
— Вон им это скажи. Гляди, как смотрят.
И правда. Вся компания сейчас настороженно, подозрительно прислушивается к нашему разговору, медленно и незаметно придвигаясь все ближе. Их человек шесть. Последние мои слова они наверняка слышали. И их начинает раздражать непривычная скованность, которая вдруг всех охватила. А причиной тому я, непонятный, чем-то враждебный им человек, и еще, кажется, Славка. А их по-прежнему распирает пьяная удаль, привычное желание драки, криков, ругани, крови, наконец.
— Эй, ты! Вали отсюда! А то схлопочешь сейчас, понял?! — кричит мне кто-то из них. — На нож поставим!
Смотри пожалуйста. Они меня просят удалиться, они даже не собираются, оказывается, на меня нападать, они лают издали, как злые и трусливые собаки.
— А мне с вами по дороге, — усмехаюсь я и громко обращаюсь к Славке: — Ну что, заглянем к Хромому? Или у тебя другое дело есть? — И, понизив голос, добавляю: — Иди, Славка. Иди к ней. Она тебя ждет. Я ее видел сегодня. Знаешь, как она плакала?
Славка стоит потупившись и тяжело, как-то надсадно дышит. Он не знает, на что ему решиться, что делать. И нервы его, я чувствую, натянуты сейчас до предела. Я крепко беру его за плечи, разворачиваю и толкаю в спину.
— Ступай, — приказываю я.
И Славка не сопротивляется.
— Все, ребята, — объявляю я по-хозяйски, словно уже взял в свои руки какую-то власть над ними.
Я сейчас испытываю знакомый, хотя всегда мне и непонятный подъем, который обычно охватывает меня в критическую минуту, ощущаю вдруг необычайную веру в себя, в свою силу, в свою удачу, и это, я знаю, неизменно воздействует на окружающих.
— Все, ребята, — решительно повторяю я. — Убрать перо! — кричу я вдруг, больше ощущая опасность, чем видя ее.
И один из парней мгновенно прячет нож обратно в карман.
— Так вот, — продолжаю я, указывая на Славку. — Он идет к жене. Имеется жена, понятно? А мы идем к Хромому. И по дороге я вам сейчас кое-что скажу про него. — И тихо добавляю Славке в спину: — Иди, иди.
И делаю шаг к ребятам. Еще шаг, еще… Они молча, настороженно следят за мной. Они ждут, что будет дальше. А я подхожу, спокойно, уверенно раскидываю в сторону руки, чтобы ухватить за плечи двух ближайших из парней, и тем довольно рискованно подставляю под любой удар грудь.
— Пошли, блатнички, — весело говорю я. — Пошли, пока ходится.
Я увлекаю их за собой. Они не очень уверенно подчиняются.
Славка смотрит нам вслед. Представляю, какая борьба происходит сейчас у него в душе. Уйдет он? Нет? Уйдет…
— Стой!.. — вдруг орет Славка и срывается с места, бежит за нами. — Стой, сволочи!.. Порежу!.. Стой!.. Порежу!..
Он выхватывает из кармана нож, подбегает к нам и начинает исступленно размахивать им вокруг себя. Лицо его перекошено от бешенства, на губах выступают белые пузырьки пены, он почти невменяем. И в какой-то неуловимый миг он вдруг наносит себе удар, потом второй, прежде чем я успеваю выбить нож из его руки.
Славка с коротким воплем валится на асфальт, ребята кидаются к нему, пытаются поднять, он не дается, бьется у них в руках, рычит:
— Убью… Кровью зальюсь… Уйди… Уйди…
Он вырывается, стонет.
А один из ребят вдруг поднимает вверх мокрую руку и отчаянно кричит:
— Он кровь пустил!..
Славка словно ждет этого крика. Он вдруг опрокидывается на спину, хрипит и, кажется, в самом деле теряет сознание.
Мы все вместе тащим его на руках по улице. Вскоре я останавливаю первую проходящую мимо нас машину.
— В больницу! — кричу я водителю, задыхаясь. — Срочно! Вот эти двое с вами поедут.
И указываю на первых же подвернувшихся мне под руку ребят. Те безропотно лезут в машину.
С остальными я молча возвращаюсь на набережную. Ребята притихли, и хмель, кажется, окончательно выветрился у них из головы.
— Вот так-то, — укоризненно говорю я. — Не выдержал Славка.
— Псих, — откликается один из ребят.
— Отродясь он психом не был, — возражает другой. — Просто накатило.
— Видать, жену любит, — встревает в разговор третий парень.
Четвертый отмалчивается. Их со мной осталось четверо.
— Ну что, пойдем к Хромому? — предлагаю я.
— Чего нам у этого гада делать? — зло спрашивает первый из парней, назвавший Славку психом. — Его на нож ставить будем. Увидишь.
Я все еще не могу их всех как следует разглядеть. Кажется, этот старше других.
— Пора, соколики, кончать эту поганую блатную жизнь, — говорю я. — Сами видите, чего из нее получается. Чуму знаете?
— Ага, — отвечает за всех все тот же парень, постарше.
— С ним кончено, — жестко говорю я. — Снова его увидите, когда состаритесь. А то и вовсе на том свете. В Москве по мокрому сидит. Ну, и, конечно, все старается на Леху свалить.
По-моему, они до сих пор не могут понять, кто я такой, и теряются в догадках.
— Это он умеет, на других валить, — неожиданно заявляет один из парней.
— Твой кореш, Жук, — обращается он к тому, кто постарше. — Много ты ему лизал.
— Кончай, Рыжий, — примирительно говорит третий, молчаливый парень.
— У-у, зараза!..
Жук кидается на Рыжего, но тот же молчаливый парень ловко подставляет ему ножку, и Жук, падая, хватается за меня. Я его ставлю на ноги и говорю:
— Погоди, ребята. Слушай дальше. Не все еще. С Чумой ясно?
— Куда уж яснее, — отвечает Жук. — А не брешешь?
— Брешут псы. Теперь Леха. Вот он уже помер. Нету Лехи.
— Ну да? — недоверчиво откликается Жук.
Я уже стал отличать его в темноте.
— Точно говорю, — подтверждаю я. — Под машину попал. Спер, понимаешь, чемодан с поезда и дунул через вокзал на площадь. Ну, а там машина. И все. Вот такая поганая смерть.
— Бог наказал, — насмешливо говорит Рыжий. — Не бери чужого.
Я его тоже начинаю отличать — он тощий, подвижный и к тому же еще, видно, балагур.
— И вот глядите, — продолжаю я. — Третий теперь уже с рельсов сходит, Славка. У вас, можно сказать, на глазах. Ну, кому такая жизнь светит?
Мы проходим темную часть набережной, и теперь у нас над головой в легком тумане светят яркие молочные лампы. И тут я наконец могу как следует рассмотреть своих спутников. Между прочим, ребята как ребята. Ничего разбойничьего в них уже нет. Даже чем-то симпатичные, по-моему, когда трезвые. Особенно Рыжий и второй, молчаливый, по имени Гарик. Да и Жук, кажется, неплохой малый. Он-то меня неожиданно и спрашивает:
— А ты сам-то кто будешь?
— Приезжий, — отвечаю я беспечно. — Из Москвы.
— Мент небось?
— А похож?
Они уже давно приглядываются ко мне, я же вижу, и про себя каждый решает эту немаловажную проблему, кто я такой, в конце концов.
— Вроде не очень, — с сомнением в голосе говорит молчаливый Гарик.
— Похож, похож, — словно успокаивая всех, говорит Жук. — Они теперь все знаешь какие стали? От отца родного не отличишь.
— Только когда отец с тебя портки стянет и за ремень возьмется, вот тогда его, сердечного, узнать можно, — смеется Рыжий. — Тогда его с ментом не спутаешь.
Мы подходим к мастерской хромого Сережки, и вопрос обо мне так и остается временно не решенным.
— Ну, кто со мной? — спрашиваю я.
— Не. Мы тебя тут обождем, — снова за всех отвечает Жук. — Рано еще нам к Хромому в гости ходить.
— Ладно, — соглашаюсь я. — Тогда ждите. Кое о чем еще надо поговорить.
— Давай, — говорит Жук. — По-быстрому только.
Я киваю в ответ и толкаю дверь мастерской.
Несмотря на поздний час, она открыта. Я захожу.
Сиротливо горит лампочка над низенькой табуреткой за барьером, вокруг нее, как и вчера, разбросаны инструменты, старая обувь, куски кожи.
Пусто. Никого в мастерской нет. Я удивленно оглядываюсь и вдруг замечаю притаившегося за моей спиной Сергея. Он весь словно влепился в темную стенку, в руке у него нож.
Сергей медленно приближается ко мне, заметно припадая на больную ногу, прячет нож в карман, незаметным движением сложив его пополам, и протягивает мне руку. Это молниеносное движение руки с ножом я оцениваю по достоинству. Опасное движение, ловкое. Сергей жмет мне руку. Светлая прямая прядка волос прилипла к вспотевшему лбу. Но сейчас Сергей улыбается, показывая мелкие острые зубы.
— Опаздываешь, — говорит он. — А точность — это вежливость королей, между прочим. Пролетариям надо учитывать.
— Зато не один пришел, — многозначительно говорю я.
Сергей кивает.
— Видел. Потому и приготовился. Чего тебе от них надо?
— И мне надо, и тебе. Дружбы и понимания.
— Жди от этих волков понимания.
— Почти дождался. Теперь они вон меня дожидаются. Ну, а завтра вместе, надеюсь, в больницу пойдем.
— Это еще зачем?
Разговаривая, Сергей запирает дверь мастерской на засов и ведет меня в заднюю комнату. Мы усаживаемся возле стола, и я закуриваю.
— Зачем в больницу? — повторяет Сергей.
— Славка порезал себя сейчас.
— Ну да?! — удивленно восклицает Сергей. — Лепишь.
— На моих глазах. Даже, пожалуй, из-за меня.
— Это как же понять?
— Душу я ему разбередил. Не учел, понимаешь, что нервы-то у него никуда.
— Это у Славки-то душа? — иронически спрашивает Сергей.
— У него.
— У него вместо души сучок с наклейкой.
— Мы, Сережа, часто в людях до их души не докапываемся. А там порой всякие, понимаешь, неожиданности нас ждут, всякие открытия.
— Ну и что ты у Славки открыл, интересно?
— Любовь. Он ее затоптать думал. А я вот ее воскресить попробовал.
— Красиво говоришь, — грустно усмехается Сергей.
— А что? Не все в жизни плохо, — возражаю я. — Есть кое-что хорошее, даже красивое. И у Славки тоже. Кстати, и остальные ребята не такие уж пропащие, если разобраться.
— Это все пока, — машет рукой Сергей. — Найдут главаря вроде Чумы, увидишь, чего творить начнут. Ахнешь.
— А вот главарем, Сергей, должен стать ты, — тихо говорю я.
Он вскидывает голову и пристально, недоверчиво смотрит мне в глаза.
— Вполне серьезно говорю, — отвечаю я на его немой вопрос. — Сейчас они еще колеблются. Но завтра, после больницы, они колебаться перестанут, я знаю. И примут тебя. А дальше все будет зависеть от тебя самого. Надо спасти этих ребят, Сергей.
— Это точно, — задумчиво соглашается он.
— Начинай с Жука, — советую я.
Сергей все так же задумчиво кивает и вдруг усмехается:
— А ты, я гляжу, мастер.
— Еще только хочу им стать. Учитель мой в Москве остался. Ну ладно, Сергей. Теперь ты рассказывай, если есть что.
— Кое-что есть. Человек у меня утром был. Сказал так: этих двоих, Чуму и Леху, точно наняли. И в Москву недавно послали.
— Для этого и наняли?
— Не-а. Их давно наняли. Для охраны вроде. И в Москву отправили для этого.
— Счеты сводить?
— Ну, это точно никто не знает.
— А квартира?
— Не их работа.
— Не-ет, тут ошибки быть не может. В квартире нашли перчатку Чумы. Обронил он ее там. Куда дальше-то?
— Это сам разбирайся. На то ты и мастер. А вот про мокрое дело их в Москве здесь уже знают.
— Не все.
Я вспоминаю испуг Шпринца.
— Кому надо, тот знает.
— А от кого знает?
— Вот ты мне тогда имя одно назвал… — досадливо щелкает пальцами Сергей. — Как его?.. Ну-ка, напомни.
— Виктор Арсентьевич?
— Не-а.
— Лев Игна…
— Во, во! Игнатьевич! Лев Игнатьевич!
— Тебе случайно о нем ничего не сказали?
— Вроде он живет в Москве, а работает на здешних.
— А что за человек у тебя был?
Сергей качает русой головой.
— Неохота его подставлять, Виталий. Слово дал. Привык держать.
— Ну что ж. Тоже верно. Оставим это тогда, — киваю я. — Итак, выходит, Лев Игнатьевич работает на кого-то, кто Чуму и Леху нанял, так, что ли?
— Вроде так.
— Кто же это может быть и чем занимается, интересно знать.
— У них бизнес какой-то, — поясняет Сергей. — Дикую деньгу, говорят, зашибают. А кто, не знаю. Но тут они сидят, у нас. Один, говорят, на синей «Волге» катает. Регулировщики будто бы честь отдают.
— Интересное кино, — усмехаюсь я. — Взглянуть бы самому.
Сергей снисходительно машет рукой.
— Ну, может, и брешут насчет «Волги», кто их знает.
— А за что Гвимара Ивановича прикончили, тоже не знаешь?
— Вроде бы этот самый Лев и приказал. Чем-то ему тот мужик помешал.
— М-да… Что-то не складываются картинки, — задумчиво говорю я, стряхивая пепел с сигареты. — Что-то мешает…
— Шевели мозгами давай. Тебе за что платят? — смеется Сергей. — Хотя и не густо, я слыхал. Но иной раз я, например, и бесплатно шевелю. Особенно там пришлось шевелить, в местах далеких, на окраине.
— Решал, как жить дальше?
— Во-во. И где жить.
— Сергей, — неожиданно спрашиваю я, — а кто у тебя отец с матерью были?
— А что? — сразу настораживается он.
— Да так, — улыбаюсь я. — Язык у тебя такой, не типичный.
— Отец у меня завгаром был, а мать учительницей русского языка. Ну, и литературы, конечно. Много у нас книжек дома было.
— Ну, а потом?
— Потом помер отец. Несчастный случай в гараже. Мать одна осталась. Я тогда уже второй срок тянул. Ну, болела, болела и за отцом ушла. Все без меня… Эх!..
Он умолкает и пристально смотрит куда-то в пространство перед собой, словно что-то видит там и не может оторвать глаз.
— Но почему же так, Сергей? — снова спрашиваю я. — Вот ты говоришь, что кодлу не признаешь. Как же судимости тогда схватил, одну, вторую?
Сергей хмурится.
— Тебе это для дела надо или так? — нехотя спрашивает он.
— Для размышлений. Ты уж мне поверь.
— Верю, — кивает Сергей. — Первая судимость — драка. Пошла по первой части двести шестой. Вторая судимость — опять драка, уже пошла по части второй. Схлопотал три года усиленного. Первый раз — за друга вступился. Второй раз… за женщину, словом. Тут уж я кое-кого порезал. Тут мы с Чумой первый раз и сошлись.
— Его порезал?
— Его…
— Можно ему это напомнить при случае?
— Напомни, напомни. Веру напомни. Он на стенку полезет. Как тогда от меня лез, шкуру спасал, — он стискивает зубы и умолкает.
— Как же дело было?
— Ох, Виталий, — вздыхает Сергей, по-прежнему глядя куда-то в сторону.
— Я вижу, ты и до моей души решил докопаться?
— Если тяжело, не говори.
— Нет. Скажу. Пусть, гад, вспомнит. Это моя девушка была, — Сергей злобно ударяет кулаком по столу. — Он ее искалечил. Не доказали только. Тогда я сам с ним посчитался. Надо было кончать, да рука дрогнула. Уполз.
«Как у Лехи», — с неожиданной тоской думаю я.
— Где же Вера сейчас?
— Не знаю, — глухо отвечает Сергей, опустив голову. — После тюрьмы я к ней явиться не смел. А потом и хромым стал.
— Чума?
— Не-а. Дружков подослал. И жизни мне в Сибири не стало. Сюда подался. А потом вдруг он сюда прибыл. Ну, и опять началось. Однако встретиться со мной боялся. Хоть и одна нога у меня осталась. Знал, пока руки есть, я ему горло рвать буду. Потому других подсылает.
— Теперь конец, Сергей, — говорю я. — Всему этому конец.
Некоторое время мы сидим молча. Я докуриваю сигарету и поднимаюсь. За мной поднимается и Сергей.
— Пойду, — вздохнув, говорю я. — Завтра жди… нас.
Сергей кивает в ответ:
— Буду ждать.
Мы снова проходим через мастерскую, на пороге я жму ему руку, крепко жму и смотрю в глаза. Сергей через силу улыбается.
Я толкаю дверь и выхожу.
На полутемной, пустынной набережной свирепо свистит ветер и грохочут волны. Погода разгулялась.
Я оглядываюсь и вижу невдалеке ребят. Они стоят возле какого-то подъезда, курят и о чем-то горячо спорят. Я подхожу, и они умолкают.
И вот мы снова идем по набережной, спокойно идем, все вместе. Ребята провожают меня до гостиницы. Тут мы прощаемся.
Утром я иду в управление вместе с Давудом. Он зашел ко мне в гостиницу, и мы вместе позавтракали в буфете. Давуду не терпится узнать всякие новости. И я ему подробно рассказываю о своих вчерашних встречах. При этом я ощущаю очевидные неясности, недоработки и даже всякие тупики в нашем деле. Вернее, тупик. Проклятая квартирная кража у Купрейчика. Она произошла — это, как говорит Шпринц, «сам по себе абсолютный факт», но она же и не могла произойти, это тоже факт. Вернее, ее не могли совершить ни Семанский, ни Лев Игнатьевич и организовать тоже не могли. Это категорически утверждает Шпринц, и ему можно верить, тут есть своя логика. Дальше. Имеются данные, что в краже не участвовали ни Леха, ни Чума. Кроме того, что это отрицает источник Хромого, об этом же говорят и собранные нами в Москве данные — оба они в то утро были якобы совсем в других местах: Чума — у Музы, а Леха — у Полины Тихоновны. Но с другой стороны, Чума, как тут ни крути, все же потерял перчатку в квартире Купрейчика. К тому же вся четверка бесспорно кружила вокруг этой квартиры. Вернее, шестерка — были еще два московских сообщника, Гаврилов и Шершень. Словом, в этом пункте с квартирной кражей безусловный тупик, и как из него выкарабкаться, совершенно непонятно.
Однако пока что надо завершить дела здесь. И это тоже непросто. Я чувствую, что втягиваюсь в какую-то незнакомую мне область «экономических» отношений, а вернее даже — преступлений, связанную с магазином Шпринца, с какими-то московскими поставками пряжи, в которых участвует и все еще неведомый нам Лев Игнатьевич. Кроме того, если вы помните, Шпринц очень мельком, даже, я бы сказал, нечаянно упомянул Ермакова, Гелия Станиславовича Ермакова. Значит, из трех Ермаковых оперативный интерес представляет именно он. Да, область эта мне мало знакома, консультироваться же с Окаемовым у меня нет желания, я не доверяю ему. Лучше на время пригасить его активность.
Обо всем этом я размышляю, пока мы с Давудом идем уже хорошо мне знакомыми улицами в управление.
Я забыл сказать, что вчера вечером, как только простился с ребятами и зашел к себе в номер, сразу же позвонил дежурному по городу и попросил немедленно выяснить, в какую больницу доставлен с ножевыми ранениями Славка Солодухин, каково его состояние, а также немедленно отпустить, если они задержаны, двух парней, которые привезли Славку в больницу. А у Славки, оказывается, проникающее ранение, задевшее печень. Так что в больнице ему придется проваляться долго, и хорошо еще, если все обойдется благополучно. Я рано утром, еще до прихода Давуда, позвонил Лиде, пока она не ушла на работу. Бедная, как она заволновалась и, конечно, помчалась в больницу. Ее даже не пришлось просить об этом. Я лишь рассказал, как Славка, оказывается, переживает разрыв с ней.
Придя в управление, мы с Давудом обсуждаем куда более сложную и деликатную операцию. Дело в том, что мне хотелось бы лично познакомиться с Гелием Станиславовичем Ермаковым, директором магазина готового платья, о котором так неосторожно упомянул Шпринц в минуту сильного душевного волнения.
В конце концов, мы с Давудом кое-что придумываем. Ого, двенадцатый час! Мне уже пора в больницу к Славке. Там меня будут ждать ребята, если, конечно, не обманут. Не должны. Славкина история здорово, кажется, на них подействовала. Как, впрочем, и судьба Чумы, да и Лехи тоже. Есть о чем подумать даже самому отпетому из этой компании.
Больница, как я выясняю, находится довольно далеко от управления, но я все же решаю отправиться туда пешком, времени должно хватить, а полезным привычкам изменять не следует.
Сегодня здесь совсем тепло, ярко светит солнце с голубого, без единого облачка неба, и ласковый ветер треплет волосы. Влажный асфальт даже слегка дымится. О недавнем снеге напоминает только черная грязь во дворах.
Шагается легко, весело бегут мимо чисто умытые троллейбусы, автобусы. Даже прохожие кажутся мне словно помолодевшими, радостно оживленными. Среди обгоняющих меня машин я неожиданно замечаю ярко-синюю блестящую «Волгу» с красивыми дополнительными фарами и зеркальцами и сразу вспоминаю слова Хромого о каком-то неведомом деятеле здесь, который якобы разъезжает в собственной синей «Волге». И невольно обращаю внимание на номер промчавшейся мимо машины.
Я все иду и иду. Уже начинаются совсем незнакомые улицы, в этом районе города я еще не был. Приходится даже спрашивать дорогу у прохожих. Все очень охотно и подробно объясняют, иногда останавливаются двое или трое, и тогда возникают даже короткие диспуты. Почти как у нас в Москве.
Вот, наконец, и больница. Вернее, это целый больничный городок. В большом зеленом парке разбросаны бесконечные корпуса, то совсем старые, низенькие, с какими-то допотопными колоннами, а то новые, светлые и очень гордые, самоуверенные какие-то. На перекрестках аллей стоят столбики с укрепленными на них голубыми стрелами, где обозначены номера корпусов. Мне нужен четырнадцатый. Хотя и не сразу, но все же довольно скоро я его нахожу. Он новый, двухэтажный и очень длинный, почти невидимый за стеной деревьев и необычайно густых, высоких кустарников.
Возле входа На белой скамье сидят мои ребята. Их только двое, Жук и Рыжий. Да, всего лишь двое из шести. Вид у них несколько, я бы сказал, скованный и какой-то взъерошенный. Уж очень непривычная обстановка здесь, я понимаю. Неизвестно, как себя вести. Но Славку все же решили проведать.
Я подхожу. Ребята поднимаются мне навстречу и вполне дружески тискают руку.
— Где же остальные? — спрашиваю я.
— Их дело, — угрюмо отвечает Жук.
А Рыжий ухмыляется.
— Наметились разногласия, — сообщает он. — Что им светит, нам с Жуком светить перестало. К едрене Фене все это. С Чумой вместе.
— Слышь, тебя как звать-то? — спрашивает меня смуглый черноволосый Жук.
— Виталий, — говорю я, улыбаясь. — Кличка Мент или Отец родной, как пожелаете.
Оба добродушно смеются.
— Я же говорил, что мент! — хохочет Рыжий. — Вот такой мент мне подходит.
— А ты у Арсика спроси, ему подходит? — ухмыляется Жук.
— Это кто такой? — интересуюсь я.
— А которому ты вчера прием показал, — уважительно пояснил Жук. — Сегодня, говорит, проснулся, рукой шевельнуть не может.
— Ты, Виталий, с детьми поосторожнее, — смеется Рыжий. — Я слыхал, год ребенка сейчас.
— Баловник попался, — улыбаюсь я. — Острые игрушки любит.
— Как там Славка-то? — с напускным равнодушием спрашивает Жук.
— Плохо, — я невольно хмурюсь. — Проникающее ранение печенки. Знаешь, что это такое?
— Догадываюсь, — резко отвечает Жук. — Не помер бы часом.
Мы заходим в просторный прохладный вестибюль.
— Ребята, — негромко и строго говорю я, — по особому разрешению халаты сейчас выдадут всем. Прошу, — с ударением продолжаю я, — чтобы было тихо. И всего разрешено видеть пятнадцать минут. Состояние тяжелое. Жена около него.
— Во, — одобрительно кивает головой Жук, — это дело. — И неожиданно добавляет: — Цветочков бы принести, как положено.
— Могу сбегать нарвать, — лукаво предлагает Рыжий.
Но шутку никто не поддерживает.
Мы по очереди получаем в гардеробе халаты. Нянечка поглядывает на нас с опаской и с любопытством. Интересно, чего ей про нас сказали. Она даже не спрашивает, к кому мы идем. Все ей, очевидно, известно.
Мы проходим через стеклянную дверь в длинный коридор. Вокруг стены, белые двери, вдали видим столик дежурной сестры. Нужная нам палата оказывается совсем близко. Стучать, кажется, не принято. Я просто нажимаю ручку, и дверь открывается. Мы гуськом заходим.
Палата большая, светлая и душная. Коек много, стоят тесно, в два ряда.
Возле одной из коек, около самой двери, я вижу заплаканную Лиду. Она поднимает голову и боязливо смотрит на нас. Мы молча протискиваемся к кровати, и я спрашиваю у Лиды:
— Вы что же, меня не узнаете?
— Ой, это же вы! — тихо восклицает Лида — Правда, не узнала. А это?..
— Это товарищи Славы, — коротко поясняю я.
Жук неожиданно пробирается к ней и протягивает руку.
— Володя, — говорит он.
Я смотрю на Славку. Он лежит бледный, с закрытыми глазами и все время тихо стонет. Изредка по лицу пробегают легкие судороги. Плохо ему.
Несколько минут мы стоим молча, не отрывая глаз от Славки, потом так же молча прощаемся с Лидой и выходим из палаты. В гардеробе возвращаем нянечке халаты. Ребята хмуры и неразговорчивы.
Только в парке мы немного приходим в себя. И Жук задумчиво говорит, с трудом подавляя раздражение:
— Да-а… Ну его к…, Чуму этого со всеми его сказочками.
— Точно, — усмехается Рыжий. — Вместо него у нас теперь Виталий будет. А вместо сказочек — Уголовный кодекс. — И, обращаясь ко мне, спрашивает: — Всех нас на карандаш взял, так, что ли?
Он смотрит на меня, однако, вполне дружелюбно.
— Зачем на карандаш? — я пожимаю плечами. — Достаточно, я думаю, взаимного понимания и понимания момента, конечно.
— Да уж, момент серьезный, — бурчит Рыжий.
— А потому есть предложение, — говорю я. — Сегодня вечером собираемся у Хромого. Он нас ждет. Я предупредил. У этого парня, если вы мне верите, есть характер, совесть и светлая голова. На него можно положиться.
— Кому, мильтонам? — не удержавшись, ехидно спрашивает Рыжий.
— Цыц! — обрывает его Жук. — Со Славкой лечь хочешь? Тогда ступай отсюда — И добавляет: — Виталий сказал, я принял. Все. Вечером у Хромого.
— И я принял, — соглашается Рыжий.
— Значит, сговорено, — объявляет Жук. — Я пошел. На, держи.
Он подает мне руку.
Мы уже на улице. Ребята, молчаливые, хмурые, уходят в разные стороны.
Но вечером, я надеюсь, мы соберемся у Хромого. Я приведу и Давуда, познакомлю ребят с ним. Моего друга они примут, я убежден. Ведь я их кое от чего спас, и оба, кажется, это поняли и мне поверили. Это здорово, скажу я вам, это просто отлично. Пусть пока их двое. Но если бы я добился только этого, приехав в Южноморск, то, честно говоря, посчитал бы, что приехал недаром.
Все это будет вечером. А пока что я иду в центр города, отыскиваю хорошо запомнившуюся мне красивую улицу, где среди бесчисленных магазинов расположился и нужный мне магазин готового платья, образцово-показательный Магазин с симпатичными продавщицами и выдающимся молодым директором.
Я без особого труда нахожу этот магазин, хотя был тут всего один раз. Зрительная память у меня профессиональная.
В магазине меня, как и в первый раз, окружают вниманием. Я разглядываю один костюм за другим, придирчиво разглядываю, со знанием дела, обсуждаю с молоденькой продавщицей их фасон, покрой. Я тяну время. Неужели и сейчас мне не повезет? Но нет. На этот раз везет. В зале неожиданно появляется человек лет сорока, невысокий, стройный, с длинным холеным лицом, на тонком носу изящные очки в светлой оправе, темные волосы модно подстрижены, как у эстрадного артиста, и аккуратно прикрывают уши. Большие эти вялые уши — единственный, кажется, признак далекого родства с рыночным верзилой Ермаковым, у того уши точно такие же. На Гелии Станиславовиче очень красивый костюм, темно-серый, спортивного покроя пиджак и светло-серые брюки из плотной ткани в «елочку». И еще я обращаю внимание на глаза Гелия Станиславовича, умные, зоркие, спокойные, чуть ироничные. Очень неглупый господин, очень. Сейчас он почему-то направляется прямо ко мне и приветливо улыбается.
— Здравствуйте, дорогой товарищ, — говорит он. — Удовлетворяет ли вас наш ассортимент и обслуживание?
Я рассыпаюсь в комплиментах его магазину, Гелий Станиславович слушает внимательно и одобрительно. И очень внимательно оглядывает меня, потом уже другим тоном спрашивает:
— Ну, а что вам лично требуется?
— Модная сорочка бежевых теплых тонов. Такой здесь, к сожалению, нет.
— А костюм вам не требуется, отличный финский костюм?
— Пока нет.
— Жаль. Имеется ваш размер. Когда потребуется — заходите. Прямо Ко мне. Надо дорожить такими покупателями, — улыбаясь, приветливо говорит Гелий Станиславович, но в глазах его холодок и настороженность.
И меня вдруг охватывает какое-то беспокойство, ощущение допущенной ошибки. Но я решительно не могу понять, откуда это ощущение взялось, а понять необходимо, и потому я не собираюсь пока что заканчивать так легко завязавшийся разговор.
— Спасибо, спасибо, — говорю я. — Если буду еще раз в вашем городе, то непременно загляну к вам.
— Вот и мне, представьте, показалось, что вы приезжий, — подхватывает, Гелий Станиславович, продолжая улыбаться. — Вы не из Москвы?
— Именно. Но и в Москве далеко не каждый магазин так хорош, как ваш.
— А вы у нас в городе еще долго пробудете? — вежливо интересуется Гелий Станиславович.
— К сожалению, завтра улетаю. А впрочем, слава богу. Надоела гостиница, слякоть, ресторанная еда, скука. Хочется домой.
Гелий Станиславович сочувственно кивает.
— Служебная командировка? — усмехнувшись, спрашивает он.
И усмешка его мне не нравится.
— Именно. Вот, может быть, летом приедем сюда с женой отдыхать, тогда другое дело, — говорю я, вздыхая. — Тогда, может, и костюм у вас куплю.
— Пожалуйста. Заходите.
Гелий Станиславович любезно прощается со мной и задумчиво смотрит мне вслед, поглаживая пальцами бритый подбородок.
Я выхожу на улицу и вижу, как большой автофургон с фирменной надписью «Готовое платье» осторожно въезжает в соседний двор, куда, видимо, выходят служебные помещения магазина. И я, проходя мимо ворот, невольно в этот двор заглядываю. Фургон медленно подается задом к распахнутой двери магазина, возле которой его уже поджидают двое рабочих в серых халатах. Сейчас начнется разгрузка.
Мой взгляд обегает двор, и неожиданно я замечаю чуть в стороне от двигающегося фургона, возле стены, уже знакомую мне сверкающую синюю «Волгу», ту самую, что я видел сегодня на улице.
В это время мне навстречу выходит со двора какой-то небритый человек с кошелкой в руке, и я восхищенно спрашиваю его, указывая в глубь двора:
— Это чья же такая красавица стоит, интересно знать?
— Ну-у, — жмурясь, мечтательно цокает языком человек с кошелкой. — Ясно чья, директорская. Здесь, брат ты мой, такой директор, что ого-го! Будь здоров и не кашляй, одним словом. Понял ты?
— И спокойно живет?
— А чего ему спокойно не жить, спрашивается, коли такие деньги есть? — иронически усмехается мой собеседник.
— Все до поры, — говорю я.
— Э, браток, пока эта пора настанет, нас с тобой давно закопают. Хотя… — он оглядывает меня и снова усмехается. — Ну, ты еще, может, и доживешь.
— Постараюсь, — серьезно отвечаю я.
И мы, кивнув друг другу, расходимся. Человек, позвякивая чем-то стеклянным в своей кошелке, торопливой рысцой направляется к расположенному невдалеке продуктовому магазину.
Я не спеша бреду по улице и пытаюсь сообразить, какой все-таки промах Допустил с Гелием Станиславовичем. Не случайно возникло у меня это ощущение, нет, не случайно. Я даже могу точно передать диаграмму его состояния в ходе нашего разговора. Сначала была очевидная, подозрительная, почти враждебная настороженность, словно он ждал этой неприятной для него встречи. Потом он как будто успокаивается. А под конец вдруг мелькает эта усмешка, презрительная, мне кажется, усмешка, как бы говорящая: «Ну, тебя-то я не боюсь, тебя-то, я вижу, бояться нечего». Неужели таким я ему показался дурачком? Это бы неплохо, совсем неплохо. Прошло время, когда такая усмешка могла меня задеть и обидеть. И все же вначале-то была подозрительность, даже опаска! Откуда? Значит, промах был совершен в момент моего прихода. Или даже еще раньше? Но тогда… Что тогда?
Вот и управление. Я разыскиваю Давуда, и мы уже вместе обдумываем все с самого начала. Возможно, кто-то нас с ним видел вместе. Произошла какая-то не замеченная нами случайная встреча. Как у меня с той синей «Волгой». Давуда узнали, меня зафиксировали. И об этом, видимо, сразу стало известно Гелию Станиславовичу. Или же Шпринц сообщил о нашей встрече и описал мою внешность. Это, пожалуй, самое вероятное. Но все это было бы еще полбеды, не появись я в магазине. И Гелий Станиславович, конечно, сразу меня узнал. Ах, какой досадный промах! Придется и об этом доложить своему руководству, то есть Кузьмичу. Представляю, что он мне при этом скажет.
Вечером мы с Давудом идем к Хромому. А вслед за нами появляются в мастерской и мои ребята. Их по-прежнему двое. Но можно считать, что опасной той компании, в том виде, как она была, уже не существует. Во всяком случае, она стала куда менее опасной. Хорошую встряску получили они. А вот в Жуке и в Рыжем, которого, кстати, зовут Сашей, я вообще уверен. И вижу, что Давуду под конец они тоже начинают нравиться.
Мы мирно и понемногу выпиваем, закусывая удивительной вяленой рыбешкой, которую притащил Жук, и дружно дымим, все, кроме Сергея. Он пытливо и добродушно поглядывает на ребят, слушает и сосет рыбий бочок.
Долго тянется наш неторопливый разговор. Расходимся поздно. И, по-моему, довольные друг другом.
Все-таки некая компенсация за неудачу с хитроумным Гелием Станиславовичем.
Наутро я улетаю.
Давуд едет провожать меня в аэропорт. За эти четыре дня мы подружились еще больше. На память о нашей встрече я увожу две бутылки великолепнейшего вина. Одну мы разопьем дома со Светкой и нашими стариками. А вторую я принесу на работу, и поздно вечером, перед тем как разъехаться по домам, когда уже нестерпимо ломит голова, я попрошу разрешения у Кузьмича угостить всех по рюмке этого волшебного напитка. В конце концов, в такой поздний час выпить за здоровье далекого друга не преступление.
Глава 8
КОЕ-ЧТО СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО
В то утро, когда я вылетал из Южноморска в Москву, Валя Денисов дождался наконец того, что все мы с таким нетерпением ждали уже целую неделю.
Дело в том, что накануне вечером подошла очередь Вали и его группы дежурить на даче академика Брюханова. Всего сотрудников в группе было четверо. План засады был такой. Каждый из четырех по очереди, с момента, когда начнет темнеть, и до рассвета, два часа дежурит возле ворот. В валенках, в теплом тулупе, надетом прямо поверх пальто, он прятался в густом кустарнике. Тонкий шнур тянулся от этого места до дачи к колокольчику над дверью одной из комнат. Таким образом, неожиданное появление ночью или вечером Гаврилова и Шершня исключалось, тем более на машине. Ну, а без машины им тут нечего было делать. Днем же пост возле ворот был, естественно, не нужен.
Я забыл сказать, что еще перед самым моим отъездом в командировку было получено разрешение прокурора на обыск дачи. И тщательный обыск дал ожидаемый нами результат: в одной из комнат, под полом, был обнаружен тайник и там вещи и картины с кражи. Как мы и предполагали, не все вещи и не все картины. Было очевидно, что Шершень и Гаврилов спрятали на даче лишь свою долю украденного. Так или иначе, но их появление там следовало ждать в любой момент, как только они найдут надежного и выгодного покупателя или решат перепрятать свою добычу. Таким образом, засада на даче стала необходимой.
И вот вечером в пятницу туда незаметно прибыла на смену товарищам группа Вали Денисова.
Роли распределили быстро. Один из ребят немедленно погрузился в огромные валенки, натянул тулуп и отправился дежурить к воротам. Валя остался у окна в темной комнате, где над дверью был укреплен колокольчик. Из этого окна можно было легко заметить на фоне снега появление людей возле дачи, если они, оставив где-то машину, вздумают пробраться на участок не со стороны улицы. Ну, а двое других сотрудников перешли в соседнюю комнату, без окон, где можно было зажечь свет и поиграть в шахматы или почитать. Ночью этим двоим разрешалось даже дремать.
Через два часа дежурные сменились, и в шахматы играл уже Валя, потом ему удалось даже поспать часика два, прежде чем идти дежурить к воротам. Так без особых происшествий и волнений, хотя все-таки и напряженно, прошла ночь. Только вот погода выдалась неприятной. Всю ночь, не утихая, выла свирепая метель, наметая сугробы, швыряя в окна пригоршни снега, и, пробираясь в щели старой дачи, на все лады свистел ветер. К тому же сильно похолодало. Выдержать два часа дежурства в снегу возле ворот было совсем непросто. Ледяные струйки упрямо просачивались даже сквозь огромный тулуп, который вокруг Вали обертывался чуть не дважды. Поднятый воротник защищал все лицо, оставляя лишь узкую щелку для глаз. К утру мороз усилился.
Валя заступил на дежурство еще в темноте, часов в шесть утра. И наблюдал, как слабый рассвет робко просачивается сквозь недавнюю еще кромешную тьму и в серой мгле начинают медленно проступать стволы деревьев вокруг, штакетник забора, а потом и слабые, расплывчатые контуры двух дач на другой стороне улицы.
Медленно-медленно ползло время. Валя нашел наконец удобную позу, когда складки тулупа перекрыли все лазейки, по которым пробирался к нему холод. Он думал о Нине Вчера Валя первый раз был у нее дома, познакомился с матерью. Очень славная у Нины мать и совсем молодая, они выглядят как подруги и ведут себя так же. Валю угостили вкусным обедом, давно он такого не ел, честно говоря. А потом Нина предложила пойти куда-нибудь. «Может быть, вы и в самом деле волшебник? — смеялась она. — И можете достать билеты куда угодно?» Она имела в виду спектакль, который он разыграл перед ней и Музой, в результате чего и удалось задержать Чуму. Но Вале пришлось признаться, что через час ему необходимо уйти. Видимо, что-то проскользнуло в его тоне, напряжение какое-то скорей всего, и Нина неожиданно заволновалась. Она испуганно умолкла и так посмотрела на Валю… кажется, еще никто не смотрел на него с такой тревогой и нежностью. Он подумал, что если он сейчас обнимет ее… А Нина, смутившись, вдруг поспешно перевела разговор на другое и стала рассказывать про Музу После всей этой истории Муза несколько дней ходила испуганная, молчаливая и сторонилась подруги. А вчера вдруг подошла к Нине, отозвала в сторону и призналась, что ей невыносимо страшно. Оказывается, какой-то человек приходил к ней, она даже не знает, как его зовут, она и видела-то его всего раза два, когда он заходил с Николаем обедать в их ресторан. Но зачем этот человек сейчас приходил, Муза не сказала, а только заплакала. И стала жаловаться на свою несчастную, нескладную жизнь. Вот только встретила, только по-настоящему полюбила, и вдруг оказывается… И Нине стало ее ужасно жалко, она сама чуть с ней вместе не заплакала. Интересно, подумал Валя, кто же приходил к Музе. Эта мысль мелькнула у него еще тогда, в разговоре с Ниной. Об этом он размышлял и сейчас, кутаясь в тулуп и с усилием вглядываясь в пустынную серую мглу за забором. Все-таки надо будет сегодня же рассказать Кузьмичу о приходе того человека, сразу, как только они сменятся и приедут в управление. Это, к сожалению, произойдет только в конце дня, когда снова стемнеет. Интересно, удастся до этого еще разок поспать, часика два хотя бы.
Спать Вале очень хотелось. Несмотря на мороз, слипались глаза, дурела голова от подступающего сна. Шли самые тяжелые часы дежурства. Валя время от времени менял все же позу, возился с тулупом, сосал захваченный на этот случай леденец и судорожно зевал. Где-то далеко вдруг злобно залаяла собака, и немедленно на другом участке тоже залаял пес, мощно, басовито, ему ответила визгливым лаем мелкая шавка уже совсем невдалеке от Вали, к ним присоединились еще две или три собаки, и вскоре разноголосый лай разнесся по всему поселку. Чтобы побороть подступающий сон, Валя решил сосчитать, сколько собак сейчас лает одновременно. Однако не успел он сосредоточиться на этой непростой задаче, как вдруг издалека донесся слабый шум мотора. По какой-то улице ехала машина.
Валя, мгновенно забыв о собаках, весь напрягся в ожидании. Однако машина прошла стороной, и шум ее мотора постепенно стих. Но не успел Валя снова взяться за собак, как урчанье мотора неожиданно возникло уже в другой стороне и стало заметно нарастать. Машина как будто приближалась. Валя снова насторожился.
Через минуту в серой предутренней мгле мелькнул и сразу же исчез желтоватый свет фар. Валя ждал. Ему вдруг стало казаться, что темнота вокруг начала снова сгущаться. Но желтая полоска света возникла вновь в конце улицы. И уже не исчезала. Наоборот, она приближалась, становясь все ярче, все шире, захватывая уже чуть не всю улицу, и снег молочно заискрился перед Валиными глазами. Теперь уже не было сомнений — машина двигалась по улице, где находилась дача Брюхановых, медленно двигалась, словно водитель разглядывал номера дач.
Когда машина поравнялась наконец с соседней дачей, Валя сумел ее неплохо разглядеть и по силуэту даже догадался, что это «Москвич», но цвет, конечно, определить было невозможно.
Неожиданно фары погасли и стих шум мотора, машина темным, безмолвным пятном застыла посередине улицы, четко выделяясь на белом снегу.
Валя, не шевелясь, ждал.
Из машины никто не появлялся, и это уже само по себе было подозрительно. Валя собрался было подать сигнал тревоги на дачу, но в последний момент решил все же выждать. Кроме того, сигнал должен был содержать информацию о количестве приехавших.
Но вот лязгнула и открылась правая дверца машины, и оттуда вылез какой-то человек. Он огляделся, потоптался на снегу, потом, пригнувшись, что-то сказал оставшемуся за рулем человеку и направился к соседней даче. Ловко перескочив через заваленную снегом канаву, он скрылся за деревьями.
И Валя решил, что так рано по какой-то причине приехали владельцы соседней дачи, и ждал, когда стукнет калитка там или начнут открывать ворота. Но все было тихо вокруг.
И вдруг вышедший из машины человек неслышно возник возле забора, за которым находился Валя, как раз возле того места, где он прятался за кустарником. Человек подошел вплотную к забору, внимательно оглядел дачу, прислушался и, видимо окончательно успокоившись, беспечно выскочил на середину улицы и призывно помахал рукой. В ответ немедленно взревел мотор, и машина, негромко урча и не зажигая фар, медленно подползла к стоявшему посреди улицы человеку. Он нагнулся к опущенному боковому стеклу, что-то сказал водителю, и тот вылез из машины. Вдвоем они подошли к воротам и принялись их открывать. Валя знал, как они это будут делать. Замок, висевший с внутренней стороны ворот, был сломан, и его легко было разомкнуть и вынуть дужку из петель, а потом следовало вытянуть заложенную в железных скобах длинную жердь, подав ее сначала в одну, потом в другую сторону.
Пока приехавшие возились с воротами, Валя дал сигнал тревоги, сообщив, что, как и ожидалось, приехало двое. Он уже знал, что сейчас предпримут его товарищи, знал и свою задачу. План задержания преступников — а в том, что приехавшие — это Гаврилов и Шершень, сомнений не было, — план задержания их, повторяю, был разработан во всех деталях. Задача дежурного возле ворот заключалась в том, чтобы отрезать преступникам путь к отступлению в случае, если кому-нибудь из них удастся вырваться. Само задержание должны были осуществить те, кто находился в доме. Предварительно следовало дать возможность приехавшим достать из тайника краденые вещи. А главное, необходимо было убедиться, что в доме нет других, не обнаруженных во время обыска тайников, где могли бы храниться все остальные краденые вещи и картины. Именно поэтому арест преступников нельзя было провести в другом месте.
Но вот ворота наконец были открыты, машина, по-прежнему с погашенными фарами, осторожно въехала на участок и остановилась возле заднего крыльца, так что с улицы ее было почти не видно. Затем один из приехавших вернулся к воротам, слегка прикрыл их и после этого присоединился к товарищу, который поджидал его возле машины. Вдвоем они осторожно приблизились к даче.
Вале с того места, где он прятался в кустах, были хорошо видны и машина, и крыльцо, и оба приехавших человека. Подойдя к даче, они снова прислушались, попытались даже заглянуть в окно, после чего осторожно обошли дом вокруг. Они словно колебались — заходить им или нет, боялись чего-то. Особенно один из них. Он даже задержал своего товарища, когда тот собрался уже было отпереть дверь дачи, и заставил обойти ее вокруг и еще раз прислушаться. Этот первый был худой, в темном пальто и кепке, а второй, пониже ростом, был в короткой толстой куртке и меховой ушанке. Издали Вале видны были только их не очень четкие силуэты, лиц он разобрать, конечно, не мог. Валя решил, что тот, кто в пальто и кепке, и есть Гаврилов, он я осторожнее и опаснее второго, и на него следует обратить особое внимание. Догадаются ли сделать это ребята?
Вообще Валя начал постепенно все больше нервничать. Выпавшая ему роль была в какой-то мере второстепенной. Вполне могло случиться, что ему вообще не придется участвовать в задержании, даже, скорей всего, так и случится, как бы трудно ни пришлось ребятам в доме. Казалось бы, соотношение три к двум гарантировало успех, ибо трое — это специально обученные люди, привычные к схватке и риску, а те двое… Вот на что способны были те двое, никто не знал. И как они вооружены — тоже. Поэтому риск всегда оставался, и Валя знал, что такие задержания бывают опасны. Да, произойти могло всякое, вон какие здоровенные парняги приехали, они не поднимут смирно вверх лапки.
Одолеваемый всякими сомнениями и опасениями, Валя постарался незаметно приблизиться к машине, как только приехавшие зашли наконец в дом и прикрыли за собой дверь. Добравшись до машины, Валя огляделся. Да, если кому-нибудь из приехавших все же удастся вырваться из дома, он кинется к машине. Впрочем, нет. Он же сообразит, что машину надо будет еще завести, развернуть, потом подъехать к воротам, открыть их… Нет, он не будет всем этим заниматься, пытаясь скрыться. Он кинется… Куда же он кинется? А это смотря по тому, откуда он выскочит. Все окна на даче, кроме одного, вон того, возле крыльца, плотно закрыты ставнями. У того окна почему-то вообще нет ставень. Значит, через все остальные окна, как и через террасу, куда дверь из комнаты на зиму не только заперта, но и забита, просто не выскочишь. Следовательно, путь отхода…
Но Валя не успел додумать. В доме раздались крики, звуки борьбы и… выстрел! Валя на секунду оцепенел и сразу же, не раздумывая, скинул с себя тулуп и валенки, потом выхватил из кобуры пистолет. Он знал, оружие пускается в ход только в самом крайнем случае, когда другого выхода нет. Значит, что-то случилось!
В этот момент дверь дачи с треском распахнулась, по ступенькам крыльца даже не сбежал, а просто кубарем скатился человек и сразу же метнулся за угол, даже не думая подбегать к машине. И Валя, тоже уже ни о чем не думая, кинулся вслед за ним.
А на крыльцо уже выскочил один из его ребят. И тут он совершил ошибку, он зачем-то подбежал к машине, заглянул в нее, словно кто-то мог там спрятаться, и только потом стал озираться по сторонам, пытаясь сообразить, куда побежал вырвавшийся из дома человек. Ничего не заметив, он торопливо обогнул дачу, но и там уже никого не было. Тогда он принялся изучать следы на снегу, и они повели его в противоположный конец участка, в сторону от улицы, к соседним дачам.
Тем временем Валя гнался за убегавшим человеком. Расстояние между ними было совсем небольшим и неуклонно уменьшалось. Бегать Валя умел, даже любил, конечно, не при таких обстоятельствах. А человек между тем то Ловко перемахивал через низкие штакетники, то юркал в какие-то малознакомые калитки, то продирался через кустарник, огибая еще спящие или наглухо забитые дачи, после чего выскакивал на улицу и что есть Духу несся по обледенелой неровной земле, а потом снова забегал на чей-то участок. И, тем не менее, расстояние между ним и его преследователем неумолимо сокращалось.
Но в какой-то момент, перебегая через чей-то захламленный, неровный участок, Валя неожиданно споткнулся и упал, больно подвернув руку, в которой был зажат пистолет. И тогда он крикнул, с усилием приподнявшись и перебросив пистолет в левую руку:
— Стой!.. Стрелять буду!.. Стой, тебе говорю!..
Валя понял, что теперь ему этого человека не догнать, правая рука висела как плеть, и острая боль, нарастая, пронизывала все тело. Он даже боялся, что выстрелить левой рукой не сможет, он задыхался от бега и от боли, сердце колотилось как бешеное, и левая рука, сжимавшая пистолет, мелко и противно дрожала.
Но человек в тот момент, когда Валя закричал, прыгнул в сторону к, ожидая выстрела, спрятался за дерево.
— Стреляю!.. Шаг в сторону, и стреляю!.. — снова закричал Валя и медленно, с трудом превозмогая боль, пополз к тому месту, где прятался за деревом преступник.
И тот неожиданно оказался в своеобразной западне. Он уже психологически не мог решиться продолжать бегство, оторваться от прикрывавшего его дерева, не мог решиться подставить себя под пулю, неминуемо подставить, ибо понимал, что промаха быть не может, слишком близко уже находился его преследователь. Валя, поборов боль, продолжал ползти к тому дереву и, когда до него осталось всего несколько шагов, выстрелил в воздух.
Грохот разорвал сонную утреннюю тишину засыпанного снегом поселка, и первыми на него отозвались бесчисленные собачьи голоса, яростные и испуганные.
После выстрела Валя тяжело и медленно поднялся на ватные, словно чужие ноги, помогая себе левой рукой, в которой по-прежнему был зажат пистолет. Правая рука бессильно висела, и острая колющая боль откуда-то от плеча рвала все внутри. Вале еще было очень холодно в легком его пальто и тонких ботинках, и зубы сами собой выбивали судорожную дробь. Он замер на несколько секунд, закусив губу, а потом крикнул человеку за деревом:
— Выходи!.. Руки на затылок!.. Ну!.. Помни, больше в воздух стрелять не обязан!.. Выходи лучше!..
И столько злости, столько отчаянной решимости было в его голосе, что у человека за деревом, видимо, не осталось сомнения, что его преследователь сейчас выстрелит в него, выстрелит немедленно, если он не сдастся, не выйдет сам, и дерево показалось ему в этот миг самым ненадежным укрытием на свете. И еще у него появилось ясное ощущение, что воля того человека сильнее его собственной воли, что душевных сил и энергии бороться у того человека намного больше, чем у него. А он не желал рисковать жизнью, он боялся умереть сейчас, вот тут, на этом проклятом снегу. Пропади уж все пропадом, решил он. И заставил себя выйти из-за дерева, заложив руки за голову.
В тот же миг он увидел Валины глаза и в испуге зажмурился, ожидая выстрела. Никакой пощады в этих глазах не было, только боль и ненависть.
— Повернись спиной, — глухо приказал Валя.
Человек поспешно и неуклюже выполнил его приказ.
— Теперь иди вперед, — сказал Валя. — Я буду говорить, куда сворачивать. И гляди, чтобы мне не показалось, что ты собрался бежать. Стрелять буду без предупреждения, понял?
— Идем уж, — жалобно проговорил человек, топчась на месте. — Замерз же…
Они пошли, медленно, напряженно, один каждую минуту ожидая выстрела в спину, другой боясь упасть от слабости.
Так они пересекли чей-то двор, вышли на улицу, потом свернули по приказу Вали за угол и, пройдя два квартала, вышли на другую улицу и двинулись по ней. Но скоро Валя понял, что не может найти дорогу и решительно не знает, куда дальше идти. Но останавливаться было нельзя и показать свою растерянность тем более.
Но вот из-за угла показалась какая-то женщина в валенках и сером пуховом платке. Она с трудом несла в каждой руке по тяжелой сумке. Увидев идущих по середине улицы людей и в руке одного из них пистолет, она громко ахнула и остановилась в испуге, уронив на снег сумки.
— Господи!.. — плачущим голосом произнесла она, не в силах оторвать глаз от идущих. — Это вы чего же делаете?..
— Где дача Брюхановых, академика? — не останавливаясь и не отводя пистолет в сторону, отрывисто спросил Валя.
— Направо сейчас, направо сворачивай, — цепенея от страха, ответила женщина и, осмелев, в свою очередь, спросила: — Это кого же ты ведешь?
— Бандита веду, — ответил, проходя мимо нее, Валя. — Это он сейчас такой смирный, пока я в него выстрелить могу.
— Давно бы и выстрелил, — вдруг с ожесточением сказала женщина. — Они вон намедни дачу дотла спалили, а другую ограбили и испоганили всю. Выйти на улицу вечером и то боимся.
Валя не ответил.
Они все так же медленно и осторожно свернули за угол. А через минуту Валя увидел знакомую дачу. Подойдя к незапертым воротам, он приказал:
— Заходи!
От дома к ним уже бежал человек.
Как Валя и предполагал, он задержал Гаврилова. Когда они вошли в дом, Шершень сидел в углу большой комнаты на стуле и, жалобно всхлипывая, нудно и глупо скулил:
— Ну, отпустите, ребята… Ну, чего я вам сделал?.. Ну, не буду больше… Забирайте хоть все… пропади оно… ну, отпустите…
Увидев входящих, он подскочил на стуле и воскликнул не то испуганно, не то обрадованно:
— Гляди, поймали!.. Ей-богу, все-таки поймали!..
— Молчи уж, дура… — зло процедил Гаврилов.
Больше сказать приятелю он ничего не успел. Его тут же увели в другую комнату и там, защелкнув на руках стальные браслеты наручников, усадили на стул. Один из сотрудников остался его сторожить. В третьей, дальней комнате, где ночью играли в шахматы, Валя без сил повалился на короткий диванчик, ему принесли стакан крепчайшего горячего чая. Обжигаясь, Валя стал жадно, короткими глотками пить и сразу почувствовал, как жаркая волна разливается по телу и голова начинает кружиться от слабости. Допив стакан, он сказал товарищу, показывая на беспомощно висевшую руку:
— А ну, дерни. Вывихнул я плечо, понял? Только сильнее дергай! — И, заметив нерешительность на лице того, сердито прикрикнул: — Дергай, тебе говорят! Ну!..
И тот наконец решился.
Дикая боль пронзила плечо, Валя вскрикнул, до крови прикусив губу, и на секунду, как ему показалось, потерял сознание.
Но боль стала тут же утихать. Вскоре Валя даже решился шевельнуть правой рукой. И вдруг почувствовал, что рука управляема и он может делать ею все, что пожелает. Впервые он неожиданно ощутил радость от обладания собственной рукой. Только потеряв на время эту способность, можно понять и эту радость. Валя вытер проступившую на лбу испарину, облегченно вздохнул и сказал товарищу:
— Вот и порядок. Встала на место, представляешь?
И тот успокоенно и почти уже равнодушно согласился:
— Ясное дело. Так и вправляют. У меня, помню, точно такая же история была. Мы в прошлом году…
Этот парень всегда умудрялся переводить на себя любой разговор. Но Валя, оборвав его, нетерпеливо сказал:
— Ты, Гена, вот что! Иди-ка лучше звонить. Срочно пусть высылают сюда машины. Только сперва звони Кузьмичу, ну, а если его нет, то прямо дежурному. Понял?
— Ясное дело, — с готовностью откликнулся Гена.
— Ну, давай. По-быстрому.
Товарищ ушел, а Валя, устало привалившись к стене на маленькой тахте, прикрыл глаза.
Машины прибыли через час.
Валя за это время, как ему показалось, успел чуток вздремнуть. А вернее сказать, каменный сон навалился на него, как только он закрыл глаза, каменный сон без всяких сновидений.
Вскрикнув, он проснулся, только когда Петя Шухмин, ничего не ведая, слегка потрепал его по больному плечу.
Петя только накануне вышел из госпиталя, и Валя на работе его еще не видел. Поэтому ему в первый момент показалось, что он еще спит, и Валя растерянно спросил, уставившись на друга:
— Это ты, Петро?
— Я самый, — бодро подтвердил Петя. — Разве не похож?
— Очень похож, — засмеялся Валя, окончательно проснувшись. — Здорово тебя там Лена выходила, однако.
— При чем тут Лена? — чуть смутился, очень, однако, довольный, Петя. — В таких важных делах я привык полагаться только на себя.
— Ну, ну. Нежные женские руки, что там ни говори… — примирительно произнес Валя, продолжая лежать на тахте и инстинктивно стараясь отдалить минуту, когда все-таки придется подняться. — Она подала тебе какие-нибудь надежды, а, старичок? Будь откровенен с другом.
— Вставай, — прорычал Петя, подступая к тахте.
— Тихо! — испуганно воскликнул Валя, мгновенно поднимаясь. — Хочешь, чтобы я на твое место в госпиталь лег? Учти, я на медперсонал вполне полагаюсь.
— Ничего, — многозначительно усмехнулся Петя. — Я тогда пойду обедать в один ресторан и загляну там в бухгалтерию.
— Вот черт! — искренне удивился Валя. — Ну и народ. Ничего невозможно скрыть из личной жизни.
Он, однако, поднялся с тахты, осторожно помахал правой рукой и снова убедился, что боль действительно проходит. После этого Валя натянул на себя пальто, которым до этого укрывался, и поспешил к выходу.
Во дворе мерно рокотали две «Волги», а их водители возились с красным «Москвичом», который, и трех часов не простояв на морозе, однако же, ни за что не желал заводиться. Но в конце концов его все же одолели. Водители разошлись по своим машинам, за руль «Москвича» сел один из сотрудников. Вывели арестованных. И вскоре вся колонна тронулась в Москву.
…Я появляюсь на работе буквально за минуту до того, как Кузьмич и Валя начинают допрос Шершня. Гаврилова они решили оставить на вторую очередь и уличать его данными, полученными от Шершня, резонно рассудив, что этот перепуганный и трусоватый парень расскажет куда больше, чем молчаливый и озлобленный Гаврилов.
Увидев меня в дверях своего кабинета, Кузьмич, заметно обрадованный, выходит из-за стола и крепко жмет мне руку, даже хлопает по плечу. Такое неожиданное для него проявление чувств — обычно Кузьмич лишь спокойно кивает мне, когда я возвращаюсь из командировки, и сразу переходит к делу, — такое проявление чувств, повторяю, меня несколько удивляет, и я начинаю подозревать, что кто-нибудь позвонил мне вдогонку из Южноморска и наговорил Кузьмичу чего-нибудь лишнего.
— Вовремя, — говорит между тем Кузьмич. — Бери-ка к себе Гаврилова да и побеседуй с ним по душам. Пока он еще разогретый. Но особо не горюй, если он ничего сказать не пожелает. Характер у него крутоватый. Ну, а мы потом, после допроса Шершня, с ним еще разок займемся, посолиднее. Так что забирай его пока к себе. Потом доложишь о своих выдающихся достижениях.
Кажется, ему кто-то в самом деле звонил.
— И еще учти, — продолжает Кузьмич. — Гаврилов чуть было от наших не ушел. Его вон он догнал, — Кузьмич кивает на Валю. — И привел назад. Очень, понимаешь, Гаврилов не хотел, чтобы в него стреляли. До сих пор небось еще в себя не пришел от всех переживаний. Вот теперь и займись ты с ним, — кивает он мне и обращается к Вале: — Ну, давай сюда этого Шершня. Как его звать-то?
Гаврилов не может прийти в себя, но и я тоже пока не могу. Кажется, вот только что простился с Давудом, и с морем, кстати, тоже, и до сих пор ощущаю соленый вкус его. Только что я обнял Светку и Анну Михайловну, ворвавшись домой прямо к их утреннему завтраку, и Светка радостно повисла у меня на шее, болтая в воздухе ногами. И началась суета.
А через час уже передо мной сидит угрюмый, озлобленный Гаврилов в расстегнутом пальто, с намотанным на худую шею зеленым кашне и мнет в руках свою кепку. И необходимо немедленно выбросить из головы все дела и всех людей, которыми я эти дни занимался, и срочно вспомнить все, что мы знаем об этом малосимпатичном чудо-слесаре и его дружке.
Он сидит перед моим столом и молчит, упрямо глядя в пол.
Некоторое время молчу и я, разглядывая его и собираясь с мыслями, потом не спеша закуриваю и говорю:
— Кражу из квартиры Брюхановых вам отрицать не удастся, Гаврилов. Можно сказать, взяты с поличным. Конечно, вы можете других соучастников не называть. Но что двое, что, допустим, пятеро — все равно групповая кража. А кодекс вы, я полагаю, знаете?
Гаврилов продолжает молчать и не отрывает глаз от пола. Но он меня слушает, внимательно слушает и соображает, прикидывает, как тут себя вести, какую позицию занять, что для него сейчас выгоднее. Все это я прекрасно понимаю, поэтому его молчание меня не удивляет и не сердит. Пусть подумает, я ему для этого и еще кое-что подкину.
— Так что групповую кражу считайте доказанной, — продолжаю я. — Другое дело — роль главаря, инициатора, подстрекателя. Из вас двоих если только выбирать, то на эту роль тянете, конечно, вы.
При этих словах Гаврилов бросает на меня быстрый взгляд, который я не успеваю понять, и снова опускает глаза.
— Это если выбирать из вас двоих, — повторяю я многозначительно. — Но ведь вас было не двое, а… пятеро, так, что ли?
Гаврилов, не поднимая головы, сердито бурчит:
— Ну, а если и пятеро, так что?
— А то, что главарем и подстрекателем тогда может оказаться совсем другой человек, а не вы. Вот это первый пункт, Гаврилов, над которым вам стоит подумать, согласны или нет?
— Подумать всегда стоит, когда к вам попадешь, — резко отвечает Гаврилов, не поднимая головы, и снова умолкает, словно и в самом деле что-то обдумывая.
— Правильно, — соглашаюсь я. — Особенно когда к нам попадешь. Тем более, что есть и второй пункт, над которым тоже стоит подумать, даже побольше, чем над первым. Второй пункт — это убийство, Гаврилов.
— Чего, чего?! — Он рывком вскидывает голову и впервые смотрит мне в глаза, со злостью смотрит и с испугом тоже.
— Убийство, — повторяю я. — Накануне кражи. Во дворе.
— Только этого мне не хватает, — переводит дух Гаврилов и насмешливо говорит: — Вешайте на кого другого. Со мной номер не пройдет. Вам небось раскрыть побыстрей надо да начальству отрапортовать?
Он стал вдруг разговорчив, этот молчаливый тип, и что-то уж очень быстро пришел в себя. Последнее мне совсем не нравится.
— Да, нам надо раскрыть и отрапортовать, — спокойно подтверждаю я. — А как же иначе? Дело-то серьезное. Особо серьезное, Гаврилов…
— Вот и раскрывайте себе. А я тут ни при чем.
— Вполне возможно. Но вот что точно, так это то, что вы связаны с убийцами другим, уже общим преступлением — квартирной кражей. Тут имеются…
— Да ни с кем мы не связаны, говорят тебе! — грубо перебивает меня Гаврилов. — Сто раз, что ли, повторять?
— И вот тут имеются доказательства, — не повышая голоса, спокойно продолжаю я. — Железные доказательства, Гаврилов.
— Брехня, а не доказательства.
Он все-таки нервничает, сильно нервничает, я вижу.
— Ну судите сами, — говорю я. — Первое. У вас обнаружена только часть украденных вещей. Приблизительно третья часть. У кого остальные?
Гаврилов, насупившись, молчит и опять смотрит в пол. Лишь желваки время от времени вздуваются на худых, обтянутых скулах, когда стискивает зубы, словно заставляя себя молчать.
— Это первое, — продолжаю я. — А ведь мы должны не только все найти, до последней вещи, но и всех, кто их прячет. Теперь второе. Мы знаем убийц. Один из них арестован уже. Так вот, его перчатку мы нашли в той квартире, где были и вы. Выходит, третьим на краже был с вами он. Так ведь?
Неожиданно Гаврилов поднимает голову и зло, издевательски усмехается.
— Путаешь, начальник, — говорит он с какой-то непонятной мне радостью.
— Ей-богу, все путаешь. И никогда не распутаешь. Этот, которого арестовали, в квартирной краже сознался или нет?
— Не сознался пока.
— Ну вот, — удовлетворенно кивает Гаврилов. — И не сознается.
— Почему же?
Что-то все больше настораживает меня, какие-то новые интонации в голосе Гаврилова, какое-то несоответствие между его положением сейчас и возникшим вдруг новым настроением.
— Почему же он не сознается? — повторяю я свой вопрос.
— А потому, — нагло ухмыляется Гаврилов. — Больно работаете плохо.
— Не так уж и плохо, — я почти равнодушно пожимаю плечами. — Вот вас же поймали. Причем с поличным. Так что вы зря радуетесь. И с убийством тем разберемся. И чем скорее, тем вам же, мне кажется, будет лучше. А сейчас, Гаврилов, я хочу вас спросить: сколько же было участников кражи, всего, вместе с вами, а? Только лучше считайте, не ошибитесь.
— Сами считайте, — насмешливо отвечает Гаврилов. — До пяти. В первом классе проходят.
— Дочка-то как раз первый класс и кончает? — спрашиваю я. — А папа, мастер на все руки, решил пока что чужими квартирами заняться, так, что ли? И все доходы на тестя-графа записать?
Гаврилов снова хмурится и молча отводит глаза.
— Не пройдет это, Иван Степанович, — говорю я. — Больше не пройдет. Мы еще кое-какие квартирные кражи к вам примерим. Уж больно вы крупными специалистами оказались. По замкам, в частности. Нет тут для вас секретов, говорят. И потом, связи у вас какие-то оказались. Вон, из другого города сообщники приезжают.
— Ладно тебе, начальник, лепить-то от фонаря, — хмурится Гаврилов и, подняв голову, тускло смотрит на меня.
— Почему же — лепить? — возражаю я. — И Колька, и Леха, и сам Лев Игнатьевич — люди приезжие, сами знаете.
— Ничего я не знаю.
— Ничего или никого?
— И ничего, и никого.
— Ну, ну, Гаврилов. Перчатка Колькина вас намертво с ним связывает. И с ним, и с… убийством тоже.
Гаврилов по-прежнему смотрит на меня тускло и задумчиво. Я сразу подмечаю эту его внезапную задумчивость и истолковываю ее в том смысле, что Гаврилов колеблется, признаться ему хоть в чем-то или нет. До конца он сейчас признаваться не будет, это ясно.
— Примеривай не примеривай, ничего не подойдет, — говорит он наконец. — Первая она у нас. Олежка, черт, попутал.
Видно, мысли его все время кружатся вокруг квартирной кражи, и никакая перчатка его сейчас не волнует и, выходит, убийство тоже. Странно.
— Олежка — что, — я пренебрежительно машу рукой. — Пьяненькому веры-то мало. Вот Лев Игнатьевич — это другое дело. Если уж он указал на ту квартиру…
— Не знаю я такого, говорят тебе, — нетерпеливо перебивает меня Гаврилов.
— И Кольку не знаете?
— И Кольку.
— А ведь перчатка его…
— Далась тебе эта перчатка! — неожиданно ухмыляется Гаврилов.
— А как же? Вроде визитной карточки она.
— Ну вот что, — вздыхает наконец Гаврилов и, видимо на что-то решившись, заключает: — Не вышел номер, значит.
Я молча жду, что он скажет дальше, я боюсь неловким словом что-нибудь испортить, чему-то помешать.
А Гаврилов на секунду снова умолкает, словно усомнившись вдруг в чем-то, затем, уже решительнее, говорит, будто споря с самим собой или себя уговаривая:
— Да нет, не вышел номер, чего уж там. Куда-то даже не туда все поехало. Короче, — он поднимает голову и смотрит на меня, — перчатку ту я во дворе подобрал и с собой в квартиру эту самую прихватил. Там и бросил. Вот так все и было, одним словом.
— Ну да? — недоверчиво спрашиваю я. — Там, значит, и бросил?
— Там и бросил.
— Зачем?
— А чтобы голову-то вам задурить. Думал, убийством займутся, ну, и кражу заодно им же и пришьют. А тут, я вижу, все наоборот получается. Нам убийство хотите навесить. А мы тут ни сном ни духом. Вот так.
Я некоторое время молчу, стараясь собраться с мыслями и прийти в себя от этого неожиданного признания. Неужели это правда? Если так, то все становится на свои места. Чума и Леха не участвовали в краже, не участвовали! Один в то утро был у своей Музы, а второй — у Полины Тихоновны. И перчатку подбросили. Вот это номер! А значит, и Лев Игнатьевич… И Семанский… Но все это потом, потом. Я заставляю себя вернуться к сидящему передо мной Гаврилову. А не хитрит ли он случайно? Не пытается ли сбить? Нет, нет, рано удивляться и радоваться. Тут надо разобраться спокойно.
— Выходит, двое вас было в квартире? — спрашиваю я.
— Выходит, что так.
— И перчатку ту вы, значит, нашли во дворе. Когда именно?
— Я ее не нашел, я ее подобрал, как они убежали, — снисходительно поясняет Гаврилов.
— Выходит, вы видели все, что случилось там?
— Все как есть. Я этих голубчиков давно заприметил. Думал даже, — Гаврилов сдержанно усмехнулся, — не конкуренты ли появились.
— Они тоже вокруг той квартиры кружили?
— Ну да.
— А зачем — как теперь полагаете?
— Кто их знает. Правда, один разговорчик ихний я все-таки зацепил, — задумчиво сообщает Гаврилов. — Но ни хрена тогда не понял.
— Чей разговорчик?
— Ну, этих, пожилых, значит. Одного потом кокнули. У меня на глазах, ей-богу. Я прямо чуть не рехнулся.
— А что за разговорчик был?
— Ну, один, который, значит, живой остался, говорит: «Советую убраться и никогда больше ему на глаза не показываться». А тот говорит: «Это мой друг, и тебе он ничего не сделает». А тот ему: «Сделает, не бойся». Вот такой разговорчик был.
Гаврилов охотно и даже как будто с облегчением передает подслушанный им разговор. Словно давил он его чем-то, беспокоил, и вот теперь эту тяжесть можно переложить на других. Да, что-то разбередило в душе Гаврилова это убийство, что-то в душе у него дрогнуло, мне кажется.
— А потом они его убили… — задумчиво говорю я.
— Точно. На моих глазах.
— Крикнул он хоть?
— Не успел.
— А еще кто-нибудь это все видел?
— Не. Один я.
— И не кинулся на помощь, не позвал никого?
— Растерялся я, — виновато говорит Гаврилов. — Все-таки прямо на глазах. Веришь, ноги-руки аж затряслись. И язык отнялся.
— Ну, а ребят-то этих вы разглядеть успели?
— Да кто их знает, — отводит глаза Гаврилов, явно пугаясь моего вопроса. — Темно было. Их вон женщина одна видела, как они со двора убежали, а потом вернулись.
— И труп видела?
— Скорей всего нет. Ей кусты загораживали.
— А женщина эта сама откуда появилась, не заметили?
— Да из дома вышла. Не того, который во дворе, где квартира та. А из другого, который еще на улицу выходит. Из левого подъезда вышла, точно. Красное пальто на ней и белая шапка. Худая такая.
— Шершень с вами в тот вечер был?
— Не. Я один.
— В случае чего опознать этих парней сможете?
— В свидетели хотите записать? — усмехается Гаврилов.
— Хочу.
— Не выйдет, начальник. Я сам под суд иду.
— По закону все равно можете свидетелем быть в другом деле. Ведь гражданином вы остаетесь.
— Какой уж я гражданин теперь, — пренебрежительно машет рукой Гаврилов и неожиданно добавляет: — Но вот у человека жизнь отобрать — это я не могу даже помыслить. Хотите верьте, хотите нет.
— Не можете? — переспрашиваю я. — А ведь вы собрались задавить человека там, на даче. Или забыли? Машиной хотели задавить.
— Это Степка! — взволнованно вырывается у Гаврилова. — Ошалел от страха. Я ему в тот же момент по шее навернул. И руль крутанул. Его же «Москвич»-то, он и за рулем сидел.
— Это точно, — соглашаюсь я. — «Москвич» его.
— Ну вот, — подхватывает Гаврилов. — А на чужую жизнь замахиваться никак нельзя. Вещь какую туда-сюда — это одно, а жизнь отобрать — совсем другое дело, страшное дело, я скажу, последнее.
— Именно, — согласно киваю я. — Самое последнее это дело. Так неужто, Иван Степанович, вы таких вот извергов покрывать будете? Ведь сегодня они чужого вам человека убили, а завтра могут…
— Ладно тебе, начальник, душу-то мне ковырять, она и так у меня уже в клочьях вся, — мрачно обрывает меня Гаврилов. — «Завтра, завтра…» Что мне «завтра»? Я вон теперь сколько лет своих-то не увижу. Дочка небось невестой без меня станет, если, бог даст, жива-здорова будет.
— Да уж не дай, как говорится, бог, чтобы дочка ваша таких вот извергов встретила, — не позволяю я Гаврилову увести разговор в сторону. — Ведь вот тот, чья перчатка, кого арестовали мы сейчас, одну девушку в Новосибирске искалечил, гад. Это кроме убийства у вас на глазах. Словом, зверь, сущий зверь, а не человек. А с виду… Вот недавно еще одной тут голову закружил.
— Попадись мне такой, — сквозь зубы цедит Гаврилов, — своими руками бы придушил, гаденыша. Эх!..
Он сейчас все примеряет к своей дочке, у него, кажется, и других мыслей нет сейчас. Ох не легко ему!
— Зачем же своими руками? — говорю я. — Руками закона надежнее. И все должно быть по справедливости, Иван Степанович. Вы, к примеру, тоже людям бед принесли немало. И вам тоже по совести следует принять за это наказание. По совести и по закону. Ну, а тот… кстати, и кличка у него — Чума. Вполне подходит. Ему наказание следует особое. Он у человека жизнь отнял.
— Все верно, — горестно вздыхает Гаврилов.
Все-таки поубавилось в нем угрюмой, нелюдимой озлобленности, проступает человеческое, что-то даже незащищенное. И кажется Мне, что этим вот человеческим, добрым чувством на миг высветилось изнутри его лицо, худое, желтоватое, с морщинами вокруг глаз и на висках. И помимо воли вызывает у меня сочувствие этот человек, а ведь кажется, что никакого сочувствия он не заслуживает.
— Но чтобы закон и его, этого душегуба, наказал по справедливости, — продолжаю я, — закону нужны доказательства. А они у вас в руках, Иван Степанович. Самые важные доказательства. Дадите их закону — будет и справедливое наказание. Не дадите — убийство ведь можно и не доказать. И справедливое наказание обойдет его стороной. Опасно это, Иван Степанович, для всех людей опасно, если он таким вот на свободе очутится.
— Что ж, я не понимаю, что ли, — задумчиво говорит Гаврилов. — Не зверь ведь.
— Тем более и у вас дочка растет.
— Растет…
— Так поможете вы нам?
— Поглядим…
— Что ж, поглядите, Иван Степанович. Подумайте. На этом и закончим пока. Вас потом следователь еще вызовет.
— Ему ничего не скажу, — хмурясь, предупреждает вдруг Гаврилов. — Вас буду дожидаться. Вот так.
До чего-то я, оказывается, все же докопался, какую-то потаенную струнку в душе его задел. И это немалая награда, скажу я вам. Даже, если хотите, главная награда, ради которой не надо жалеть сил, времени, нервов. Ничего не жалко, если в результате этих усилий в пропащем, казалось бы, человеке вдруг просыпается совесть.
— Ну, ну, — примирительно говорю я. — Он все поймет тоже. Будьте спокойны.
— А чего мне беспокоиться? — усмехается Гаврилов. — Пусть он беспокоится, пока я молчать буду.
— Ладно, — соглашаюсь я. — Давайте, как договорились: вы подумайте и мы подумаем. Идет?
— Ваше дело, — с напускным безразличием пожимает плечами Гаврилов. — Если что, я ведь и опознать его могу, очень даже просто.
От неожиданности у меня даже не приходят сразу на ум нужные слова, и я молча киваю в ответ.
Гаврилова уводят. А я, закурив, некоторое время беспокойно хожу из угла в угол по своей комнате, охваченный каким-то безотчетным волнением. И только постепенно успокаиваюсь.
Потом торопливо гашу сигарету, запираю комнату и направляюсь в конец длиннейшего коридора, к Кузьмичу.
Я вхожу в кабинет, где еще продолжается допрос Шершня.
Это рыжеватый, круглолицый малый с хитрющими, обычно, наверное, улыбчивыми глазами, франтовато одетый в какой-то ярко-клетчатый костюм; широченный, пестрый галстук закрывает ему всю грудь под расстегнутым пиджаком. Сейчас он говорит плачущим голосом, прижимая к толстой груди покрытые веснушками и рыжим пухом руки. На одном из пальцев у него я вижу золотой перстень-печатку. Говорит Шершень с подвыванием и всхлипыванием, но в плутовских глазах его нет и слезинки.
— …Все как на духу вам признал, граждане начальники. Ну, как есть — все!.. Вот и это тоже. Ванька мне приказал: «Дави его!» А я не хотел! Не хотел я! Я по слабости все. Слабый я человек, понятно вам? Я и от кражи этой проклятой Ваньку удержать хотел. Христом богом просил не ходить. Да разве его удержишь? А у меня, граждане начальники, мать-старушка на иждивении. И еще сестра с ребенком, брошенная! Всех содержу, всех кормлю-пою, всех одеваю. Себе во всем отказывал! Все им идет! Вы только войдите в мое критическое положение! Только войдите! А я вам чего хотите подпишу — подтвержу!
— Ладно уж, Степан Иванович, — Кузьмич усмехается. — Хватит, хватит. Вы уж и так нам рассказали больше чем надо. Теперь придется правду от неправды три дня отделять. Много вы нам и того и другого выложили.
— Все правда! Все! Как слеза! — испуганно кричит Шершень и машет на Кузьмича короткими, толстыми руками. — Все — как на духу! Ничего не утаил и не прибавил. У меня натура такого не допустит!..
— Много ваша натура чего допустила, — жестко обрывает его Валя Денисов.
— Допустит и это. Вы нам так и не сказали, где спрятаны остальные вещи с кражи. Ну-ка, вспомните.
— Не знаю! Пропади я совсем, не знаю! — отчаянно кричит Шершень, прижимая руки к груди. — Ванька прятал! Ей-богу, Ванька!
Он вдруг медленно сползает со стула и становится на колени. Вид у него омерзительный. Слюнявый рот перекошен, а по толстым, угреватым щекам пробегает по слезинке.
— Да встаньте вы, Шершень, — брезгливо говорит Кузьмич. — Ну, сколько можно на колени бухаться? Вы не в церкви, тут грехи не замолишь. Так что вставайте, вставайте, хватит.
Шершень, громко всхлипывая, нехотя поднимается с пола и, отряхнув брюки, снова усаживается на стул.
— Меня нельзя в тюрьму, граждане начальники, — продолжает отчаянно канючить он. — Гуманизм не позволит. Моя родная власть. Мне старушку-мать кормить! И сестру совершенно больную, с малым ребенком брошенную. Пропадут они! Ей-богу, пропадут! А я безопасный! Если Ванька в тюрьме будет, я до чужого пальцем не дотронусь! Кого хотите спросите! Я вам тыщу свидетелей и всяких поручителей приведу! Желаете? Мигом приведу!
— Ладно. Хватит, — решительно и сердито объявляет Кузьмич. — На этом пока кончаем.
Он вызывает конвой, и Шершня уводят. Тот сильно сутулится, еле волочит ноги и не перестает жалобно подвывать.
Когда за ним закрывается дверь, я подсаживаюсь к столу. Мы обмениваемся полученной информацией. По главным пунктам наши данные совпадают. Кражу совершили двое, Гаврилов и Шершень, невольный «подвод» дал им вечно пьяный Олег Брюханов, поведавший во всех подробностях о своей тяжбе с сестрой и о находящихся в квартире ценностях и картинах. Насчет убийства во дворе и подброшенной перчатки Шершень ничего не знает. Это похоже на правду, Гаврилов лишнее болтать не любит.
— Ну, ловок этот Гаврилов, — качает головой Кузьмич. — Ишь чего с перчаткой придумал. И ведь сразу сообразил, мгновенно. Но и ты, Лосев, молодец, — обращается он ко мне. — До сознания его дошел. Вот у тебя это иной раз отлично получается.
Очень мне приятна похвала Кузьмича. Я только вида не подаю, как мне это приятно.
Тем временем в кабинет заходит Петя Шухмин, возбужденный, вполне, видимо, здоровый и очень этим обстоятельством довольный. За ним идет и Виктор Анатольевич, наш следователь. Петя, наверное, куда-то за ним ездил. Валя Денисов рассказывает о задержании Гаврилова и Шершня, а я — о своей командировке. Отчет мой занимает немало времени.
— Шпринц — это большая удача в деле, — замечает Виктор Анатольевич по ходу моего рассказа. — И дальше пригодится.
Когда я кончаю, Кузьмич, вздохнув, говорит:
— Ну что ж, милые мои, кражу мы, можно сказать, раскрыли. Как вы полагаете, Виктор Анатольевич, раскрыли мы ее?
— Полагаю, что да, — улыбнувшись, отвечает тот и добавляет: — Придется ее снова выделить в отдельное производство. Заканчивать надо дело и передавать в суд. Только сперва надо найти, конечно, остальные вещи и картины. Тут я думаю… — Помедлив, он оборачивается ко мне: — Вы, Виталий, завтра допросите Гаврилова официально. По моему поручению. У вас с ним, видимо, хороший контакт установился. Надо добиться, чтобы он сказал, где остальные вещи. И потом, если он пройдет свидетелем по делу об убийстве, это будет удача. И конечно, надо найти ту женщину, в красном пальто, — обращается он к Кузьмичу.
— Найдем, — кивает тот. — Сегодня же постараемся.
— И все-таки самое главное, — говорю я, — можно сейчас твердо сказать: в кафе я встречался именно с Львом Игнатьевичем. А назвался он Павлом Алексеевичем. И забеспокоился, когда я слишком близко, на его взгляд, подобрался к Купрейчику. Тут у меня уже никаких сомнений нет. И в убийстве Семанского замешан этот Лев Игнатьевич, он организатор.
Все это я говорю горячо, даже запальчиво, словно кто-то спорит со мной, не соглашается. Между тем, все присутствующие со мной согласны. А Кузьмич задумчиво добавляет, по привычке раскладывая по столу свои карандаши и не отрывая от них глаз:
— Это убийство тянет на какое-то крупное хозяйственное дело, милые мои, — он поднимает голову и смотрит сперва на меня, а потом и на Виктора Анатольевича.
— Очень похоже, — соглашается тот. — Вообще пора, мне кажется, ОБХСС подключать, настало время. Наметилось уже несколько интересных фигур. Смотрите, — Виктор Анатольевич придвигает к себе лист бумаги и начинает называть имена и записывать их. — Пока в порядке выявления, — предупреждает он. — Значит, Семанский. Он убит. Потом этот самый Лев Игнатьевич. Дальше — Шпринц, Ермаков, это все там, в Южноморске. Да! Еще в Москве — Купрейчик.
Виктор Анатольевич каждое имя обводит квадратом и соединяет их пунктирными линиями, возле каждой из них ставя вопросительный знак и при этом поясняя:
— Функциональные связи тут пока точно не установлены. А скорей всего, некоторые звенья нам вообще неизвестны.
— Вы пока что и второго Ермакова запишите, — говорю я. — Василий Прокофьевич, двоюродный братец Гелия Станиславовича, в филиале его магазина трудится, на рынке. Прохвост, мне кажется, великий, может, даже почище Гелия.
— Запишем, запишем, — охотно откликается Виктор Анатольевич и, сделав пометку, замечает: — Все это должен изучить специалист, аккуратно и осторожно. Виталий, — обращается он ко мне и указывает на потолок. — Там, кажется, один крупный мастер на этот счет есть.
Виктор Анатольевич имеет в виду Управление ОБХСС, расположенное этажом выше нас.
— Там не один мастер, — улыбаюсь я.
— Это я и сам знаю, — говорит Виктор Анатольевич — Но я имею в виду одного вашего знакомого. Помните, мы с ним сотрудничали недавно по одному делу? Очень хорошее впечатление тогда оставил. Как его фамилия, забыл?
— Албанян? — спрашиваю я.
— Вот, вот. Введите его пока в курс дела. А мы потом небольшое совещание межведомственное, как всегда, соберем. Не возражаете, Федор Кузьмич? С вас, можно сказать, все началось, вы и решайте.
— Все правильно, — соглашается Кузьмич. — И Купрейчик-то этот самый не последнюю роль играет во всем деле, если из-за него такая схватка завязалась. Шутка? На убийство даже пошли.
— Золотая курочка, — насмешливо говорю я.
— Интересно знать, что она несет, — вставляет Петя.
Валя, как всегда, помалкивает и только под самый конец вдруг говорит:
— Можно предположить, что к Музе этот самый Лев Игнатьевич и заходил Возможно, хотел узнать, где Чума, куда пропал.
— Вполне возможно, — соглашается Кузьмич. — Таким образом, путей у нас к нему три: через Купрейчика, через Совко и через Музу. Кто-нибудь из них да должен знать, как до этого Льва Игнатьевича добраться Очень он нам нужен.
— Но ни Купрейчик, ни Совко так просто адрес его не назовут, — с сомнением говорит Петя. — Их заставить надо.
— Само собой, — снова соглашается Кузьмич. — Тут, милые мои, что-то придумать придется.
— Только учтите, — замечает Виктор Анатольевич, — у нас против этого Льва Игнатьевича нет ни одной улики. Обратили внимание? Ни одной. Выходит, арестовывать его сейчас нельзя. А потому и тревожить не рекомендуется.
— Все правильно, — Кузьмич задумчиво перебирает карандаши. — Тревожить не будем, а вот работать вокруг будем. Тогда появятся и улики. И идти пока что надо всеми тремя путями. И вообще давайте, милые мои, разворачиваться. Сделаем так, — он оставляет свои карандаши, и голос приобретает знакомую нам твердость: — Давай-ка, Шухмин, привези сюда Музу, Да побыстрее. Ты, Денисов, отправляйся за той женщиной в красном пальто. Разыщи ее непременно, без нее не возвращайся. Ну, а Лосев отправится к коллегам в ОБХСС, — заключает Кузьмич. — Выполняйте, милые мои. Время терять нельзя. Вон уже полдня и так прошло.
Все поднимаются со своих мест. Виктор Анатольевич прощается с каждым и уславливается о новой встрече Впрочем, никто сейчас не может предсказать, когда она потребуется.
Да, дело приобретает новый, неожиданный оборот. И контуры его начинают обрисовываться все явственней.
Я отправляюсь к нашим соседям на пятый этаж.
…Первым из нас троих выполнил свое задание Петя Шухмин. Через час он уже вернулся в управление вместе с Музой. На этот раз, надо сказать, Шоколадка выглядела далеко не такой привлекательной. Лицо ее заметно осунулось и побледнело, и потому ярко подведенные, как и прежде, губы, и зеленью оттененные веки не только не добавили ей сейчас привлекательности, но скорее делали и вовсе какой-то безвкусной дурнушкой. Это просто удивительно, как самочувствие и настроение женщины отражается на ее внешности.
Ну, а Муза, видимо, чувствовала себя плохо, очень плохо, и настроение у нее было отвратительное. Одни женщины при этом становятся резкими, грубыми или язвительными, другие плаксивыми. Муза, видимо, принадлежала к последним. Когда она вошла в кабинет Кузьмича, в глазах ее уже стояли слезы, а руки нервно теребили мокрый платочек, хотя вынула она его, как видно, только что и при этом забыла закрыть сумочку. Внизу, в гардеробе, Муза оставила свою роскошную дубленку и сейчас была в изящном сине-черном костюме со странным шлифованным камушком вместо брошки и красивой золотой цепочкой на открытой тонкой шее. Все было бы очаровательно, если бы не горькие складки в уголках рта и заплаканные, покрасневшие глаза на бледном лице.
Кузьмич, конечно, сразу все это отметил про себя и невольно вздохнул.
— Здравствуйте, Муза Владимировна, — сказал он, выходя из-за стола и придвигая ей стул. — Присаживайтесь, пожалуйста. Ничего не поделаешь, пришлось вас еще раз побеспокоить.
— Пустяки, — грустно махнула рукой Муза, опускаясь на предложенный ей стул. — Другие беспокоят меня гораздо больше.
— Вы имеете в виду Совко?
— Он уже, наверное, долго никого теперь не побеспокоит, правда?
— Да. Надеюсь, — кивнул головой Кузьмич и испытующе посмотрел через стол на Музу. — Но вы как будто жалеете, что он вас больше не побеспокоит?
— Представьте, жалею, — с неожиданным вызовом ответила Муза. — Что ж теперь делать? Это мой мужчина. Мне другого не надо. Из-за него я от мужа ушла, он мне противен стал.
Кузьмич неуверенно пожал плечами.
— Конечно раз так, то ничего не поделаешь. Сочувствую вам.
А Муза промокнула платочком выступившие слезы и, вздохнув, сказала С обидой и раздражением:
— Ах, что мне ваше сочувствие, когда разбита жизнь.
— Ну, ну, — улыбнулся Кузьмич. — Сейчас вы мне, наверное, не поверите, но уверяю вас, все пройдет. Забудете вы этого бандита, забудете. Вот он бы вам жизнь разбил, это уже точно.
— Да, конечно. Я все понимаю, — тихо ответила Муза, опустив голову.
— Ладно, — ответно вздохнул Кузьмич. — Оставим это. А вот кто же вас беспокоит больше, чем мы? Вы, кажется, так сказали?
— Я уже не помню, как я сказала, — стараясь снова не расплакаться, ответила Муза. — Я такая рассеянная стала. Ну, все забываю. И на работе тоже. Просто ужас какой-то.
— Тогда я буду поточнее, — мягко сказал Кузьмич. — К вам никто не приходил из знакомых Совко, не спрашивал о нем?
— Ой, приходил! — взволнованно воскликнула Муза и прижала ладони к щекам. — Я безумно перепугалась. Потом даже плакала.
— Кто же это был?
— Я его вообще не знаю.
— Ну, вы сперва мне его опишите, какой он из себя?
— Какой? Ну, такой низенький, полный, пожилой уже. Усы седые. Под глазами мешки. Я его раньше видела. Он раза два с Николаем приходил к нам в ресторан. Они вместе обедали. Я вам уже говорила.
— Как же его зовут?
— Николай нас тогда не знакомил. А сейчас, когда пришел, сказал, что зовут его Павел Алексеевич. Только…
Муза замялась.
— Что «только»? — настораживаясь, спросил Кузьмич.
— Наврал он, как его зовут, — слабо усмехнулась Муза. — Я мужчин уж знаю, как они знакомятся. И сразу чувствую, когда врут.
Кузьмич улыбнулся, про себя согласившись с ней, но на всякий случай спросил:
— А от Совко вы такого имени никогда не слышали?
— Нет, — покачала головой Муза. — Никогда.
— А вот другое имя — Лев Игнатьевич, тоже не слышали?
— Лев Игнатьевич?.. Кажется, слышала… — Муза задумалась. — Они с Лешей об этом человеке говорили…
— Что именно, не помните?
— Нет, не помню… Я уже ничего не помню, — снова чуть не заплакав, сказала Муза и досадливо махнула рукой. — Пустая голова совершенно стала… Ну, кажется… Николай не хотел что-то отдать этому Льву… Льву… как его?
— Игнатьевичу.
— Да, да, Льву Игнатьевичу. А Леша сказал, что тот может позвонить кому-то и… ну вроде бы пожаловаться…
— И что Николай?
— Он, по-моему… знаете, мне кажется, он никого на свете не боялся. А тут… Ну, в общем, сразу как-то уступил, согласился. Я еще удивилась, помню.
— Понятно… — задумчиво кивнул Кузьмич, по привычке вертя в руках сложенные очки. — А вы не поняли, куда этот Лев Игнатьевич может позвонить, не в другой город?
— Да, да. В другой город. Я так и поняла. Далеко куда-то.
— А кому? Леша никакого имени не называл?
— Называл… Я только забыла. Такое странное имя… Я еще подумала, — Муза слабо улыбнулась опять, — что мы в школе его проходили… по химии, кажется.
— По химии? — озадаченно переспросил Кузьмич.
— Ну да…
— А-а… Того человека не Гелий звали?
— Ну конечно! — обрадованно воскликнула Муза. — Гелий, Гелий… Ужасно странное имя, правда? Гелий… Станиславович. Вот так. Нет, я, кажется, еще не совсем с ума сошла, слава богу. Вон какой разговор вспомнила.
— И в самом деле, не всякий такое имя запомнит, — согласился Кузьмич.
— А я привыкла с лета всякие имена запоминать, — сказала Муза. — Знаете, в нашей работе как?
Но Кузьмич на этот раз был не склонен уводить разговор в сторону.
— А что вам сказал этот человек, который пришел к вам? — спросил он. — Помните?
— Конечно, помню. Спросил, не знаю я, где Николай. А я ему говорю: «Не знаю». Вы же мне так велели говорить?
— Правильно ответили. А он что сказал?
— «Неправда, говорит. Знаете. Он вам говорить не велел. Но я его и под землей найду. Далеко от меня не убежит. Кушать захочет». Очень мне хотелось ему сказать, где Николай теперь кушает.
— И больше он ничего не сказал?
— Выругался, знаете… как последний подонок. Меня даже не постеснялся. А с виду такой солидный. И еще говорит: «Не ожидал, что он тряпкой окажется». Леха, мол, другое дело. Он мог со страху удрать. А от Николая он не ожидал. Тем хуже для него. И мне говорит: «Вы тоже сто раз еще пожалеете, что прячете его. Я же знаю, что прячете». Грозить мне стал. Ой, я чуть со страха не умерла.
— Он вам никакого адреса или телефона не оставил?
— Телефон оставил. Велел, чтобы Николай ему позвонил. Я вам сейчас покажу. Он мне написал. Ой, где же эта бумажка…
Муза поспешно положила на колени сумочку, даже не заметив, что она все время была у нее раскрытой, и принялась торопливо рыться в ней, вынимая то одну бумажку, то другую, пробегая их глазами и досадливо пряча обратно. Наконец она нашла то, что искала.
— Вот. — Она протянула Кузьмичу клочок бумаги. — Его рукой написано.
Клочок оказался уголком газеты. На нем торопливо шариковой ручкой был написан номер телефона и рядом стояли два, очевидно, сокращенных слова: «пят» и «вт». Кузьмич на секунду задумался, потом кивнул головой.
— Ладно. С этой запиской мы разберемся. Можно ее оставить?
— Ну конечно. Чего вы спрашиваете?
— Спасибо. А этот человек обещал еще раз зайти?
— Нет. Сказал, что будет ждать звонка Николая. Он уверен был, что я знаю, где Николай. Просто не хочу ему говорить.
— Ну что ж. Прекрасно. А когда звонить, сказал?
— Сказал, чтоб вечером звонил. По вторникам и пятницам. Там же написано.
— А он сам у вас когда был?
— Когда?.. Сейчас скажу… Господи, когда же он был?.. Ах да! Он позавчера был, в четверг. Я же работала. Он за мой столик сел.
— А ваш домашний адрес он знает?
— Что вы! Нет, конечно. Николай никогда бы ему мой адрес не дал. Он никому его не давал, даже Леше и то.
— Ну, спасибо вам, Муза Владимировна, — сказал, вздохнув, Кузьмич. — Спасибо. Очень вы нам, кажется, помогли. И не переживайте уж так. Все, что случилось, — к лучшему, поверьте мне. А вы сейчас дочкой побольше займитесь, матери помогите! Это вас хоть как-то отвлечет.
— Если бы его была дочка… — опустив голову, тихо, с тоской произнесла Муза и закусила губу.
— Его дочка в другом городе бегает, — сердито сказал Кузьмич.
Муза подняла на него глаза.
— А вот этого вы могли бы мне не говорить.
— Простите, — смутился Кузьмич. — Вырвалось. Всего вам доброго.
— Вы мне пропуск подпишите, — сказала Муза сухо.
Когда она ушла, Кузьмич еще некоторое время сидел за столом, то и дело досадливо потирая седой ежик волос на затылке. Он был недоволен собой и все еще смущен.
Потом Кузьмич посмотрел на часы, встал, убрал в сейф бумаги со стола и, заперев кабинет, отправился обедать. Субботний день снова проходил на работе.
А после обеда в управлении появился Валя Денисов. С ним вместе приехала немолодая женщина в красном пальто.
Когда Кузьмич возвратился в свой кабинет, Валя попросил разрешения зайти к нему со своей спутницей.
— Роза Григорьевна, — коротко представил он ее Кузьмичу.
— Присаживайтесь, Роза Григорьевна, — сказал Кузьмич, указывая на стул, на котором час назад сидела Муза. — Вам, наверное, уже известно, почему мы вас побеспокоили?
Женщина оказалась много старше, чем можно было предположить в первый момент, судя по ее тонкой фигуре и легкой, порывистой походке. Узкое лицо ее с большими строгими глазами было покрыто сеткой мелких морщин, руки — большие, узловатые, привыкшие к нелегкому труду руки работницы. Уже начавшие редеть светлые волосы с заметной сединой на висках были небрежно собраны в пучок. Слегка робея от необычной обстановки, в которую вдруг попала, женщина опустилась на самый краешек стула, оправив на коленях темное платье, и с любопытством оглядела кабинет.
— Известно, известно, — закивала она в ответ на вопрос Кузьмича, не переставая оглядываться. — Вон он мне все и растолковал, — Роза Григорьевна указала на Валю. — Чего ж тут неизвестного?
— Так как, помните вы тот вечер?
— А как же? Ясное дело, помню.
— Вот вы мне и опишите все, что было, что видели.
— Так я ж ему вон все как есть уже описала, — женщина снова кивнула на Валю. — И все он понял.
— Вот вы и мне опишите, чтобы я тоже понял, — улыбнулся Кузьмич.
— Пожалуйста. Мне что? Я хоть сто раз опишу, — охотно согласилась Роза Григорьевна. — Значит, часов так уже в десять это было-то. Точнее сказать, в одиннадцатом. Как раз, помню, кино по телевизору кончилось. Вышла я, значит. А темень у нас во дворе страшенная. Уж сколько писали, сколько писали, вы бы знали. Тут, дорогие начальники, кого хошь убьют или разденут. Уж и Борис Кириллович покойный, помню, еще хлопотал. Все обещали. И человек вот уже помер, а темень эта распроклятая как, значит, была, так и осталась. Это что же такое, я вас спрашиваю? — Роза Григорьевна все больше распалялась от негодования. — А вот возьму и слова вам не скажу, пока двор нам не осветите! Это ж подумать только!
— Мы, Роза Григорьевна, все от нас зависящее сделаем, — серьезно сказал Кузьмич. — Правы вы тут на сто процентов. Обещаю вам.
— Вот, вот. Сделайте. Все спасибо вам скажут, — уже совсем другим тоном подхватила Роза Григорьевна и со вкусом снова приступила к рассказу: — Ну, вот, значит. Вышла я себе. Темень, говорю…
— А зачем вы во двор вышли?
— То исть как «зачем»? Своего искать.
— Это мужа, значит?
— А то кого же? Он, как что, в котельную от меня бегет. Дружки у него там растреклятые. А со мной у телевизора ему, видишь, плохо. Ну, вышла я, одним словом. Гляжу, бегут двое, к воротам. А там как раз, значит, фонарь на доме. Добежали они до него и тут один другому чегой-то крикнул, и они назад повертали. Меня, как вроде, в сердца стукнуло. Не иначе, думаю, жулики, чегой-то сотворили, бесы. Я сторонкой так за ними и пошла. Гляжу, а они уже, значит, из сарая вылазят. И назад к воротам побежали. А один, который повыше был да похудее, губки такие, как у девки.
— Выходит, разглядели вы его? — поинтересовался Кузьмич.
— А то. Он же под фонарем был. Я его из тыщи узнаю, губастенький такой да глазастенький. Он того, второго, медведя, значит, на бегу и спрашивает, как раз мимо меня бегли: «Ты, говорит, с той стороны досками хорошо прикрыл?» А тот говорит: «Хорошо». А этот еще засмеялся: «Ну, говорит, тогда до весны полежит, не протухнет». И оба гогочут, заразы. Вот так мимо и пробежали. Своими глазами видела. Я еще подумала, чего протухнуть может.
— И куда вы пошли?
— Так я же говорю, в котельную, своего вытаскивать.
— Расскажите Федору Кузьмичу, что того академика вы знали, — подсказал Валя. — Что убирали у него.
— Ну да, — кивнула Роза Григорьевна. — Убираться к ним ходила. Сколько лет, считай. И с детишками ихними возилась. Да и сейчас к Инночке два раза в неделю хожу. Тоже прибираюсь. А когда и сготовлю чего.
— Ишь ты, — удивленно произнес Валя. — Про сейчас вы мне даже не говорили, что убираться ходите.
— Так господи! Разве сразу все скажешь? Да и ни к чему вроде было говорить-то, — словно оправдываясь, торопливо заговорила Роза Григорьевна. — Это я уж сейчас так, к слову, можно сказать.
— И по каким же вы дням там убираете? — спросил Кузьмич.
— Да как Инночка позвонит, так и забегу. Мне любой день как день. На пенсии я уж вон третий год, считай.
— А последний раз вы там когда были?
— Последний-то? — Роза Григорьевна задумалась. — Посчитать надо. Стой, стой. Сегодня у нас, значит, какой день?
— Сегодня суббота.
— Ну, верно. Суббота, значит. А я, выходит, как раз вчерась была. Это значит — в пятницу. Ну конечно! — обрадованно объявила Роза Григорьевна. — А уж пыли набралось, господи… Ну, из каждого угла, из каждого угла.
Вообще строгая ее внешность оказалась весьма обманчивой. Другой такой любопытной и болтливой женщины, кажется, трудно было найти. А тут еще ее воодушевляло необычайное внимание к ее словам со стороны обоих слушателей.
— И в какое же время вы вчера там убирались? — спросил Кузьмич.
— В какое? Вот как с магазинов, значит, пришла, ноги гудят, мочи нет. Там постоишь, здесь, еще где. Домой еле приползешь. Вот я, значит, передохнула маленько, кой-чего приготовила и пошла себе. Инночка ключи еще с утра занесла, как в свою поликлинику побежала. Ну а я, значит, так часа в два или в три к ним собралась. Все магазины, чтобы им! И нога правая. Ну, тянет и тянет, спасу нет. Я уж Инночке говорю…
— А ушли вы оттуда когда? — прервал ее новым вопросом Кузьмич.
— Ушла-то? — нисколько не обидевшись, переспросила Роза Григорьевна. — Да я на часы ведь не гляжу. Как все прибрала, так и пошла себе. Чего еще делать?
— Никто при вас не вернулся еще, ни Инна Борисовна, ни Виктор Арсентьевич? — все более заинтересованно продолжал расспрашивать Кузьмич.
— Сам-то уже пришел, Виктор Арсентьевич. Продукты привез. Он завсегда их сам привозит. Заказ, значит, ему положен. Агромадный, скажу, заказ. Иной раз Инночка и меня угостит. Ну, а тут, значит, вчера то есть, он еще и гостя привел. Я им, конечное дело, чая подала. А ужинать они Инночку порешили ждать.
— Какой же тот гость из себя был?
— Из себя-то? Ну, как сказать… — Роза Григорьевна секунду помедлила, соображая. — Серьезный больно, невысокий, грибок такой вот. Еще усатенький. Белые усы-то. А глазки, значит, такие сердитенькие выкатил. И гусе-ем так шипел.
Роза Григорьевна помогала себе мимикой и жестами. И это у нее получалось так смешно и выразительно, что и Кузьмич, и Валя все время невольно улыбались, глядя на нее. А потом вдруг Кузьмич посмотрел на Валю и уже без улыбки сказал:
— А что? Очень этот гость похож, мне кажется, на этого самого Льва Игнатьевича, ты не находишь?
— Пожалуй, — согласился Валя и, обращаясь к Розе Григорьевне, спросил:
— Не слышали, как Виктор Арсентьевич называл своего гостя, не Лев Игнатьевич, случайно?
— Да ни к чему мне было прислушиваться-то, — беспечно махнула рукой Роза Григорьевна. — Чай им собрала да и пошла.
В это время на небольшом столике возле кресла Кузьмича зазвонил один из телефонов. Кузьмич снял трубку и узнал мой голос.
— Федор Кузьмич, — сказал я, — Тут вот товарищ Албанян и его руководство в лице товарища Углова Геннадия Антоновича желают после моей подробной информации кое-что с вами обсудить. Вы свободны?
— Мы тут беседу одну заканчиваем, — ответил Кузьмич. — Через пять минут я вам перезвоню. Кстати, раз так, то надо бы и Виктора Анатольевича разыскать. Он у себя, не знаешь?
— Так точно, у себя, — подтвердил я. — Только что говорил с ним.
— Ну, все пока, — сказал Кузьмич.
Он повесил трубку и посмотрел на Валю.
— Давай за Виктором Анатольевичем. Для экономии времени по дороге кое-чего ему уже расскажешь. Возьми машину.
— Это в какую же сторону поедете? — бойко осведомилась Роза Григорьевна. — Может, и меня заодно домой подбросите? Борис Кириллович покойный завсегда меня куда надо подбрасывал. А Виктор Арсентьевич, дай бог ему здоровья, так этот непременно…
— Простите, Роза Григорьевна, — деликатно прервал ее Кузьмич, — вот ему по дороге все и расскажете. Он вас тоже подбросит.
И Кузьмич неожиданно весело подмигнул Вале.
На этот раз даже Валя с трудом сдержал улыбку и серьезно сказал, обращаясь к Розе Григорьевне:
— Пойдемте. Все вы мне в машине расскажете насчет Виктора Арсентьевича. Может, и новое чего вспомните.
Когда они вышли из кабинета и Валя аккуратно и плотно прикрыл за собой дверь, Кузьмич с наслаждением потянулся, потом снял трубку, не спеша набрал короткий номер и сказал:
— Прошу. К вашим услугам.
В результате нашего субботнего «межведомственного» совещания на меня выпадает непростая задача выйти через Купрейчика на след этого проклятого Льва Игнатьевича. Впрочем, особенно непростой она стала лишь сегодня вечером, во вторник. Но расскажу все по порядку.
Возможными, а точнее, вполне вероятными хозяйственными махинациями Купрейчика, для которых он конечно же использует свое служебное положение, теперь вплотную занялся Эдик Албанян. А меня пока что интересует Лев Игнатьевич как соучастник, а вернее даже — подстрекатель и организатор убийства Семанского На это ясно указал Шпринц, это следует из услышанного Гавриловым разговора между Семанским и этим Львом Игнатьевичем, разговора, который перешел затем в серьезную ссору, и ссору наблюдала Софья Семеновна, когда гуляла во дворе со своими внуками. Словом, косвенных свидетельств причастности Льва Игнатьевича к убийству, как видите, хватает. Но улик, прямых или даже косвенных, у нас, увы, пока нет. Однако это, конечно, вовсе не означает, что мы не должны самым энергичным образом искать Льва Игнатьевича. Наоборот, сложная ситуация именно того и требует. В данном случае немедленное его обнаружение, скорей всего, даст и недостающие нам улики. Ну, а путь к Льву Игнатьевичу должен нам указать Купрейчик, хочет он того или не хочет.
Теперь уже совершенно очевидно, что Лев Игнатьевич решился на встречу со мной в кафе, причем посулил мне, как вы помните, немалую взятку только потому, что испугался моего выхода на Купрейчика, испугался, что тот из жертвы может превратиться в обвиняемого, и тогда эта «золотая курочка» не только перестанет приносить «доход», как выразился Георгий Иванович Шпринц, но и потянет к ответу всю «золотую цепочку», в том числе и его самого, то есть Льва Игнатьевича. При этом последнего нисколько, видимо, не беспокоит не только расследование квартирной кражи у Купрейчика, что понятно, но и расследование убийства Семанского, что уже вовсе непонятно и даже, я бы сказал, странно.
А пока единственное, что нам известно про него, — он москвич. И если бы знать его фамилию, например, то адрес, где он живет или, во всяком случае, прописан, установить можно было бы легко, как вы понимаете. А за этим потянулось бы и немало других сведений. Слабая надежда на этот адрес у меня было затеплилась, когда Кузьмич передал мне записку с номером телефона, которую Лев Игнатьевич оставил Музе. Но тут же выяснилось, что на клочке бумаги написан номер телефона Купрейчика. Тогда, естественно, возникла мысль задержать Льва Игнатьевича или, во всяком случае, взять его под наблюдение сегодня, во вторник, когда он снова придет к Купрейчику, как пришел и в прошлую пятницу, чтобы ждать звонка Николая.
Вообще-то говоря, это тоже странно. Что он за дежурства такие установил у Купрейчика? Неужели он теперь будет приходить к нему каждый вторник и пятницу? Только чтобы ждать звонок Чумы? Сомнительно. Хотя прошлый раз он был у Купрейчика именно в пятницу. Значит, вторник и пятница… вторник и пятница…
Размышляя, я верчу в руке клочок бумаги с телефоном Купрейчика и неожиданно обращаю внимание, что Лев Игнатьевич написал эти дни не так, как я их сейчас про себя повторяю, а наоборот — пятница, вторник. Почему? Наверное, просто так случайно написалось. А впрочем… Когда человек пишет эти дни подряд, то невольно ставит их в привычном порядке. Вот как я, повторяя их про себя. А тут… М-да… Пожалуй, не каждые вторник и пятницу собирается бывать Лев Игнатьевич у Купрейчика. Нет, не каждые, а только ближайшие к тому дню, когда он побывал у Музы и писал эту записку. А побывал он в четверг. Вот и указал на два следующих дня — пятницу и вторник, И пятница уже прошла. Он был у Купрейчика, но звонок не последовал. Остается теперь только вторник. Сегодня Лев Игнатьевич еще раз появится у Купрейчика. В последний раз, возможно. И скорей всего, он придет не только ради звонка Чумы. Ну что ж, так или иначе, но сегодня мы его, надеюсь, не упустим.
Интересующий нас дом берется под наблюдение с середины дня. Только спустя три часа фиксируется возвращение с работы самого Купрейчика. Затем приходит его супруга. Но Лев Игнатьевич так и не появляется. И вообще ни один человек в этот вечер к Купрейчику не заглядывает.
Вот теперь задержание или, точнее, обнаружение Льва Игнатьевича становится уже совсем не простой задачей. Ведь тот факт, что он в назначенный им самим день не появился возле указанного телефона, может объясняться как чистой случайностью — допустим, болезнью или каким-то непредвиденным делом, — так и тем, что Лев Игнатьевич почуял опасность и ловко избежал ловушки. Да, скорей всего, он что-то учуял Теперь, я полагаю, и сам Купрейчик уже не знает, где скрывается этот тип. И все же мы приходим к выводу, что с Купрейчиком необходимо повидаться.
Поэтому на следующий день, то есть в среду, я звоню Виктору Арсентьевичу и уславливаюсь о встрече у него дома, после его возвращения с работы.
А пока что я встречаюсь с Эдиком Албаняном. По его просьбе, как любят подчеркивать дипломаты. Это последнее обстоятельство вселяет в меня всякие надежды. Зря Эдик звонить и встречаться не будет.
Как мы и договорились, Эдик появляется у меня в комнате ровно в три тридцать.
На этот раз в руках у Эдика толстая папка. Он садится возле меня за стол, раскрывает эту папку и, перекладывая одну бумагу за другой, бегло их просматривая, начинает докладывать:
— Так вот, первое. Слушай меня. Насчет этой самой пряжи. Помнишь, Шпринц о ней говорил, что получает ее из Москвы?
— Еще и Лида о ней говорила, бухгалтер Шпринца, — добавляю я. — Она еще сказала, что эта пряжа в магазин не доставлялась, а транзитом куда-то шла. Ты это тоже не забудь.
— Будь спокоен, — важно кивает Эдик. — Мы все помним. Так вот, эту пряжу Шпринц действительно получает из Москвы. Причем с фабрики Купрейчика. Ясно?
— Но вполне официально?
— Так-то оно так, — хитро усмехается Эдик. — Но тут есть нюансы. Вот слушай. Нюанс первый: как эта пряжа попала на фабрику Купрейчика. Точнее даже, как она попала туда в таком количестве, сверх всяких потребностей и лимитов, понимаешь вопрос? Вообще-то такое у нас бывает. Снабженцы обожают создавать всякие запасы, особенно дефицитного сырья. А вдруг потребуется? Или, допустим, придется обменять на что-нибудь нужное, чего у них нет? Словом, сам факт создания таких излишков, или, как говорят, неликвидов, особых подозрений не вызывает. Но… — Эдик многозначительно поднимает палец. — Смотри, что тут делается дальше. Сначала он, то есть Купрейчик, этих излишков добивается. Я видел бумаги. Вчера весь день сидел у них в бухгалтерии. И сегодня полдня.
— В отделе снабжения у Купрейчика об этом не узнают?
— Ну что ты! — снисходительно усмехается Эдик. — С кем ты имеешь дело? Фирмой нашей даже не пахло.
— Простите, маэстро, мой нелепый вопрос, — шутливо говорю я.
— Прощаю, — кивает Эдик и продолжает: — Так вот, повторяю. Нюанс первый: Купрейчик сначала этих излишков пряжи добивается, а потом от них почти сразу же избавляется, направляя Шпринцу. А пряжа эта, между прочим, весьма дефицитная и дорогая, марки двести дробь два. И гнал он ее в магазин Шпринца в огромных количествах, как тебе известно. Спрашивается, на каком основании, да? Отвечаю: действительно вполне официально. Я сам убедился. На основании прямого и четкого распоряжения управления Разноснабсбыта.
— А чья высокая подпись? — спрашиваю я, вспомнив слова Шпринца.
— Заместителя начальника управления, все, как положено. Но… — Эдик хитро блестит глазами. — Вот тут-то и появляется второй нюанс.
Все-таки Эдик великий мастер. В их деле надо знать и каждую минуту помнить такую уйму сведений экономического порядка, бухгалтерского, технологического, административного и при этом обладать каким-то особым, прямо-таки особым чутьем, чтобы отыскать нужный путь в океане сведений. Причем, учтите, знания эти особого рода, какие не дает ни один институт и никакие курсы повышения квалификации тоже. Ну вот, к примеру, в области технологической надо знать не только саму технологию изготовления данного вида изделия, но и как эту технологию можно незаметно изменить, чтобы при определенном ухудшении качества получить нигде не запланированный и неучтенный излишек в количестве. Или, скажем, в области административной надо знать не только структуру подчиненности, отчетности и взаимосвязи, но и какое именно звено можно обойти или, наоборот, использовать, чтобы получить, например, нужный наряд или указание.
Вот сейчас Эдик как раз и погрузился в эту самую административную область и выудил официальное разрешение заместителя начальника управления Разноснабсбыта передать неликвиды пряжи с фабрики Купрейчика черт знает куда, аж в Южноморск, в магазин мелкооптовой торговли, где директором является некий Шпринц. Правда, магазин этот принадлежит той же системе, и подкинуть ему для продажи дефицитный товар, чтобы магазин выполнил свой план, в принципе, конечно, допустимо. Но… Тут, оказывается, есть, как выражается Эдик, еще один нюанс.
— Какой же тут нюанс? — спрашиваю я.
— Нюанс заключается в высокой подписи, — снова необычайно лукаво улыбается чем-то довольный Эдик. — Видел это письмо своими глазами. Подпись, представь себе, — Ермаков.
— Ермаков? — удивленно и недоверчиво переспрашиваю я.
— Именно так.
— Это что же, однофамилец, выходит?
— Никак нет, — торжествует Эдик. — Уточнил. Зовут — Дмитрий Станиславович. И выходит — братец замечательного директора магазина «Готовое платье», так?
— Выходит, что так, — соглашаюсь я, все еще не в силах прийти в себя от этого неожиданного открытия.
— Вот и начало цепочки, понял? — назидательно говорит Эдик. — Ее московские звенья. Остальное там, — он неопределенно машет рукой. — Главное, если хочешь знать, там.
Я, конечно, понимаю, что он имеет в виду.
— Но в Москве еще Лев Игнатьевич, — напоминаю я. — Какова тут его роль, интересно бы знать. Ты как думаешь?
— Пока не ясно, — качает головой Эдик.
— А какую роль, по-твоему, играл Гвимар Иванович?
— Тоже пока не понятно.
— Могу я использовать твои данные в беседе с Купрейчиком, осторожно, конечно? — спрашиваю я. — У нас сегодня встреча.
— Понимаешь, — задумчиво говорит Эдик, — честно говоря, другому бы я не разрешил. Но тебе доверяю Только учти: главное — это не взбаламутить всю цепочку. Если в Южноморск сейчас поступит сигнал, это будет… Ну, ты сам понимаешь, что это будет А сигнал может поступить, если ты вдруг испугаешь Купрейчика. Он его и подаст.
— Или Лев Игнатьевич.
— Да, или он, если Купрейчик ему передаст, — соглашается Эдик и спрашивает: — Это тебе Шпринц сказал, что Купрейчик терпеть не может Льва Игнатьевича?
— Он.
— И что с Гвимаром Ивановичем он дружил?
— Это мне Купрейчик говорил.
— О! Тут у тебя кое-какая зацепочка есть, ты не находишь?
Эдик вопросительно смотрит на меня своими красивыми агатовыми глазами.
— Да, ты прав, — соглашаюсь я. — Кое-что тут есть. Но главное в другом, я думаю. Чтобы Купрейчик ничего не передал Льву Игнатьевичу и не дал сигнал тревоги в Южноморск, его надо в этом заинтересовать, это должно быть ему невыгодно.
— Молодец? — восхищенно восклицает Эдик. — Умница!
Как всегда, его эмоции на порядок выше, чем следует. Подумаешь, какое великое открытие я сделал. Главное, придумать, как именно его заинтересовать, чем. И вот тут-то я пока ничего придумать не могу. А пока не придумаю, нельзя будет и использовать ценнейшие данные Эдика. Вот ведь какая петрушка!
— Что ты намерен делать дальше? — спрашиваю я.
— Дальше я, видимо, отправлюсь в путешествие, — смеется Эдик — По твоим следам. Дашь рекомендательные письма?
— Если заслужишь.
— Как? Значит, я, по-твоему, их еще не заслужил? — Эдик свирепо вращает глазами — Жалкий человек, что ты понимаешь! Да один Дмитрий Станиславович Ермаков чего стоит?
— Это все ты для себя стараешься, — шутливо возражаю я.
— Для себя? — с грустным укором переспрашивает Эдик. — А кто просил только что разрешение использовать мою добычу?
— Поймал, — сдаюсь я. — Получишь письма.
— То-то, — удовлетворенно кивает Эдик и уже который раз смотрит на часы. — Ты не думай, пожалуйста, что я тут заболтался с тобой. Просто пять минут лишних осталось. А теперь я пойду. Через три минуты ко мне кое-кто заглянуть должен. Привет!
Эдик стремительно поднимается, хватает свою папку и спешит к двери.
Когда он уходит, я тоже смотрю на часы Пора собираться и мне. Состязаться в пунктуальности с Эдиком я, конечно, не могу, но все же опаздывать тоже не собираюсь.
День уже заметно прибавился, и на улице еще совсем светло. Это не только заметно, но и приятно, поднимает настроение, даже, я бы сказал, добавляет оптимизма. Сам не знаю почему. Кажется, недавно я выходил на улицу тоже, как сейчас, часов в пять, и было уже темно, над головой зажигались фонари. А сейчас вот совсем еще светло, можно даже читать. Идет весна, и это очень приятно ощущать. Хотя еще и холодно, и снег лежит во дворах и скверах. Но все-таки шагается мне сейчас легко, бодро, и воздух словно напоен близкой весной. Конечно, все субъективно, я понимаю. Мама, например, уверяет, что дышать вообще нечем, а в это время года — особенно. Она-то утверждает это прежде всего как врач, а вот моя бедная теща действительно в это время года прямо погибает, бедняга.
Размышляя на все эти веселые и грустные темы, я добираюсь до остановки троллейбуса. Городской час «пик» уже, к сожалению, наступил, и потому мне лишь с большим трудом удается втиснуться в троллейбус, выстояв немалую очередь. Сильно помятый, я наконец выхожу на нужной мне остановке.
И вот я уже иду по знакомому мне двору, который, однако, неуловимо изменился с тех пор, как я здесь был в последний раз. Ну, конечно. Стало заметно меньше снега, кое-где проступила черная полоска асфальта, очистились от снега скамейки в палисадничке, и потемнела, осела ледяная горка.
Во дворе никого нет, хотя еще довольно светло. Но в окнах окружающих домов кое-где горит свет. Я захожу в подъезд, и старый лифт, натужно лязгая, тянет меня на третий этаж.
Виктор Арсентьевич уже дома, успел даже надеть свою красивую коричневую пижаму и теплые, отороченные мехом, домашние туфли. Открыв дверь, он радушно мне улыбается. Однако вид его мне не нравится. Он осунулся, покраснели словно от бессонницы веки, и взгляд стал какой-то рассеянный, беспокойный. Впрочем, все это можно заметить, если очень уж приглядываться. А если нет, то перед вами все тот же человек, невысокий, седоватый, невзрачный и с первого взгляда решительно незапоминающийся. Но я-то приглядываюсь к нему, поэтому сейчас отмечаю про себя малозаметные для других перемены, мелкие «нарушения» знакомого облика этого человека.
В передней я снимаю пальто и обращаю внимание, что на вешалке висит только пальто Виктора Арсентьевича. Значит, Инна Борисовна еще не пришла с работы. Кепку свою я кладу рядом со шляпой Виктора Арсентьевича и пушистой меховой шапкой. Эту шапку он, наверное, надевает в холодные дни, она мне почему-то знакома.
Виктор Арсентьевич проводит меня в уже знакомый кабинет, и я располагаюсь в огромном кожаном кресле возле журнального столика. Беспокойное книжно-журнальное море на полках и столах выглядит по-прежнему внушительно. Вероятно, по этой причине Виктор Арсентьевич его и не ликвидирует. По-прежнему висят и картины над диваном. Правда, мне кажется, что здесь что-то прибавилось, картины висят как будто теснее. Выходит, Виктор Арсентьевич продолжает пополнять коллекцию тестя? Как мне Олег Брюханов говорит: «Душа каждый раз радуется, как от встречи с близкими людьми». Однако в Викторе Арсентьевиче радости и покоя я сейчас что-то не замечаю. Наоборот, взвинченный он какой-то, все как будто дрожит у него внутри, и никак ему почему-то не удается успокоиться, даже притвориться спокойным ему к то до конца не удается. Я помню его совсем другим во время прошлых наших встреч. Тогда он был насторожен, однажды был даже испуган, когда узнал об убийстве Гвимара Ивановича, временами бывал сердит, недоволен, это я тоже помню. Но таким он еще не был. Сейчас он как-то по-особому взволнован, я никак не разберусь в его состоянии.
На столике передо мной стоит вазочка с конфетами и другая, побольше, с яблоками. Тут же лежат сигареты, красивая газовая зажигалка, рядом стоит круглая большая пепельница из тяжелого чешского стекла, в ней несколько окурков.
— Ну-с, так что же вас привело ко мне на этот раз? — с наигранным, ленивым добродушием спрашивает Виктор Арсентьевич и тянется за сигаретой.
— Привело к вам мое предложение, которое, если помните, я внес в конце прошлой нашей беседы, — говорю я. — Тогда я вам сказал примерно так: давайте-ка отложим этот разговор и оба подумаем. Помните?
— Припоминаю, — кивает Виктор Арсентьевич и придвигает ко мне вазу с яблоками: — Отведайте-ка.
— Благодарю. Я лучше, с вашего разрешения, закурю… — И, продолжая беседу, вытаскиваю из пачки сигарету, затем щелкаю роскошной зажигалкой. — Так вот, мне действительно хотелось, чтобы вы подумали. Речь у нас, помнится, шла о том, что вот, мол, Гвимара Ивановича вы знали, даже приятелями были, а насчет некоего Льва Игнатьевича вы якобы ничего даже и не слыхали. Так вы мне говорили прошлый раз, не правда ли?
— Совершенно верно, — кивает Виктор Арсентьевич. — Я и сейчас это утверждаю, имейте в виду.
— И, кажется, еще категоричнее, чем в прошлый раз, — замечаю я.
— Так же категорично.
— Допустим. Тогда напомню вам кое-что еще из прошлого разговора.
— Нет необходимости, — поспешно и довольно нервно прерывает меня Виктор Арсентьевич. — Я все прекрасно помню.
— Иногда полезно еще раз напомнить, — возражаю я, отмечая про себя эту непонятную вспышку. — Так вот, мы пришли с вами к выводу, что дружба с Гвимаром Ивановичем бросает на вашу репутацию некое пятнышко. И я предположил тогда, что вы просто не хотите иметь второго, погрязнее, подтвердив свое знакомство с Львом Игнатьевичем. Так ведь?
— Так, — сухо кивает Виктор Арсентьевич. — Если иметь в виду точность ваших воспоминаний. Но второго пятнышка я не боюсь, так как никакого Льва Игнатьевича знать не знаю. Тогда вам это сказал и сегодня повторяю.
Эта откровенная ложь мне почему-то вдвойне неприятна. Наверное, потому, что привык видеть в Викторе Арсентьевиче жертву и считать его поэтому своим естественным союзником. А все шероховатости и неувязки, которые у меня до сих пор с ним возникали, казались мне либо недоразумениями, либо ошибками. Но сейчас Виктор Арсентьевич спокойно и нагло врет мне в глаза, решительно разбивая все мои прежние представления о нем. Эта ложь убеждает меня даже больше, чем все открытия Эдика в том, что Купрейчик действительно замешан в каких-то преступлениях, в большей или меньшей степени, но замешан. И это невольно ожесточает меня в разговоре с ним.
— Ну так вот, Виктор Арсентьевич, что я вам должен сообщить. — решительно говорю я. — После нашей последней встречи прошло немало времени. За этот срок мы кое-что успели сделать. Во-первых, мы раскрыли кражу и скоро вернем вам украденные вещи и картины.
— Не может быть! — восклицает пораженный и конечно же обрадованный Виктор Арсентьевич. — Неужели раскрыли?
— Да. Представьте себе.
— Ну, и… кто же все это украл?
— Некие квартирные воры. Вы их не знаете.
— Но… вы, кажется, говорили, что… Словом, они и в убийстве замешаны?
— Нет. Не замешаны. Это два разных преступления и совершены разными людьми. Лишь случайно совпали по времени.
— Ах, вот оно что…
— И тут я вас хочу серьезно предупредить, — медленно и внушительно продолжаю я. — Мы, по существу, раскрыли и убийство Семанского. В нем оказались замешанными очень разные люди. Очень. Что касается двоих из них, которые непосредственно это убийство и совершили, то один арестован, второй… второй, к сожалению, погиб.
— Как «погиб»?! — невольно вырывается у Виктора Арсентьевича.
— Вас эта гибель не касается. Как, надеюсь, не касается и арест второго. Очень надеюсь…
Тут Виктор Арсентьевич пытается что-то сказать, но я резким жестом останавливаю его и продолжаю:
— …Но есть и соучастники этого тяжкого преступления. Вот они пока что на свободе.
— И вы их знаете? — нервно спрашивает Виктор Арсентьевич, ерзая в Своем кресле и с безразличным видом поглядывая куда-то в сторону.
— Знаю.
Я стряхиваю пепел с сигареты в придвинутую к моему креслу пепельницу и неожиданно замечаю в ней среди окурков две или три кривые, сплошь обуглившиеся спички. Кто-то, видимо, забавлялся, стараясь, чтобы они сгорели до конца. Стоп, стоп!..
На секунду я даже цепенею от охватившего меня волнения. Вот это открытие! Неужели до меня тут успел побывать уважаемый Лев Игнатьевич? И не вчера, нет, вчера его здесь не было. Да и пепельницу со вчерашнего дня, скорей всего, вытряхнули бы. Значит, сегодня он тут побывал, незадолго до моего прихода! Вот почему так взволнован Виктор Арсентьевич. Ну что же…
— Да, я их знаю. И они пока на свободе, — повторяю я, приходя в себя.
— Вы что-то вспомнили неприятное? — участливо спрашивает Виктор Арсентьевич, пытливо заглядывая мне в глаза.
— Нет. Просто подумал, как бы мне яснее выразиться, чтобы вы меня поняли.
— О, не беспокойтесь, я вас пойму! — поспешно откликается Виктор Арсентьевич.
— Надеюсь. Так вот. Я уже вам сказал, да вы и сами знаете: убийство — страшное преступление. Самое, пожалуй, страшное Зачем же вы влезаете в это дело? Почему мешаете нам его раскрыть до конца?
— Я?! Вы… Вы что?! Вы думаете, что говорите?..
Виктор Арсентьевич даже подпрыгивает в кресле, и лицо его заливается краской. Мои слова для него, конечно, полная неожиданность.
— Да. Думаю, — спокойно подтверждаю я. — И для ясности кое-что вам сообщу. В этом деле есть не только убийцы. Есть и подстрекатель. Вы мешаете мне его обнаружить и задержать.
— Я?.. Я вам мешаю?.. Чушь какая-то… — бормочет Виктор Арсентьевич, с опаской отводя глаза куда-то в сторону от меня.
— Скажите, — неожиданно спрашиваю я, — вы знаете Георгия Ивановича Шпринца?
— Я?.. Н-не знаю…
— А вот он вас, представьте, знает. Я с ним беседовал всего три дня назад.
— Да при чем здесь Шпринц?! — не выдержав напряжения, в отчаянии восклицает Виктор Арсентьевич. — Зачем вам понадобился этот жалкий человечек, можете мне сказать?
Я пожимаю плечами.
— Просто мне надо до конца раскрыть убийство Семанского. Только и всего.
— А зачем вам для этого понадобился Шпринц?
— Чтобы заставить вас говорить правду.
— К-какую правду?
— Сейчас скажу. Пока пойдем дальше. Розу Григорьевну вы тоже не знаете? Или все-таки знаете?
— Розу Григорьевну? Да она-то какое имеет ко всему этому отношение?
— Она имеет отношение к вам. Как, впрочем, и Шпринц.
— Нет, я, кажется, сойду тут с вами с ума! — хватается за голову Виктор Арсентьевич и, вскочив с кресла, начинает возбужденно шагать по кабинету, огибая столы с наваленными на них журналами и книгами.
Потом он резко останавливается передо мной и спрашивает:
— Что вы от меня хотите?
Глаза у него при этом совершенно измученные.
— Чтобы вы сказали мне правду.
— Так… Правду сказать… — бормочет Виктор Арсентьевич, снова начиная метаться по кабинету. — Правду, видите ли…
Он вдруг крадучись приближается ко мне и, нагнувшись, тихо спрашивает:
— А если правда кусается?
Я просто физически чувствую, как ему сейчас страшно.
— Что ж делать, Виктор Арсентьевич, — говорю я. — Не надо было соприкасаться с такой правдой.
— Ах, много вы понимаете в жизни!
Он досадливо машет рукой.
Мне очень хочется кое-что сказать ему насчет жизни, насчет честной и нечестной жизни, и совести тоже, и о том, что он запачкал не только свое имя и жизнь покалечил не только свою. И еще — что за все в жизни приходится платить — и за хорошее, и за плохое. Только плата за хорошее обычно взимается вперед, и она не так уж велика, а за плохое платить надо потом, жестоко платить и неизбежно. Но я не вправе сейчас все это ему сказать. Поэтому я только строго его спрашиваю:
— Короче. Будете говорить правду?
— Ну что? Что вам надо, наконец? — мучительно морщась, как от зубной боли, спрашивает Виктор Арсентьевич и валится на диван. — Что говорить?
— Вы знаете Льва Игнатьевича?
— Нет, нет и нет!
— А вот Шпринц говорит, что вы его знаете, — сухо возражаю я. — И Роза Григорьевна видела его у вас в прошлую пятницу. Наконец, всего час назад…
И тут у меня в голове вдруг мелькает догадка. Нет, не час назад, не до моего прихода был здесь Лев Игнатьевич. В передней возле зеркала лежит его шапка. Именно его! Я ее узнал. Я ее вспомнил! Ну конечно! И это взвинченное, испуганное состояние, в котором находится все время Купрейчик. Как он неслышно подкрался ко мне и почему-то понизил голос, когда сказал; «А если правда кусается?» Наконец, эти его непонятные взгляды все время куда-то в сторону, все время в одну сторону, а там… Я уже заметил. Там, между стеллажами с книгами, видна дверь в соседнюю комнату. Почему он туда поминутно смотрит? Кто-то находится в той комнате?
Я и сам не заметил, как с первого же момента прихода сюда, с момента, когда увидел чем-то знакомую мне шапку в передней, во мне возникло напряженное ожидание какого-то неожиданного события, что-то должно было случиться, что-то произойти. И вот пожалуйста…
Решительно поднявшись со своего кресла, я, ни слова не говоря, направляюсь в переднюю.
— Что с вами, Виталий Павлович? — пугается Купрейчик, бросаясь вслед за мной.
— Ничего особенного.
В передней я подхожу к выходной двери и поворачиваю торчащий в старинном замке большой, фигурный ключ, который заметил еще в первый свой визит сюда и которым, вероятно, уже много лет не пользовались. Для запирания двери имелись два вполне современных, обычных замка, а этот, очень старый, врезной замок сохранили, наверное, только чтобы не портить толстую, добротную дверь. Теперь этот замок пригодился мне.
— Что вы делаете? — удивленно и испуганно спрашивает Купрейчик.
Я кладу ключ в карман.
— Сейчас объясню, — отвечаю я. — Теперь можно вернуться в кабинет.
Когда мы снова усаживаемся в свои кресла, я, повернувшись к двери в соседнюю комнату, нарочито громко говорю, искоса поглядывая на встревоженное лицо Виктора Арсентьевича:
— Я сказал, «наконец, час назад…», так ведь?
— Ну, сказали. И что это значит? — раздраженно отвечает Купрейчик и снова тянется за сигаретой.
— Это значит, что я не окончил фразы, — насмешливо говорю я. — А конец такой: час назад Лев Игнатьевич пришел к вам и сейчас слушает наш разговор из соседней комнаты. Не так ли? Так вот, передайте ему, что теперь он от меня уже не уйдет.
— От-ткуда… в-вы… в-взяли?.. — заикаясь, спрашивает Купрейчик, наливаясь краской, и глаза его слегка даже округляются от испуга.
— Не имеет значения, — отвечаю я и указываю на письменный стол за спиной Виктора Арсентьевича — Дайте-ка мне телефон, если вам не трудно. Я попрошу прислать машину. А вы тем временем, — я все еще говорю подчеркнуто громко, — попросите Льва Игнатьевича сюда. Пора наконец нам…
И не успеваю закончить.
За своей спиной я слышу осторожный скрип двери. Виктор Арсентьевич как ошпаренный отскакивает в сторону и куда-то мгновенно исчезает.
Я резко оборачиваюсь и вижу в дверях знакомого мне невысокого, плотного человека с седыми усиками. Он стоит на пороге, в нескольких шагах от меня, расставив короткие ноги, в руке у него пистолет.
Гремит выстрел.
Я скатываюсь на пол и, прячась за креслом, кричу:
— Вы с ума сошли, Лев Игнатьевич! Немедленно бросьте оружие!
— Не брошу.
— Лев, я тебя заклинаю! — дрожащим голосом просит из дальнего угла кабинета Виктор Арсентьевич.
Я его не вижу. Вообще из-за своего кресла я, лежа на полу, вижу только ноги Льва Игнатьевича. Он по-прежнему стоит в дверях и скрипучим голосом говорит, обращаясь ко мне:
— Сейчас я вас застрелю, уважаемый Виталий Павлович. Вы не послушались доброго совета. Вы слишком опасный человек.
— Опомнитесь, Лев Игнатьевич, — говорю я из-за своего укрытия. — Вы знаете, что вас тогда ждет?
— Знаю, знаю. Я все, милостивый государь, знаю. И экономику, и политику, и даже сферу услуг. Вот я и окажу людям услугу, отправлю вас на тот свет.
Нет, это ненормальный человек. Он, конечно, слышал весь наш разговор с Виктором Арсентьевичем. Он нарочно остался для этого.
— Выходите, черт возьми! — жестко приказывает Лев Игнатьевич. — Будьте, в конце концов, мужчиной.
— А вы не подумали, что я тоже умею стрелять? — спрашиваю я из-за кресла. — И даже получше, чем вы.
— Не успеете. Я сейчас подойду к вам.
О черт! Неужели придется на самом деле в него стрелять?
— Не делайте глупости, прошу вас, Лев Игнатьевич, — снова обращаюсь я к нему.
Да, в такой идиотской ситуации я еще не был. Что делать? Как этого ненормального схватить? Уговаривать его, видимо, бесполезно. И он в самом деле может в любой момент выстрелить.
Я все время ощущаю локтем кобуру под пиджаком и теперь медленно вытаскиваю из нее пистолет, не спуская глаз с ног Льва Игнатьевича. В крайнем случае придется стрелять по ногам. А что, если…
Чуть заметно я шевелю кресло. Да, оно на роликах и очень легко перемещается по натертому полу. И у меня созревает новый план.
— Лев Игнатьевич, считайте до пяти, мне надо приготовиться, — нерешительно говорю я. — Только следите, пожалуйста, за этим негодяем Купрейчиком. Вы его видите? Он что-то задумал.
— Я его застрелю, как собаку, вместе с вами, — рычит Лев Игнатьевич. — Трус, предатель…
В это время я незаметно двигаю вперед кресло. До Льва Игнатьевича остается шага четыре. Тут я упираюсь спиной в ножку дивана и неожиданно изо всей силы толкаю кресло вперед Оно с грохотом летит прямо на Льва Игнатьевича Удар такой, что сбивает его с ног. В тот же миг я перемахиваю через опрокинувшееся кресло и всей тяжестью наваливаюсь на своего противника, заученным приемом выбивая пистолет из его руки.
Дальше уже дело техники. Как ни отчаянно отбивается Лев Игнатьевич, что он, в самом деле, может со мной поделать?
Через пять минут он лежит на диване со связанными руками и ногами. А я, сидя возле него, уже звоню к нам в отдел. Телефон принес мне с письменного стола полумертвый от страха Виктор Арсентьевич, еле двигаясь на ослабевших, подгибающихся ногах.
Пока не пришла машина, я тут же, используя его состояние, провожу с ним душеспасительную беседу. В результате я звоню снова, но уже Эдику Албаняну. В случае, если бы я его не застал, я бы тут же позвонил его начальнику или любому из сотрудников их отдела. Ведь завтра с Виктором Арсентьевичем будет разговаривать куда труднее. Но, к счастью, Эдик оказывается на месте, и я ему сообщаю, что сейчас со мной приедет гражданин Купрейчик, который желает дать добровольные признательные показания Эдик, восхищенно присвистнув, обещает ждать нас.
В это время в передней раздается звонок. Виктор Арсентьевич, взяв у меня ключ, со всех ног кидается открывать. Ноги у него уже не дрожат. И вот в кабинет входит очень озабоченный Петя Шухмин.
До управления мы добираемся в считанные минуты.
Уже довольно поздно, но Лев Игнатьевич Барсиков — он только что сам назвал свою фамилию — желает немедленно беседовать со мной. Ему говорят, что в столь позднее время допросы проводить не полагается. Кроме того, официальный допрос может провести только следователь, а если и я, то лишь по его поручению. Сейчас же нет ни следователя, ни поручения. Однако гражданин Барсиков раздраженно отвергает все доводы и требует встречи со мной. Что ж, такими требованиями пренебрегать нельзя. Сегодня Барсиков может сказать куда больше, чем завтра, сегодня он возбужден и взволнован, даже взбешен, а завтра он, возможно, будет спокоен, расчетлив и скрытен. Ну, однако, и характер у этого господина. Обзавелся пистолетом и даже решил пустить его в ход. Среди подобного контингента преступников случай редчайший, это даже Эдик подтвердил «Тебе, старик, повезло», — сказал он мне по телефону, и я не понял, что он имеет в виду: что мне попался такой редкий экземпляр или что я все-таки остался жив.
К сожалению, сам Эдик в предстоящей беседе участия принять не может: у него сидит паникующий Виктор Арсентьевич. Как решительно, однако, изменился за такой короткий промежуток времени этот человек! Каким он только что был самоуверенным, иронично-снисходительным и насмешливым — и как отвратительно жалок сейчас. И именно сейчас, в этих экстремальных условиях, как всегда, и обнаруживается вся суть человека. Ох, как много таких превращений я уже видел!
Совсем не таков Барсиков, надо отдать ему должное, хоть он час назад и стрелял в меня. Этот, при всей его бессовестности и наглости, все же обладает решительностью и смелостью.
Барсиков сидит возле моего стола в свободной позе, перекинув ногу на ногу и откинувшись на спинку стула. Вид у него, правда, довольно потрепанный, на вороте рубашки нет пуговицы, галстук съехал набок, у мятого пиджака не хватает двух пуговиц, причем одна вырвана «с мясом», и в этом месте вылезает бортовой волос. Под глазом у него растекается желто-фиолетовый синяк, губа вспухла. Тем не менее, Барсиков совсем по-хозяйски развалился на стуле и небрежно покуривает. Даже пытается по привычке сжечь до конца спичку в моей пепельнице, но пальцы дрожат, и номер не получается. Он раздраженно швыряет погасшую раньше времени спичку и, отодвигая от себя пепельницу, с досадой говорит:
— Уж не везет, так сразу во всем. Я, признаться, загадал на эту спичку. Так, — он небрежно машет рукой, — психологический атавизм, не изжитые цивилизацией суеверия. Но извините за отступление в чуждую вам область. Надеюсь, это вы мне инкриминировать не будете? — иронически осведомляется он.
— Нет, — усмехаюсь я. — И без того хватит что инкриминировать.
Как ни странно, но я не чувствую к нему какой-то особой, личной злости. Он мне чужд, враждебен и неприятен, но по причинам куда более глубоким.
— Ну, а что именно вы мне будете инкриминировать, если не секрет? — интересуется Барсиков, небрежно интересуется, словно речь идет о ком-то другом, а не о нем самом, да и о пустяковом деле к тому же.
— Теперь у меня от вас секретов не будет, — улыбаюсь я. — Теперь вы нам уже помешать не можете. А что касается вашего вопроса, то уверяю вас, любой прокурор сейчас даст санкцию на ваш арест.
— О чем же вы доложите прокурору?
— Да хотя бы о хранении вами огнестрельного оружия и о попытке убить работника милиции. Мало разве?
— Мало, — решительно объявляет Барсиков и приглаживает растрепанные седые волосы. — Все это пустяки. Главное — не в этом.
— Хорошенькие пустяки, — говорю я. — А если бы вы не промахнулись?
— А, не притворяйтесь трусом, — досадливо машет рукой Барсиков.
— Что же тогда главное, по-вашему?
— Главное — в том, что я разгадал один из секретов нашей экономики и воспользовался им. Тоже, знаете ли, своего рода открытие.
Он саркастически усмехается.
— Ого! — ответно улыбаюсь я. — Прошлый раз, помнится, вы мне говорили, что я умный человек. Но теперь вы, кажется, изменили свое мнение? Почему?
— Что вы хотите сказать, не пойму? — высокомерно спрашивает Барсиков.
Он ведет себя так, словно мы снова сидим с ним в кафе. Удивительный, однако, наглец. И какое самомнение.
— Я хочу сказать, — говорю я, — что сейчас вы меня, очевидно, считаете за дурачка, которому можно преподносить любую выдумку, и он поверит. Кроме того, я не думал, что вы хвастун. Ну что ж, поведайте, какой секрет нашей экономики вы открыли?
— Напрасно смеетесь, молодой человек, — нравоучительно грозит мне пальцем Барсиков. — И вы совсем не глупец, это я продолжаю утверждать. Вы просто умный идеалист. Помните, я вам говорил о такой вымирающей категории? Вы и опасны тем, что умны. Я поэтому в вас и стрелял.
— Ну, ну, не поднимайте этот глупый выстрел на такую принципиальную высоту, — насмешливо говорю я. — Вы испугались за свою шкуру, вот и все.
— Нет, — качает головой Барсиков. — Чего мне пугаться? Семьи у меня нет. И не было. Зачем мне эта обуза? А пожил я так, как вам и не снилось. Все у меня было. Деньги пока еще кое-что значат и у нас.
— А я думаю, больше всего в жизни у вас было страха и еще — одиночества. Вы же всегда возвращались в пустой дом, — говорю я и добавляю:
— Все-таки не уходите в сторону. Вы собирались сообщить о каком-то секрете.
— Секрет заключается в некоем пороке экономики, который я обнаружил, — многозначительно говорит Барсиков.
— Я вижу, Шпринц прав: вы не только готовы перегрызть глотку ближнему, но любите и философствовать.
— Шпринц мелочь, — наполняясь злобой, скрипит Барсиков. — Его не грызть, его давить, как клопа, надо… — Он берет себя в руки и уже спокойнее продолжает: — Так вот насчет порока в экономике. Он заключается в попытке всеобщего, я бы сказал, тотального планирования и одновременно запугивания Уголовным кодексом. Это с одной стороны. А с другой — всяческие возможности для… как бы это сказать?.. для внезаконной деятельности, скажем так. Последняя и выгодна, и интересна.
Я качаю головой.
— Ошибаетесь. Внезаконная деятельность, как показывает опыт, у нас дело неверное, опасное и, в конце концов, обреченное. Ну, к примеру. Сколько времени вам удалось продержаться в последнем деле, скажите честно?
— Что значит «продержаться»?
— Сколько прошло времени, как вы договорились с… Гелием Станиславовичем?
— С каким еще Гелием Станиславовичем? — подозрительно переспрашивает Барсиков.
— Ну, зачем притворяться, что вы его не знаете? — усмехаюсь я. — Вы же умный человек. Ведь я не с неба взял это имя, правда?
— А! В самом деле… Глупо темнить, когда Виктор, этот трус, сидит сейчас где-то и все рассказывает. Что вы спросили?
Я повторяю вопрос.
— Мы сотрудничаем года два-три, — отвечает Барсиков.
— Ну вот. Так стоит ли из-за двух-трех лет такой нервной, хотя и обеспеченной жизни жертвовать куда большим количеством лет, которые вы проведете за решеткой?
— Случайность, — скрипит Барсиков. — Какая-то случайность, ручаюсь.
— У вас это будет первая судимость? — спрашиваю я. — Не скрывайте.
— От вас не скроешь! Третья.
— Ну, вот видите. И дело-то ведь не шуточное, Лев Игнатьевич. Мы до самого конца цепочки пройдем, будьте уверены. Доберемся и до Гелия Станиславовича с его синей «Волгой».
— Пижон несчастный! — сердито фыркает Барсиков. — Только это еще не конец цепочки, между прочим.
— Возможно. Я тут не специалист. Со специалистами вы еще встретитесь. Но вы не ответили на мой вопрос: стоит ли жертвовать столькими годами жизни ради двух-трех «богатых», так сказать? Я этой психологии не пойму. Объясните.
В ответ Барсиков досадливо машет рукой.
— И никогда не поймете, — говорит он. — Я не могу спокойно видеть, как пропадают кругом всякие коммерческие возможности. И тем более, когда ими могут воспользоваться другие. Ведь прорехи всеобщего планирования неизбежно заполняются, имейте это в виду. На свободное место всегда прихожу я или другой предприимчивый человек. Свободное место, которое не хочет или не может занять государственное производство, просто требует внимания. И я становлюсь буквально больным, если его упущу. Буквально. Но я редко упускаю, — самодовольно усмехается Барсиков. — Это я вам, конечно, не для протокола сообщаю. Могу даже привести пример. Вот эта великолепная пряжа, о которой сейчас, обливаясь слезами, рассказывает Купрейчик, дурак, трус. Эта пряжа лежала у него на складе мертвым грузом, она не нужна была производству, и никто не требовал ее обратно, в планах она как бы не числилась.
— Но он же официально отправил ее на продажу в магазин Шпринца, — возражаю я. — По указанию руководства.
— Верно! — подхватывает Барсиков, и в глазах его зажигается хитрый, живой блеск. — Но все это, представьте, сделал я. И пряжа пошла в дело, а сам я, не скрою от вас, очень недурно заработал на этом. Поэтому я, конечно, перегрызу глотку любому, кто захочет это сделать вместо меня. Вот так пришлось убрать Гвимара, — неожиданно заключает Барсиков. — Что поделаешь.
— Значит, организатор убийства вы?
— Я. Доказательств, правда, вы не найдете. Я побеспокоился.
— Найдем. Значит, вы убрали конкурента?
— Убрал. На войне как на войне.
— А послал к вам тех двух Гелий Станиславович?
— Вы очень быстро хотите все узнать, — усмехается Барсиков, закуривая новую сигарету и опять пытаясь сжечь спичку до конца, на этот раз фокус ему удается, и он явно доволен.
— Значит, Виктор Арсентьевич согласился с вами иметь дело, хотя вы убили его лучшего друга? — задаю я новый вопрос.
В каждом деле меня интересуют такие вот моральные и психологические аспекты, это помогает понять побудительные мотивы, разгадать некоторые поступки и характеры. Такое копание входит у меня в привычку.
— Бросьте, — небрежно машет рукой Барсиков. — Какие могут быть в наше время друзья? Это все сладкие слюни, их выдумывают газеты.
Я чувствую, что усталость мешает мне дальше вести этот разговор спокойно. Меня начинает переполнять злость. Нет настоящей дружбы? Это он мне будет говорить?
— В газетах пишут не о вас, когда пишут о дружбе, — насмешливо говорю я. — Какая уж тут дружба. Купрейчик, например, сейчас выкладывает все ваши секреты и всех топит, рассчитывая спасти свою шкуру. Вот такая у вас дружба.
— При чем тут дружба? Это трусость и предательство, — свирепо рычит Барсиков. — От меня вы этого не дождетесь, имейте в виду. Я из другого теста. Понятно вам?
Я пожимаю плечами.
— Надеюсь, вы просили о свидании со мной в такой поздний час не для того, чтобы читать мне лекции по экономике и заверять, что ничего мне не скажете?
— Конечно, — заметно успокаиваясь, кивает головой Барсиков. — Дело в другом. Я думаю, что больше вас не встречу. Мной займется следователь. Так вот: на прощанье хочу вам сказать. Я скоро выйду на свободу. Я знаю много путей для этого. И я вас запомню. С вас началось крушение самого красивого и выгодного моего дела. Я вам этого не прощу. Учтите. И вас найду. Я человек упрямый. Вот что я хотел вам сказать.
— Что ж, Лев Игнатьевич, посмотрим, придется ли нам встретиться. Только о таких планах, как ваши, лучше не предупреждать. Солидные люди так не поступают. Дешевкой пахнет.
— Поглядим, какая это дешевка, поглядим! — снова вскипает Барсиков.
На том наш разговор и заканчивается. Малоприятный разговор.
И вот я еду домой в пустом троллейбусе по пустынным, ночным улицам. Я измучен этим днем до предела и все время, пока еду, нахожусь в каком-то взвинченно-недовольном состоянии, словно день прошел вовсе безуспешно, словно и последний, трудный разговор с Барсиковым ничего нам не дал. А ведь он кое-что дал, вы, наверное, тоже обратили внимание.
Глава 9
ВСЕ, ЧТО ИМЕЕТ СВОЕ НАЧАЛО, ИМЕЕТ И КОНЕЦ
Сегодня с утра у нас собирается еще одно «межведомственное» совещание. Приехал из прокуратуры Виктор Анатольевич. Службу ОБХСС представляют Эдик Албанян и его начальник Геннадий Антонович Углов. Ну, а Уголовный розыск — мы с Кузьмичом, Валя Денисов и Петя Шухмин.
На это совещание мы с Петей идем вместе, и он мне по дороге вдруг, улыбаясь, сообщает:
— Валька-то жениться вроде собрался. Ты ничего не слыхал?
— Ну да? — удивляюсь я.
— Усиленно больно ухаживает за одной девчонкой. Я ее, между прочим, видел.
— И как, понравилась?
— Мне жены и девушки моих друзей никогда не нравятся, — решительно объявляет Петя. — Это уже такая психология. Ну, прямо как отрезает, представляешь?
— Да я не в том смысле, а вообще.
— Ах, вообще. Тогда, конечно, ничего, вполне симпатичная. Только очень уж маленькая. Под стать Вальке, словом. Зовут Нина. Бухгалтер в ресторане.
— Все уже узнал.
— А как же? — смеется Петя. — Служба такая.
— Значит, Валька женится, а за ним и ты?
Петя настораживается.
— Откуда ты взял?
— А ты недавно тоже с одной девчонкой подружился. Зовут Лена. Профессия медсестра, в госпитале работает.
— Вот черти, — добродушно усмехается Петя. — Ничего не скроешь.
— Служба такая, — повторяю я Петины слова. — Знаем даже, что по комплекции она под стать тебе.
— Точно, — довольно кивает Петя. — Местами даже пошире. Я только думаю, что будет, если она когда-нибудь драться начнет.
— Есть такие симптомы?
Но Петя ответить не успевает. У дверей кабинета Кузьмича мы сталкиваемся с Эдиком, тут же подходит Виктор Анатольевич, и мы все вместе заходим в кабинет. Валя Денисов и Углов уже там. Углов о чем-то беседует с Кузьмичом, оба посмеиваются и, видимо, настроены благодушно.
Начинается совещание.
Первым докладываю я о своем разговоре с Купрейчиком, внезапном появлении Барсикова, о его шальном выстреле и обо всем прочем. Особенно всех заинтересовывает наш с ним поздний разговор, не его угрозы, конечно, а его вольные и невольные признания.
— И все-таки, — заключаю я, — мне так и неясна роль самого Барсикова в этой преступной цепочке, а следовательно, и мотив убийства Семанского. Барсиков сказал, что убрал конкурента. Во время их спора во дворе, который слышал Гаврилов, Семанский якобы сказал Барсикову про Купрейчика: «Он с тобой работать не будет». Но что это значит, что это за работа? Ведь ни в получении пряжи фабрикой, ни в отправке ее Шпринцу Барсиков участия не принимал. Выходит, он вообще лишнее звено, ему нет места в цепочке.
— Не совсем так, — качает головой Эдик. — Даже совсем не так!
— Ну, поясните-ка нам пока один этот вопрос, о роли Барсикова, — обращается к нему Кузьмич. — А потом уже обо всем остальном.
— Пожалуйста, — охотно откликается Эдик. — Все объясняет записная книжка этого Барсикова. Я ее просмотрел. Даже уже изучать начал. Там среди телефонов разных лиц, которых еще придется проверять, есть очень странные номера, на первый взгляд, конечно. Вот, кстати, эта самая книжица, — Эдик вынимает из папки весьма потрепанную, в черной клеенчатой обложке записную книжечку с лесенкой алфавита сбоку и показывает нам. — Вот обратите внимание на такие, к примеру, телефоны, — он начал листать. — Вот, скажем, Купрейчик. Рядом записан такой номер телефона: девятьсот одиннадцать, восемь, девять, семь. Но такого номера, из шести цифр, в Москве вообще не существует. Кроме того, дома у Купрейчика и на работе совсем другие номера телефонов, не то что Барсиков какую-то цифру пропустил, скажем.
— Почему вы первые три цифры произносите, как девятьсот одиннадцать? — спрашивает внимательно слушавший Кузьмич. — А следующие называете все по отдельности?
— Виноват, — поспешно откликается Эдик. — Первые три цифры я прочел неверно. Их надо прочесть так: девять, одиннадцать. Между ними точка стоит. И после каждой следующей цифры — тоже точка. И пока что я обнаружил еще пять фамилий с такими же странными номерами телефонов. Вернее, уже пять, я дошел только до «м».
— Шифр, — спокойно замечает Углов.
— Так точно, — подхватывает Эдик. — Шифр. Но тут есть два интересных момента. Первый. Цифры этих, условно говоря, номеров написаны в разное время. Представляете? Это видно невооруженным глазом. И второе. Что касается Купрейчика, то цифры эти совпадают с количеством тонн пряжи, отправленной им в разное время Шпринцу. И вот очень интересно будет проверить, а сколько же этой самой пряжи Шпринц всего получил? Уверен, что больше, чем Купрейчик ему отправил. Намного больше он получил.
— Думаешь, еще кто-то отправлял? — с интересом спрашиваю я. — Те пятеро, например, да?
— Вот именно, — кивает Эдик. — По крайней мере, те пятеро. А то и больше еще наберется. Вот вам, скорей всего, и роль Барсикова.
— Бухгалтер? — смеется Петя.
— Бери выше, — Эдик важно поднимает палец. — Он ищет и находит предприятия, где имеются дефицитные неликвиды, в частности, допустим, пряжа. И вступает там в контакт с нужными людьми. Ведь эти самые неликвиды — готовые, так сказать, живые и, на первый взгляд, совсем безопасные деньги, огромные к тому же деньги. А заместителю начальника Разноснабсбыта нужна информация, докладная о наличии на таком-то предприятии дефицитных неликвидов, чтобы дать указание отправить их для продажи в магазин Шпринцу. И вот Купрейчик, видимо, был самым крупным поставщиком этой пряжи и самым поэтому выгодным. Цифры у остальных пяти значительно меньше. Вот какова роль Барсикова в этой цепочке, — обращается Эдик к Кузьмичу.
— Ну давай уж дальше, все свои соображения по делу, — предлагает Углов.
— Это же у тебя не все.
— Минуточку, — вмешивается Кузьмич. — Кончим уже сперва наши вопросы, чтобы потом не возвращаться. У тебя все? — обращается он ко мне.
— Не совсем, — отвечаю я. — Хотя роль Барсикова и проясняется. Можно даже теперь предположить, вернее, нащупать и мотив убийства. Барсиков решил прибрать Купрейчика к своим рукам. Драка из-за «золотой курочки», как выразился Шпринц. Но остается еще один неясный вопрос, по нашей линии. Помните, Федор Кузьмич, Муза Леснова передала нам интересный разговор. Вернее, не сам разговор, а его схему, что ли. Между Лехой и ее возлюбленным, Чумой.
— Вы, Виталий, все-таки по-человечески их называйте, — замечает Виктор Анатольевич. — Без этих дурацких кличек, пожалуйста.
— Извините, — поправляюсь я. — Хотел сказать — Совко. Так вот, из того разговора становится ясно, что Леху, то есть Красикова, и Совко послал в Москву из Южноморска к Барсикову, а вернее, в распоряжение Барсикова этот самый Гелий Станиславович Ермаков, директор магазина готового платья. Я о нем уже докладывал. Послал он эту пару, видимо, с каким-то заданием. Барсиков на эту тему говорить со мной отказался. Но Ермаков этот, очевидно, может оказаться соучастником убийства. Так ведь?
— Вполне может, — соглашается Эдик. — У тебя все? Тогда разрешите мне доложить соображения по делу?
Кузьмич, как хозяин кабинета, невольно оказывается в роли председательствующего.
— Пожалуйста, — говорит он.
И Эдик раскрывает свою замечательную папку.
— Мы пока ухватили только московские звенья этой опасной преступной цепочки. К сожалению, Купрейчик знает еще меньше, чем Барсиков. Его задача кончилась отправкой неликвида пряжи в магазин Шпринца согласно полученному официальному распоряжению. И деньги он получал за это от Барсикова. А раньше от Семанского. Причем деньги немалые. Сумму мы потом, конечно, уточним. Но путь пряжи из магазина Шпринца мы пока не знаем. А это главная часть цепочки.
— Но опыт подсказывает, — строго замечает Углов.
— Так точно, опыт подсказывает, — увлеченно подхватывает Эдик. — Пряжа должна идти куда-то на изготовление левого товара.
— Это мне еще Барсиков сообщил в первой лекции, — усмехаюсь я.
— Сейчас предстоит установить, — говорит Эдик, — где именно этот левый товар изготовляют из той пряжи и как сбывают.
— На месте надо установить, — снова замечает Углов. — Необходимо будет туда выехать, в Южноморск, и разобраться.
— Да, необходимо туда ехать, — подтверждает Эдик.
— А все-таки какое отношение может иметь директор магазина готового платья ко всей цепочке? — недоуменно спрашивает Петя.
— Да, пока что его роль в цепочке не установлена, — поддерживает Петю Виктор Анатольевич. — Уж не говоря о том, что установить — еще не значит изобличить. Вот, допустим, роль Дмитрия Ермакова, замнача управления, нам ясна. Но изобличить его будет ой как непросто. Каждый шаг его внешне вполне законен. Получил официальную докладную о наличии неликвида пряжи и дал вполне законное и разумное указание направить эту пряжу в свою торговую сеть для реализации, к тому же по безналичному расчету.
— И ему была дана взятка, — говорю я. — Иначе зачем бы ему отправлять пряжу именно Шпринцу с одного предприятия, с другого, с третьего? И еще за тридевять земель, в Южноморск.
— А он вам предъявит какую-нибудь слезную докладную Шпринца, что магазин не может выполнить план оборота и горит. А уж дальше его, замнача, воля посылать Шпринцу эту пряжу или не посылать. Управленческое решение может быть верным или неверным, но преступления тут в любом случае нет. Не себе в карман пряжу положил. А взятку тут доказать непросто.
— Все в этом чертовом деле сейчас непросто, — досадливо говорит Углов.
— Потому что мы включились поздно, когда уголовный розыск всю воду уже взбаламутил и вызвал панику по всей цепочке. Я понимаю, — обращается он к Кузьмичу, — у вас была совсем другая задача. У вас тоже убийство на квартирную кражу наехало и хороший компот возник. Но нам, как говорится, не легче.
— В трудной работе никому легко не бывает, — усмехается в усы Кузьмич.
— Конечно, мы вам не простую работенку подбросили. Но учти, если бы не мы, то еще неизвестно, когда бы вы добрались до этой опасной цепочки вообще.
— Так я же ничего не говорю, — разводит руками Углов. — За сигнал вам вот какое спасибо. Я только на судьбу жалуюсь, что сигнал-то получился больно громкий, что не удалось нам тихо к ним подобраться.
— И еще учти, — продолжает Кузьмич. — Вовсе не вся цепочка взбаламучена пока, а только ее московские звенья, и исключительно в связи с убийством Семанского.
— Так ведь ваш Лосев был уже в Южноморске. Говорил с Шпринцем. Даже с Гелием Ермаковым виделся и мог его встревожить, — не уступает Углов. — Это уже, извините, не московские звенья.
— Я был там исключительно по делу об убийстве Семанского, — включаюсь в разговор я. — Так Шпринц и донес, уверен. Так он…
И тут я все вспоминаю. Ну конечно! Это Шпринц обрисовал меня Гелию Станиславовичу, и когда такая каланча появилась у него в магазине, он меня сразу узнал. И, естественно, насторожился. А потом за дурачка принял. Да и не боится он уголовного розыска. Никакое убийство его не касается, тут уж он позаботился.
Так я все сейчас и докладываю.
А Эдик, верный друг, добавляет авторитетно:
— Лосев в любом деле никогда еще ничего не портил.
Это, пожалуй, тоже преувеличение, Эдику вообще свойственное.
— Видал, какие друзья? — усмехается Углов. — Вас, если что, надо в одной связке пускать. — И, обращаясь к Кузьмичу, добавляет: — У них вместе толково получается, я заметил.
— Я тоже, — улыбнувшись, подтверждает Виктор Анатольевич. — Вот недавнее дело-то, ну, по Вере Топилиной, помните? Они тогда очень удачно, считаю, вместе поработали. Помните это дело?
Он оглядывает поверх очков собравшихся.
Все, конечно, помнят. Да и как его не помнить, это дело? Какую мы потерю на нем понесли, какую тяжкую потерю!
Совещание наше заканчивается. Принимается решение о немедленной командировке Эдика в Южноморск. Мы же тем временем будем завершать расследование убийства Семанского. Снова займемся по этой линии Колькой-Чумой и Барсиковым. Если будут получены какие-нибудь новые данные по Южноморску, то тут же передадим их Эдику. Так же должен поступить в случае чего и Эдик. Тут у нас взаимная информация всегда полная, это уж точно. Углов прав, вдвоем у нас толково получается.
— Пусть они еще раз обсудят детали, — под конец говорит Кузьмич, имея в виду меня и Эдика.
На это обсуждение уходит вся вторая половина дня. После обеда мы с Эдиком запираемся у меня в комнате, обкладываемся бумагами и начинаем подробно, шаг за шагом, вспоминать, как начиналось и разворачивалось все это путаное дело. Особенно тщательно я вспоминаю свою командировку в Южноморск, вспоминаю каждого человека, с которым мне там хоть на миг пришлось столкнуться. Вспоминаю даже продавщицу в магазине Гелия Ермакова, его толстого, седого зама, сонную продавщицу в магазине Шпринца, не говоря уже о людях, которых мне пришлось узнать поосновательней. Я даю каждому характеристику, описываю его внешность, манеры, одежду, вспоминаю чуть не каждое произнесенное им слово. Эдик тщательно все запоминает, кое-что себе записывает, уточняет, задает вопросы, иногда мы с ним спорим, или придумываем, или предполагаем. Причем понимаем мы друг друга с полуслова; иногда я хочу сказать то, что он уже говорит. Очень мне хорошо с ним работается. Эдик человек веселый и умный, знающий и смелый и еще великий хитрец и выдумщик. С ним не только приятно — с ним полезно работать, легко и приятно с ним дружить. Правда, он очень азартен и горяч, это может его когда-нибудь подвести, сто раз я ему уже толковал, и сейчас нет-нет да напомню.
Короче говоря, мы с Эдиком обсуждаем все, что следует, и намечаем примерный план его действий там, в Южноморске, вернее, начало действий; как потом развернутся события, никто из нас предположить не может. Я, кстати, делюсь своими впечатлениями об Окаемове, неважными впечатлениями, как вы помните. Но Эдик со мной не согласен, он считает Окаемова дельным и знающим работником. Что ж, ему, возможно, и виднее. Зато я ему горячо рекомендую Давуда, и тут Эдик не спорит, а только благодарит.
Что касается плана, то мы оба сходимся на том, что начинать Эдику следует со Шпринца, это первое реальное и ясно видимое звено той части цепочки, которая находится в Южноморске. Что касается роли Гелия Ермакова, а тем более его двоюродного братца из рыночного филиала, то все здесь пока неясно и зыбко. Больше пока мы вообще ничего не знаем А вот от Шпринца тянутся вполне реальные ниточки: дальнейший путь пряжи, куда, к кому? Все это нетрудно будет узнать, надо думать. Кроме того, ведь у Шпринца имеются и какие-то документы, они либо куда-то приведут, либо кого-то изобличат. Но главное, конечно, — его показания. Шпринц не только первое звено, но еще и слабое звено. В этом я уверен.
— Ну, а мы тебе поможем здесь, — говорю я. — Вот увидишь.
Эдик летит завтра рано утром, поэтому мы с ним, расставаясь, окончательно прощаемся, завтра нам увидеться уже не придется. Я ему желаю ни пуха ни пера, Эдик немедленно посылает меня ко всем чертям. На всякий случай. Психологический атавизм, как выражается Лев Игнатьевич Барсиков, не изжитые еще цивилизацией суеверия.
Мы обнимаемся в последний раз прямо у подъезда нашего управления и расходимся. Только бы у Эдика все было в порядке.
А у меня на завтра запланирован новый допрос Совко. Виктор Анатольевич дал мне специальное поручение. И в самом деле, кому еще и проводить сейчас этот допрос, как не мне. Я знаю стольких людей по этому делу, столько деталей и подробностей, сколько никто не знает. Что же касается наших личных отношений, то как-нибудь я переступлю через взаимную неприязнь и заставлю переступить Совко. Уж как-нибудь.
Встреча наша на следующий день начинается не очень обнадеживающе. За те дни, пока мы не виделись, Совко заметно осунулся, побледнел, потемнела, свалялась грива желтых волос на голове, налились свинцовой тоской светлые, пустые глаза. Да, как видно, невеселые думы посещали его в эти дни. Ох невеселые! Шутка сказать, ведь убийство за ним и попытка совершить второе, уже работника милиции. Он знает, конечно, что за все это «светит». Да и по Шоколадке своей тоже небось тоскует, здорово его эта красавица к себе привязала. Ничего, гад, помучайся. Другие из-за тебя больше мучились. Нет, не могу я никак совладать со своими нервами, когда вижу этого ненавистного мне, наглого и грязного херувимчика.
— Ну, здравствуй, Николай, — через силу спокойно говорю я. — У меня есть что тебе рассказать. А ты не надумал, что рассказать мне?
— Тебе я ничего не расскажу, запомни, — вспыхнув злостью, отвечает Совко. — С тобой я говорить не желаю. Сразу лучше души.
Видно, он, идя на допрос, ожидал увидеть Кузьмича.
— Следователь твой занят сегодня и поручил провести допрос мне, — примирительно говорю я. — Да и не все тебе равно, кто его проведет? Я даже лучше, если хочешь знать. Я все твое дело назубок знаю. — И, не давая ему ответить, вздохнув, добавляю: — Ну, во-первых, Леха погиб. Вот такое дело.
— Врешь! — вскидывает голову Совко.
— К сожалению, не вру.
— Много ты сожалеешь, — кривит пухлые губы Совко. — По тебе бы, так все мы поскорее бы подохли.
— Нет, — говорю я. — Леху мне в самом деле жаль. Ведь и он меня тогда пожалел. Мог убить, а не убил. Рука у него дрогнула.
— Ну и дурак был.
— О покойниках, Николай, плохо не говорят. В крайнем случае, принято молчать. А ведь он вроде бы еще и друг тебе был.
— Как же он… погиб? — хмуро спрашивает Совко и отводит глаза.
Я рассказываю, как погиб Леха.
Совко молча слушает. Видно, что смерть Лехи действует на него угнетающе. Он весь ссутулился на стуле, легкие, как рябь, морщинки проступили на гладком лбу, и глубокая бороздка незаметно пролегла между пшеничными бровями. Нелепая, горькая какая-то судьба Лехи кажется ему, наверное, сейчас похожей на его собственную судьбу, и конец ему мерещится такой же жалкий.
Но мне его не хочется ничем утешить. Нет у меня к нему жалости, что хотите делайте — нет. Я в этот момент почему-то вспоминаю вдруг Хромого и неведомую мне Веру из Новосибирска и только усилием воли подавляю в себе желание напомнить ему об этих людях. Нельзя сейчас, не вовремя.
— Теперь дальше, — говорю я. — Квартирную кражу мы раскрыли. Не замешан ты в ней. Хотя улика против тебя была там железная. Но, оказывается, подстроил ее один мужик.
— Это какая же такая улика? — заинтересованно спрашивает Совко.
— Помнишь, ты перчатку потерял?
— Ага.
— Так вот, нашли мы ее в той квартире, после кражи. Представляешь?
— Ха! — изумился Совко. — Чудеса.
— Все чудеса люди делают. Так и тут. Один мужик из тех, кто кражу совершили, подобрал твою перчатку и нарочно в квартире оставил. Чтобы нас, значит, со следа сбить. Ну, а сейчас сознался.
— Ах, гад…
— И знаешь, где он ее подобрал?
— Ну?
— Во дворе. Ты ведь ее уронил, когда вы с Лехой Гвимара Ивановича убивали. И тот мужик все видел. Своими глазами. И тебя опознать берется хоть сейчас.
Совко, отведя глаза в сторону, молчит. Он даже не спорит со мной. Что-то, видно, он уловил в моем голосе, какую-то властную, суровую убежденность, и сил у него сейчас нет спорить, не находит он в себе прежних сил. Словно лопнула в нем какая-то струна. Здорово его, кажется, подкосило известие о гибели Лехи. Я даже не ожидал. Неужели что-то человеческое еще осталось в нем? И на секунду я даже ощущаю какое-то сочувствие к нему. Всего на секунду, правда, не больше, признаюсь вам.
— И еще видела вас в тот вечер во дворе одна женщина. В красном пальто. Ты ее не заметил?
— В красном пальто… — механически как бы повторяет Совко.
— Ну да. Она тоже может, оказывается, опознать тебя.
И Совко снова молчит, отводит в сторону глаза.
— А еще, — продолжаю я, — мы арестовали Льва Игнатьевича Барсикова. Не забыл, надеюсь, такого?
— Его забудешь! — глухо отвечает Совко.
— Ну, и он тебя не забыл. И, представь себе, признался. «Да, говорит, это я организовал убийство Семанского, я приказал. А они только исполнители». То есть, значит, ты и Леха. «А почему, спрашиваю, вы отдали такой приказ?» — «Конкурента убрал, — отвечает. — На войне как на войне. Только вы этого никогда не докажете, мою вину тут». Понял ты, куда он клонит?
— Понял. Не глиняный, — хмурится Совко. — Хрен только получится это у него.
— Смотри сам. Но это еще не все, — продолжаю я. — Есть еще один человек, который тоже, возможно, несет ответственность за это убийство. И тогда твоя вина еще немного уменьшится. Это — Гелий Станиславович Ермаков. Ты его знаешь.
Совко резко вскидывает голову и напряженно смотрит мне в глаза, словно проверяя, не ослышался ли, действительно ли я назвал это имя.
— Добрались? — хрипло спрашивает он и откашливается.
— Пока на свободе, — отвечаю я. — Вокруг работаем. Пока он еще на своей синей «Волге» разъезжает.
— Уйдет, — криво усмехается Совко. — Кто-кто, а этот уже точно уйдет. Как раз на синей «Волге» и уйдет.
— На такой красавице далеко не уйдешь, — возражаю я.
— А ему далеко и не надо, — загадочно усмехается Совко. — Только до Гусиного озера. А там — будь здоров.
— Там у него что, тайный аэродром? — я тоже усмехаюсь. — Как у Гитлера?
— Там у него дядя Осип. Лучше всякого аэродрома. Схоронит так, что вовек не найдешь. Это уж точно.
Я качаю головой.
— Не такой человек Гелий Станиславович, чтобы весь век прятаться. Да и чего ему прятаться? Все кругом него спокойно. Про убийство он, конечно, знает. Да что ему-то? Если даже ты про его участие в этом деле не подозреваешь.
— А чего мне подозревать? — резко спрашивает Совко. — Я точно знаю. Он мне про это сам сказал.
— Когда в Москву посылал?
— Ага.
— Как же он вам это сказал?
— Он мне сказал. Леха не знал ничего.
Ишь ты! Кажется, сейчас только все и валить на Леху. Ведь на первом допросе Совко так и делал. И вдруг… Что это, совесть? Или растерянность? Или злость на всех? Нет, совесть отпадает, совести у него нет. Да и растерянности не чувствуется. Подавленность только какая-то в нем. Ну, и, видимо, злость. Но тут другое. Совко хочет хоть на сколько-нибудь, но снять с себя вину, уменьшить ее.
— Ну, и как он тебе это сказал? — повторяю я свой вопрос.
— Так и сказал. Завалить, мол, одного придется. Лев покажет кого. Сделаешь — в деньгах купаться будешь. Его слова, гад буду.
Все-таки незаметно-незаметно, но проговаривается Совко, признает убийство Семанского. Значит, правильно я построил допрос. Ошеломил, подавил, увел в сторону его мысли, в нужную мне сторону. Сейчас надо вести его дальше и не дать опомниться. Темп и напряжение — вот главное сейчас. Гусиное озеро какое-то выплыло, дядя Осип…
— Как же он вас отослал? — спрашиваю я. — Вы же ему там нужны.
— Остался при нем человек, — угрюмо отрезает Совко, снова глядя куда-то в сторону. — За него не бойся.
— Славка?
— Нет, — презрительно машет рукой Совко.
— Жук, Рыжий?
Он настороженно, с какой-то опаской, недоверчиво смотрит на меня.
— Ты откуда их знаешь?
— Познакомились.
— Неужто и их замели? Во потеха!
— За что их заметать? Гуляют. Так кто же у Гелия остался, — Жук, Рыжий?
— Это все мелочь, — снова машет небрежно рукой Совко.
— Кто ж тогда?
— Ну, ну. Кого ты не знаешь, того и я не знаю. Понял?
Он насмешливо смотрит на меня светлыми злыми глазами.
Конечно, он признает только то, что ему выгодно или уж деться некуда будет. Вот, например, продать своего бывшего хозяина — это ему сейчас выгодно.
— И ты не побоишься все это Гелию в глаза сказать?
— А чего мне теперь бояться, интересно? — ощеривается в усмешке Совко, и под пухлой губой видны сейчас мелкие, треугольные, волчьи зубы. — Если за него как следует ухватитесь, он загремит так, что я до пенсии его не встречу.
— Ладно. Тогда я твои слова занесу в протокол, насчет задания в Москве. Ничего, подпишешь или как?
— Ну и подпишу. Дело какое.
— А вот Барсиков, боюсь, не подпишет, — вздыхаю я, как бы сочувствуя Совко.
— Подпишет! — с угрозой говорит он, наливаясь новой злостью. Подпишет, гад! Не то я… Он что думает, мне одному мокрое на себя брать? Не-ет, не пойдет. Один я не буду. И Лехи тут мало. Леха что! Они пойдут! Всех потащу!
Он уже срывается на крик. На впалых щеках проступают красные пятна, и губы начинают мелко дрожать.
Но тут у меня на столе неожиданно звонит телефон. Внутренний. Я поспешно снимаю трубку. Говорит Кузьмич. Голос у него, как всегда, невозмутимый, но я улавливаю в нем какое-то непонятное мне напряжение.
— Немедленно кончай допрос и иди ко мне! — приказывает Кузьмич.
И кладет трубку.
— Ну что ж, Николай, — говорю я. — Пока все. Ты прав, каждый должен отвечать только за себя. — И повторяю: — Пока все.
Конвой уводит Совко, а я спешу к Кузьмичу.
У него в кабинете я застаю Углова. Вид у обоих хмурый и встревоженный.
— Плохие новости, — говорит мне Кузьмич. — Только что звонил Албанян. Оказывается, исчез Шпринц.
— А с ним и все бухгалтерские документы касательно операций с пряжей, — добавляет Углов.
— Исчез? — удивленно переспрашиваю я.
— Именно что исчез, — кивает Кузьмич. — Ну, и цепочка оборвана. Все концы в воду.
— Что ж делать?
— Немедленно лететь, — решительно говорит Кузьмич. — Возглавь поиск. Самолет через два часа семнадцать минут. Успеешь.
Прошла всего неделя, как я вернулся с Южноморска. И вот я снова лечу туда. Но ощущение у меня такое, словно я не опять прилетаю, а как бы просто возвращаюсь в хорошо знакомые, чем-то ставшие мне даже близкими места, к близким людям. Я предвкушаю встречу не только с моим новым другом Давудом Мамедовым, но и с Сережей Хромым, с Володей-Жуком, с Сашкой-Рыжим. Впрочем, это все — как получится. Задание у меня сейчас совсем другого рода. Предстоит найти исчезнувшего куда-то Георгия Ивановича Шпринца, найти, если… Впрочем, вряд ли. Скорей всего, сам сбежал, испугался чего-то.
Всю дорогу, пока я лечу, Шпринц стоит у меня перед глазами, маленький, щуплый, вертлявый, с огромной глянцевой лысиной, с узким, лисьим, хитреньким личиком, острым носом, под которым кустятся рыжие усики. Он в черном сатиновом халате. За стеклами очков в тяжелой оправе расплываются испуганные глаза. Ну, куда этот бедолага мог исчезнуть? Мне даже становится его чуточку жаль. Хотя я и понимаю, что, скорей всего, он, конечно, жулик мелкий, пугливый, сам, пожалуй, никогда бы не решившийся на такое крупное преступление, в которое его сейчас втянули. Вот, вот, это уже практически важный вывод. Конечно же его втянули и, может быть даже, заставили. А теперь… Видимо, что-то учуяли. Дымом потянуло из Москвы, паленым. Кто-то все же дал оттуда тревожный сигнал? Но о чем? Об убийстве Семанского? Так Гелий Станиславович об этом уже знал и Шпринца не убирал. Сигнал об аресте Совко и Лехи? Они ведь не знают, что Леха погиб. От кого мог поступить этот сигнал? Ну, допустим, от Барсикова. Хотя нет, он ведь ждал звонка Совко, и об его аресте он не знал. И о Лехе тоже. От Шпринца? Да, от Шпринца сигнал поступить мог. Шпринцу я назвал и Леху, и Совко. Назвал, но вовсе не сказал об аресте Совко и о гибели Лехи. И это, мне кажется, нисколько Гелия Станиславовича не испугало. Так же, как его не испугал и мой приезд, о котором тоже, без сомнения, доложил ему Шпринц. И почему я приехал, он тоже доложил. Ну и что? Нисколько, повторяю, они этого не испугались. Гелий Станиславович безусловно уверен, что от убийства Семанского к нему не протянется ни одна ниточка. И вдруг Шпринц исчезает.
Что же случилось потом, после моего отъезда из Южноморска? Случился арест Барсикова — вот что. Два дня назад. Следовательно, для принятия какого-то решения в связи с этим арестом у них оставался всего один день, вчерашний. Потому что Барсикова я задержал в среду вечером. Могли об этом узнать в Южноморске в тот вечер? Конечно, могли. Если Барсиков, допустим, позже, но в тот же вечер, должен был куда-то прийти, с кем-то встретиться, и не пришел. А впрочем, ну и что, что не пришел? Это еще вовсе не значит, что его арестовали. Для того чтобы узнать об аресте, надо было бы побывать в доме у Купрейчика. Вот там кто-то из жильцов мог бы рассказать про выстрел, например, грохот от которого разнесся небось по всем этажам. Да и увидеть кто-нибудь мог, как из квартиры Купрейчика вывели самого хозяина, а с ним и еще одного человека, у которого были связаны руки, невысокого, пожилого, полного… Словом, по приметам можно было пришедшему легко сообразить, что арестовали именно Барсикова. Да, немало людей, к сожалению, могло видеть все это. К сожалению?.. Как сказать. Ведь если теперь побываем в этом доме мы, то, может быть, узнаем у тех же жильцов, кто интересовался, кто расспрашивал их об этом происшествии, как выглядел этот человек, и сравним, «примерим» его внешность к… кому бы? Тут надо, конечно, подумать, кое-что проверить, прикинуть. Вот всем этим и пусть займутся там, в Москве, надо будет позвонить Кузьмичу.
Итак, скорей всего, кто-то дал сигнал об аресте Барсикова. Вот это уже было опасно. Да ко всему еще арестован и Купрейчик. А что было делать Эдику после того, как тот во всем признался? Отпустить домой? Но признание — это не снятие вины. А главное, Купрейчик, вернувшись и подумав, мог и сам подать сигнал тревоги. Или его мог кто-то посетить, вызвать на встречу и все от него узнать. Кроме того, Купрейчик по чьему-нибудь совету или даже приказу мог принять и всякие другие меры, чтобы замести следы. В конце концов, он мог даже попробовать скрыться. Все могло случиться.
Словом, сигнал об аресте Купрейчика и Барсикова, я уверен, поступил в Южноморск. Поступил он или в среду поздно вечером, или утром в четверг, то есть вчера. И заставил кого-то, скорей всего, конечно, Гелия Станиславовича, принять быстрые и очень точные меры. Ведь точнее исчезновения Шпринца, а вместе с ним и всех бухгалтерских документов ничего не придумаешь. При этом действительно все концы в воду и ухватиться уже решительно не за что. Интересно будет узнать подробности исчезновения.
Я так глубоко задумываюсь, так захватывает меня загадочность, даже драматизм происшествия и вся сложность предстоящего поиска, что даже не замечаю, как проходят два с лишним часа полета, и прихожу в себя только когда стюардесса объявляет о предстоящей посадке и сообщает о погоде в Южноморске.
И вот я уже снова в объятиях Давуда. С ним вместе приехал в аэропорт и Эдик. Обнимаюсь и с ним, хотя мы простились только вчера вечером.
По пути в город, еще в машине, они наперебой рассказывают мне обо всем, что тут случилось. Ну, во-первых, конечно, исчез Шпринц. Но кроме него, оказывается, из известных мне «персонажей», как выражается Эдик, исчез…
— Кто бы ты думал? — загадочным тоном спрашивает он.
Я понимаю, что ответ последует самый неожиданный.
— Не знаю, — на всякий случай отвечаю я.
— Нет, не Гелий Станиславович, совсем не он, — словно угадав мои мысли, смеется Эдик.
Давуд улыбается не менее загадочно.
— Конечно, ты подумал, что Гелий, да? — спрашивает он. — А исчез-то его братец, Василий Прокофьевич, помнишь такого? На рынке торговал.
— Причем, — вмешивается Эдик, — на работе говорят: болен. А дома говорят: «К брату в Москву уехал».
— Ай, ай! — я шутливо качаю головой. — Как же мы с ним разминулись?
— Вы не разминулись, — говорит Эдик, хитро щуря глаза. — Есть данные, что он уехал не в Москву.
— А куда?
— Понимаешь, один человек был у него дома сегодня, — туманно сообщает Давуд. — Сосед. Честный человек. Видит, чемодан, красивый такой чемодан, новый, без которого Василий Прокофьевич в Москву никогда не ездит, стоит на месте. И выходной костюм на месте. А вот охотничьих сапог нет.
— Очень наблюдательный сосед нашелся, — смеюсь я, потом уже задумчиво добавляю: — Интересно. Зачем бы ему вообще исчезать? Он-то какое отношение к этому делу имеет? Как думаешь? — обращаюсь я к Эдику.
— Думаю, сбыт левой продукции, — отвечает он. — Из той самой пряжи. Удобно. На рынке. Большинство покупателей приезжие. Кассы нет, получает наличными…
Наш разговор продолжается уже в управлении, в кабинете Давуда. Я с удовольствием пью душистый чай.
— Ну, а как исчез Шпринц? — спрашиваю я. — Что известно?
— Вчера утром, как всегда, пришел в магазин, — сообщает Эдик. — Кто-то ему позвонил по телефону. И он сразу кинулся в бухгалтерию. Говорит Лиде: «Дайте-ка мне все документы по пряже». Ну, Лида, конечно, выдала. Он забрал и тут же ушел.
— Из магазина?
— Сначала, Лида говорит, к себе в кабинет зашел. Куда-то звонил. А потом совсем ушел.
— Какое у него при этом настроение было?
— Обыкновенное. Никакого испуга, никакой паники, — отвечает Эдик. — Даже шутил, Лида говорит. Странно вообще-то. Человек трусливый. Бежать собрался как-никак. Скрываться. И шутит.
— Значит, не собирался бежать, — говорю я. — Возможно, его раньше времени решили не пугать. Правильно, кстати, решили, умно. Чтобы никаких подозрений ни у кого не возникло. Но давайте дальше. Значит, зашел он к себе в кабинет, куда-то звонил. Что потом?
— Надел пальто и ушел.
— Ушел или уехал, продавщица не заметила?
— Заметила, уехал. Говорят, машина его на улице ждала. Но какая машина, она, конечно, внимания не обратила. Говорит, плохо видно было.
— Там, рядом с магазином, — вспоминаю я, — мастерская какая-то. Ты туда не зашел? Может, они машину эту видели?
— Туда не зашел, — вздыхает Эдик.
— Я зашел, — почему-то виновато сообщает Давуд.
Ему, по-моему, неловко перед Эдиком, он боится, как бы нам не показалось, что он такой выскочка. Удивительно деликатный человек Давуд.
— Такси его ждало, — продолжает он. — Номера, конечно, никто не заметил. Но заметили, что там еще один пассажир сидел. Видно, Шпринца ждал. Очень крупный такой мужчина, в кепке. Возможно, Ермаков этот, рыночный.
— Не обязательно… — задумчиво говорю я. — Значит, это было вчера. В какое время?
— Около одиннадцати часов.
— Ясно. Значит, завтра утром, пораньше, — обращаюсь я к Давуду, — подъезжай в таксомоторный парк. Он у вас один, я надеюсь?
— Зачем один? Три.
— Значит, создашь три группы. И завтра с утра — во все три парка. Там как раз будет работать вчерашняя смена. Надо опросить всех водителей, но найти того, кто вчера вез Шпринца. Договорились?
— Конечно, — Давуд берется за телефон. — Сейчас группы создадим, — но тут же бросает трубку и встает. — Лучше сам схожу. — Он смотрит на часы. — Ребята еще все на месте. Значит, три группы надо. Чтобы к шести утра все в парках. Так? Я пошел, скоро вернусь.
Давуд уходит, а мы с Эдиком продолжаем совещаться.
— А что, Гелий Станиславович сегодня на работе? — спрашиваю я.
— Весь день в магазине. «Волга» его во дворе.
— Ты его самого видел, Гелия этого?
— Видел.
— Ну, и как впечатление?
— Делец первой статьи. Современный, умный, опасный.
— Кого еще успел повидать?
— К сожалению, эти двое исчезли. Беседовал еще с Лидой.
— У нее небось все мысли в больнице. Лежит Славка?
— Лежит. Не лучше ему пока. И все-таки Лида кое-что мне сообщила.
— Интересное?
— Вот слушай. Она припомнила, куда транзитом, минуя их магазин, шла пряжа. Это суконная фабрика. Но ей синтетическая пряжа совсем не нужна. Так что если Лида не ошибается, то тут какая-то комбинация проделывается. Завтра с утра я еду на фабрику, а Окаемов едет в банк. Мы с двух концов проведем проверку. Если магазин официально продал пряжу этой фабрике, то он ей через банк выставил платежное требование. И фабрика тоже через банк должна была эту пряжу оплатить.
— И если оплатила, значит, выходит, и пряжу получила?
— Ей с этой пряжей нечего делать. Я уже смотрел их номенклатуру. И пряжа в этом случае ушла куда-то дальше, мимо этой фабрики.
— Но ведь фабрика ее оплатила, — недоумеваю я. — Как же с деньгами?
— Я же тебе говорю, — терпеливо разъясняет Эдик. — Если тут замешана фабрика, то, видимо, осуществляется какая-то афера. Надо только разгадать какая. Поэтому до зарезу нужны документы из магазина. Тогда аферу не только раскроем, но и докажем.
— М-да, — я качаю головой. — Не простая задачка.
— Не зря едим хлеб, — снисходительно усмехается Эдик. — Кое-что делать умеем. Помоги только отыскать документы. Там, в частности, должна быть доверенность фабрики или еще какой организации на получение пряжи. А в доверенности — имя, чье-то имя. И этот человек потом расписался в накладных, когда эту пряжу получал. И накладные эти тоже должны быть в бухгалтерии магазина. Они ей нужны для отчетности.
— А на фабрике разве нет экземпляра этой накладной?
— Там же нет пряжи, значит, нет и накладной.
— Но как же они на фабрике оформляли деньги, уплаченные за пряжу?
— Вот! Если бы я только знал, — Эдик страдальчески морщится, словно у него заболел зуб. — Найди мне эти документы, дорогой. Найди Шпринца, черт бы его побрал! Полцарства за Шпринца! Мало? Ну, чего хочешь проси.
Возвращается Давуд, и мы отправляемся ужинать к нему домой. Дело в том, что у Давуда есть мама. Боже мой, какие национальные блюда она умеет готовить! Можно, говорят, проглотить язык. В первый мой приезд сюда мама была больна. И я пока знаю об ее искусстве только по рассказам. Но сейчас она выздоровела, и нас с Эдиком, видимо, ждет небывалый пир. Правда, Давуд говорит скромно: «Немножко перекусим».
Перед тем как идти ужинать, я спрашиваю Давуда:
— Наблюдение за квартирой Шпринца установили?
— Конечно, дорогой. Неужели нет?
— Кто у него дома?
— Жена, дочь, внук. Мужа у дочери нет, трагедия.
— А за домом Ермакова тоже смотрите, того, рыночного? — спрашиваю я, игнорируя домашнюю трагедию Шпринца.
— Еще бы. Как иначе, а? Ну, пойдем, дорогой. Мама ждет.
— Пойдем, пойдем. А за Гелием смотрите? — не успокаиваюсь я.
— Во все глаза смотрим, что ты! — смеется Давуд. — Очень быстро ездит на своей синей «Волге».
Уже по дороге я продолжаю приставать к Давуду с вопросами:
— Город сразу закрыли?
— Конечно, — кивает он. — Мы обнаружили исчезновение Шпринца через полтора часа после его отъезда из магазина. И сразу закрыли для него аэропорт и вокзал.
— Но за полтора часа…
— Проверили все поезда, все самолеты, которые за это время… Ах, нет! Ни один самолет не вылетел. Погода, понимаешь, — разводит руками Давуд. — Слава богу…
Мы идем по темноватым, пустынным улицам в сторону от центра. Нам никто не мешает разговаривать.
— И ты думаешь, он сейчас в городе? — спрашиваю я.
— Ага. Думаю.
— А как ведут себя его жена, дочь?
— Спокойно ведут, совсем спокойно.
— А что говорят, где он?
— Сегодня спрашивал. Не знают. Возможно, говорят, у какого-нибудь приятеля заночевал. Так бывает. В карты играет.
— Он же сегодня на работе не появился?
— Все равно не волнуются. Бывает, говорят.
— Приятелей назвали, где играет?
— Ага. Двух назвали. Мы на всякий случай проверили. Нет, конечно, его там. Ясно, что спрятали. Вместе с его бухгалтерией.
— Куда же, интересно, могли его спрятать? — задумчиво бормочу я, уже ни к кому не обращаясь. — Куда?..
— Ты у Гелия спроси, — смеется Давуд. — Ты же с ним знаком.
Но мне неожиданно приходит в голову совсем другая мысль.
— Нет, — говорю я. — Пожалуй, я кое у кого другого спрошу.
Мы наконец подходим к нужному дому.
Боже мой, какой нас ждет ужин! Описать его я не в силах. Уже не говоря о том, что мы пьем изумительное домашнее вино. Его привез двоюродный брат Давуда, с которым мы, конечно, познакомились.
Утром Эдик ни свет ни заря отправляется на свою суконную фабрику, точнее в ее бухгалтерию, а специальные группы разъезжаются по таксомоторным паркам. Давуд остается в своем кабинете. Безвыездно. Он — штаб всей операции, к нему будут поступать донесения от всех групп, занятых наблюдением и поиском. Ведь каждую минуту от любой из них может поступить сигнал тревоги, и Давуд обязан будет принять все необходимые меры.
Сам я ухожу в город. У меня зародилась одна мысль, которую я хочу попробовать проверить и реализовать. Внешне она выглядит не очень серьезно, и поэтому я не решаюсь рассказать о ней товарищам.
Я хочу повидать Хромого и кое о чем с ним посоветоваться. Кроме того, я даже самому себе в этом не признаюсь, но мне просто хочется с ним встретиться. И это, пожалуй, самое главное. Мне этот молчаливый, упрямый парень почему-то вошел в душу. Своей трудной и не до конца мне ясной судьбой, что ли? Или своей справедливостью, которая рождает взаимную симпатию? Не знаю. Ну, а что касается возможного совета с ним, то это, пожалуй, могло бы выглядеть лишь как предлог для встречи, если бы не смутное мое ощущение, что Хромой знает многое такое, что даже трудно предположить. Дело в том, что он не только умный и наблюдательный парень, но он, как мне кажется, обладает многочисленными и самыми разнообразными, даже неожиданными связями.
Впрочем, все это из области каких-то неуловимых моих впечатлений, ощущений и предположений. И поручиться за точность их я не могу. Но я привык всему этому доверять и все это проверять, как ни противоречивы эти понятия.
Я, в конце концов, уже решительно направляюсь к Хромому, ибо вначале я шел не спеша, словно взвешивая и проверяя свое намерение.
Я иду все дальше и легко узнаю знакомые мне уже улицы, площади, скверы, даже отдельные дома и вывески магазинов. И наконец, выхожу на набережную.
Море все такое же, какое было неделю назад, — шумное, косматое, темно-свинцовое под низким серым небом, далеко-далеко где-то они незаметно сливаются, горизонта почти не видно. Небо здесь совсем особенное, мне кажется. Тучи, клубясь, наползают друг на друга, тяжелые, как горы, и чудится, что они вот-вот упадут в море. Многие жалуются, что бесконечный шум моря бьет им по нервам, что они плохо спят под мерный и яростный грохот волн. Я тоже не отдыхаю рядом с морем, но я как-то внутренне заражаюсь его энергией и мощью и чувствую себя словно обновленным.
Вот и сейчас я подхожу к парапету и с наслаждением подставляю лицо соленым брызгам от грохочущих внизу волн. С минуту я смотрю на их бешеный водоворот, потом иду дальше по набережной, узнавая, кажется, все до одного дома здесь, магазины, рестораны, кафе. Вот концертный зал, вот кинотеатр, вот кафе, где я был однажды…
Наконец я дохожу до мастерской Сережи-Хромого и толкаю дверь.
Сережа, как всегда, сидит за барьером на низенькой своей табуретке, неестественно вытянув негнущуюся ногу под низко опущенной лампочкой с железным абажуром, и сосредоточенно стучит молотком по подошве ботинка. А рядом, на обыкновенном стуле, сидит и курит… Володя-Жук.
Когда я вхожу, они оба одновременно вскидывают голову, и Жук первый изумленно кричит:
— Виталий?! Ты откуда?!
И вскакивает мне навстречу.
Сергей остается сидеть и молча улыбается мне.
Я захожу за барьер, пожимаю им обоим руки, подтаскиваю стул и тоже закуриваю. Мне необыкновенно хорошо с этими ребятами, словно я пуд соли с ними съел. И как здорово, что здесь оказался Жук, вдвойне это меня радует.
— С приездом, — крепко жмет мне руку Сергей. — Каким ветром опять задуло?
— А! — досадливо машу я рукой. — Потом. Ну как вы тут, как Славка?
Некоторое время мы болтаем о том о сем, потом я неожиданно спрашиваю:
— Ребята, а где это Гусиное озеро, не знаете?
— Километров тридцать от города, — отвечает Жук. — В горах.
— Ты там был?
— Водичку туда вожу. Точка там наша.
Дело в том, что Володя водитель грузовой машины и работает в тресте столовых и ресторанов. Это я еще прошлый раз от него узнал.
— А чего там еще есть, кроме твоей точки?
— Озеро есть, — улыбается Жук. — Здоровое. И красотища же там — ты бы знал. Ну, а еще там санатории всякие, дома отдыха, турбазы, охотохозяйство. Ты там был? — обращается он к Сергею.
Тот утвердительно кивает в ответ. Губами он зажал гвозди. И продолжает энергично стучать молотком.
— И дачи всякие есть? — спрашиваю я.
— Не, — уверенно отвечает Жук. — Дач нет. Ну, может, только какие особые, для начальства. А тебе чего там нужно? — в свою очередь спрашивает он.
— Не что, а кто, — отвечаю я. — Есть там как будто такой дядя Осип. Не слыхал?
— Не, — крутит головой Жук. — Не знаю такого. А ты не знаешь? — снова обращается он к Сергею.
Тот кивает, потом вынимает изо рта гвоздики и говорит:
— Егерь. Сволочь.
— Почему сволочь? — немедленно интересуется Жук.
— За большие хрусты он тебе кого хочешь разрешит застрелить, без всякой лицензии. Никого ему не жалко.
— А если хрустов нет? — улыбается Жук.
— Тогда тебя самого запросто может застрелить. Я тебе говорю, никого ему не жалко. И еще потом скажет: «Браконьер, в меня стрелял». Было раз такое. А другой раз парень один из города последние гроши ему отвез, чтобы откупиться. Он на него протокол фальшивый составил.
— Ну точно, сволочь, — соглашается Жук.
— Он там, на озере, и живет? — спрашиваю я.
— Ага, — кивает Сергей. — Сегодня вот в город приехал.
— А зачем?
— Купить чего-то надо. Продукты небось. Да вот сапоги оставил. Скоро прийти должен, забрать. Всякая тварь, что ходит, ко мне приходит, — философски заключает Сергей и кивает на большие болотные сапоги с петлями на длинных голенищах, которые валяются здесь же на полу среди другой старой обуви.
— Когда же он придет? — спрашиваю я.
Сергей смотрит на часы.
— Да вот сейчас и придет.
— И домой поедет?
— Ага.
— А на чем?
— На чем придется. Может, и на автобусе. Только там еще тогда километра четыре в сторону переть. Попутную небось поймает. Торопится он сегодня обратно.
— Чего так?
— Гости, говорит.
— Гости?..
Я с минуту соображаю, молча потягивая сигарету, потом спрашиваю Жука:
— Володь, твоя машина где?
— Где положено. На базе, — насторожившись, отвечает Жук. — А что?
— Возьми ее да пообещай этому гаду подкинуть его до озера. Все равно, мол, туда за тарой надо ехать. Нам с тобой. Ты водитель, а я… ну, скажем, экспедитор. Идет? — улыбаюсь я.
— Ты что? — изумляется Жук. — Кто же мне машину даст, соображаешь?
— Дадут. Я попрошу, — продолжаю улыбаться я. — Как с ним договоришься, жми на базу за машиной. Понял? Я там буду.
— Давай, давай, не дрейфь, — серьезно говорит Сергей. — Раз надо, значит, надо.
И Жук, ухмыляясь, чешет затылок.
— Чудеса. Но чего же не скатать? Давай проси машину.
— Кого только?
Жук диктует мне точное название своей организации, номер телефона диспетчера и фамилии всякого начальства.
А Сергей все так же серьезно добавляет, обращаясь ко мне:
— Ты только аккуратней с ним, с гадом с этим. Знаешь, как стреляет? Его на голову поставь, он все равно в муху попадет.
— Ладно. — отвечаю. — Уж как-нибудь. Только бы пришел.
— Придет, куда денется, — пожимает плечами Сергей.
— Зачем он тебе? — любопытствует Жук.
Вот Сергей, тот, кажется, совсем не любопытен. И никогда не лезет с вопросами, не навязывается на знакомство, я уверен. А вот знает, это я почему-то тоже уверен, всегда больше всех. Есть у некоторых людей такая особенность, я никак не могу понять этого свойства. Вот и дядю Осипа Сергей, оказывается, знает. Кто бы мог подумать?
— Зачем нужен? — переспрашиваю я. — Да вот хочу незаметно посмотреть, понимаешь, где он живет и… с кем.
— Вообще-то он один живет, — замечает Сергей.
Он бросает стучать и начинает прошивать подошву дратвой, предварительно прокалывая шилом для нее дырки.
— Значит, Володя, заметано, — говорю я, вставая. — Все там у тебя организую с машиной. А как он придет, ты, значит, предложи. Сергей поддержит. Предупреди только, ну, так, для порядка, что с экспедитором поедешь. Но это, мол, не страшно, свой парень. Хорошо?
— Иди, иди, — кивает мне Сергей. — Будет порядок. Он меня знаешь как уважает? Прямо первый друг.
— Это почему же так? — интересуюсь я.
— Биографию мою узнал. Родную душу почуял, — зло говорит Сергей.
— Ладно, — усмехаюсь я. — Ты его пока не разуверяй. Ну, пока.
Я выхожу на набережную, оглядываюсь по сторонам в поисках телефона-автомата, но потом решаю завернуть куда-нибудь за угол, чтобы ненароком не попасться на глаза этому дяде, который вот-вот придет к Сергею. Я попадаю на какую-то незнакомую мне улицу и для верности сворачиваю еще и на другую. Однако автомата нигде не видно. Тогда я захожу в первый попавшийся мне магазин, внимательно оглядываю на всякий случай покупателей, толпящихся возле прилавка, и, ничего подозрительного не заметив, прохожу в кабинет директора. Взглянув на мое удостоверение, тот немедленно придвигает мне телефон и деликатнейшим образом покидает свой кабинет, сославшись на какие-то дела.
Давуд понимает меня с полуслова, и то, что не могу сказать ему я даже в пустом, но все же постороннем кабинете, говорит он сам, словно угадывая мои мысли. План действий складывается у нас в считанные минуты, и я, успокоенный, кладу трубку, предварительно продиктовав Давуду записанные мною фамилии и телефоны. Да, выхожу я из магазина успокоенный. Разве можно в такой момент предвидеть все неожиданности, которые тебя ждут?
План мой меняется. База, оказывается, расположена далеко, и искать ее сейчас времени нет. Прошло всего минут двадцать, как я ушел из Сережкиной мастерской, и Жук еще, наверное, там. Подожду, когда он выйдет, и пойдем за машиной вместе. По дороге я смотрю на часы. Сейчас около половины первого, впереди чуть не весь день.
Я выхожу на набережную и… застываю от удивления. Около Сережиной мастерской стоит, сверкая лакированными боками, синяя «Волга». Вот тебе раз! Как это Гелий Станиславович может позволить себе такую глупость, катать дядю Осипа в своей «Волге»? Не ожидал. Тем не менее идти мне в мастерскую сейчас нельзя. Черт возьми, неужели Гелий Станиславович сам повезет дядю Осипа на озеро? Только этого не хватало. Хотя и будет означать… Впрочем, появление Гелия Станиславовича уже кое-что означает.
Но пока что мне надо куда-то деться и здесь, на виду, не маячить, при этом, однако, не выпускать из виду вход в мастерскую. Я оглядываюсь. Набережная пустынна, только вдали видны фигуры одиноких прохожих. У парапета, откуда мастерская видна лучше всего, никого нет, и я там буду сразу бросаться в глаза. До какого-нибудь кафе надо идти, подходящего магазина рядом нет, даже какого-нибудь паршивого подъезда тоже. Правда, невдалеке, возле самого тротуара, стоит облезлый пустой ларек, здесь, наверное, летом торгуют мороженым или фруктами. Я обхожу его и со стороны мостовой обнаруживаю дощатую дверцу, она не заперта, только петли закручены обрывком проволоки.
Я легко проникаю в ларек и устраиваюсь возле маленького бокового оконца. Вход в мастерскую мне прекрасно виден. Меня только гложет мысль, не пропустил ли я Жука и не ушел ли он уже на свою базу. Хотя, по моим расчетам, это случиться не должно.
Но вот через несколько минут томительного ожидания я вижу, как из мастерской выходит наконец Жук, почему-то оглядывается и, к счастью, направляется в мою сторону.
Когда он проходит мимо киоска, я его негромко окликаю. Жук вздрагивает и, остановившись, сначала смотрит на темную подворотню соседнего дома, потом на киоск и тут замечает мою улыбающуюся физиономию.
— Сворачивай за угол, — говорю я. — Сейчас догоню.
— Может, сперва мороженым угостишь? — весело осведомляется Жук.
Вскоре мы уже вместе шагаем по улице, и Жук докладывает:
— Ну, сперва этот дядя Осип пришел. Только ты вышел. Неказистый мужичок такой, морда вся в волосах, один нос торчит, здоровый. И бородища — во. А глаза злющие, так, знаешь, и стрижет. Вещевой мешок на себе приволок пуда в три, ей-богу. Самого под ним не видно. Ну, слово за слово, я, значит, предложил подбросить. А он Хромого спрашивает: «Свой, мол? Верить можно?» А Хромой говорит: «Больше чем тебе». Потеха. Ну, короче, за десятку договорились. А тут как раз подкатывает этот хмырь на «Волге». Они, я так понял, встречу у Хромого назначили. Ну, и передал он этому дяде Осипу такой, значит, пакетик, маленький такой, пухлый, как раз в карман, — Жук руками показывает его размеры. — А дядя Осип на меня ему тычет. Вот, мол, этот меня повезет. Тот меня оглядел, давай спрашивать, кто, мол, да откуда и зачем на озеро еду. Ну, а потом говорит: «Ладно, дуй за машиной. От меня еще десятку получишь, если хорошо моего друга довезешь». Я, значит, и потопал. Не каждый день по две десятки с неба падают, — Жук подмигивает мне и насмешливо спрашивает: — С тобой-то придется делиться или нет?
— Поглядим, — отвечаю. — Как себя поведешь. А то и все отберу. — И уже другим тоном спрашиваю: — Ну, а этот-то, на «Волге», тоже тебя ждать будет?
— Не знаю. Ничего не сказал.
— Гм… — задумываюсь я. — Возвращаться мне туда, пожалуй, не стоит. Мы, Володя, по-другому сделаем. Я тебя на базе подожду. Ты этого дядьку посади и за мной заезжай. Авось тот деятель за тобой на своей «Волге» не увяжется. Даже наверняка не увяжется. И еще вот что. Этого дядьку непременно в кабину посади, рядом с собой. Ну, а мешок большой, он туда не влезет. Поэтому ты его в кузов брось. Ясно?
За разговором мы незаметно подходим к базе, хотя путь туда и в самом деле оказывается неблизким и путаным. Большие железные ворота приоткрыты, за ними виден обширный грязный двор, в глубине длинное, приземистое помещение гаража, все ворота там распахнуты, возле стоят два или три стареньких автобуса и какие-то машины. Мы заходим во двор, и я сразу замечаю стоящую в стороне, возле забора, нашу «Волгу». В ней сидят люди, кто именно, я разобрать не могу.
— Выводи машину и дуй, — говорю я Жуку. — Все уже договорено.
— Ага, — кивает он. — Жди. Сейчас будем.
И направляется в сторону гаража. Мне кажется, его самого охватил азарт этой до конца, правда, ему не понятной, но, очевидно, серьезной операции.
А я иду к «Волге». Для меня уже приоткрывают заднюю дверцу. В машине, кроме Давуда, я обнаруживаю еще одного сотрудника и Эдика.
— Ты-то зачем едешь? — спрашиваю я его. — Не твое это дело — бандитов хватать.
— А кого ты собираешься хватать, интересно?
— Сам еще не знаю. Чутье куда-то ведет.
— Ну, вот и меня оно ведет.
В это время я вижу, как из гаража с шумом выезжает грузовая машина, пересекает двор и исчезает за распахнутыми воротами. Это поехал Жук.
— Запоминай машину, — говорю я Давуду. — За ней поедете. — И обращаюсь к Эдику: — Ну как, на фабрике был?
— Был, — отвечает он. — Но еще важнее, что Окаемов был в банке.
— Это почему?
— А мы потом сравнили наши данные. Оказалось, что по пути на фабрику пряжа испаряется, исчезает. Как я тебе и говорил. А на ту же сумму завышаются в других накладных цены на красители, нитки. И видимо, расход их на производстве тоже завышается. И на тех накладных, где цены завышены, стоит фамилия их получателя. Новая фамилия в деле возникла таким образом, понимаешь? Некий гражданин Прохладный.
— Кто?
— Фамилия такая — Прохладный, — смеется очень довольный Эдик.
— А-а. Ну, а сама пряжа куда девается?
— Сама пряжа мимо плывет. В какой-то подпольный цех. — Эдик уже не смеется. — На левую продукцию. Этот цех еще искать надо.
— В крайнем случае, Шпринц подскажет, — шучу я.
— Его еще тоже…
— Нашли ребята таксиста, — нетерпеливо вступает в разговор Давуд.
— Ну да?!
— Нашли, — со скромной гордостью повторяет Давуд. — И он запомнил ту ездку, конечно. Шпринц прямым ходом прикатил во двор магазина «Готовое платье». Там как раз синяя «Волга» стояла.
— Ну вот, братцы, — говорю я, — сами видите, все замыкается на уважаемом Гелии Станиславовиче. А сейчас он провожает дядю Осипа. И при этом вручил ему некий интересный пакетик. Причем у самого дяди Осипа в доме гости…
Я торопливо рассказываю, что произошло в мастерской Хромого, и под конец говорю:
— Вот так-то. А теперь мне пора выходить. Сейчас Жук приедет. — И обращаюсь к Давуду: — Значит, все, как договорились, да?
— Да, да. Как договорились, дорогой, — отвечает он.
— Учти, там и второй Ермаков может оказаться, — предупреждаю я, — тот буйвол дом своротить может.
— Я его лучше тебя знаю, — Давуд смеется. — Чей он сосед, твой или мой?
Я выхожу из машины и, не торопясь, иду в диспетчерскую, которая находится в небольшом домике возле ворот.
В этот момент с улицы доносятся нетерпеливые сигналы. Наверное, подъехал Жук и вызывает меня. Я выскакиваю за ворота, предварительно махнув рукой своим. Так и есть, стоит! Больше на улице ни одной машины не видно. Движение сейчас по городу ленивое, редкое. То ли начнется летом.
Подбежав к машине, я заглядываю в кабину и сердито говорю Жуку, стрельнув взглядом на сидящего рядом с ним худощавого бородатого человека с недобрыми глазами:
— Подкалымить вздумал, а я тут жди?
— Ну, попросил человек, — смущенно тянет Жук и, подмигнув, добавляет: — Тебе десятка, мне десятка. Плохо, что ли?
— Ладно, поехали, — сразу тоном ниже, примирительно говорю я.
И ставлю ногу на колесо, собираясь залезть в кузов.
— Не, не. Я туда, — беспокойно ворочается бородатый.
— Сиди, говорят, — приказывает Жук. — Гостям у нас почет, понял? А экспедитору нашему ничего не будет, он вон какой длинный.
Я не успеваю перекинуть ногу через борт, как Жук трогает машину.
Здорово, однако, он в роль вошел. И понял, наверное, что мне необходимо в кузове ехать. Нет, на Жука положиться можно.
Кузов завален пустыми ящиками из-под бутылок. Возле стенки кабины я замечаю большой, сильно потертый вещевой мешок, он чем-то набит до предела, просто лопается от поклажи. Я сбоку, чтобы не быть замеченным через окошечко в кабине, подбираюсь к нему и, расслабив шнурок, заглядываю внутрь. Ого! Мешок набит хлебом, консервными банками и еще какими-то продуктовыми свертками, некоторые уже насквозь промаслились. Непохоже, чтобы все это было закуплено для одного человека. Скорей всего, это рассчитано и на гостей тоже, и не на один день. Между прочим, консервы тут весьма дефицитные, их так просто в магазине не купишь. Я слегка надрываю один из свертков. Ну вот. И колбаса тоже. Это он, прохвост, где-то из-под прилавка получил. Или кто-то его специально снабдил. Для гостей, конечно. Я задумчиво рассматриваю банки и свертки и замечаю на одном из них какие-то цифры, небрежно написанные карандашом. Ага, это, вероятно, цена проставлена. Дороговато, однако. Не будет старик ради себя да и ради гостей так тратиться. Это, скорей всего, Гелий Станиславович позаботился. С какой же стати, интересно знать? А с той, что его это люди, он их к дяде Осипу прислал. Им и пакетик, конечно, предназначен, тот самый… Неужели верно мое предположение?
Я устраиваюсь среди ящиков, плотно запахиваю пальто, натягиваю чуть не до ушей кепку и рассеянно слежу за улицей, длиннейшей улицей, по которой мы сейчас едем. За нами никого нет. И правильно. По городу следовать за нами нет смысла. Известно, куда мы направляемся.
Машину время от времени кидает из стороны в сторону, скрипят ящики. Мостовая тут, вдали от центра, неважная.
А мысли вертятся все вокруг одного и того же. Если в доме у этого дяди Осипа скрываются Шпринц, или Ермаков, или оба вместе, то что это может означать? Не всю же жизнь им там скрываться? Ведь если уж началось расследование, если напали, допустим, на след Шпринца, то появись он дома или в своем магазине хоть через месяц или даже через полгода, все равно он будет задержан. На что же может быть рассчитано такое сидение, вернее даже, прятанье в доме дяди Осипа? Не дурак же Гелий Станиславович, совсем не дурак. А почему он, кроме Шпринца, решил убрать подальше и братца? Ненадежен? Трусоват, несмотря на звероподобный вид? Вполне возможно. Посмотрим, как он себя поведет, если случится встретиться. Но возможно, и не в трусости дело. Вот Эдик говорит, через него шел сбыт. Значит, это последнее звено. А Шпринц — первое, здесь, в Южноморске. Значит, теперь и за конец цепочки не ухватишься, чтобы в обратном направлении хотя бы пойти. Ловко.
Эх, знать бы, что за сверточек передал дяде Осипу Гелий Станиславович. В мешке этого сверточка, конечно, нет. Он плоский, небольшой, уместился небось в кармане. Может быть, задержать этого дядю Осипа сразу по приезде? Нельзя. Он должен привезти нас к своему дому. А может быть, и не к своему. Это тоже вполне возможно. Его дом там, где усадьба охотохозяйства. Надо ехать мимо санатория «Горное солнце», детского санатория «Красный аист» и селения Отока. Так сказал Сергей, он был однажды в гостях у дяди Осипа.
Между тем машина наша уже выехала из города и сейчас мчится по долине, между черными, еще прошлогодней вспашки полями и рядами виноградников. Вдали громоздятся угрюмые, причудливые горы, над ними синее, блеклое небо с плоскими реденькими облачками. Сквозь дымку светит неяркое солнце, заливает долину и заметно уже пригревает. Если бы не ветер, то совсем было бы тепло. Юг все-таки.
Но вот начинается подъем. Все ближе горы, все мрачнее они, суровее, холоднее. Их я вижу лишь краем глаза, а передо мной долина, и совсем вдали тоненькой полоской видно море и город.
Тут я замечаю далеко за нами темную «Волгу». Это, конечно, наши. Не спешат, выдерживают расстояние.
Машину начинает сильно потряхивать на крупных камнях. Причудливые, дикие скалы подступают к самой дороге, сжимают ее, порой загораживают сами горы. Все выше, все круче взбирается дорога. На одном из поворотов я вдруг вижу нашу долину уже глубоко внизу, а моря и города уже совсем не видно. Дорога петляет резко, круто. Меня то валит на борт, то ударяет об углы ящиков, я еле успеваю зацепиться за что-то.
Скалы временами исчезают, дорога вьется между заросшими лесом крутыми склонами, а кое-где она цепляется прямо по краю пропасти. В этих местах с одной стороны зияет неприятная пустота, и с моего места кажется, что машина двумя колесами висит в воздухе, а другим бортом, возле которого сижу я, она чуть не чертит отвесные каменные стены, вырубленные в горном склоне. Перед каждым поворотом машина истошно гудит. Да, случись встречная, как они разойдутся? При этой мысли становится не по себе. Вокруг уже настоящие горы, гигантские вершины покрыты снегом. И ветер становится свирепее, холоднее и коварнее. Разбойничий какой-то, налетает внезапно, из-за угла.
Неожиданно за одним из поворотов скалистая стена отступает. Распахивается небольшая горная долина. Дорога устремляется по ней, и вот уже с обеих сторон от нас тянутся невысокие, сложенные из плоских камней ограды садов. Вскоре мы минуем деревянные ворота с вывеской во всю их длину: «Санаторий „Горное солнце“». Солнца тут и в самом деле много, и припекает оно здорово, даже сейчас. Машина, покачиваясь, едет все дальше мимо каменных изгородей и бесконечных садов, потом сворачивает куда-то в сторону, и мы снова углубляемся в горы. Где же детский санаторий? Пока что его не видно, как и селения под названием Отока. Кругом опять лишь красноватые скалы и зеленые лесные склоны.
Селение скоро появляется, но оно называется совсем иначе, я не успеваю прочесть на белой табличке его замысловатое название. Куда же мы едем, интересно знать? Может быть, это просто другая дорога и сейчас будет охотохозяйство? Но селение кончается, и мы снова оказываемся на горной петлистой дороге. И вскоре въезжаем в новое селение. Проехав некоторое время по нему, мы оказываемся на небольшой площади. Здесь машина наша неожиданно останавливается.
Хлопает дверца, вылезает Жук и весело объявляет:
— Все. Прибыли. Дядя, гони красненькие.
Вылезает и дядя Осип. Жилистый, какой-то пружинистый мужичок, хоть и мал ростом. И глаза быстрые, диковатые, недобрые, чем-то знакомые мне.
— Куда же это ты, дядя, нас завез, а? — спрашиваю я, пока дядя Осип, кряхтя, достает из внутреннего кармана своей поношенной поролоновой куртки мятый бумажник.
— Так ведь озеро — вон оно, два шага всего, — машет рукой дядя Осип и усмехается. — Там и ресторан ваш. Мы чуток только в сторону забрали.
— Живете здесь? — спрашиваю я.
— Да нет, — отвечает. — К дружку заехал. Продуктами вот поделюсь.
— А сами-то где живете?
Я нарочно тяну разговор и соображаю про себя, как дальше поступить. Можно задержать сейчас этого дядю и заставить вести к нужному нам дому. Но вдруг заупрямится и тогда приведет куда угодно, с ним ничего не поделаешь. Дядек-то с норовом и небоязливый, видать. Можно, конечно, за ним и проследить, хотя это совсем непросто в незнакомом селении. Но для окончательного решения мне нужен совет Давуда. Следовательно, надо дать время подъехать нашим и пока что не упустить этого шустрого старика. И я незаметно оглядываюсь вокруг.
Из-за соседней каменной ограды на нас с любопытством глядят черноглазые загорелые ребятишки в пестрых рубашках и свитерах. Степенно проходят мимо двое мужчин в черных плотных куртках домашней выделки. Куда-то спешит группа молодых, стройных женщин в длинных, до земли, юбках и теплых кофтах, весело болтают о чем-то, стреляют в нашу сторону глазами, любопытно им.
Дядя Осип тоже не спешит, медленно раскрывает свой старый бумажник, сосредоточенно и хмуро роется в его кармашке и, наконец, вытаскивает сложенную вчетверо десятку, бережно расправляет ее, приглаживает, отгибает загнутые уголки. Очень трудно, видно, ему с ней расстаться. Как же, будет он на свои деньги покупать столько дорогих продуктов, нужны они ему. Наконец, вздохнув, дядя Осип передает десятку Жуку и начинает доставать другую. Это он проделывает еще медленнее.
Жадность губит людей, это уже не раз было доказано. И вот еще одно подтверждение. Я вижу, как из-за угла с безразличным видом неожиданно появляется Давуд и, не торопясь, шествует мимо нас.
В какой-то миг наши глаза встречаются. Дядя Осип в этот момент ничего вокруг себя не замечает, он поглощен прощанием с новой десяткой. Я делаю Давуду знак, который означает, что вот этого человека нельзя выпускать из поля зрения. Давуд чуть прикрывает глаза, давая понять, что все ему ясно и все будет сделано. Советоваться некогда, и поэтому я принимаю решение сам: пусть дядя Осип идет себе пока с миром.
Пройдя мимо нас, Давуд неожиданно останавливается и что-то громко, гортанно кричит, кого-то, очевидно, зовет. Никто почему-то на этот крик не обращает внимания, ни детишки за оградой, ни удаляющиеся женщины, и дядя Осип тоже. А через минуту к Давуду вдруг выбегает его помощник, который ехал с ним в машине, выбегает совсем с другой стороны, чем я ожидал. И они начинают громко и оживленно что-то обсуждать на незнакомом мне языке. И тут я замечаю, как вся эта сценка необычайно естественно вписывается в окружающую обстановку.
Наконец дядя Осип заканчивает расчеты с Жуком, кряхтя, вскидывает на спину свой громадный мешок и необычайно бодро отправляется в путь. Не успевает он скрыться из виду, как вслед за ним устремляется сотрудник Давуда. А он сам, собираясь последовать за ними, подает мне сигнал.
В это время из-за угла, откуда вышел Давуд, появляется Эдик. Он присоединяется ко мне, и мы отправляемся вслед за Давудом, на некотором расстоянии от него. Это знакомый маневр, мы ведем дядю Осипа «цепочкой».
На ходу я бросаю Жуку:
— Жди здесь.
Мы следуем на некотором расстоянии от Давуда, останавливаемся, когда останавливается он, или быстро пробегаем какое-то расстояние и прижимаемся к бесконечной, по-прежнему сложенной из плоских серых камней невысокой ограде, не спуская глаз с мелькающей впереди гибкой фигуры Давуда. Он ведет нас все дальше, все выше в горы. Домиков поселка уже не видно вокруг, ограда из камней становится ниже, камни сложены уже кое-как, зато видны кустарник и высокая пожелтевшая трава.
Эдик идет рядом, и в глазах его я вижу возбуждение и любопытство. Конечно, ему непривычна такая операция, его «клиенты» — люди, как правило, степенные, деликатные.
Неожиданно Давуд, махнув нам рукой, исчезает. Это значит, он меняется местами с идущим впереди товарищем. Теперь Давуд поведет нашу «цепочку». Так и есть. Впереди появляется его помощник. Его зовут Ахмет, как сообщил мне Эдик.
Путь наш продолжается, но только становится труднее. Мы сворачиваем куда-то в сторону и начинаем карабкаться по травянистому откосу, между огромными осколками скал, видимо скатившихся откуда-то сверху в незапамятные времена. Кажется, мы огибаем селение, оно уже под нами, скопление серых оград и домов, я даже вижу вдали маленькую площадь и на ней нашу грузовую машину. Ого, далеко же мы забрались.
Интересно, почему дядя Осип избрал такой трудный, кружной путь. Опасается нас? Но тогда бы он просто не сел к нам в машину. Может быть, чем-то выдал себя в последний момент Давуд или Ахмет? И дядя Осип теперь на всякий случай петляет, путает след? Это было бы очень досадно.
Но вот, сделав нам условный знак рукой, исчезает с наших глаз Ахмет. Мы ждем, привалившись к каменной ограде. Давуд почему-то не появляется. Мы продолжаем ждать, сдерживая нетерпение. Эдик беспокойно оглядывается, все время порываясь идти дальше. Я придерживаю его рукой. Нервы напрягаются все больше. Я расстегиваю пальто, сую руку под пиджак и, нащупав знакомую плоскую кобуру под мышкой, слегка успокаиваюсь.
В этот момент где-то совсем близко неожиданно грохочет выстрел, и гулкое эхо катится в горы. За первым выстрелом раздается второй, потом третий. Давуда по-прежнему не видно, Ахмета тоже.
И тогда мы спешим на выстрелы. Я рывком достаю пистолет и спускаю предохранитель. Эдик на ходу проделывает то же самое. Мы то карабкаемся между камней, то перебегаем от одного к другому. Я вдруг вспоминаю слова Сергея о том, как стреляет дядя Осип. Неужели это стрелял он?
Неожиданно я вижу впереди, возле большого камня, распростертую фигуру. Это Давуд. Он поднимает голову и манит нас к себе. Мы подползаем. Под нами гравий и жидкая грязь.
— Они вон там, — шепчет Давуд. — За той оградой. Там дом.
— Не уйдут?
— Ахмет держит ту сторону.
— Кто стрелял?
— Два раза Осип. В меня. Один раз кто-то другой. Наверное, в Ахмета. Тоже не попал. Ахмет сделал отмашку.
— Кто в доме, сколько человек, ничего не известно?
— Ничего, — отвечает Давуд.
— Почему они стреляли?
— Нас заметили, конечно. Стерегут, собаки.
Я слегка высовываюсь из-за камня. Нет, стерегут плохо. Выстрела не следует. Я внимательно рассматриваю тянущуюся невдалеке стену из камней. Она довольно высокая, за ней ничего не видно, выглядывают только верхушки редких деревьев и близкий кустарник.
— Эдик, — говорю я, — ты ползи в ту сторону вдоль стены, а я в эту. Пока не встретимся. Найди в ограде окошко, щель какую-нибудь, рассмотри участок и дом и вообще все, что удастся. А ты стереги их, Давуд.
— Стерегу, дорогой, стерегу. Давайте.
Мы с Эдиком расползаемся в разные стороны.
И вот я уже один. Плоские камни ограды уложены так плотно, что не видно ни щелки. Неужели она вся такая? А высунуться пока опасно. Ну, а если все-таки попробовать?
Подобрав какую-то ветку, я цепляю на нее свою кепку и осторожно приподымаю над оградой. Ничего. Никто по кепке не стреляет. В чем дело? Значит, можно выглянуть? Но я сдерживаю себя. И продолжаю ползти вдоль стены, руками прощупывая влажные ее впадины и неровности.
И мне наконец везет. Между камнями неожиданно обнаруживается щель. Толстым концом ветки, которую я почему-то не выбросил, я выковыриваю из щели песок, мелкие камушки и приникаю к ней глазами.
В неожиданной близости от себя я вижу дом, небольшой, бревенчатый, на высоком, из камня сложенном фундаменте, с застекленной терраской, с двухскатной, крытой толем, крышей, с привычными наличниками на окнах, будто какая-то скромная подмосковная дачка забралась в эти горы, безобидная, мирная дачка, хочется зайти и спросить, не сдается ли. А там ждут пули… Возле дома ни дерева, ни кустика. Людей не видно. Ставни на всех трех окнах по фасаду распахнуты. Но сами окна закрыты, и дверь на террасу тоже. Откуда же стреляли, да еще двое, в две разные стороны сразу? Может быть, эти двое прячутся где-то снаружи, не в доме? Но где же тут спрячешься? Впрочем, за домом могут быть и кусты, и деревья, и какие-нибудь постройки даже. Это за домом, а тут, с моей стороны, ничего такого нет. Значит, надо ползти дальше, может быть, удастся осмотреть другую часть участка.
И я снова ползу по мокрой жухлой траве и ощупываю руками каждый выступ.
Интересно, какой у них план? Если рискнули открыть стрельбу, значит, решили раскрыть себя. А что дальше? Дождаться темноты и бежать? Ведь дядя Осип знает тут каждую тропку, и уйти от погони им будет нетрудно. Да, вполне вероятно, что план именно такой. Хотя они не знают наши силы и очень рискуют. Другого выхода у них, очевидно, нет. Им, конечно, есть чего бояться. Ах, если бы узнать, кто же там скрывается, в этом доме. Конечно, они хотят дождаться темноты и бежать. Значит, нам дожидаться темноты нельзя. Сейчас у них, по крайней мере, два преимущества. Они обороняются, а в наступление вынуждены идти мы, значит, они могут прятаться, а нам придется открыться. И потом, мы им не нужны живые, а вот они нам только живыми и нужны. Значит, что-то надо придумать…
Я продолжаю ползти вдоль ограды, разглядывая каждый камень в ней. И вдруг что-то хлещет меня сверху. Я поднимаю голову. Через ограду свешиваются упругие ветви густого кустарника, ветви усыпаны жесткими глянцевыми листочками. Вот это уже другое дело. Я приподымаюсь и слегка раздвигаю ветви. Передо мной все тот же дом, но теперь я вижу его с другой стороны. И отсюда он дальше отстоит от меня. С этой стороны у него глухая стена, без единого окна. Странный какой-то дом. А вокруг и здесь ни одного дерева или куста. Незаметно приблизиться к дому невозможно.
Вероятнее всего, в доме сейчас трое: Шпринц, Ермаков и дядя Осип. Точнее, так я надеюсь. О ком бы еще стал беспокоиться сейчас Гелий Станиславович? Стреляют, конечно, Ермаков и дядя Осип. Шпринц скорее умрет от страха, чем выстрелит. Как стреляет дядя Осип, я знаю. Хотя вот выстрелил же он два раза — и не попал. А что, если… Нет, надо сначала встретиться с Эдиком и узнать, что обнаружил он.
Но не успеваю я вновь спрятаться за ограду, чтобы ползти дальше, как внезапно гремит выстрел. Я слышу невдалеке короткий, отчаянный вскрик и вижу дядю Осипа с ружьем в руке, он прыгает, чтобы скрыться за угол дома.
И я, не раздумывая уже, подхваченный какой-то жаркой волной, вскидываю пистолет и стреляю сквозь кусты…
Дядя Осип падает навзничь, как подкошенный. Еще бы мне промахнуться на расстоянии в двадцать пять шагов! Он падает, и ружье, ударившись о землю, летит в сторону. Секунду я, застыв, остаюсь на месте. Ну, кто там кинется к нему на помощь, кого еще… И кто кричал сейчас? Главное, кто кричал — Эдик, Давуд, Ахмет, кто? Надо бежать в ту сторону, откуда донесся крик, и надо стеречь Осипа. Вот он приподымает голову, словно прислушиваясь, и слабо шарит вокруг себя рукой, ищет ружье. Нет, обессилев, опять падает. Потом начинает медленно ползти к дому.
— Лежать! — зло кричу я. — Лежать, говорю! Прикончу! Ермаков, выходи.
И тут же кидаюсь вдоль забора на крик. Нет, нет, это уже не крик. Я слышу стон. Мучительный стон. Все ближе. И сердце мое вдруг на секунду тяжко замирает от ужаса. Это стонет Эдик, я же слышу! Так стонут, когда умирают, когда захлебываются в крови.
Я уже не ползу, я бегу, согнувшись, вдоль забора. И вдруг вижу, как навстречу мне бежит, тоже вдоль забора, какой-то человек. Это Давуд, у него какое-то страшное лицо, яростное, возбужденное, горестное…
А вот и Эдик. Мы почти одновременно подбегаем к нему с Давудом. Эдик, разметавшись, лежит на камнях. Пальто расстегнуто, пистолет выпал из руки. Глаза его закрыты, в лице ни кровинки, белое лицо и черные, запекшиеся губы, из которых рвется булькающий, хриплый стон.
Я рывком приподымаюсь над оградой и вдруг вижу, что возле лежащего Осипа стоит, подняв руки вверх и оглядываясь по сторонам, Ермаков, как дрессированный медведь, такой же оскаленный, перепуганный и огромный.
— Зови Ахмета, — быстро говорю я Давуду. — Несите Эдика в машину и отсылайте ее в город, немедленно! А сам возвращайся. На грузовой машине этих повезем. Быстро!
Давуд не успевает мне ответить, я одним махом перескакиваю через ограду и, держа в руке пистолет, приближаюсь к Ермакову. У него какой-то блуждающий, затравленный взгляд, его душит, прямо-таки сотрясает нервная икота. Жалкий, даже какой-то трагикомичный у него вид.
Я подхожу и, не отводя пистолета, громко кричу:
— Шпринц, выходите! Живо!
Меня самого бьет нервный озноб.
Мельком я бросаю взгляд на Осипа, он скрючился на желтой траве, спрятав лицо и подобрав под себя ноги. Жив, гад, жив…
— Не стреляйте! — кричит появляющийся из-за угла дома Шпринц и, увидев Ермакова, тоже поспешно вскидывает вверх руки. — Ради бога, не стреляйте!.. Господи боже мой, какой ужас! — продолжает причитать он, не в силах оторвать глаз от лежащего на земле Осипа. — Какой ужас! К черту, к черту!.. Пропал!.. Это уже совершенный факт! Возьмите все документы… сажайте… Я все скажу! Только не стреляйте!.. Не стреляйте!.. Я абсолютно все скажу… Я все знаю… Я вам пригожусь… Не стреляйте…
В этот момент Ермаков делает нетерпеливое движение, пытаясь опустить руки.
— Руки, — угрожающе говорю я.
И направляю на него пистолет. Меня вдруг охватывает жгучее, просто невыносимое желание выстрелить. И, видно, Ермаков уловил что-то в моем взгляде и вдруг стремительно, как подрубленный, рушится на колени, тяжко, натужно всхлипывая и преданно глядя мне в лицо, все еще боясь произнести хоть слово.
Зато Шпринц, захлебываясь, продолжает визгливо причитать, держа руки над головой и изнемогая от страха:
— Я все скажу… Я все знаю!.. Все, все!.. Меня нельзя убивать!.. — вдруг истерически кричит он.
Нервы его, очевидно, не выдерживают. Глаза расширяются, и он не в силах оторвать взгляда от неподвижно лежащего Осипа. Какой ужас, я его, кажется, застрелил. Но перед глазами у меня встает вдруг бледное, перекошенное от боли лицо Эдика, его запекшиеся губы.
И тут я вижу, как перепрыгивает через ограду Давуд. А за ним появляются Володька-Жук и еще какой-то человек.
Спустя несколько минут мы уже гуськом двигаемся вниз по крутой каменистой улочке, туда, где нас ждет машина. Впереди идет Ермаков, руки у него связаны за спиной. За ним иду я, пистолет я так и не спрятал. В кармане у меня пухлый сверток, который привез Осип. Там два паспорта, куча денег и записка от Гелия с двумя адресами в двух разных городах. Давуд ведет Шпринца, за ними несут Осипа.
Вот и все. Мы свое дело сделали — мы, уголовный розыск. Теперь предстоит до конца распутать паутину, которую соткал Гелий Ермаков, хитро соткал, втянув много разных людей. Расследованием его преступлений займутся наши коллеги из службы ОБХСС. Это сложное и особое дело, тут я не специалист. И не пытаюсь в нем разбираться. Вот и Эдик не был специалистом в нашем деле. Зачем только он с нами поехал…