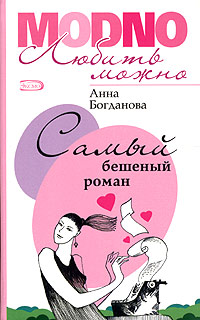
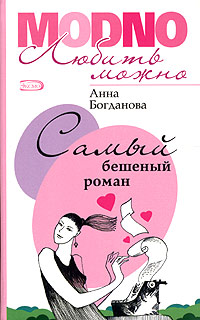
Анна Богданова
Самый бешеный роман
Автор спешит предупредить многоуважаемого читателя, что герои и события романа, конечно же, вымышленные.
Еще издалека завидев книжный магазин, я не могла пройти мимо, не посмотрев на свои детища. Поскольку реальных детей у меня пока нет, я при каждом возможном случае любуюсь на созданные мной литературные произведения.
Влетев в книжный подобно урагану, я проскочила отделы религии и философии, медицины, русской классики — все это ничуть меня не интересует.
Народу было полно, и я, расталкивая буквоежек плечами, бедрами и руками, наступая им на ноги, стремилась добраться до вожделенной полки с любовными романами. Наконец я у цели: тепло разлилось по всему телу, голова закружилась от ряда книг в ярких глянцевых обложках, на каждой из которых (если вывернуть шею) можно прочитать фамилию автора — Мария Корытникова. «Это я — Мария Корытникова! Я!» — пульсировало у меня в голове. Глядя на свои шедевры, я вдруг сама себе напомнила ту лягушку-путешественницу, которая странствовала вместе с перелетными птицами, держась ртом за прутик. И как в один не слишком прекрасный день ее расперло от гордости и она закричала во всю глотку: «Это я! Я придумала так путешествовать!» В итоге бедняжка, как известно, полетела вниз.
Нет, что ни говори, а приятно смотреть на собственные творения. Неужели я столько написала? «Я-я-я-я!» — немедленно отозвалось в моей душе. Именно в эту секунду кто-то коснулся моего локтя.
Я обернулась — передо мной стояла совершенно незнакомая женщина: полная, лет сорока, в коротеньком терракотовом плаще и темно-зеленой юбке.
— Девушка, я смотрю, вы не знаете, что выбрать? — участливо спросила она, а взгляд ее маленьких черных глазок, казалось, уже успел проникнуть в мою голову и узнать обо всех глупых и заносчивых мыслях.
— Да. То есть нет, — опешила я, но тут же подумала: «Какое ей, собственно, дело до моего выбора». — А вы что, тут работаете консультантом? — съязвила я.
— О, нет, что вы! Я просто живу неподалеку и часто заглядываю в этот книжный — мне нравится, что тут можно ходить, выбирать… Знаете ли, на прошлой неделе купила замечательную книгу, и если вы не читали, очень советую вам ее приобрести.
— Что за книга? — живо спросила я в надежде, что дама в терракотовом плаще непременно скажет сейчас, что года три назад в России появилась одна очень талантливая писательница, что романы ее переполнены истинными страстями, глубоким психологизмом характеров героев и что фамилия этой самой писательницы — Корытникова.
— Книга называется «Дневник Бриджит Джонс», а написала ее Хелен Филдинг, кажется, перевод с английского. Ну да, конечно же с английского, там все события происходят в Лондоне.
И тут я ощутила такое неприятное чувство, которое, наверное, испытывает каждая мать, когда посторонние намекают ей на то, что ее ребенок вовсе уж не такой умный и красивый, каким она его считает, что есть, мол, дети поумнее и покрасивее.
Да что ж это такое, в конце концов! Народ просто помешался на этой чокнутой Бриджит Джонс! Все только и делают, что говорят об этой полоумной девице! Повсюду слышишь: «А вы читали „Дневник Бриджит Джонс“?», «Вы слышали, по этой книге уже сняли фильм! Нужно непременно посмотреть!», «Филдинг пишет продолжение своей „Бриджит“! „Она возвращается!“, „Сняли и продолжение!“.
Вот радость-то привалила! Я была возмущена до крайности и решила не держать в себе накопившиеся эмоции по этому поводу:
— Вы бы лучше, женщина, почитали русских классиков — Тургенева, Толстого, Достоевского. Думаю, это принесет больше пользы вашей душе и не даст мозгам окончательно засохнуть!
— Вот наглость-то! — возмутилась толстуха. — Ей советуешь, а она еще и хамит!
— С Достоевским, девушка, это вы загнули! — крикнула девчонка лет пятнадцати в джинсах и лиловом свитере.
— Да и вообще надоело это старье читать! — вмешалась в разговор девица с модной стрижкой и в куртке из тончайшей лайки.
— Между прочим, девушка совершенно права. Беда современной России в том, что молодежь не читает классику, — поддержал меня старичок, который, словно гриб после дождя, вырос возле полок с любовными романами.
И тут я заметила, что вокруг столпилось довольно много народа — они окружили меня плотным кольцом и, видимо, готовы были продолжать дискуссию. Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг вскочила на небольшую лестницу, сразу оказавшись на голову выше желающих поспорить, и выкрикнула:
— У вас отсутствует чувство патриотизма! Вы все — жертвы современной зарубежной литературы и этой, как ее… Филдинг, которой совершенно чужды проблемы русских женщин! И если вы не желаете читать русскую классику, если она вам надоела, читайте современных российских авторов! — Я так увлеклась агитацией, что не заметила, как перешла на крик. А народу вокруг скапливалось все больше и больше.
— Кого вы имеете в виду? — спросила девица с модной стрижкой.
— Да! Позвольте полюбопытствовать, кого бы вы нам порекомендовали? — желчно спросила толстуха в терракотовом плаще.
— Вот! Прекрасные романы современной российской писательницы Марии Корытниковой, наполненные истинными страстями, глубоким психологизмом героев и их поступков. — Я потянулась за своим творением… Полка оказалась слишком далеко, мне с трудом удалось ухватить один из романов, и тут книги с грохотом полетели на пол.
— Девушка, вы что хулиганите-то?! — послышалось из глубины зала. Ко мне направлялся охранник с продавщицей.
Я моментально спрыгнула с лестницы и бочком, бочком, по стеночке стала пробираться к выходу.
— Куда же вы? — спросила толстуха в плаще.
— Я вспомнила, что забыла выключить утюг! Пустите меня!
— Идите и поставьте на место книги, которые вы уронили. — Она явно мстила мне за «ссохшиеся мозги».
Отстаньте! У меня квартира из-за вас сгорит! — возмутилась я и сделала вид, что хочу проскочить с левой стороны — там, где стоял охранник. Тетка тут же метнулась влево и, неожиданно завалившись на стража порядка, вдавила бедолагу в стенку, а я благополучно вылетела из книжного.
Больше всего на свете я ненавижу засыпать и просыпаться. Сон для меня, как огромный лабиринт с миллионами замурованных входов и выходов и всего с двумя нужными. Так что до рассвета я не могу попасть внутрь, постоянно натыкаясь лбом на бетонные стены, а поздним утром также мучительно ищу выход из фантасмагорических сновидений.
Вот и сегодня я никак не могу очухаться: пью уже пятую чашку кофе, полпачки сигарет выкурено, но не написано ни строчки.
Но нет, нет, все по порядку!
Выхожу из лабиринта с набитыми в сознании шишками от «натыкания» на бетонные стены, продираю сначала один глаз, потом другой, и сквозь сонную пелену передо мной вырисовывается плакат, который, по идее, должен побуждать к подвигу: «Дорогая, просыпайся, тебя ждут великие дела!» Лениво потягиваюсь и снова зарываюсь в подушку. Лежу минут пять. Совесть грызет нещадно. Вскакиваю с кровати. Холодно. Опять кидаюсь под одеяло. Мягко и уютно, как в утробе матери. Выходить совсем не хочется: чего-то делать, суетиться… Как будто я каждое утро в муках рождаюсь заново, а по вечерам в мучениях умираю, словно великая грешница, душа которой отягощена страшными злодеяниями.
Где-то слышала, что комар живет всего один день. Наверное, для него утро — это детство, полдень — юность, вечер — старость. Определенно комары влюбляются в обед, а плодятся ближе к полднику. Решено, следующая моя книга будет называться «Комары умирают ночью», или нет, «Любовь в полдень», а лучше … Подумаю об этом, когда закончу нынешний роман.
Снова вылезаю из-под одеяла и смотрю на плакат, осторожно опускаю одну ногу на пол и долго на ощупь отыскиваю шлепанец. Наверное, закинула вчера под кровать. Опять убираю ногу под одеяло. Обломовщина! Обломовщица! Обломщица!
Конечно, обломщица и динамистка. Лежу и с удовольствием, даже каким-то болезненным наслаждением вспоминаю вчерашний вечер.
Но нет, нет, нет! Все по порядку!
Меня почему-то непременно хотят выдать замуж за порядочного человека: и мама, и мамины подруги, и мамин муж, и бабушка, и даже ее подружки-старушки подыскивают мне женихов — своих сыновей, внуков, племянников, внучатых племянников, уверяя, что все они очень достойные молодые люди, с целым набором самых лучших качеств и добродетелей, совсем без недостатков. Мне говорят, что я уже далеко не девочка, а после тридцати выйти замуж — это почти так же сложно для меня, как получить Нобелевскую премию по литературе. Все они в один голос и в два моих бедных уха твердят, что если я буду оттягивать замужество, то перспектива родить ребенка на старости лет и быть ему не то мамой, не то бабушкой для меня вполне реальна. Окружающие снова и снова дают мне понять, что я совершенно ненормальный человек. Во-первых, потому что в моем паспорте уже нет места для штампа об очередном бракосочетании, во-вторых, потому что я не хочу сейчас рожать детей, и в-третьих, мне намекают, что разговаривать на столь важную тему я могла бы и повежливее!
Надоели! Надоели все!
Меня так извел мой последний брак, что вот уже два года я наслаждаюсь полной свободой действий и решений. После развода я даже как-то поумнела, наверное, оттого, что мне не доказывают каждый день, что женщина — это не человек, а существо, промежуточное между человеком и домашним животным. Есть, например, женщины-стервы. Они напоминают кошек — ласковые с виду, но время от времени показывают свои коготки. Есть женщины, похожие на коров, — с ними тепло, спокойно, они большие и заторможенные. Есть и бабы-коршуны, которые, если что не так, глаза выцарапают и пустят бедного супруга по миру. Такие обычно — худые и злющие. Есть — павлины, вернее павлинихи, невероятно красивые, но глупые. Я же все три года своего последнего брака была каким-то дикобразом, или нет, скорее, неизвестным до сих пор в зоологии подвидом, этакой смесью из всех вышеперечисленных животных: когда бежала из магазина с сумками наперевес, напоминала гончую собаку; когда стирала кучу белья, по уши утопая в пузырьках от порошка, очень уж была похожа на загнанную лошадь в предсмертном состоянии с пеной у рта; когда пылесосила — изможденную клячу, которая пасется в пустыне, отыскивая зеленую травку среди колючек; к вечеру, тупо уставившись в телевизор, — сомнамбулу; ночью, во время любовных утех… В эти моменты Толик никогда ни с кем меня не сравнивал, потому что был скуп на комплименты, а может, потому, что в такие минуты я чем-то отдаленно напоминала ему человека, или потому, что он всегда закрывал глаза?..
Не хочу ни с кем знакомиться! Надоели все!
И вообще, если быть до конца честной, то вот уж два месяца как я влюблена и совершенно не знаю, что мне с этой любовью делать, — ведь тот, в кого я влюблена, даже не ведает об этом…
Впервые я увидела его этим летом, когда ездила в редакцию получать гонорар за предыдущую книгу. Если бы на моем месте была моя бабушка, она ни за что не влюбилась бы в мужчину в белом костюме. Напротив, она скорее всего шарахнулась бы от такого в сторону и подумала, что у него не все в порядке с головой.
Бабушка не раз повторяла историю от том, как за год до начала Великой Отечественной войны ждала на перроне своего жениха и вдруг, увидев вдалеке человека в белом костюме и приняв его за будущего мужа, спряталась за вокзальную кассу, решив ни за что не выходить за него замуж. Мужчина в белом костюме не может быть ее мужем! Белый костюм — это чересчур, это слишком амбициозно и напыщенно. Однако, к ее великой радости, человек в белом костюме прошел мимо, а минуту спустя ее окликнул мой дедушка — «стройный, высокий, симпатичный», и главное, в темно-вишневой тройке, что мгновенно успокоило бабушку, и она вышла за него замуж.
Хорошо ли, плохо ли, но я уродилась явно не в нее, и когда увидела в издательстве мужчину моей мечты, у меня закружилась голова и я чуть было не рухнула от чувств. Вот он — герой моего будущего романа! Вот типаж, которого днем с огнем не сыщешь! Высокий, стройный, он отмеривал коридор издательства уверенным шагом, белый костюм сидел на нем безупречно. Несомненно, он умел носить подобные вещи с достоинством и без комплексов — казалось, этот человек был рожден для роскоши. Зачесанные назад вьющиеся светло-русые волосы, брови с изгибом, почти черные, соболиные, нос чуть похожий на клюв хищной птицы — обожаю такие носы! От него чуть веяло дорогим парфюмом, а когда мы с ним поравнялись, герой моего романа бросил на меня любопытный взгляд и проговорил хрипловатым голосом:
— У-у, какие музы сюда заглядывают!
Обожаю такие голоса! Я совершенно растерялась — не нашлась, что ему ответить, и прошла мимо, как мне тогда показалось, гордо подняв голову. Но до сих пор не могу себе этого простить! Надо было ему что-нибудь ответить — что-то умное и загадочное. Я влетела в кабинет и спросила у своего редактора:
— Любочка! Кто это там по коридору сейчас прошел?
— Да мало ли кто у нас по коридорам шастает! — возмутилась она.
— Ну как же! Такой потрясающий мужик в белом костюме!
— Ты как из деревни приехала! Это ж Кронский! Мы с ним сейчас подписали договор на его новую книгу.
Сам Алексей Кронский?! — воскликнула я и тут же сама себе стала противна, потому что почувствовала, что в этот момент была похожа на малолетнюю фанатку, которая пару минут назад случайно столкнулась со своим кумиром. На самом деле об Алексее Павловиче Кронском я знала лишь то, что он был популярным сочинителем детективов, но ни одного его романа я не читала.
После роковой встречи с моим героем в коридоре редакции я скупила все его книги и целую неделю, не выходя из дома, читала их, смакуя каждое слово. Когда все книжки были прочитаны, я начала напряженно думать, как можно с ним познакомиться. Конечно, это совсем не в моих правилах — вешаться каждому встречному на шею, причем у него, наверное, целая куча любовниц и почитательниц, но мне было на них наплевать, потому что влюбилась я не на шутку и любовь эта была с первого взгляда.
Может, узнать у Любочки его телефон или электронный адрес и подключиться к Интернету? Нет, не стоит никуда подключаться — я в этом ничего не смыслю, слышала только не один раз, что хакеры через Интернет могут проникнуть в твой компьютер и… И они обязательно стащат все мои гениальные тексты! Нет, Интернет определенно отпадает. Остается попросить у Любы телефон. Но это уж совсем глупо. Нужно, по крайней мере, придумать какую-то правдоподобную историю, для чего вдруг мне понадобился телефон великого Кронского. Он пишет детективы, я — любовные романы. Какая между нами может быть связь? Я думала целую неделю, что может быть общего между детективом и мелодрамой, а еще через неделю снова увидела своего героя в редакции.
— Что это за неземная дева ходит по прозаическим коридорам?! — бросил он мне вслед своим опьяняющим, хрипловатым голосом. Я хотела было ответить, что эту деву зовут Мария Корытникова и что она приходит сюда по делу — тоже, мол, не лыком шита и тоже пишет романы, — но мой герой уже свернул к лифту.
В тот день я поняла — чтобы познакомиться, существует только один способ: как можно чаще попадаться ему на глаза. Этот путь, конечно, тернист и требует нечеловеческого терпения и удачи, но зато самый надежный. Чтобы он начал думать обо мне, нужно постоянно мелькать у него перед глазами. Тогда он обратит на меня внимание и в конце концов поймет, что именно я и есть его судьба. По крайней мере, таким способом Йоко Оно заарканила Джона Леннона, а пока мне ничего не оставалось делать, как встречаться с опостылевшими женихами.
Так вот, вчера вечером я должна была увидеться сразу с двумя сыновьями маминых подруг и внуком давней бабушкиной знакомой. У меня было полчаса свободного времени — с шести до полседьмого, и эти полчаса я решила потратить экономно и с пользой для дела — чтобы хоть недели на две от меня отвязались родственники и их друзья. Всем троим я назначила встречу с разницей в десять минут. С одним из них я должна была встретиться в центре зала на станции метро «Пушкинская», с другим — на «Тверской», а с третьим — на «Чеховской». Получалось по десять минут на каждого. Каждого жениха мне подробно описали, сама я знала только одного — внука хорошей бабушкиной знакомой.
Я немного опоздала и, узрев первого претендента на мою руку и сердце, решила, что с ним вообще не стоит терять времени — все его добродетели как-то сразу померкли, стоило мне только увидеть этого «красавца»: лет 45, открытый лоб до затылка, козлиная жиденькая тускло-рыжая бородка, высокий, худой, в сером плаще под пояс, в очках, с черным «дипломатом» в руке. Ненавижу мужиков с «дипломатами», особенно в метро, в давке, когда они острыми углами своих «дипломатических» дефективных чемоданов пинают меня то по коленкам, то выше — в зависимости от роста. Этот определенно навяжется ко мне домой, откроет свой допотопный саквояж, и в лучшем случае там будут бутылка коньяка «Белый аист» и коробка ротфронтовских конфет. Я тут же представила, как он после первой рюмки начнет прерывисто дышать мне в ухо и щекотать шею своей жиденькой бородкой и наверняка от него дурно пахнет — каким-нибудь специфическим запахом пота или перхоти, а может, всего вместе. И тут же мне нарисовалось мое будущее: много-премного малышей в таких же очках и с жиденькими бороденками.
Время, отведенное на свидание, как-то незаметно пролетело, и я ринулась по ступенькам на «Тверскую». Честно говоря, последний раз я видела внука хорошей бабушкиной знакомой лет двадцать назад. Мы вместе отдыхали с ним после третьего класса на море. Никогда не забуду, как мы втроем — я, Власик и моя мама, — едва успев выгрузить из вагона тяжеленные сумки с консервами, поймали на лету его бабушку — Олимпиаду Ефремовну — грузную женщину с больными ногами. Остановка была всего три минуты, поезд уже тронулся, и его бабушка маханула через две ступеньки и скатилась на землю колобком, забыв от страха про свои больные ноги. Потом мы долго шли по указанному адресу — очень долго, потому что моей бедной маме приходилось сначала перетаскивать метров на десять вперед неподъемные сумки с провизией, а потом и саму Олимпиаду Ефремовну. Так что к месту нашего временного обитания мы пришли только под вечер.
Помню, уже начало смеркаться, когда мама в совершенном бессилии в последний раз перетащила хорошую бабушкину знакомую и поставила ее рядом с сумками около небольшого одноэтажного домика на берегу зеленоватого моря.
Влас всю дорогу рассказывал какие-то скучные и неинтересные истории, пытаясь развлечь меня, но от этого он казался мне еще зануднее, чем, наверное, был на самом деле. Мне тогда хотелось только одного — зайти в этот чудесный домик, утопающий в цветущих кустах шиповника, натянуть купальник и залезть в воду.
Жили мы вчетвером в одной комнате целый месяц, и все это время Влас был для меня, что заноза в пальце, — он ревновал меня ко всем мальчишкам, которые пытались за мной ухаживать, закатывал истерики, говоря, что раз мы сюда приехали вместе, то я ни с кем, кроме него, не должна дружить. Обычно подобные разговоры заканчивались дракой — я уходила вся в синяках, он — в царапинах. Ближе к вечеру он подлизывался ко мне, чтобы погулять по пляжу и наловить светлячков. Когда на улице становилось совсем темно, мы брали по банке и запихивали туда странных насекомых со светящимися брюшками, но я старалась не отходить далеко, собирая жучков рядом с домом. Я ждала, когда мама пойдет на свидание. И стоило ей только выпорхнуть из домика в своем лучшем платье, стоило мне только уловить знакомый запах любимых маминых духов, как я тотчас бросала банку в траву и отправлялась за ней следить. Влас хвостом тащился за мной, приговаривая:
— И зачем ты только за ней ходишь везде? Лучше бы набрали полные банки светлячков, а ночью они бы светились вместо настольной лампы…
— Иди, собирай, — шептала я, но он неотступно следовал за мной, боясь отстать.
— Ну вот ты мне объясни, зачем ты за ней ходишь? Бабушка говорит, что ты очень нехорошо делаешь, что следишь за мамой, — канючил он.
— Что еще говорит твоя бабушка?
— Говорит, что ты не даешь ей устраивать свою личную жизнь.
— Твоя бабушка недальновидная женщина! Разве можно устроить личную жизнь на курорте?
— А почему нет? Ведь мы с тобой уже устроили!
— Чего-чего? — возмущалась я.
— Ничего. Мы с тобой обязательно поженимся, — уверенно говорил он, но я его больше не слушала, потому что была поглощена слежкой.
Я заявляла о себе в самые неподходящие минуты. Мама и ее очередной поклонник, успев от души повеселиться в местном прибрежном ресторанчике, приходили на пляж и усаживались в самом глухом, безлюдном месте. И как только ухажер придвигался к ней ближе, как только клал ей руку на плечо и привлекал к себе, я бесшумно вылезала из-под лавки и неожиданно для них смущенно покашливала:
— Кхе-кхе…
Кавалер сначала пугался, потом мама обрушивалась на меня с упреками, а ухажер в темноте с негодованием начинал кричать:
— Ребенок у тебя какой-то ненормальный! Она что, слабоумная? Она не понимает, что так делать нельзя? И вообще, ей в это время нужно быть в постели!
— Не нужны мы ему, ма, — кротко и ничуть не смущаясь спекулировала я.
Тогда мать со злостью хватала меня за руку и отводила домой. За нами, словно тень, плелся Влас.
Мамаша укладывала меня в кровать, ложилась сама, делая вид, что тоже собирается спать, а когда минут двадцать спустя бесшумно вставала, я противным голосом говорила:
— Что-то не спится мне. Наверное, завтра будет шторм.
— Тьфу! — слышалось в темноте. Мама переодевалась, ложилась и уже по-настоящему засыпала. Я ликовала.
Лишь на пять вечеров, к великому счастью мамочки, я потеряла бдительность. Дело в том, что я познакомилась с двумя братьями — один был на два года младше меня, а другой — на год старше. Они приехали сюда откуда-то с Крайнего Севера на целых три месяца и рассказывали кучу интересных вещей, например про полярную ночь. Они каждое лето, оказывается, приезжают с родителями на юг отогреваться. Мы несколько вечеров подряд разводили на берегу костер, жарили ячменные колоски и хлеб на палочках. Влас каждый раз молчал, с северянами не разговаривал и только мне на ухо шептал одно и то же:
— Пошли отсюда. Чего ты с ними болтаешь, они ведь двоечники и второгодники, это сразу видно.
Влас был отличником и презирал всех, у кого в четверти была хоть одна тройка, но с этими второгодниками с Крайнего Севера мне почему-то было намного интереснее, чем с круглым отличником — таким правильным во всех отношениях и нудным.
— Ну, хочешь, пойдем за твоей мамой последим, — предлагал он — это был последний шанс увести меня от двоечников.
— Что-то сегодня не хочется. К тому же у мамы новый знакомый. Так что успеем еще.
Мы сидели у костра, вели разговоры, хохотали, иногда приходили местные мальчишки, приносили картошку и бросали ее в угли. Влас сидел совсем поникший, чувствуя, что еще один вечер для него потерян — ни подраться, ни поговорить со мной он не сможет. И тут в этой полнейшей неразберихе с картошкой, ячменными колосками, подгоревшим хлебом, в шуме и гаме старший двоечник склонился над моим ухом и сказал довольно громко — так, что Влас услышал его слова:
— Маша, я тебя люблю. Давай поженимся.
А потом взял и поцеловал меня. Метил он в губы, но я в эту секунду повернулась, и поцелуй пришелся на щеку.
— Я подумаю, — ответила я и, посмотрев на побелевшую в темноте злобную физиономию Власа, захохотала.
— Думай быстрее, а то мы послезавтра уезжаем. Это был вечер военных действий. Сначала Влас долго и нудно укорял меня за то, что я обманщица, потому что обещала ему первому выйти замуж, потом стиснул зубы и начал дубасить меня кулаками куда придется. Я в ответ кусалась и царапалась. Все это происходило без единого слова, а наутро и Олимпиада Ефремовна, и моя мама уже знали, что меня поцеловал второгодник с Крайнего Севера и что я собралась за него замуж.
Вскоре братья-двоечники уехали в свою вечную мерзлоту, и я снова занялась слежкой.
Этот давний знакомый, который предлагал мне руку и сердце двадцать лет назад, стоял посреди зала и нервно поглядывал на часы. Влас почти не изменился за эти годы — мне показалось, что он даже подстрижен как тогда, в детстве. Когда я пригляделась к нему получше, все же заметила в его облике нечто новое. И наконец-то поняла — теперь он тщательно скрывал, даже маскировал ту правильность отличника, которую прежде выставлял напоказ: все было в нем то же, но стрижка чуть взъерошена, безукоризненный костюм он носил с какой-то небрежностью, в движениях появилась вальяжность и даже, как мне показалось, некоторая развязность, нет, скорее, уверенность. Однако я сразу же узнала его — все те же припухлые глаза, тяжеловатый подбородок — упрямый и настойчивый. Выглядел он прекрасно — очень интересный мужчина в самом расцвете лет… И, может, если б я не знала, какой он был скучный и противный в детстве, я подошла бы к нему, но пока я размышляла о мужчинах, остроугольных чемоданах, о специфическом запахе жениха № 1, о совместной с ним жизни и бородато-очкастых детях, время, отведенное на второго претендента, было исчерпано. Я решила, что чем дальше, тем оно должно быть лучше, и № 3 — это, возможно, вообще предел моих мечтаний. Я помчалась на «Чеховскую», но там, на этой серой станции (серой, потому что в моем воображении сочетание букв, составляющих фамилию великого драматурга, было именно светло-серым), меня ожидало горькое разочарование.
По договоренности № 3 должен был держать в руках рекламную газету, которую еженедельно бросают в почтовые ящики москвичей. Он, как и было у словлено, стоял посреди зала, высоко подняв газету над головой, медленно поворачиваясь по часовой стрелке. Казалось, что он стоит не в метро, а в аэропорту и держит в руках вовсе не газету, а табличку с фамилией какой-то именитой особы, боясь ее проворонить.
Я поскользнулась, когда увидела его, и чуть было не упала, когда рассмотрела: этот сын, наверное, был моим ровесником, ну, может, года на два постарше. У меня сложилось впечатление, что его буквально час назад вытащили из-под коровы, напялили клетчатый костюм с рантиком на воротнике, торчащим из-под прадедушкиного ратинового пальто, причесали кое-как, надрали на огороде последних, чуть тронутых морозом астр, втиснув их в угол вытертого», расквашенного дерматинового портфеля, купленного годах в семидесятых, и вытолкали в Москву, наказав без невесты не приезжать.
Возвращаться к № 2 было уже поздно, и я поехала домой. Правда, до того как поехать домой, я заглянула в книжный магазин, где прочитала лекцию о засилье современной зарубежной литературы и нечаянно опрокинула на пол свои романы.
Снова читаю: «…тебя ждут великие дела!», еще минутка, и я встану, но тут душераздирающе звонит телефон. Бегу босиком в другой конец комнаты.
— Здравствуй, голубушка! Ты что, еще спишь? Это мама — сейчас спросит о вчерашних свиданиях, а я еще не придумала, что бы соврать.
— Ты смотрела на часы? Знаешь, сколько сейчас времени? Пора обедать, а ты, наверное, в кровати валяешься! Ну что за режим у тебя такой ненормальный?!
— Я работаю, работаю.
— Нужно вставать раньше! Кто рано встает, тому бог дает.
— Я утром ничего не соображаю.
— С тобой бесполезно разговаривать! Ты все равно ничего не понимаешь! Мне утром звонила Олимпиада Ефремовна, Галя Харитонова, а потом Зиночка.
«Начинается», — подумала я — все эти почтенные дамы были самыми что ни на есть ближайшими родственницами вчерашних претендентов.
— Ты почему ни с одним из мальчиков не встретилась?
Ничего себе мальчики, особенно тот, что с бородой и «дипломатом»!
— Можно подумать, это мне 31 год, и это я не замужем, и это у меня нет детей! — не успокаивалась мама. — Я ищу тебе спутника жизни, а ты набираешься наглости и плюешь на все, что делает для тебя мать!
— Давай поговорим о чем-нибудь другом.
— О чем другом-то! — возмутилась она и затараторила: — Влас — такой хороший мальчик, целеустремленный, умный, добился в жизни всего, о чем только можно мечтать: имеет свой собственный автомобильный салон, не рвань там какая, человек денежный, симпатичный! Ты вспомни, как вы с ним хорошо в детстве ладили!
«Да уж, нечего сказать. Как только глаза друг другу не выцарапали, до сих пор не пойму», — подумала я, но маме сказала:
— Да, хорошо ладили.
— Ну вот. Кстати, ты не забыла, что у бабушки в пятницу день рождения?
«Тьфу, конечно же, забыла, совершенно перепутала все числа и даже не знаю, какой сегодня день», — подумала я, но ответила:
— Как я могла забыть! Я даже ей подарок приготовила — купила ночную рубашку. — Я вспомнила о белой шелковой, отделанной ручным кружевом сорочке с глубоким вырезом на спине, которую купила в тот день, когда впервые увидела Алексея Кронского в коридоре редакции.
— Напрасно, она все равно ее обрежет. Ты ей лучше открытку подпиши, и подлиннее.
— Не умею я открытки подписывать!
— Тоже мне писательница!
— Так мы что, значит, все-таки едем? Этих не будет?
— Конечно, едем. У Зожор еще воду на даче не отключили, и они там будут сидеть до одурения.
Эти или Зожоры — это мамин брат и его… Не знаю, как ее назвать, — супруга, тетка, гражданская жена, но между собой мы называем ее Гузкой. Ее зовут Зоей, а дядю — Жорой, а, следовательно, вместе получается Зожоры. Зоя действительно всем своим видом напоминает жирную рождественскую… нет, не гусыню, а гузку, с которой стекает жир. Она абсолютно ничего не делает, но мечется по бабушкиной квартире, создавая видимость того, что у нее полно работы и ей страшно некогда, а на самом деле каждые пять минут она бегает на кухню, заглатывает бутерброд с вареной сгущенкой или печенье, кидается в ванную, прожевывает и с грязной тряпкой появляется в комнате. Наскоро смахнув пыль, снова бежит на кухню, запихивает в рот кусок ветчины и бежит жевать в туалет. И так целый день по кругу. Я сама видела!
С тех пор как мой родной дядя связался с Гузкой, наши отношения с ним накалились до предела — нас с мамой он попросту не переносит, как, впрочем, и мы его, поэтому, когда Зожоры дома, мы к бабушке стараемся не ездить.
— Кстати, Олимпиада Ефремовна тоже поедет, и всех нас к бабушке повезет Власик. Он сначала заедет за Олимпиадой, а потом за нами! — победоносно воскликнула мама. — Так что наведи порядок в квартире.
— Мне некогда. Я работаю. И потом, я сама могу добраться до бабушки — не маленькая!
— Ничего не выйдет! Я приеду к тебе в пятницу рано утром… Смотри! Коля! Коля! Вон она, на окне! Лови ее, дави! Ну что ж ты неуклюжий-то такой?! А ты как думал?! Блоху не просто поймать! Раздавил? Щелкнула? Молодец! — Эти последние слова мама явно относила не ко мне, а к Николаю Ивановичу, своему четвертому мужу — заслуженному строителю России.
— Да что там у вас?
— Что-что? Все коты после дачи в блохах. Я вот что тебе говорю — приеду в пятницу рано утром и буду ждать Власика с Олимпиадой. Теперь я намерена контролировать каждый твой шаг. И если ты не выйдешь за него замуж и не родишь мне внука, то через неделю я заведу еще одну кошку.
— Но при всем желании я не смогу тебе родить внука через неделю!
Меня это не касается. Моя нерастраченная любовь к внукам выливается на кошек! И это все из-за тебя! Пока. Пошла выводить блох! — крикнула мама и бросила трубку.
Кошмар! Ну, как теперь сконцентрироваться и начать творить? Все готово — составлен план нового романа, осталось только его написать, а тут какой-то Власик примешался.
Иду в ванную и обреченно чищу зубы в соответствии с объявлением на зеркале: «Чистить зубы не менее одной минуты!» Поесть или не стоит? Позавтракать или лучше пообедать? Или позавтракать и поужинать сразу после работы?..
«Прежде чем открыть эту дверь, посмотри на себя в зеркало!» — гласил плакат в углу холодильника, а чуть ниже: «Если и это не помогает, встань на весы!», «Заклей рот скотчем!» — прочла я еще одну памятку и решила не завтракать, а выпить чашку крепкого кофе и наконец сесть за компьютер.
Главное в моей работе — это удачно написать первое предложение, а потом все пойдет само собой. Пока еще оно висит облачком у меня в голове. Включаю компьютер, открываю новый файл, снова звонит телефон. Тьфу! Так я никогда не напишу первого предложения!
— Маня! Привет!
Это была Икки — моя подруга.
— Ты почему не на работе? — сурово спросила я и уставилась на не тронутый ни одной мыслью чистый экран ноутбука.
— Я тебе помешала?
— Да нет, все равно я еще не начала.
Икки облегченно вздохнула и затараторила без передышки. Она имела удивительную способность — говорить сразу обо всем, очень быстро, взахлеб, но, как ни странно, я ее всегда понимала. Сейчас она рассказывала, какие сволочи ее коллеги по работе, что она, вероятно, все равно не вынесет такой зверской нагрузки и уйдет куда-нибудь в другое место, что мамаша ее совсем сдвинулась — у нее наблюдаются явные психические отклонения.
— Нет, ты только представь, сегодня вызвала сантехника и усвистала на весь день на дачу, а у меня единственный выходной!
— Зачем вам сантехник-то понадобился?
— У нас не квартира, а руины после Сталинградской битвы! На кухне кран не открывается, и посуду приходится мыть в ванной, а в ванной сломался выключатель и нет света, так что мамаша уже перебила почти все тарелки. Замкнутый круг какой-то!
— Как же вы моетесь? — удивилась я.
— Мамаша вообще не моется, а я со свечкой, как в деревенской бане. Ну, так вот, он пришел, наследил, грязи понаволок, всю квартиру перевернул… — Икки внезапно замолчала, а я затаилась, уже зная почти наверняка, что произошло в отсутствие Иккиной психованной мамаши.
— Молодой? — осторожно спросила я.
— Что?
— Сантехник молодой?
— Да, да. Моложе меня, мальчик совсем.
— Переспала? — с любопытством спросила я.
Да что ты! — негодующе воскликнула подруга. — Как ты могла подумать! Я же говорю, мальчик совсем! Убогий такой, жалкий, половину букв не выговаривает. Ковырялся, ковырялся. Чувствую, что он совсем ничего делать не умеет, но пыхтит. Сделал кое-как. Но все-таки кран пока работает!
Икки все тараторила. Передо мной на экране замелькала заставка: «Работай, бестолочь!» Я хотела было остановить подругу, но не смогла вставить ни единого слова в ее бурную речь.
— Может, долго проработает. А что ты хочешь?! Дома старые, трубы сгнили, нужно всю систему менять… Ну да, переспала! А как ты догадалась?
Я закрыла ноутбук и приготовилась слушать захватывающую историю о любви аптекарши с сантехником.
— Я, кажется, влюбилась! — с удовольствием призналась она.
— Ерунда! Так сразу — и в сантехника! Да этого быть не может!
— Ты-то влюбилась в своего Кронского с первого взгляда! А что, сантехник — не человек, что ли?! — обиделась Икки.
— Ну, ты ведь говоришь, что он жалкий, убогий, половину алфавита не выговаривает и мальчик к тому же.
— Разница в возрасте меня абсолютно не смущает — это сейчас модно, а то, что он убогий и жалкий, меня и привлекло.
— На тебя ужасно подействовал развод! Просто ужасно! Ты как будто боишься, что у тебя больше никогда не будет мужчины, и кидаешься на первого встречного.
Да, мой жизненный девиз: «За неимением гербовой пишем на простой». Не то что у тебя: «Уж лучше быть одной, чем вместе с кем попало!» А вообще зря я тебе рассказала! Ой, зря! Ты, как Анжелка, такая же ядовитая становишься, а я-то думала, ты за меня порадуешься!
— Глупости какие! Я за тебя беспокоюсь. У него хотя бы есть московская прописка? Где он живет?
— В общежитии.
— Ну, все понятно.
— Что тебе понятно? Ой! Мамаша идет! И как мы только успели с ним и кран починить, и… Я, собственно, звоню тебе сказать, что мы в этот четверг встречаемся с девчонками в нашем кафе в пять вечера.
— И Женя?
— Нет, Анжелка придет, какой Женя! Она Кузю на вечер свекрови сплавить обещала. Ну, пока, еще созвонимся.
Я снова тупо уставилась в пустой экран — первое предложение почти совсем улетучилось из головы, оставив после себя лишь смутный, едва ощутимый след.
Д-з-з-з… Опять телефон.
— Манечка, здравствуй, детка! Мы с тобой сегодня еще не разговаривали? — бодро и совсем не по-старчески воскликнула бабушка. У нее до сих пор сохранился властный, командный голос — перекричит кого угодно. Это профессиональное — сорок три года работы в интернате для умственно отсталых детей не прошли даром.
— Нет, сегодня мы с тобой еще не разговаривали. Как ты?
Никак не могу в туалет сходить, — злобно сказала она. У бабушки была вечная проблема с пищеварением. — Съела два яйца, бутерброд с маслом, кофе со сгущенкой выпила — и никак не могу сходить. Но это ладно. Я все хочу тебя спросить, сколько сейчас у мамы кошек-то?
Этот коварный вопрос бабушка порой задавала мне по нескольку раз в день. Дело в том, что мама тщательно скрывала от старушки тот факт, что у нее было девятнадцать кошек. Благо они кастрированы и стерилизованы и при всем желании не могут уж больше производить на свет себе подобных. Бабушке мы говорим, что у ее дочери всего шесть пушистых зверьков, но она не верит, постоянно пытаясь меня подловить и уличить во лжи.
— Шесть, — неизменно соврала я.
— Помнишь, у нее одно время было четырнадцать?
— Но это было так давно…
— Давно, — согласилась старушка. — Видать, одумалась, послушала все же мать! Ну, шесть — это еще куда ни шло, — смирилась она и, казалось, засомневалась в своих недобрых подозрениях. В то время когда бабушка знала правду и у мамы действительно было четырнадцать кошек, старушка каждый день закатывала ей истерики. Убеждала выбросить всех мохнатиков, укоряла, что она мать родную на них променяла, и грозилась навсегда переехать жить в совершенно чужую квартиру зятя, оставив при этом свою собственную Гузке. — А скажи мне, деточка, какое, бишь, сегодня число?
— Двадцать девятое.
— Я так и думала, что этот год високосный, — загробным голосом сказала она.
— Почему? — не поняла я. — При чем тут високосный год?
— Так число-то двадцать девятое! А двадцать девятое бывает только в високосный год!
— Но ведь сейчас сентябрь, а не февраль! — возмутилась я.
— Да? — удивилась бабуля.
— Да. Тебе нужно поменьше смотреть телевизор. У тебя мешанина в голове!
— Не делай из меня дуру! Подумаешь, ошиблась! У меня все в порядке с головой. Я все помню и прекрасно соображаю, — проговорила она и заливисто запела: — Конфетки-бараночки… — Опять начался очередной рекламный приступ. Цитируя рекламные ролики, она доказывала всем, что еще не сошла с ума. — Мезим — для желудка незаменим. Дети, идите пить молоко! — взвизгнула бабушка. — Дети, идите пить молоко, — повторила она басистым голосом коровы и тут же перешла на детский лепет: — Смотри, они пьют такое же молоко, как и мы! Хорошо иметь домик в деревне!
— Бабуля, тебе бы мультфильмы озвучивать. — Мне наконец удалось перебить ее.
— Ой, лиса-а, — протянула бабушка и бросила трубку.
На часах 16.00 — все еще не написано первое предложение, но очень хочется есть, просто до невозможности — кажется, если я сейчас не поем, то умру голодной смертью. Достаю из холодильника половину курицы, наваливаю гору жареной картошки. Плевать я хотела на плакаты с предостережениями — потом взвешусь — и пусть мне будет плохо. Меня трясет от внезапно налетевшего голода. А, может, у меня диабет? Говорят, диабетиков трясет перед комой, и если они в этот момент ничего не съедят, то действительно могут умереть.
Включаю телевизор, в экране носится Дэвид Духовны с пистолетом и криками «Откройте, Федеральное бюро расследований!», где-то на втором плане мелькает рыжая Андерсон, а я думаю, заглатывая холодную картошку, как удав, что если б Влас был хоть немного похож на Молдера, я бы сразу влюбилась в него и даже не обращала внимания на его плоские шутки и занудство.
Потом мысль моя переметнулась на Икки, мне стало жаль ее — теперь подцепила какого-то сантехника. Причем я отлично знаю, чем закончится эта романтическая история. Уже сегодня к вечеру она начнет сомневаться в правильности своих действий, завтра придет в ужас от содеянного, потом на нее навалится депрессия, и она начнет скрываться от унитазных дел мастера. С ней так происходит вот уже два года, с тех самых пор, как она развелась со своим драгоценным Игорьком. Что-то перевернулось тогда в ее мозгах, и теперь ее постоянно преследует одна и та же мысль: что до смерти у нее не будет ни одного мужчины. От этого ей становится тошно, и в результате Икки спит со всеми, кто встречается на пути. А однажды она по секрету сказала мне, что просто-напросто ей неловко отказать: «Ну не могу я твердо сказать „нет“ мужчине, даже самому затрапезному, плюгавому, даже если он сразу на всех зверей похож!»
А ведь Икки отличная девчонка, и все те представители сильного пола, с которыми она была знакома когда-то, не стоили ее мизинца. Из всей нашей четверки она, пожалуй, мне ближе всех, и вовсе не потому, что мы живем с ней в соседних домах.
Но все по порядку!
Нас четыре подруги. Мы дружим очень-очень давно, страшно вспомнить даже, как давно мы познакомились — в младшей группе детского сада.
У всех моих подруг были очень странные имена — все они явились жертвами вкусов и политических убеждений. Взять, к примеру, Икки — ну что это за имя такое? Таких имен не существует. Это ее бабушка — рьяная коммунистка, мать отца, настояла на таком имени. Полностью мою ближайшую подругу зовут Икки Робленовна Моторкина, что расшифровывается как Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала. Мало старушке было сына, имя которого тоже имеет свою расшифровку — он родился быть ленинцем, так она еще и внучке умудрилась насолить, а потом умерла со спокойной совестью, до смерти оставаясь верной идеям марксизма-ленинизма.
Вообще эта злобная старушенция до последнего дня не давала окружающим нормально жить: ее сын Роблен сбежал из дома, когда Икки еще не исполнилось и двух лет, причем сбежал он не от жены и дочери, а, скорее, от собственной матери, которая не растерялась и сразу после рождения внучки переехала к молодым. Она выгрузила около подъезда свои пожитки: настольную лампу с зеленым круглым плафоном, три строгих костюма — темных, неопределенных цветов, два сундука с сочинениями Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса, распахнула дверь и торжественно, не церемонясь, объявила:
— Я приехала к вам жить. Робик, марш за моими вещами! Люда, а ты — на кухню! Хоть чаем напоила бы свекровь-то, — обратилась она к снохе. Тут из комнаты раздался пронзительный крик младенца. — И кте эте тют плячет? А? Кте эте плякает так! — радостно воскликнула бывалая коммунистка и, увидев внучку, незамедлительно окрестила ее Исполнительным Комитетом Коммунистического Интернационала, заметив при этом, что она вылитый Роблен в младенчестве. Переубедить властную старуху было совершенно невозможно, и с тех пор моя лучшая подруга стала носить дурацкое имя, выдуманное вздорной бабкой.
Мать Икки, Людмила Александровна Моторкина, из красивой женщины быстро превратилась в сухощавую, морщинистую психопатку. Тот, который рожден быть ленинцем, вовсе не появлялся у них дома, боясь встречи со своей неукротимой матушкой. Икки выросла на «Капитале» Маркса и «Апрельских тезисах» Ленина. Единственной художественной книгой, которую разрешала прочесть деспотичная бабка, была «Как закалялась сталь», всю остальную мировую литературу старуха считала развратной и растлевающей молодые души. Одно время Икки очень хотела научиться играть на пианино, но бабка сказала как-то:
— Игра на фортепиано — пережиток буржуазии, — и тем самым подписала приговор.
Надо сказать, что я всегда удивлялась, как, живя столько лет в одной квартире с бабушкой-тиранкой и истеричной мамашей, которая с каждым годом становилась все ненормальнее и ненормальнее, Икки все-таки удалось перечитать почти всю мировую литературу и научиться хоть и непрофессионально, но все же играть на пережиточном инструменте буржуазии. После уроков она торчала в библиотеке, а потом отправлялась в актовый зал и в одиночестве бренчала на расстроенном инструменте. До пятого класса все мы, подруги Икки, думали, что ее ждет слава, всеобщее почитание, потому что у нее получалось все, за что бы она ни бралась. К тому же и училась она намного лучше нас. Но дело в том, что Икки не везло в жизни: не повезло с самого начала — с бабушкой-тиранкой, с глупым именем и еще с тем, что наш районный травмпункт стал для нее вторым домом. Каждые полгода она обязательно себе что-нибудь ломала.
В первый раз она долго не появлялась в детском саду, когда на нее упал шкаф, но Икки отделалась переломом ноги и выжила. С этого-то все и началось. Еще через полгода, когда мы катались, подложив под мягкое место кусок картонки, с совершенно пологой и безопасной горки, Икки неудачно подвернула руку. Никому и в голову не могло прийти, что у нее был перелом, — она продолжала ходить в школу, а через две недели грозной бабке наконец надоело ее постоянное нытье, и она отвела внучку снова в травмпункт. Сделали рентген — оказался перелом локтевого сустава. За этим последовал перелом переносицы (Икки заступилась за первоклашку и получила по носу), потом неудачно подала футбольный мяч и повредила колено — кровь хлестала всю ночь, еще чуть-чуть, и у нее могло бы быть заражение крови. Две недели ее кололи пенициллином, и еще месяц она не могла ходить. И, наконец, самым решительным для Икки оказался перелом позвоночника, после чего наша подруга почти год не появлялась в школе, и почти год бедняжке не разрешалось сидеть. Стоило только ее бабке заметить, что внучка забылась и присела на краешек стула, как она начинала кричать благим матом. Навещая болящую, мы втроем ее прикрывали, и Икки могла посидеть минут пять. В то время она носила жесткий корсет до подмышек то ли из пластмассы, то ли еще из чего-то.
Помимо мук с корсетом ей приходилось по два с половиной часа в день делать какую-то специальную гимнастику для спины: «рыбки», «лягушки», «качели» и тому подобную дребедень, каждый день ходить на электрофорез и терпеть так называемый массаж, от которого вся спина становилась пунцовой, и краснота успевала пройти только за выходные.
После этого перелома позвоночника Икки растолстела и скатилась на твердые тройки. В восьмом классе у нее начался переходный возраст. Общаться с ней стало практически невыносимо — она мазала йодом прыщи на лице и курила «Беломор». Икки еле-еле закончила восьмилетку и была в полной растерянности, куда податься. Наша классная посоветовала Икки и еще одной девочке, беспробудной двоечнице, сходить в Дом культуры на день открытых дверей какого-то швейного ПТУ, потому что на большее эти две девицы не тянули. Но Икки наотрез отказалась — она не желала повторять судьбу своей инфантильной матери, которая всю жизнь просидела портнихой в ателье и заработала профессиональную болезнь — сколиоз второй степени.
Не помню, кто посоветовал Икки поступить в фармацевтический техникум, — беленький халатик, чистая работа, как раз для женщины. Куда уж лучше-то! Икки сдала экзамены и плавно перешла от командной домашней системы, установленной ее партийной бабкой, в тоталитарную систему медицинского училища. «Орднунг, орднунг и еще раз орднунг!» Как Икки умудрилась проучиться в заведении, где недопустимо опоздать на урок даже на минуту, где у входа каждое утро проверяли чистоту рук и ногтей, наличие сменной обуви и свежесть белых халатов?! Как она целых три года могла зубрить латинские названия трав, препаратов, лекарственных форм, учиться делать клизмы и уколы на поролоновых задницах, как можно вообще было проучиться столько времени без единого учебника на сплошных конспектах, как можно знать наизусть формулы из органической химии и при этом не быть фанаткой медицины и выплыть со школьных троек на четверки и пятерки, для меня до сих пор остается загадкой.
Однажды Икки сочинила рассказ и дала мне его почитать. Не могу не привести этот знаменательный текст. Вот он.
«Объявление.
Инна Константиновна, придя домой с биржи труда, которая ей ничего хорошего, кроме как заново переучиться, не сулила, тяжело опустилась на стул возле телефона, развернула рекламную газету и принялась названивать в поисках работы.
Первый ее звонок оказался неудачным — ей ответили, что прием на работу уже закончен.
Потом автоответчик сказал: «Мы распространяем лекарственные препараты и продукты питания для коррекции веса. Зарплата сдельная. Первый взнос — сто долларов. Адрес…» Но Инна Константиновна повесила трубку — у нее не было ста долларов.
Она сходила на кухню, на нервной почве съела пол батона хлеба и набрала следующий номер: «Торговая фирма приглашает менеджеров, дилеров. Зарплата высокая».
Простите, — прервала собеседницу Инна Константиновна, — а кто такие менеджеры?
В трубке послышались короткие гудки.
Потом какая-то дама, ошалевшая от желающих устроиться на работу, закричала:
— Ой! Никаких объявлений! Не звоните больше! И Инна Константиновна попытала счастье еще раз.
— Вы сейчас работаете — в данное время? — спросил ее приятный мужской голос.
— Нет.
— Ну, тогда и не надо, — ответил он и повесил трубку.
Инна Константиновна еще долго названивала по телефону, но ей не везло: то было занято, то никто не отвечал. Она перелистнула еще пару страниц и увидела объявление, от которого пришла в восторг:
«Солдат, который не знает слов любви, ищет свою донну Розу Д'Альвадорес».
И вместо того чтобы найти работу, Инна Константиновна через три месяца вышла замуж за вышеупомянутого солдата, который оказался вовсе не солдатом, а генералом».
И зачем только Икки пошла туда учиться?! Я пару раз бывала в этом жутком заведении, и эти случайные посещения оставили в моей ранимой душе неизгладимый след.
Занятия начинались в восемь часов утра. К техникуму в любую погоду — зимой и осенью, в снег и в дождь — из метро двигалась колонна взмокших разукрашенных девиц. Они спускались в тесную подвальную раздевалку и заполняли запахом пота все помещение — в то время дезодоранты были большой редкостью. В подвале стоял шум, хохот, кто-то из девиц отпускал непристойные шуточки.
Чтобы сдать верхнюю одежду, выстраивались огромные очереди. Каждый раз Икки приходилось помимо общих тетрадей таскать с собой сменную обувь в холщовом мешке на резинке и чистый медицинский халат.
Девицы быстро одевались и, полусонные, мчались в разные аудитории. Опоздавших не допускали к занятиям и отправляли разбираться в кабинет директора. В итоге ничтожное опоздание могло вылиться в исключение из техникума. И плевать, что ты неплохо отучилась в этом гадюшнике год или даже два. Икки знала случаи, когда девиц исключали за опоздание с середины третьего курса. Но она терпела, потому что вбила себе в голову, что деваться ей все равно больше некуда и необходимо получить профессию. А чем фармацевт плохая профессия — беленький халатик, чистая работа, как раз для женщины!
Наконец, наступил тот день, когда зеленые первокурсницы поздравляли выпускниц с завершением учебы и дарили им по вялому нарциссу. Икки нарцисса не досталось, она плюнула и уехала.
Сдуру моя подруга попросилась в крупную двухэтажную аптеку в самом центре Москвы, и комиссия по распределению с радостью ее туда направила. На следующее после выпуска утро она уже сидела в приемной заведующей этой самой аптекой.
В десять утра влетела толстая тетка с откляченным задом и в очках на кончике носа. Она как шальная забежала в кабинет, не обратив ни малейшего внимания на молодого специалиста, и немедленно потребовала у уборщицы молока из ассистентской (в те времена сотрудникам ассистентских выдавали за вредность молоко).
— Ты на работу? По направлению? — наконец в середине дня поинтересовалась заведующая, хрумкая сухари с изюмом.
— Да.
— Подожди. Столько дел, ничего не успеваю! — раздраженно проговорила она и снова потребовала молока.
Икки в тот день потеряла всякую надежду оформиться на работу, но в шесть вечера ее наконец вызвали в кабинет.
— В каком отделе ты хочешь работать — в рецептурно-производственном или в ручном?
— В ассистентской, — снова сдуру сказала Икки. Заведующая посмотрела на нее с удивлением — мало таких остолопок она видела на своем веку! Все девчонки после техникума стремились работать в ручном отделе, потому что это куда веселее, чем сиднем сидеть в ассистентской по уши в мазевых основах. Они были все время на людях, быстро знакомились с симпатичными клиентами и выскакивали замуж, но Икки об этом не знала. Она хорошо училась, и ей, как никому в группе, удавалось скатывать свечи.
Первый рабочий день Икки не задался с самого начала. Вернее, ожидала она от этого дня совсем другого — не того, что произошло на самом деле.
К тому времени она сбросила килограммов пятнадцать, сделала модную стрижку, которая, надо заметить, ей очень шла, надела самую лучшую свою бархатную, брусничного цвета юбку на кокетке, светло-серую водолазку и в прекрасном настроении пришла на работу, сгорая от желания вступить в новую, взрослую жизнь.
В ассистентской сидело около двадцати женщин: фармацевты, фасовщицы, провизоры, аналитики. Ее никто не представил, только заведующая отделом ткнула указательным пальцем в самый дальний угол и выговорила четким командным голосом:
— Иди на мази, свечи и пилюли.
Помню, в тот день мы с Анжелкой встречали ее у аптеки — у нас с ней были каникулы, и нам все равно нечего было делать. Икки работала до трех часов, но вышла только полпятого с кислой физиономией.
— Ну, что? Как первый рабочий день? — спрашивали мы наперебой. Я была уверена, что Икки наконец после своего тоталитарного техникума обретет счастье. Но она отошла к чугунному забору и заревела белугой.
— Это она от радости! — с воодушевлением воскликнула Анжела, явно ничего не понимая и безбожно ругаясь. Она так привыкла ругаться матом в музыкальном училище, что сама нам нередко признавалась: «Боюсь, при родителях вырвется, так они меня убьют». С нами же она не церемонилась и бранилась, совершенно не стесняясь.
— Посмотрела бы я на тебя, как бы ты себя чувствовала, если б тебе такая радость привалила! — взвизгнула Икки и снова залилась слезами. И тут я поняла, что работа в аптеке — это настоящий ад даже по сравнению с бабкой-тиранкой и учебой в техникуме.
— Хватит реветь. Объясни нам, что там с тобой произошло, — попросила я.
— Тебя били? Пытали? Вот гады! — снова вмешалась Анжелка.
Меня засадили за самый вонючий стол, обложили горой рецептов и сказали, что пока я все их не переделаю, домой не пустят. И зачем я только потратила три года на эту учебу!
— Звери! — ввернула Анжела.
— Вы только понюхайте, как от меня несет! Сероводородом! Как будто я объелась капусты и теперь страдаю метеоризмом! Ведь ко мне ни один нормальный парень не подойдет!
От Икки действительно как-то странно попахивало протухшей квашеной капустой.
Анжелка обнюхала ее и мгновенно вынесла свой вердикт:
— Знаешь, к тебе и ненормальный не подойдет ближе чем на два метра.
Икки снова завыла, сквозь слезы рассказывая, какие негодяйки работают в этой аптеке:
— Меня даже не представили: кто я, что я! Посадили за этот смрадный стол, а какая-то тощая озабоченная тетка, что сидела рядом со мной, целый день рассказывала фасовщице, как она в выходные изменяла мужу с новым любовником. Она в красках описала все позы из «Камасутры». Меня чуть не вытошнило. Раза два она отвлеклась для того, чтобы назвать меня дурой и тупицей.
— Это почему?
— Потому что только дура может согласиться работать в такой огромной аптеке, и к тому же в ассистентской!
— Но она-то работает!
— Она через неделю уходит в отпуск, а потом увольняется.
— Тебе же лучше — одной паразиткой меньше, — заметила Анжела.
— Я не пойму, ты что, все рецепты переделала?
— Нет, я убежала, — призналась Икки, — смылась, потому что еще ничего сегодня не ела и смертельно устала.
— Правильно сделала. Послушай, где вас распределяли? — спросила я.
— В Аптечном управлении.
— Это отсюда недалеко.
— На улице 25-го Октября, — подтвердила Икки.
— Ну, и что ты нюни распустила? Пошли туда сходим и перераспределим тебя, — предложила я — мне казалось это проще простого, и мы втроем поплелись в управление.
Только ничего из этого не вышло — Икки должна была теперь отработать там ровно три года, и теперь три года от нее будет разить тухлой капустой. Можно было поставить крест на личной жизни.
Она еще потом ходила по разным юридическим консультациям, чтобы отстоять свои права, но это ничего не дало. Только через полгода она узнала, что избежать трехгодичной отработки можно по состоянию здоровья — например, если у тебя аллергия на препараты.
Я сразу увидела свет в конце туннеля и уже знала, как вытащить невезучую подружку из зловонной ассистентской.
У Икки действительно была аллергия на некоторые вещества и препараты, только не слишком сильная. Больше всего у нее закладывало нос, и она начинала чихать от белого порошка салициловой кислоты, похожего на остроконечные снежинки. Икки стянула граммов пять этой «спасительной» для нее кислоты, пришла к аллергологу в нашу поликлинику и уселась у кабинета, поминутно шмыгая носом и вытирая его платком. В платок мы насыпали порошка. Народу к врачу было довольно много, и за час Икки так обнюхалась салицилки, что вошла в кабинет с красным распухшим носом. Я, конечно, не ожидала такого сногсшибательного эффекта, но кончилось тем, что Икки загремела на месяц в аллергологическии центр, после чего ее все-таки перевели в другую аптеку. Теперь она сидела в Главной районной аптеке в справочном отделе, читала книжки под столом и томилась от безделья, а каждый вечер ей звонила какая-то чокнутая старуха и спрашивала всегда одно и то же монотонным голосом, без всякого выражения — она явно издевалась:
— Аптека? А валокордин есть?
Икки отвечала, что есть корвалол, старуха бросала трубку и через пять минут звонила снова. Икки чувствовала себя неуютно — ее достала эта старуха.
— Представляешь, — говорила она мне, — эта идиотка меня видит, наблюдает за мной днем, может, даже подходит к отделу, а по вечерам звонит и измывается.
— Пошли ее куда подальше, — советовала я, но Икки раздирало любопытство так, что однажды, когда в аптеку привезли валокордин, она купила этой ненормальной тетке два пузырька, а когда та снова позвонила и спросила, как обычно: «Аптека? А валокордин есть?», Икки победоносно, едва сдерживая радость, ответила:
— Есть. Я на свои деньги специально для вас купила два флакона, так что сразу подходите в справочный отдел.
Ей очень хотелось увидеть тронутую старуху, но та оказалась вовсе не такой дурой — через пять минут она опять позвонила:
— Аптека? А валокордин есть?
Тогда Икки последовала моему совету и послала ее очень далеко — так, что та больше не звонила.
Со временем Икки поняла, что тех денег, которые ей платили в отделе справок, ни на что не хватает и что безделье может быть хуже самой тяжелой работы. К тому времени отработки и распределения отменили, и она перешла в аптеку на Сретенке к своей подруге по техникуму в ручной отдел. Лето она отработала неплохо, платили намного больше, чем в отделе справок, Икки была на людях, на нее часто обращали внимание молодые люди и не очень. Но больше всего ее любили местные пьянчужки.
В то время, когда на деньгах еще мелькал великий вождь пролетариата и страна уже вовсю «перестраивалась», цена на водку резко подскочила. Еще до открытия аптек за настойками выстраивались огромные очереди изгнанников общества и бомжей. Самым шиком считалось урвать настойку боярышника, потом шел пион, потом пустырник и борный спирт. Настойку валерианы брали в самых крайних случаях. Тогда не положено было отпускать в одни руки больше двух флаконов, но Икки плевала на это «положено» — «не положено» и продавала настойки на радость «изгнанникам» целыми коробками.
Однако с наступлением холодов обстановка кардинально изменилась — аптека оказалась неотапливаемой, Икки приходилось работать в перчатках и телогрейке, так что привлекательность ее сразу исчезла. Потом над аптекой случился пожар, и целую неделю сотрудники разгребали завалы промокшего, пожелтевшего анальгина на складе, оттирали торговый зал и дышали гарью. Затем долго подсчитывали убытки и распределяли, кто сколько зарплат должен выплатить. Икки переругалась со всеми и уволилась, сказав мне, что она выбрала самую дурацкую профессию из всех существующих.
Потом она работала гардеробщицей в библиотеке, была одно время даже смотрительницей одного из трех залов крохотного музея, продавала пирожки на улице, но еще в аптеке на Сретенке она успела найти свою любовь — Игорька, который захаживал к ней каждый вечер и неизменно покупал облатку аспирина. Он был старше Икки на шесть лет и преподавал высшую математику в каком-то техническом вузе.
Мы с Икки вышли замуж в один год — она за Игорька, а я за Славика. Я развелась через год, Икки терпела своего ненаглядного Игоряшу восемь лет, и все эти восемь лет она знала, что супруг напропалую изменяет ей со своими студентками. Знала и терпела, потому что вбила себе в голову, что без него она никак не сможет жить.
Ну, первые пять лет, может, ее распущенный Игорек и был для нее выходом из положения, и совместная с ним жизнь имела кое-какие плюсы. Во-первых, у него была отдельная квартира, и Икки наконец-то избавилась от общества бабки-тиранки, а во-вторых, Игорь особо не настаивал на том, чтобы его жена работала, а Икки, уставшая от аптек, пирожков, музеев и неподъемных пальто, не прочь была посидеть дома.
На шестой год Иккиного брака у нее скончалась бабушка.
После похорон я осторожно намекнула подруге, что теперь-то ей самое время переехать домой, но она еще любила своего испорченного, аморального развратника Игоряшку и ничего не желала слушать.
Тогда она сделала большую ошибку, потому что с Игорем они все равно расстались через два года (когда он наконец наградил ее триппером, Икки не вынесла и сама подала на развод). Только вот к тому времени ее мама привыкла жить одна в двухкомнатной квартире: ей нравилось чувствовать себя полновластной хозяйкой, нравилось, что теперь никто не капает ей на мозги, нравилось делать что хочется, а именно: с утра до глубокой ночи смотреть все подряд сериалы и постоянно при этом жевать.
Людмила Александровна очень удивилась, когда Икки снова появилась дома. Ей это явно не понравилось, да и скрывать своего недовольства она не собиралась — после смерти свекрови Иккина мать заняла большую комнату и с приходом дочери врезала замок. Людмила Александровна поставила Икки еще одно условие — купить себе холодильник, потому что свой, как и дверь комнаты, запирала на ключ.
Икки ничего другого теперь не оставалось, как снова податься в аптеку. Она получила сертификат, прошла медицинское обследование и устроилась работать недалеко от дома в сетевую аптеку «Лекарь Атлетов».
Это была совсем другая работа — теперь Икки пахала два дня подряд по двенадцать часов без перерыва на обед. Обещали платить довольно много, но все время из-за пустяков ее лишали премий, в результате чего она получала столько денег, сколько могла потратить за два выходных дня. То есть очень мало, потому что первый свой выходной день она отлеживалась и приходила в себя после адской работы, а второй к ней готовилась.
Поначалу новая заведующая (Клавдия Михайловна Потапова) показалась ей душкой, совсем не такой, как все предыдущие начальницы, но вскоре Икки возненавидела всем сердцем эту женщину с монголоидной физиономией и злыми черными глазами, которые изо всех сил пытались улыбаться. Клавдия Михайловна летала по отделу с большим воодушевлением, встревала в разговор Икки с клиентами, вываливала препараты на прилавок, чтобы посетитель мог сам выбрать, что ему нужно. Если какого-то препарата не было в наличии, Клавдия кричала на весь торговый зал: «Легко!» — и убегала в подсобку. Через минуту она уже неслась обратно, оповещая покупателя, что препарат она заказала и завтра клиент сможет его приобрести. Вообще для нее все было «легко!» — это было любимым словом заведующей и, казалось, девизом жизни, наверное, оттого, что она не стояла за прилавком два дня кряду по двенадцать часов без перерыва на обед…
С экрана пропал Молдер, «Секретные материалы» закончились, как, впрочем, и цыпленок с холодной картошкой. Свалив грязную посуду в раковину, я целенаправленно направилась к письменному столу, но вдруг увидела чье-то безобразное отражение в зеркале. Боже мой! Неужели это я?! Этого не может быть! Еще утром я казалась себе красивой и стройной, лишних килограммов почти нигде не было заметно. Стоило мне только плотно пообедать, как на бедрах, на спине и на животе появились наросты неизвестного происхождения. Это из раздела секретных материалов! Человек не может так быстро толстеть! Кажется, что какой-то злодей, издеваясь, облепил мое тело в некоторых местах пластилином. И когда только в моду снова войдут кустод невские женщины? И когда можно будет есть все подряд, не боясь поправиться? Обещали, что в конце XX века. Уже начало XXI — и ничто не предвещает перемен. Снова наврали!
Я решила, что пускать это дело на самотек нельзя, поэтому пошла в туалет и вызвала рвоту. Меня полчаса выворачивало наизнанку, и хоть внешних изменений после процедуры я не увидела, голова моя явно просветлела, а это самое главное, потому что на голодный желудок лучше соображается — доказано самой жизнью: в нищете и голоде писатели создают лучшие свои произведения.
И вот я снова сижу перед пустым экраном. Кажется, мозг мой начал работать. Сейчас, сейчас я вспомню первое предложение моего еще не написанного романа, которое должно стать своеобразной пружиной, от которой я оттолкнусь и одним махом напишу гениальный текст…
Д-д-зззззз. Опять телефон.
— Манечка, здравствуй, детка! Мы с тобой еще сегодня не разговаривали? — Это снова была бабушка.
— Разговаривали и все обсудили, поверь.
— Да? А я хотела узнать, вы когда с мамой ко мне приедете?
— В день твоего рождения, — терпеливо ответила я.
— Ха! На день рождения они приедут! До моего дня рождения еще День Победы и Новый год! Это что же получается, вы ко мне и на День Победы не приедете?
Бабушка, у тебя день рождения в эту пятницу. Сейчас сентябрь. День Победы — в мае, понимаешь, девятое мая еще через полгода, а Новый год через три месяца. Сначала — твой день рождения, потом Новый год, а потом девятое мая, — еле сдерживаясь, вдалбливала я.
— Да?
— Да. Прекращай смотреть телевизор!
— А у нас сегодня йог в позе лотоса не смог! — выпалила бабуля очередную фразу из рекламного ролика и бросила трубку.
И отчего только у меня нет никаких способностей к иностранным языкам?! За всю свою жизнь я так и не смогла выучить ни одного. А как хорошо быть переводчиком! Вот была бы я сейчас не писателем, а переводчиком, как Женька, и не нужно было бы мне ничего придумывать — переписывай чужой текст и греби деньги лопатой.
Хотя нет, ничего не придумывать я бы, пожалуй что, не смогла — это скучно. Не представляю, как Женька целыми днями переводит чужие романы, инструкции по эксплуатации новомодной сантехники и электроинструментов?.. Он берется за все, потому что ему очень нужны деньги. Много денег. Когда я спрашиваю, зачем ему столько, он обычно отвечает, бесстыдно цитируя Федора Михайловича нашего Достоевского, надеясь, что я не вспомню, где он это вычитал:
— Многое я пишу вследствие необходимости, пишу к сроку, написываю по три с половиною печатных листа в два дня и две ночи. Я — почтовая кляча в литературе, и многие, о, очень многие уверяют, что от моих текстов пахнет потом и что я их слишком обделываю.
Однако все по порядку!
Женька изначально не являлся членом нашего коллектива, сформировавшегося еще в детском саду и называемого нами содружеством.
Евгений Сергеевич Овечкин — мой бывший сокурсник и примкнул к нам много позже, лет восемь назад. Теперь, когда Анжелка вышла замуж, Женя все чаще и чаще занимает стул вместо нее в нашем любимом кафе (где, кстати, мы должны встретиться с девчонками в четверг).
Я познакомилась с ним на первом курсе института — он учился на переводческом факультете, изучал французский и испанский языки. Поначалу он показался мне обыкновенным «ботаником», который уже в начале семестра беспокоится только о том, чтобы сдать к концу полугодия все зачеты и экзамены. Он был очень неразговорчивым и избегал общества как девушек, так и парней. Но к концу первого семестра он уже не казался «ботаником» — я поняла, что это человек с большими странностями. А дружба наша зародилась, когда Женька на экзамене по языкознанию подсунул мне под локоть шпаргалку.
Год спустя я узнала о том, что мой друг глубоко несчастен. Оказалось, что он — ни больше ни меньше, а ошибка природы, что ему нужно было родиться девочкой, а не мальчиком. Он не знал, как мне об этом сказать, и не нашел ничего лучшего, как для начала рассказать анекдот — наверное, надеялся, что я сама догадаюсь:
«Сидят в песочнице два карапуза — мальчик и девочка, без штанов. Мальчик внимательно глядит на свое отличающее начало, потом смотрит еще внимательнее туда, где оно должно быть у девчонки, и с сожалением и разочарованием спрашивает:
— Потеляля?
— Не-е, так и быле, — грустно отвечает малышка.
— Так вот я не понимаю, не способен понять грусти этой глупой девочки из песочницы! — горячо, на полном серьезе воскликнул тогда Женька. — Многое бы я отдал, чтобы у меня «так и быле»!
Я сразу-то ничего не поняла, а когда до меня наконец дошло, к чему клонит мой друг, стала его утешать, приводила кучу примеров из жизни, но тем самым только еще больше разозлила и расстроила его.
Через неделю он все-таки раскололся, потому что, наверное, я была единственным человеком, которому он мог доверить свою тайну.
Женька рассказал мне о своем первом неудачном сексуальном опыте. Ему было тогда пятнадцать лет, и он отдыхал летом у знакомых под Москвой. Все три месяца одна местная дама (вдова, схоронившая четырех мужей) оказывала ему недвусмысленные знаки внимания. Женька, в душе неисправимый романтик, воспринимал «знаки» с ее стороны как нерастраченную материнскую любовь (он все свое детство провел в каком-то интернате, где изучал английский язык, и родительского тепла ему явно не хватало). Он и представить не мог, что эта сорокадевятилетняя мадам хочет использовать его в качестве своего последнего любовника.
Как-то поздней осенью Женька приехал на дачу забрать свои вещи. Кроме его сорокадевятилетней воздыхательницы в поселке никого не было. Она заманила мальчишку к себе домой и чуть «не снасиловала», как он сам выразился. Дама эта была довольно тучной, высокого роста, а Женька был похож на тщедушного желторотого цыпленка с длинной шеей.
— Изольда сначала напоила меня чаем с черствыми плюшками и все повторяла, что ей холодно, что все уже давно разъехались, что ее летний домик уже не прогревается старым немецким камином, а она не могла уехать, не повидавшись со мной. Она все говорила, что знала, чувствовала и бога молила, чтобы еще раз меня увидеть.
Потом они долго сидели в тишине, слышно было только, как сильный холодный октябрьский ветер завывал в трубе и голые ветки сирени стучались в окно. Наконец Изольда встала со стула, вышла куда-то, а через пять минут появилась в ледяной комнате в одних колготках, которые плотно обтягивали ее кучковатые бедра. Она невероятно ловко стянула с себя колготки и сиганула к Женьке на кровать. Чашка выпала у него из рук, он ошпарил себе колени. От боли и неожиданности он ничего не мог понять. Вдруг взгляд его остановился на трехслойном Изольдином животе, на котором остался глубокий красноватый след от тугой резинки колгот.
Женька бежал в Москву от сорокадевятилетней вдовы, забыв про вещи, за которыми он, собственно, и приезжал, а перед глазами всю дорогу мерещился трехслойный Изольдин живот, разделенный следом от тугой резинки.
Эта «первая любовь» глубоко ранила романтического, воспитанного на классической литературе пылкого юношу. Он больше так и не сумел поверить в чистые отношения между мужчиной и женщиной, о которых читал в книгах.
Женька знал, что любой его ровесник не упустил бы такого момента и принял бы с удовольствием и с подростковым интересом любовь и ласки жирной вдовы, и ему потом совсем не было бы стыдно — напротив, он хвастался бы перед остальными своим первым опытом. Именно тогда Евгений понял, что он не такой, как все, — ему нужно было родиться той девочкой, которая якобы что-то потеряла в песочнице.
С каждым годом он все больше и больше убеждался в том, что внутри он совсем не мужчина и матушка-природа ошиблась, дав ему такое обличье. У него никогда не было женщин, он все чаще влюблялся в представителей своего пола — страдал, не ел, не спал…
Но водилась за ним одна странность: влюбляться в мужчин он мог только на расстоянии — в какую-нибудь модель с обложки гламурного журнала или в слащавую физиономию с телеэкрана. То есть чувство его всегда оставалось безответным, в результате чего за всю жизнь у него не было не только ни одной женщины, но и ни одного мужчины.
Для всех нас Женька был просто «хорошей девчонкой», с которой всегда можно поговорить по душам, обсудить, какой макияж моден в этом сезоне, и прошвырнуться по магазинам в поисках нижнего белья (Овечкин помешан на трусах и бюстгальтерах и всегда поможет подобрать то, что нужно). Он часто говорит нам:
— Никого у меня нет, кроме вас. Совсем я один на этом свете, сиротинушка.
Он действительно был круглой сиротой, его родители умерли, когда работали в Африке, — то ли от москитной лихорадки, то ли от лихорадки паппа-тачи, что, кажется, одно и то же, а может быть, подцепили малярию, точно не помню — Евгений не любит об этом вспоминать.
Единственная, кто в нашей компании относится к нему отрицательно, даже, пожалуй, с презрением и пренебрежением, это Анжелка. Она со злости называет его за глаза «оно» или «наш полумужчина», якобы из-за своих религиозных убеждений. Но я считаю, что она всего-навсего ханжа.
В то время, когда Анжелка еще не ходила в православную церковь, а потом не перешла в секту адвентистов Седьмого дня, не вышла замуж, не родила Кузю и безбожно ругалась, она неплохо ладила с Овечкиным. Но чем больше она «совершенствовалась», тем нетерпимее относилась к нашему несчастному другу. Теперь, после рождения Кузи, отношения их накалились до предела, и мы должны были постоянно выбирать и отдавать предпочтение то Евгению, то Анжеле.
Анжелика Ивановна Поликуткина (в девичестве Огурцова) тоже, как и Икки, стала жертвой вкусов собственных родителей. Когда мать Анжелки — Нина Геннадьевна Огурцова была на пятом месяце беременности, они с мужем — Иваном Петровичем Огурцовым посмотрели две серии популярного тогда фильма об Анжелике и Жофрее. Поэтому сразу после этого события было решено: если родится девочка, назвать ее Анжеликой, в честь героини знаменитой киноленты, и неважно, что это иноземное имя совсем не сочеталось с фамилией Огурцова. Хорошо еще, что Анжелкины родители в то время не дошли до индийских фильмов, а то бог весть, как бы сейчас звали Анжелику Ивановну Поликуткину (в девичестве Огурцову)!
В период нашего с Анжелой детства ее родители страстно увлекались музыкой — переписывали на рентгеновские снимки песни «Битлз» и «Роллинг стоунз», и эта их любовь к музыке в дальнейшем определила будущую профессию Анжелы.
До третьего класса Огурцовы никуда не могли приткнуть свою девочку — ее скрытые способности никак не хотели раскрываться. Сначала они отдали ребенка в художественную студию, но дальше изображения перекосившихся домиков со свернутыми возле них калитками дело не пошло. Потом Анжела попытала счастья в кружке хореографии, но никак не могла взять в толк, что, когда художественный руководитель говорил: «Упасть», это вовсе не означало, что нужно действительно плюхаться на крашеный, натертый мастикой пол и все время пачкать свой зад, что от нее всего-навсего требовалось сделать реверанс. Нине Геннадьевне надоело после каждого занятия стирать Анжелкину форму, и она забрала ее из кружка. Еще был кружок мягкой игрушки, инкрустации, соломки, выжигания по дереву… А в третьем классе к нам в конце урока арифметики заглянула темноволосая сухопарая женщина лет сорока и радостно, с большим энтузиазмом спросила:
— Дети! Кто из вас хочет научиться играть на старинном русском инструменте — балалайке? А? Кто хочет стать настоящим музыкантом?
Шесть человек подняли руки. Среди них была и Анжелка. Через пару месяцев пять из шести наших одноклассников сбежали из балалаечного кружка, и обучаться играть на трех струнах осталась одна Анжела, несмотря на то что у нее были серьезные проблемы с музыкальным слухом. Она бы, наверное, тоже сбежала, но родители вцепились в балалайку намертво, потому что старинный русский щипковый инструмент был последним шансом хоть чему-то научить бестолковую дочь. И в конце концов Анжела стала балалаечницей.
Вообще Анжелкины родители постоянно чем-то увлекаются, вернее, мать. Отец же — страшный подкаблучник, во всем потакает супруге. Да, наверное, иначе никак нельзя, потому что именно она — глава семьи Огурцовых, именно она всегда решала, экономить ли на питании в этом месяце, чтобы накопить на новую мебель, или уйти в трехдневный запой и начать копить деньги со следующего. Надо заметить, в так называемые застойные времена Нина Геннадьевна Огурцова нещадно пила, но это не мешало ей постоянно находиться в состоянии какого-нибудь увлечения.
Боже мой! Чем только Огурцовы не увлекались, чем только не бредили, чем только не интересовались! Их совместная супружеская жизнь была похожа на зебру, раскрашенную разноцветными полосками периодически сменяющихся увлечений.
Нина Геннадьевна долгое время работала в «Госкино» уборщицей, и в это время супруги болели индийскими фильмами. Вся их квартира заполнилась разноцветными фарфоровыми статуэтками индианок в ярких юбках со страшенными физиономиями. В доме стоял специфический запах тлеющих индийских палочек. Они даже квашеную капусту посыпали приправой карри и кормили этим не только Анжелку, но и бедного пуделя с печальными глазами, который прожил у них двенадцать лет в тесном коридорчике и которого они не смогли толком похоронить — запихнули в старую дорожную сумку и выбросили под первое попавшееся дерево во дворе.
Само собой, это их безумство по поводу индийского кино плавно перетекло в увлечение йогой, и толстая, бесформенная Анжелкина мамаша часами пыталась изобразить позу лотоса, путаясь в собственных ногах. Однажды она так серьезно в них запуталась, что сломала шейку бедра, после чего год не показывалась на улице, а через полтора я увидела ее стоящей около березы ранним зимним утром… …Она стояла совершенно голая и босая на снегу, возведя руки к темному предрассветному небу. Рядом топтался Анжелкин папа, держа в руках ведро с водой. Кажется, в тот период жизни они увлеклись теорией какого-то модного целителя, и Нина Геннадьевна подобным образом оздоравливала свой организм, пока не подхватила воспаление легких. А когда подхватила, два месяца лежала в постели и увлеклась составлением лекарств по древнейшим рецептам. Помню, кто-то дал ей почитать книжку, которая так и называлась: «Рецепты наших прадедов» или что-то в этом духе. Проштудировав «прадедовские рецепты», она через Анжелу попросила у меня столетник, уверяя, что это растение непременно должно помочь ей вылечить осложнение после воспаления легких. Непомерный куст алоэ стоял у меня на подоконнике, и я все время ждала, что он вот-вот должен расцвести. Я знаю, конечно, что он цветет раз в сто лет, но почему бы этот раз не мог прийтись именно на мою жизнь? Однако нужно было спасать Анжелкину мать, и я отволокла Огурцовым гигантский столетник, который, как мне казалось, не сегодня завтра загорится красными, оранжевыми или желтыми гроздьями. У меня даже в голове не было оговаривать тот факт, что я даю им свой драгоценный ксерофитный суккулент напрокат — пока Нина Геннадьевна не выздоровеет. И каково же было мое удивление, когда на следующий день я узнала, что мое родное и бесценное растение, которое должно было раскрыться в прекрасном, невиданном цвете, прокручено через мясорубку, сдобрено медом и какао в соответствии с «прадедовским рецептом»! Я была в шоке — теперь я никогда в жизни не увижу, как расцветет мой столетник, потому что его извели до последней колючки, превратив в отвратительную массу цвета детской неожиданности.
После «прадедовских рецептов» были еще космическая и рисовая диеты, сыроедение, голодание, живая и мертвая вода и многое другое. Но, пожалуй, самым серьезным увлечением четы Огурцовых до их обращения в православие было увлечение уринотерапией.
Как-то я зашла за Анжелкой, и стоило мне только переступить порог квартиры Огурцовых, как я почувствовала себя крайне нехорошо: в горле заклокотало, в носу защекотало, я начала чихать. По квартире распространялся удушливый, тошнотворный запах.
— Чем это так воняет? — забыв обо всех правилах приличия, спросила я.
— Мама упаривает урину, — пояснила Анжелка.
— Чего делает? — не поняла я.
— Чего-чего! Мочу упаривает!
— Манечка! Здравствуй! — поприветствовала меня Нина Геннадьевна. — Не обращай внимания на запах, это очень полезно.
Как можно было не обращать внимания на этот смрадный запах, я понять не могла.
— Что, и нюхать полезно? — спросила я и попыталась улыбнуться ради приличия, но то получилась зловещая улыбка Франкенштейна.
— И нюхать тоже, — подтвердила Нина Геннадьевна. Говорила она всю жизнь в нос, монотонно, растягивая слова — то ли от природы, то ли по причине хронического гайморита. — Все полезно.
Эту золотую, солнечную, поистине божественную жидкость можно применять как угодно. Можно втирать в кожу, можно делать клизмы и очистить таким образом весь организм, можно пить и тем самым избежать злокачественных образований. Это — панацея. Урина помогает при любом заболевании. Она даже излечивает СПИД, не говоря о сифилисе!
Я жалась ближе к выходу и почти слилась со стеной.
— Сейчас, сейчас я тебе кое-что покажу, подожди, — сказала Нина Геннадьевна тоном радушной хозяйки и помчалась на кухню, в самый очаг вони.
— Анжелка, выпусти меня немедленно, или я вам тут все стены испорчу!
— Сейчас, только ресницы накрашу, и пойдем, — сказала она и ушла в комнату — мне показалось тогда, что они надо мной издеваются.
Тем более что на меня из кухни надвигалась Нина Геннадьевна с эмалированной кастрюлей в руках, из которой валил дым. Зловоние становилось все нестерпимее.
— Посмотри, — с воодушевлением воскликнула Анжелкина мать и ткнула мне прямо в нос посудину со смрадной коричневатой жидкостью, — механизм очень прост, и, заметь, ни копейки денег для того, чтобы быть совершенно здоровым человеком. Собираешь собственную урину и упариваешь ее на тихом огне. Пропорции я тебе напишу. Потом можешь пить ее, прикладывать к болячкам, в общем, делать с ней что хочешь.
После этих слов я наконец не выдержала и стала медленно сползать по стенке.
— Ты не обращай внимания на запах. Это у меня моча такая пока… Неочищенная. Скоро Иван придет, сделает мне клизму, урина как раз за это время подостынет, — радостно сказала Нина Геннадьевна и со счастливой улыбкой на устах скрылась в кухне.
Стало быть, Иван Петрович снова втянут в очередное увлечение жены и тоже ставит клизмы и пьет собственную мочу.
Эта последняя их страсть к уринотерапии длилась почти два года — до тех пор, пока они случайно не забрели в церковь, что недавно открылась неподалеку. Они зашли и… снова увлеклись. Просто с ума сошли.
Спустя неделю Нина Геннадьевна ходила повсюду в платке (Анжела говорила, что она его даже на ночь не снимает), уничтожила всю косметику, которая была у них в доме, напялила длинную юбку и стала называться «матушкой». А «батюшка» облачился в темный скромный костюм, и каждое воскресенье сопровождал ее в храм божий. Они даже диктофон прикупили и стояли на проповеди в двух шагах от священника — то ли для того, чтобы засветиться, то ли чтобы запись проповеди была качественнее.
Дошло дело и до первой исповеди, на которой священник категорически запретил Нине Геннадьевне употреблять мочу внутрь и пригрозил тем, что не допустит ее ко причастию. Таким образом, с уринотерапией было покончено.
Анжела пофыркала-пофыркала по поводу последнего родительского увлечения, думая поначалу, что и оно скоро минует их семейку, как страсть к народному целительству, индийским фильмам и йоге, но этого не происходило. В конце концов как-то постепенно Анжелка сначала стала меньше ругаться, потом и вовсе перестала и, что уж совсем не влезало ни в какие рамки, бросила курить. А уж после первого выдержанного ею Великого поста (после которого, кстати, она вельми потолстела и ее и без того округлые формы совсем растеклись, потому что весь пост она утоляла свой постоянный голод буханками хлеба) настолько возгордилась, что целый месяц с нами не общалась — мол, недостойны мы ее расположения. Через месяц она все-таки снизошла до наших скромных персон, но с Женькой с тех пор была на ножах.
За это время у нее появились какие-то новые знакомые, с которыми Анжелку связывали, как она сама говорила, «православные отношения». Я долго думала, что это значит — «православные отношения»? Я пыталась это как-то объяснить лексически, растолковать — даже в разных словарях копалась, но подобного фразеологического оборота не нашла и пришла к выводу, что таких отношений не существует в природе. Это мыльный пузырь. Просто Анжелка теперь избегала общения с нами, боясь запачкаться, — мы же не ходили в церковь каждое воскресенье и могли свернуть ее с пути истинного.
У Анжелкиных родителей тоже появилось много новых знакомых, с которыми их связывали эти самые «православные отношения», и еще одно незначительное увлечение — ведь без увлечений они не могли жить. Новое увлечение называлось «ремонт». Стоило им в первый раз отремонтировать кухню, как они немедленно взялись за коридор, комнату, поставили новый толчок в туалете (в унитазном бачке у них теперь всегда была голубая вода — Анжелкина мамаша специально для этой цели покупала в хозяйственном магазине заморские таблетки по 50 рублей за штуку) и снова вернулись к кухне, потому что обои, наклеенные год назад, уже не отвечали требованиям моды.
И вот когда в семье Огурцовых наконец-то все, казалось бы, утряслось, произошло самое страшное, что только может случиться у людей, которых связывают «православные отношения».
Наверное, самой большой Анжелкиной проблемой было то, что до двадцати девяти лет она оставалась девицей и всю дорогу нам завидовала, хотя явно этого не выражала. В то время как я развелась со своим третьим мужем, она все еще сидела в девках. И однажды что-то перевернулось в ее мозгах — не знаю точно как, но из православия она вдруг перепрыгнула к адвентистам Седьмого дня. Стала регулярно ходить на их субботние собрания, шляться по вечерам с гуманитарной помощью по братьям и сестрам во Христе, петь духовные песни под бренчание балалайки. Бросила работу в народном ансамбле, перешла в один из музыкальных адвентистских коллективов с незатейливым названием «Колокольчик» и теперь разъезжала по городам и весям, обращая заблудших овечек в «настоящую, истинную» веру. Родители были в шоке от того, что выкинула им на старости лет их такая с виду благочестивая дочь.
— Еретичка! — не уставала повторять Нина Геннадьевна, когда Анжелка в субботний вечер убегала на очередное собрание.
— Сами такие! Не стану я больше иконы облизывать! — кричала в ответ благочестивая дева, прикрывшись на всякий случай балалайкой, — религиозные распри в семье могли дойти и до мордобоя.
Короче говоря, на одном из субботних собраний Анжелка познакомилась со своим будущим мужем — рослым чернобровым детиной, который то ли по своей дури, то ли по упрямству добивался руки нашей подруги целый год. Родители были и «за», и «против» — когда как, но в конце концов сдались и сбыли с рук благочестивую дочь свою. А еще через год у Анжелки с Михаилом родился сын Кузьма.
Теперь в семье Поликуткиных-Огурцовых снова все нормализовалось: Анжелины предки устроились работать в ту самую церковь, куда зашли совершенно случайно во времена их страсти к уринотерапии. Отец служил сторожем, мать — стояла за свечным ящиком. Кузьму сначала под сильным давлением Анжелкиных родителей окрестили в православном храме, а через неделю обратили в адвентистскую веру, прочитав над младенцем молитву на субботнем собрании. Компромисс был найден — все были довольны: и Нина Геннадьевна, и Иван Петрович, и Михаил Кузьмич, да и Анжела, наконец, обрела покой. Жаль только самого Кузьму. Чем может обернуться ему это «двоеверие»? А вдруг он станет двоеженцем?..
19.00 — первое предложение моего гениального романа осталось только напечатать — оно окончательно созрело в моей голове. И стоило мне только прикоснуться к клавиатуре, как зазвонил телефон. На экран выпрыгнуло странное сочетание букв: «Ячсмитж тррр».
— Маня! Он, кажется, меня заразил! — вопила в трубку Икки.
— Кто?
— Сантехник!
— Чем?
— Пока точно не знаю, но это что-то очень страшное и венерическое! Подонок! Свинья!
— Ты же утром была влюблена в него!
— Какая там любовь! Я не знаю, куда от него деваться, — он мне три раза позвонил за сегодняшний день!
— Почему ты думаешь, что он тебя заразил? Ведь прошло еще слишком мало времени! И потом, он… ты… Ну, в общем, вы что, не предохранялись?
— Нет, все произошло так быстро, так неожиданно, так страстно…
— Ну, ты и дура! — рассердилась я.
— Я-то при чем? Это он дурак ходить без презервативов в наше время! Он, наверное, закончил тот самый интернат, в котором сорок лет преподавала твоя бабушка.
— Сорок три, — уточнила я.
— Да какая разница! Я точно знаю, что больна! У меня всегда инкубационный период очень короткий, — воскликнула она и завыла мне в ухо.
— Ну а почему ты мне-то звонишь? — не выдержала я — этак никогда не начать романа!
— Ну а кому мне звонить? Ведь только ты знаешь о моем романе с сантехником, — пролепетала она, и мне стало жалко беспомощную и несчастную Икки.
— Как кому? Звони Пульке, только она способна тебе помочь!
— Мне неловко как-то, — замялась Икки.
— Да что тут неловкого-то? Как будто первый раз!
Ну, ладно. Действительно, к кому ж мне еще обратиться за помощью! — решилась она и повесила трубку.
Пулька, или Пульхерия Аполлинарьевна Дерюгина, была пятым членом нашей компании. Мы все ею безмерно гордились и частенько обращались к ней за помощью. Дело в том, что она была очень хорошим гинекологом-хирургом.
Наша гинекологиня носила столь странное, редкое имя (что для содружества было закономерностью) потому, что ее мать Вероника Адамовна и отец Аполлинарий Модестович — филологи, и оба специализируются на творчестве Николая Васильевича Гоголя. Именно на этой почве они когда-то и познакомились.
Хорошо еще, что у них родилась девочка, а был бы мальчик, они непременно назвали бы его Акакием, что, на мой взгляд, вызывает малоприятные ассоциации у русскоязычного человека, несмотря на то что в переводе с греческого это имя означает «не делающий зла».
Дерюгины холили и лелеяли свою Пулечку, надеясь вырастить скромную, воспитанную, немногословную девушку, которая по окончании школы поступит на филфак и станет изучать творчество Николая Васильевича или, на худой конец, творчество одного из тех писателей, который однажды «вышел» из его «Шинели», и тем самым продолжит семейную династию литературоведов.
Однако Пулечка с детства привыкла делать все наперекор своим безмерно добрым и безропотным родителям, стоически сносившим все ее шалости. Кажется, она еще в детском саду наотрез отказалась продолжать семейную династию гоголеведов и уже в то время склонялась к профессии хирурга — она безжалостно и поначалу бессознательно мучила мух, комаров, отрывая им лапки и внимательно, с большим любопытством их разглядывая. Могла полдня сидеть в укрытии рядом со столовой и охотиться на полу дохлую крысу, а, поймав, подбросить грызуна Анжелке в койку и с наслаждением слушать вопли подруги посреди тихого часа.
По мере взросления Пулька разбирала по частям насекомых уже отнюдь не бессознательно, а заглядывая в учебные пособия. Но больше всего она поразила нас в одно хмурое летнее утро.
Нам было лет по двенадцать, и мы все тогда приехали отдохнуть на неделю к Пульке на дачу. Мы сидели втроем в застекленной беседке, полагая, что Пуля еще не проснулась, и вдруг Икки воскликнула:
— Смотрите, вон Пулька! — И она указала на чернеющую фигурку в тумане в противоположном конце сада. — Мы тут ее ждем, а она где-то шляется по ночам!
Наконец на пороге появилась Пулька, вся перемазанная болотной жижей, с полиэтиленовым пакетом в руке. В мешке кто-то шевелился.
— И где это ты была? — подозрительно спросила Анжелка, а Пуля опустила пакет на стол и принялась его медленно раскрывать. Мы все приблизились к мешку, и тут Анжелка неистово завизжала и кинулась прочь из беседки, крича во всю глотку: — Там жабы! Там жабы! Вот ненормальная! Девчонки, бегите оттуда, пока вас бородавками не обсыпало!
— Темнота! — презрительно фыркнула Пульхерия и снова закрыла пакет.
— Что ты с ними собираешься делать? — спросила я.
— Изучать.
— Как это?
— Я намерена выяснить, что у них внутри.
— Манька! Она их резать станет! — в ужасе воскликнула Икки.
— Ну и что же. Это ведь наука. А вы — темнота!
— И тебе их совсем не жалко? Ни капельки? — чуть не плача спросила Икки, но Пулька показала нам бритву с острым лезвием и с гордостью ответила:
— У отца стибрила.
В то лето Пулька занималась исключительно убийством лягушек — она, наверное, их с тысячу перерезала и все что-то записывала своим неразборчивым почерком в толстую общую тетрадь.
По иронии судьбы она ненавидела русский язык и литературу, зато упивалась учебниками по анатомии и биологии, так что в пятом классе уже брала в библиотеке пособия для медицинских вузов.
Вероника Адамовна тихо переживала за дочь. Аполлинарий Модестович иногда закатывал сцены:
— Вы только взгляните, Вероника Адамовна, кого мы воспитали-с! Это же чудовище! Дочь филологов не прочла ни одной нормальной книги! Все только о сухожилиях и костях! Уверяю вас, Вероника Адамовна, у нас дочь — дура-с!
Ну, фто вы, Аполлинаий Модестович, так нельзя! Пьесто недопустимо в пьисутствии Пуленьки пьеизносить такие нецензу иные выажения! — обычно отвечала Вероника Адамовна. Пулькина мамаша не выговаривает всего две буквы — вместо «ш» она произносит «ф», а «р» вовсе пропускает, и от этого она всегда казалась мне ужасно интеллигентной. Я всегда мечтала услышать, как в ее произношении звучит слово «ребенок», но Вероника Адамовна, настойчиво его избегала, заменяя на: «нафа девочка», «дитя», «чадо» или «малыфка».
— А я говорю, дура-с! — расходился отец, заложив руки за спину. — Кто написал «Вечера на хуторе близ Диканьки»? — экзаменовал он дочь.
— Леся Украинка, — уверенно отвечала Пулька.
— Кофмай! — лепетала Вероника Адамовна.
— Нет! Не Украинка! Сейчас, сейчас… — И мозг «малыфки» начинал судорожно перебирать всех авторов, о которых знал, и фамилии, которые могли бы логически подойти к вышеупомянутому названию. — Шевченко?
Вероника Адамовна едва заметно вертела головой, давая понять дочери, что та снова ошиблась.
— Ну, допустим, что ты не знаешь, кто написал бессмертный сборник повестей «На хуторе близ Диканьки», а кто, по-твоему, написал «Палату № 6»?
— Так то еще и сборник был! — разочарованно говорила Пулька. — Так нечестно!
— Да, представь себе! Это повести, изданные пасечником Рудым Паньком!
— Ха, откуда ж мне знать какого-то Паньку?!
— Хорошо, идемте-с дальше, — теряя самообладание, продолжал отец. — Так кто написал «Палату № 6»?
— Блок?
— Позой-й! — шептала мать и снова отрицательно качала головой.
— Маяковский? — спрашивала Пулька — у нее уже к середине экзаменации появлялся интерес, с какого раза она угадает автора.
— А «Леди Макбет Мценского уезда»?
— О! — выкрикивала Пулька, словно попала в самое яблочко. — Вот это я точно знаю! Шекспир!
— Она издевается над нами!
— Ну фто вы, Аполлинаий Модестович! Заубежную литеатуу Пулечка знает много лучше. Вы заметили, она почти угадала, только пеепутала немного, — пыталась успокоить своего благоверного Вероника Адамовна. — Ведь «Макбет» действительно написал Уильям Фекспий.
— Вот именно! «Макбет»! Но отнюдь не «Леди Макбет Мценского уезда»! Ступай прочь и не попадайся мне сегодня на глаза! — в сердцах кричал Аполлинарий Модестович.
— Простите, пожалуйста, но не всем же быть гоголеведами! — возмущалась Пулька и уходила к себе в комнату изучать строение мускулатуры, соединительные ткани и кости человеческого скелета.
Несмотря на периодические взрывы отца по поводу невежества Пульки, на некоторые странности в характерах ее родителей и самого уклада жизни, это была счастливая, благополучная семья, где царили не «православные отношения», как в семейке Анжелы, а «высокие».
Пулькины предки называли друг друга по имени-отчеству и на «вы», они никогда не ругались между собой: Вероника Адамовна смиренно относилась к несколько взрывному характеру мужа, а тот, в свою очередь, сносил кислый творог на завтрак и протертую свеклу на обед. Ужин в доме Дерюгиных был не предусмотрен.
Всякий раз, когда я бываю у Пульки дома, мне кажется, что я попадаю в библиотеку: еще в коридоре начинаются стеллажи с книгами и тянутся в две прямо противоположные стороны — в кухню и большую комнату. Потолки у Дерюгиных высокие, потому что они живут в сталинском доме. И с пола до потолка — книги, книги, книги.
В комнате, где обитают родители и которую Вероника Адамовна упорно называет гостиной, стоят два стола с портативными печатными машинками, широкая кровать, игральный стол, который всегда почему-то напоминал мне козла из нашего физкультурного зала, приземистый мощный комод, который Вероника Адамовна отчего-то называет креденцей, и повсюду горы исписанной бумаги.
Вероника Адамовна вечно ходит по дому бесшумными шагами, в длинном (до полу) платье с глухим воротом по моде конца позапрошлого века и носит очки на веревочке, издалека очень напоминающие пенсне. Волосы ее всегда зачесаны назад, как у классной дамы, и завязаны в жиденький хвостик, очень похожий на поросячий.
Аполлинарий Модестович расхаживает по квартире обычно в стеганом атласном халате и восточных кожаных тапочках с длинными мысами. Одним словом, настоящая профессорская семья.
Сколько я помню Пулькиных родителей, они постоянно строчили статьи и даже книги о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя, а особое внимание уделяли его странностям. К примеру, отчего великий писатель придавал такое большое значение сапогам? Отчего почти в каждом своем произведении он о них упоминал? Только в «Невском проспекте» автор описывает оную обувь целых пять раз: и неуклюжий грязный сапог отставного солдата, и сапоги, запачканные известью, которые и в Екатерининском канале не отмыть, известном в те времена своей чистотой, и другие сапоги!
Загадки, одни загадки! Ну зачем он ночью ходил на кладбище и в анатомический театр (Дерюгины лет десять назад нашли подтверждающую этот факт записку, написанную рукой самого Гоголя)?
И почему Николай Васильевич так толком ни разу и не описал ни одной красивой живой женщины, однако с наслаждением и упоением изобразил помершую панночку в «Вие».
А по какой причине он сторонился собратьев по перу и, прикрывая лицо черным плащом, старался остаться незамеченным?..
И эта его ужасная смерть, а потом и перезахоронение и расцарапанная в диком ужасе крышка гроба никак не давали покоя супругам-гоголеведам.
Дерюгины часто уезжали из Москвы в поисках какой-то, где-то и кем-то найденной личной вещи сочинителя или случайно обнаруженного клочка бумаги с его текстом.
Но, как говорится, в семье не без урода. И этим уродом, который наотрез отказался продолжать дело родителей, была, конечно же, Пулька. Стать врачом она решила еще в раннем детстве, но вот только каким? Этот сложный вопрос ей помогла решить ее собственная беременность.
Забеременела она совершенно неожиданно, после школьного выпускного вечера от парня из параллельного класса. Надо заметить, что Пульхерия не относилась к собственной невинности как к чему-то драгоценному, в отличие от Анжелки, которая ломалась целый год, так что в конце концов рослому чернобровому детине пришлось на ней жениться.
И так как за свою короткую жизнь Пульхерия прочла гору медицинской литературы, через месяц она заподозрила неладное и отправилась в нашу районную женскую консультацию.
Врач Угряшкина сразу не понравилась Пульхерии — у гинекологини были очень грязные волосы, как будто намазанные жиром, утиный нос и прыщавое лицо. Она осмотрела Пульку и сказала, что у нее все в порядке и нет поводов для беспокойства.
— Задержка — обычное дело в твоем возрасте, — аргументировала она заключение.
Через три недели Пульку потянуло на солененькое, и начался страшный токсикоз — она останавливалась чуть ли не у каждой урны и снова заявилась к Угряшкиной.
— Дайте мне направление на аборт. Я без вас знаю, что беременна.
Угряшкина сделала Пульке УЗИ и даже не стала уговаривать оставить ребенка.
Пуля уже лежала, задрав ноги, в операционной, и только медсестра успела ей сделать укол, как подошел доктор и заявил:
— Я не буду ей ничего делать. У нее слишком большой срок, и она слишком молода.
Но Пульке повезло — наркоз уже был введен, и врачу ничего не оставалось, как сделать свое дело.
После всего произошедшего Пульхерия решила навестить свою участковую гинекологиню. Она выстояла очередь и зашла в кабинет. Угряшкина с любопытством смотрела на Пулькину сумку в ожидании подарка, но вместо этого моя подруга сказала:
— Благодаря вам я решила, наконец, кем буду. Угряшкина зарделась от удовольствия.
— Я стану гинекологом. По крайней мере, смогу сама себе вовремя сделать аборт.
— Но ты ни при каких обстоятельствах не сможешь этого сделать! — воскликнула Угряшкина.
Это вы ничего не можете, а я все смогу. Таких, как вы, нужно поганой метлой из медицины гнать! — выпалила Пульхерия и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью.
Так наша подруга стала хирургом-гинекологом.
У Пульки в сталинской квартире с высокими потолками была своя комната, раза в два меньше гостиной, ее Вероника Адамовна неизменно называла спальней. Когда я захожу в эту так называемую спальню, у меня складывается впечатление, что я переступаю порог совершенно другой квартиры. Даже нет, не квартиры, а будто попадаю в больницу или медицинскую лабораторию. Уже много времени прошло с тех пор, как Пулька вышвырнула из своей комнаты все художественные книги, и теперь вместо них на полках красовались банки с заспиртованными чудовищами. Пульхерия очень ими гордилась и каждый раз показывала мне новый экземпляр пополнившейся коллекции. Иногда ей доставляет удовольствие проводить своеобразную экскурсию по полкам:
— Это вот, смотри, фолликулярная киста, маленькая. Они вообще не бывают большими — с куриное яйцо. Она принадлежала девушке… Кажется, ее звали Наташа и ей было 22 года.
— Почему звали? Почему было 22 года? Она что, умерла у тебя под ножом? — спрашивала я.
— Что за глупости?! Просто когда я ее оперировала, ей было 22 года.
— А это что? — интересовалась я, глядя на огромного, отвратительного мутанта в большом круглом аквариуме.
А это я на прошлой неделе удалила муцинозную кистому одной художнице. На самом деле это еще не самый большой экземпляр. Порой они достигают тринадцати килограммов. Внутри была жидкость. А вот, да нагнись ты! Видишь, у этой есть даже зубы, а вон с той стороны и волосы растут! — с восторгом восклицала Пулька.
— Фу! И как ты только можешь этим заниматься всю свою жизнь? — На самом деле я всегда этому удивлялась.
— Я люблю свою работу и отношусь к ней серьезно. Мне интересно.
— Слушай, а кто тебе разрешает таскать всю эту гадость домой?
— Ты имеешь в виду моих гоголеведов?
— Нет, в больнице.
— Ха! Уметь надо! Я сама заместитель заведующего гинекологическим отделением, а с ним, ты сама знаешь, у меня очень даже близкие отношения.
Вообще-то в детстве Пульхерия была неказистой, худенькой девочкой с блеклым русым хвостиком. Но зато сейчас она просто помешалась на своей внешности и действительно выглядела потрясающе.
Все началось с самой простой пластической операции по исправлению ее торчащих ушей… Потом она увеличила себе грудь на два размера, перекрасила волосы в естественный золотистый цвет, научилась умело накладывать макияж, скрывая природные недостатки, и всерьез подумывала выпрямить ноги. Если б я не общалась с ней все эти годы и случайно увидела на улице, то прошла бы мимо. Она была совсем не похожа на ту Пульку, которая в хмурое летнее утро явилась в беседку с лягушками в мешке вся перемазанная болотной жижей.
А теперь вокруг нее вечно вьются какие-то рентгенологи, кардиологи, травматологи… У нее не бывает недостатка в мужчинах. Только Пулька никогда в жизни никого не любила и, как она говорит, не полюбит, потому что даже самый совершенный мужчина недостоин последней подзаборной женщины-пропойцы. Может, она и права. Уж кому, как не Пульке, это лучше знать!
Д-зззззз-дз-дз! Снова проклятый телефон!
— Манечка, здравствуй, деточка! Мы с тобой сегодня еще не разговаривали?
— Разговаривали, бабушка, три раза разговаривали! — в отчаянии воскликнула я, нервно поглядывая на экран ноутбука. Там было написано: «Яч-смитж тррр». И это все, что я смогла сегодня написать.
— Вы завтра ко мне собираетесь?
— В пятницу. Бабушка, у тебя день рождения в пятницу.
— Купите мне по дороге «Орбит».
— Чего-чего тебе купить?
— «Орбит» — это самая лучшая зашита от кариеса.
— Но у тебя же нет ни одного зуба!
— Он еще улучшает пищеварение. Кстати, я дописала свой роман.
— А я еще не начала! — почти закричала я.
— Ты его обязательно заберешь, подправишь там кое-что и издашь. — Она совершенно меня не слушала.
— Угу.
— Что значит «угу»?! Хороший, большой роман-эпопея.
— Насколько большой? — поинтересовалась я.
— Сейчас скажу, — она закряхтела в трубку, — целая тетрадка.
— Общая?
— Кто общий?
— Сколько страниц?
— Сколько-сколько! Говорю тебе — эпопея. Разве эпопея может быть маленькой? Тетрадка за две копейки в линеечку. Хотя нет, постой, тут у меня сзади еще что-то написано… Купить: сгущенки, колбасы докторской, молока. Телефон Олимпиады Ефремовны 222…. телефон, куда звонить во время пожара, телефон сына, молитва… А в скобках написано… Подожди, тут еще что-то в скобках. А! Молитва, а в скобках написано: «очень хорошо помогает, если я снова потеряю очки». Потом вот что, послушай-ка:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить,
— прочитала бабушка с выражением, а последнюю строку произнесла уж совсем до неприличия патетично. — Ну, как тебе? Сама сочинила! — похвасталась она. — Намедни бессонница мучила, вот и придумала. Понравилось?
— Очень. Мне всегда нравилось это стихотворение Тютчева.
— Кого-кого?
— Федора Ивановича Тютчева.
— Да? А разве это не я его сочинила? Странно.
— Ну, где роман-то?
— Да сейчас найду, что ты, ей-богу! Вот он! С другой стороны тетрадки. Раз, два, три… Три! три странички!
Эпопея в три странички?!
— А что? Мал золотник, да дорог! — прокричала бабушка и бросила трубку.
Нет, завтра уж точно отключу телефон и напишу наконец первое предложение, а потом все как по маслу пойдет.
Хотя нет — отключать телефон нельзя ни в коем случае! Вдруг позвонит Любочка из редакции, а вдруг сам Кронский, хотя это маловероятно, но Любочка вполне может позвонить и попросить меня приехать что-нибудь подписать. А там я снова могу увидеть героя моего романа.
Я категорически отказалась от мысли отключить телефон — ведь я решила мозолить Кронскому глаза до тех пор, пока он в конце концов не поймет, что я — его судьба. А телефон — это моя единственная связь с внешним миром.
02.00. Думаю о том, как все-таки хорошо, что я не стала жертвой убеждений и интересов собственных родителей и что меня зовут вполне нормальным именем — «просто Мария», что меня можно называть и Марья, и Мариша, и Маня, и Машенька, и Манюня, и… короче, по-разному. Помню, в школе меня все дразнили Корытом из-за фамилии — Корытникова, Икки — Икотой, Пульхерию — Херей, а Анжелку или Огурцом или Насисьником, потому что как раз в то время была мода на бюстгальтеры «Анжелика». Хорошо хоть меня — одну-единственную из нашей компании — назвали в честь прабабушки. И слава богу, что прабабушку звали не Транквиллина, Акслипиодота или, того хуже, Яздундокта.
Ну до чего же не хочется залезать в эту омерзительную кровать и моргать в темноте до утра! Но ничего не поделаешь — натягиваю пижаму и ныряю под одеяло.
До пяти часов придется снова натыкаться на бетонные стены, мучительно разыскивая среди бесполезных входов в лабиринт сна единственный нужный.
И все-таки у меня ужасно развита интуиция! Я как знала, что мне позвонит Любочка, и хорошо, что не отключила телефон.
Она позвонила мне вчера и попросила приехать, взять авторские экземпляры книг, и сама же проговорилась о герое моего романа.
— Приезжай на этой неделе, — сказала она, — а то в понедельник днем в редакции будет полно народу, к тому же Кронский должен заехать к двум часам, и эти твои книжки занимают столько места… Я все время о них спотыкаюсь!
— Ой! Я никак, ну просто никак не могу на этой неделе! У меня все расписано. Сейчас посмотрю в дневнике, есть ли окошко. — Я выдержала паузу, будто смотрю в дневник, которого у меня отродясь не было, и ответила: — Представляешь, как назло, у меня единственный свободный день — понедельник. Я быстренько. Только заберу и сразу уеду. Даже никто не заметит моего присутствия.
— Все понятно, — после минутного молчания сурово сказала Любочка, — ты влюбилась в Кронского.
— Господи, глупости какие! Как тебе это могло прийти в голову?!
— Ладно, в понедельник так в понедельник, только знай — этот твой Кронский — еще тот ходок! — Особенно смачно Любочка произнесла слово «ходок» — Да, и вот еще что… У меня к тебе разговор.
— Что за разговор?
— Ты читала «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг?
И она пристает ко мне с этим «Дневником»! Да что ж за напасть-то! Что в нем такого особенного? Или я пишу хуже этой Филдинг?
— Короче, если не читала, прочти и попробуй написать нечто подобное, только героиня, естественно, должна быть русской девушкой и вообще все должно происходить не где-нибудь там, а у нас, в Москве.
«Вот бред-то! Я еще должна кому-то подражать!» — подумала я, но сказала:
— Я попробую, но только после того, как допишу роман.
— Который еще не начинала? — ехидно спросила она. — И все-таки подумай о том, что я тебе сказала, а в понедельник я тебя жду.
Сегодня четверг, и у меня появился повод оторваться от компьютера хотя бы на один вечер и встретиться с подругами. Все утро я нервно курила, придумывая первое предложение романа. И… Эврика! Я придумала целую кучу предложений, которые моментально складывались в абзацы, пока не оборвались в конце главы! Это, наверное, на меня так подействовал вчерашний Любочкин звонок, не иначе! Вот оно, начало моего будущего романа:
«Впервые я увидел ее за столиком открытого летнего кафе на Арбате. Я, как обычно, возвращался вечером с работы, и вдруг она — прекрасная незнакомка в строгом синем костюме и шляпе с огромными полями. В одной руке она держала чашечку кофе, пикантно отведя мизинец, в другой тлела длинная дамская сигарета.
Я человек забитый, необщительный и неразговорчивый, а на женщин, особенно на ровесниц, не обращаю ни малейшего внимания. Но тогда, в тот роковой вечер, на закате, кровью с молоком разлившемуся по небу, я замер, увидев эту женщину, — мне показалось, что она сошла с небес специально для меня. Я, не задумываясь, сел за столик напротив и пристально, неприлично долго разглядывал ее.
Она явно была старше меня. Скажу даже больше, это была женщина бальзаковского возраста, и у меня не было никаких шансов познакомиться с ней — она попросту не стала бы разговаривать с таким, как я, — мне ведь всего 22 года, и я не слишком красив.
Она приворожила меня тогда, в тот день, когда Арбат залился кроваво-молочным закатом, и я, как слепец, последовал за ней, словно за поводырем.
Так мы дошли до серого шестиэтажного дома…»
Этот роман совершенно не должен быть похожим на все предыдущие. Идею мне подкинул Женька. Однажды он сказал мне:
— Вечно ты пишешь про женскую любовь! А ты возьми и напиши про такого же забитого типа, как я.
— Не поняла, я что, должна написать о любви мужчины к мужчине?
— Не вижу в этом ничего предосудительного, хотя если это тебя так смущает, можешь написать от лица мужчины про его любовь к женщине.
Эта идея показалась мне интересной — по крайней мере, необычной. Ну сколько можно писать о разбитых девичьих сердцах и о неизвестно откуда свалившемся женском счастье!
Я придумала сюжет довольно быстро. Прототипом главного героя был мой друг Женька, а работал он аптекарем, как Икки. Мне показалось, это идеальный прием для изображения закомплексованного, робкого юноши. Во всяком случае, этой «чистенькой, женской» профессией и объясняется ненависть главного героя к женщинам и его нерешительность перед незнакомкой бальзаковского возраста.
Когда Икки училась в фармацевтическом техникуме, в ее группе учились два мальчика. Они держались всегда вместе, несмотря на то что между ними не было ничего общего. Один — тупой, толстый двоечник с вечно красной физиономией, другой — хитрый, маленький, умный и худой. Для каждого из них было трагедией, если другой заболевал.
Девчонки настолько привыкли к ним, что вскоре вовсе перестали их замечать, примеряя кофточки, юбки и лифчики в присутствии мальчишек, а когда было нечего делать, будущие аптекарши от души издевались над своими коллегами-аптекарями. После подобного трехгодичного общения с «девочками», вероятно, у этих юношей был надолго отбит какой-либо интерес к прекрасному полу.
Мой герой переполнен неистовой ненавистью ко всем подряд женщинам, иногда пользуется услугами девушек легкого поведения — и вдруг случайно видит женщину за столиком летнего кафе и тут же влюбляется в нее. Это как наваждение.
Героиня же в два раза старше влюбленного, одержимого юноши, у нее дочь старше него, ну и так далее.
В конце концов (ближе к середине романа) он все-таки овладевает ею, но финал трагичный: аптекарь убивает возлюбленную из ревности. Убивает красиво, в кровати, ножом, едва только первые лучи солнца озарят спящую землю. Надеюсь, не будет повести печальнее на свете, чем повесть об убийстве на рассвете…
Но время! Время! Оно неумолимо! Пора одеваться и дуть к Икки в аптеку. Мы вчера договорились, что я зайду за ней в четыре, чтобы выцарапать из лап женщины с монголоидной физиономией и черными злыми глазами, девизом которой было модное недавно словечко: «Легко!»
Я с удовольствием выключила компьютер и посмотрела на себя в зеркало. Кошмар! Голову нужно немедленно мыть. Черт! Мой ноготь! Мой бедный ноготок сломался от усердной работы на клавиатуре, значит, нужно еще успеть сделать маникюр!
Что там у нас на улице? Я высунула нос в форточку — холодно. В чем идти? Колготки! Где мои новые колготы?! Перерыла все ящики — нигде нет.
Боже мой! За что браться? Ничего не успеваю! Икки загрызет меня, если я опоздаю, — не очень-то приятно стоять за прилавком лишнее время.
Надо сосредоточиться, иначе я вообще сегодня не выйду из дома! Вымыть голову, найти колготы, сделать маникюр. Накраситься, одеться. Или наоборот. Как получится.
15.30 — голову вымыла, колготки не нашла, сушу ногти. Ну почему? Почему у меня всегда одна и та же реакция организма на лак для ногтей — стоит мне наложить второй слой, как срабатывает диуретический эффект, будто я напилась мочегонных таблеток. Снимаю штаны и смазываю о них весь лак! Так было всегда, так получилось и сейчас.
15.50. Катастрофа! В доме воняет ацетоном (лак пришлось стереть), колготы не нашла, волосы недосушила. В лихорадке натягиваю джинсы, свитер, пиджак и в мыле вылетаю на улицу. Прохожие смотрят на меня как-то подозрительно. Я, наверное, похожа на чучело. Или мне просто показалось, что на меня подозрительно смотрят? Может, наоборот, окружающие любуются мною?
Неожиданно замечаю на светлом бежевом свитере на самой груди огромное фиолетовое пятно. Откуда оно могло тут взяться? Вспомнила — я поставила его месяц назад, когда ела вишню, увлеченно читая один из детективов великого Кронского.
У меня только одно желание — вернуться домой и переодеться, но время поджимает. Я иду по улице так, будто страдаю дрожательным параличом, пытаясь спрятать фиолетовое пятно под пиджаком.
Опять я буду выглядеть как идиотка — лохматая, со следами лака на ногтях и с фиолетовым пятном на самой груди, в то время как Пульхерия приедет расфуфыренная, накрашенная, безукоризненная. Анжелка скромно («по-адвентистски» или «по-православному» — теперь не понять) одетая. Икки тоже всегда тщательно одевается перед тем, как выйти на улицу. А меня как будто на время выпустили погулять из того самого интерната, в котором моя бабушка проработала сорок три года. В прошлый раз, например, я нацепила разные туфли и заметила это только в метро — возвращаться домой, как всегда, было уже поздно, и я весь вечер наступала себе на ноги, чтобы не слишком была видна разница — благо туфли были одного цвета.
В 16.15 я миновала вывеску «Лекарь Атлетов» и как ошалелая влетела в аптеку. У Иккиной кассы было полно народу. Я попыталась пробраться к ней поближе, но очередь взбунтовалась:
— Умная какая, все стоят спокойно, а она лезет!
— Я вообще инвалид первой группы! — воскликнул здоровенный старик с тростью, которую он, наверное, всегда таскал с собой в подтверждение своей инвалидности.
Нет, черт возьми! Не в подтверждение инвалидности! Он просто избивал этой дубинкой народ! Я поняла это минуту спустя, когда «инвалид» сначала нащупал дубинкой мою ногу, а потом со всей своей «инвалидной» силой отдавил мне все пальцы.
— Вы что, с ума, что ли, сошли?! — от боли заорала я.
— Молодая, а никакого уважения к старикам! — воскликнула толстая тетка с болонкой на руках.
— Да он мне ногу своим костылем отдавил! — возмутилась я, пытаясь восстановить справедливость.
В самом начале очереди назревал скандал по другому поводу:
— Девушка, вы мне сдачу не сдали! Я дала десятку, а нитросорбид стоит пять рублей! Где сдача-то?!
— А эта девица у них все время сдачу не сдает! — откликнулась тетка с болонкой.
— А зачем? Лучше себе в карман положить! — взвизгнул «инвалид» с дубинкой.
— Девушка, я в который раз спрашиваю, у вас йодомарин есть? — нетерпеливо воскликнул пухлый мужик в кепке. — Она что, глухая? — злобно спросил он у длинной женщины в красном берете.
— А она, наверное, сама не знает, что у нее есть, а чего нет, — желчно отозвалась та.
— Я, между прочим, тоже стою только чтобы спросить, — укоризненно проговорила тетка с болонкой.
— Ну и стойте, раз вам время девать некуда, — рявкнул пухлый мужик.
— Да чего она там ковыряется-то! Сколько же можно, в конце концов! Ну и продавщица! — возмутилась «баскетболистка» в красном берете.
— Сколько стоит йодомарин?
— Верните мне мои пять рублей!
— А я инвалид первой группы! Меня вообще положено вне очереди обслуживать!
— А у меня сейчас собака обделается! Она не может столько терпеть!
Напряжение нарастало с каждой секундой, казалось, еще мгновение — и вся эта разъяренная толпа разобьет витрину и раздерет на части мою бедную подругу. Теперь я поняла, как свершилась революция в очереди за хлебом.
Я не знаю, что со мной произошло, но я совершенно безотчетно закричала:
— Да как вы можете себя так вести! Все — вы? Во-первых, эта бедная девушка, которая стоит за прилавком, не продавец! Она, к вашему сведению, чтобы работать в этой поганой аптеке с такими дураками, как вы, за копеечную зарплату, три года корячилась в фармацевтическом техникуме и лучше всех в своей группе умела скатывать свечи. А это занятие не из простых! И она не робот, — заорала я на пухлого мужика в кепке, — чтобы одновременно считать деньги, не ошибиться в правильности отпускаемого препарата, разъяснить той маразматической старухе, которая уже давно взяла сдачу и положила ее в кошелек, как ей принимать нитросорбид, доказывать, что она не воровка, слушать повизгивание собаки и при этом найти среди тысячи наименований ваш дурацкий йодомарин, назвать вам его цену и дозировку, потому что пока вы все это не узнаете, не успокоитесь! Ко всему прочему, у нее сегодня должен быть выходной!
Все в очереди замолкли и уставились на меня с большим изумлением, а я крикнула:
— Икки, ты уже и так переработала, иди, переодевайся! Тебе никто не оплатит те полдня, которые ты провела в обществе этих злых и жестоких людей!
— Так, что тут за шум? — Из подсобки вышла нескладная толстая девица.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОНЮЧКИ
Мы с Икки прозвали ее Вонючкой не только потому, что к ней невозможно было подойти. Даже находиться рядом с тем помещением, где она сидела у компьютера, заказывая с утра до вечера лекарственные препараты, было невыносимо! В ее присутствии на Икки нападал неудержимый чих, слезились глаза и закладывало нос. Видимо, Вонючка со времен раздевалки фармтехникума так и не узнала о существовании дезодорантов. Ездила она на работу в самый центр Москвы из города Видное, убивая на дорогу в общей сложности пять часов драгоценного времени; но, наверное, было нечто такое, ради чего она ежедневно проделывала такой путь. И дело было, судя по всему, не в том, что Вонючка тибрила призы, которые предназначались для покупателей. Она доходила до того, что отдирала от упаковок с памперсами приклеенные сверху подарочные трусики, хотя ее дочерям они вряд ли бы налезли.
Вонючка была нашей ровесницей, мылась один раз в неделю, как принято в деревнях, — о существовании шампуней она, вероятно, тоже не имела ни малейшего представления и мыла голову коричневым расслаивающимся хозяйственным мылом, отчего стрижка, которую она делала раз в квартал в парикмахерской для пенсионеров за 50 рублей, была очень похожа на ершик для унитаза. А ее круглое лицо чем-то отдаленно напоминало совиное (наверное, из-за носа — он у нее торчит клювом). Губ почти не видно — точно тонкая блекло-розовая нитка мулине; глазки маленькие, невыразительные, непонятного вымочаленного цвета, как и волосы.
— Ика, почему ты не можешь работать, как все?! Ты то суммы нам на чеках отбиваешь совершенно нереальные, то с покупателями скандалишь, то у тебя ноги болят! — отчитывала мою подругу эта топорная деревенщина. Нашу Икки, которая была в тысячу раз умнее и красивее Вонючки, которая писала маленькие трогательные рассказики, которая сама научилась играть на пианино и которая лучше всех в группе умела скатывать свечи! У меня сердце сжалось от Иккиного вида — она стояла перед Вонючкой, опустив голову.
Очередь затаив дыхание смотрела бесплатное представление. Еще через минуту вышла сама заведующая и тоже спросила:
— Что здесь происходит? Ну, понятно, раз Ика за прилавком, нечего и спрашивать, что случилось. Товарищи, пройдите, пожалуйста, к другой кассе. Вас там быстро обслужит наша девочка.
И толпа, как стадо коров, переместилась ко второй кассе, где их должна была быстро обслужить… Эту «девочку» мы с Икки прозвали Кургузая.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРГУЗОЙ
У Кургузой была удивительно странная фигура — как у крановщика: ее огромный торс жировыми складками свисал над узкой, почти незаметной задницей. Она вечно сидела на диете и постоянно ела макароны с хлебцами из пшеничной муки. Иногда покупала себе заливное в соседней забегаловке. Кургузая — тоже наша ровесница, но удивительно расторопная, наглая тетка: она всегда все знала, ничто не могло привести ее в замешательство, она быстро расправлялась с клиентами и все время открыто намекала Икки, что ей тоже не мешало бы похудеть, хотя у моей подруги идеальный вес: при росте метр шестьдесят четыре — пятьдесят четыре кг.
И Кургузой и Вонючке, как, впрочем, и всем в этом коллективе, разрешалось есть три раза в день. Икки же с треском отпускали только один раз.
— Клавдия Михайловна, мне уже пора уходить, — пролепетала Икки.
— Как это уходить? Смена еще не закончена!
— Но я предупреждала… Я и так уже к врачу опаздываю! — в отчаянии воскликнула Икки.
— Ты что, не можешь еще пару часов постоять?! Я что, мало для тебя сделала? — укоризненно спросила Клавдия Михайловна, и я тут же вспомнила тухлые просроченные кремы и витаминные сиропы, которыми заведующая одаривала Икки по большим праздникам. — Только что привезли товар, его нужно разобрать, промаркировать. Кто это будет Делать? Если ты сейчас уйдешь, мне придется встать за прилавок!
Кстати, маркировщицу Клавдия не брала умышленно и делила зарплату этой несуществующей штатной единицы на троих — часть Кургузой, часть Вонючке, часть себе.
— Но у меня вообще сегодня выходной! Я работаю вместо Дуси потому, что вы меня попросили. И я предупредила вас заранее, что могу выйти только на полдня.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДУСИ
Дуся — носатая крашеная блондинка с кривыми ногами и губами, постоянно выражающими недовольство. Салага — лет на пять младше нас. Глупая и властная. Обычно она говорит Икки тоном английской королевы: «Принеси-ка мне с кухни чай!» или «Стой у прилавка, а я разберу товар в подсобке», — уходит и часами треплется по телефону, называя своего дебильного Васю, который вот уж лет пять обещает на ней жениться, «любимый» или «котик». От этих ее телефонных разговоров можно с ума сойти.
«Любимый, — обычно говорит Дуся, — ты еще спишь? Ну, просыпайся, котик. Ты меня любишь? Нет, скажи. Нет, скажи! Я тебя тоже. Что тоже? Люблю тебя тоже! Нет, не ходи к Митричу без меня! Ты слышишь? Ну, коне-ечно, я приду, а вы уже невменяемые будете! Не ходи! Я тебя прошу! Скажи, что не пойдешь! Ну, ладно, иди, а я после работы сразу туда. Ты меня любишь? Не слышу. Ну, любишь? Я тебя тоже. Только не пейте ничего до меня. И пиво не пейте. Ну, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, только пиво. Ты меня любишь? Я тебя тоже. Ну, хорошо, иди, позавтракай. Нет, ты первый положи трубку! Нет, ты! Нет, ты!»
Что говорилось на том конце провода — об этом остается только догадываться.
Дуся часто прогуливала работу из-за бурных объяснений с «любимым» и, как правило, на следующий день приходила с фингалом под глазом и снова принималась ему названивать. Обычно после подобных разборок с «котиком» Дуся буквально утопала в словах любви, трепетно сжимая телефонную трубку.
— Иди! Иди! Клавдия Михайловна и товар разберет, и в отделе постоит, и вообще, отчего бы Клавдии Михайловне не заночевать в аптеке?! Легко! — воскликнула заведующая и тут, вдруг обратив на меня внимание, любезно спросила: — Девушка, вы что-то хотели?
И я увидела прямо перед собой монголоидную физиономию с черными злыми глазами, которые изо всех сил пытались мне улыбнуться.
— Нет-нет, я просто смотрю, — ответила я и тут же уткнулась в витрину, делая вид, что увлеченно ее разглядываю. Только через минуту я вдруг заметила, что стою у полки с презервативами. Наверное, со стороны я выглядела маньячкой — кто ж еще может с таким интересом разглядывать резиновое изделие № 2?! Однако каких тут только не было! И ребристые, и супертонкие, и с шипами, и с усиками! Да, наша медицина или резиновая промышленность (точно не знаю) продвинулась далеко вперед. Помню, когда Икки лет 11 назад перешла работать в неотапливаемую аптеку на Сретенке, она первые две недели не понимала, чего от нее требуют некоторые покупатели — особенно представители сильного пола не могли произнести это слово. Казалось, стоит им только сказать «презерватив», как их моментально разобьет паралич. Они заменяли его самыми разными синонимами. Например:
— Против детей.
— Кто против детей? — поначалу непонимающе и одновременно возмущенно вопрошала Икки.
Или:
— Ленточку.
— Галантерея за углом, — поясняла моя подруга.
Еще их называли резинками, предохранителями, изделием №2, но только не презервативами. Да это и понятно, ведь тогда еще, кажется, у нас в стране не было секса.
Наконец Икки вылетела из отдела в торговый зал. В очереди, которую должна была быстро обслужить Кургузая, не наблюдалось никаких изменений.
— Пошли скорее, — крикнула мне Икки.
— Да они, оказывается, вместе! — воскликнула толстая тетка с болонкой на руках. И вдруг все они — и инвалид первой группы с дубинкой, и «баскетболистка» в красном берете, и пухлый мужик в кепке — обернулись, как один, и зал наполнился возгласами:
— Две хамки!
— Молодые, да ранние!
— Гнать таких!
— Ика, мы тебе сегодняшний день не оплатим! Можешь не рассчитывать! — Это было последнее, что я услышала, потому что мы, как пробки из бутылок с теплым шампанским, выскочили на улицу.
Время было 16.45. Мы катастрофически опаздывали. Икки бежала впереди меня, одеваясь по дороге.
— Наконец-то мы вырвались из этого осиного гнезда, — заметила я и вздохнула полной грудью.
— Спасибо, конечно, что заступилась, но если бы ты пришла вовремя, мне бы удалось безболезненно улизнуть. Эта чертова очередь скопилась за минуту до твоего прихода, а до этого не было ни одного человека.
— Теперь тебя выгонят за скандал?
— Нет, опять, наверное, лишат премии.
— А почему за Дусю не могла Обезьяна поработать?
— Она уехала с мужем на стрельбище.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕЗЬЯНЫ
Обезьяна — сорокалетняя коллега Икки, худая, как будто всю жизнь провела не за спиной мужа, а в концлагере, подстриженная под «горшок», в очках и неестественно маленького роста. Она не любила работать и могла бы спокойно позволить себе сидеть дома, но не желала. Обезьяна постоянно доказывала себе и мужу, что способна на многое, и наивысшее удовольствие она находила в долгом и подробном объяснении, как применять то или иное лекарство, с чем оно совместимо, а с чем нет. Могла, к примеру, запросто не отпустить какой-нибудь плевый безрецептурный препарат, говоря при этом:
— Нечего заниматься самолечением.
А когда у нее покупали трихонол, Обезьяна всегда говорила одно и то же: что он несовместим с алкоголем.
У Обезьяны была своя клиентура. Бабки из близлежащих домов надо не надо ходили в ее смену и, принимая за врача, раболепно смотрели на нее, угощая залежалыми конфетами. Два или три мужика, помешанных на здоровье… Еще одна сумасшедшая климактерическая женщина всегда заходила к Обезьяне по пути в женскую консультацию и подробно и красочно рассказывала ей, где и что у нее зудит.
Обезьяна чувствовала себя профессором медицины, королевой аптеки, и это ей не могло не нравиться.
Очень было жаль Икки, и у меня в тот день зародилась мысль, как бы помочь своей невезучей, беспомощной подруге. Нужно найти ей другую работу, решила я, но Икки я лишь показала свое пятно от вишни на бежевом свитере, чтобы она не чувствовала себя несчастной в одиночку.
— Застегни пиджак; — посоветовала она, когда мы наконец сели в троллейбус.
— Он не сходится. 46-й размер. Когда я его покупала, думала еще похудеть, но теперь мне кажется, что я стремительно приближаюсь к 48-му. Если быть точной, у меня сейчас полный 47-й.
— Такого размера нет в природе.
— Вот именно.
— Слушай, знаешь, кого ты мне напоминаешь?
— Кого?
— Эту чумичку — Бриджит Джонс. Читала? У нее тоже все наперекосяк.
«Нет, это невозможно! Они точно все сговорились! Кто бы знал, как мне надоела эта Бриджит Джонс!» — возмущалась я в душе, но выражать свое недовольство не стала, а лишь спросила:
— Ты к Пульке-то ездила?
— Да, — упадническим голосом сказала Икки.
— И что? Все в порядке?
— У меня не может быть «все в порядке».
— Иди ты! — поразилась я.
— У меня кандидамикоз.
— Чего-чего? — переспросила я.
— Заболевание, вызванное дрожжеподобными грибами.
— Ничего не понимаю!
— Кандидоз. Вот чем наградил меня этот поганый сантехник!
— Это опасно?
— Неприятно, но не смертельно. Манька, а ты что, вообще ничем таким не болела? Ты что, даже не знаешь, что такое кандидоз?
— Болела. Молочницей, — вспомнила я.
— Тоже мне, болезнь!
— Как Пулька-то поживает?
— У нее теперь новый парень.
— Да ты что! Кто же?
— Анестезиолог.
— И ты его видела?
— Угу. Не знаю, что она в нем нашла — глаза круглые, знаешь, тупые какие-то, замутненные, как у теленка. Такое впечатление, что он сам все время под наркозом.
— Ну, это у нее ненадолго, — успокоила я Икки.
— Ненадолго, — задумчиво повторила она. — А у меня сегодня мамаша электрика вызвала.
— Хорошо, что тебя дома нет, — заметила я. Вообще-то это была мысль вслух.
— Это еще почему? — вдруг перешла в наступление Икки, и я тут же сменила тему:
— Твоя мамаша наконец захотела помыться?
Да нет, дело в том, что у нее заклинило замок в холодильнике, и она его никак не может открыть. Вчера раз пять бегала в магазин — ты ведь знаешь, она не может смотреть сериалы и не жевать.
— Удивительно, она столько ест и такая худая!
— Я где-то читала, что, если человек не поправляется, это значит, у него хороший обмен веществ.
— Но вообще, хочу заметить, странные у вас с мамашей отношения. Она что, не могла в твоем холодильнике порыскать?
— А там все равно ничего нет.
— Не понимаю, а электрик-то при чем?
— А кого еще-то вызывать? Снова сантехника? Этот хоть выключатель починит, а потом и замок посмотрит. Все-таки хорошо, что у мамаши замок заклинило, по крайней мере, может, хоть сегодня удастся вымыться при свете.
— Я всегда говорю, что во всем есть свои плюсы и минусы.
— Нет, не во всем. Какой плюс в том, что я заболела кандидозом?
— Зато ты увидела Пулькиного анестезиолога, — вдруг неожиданно пришло мне в голову.
— Вообще-то да. Наверное, ты права, если задуматься, то во всем можно найти свои плюсы и минусы.
17.20 — наконец-то мы на месте. Мы в нерешительности топчемся около кафе.
— Как ты думаешь, кто нас там ждет? — спросила я. Икки возвела глаза к небу и не ошиблась когда мы зашли внутрь, увидели одиноко сидящую у окна Анжелку.
Под столом виднелись ее толстые, упрямые ноги. Мне всегда казалось, что у Огурцовой самое главное — это ноги. И мозг, который у всех людей находится в голове, у нее расположен именно в ногах ими думает, она ими упирается, притоптывая, настаивает, она ими ведет всех туда, куда никому не надо. Порой я представляю Анжелку сплошными ногами без туловища и головы, может, оттого, что у нее слишком неразвитый торс, будто ей приставили его совершенно от другой женщины. Размер обуви у Огурцовой был 42-й (ноги поистине выдающиеся!), размер до того места, где, по идее, должна быть талия, — 56-й, а выше — 52-й.
Анжелка не заметила, как мы вошли — она поглощала пирожное с кремом, пытаясь подцепить его снизу своими странными пальцами. Странными, потому что они у нее были выгнуты наружу, а указательный и большой — напоминали пинцет (наверное, от игры на старинном щипковом русском инструменте — балалайке), которым она ухватывала все, что попадалось под руку.
— Наконец-то явились, не запылились! — воскликнула она, когда мы с Икки подошли к ней вплотную. Анжелке всегда хотелось выглядеть очень важной и серьезной, но при этом она пускала в ход глупые фразеологизмы времен детского сада. И она до сих пор еще не отучилась ругаться матом. Я давно это заметила: конечно, теперь Огурцова не произносила бранных слов, просто, когда злилась, она замолкала на минуту, плотно сжимая губы — как бы чего не вылетело. Вот и сейчас она замолчала и изо всех сил сдерживала за зубами нецензурные слова, а потом разразилась упреками: — Можно подумать, я среди вас самая свободная! У меня муж, ребенок, семья! — Это она всегда с гордостью подчеркивает. Я с таким трудом уговорила свекровь посидеть с Кузей! А вы… — Огурцова опять стиснула зубы.
— Анжел, ну не сердись. Мы ведь так давно не виделись! — примирительно залепетала я.
Не виделись с Огурцовой мы действительно давно — около трех месяцев, как раз после ее дня рождения, который она отмечала у меня дома. Анжелка никогда не приглашала нас к себе ни на именины, ни на дни рождения, а всегда умудрялась справить свои праздники у кого-нибудь из нас. Раньше она объясняла это тем, что у нее дома родители, а теперь — Михаил. Обычно она приходила ко мне или к Пульке на следующий день после пиршества с остатками пирогов, тортов и пирожных, собирала подарки и уходила. Так было и в этом году.
— Вот именно, что давно!
— Да мы вообще думали, что Икки с работы не отпустят! Я ее еле оттуда выцарапала!
Но Огурцова не слышала:
— А мне, между прочим, еще сегодня нужно к маме в церковь успеть зайти!
— Зачем?
— Привезли новое издание Дмитрия Ростовского «Жития святых».
— У вас же есть! — удивилась я. — В прошлом году, помню, брала читать.
— Ну, так то старое! Его теперь нужно обратно отволочь и поменять на новое! — воскликнула Анжела, открыто изумляясь моей тупости, но я все еще никак не могла понять, зачем старое издание нужно было менять на новое.
— Может, я, конечно, глупая, но ничего не понимаю! Что, там какие-то изменения или примечания другие?
Все то же самое. Просто нам под обои лучше подходит новое издание. Оно такого шоколадного цвета с золотыми буквами, а у мамы обои — беж с золотом.
— Вы что, теперь все книги будете менять? — возмутилась Икки.
— Как получится.
— Твои родители увлеклись книгами? — поинтересовалась я, но в этот момент в кафе вошла роскошная, стройная, длинноногая девица с длинными золотистыми волосами.
— Пулька! Ты такая, такая, такая!!! — восторженно воскликнула Икки и больше ничего не смогла сказать.
— Слушайте, по Москве совершенно невозможно ездить! — сетовала Пульхерия, обмахивая лицо бумажной салфеткой. — Сплошные пробки, проедешь два метра — и кипишь, стоишь! Потом искала место, где бы оставить машину. И машина барахлит. Короче, нужно новую покупать.
— Откуда это у тебя столько денег?! — вызывающе спросила Анжелка.
— Эту продам, добавлю и куплю.
— А ты что, на машине?.. — разочарованно проговорила Икки. — Зачем?
— Почему ничего не заказали? Кого ждем? А? — спросила Пулька.
Потому что все опоздали на полчаса, а я тут как… — Огурцова снова стиснула зубы. — Ладно, Девочки, давайте закажем чай с пирожными. — Анжела сменила гнев на милость — она отчего-то побаивалась Пульку, а может, мне только так кажется. Но все же между ними как-то произошел один неприятный инцидент. Пару лет назад Пульхерия порекомендовала ей хорошего врача, и уже было решено, что Огурцова будет рожать у Пулькиной знакомой. Но в самый последний момент вдруг все переменилось и закончилось тем, что Огурцова рожала в какой-то платной клинике, однако совершенно бесплатно, благодаря одной из многочисленных сестер во Христе — няньке-адвентистке, которая до сих пор, кажется, работает в этой самой дорогущей клинике.
— Может, закажем пива? — робко спросила Икки.
— Какого еще пива?! — взвизгнула Огурцова. — Что это за девушка, которая хлещет пиво! Ты меня удивляешь, Икки!
— Ну а что тут такого? — вступилась за подругу Пуля.
— А ты вообще за рулем!
— Скажи честно, ты совсем ничего не пьешь? Даже но праздникам? — удивилась Пулька.
— Нет, а к чему это надо?
— И Миша твой по праздникам не выпивает?
— Он обет дал три года назад и с тех пор ни-ни. Я его ни разу в жизни пьяным не видела!
— Странный он у тебя какой-то.
— Мой Михаил даже квас по праздникам не употребляет и не курит, — гордо заявила она и с презрением уставилась на дымящуюся Пулькину сигарету. — И вообще, я не понимаю, почему я, которая не курит, должна сидеть в зале для курящих и нюхать эту дрянь?
Мы с Икки тоже закурили, показывая тем самым Анжелке, что вопрос ее риторический.
Официант принес чай с пирожными. Огурцова подняла руку, словно собиралась официально поклясться на Библии. Этим жестом она потребовала тишины и принялась очень громко молиться — так, что парень за соседним столиком повернулся и долго и удивленно смотрел на нас широко раскрытыми глазами.
— На прошлой неделе к нам в отделение привезли по «Скорой» старушку. Жалобы на сильные боли внизу живота, — принялась рассказывать Пульхерия после страстной Анжелкиной молитвы. — На следующий день — утренний обход. И эта наша дура — Динка…
— Это такая маленькая, темненькая? — уточнила Огурцова.
— Вот именно, маленькая, темненькая. Так вот, Динка сначала узнает у этого божьего одуванчика, с какого та года — оказалось, с 18-го, потом спрашивает: «А месячные у вас регулярно ходят?» Старушка ей: «Дай бог памяти, голубушка, когда в последний раз были!» Оказалось, примерно в середине прошлого века. Так мало того, пока все ведущие врачи были на конференции в Варшаве, эта коновалиха прооперировала бедняжку.
— И что? — с замиранием сердца спросила Икки.
— Никто не давал ей согласия на эту операцию, а она исподтишка, пока никого не было, взяла и уморила старушку! Я все сделаю, чтобы эту идиотку уволили но статье! Спрашивается, зачем резать человека, которому почти 90 лет? У нее уже метастазы вовсю… Какой смысл? Состояние было запущенное! А бабуся могла бы еще года три прожить — у стариков опухоли развиваются очень медленно.
— И что? — едва сдерживая слезы, снова спросила Икки.
Ничего. Захожу я после командировки в палату — старушки нет. Один ее скромный узелочек с вещами висит на стуле, тросточка у кровати и гора газет. Она любила читать газеты. Я спрашиваю у народа, где старушка. А они мне: «В другое отделение перевели!» Это другое отделение — морг. Одинокая совсем бабулька была, даже никто за вещами не пришел. Я эту Динку уничтожу! Диплома ее лишу! — плача, выговорила Пуля.
И мы все заревели — все, кроме Анжелки.
— Нельзя так относиться к смерти. Этой старушке было дано испытание по грехам ее. Теперь она обрела вечный покой. Нечего так убиваться. А мстить нехорошо. Зачем человека диплома лишать?
— Какая же ты жестокая, Огурцова! — сквозь слезы выпалила я.
— Ничего я не жестокая! Это вы недалекие, надо в храм божий почаще ходить! И вообще, мы собрались для того, чтобы поплакать? Я еле уговорила свекровь посидеть с Кузей, а вы…
— Как Кузя-то? Прошел у него кашель? — шмыгая носом, спросила Пулька исключительно ради приличия и врачебного долга. И как это было с ее стороны легкомысленно!
Кашель прошел, — обстоятельно начала рассказывать Анжела, ухватив пальцами-пинцетом кремовую розочку, — но теперь новая беда — понос. Я не знаю, просто не знаю, что с ним делать! Всю прошлую неделю проторчали в поликлинике, потом купили на пять тысяч лекарств! Я не могу точно сказать, что у него, потому что сама я запомнить ничего не в состоянии — Михаил знает. Что-то не так с кишечной флорой. Сначала не было стула дня три, мы стали ему делать клизмы, а теперь он орет как резаный по ночам, на памперсах что-то зеленое… В небольших количествах, правда, но зеленое. Сегодня после клизмочки сходил тоже мало, но какого-то странного цвета — зелено-красного.
Я отодвинула подальше блюдце с пирожным, Икки тоже — судя по всему, ей тоже кусок в горло не лез, а Пулька злобно воскликнула:
— Да вы что, с ума сошли, клизмы-то ребенку каждый день делать! У него, наверное, геморрой, вот и кровь от этого!
— Ох! Как хорошо рассуждать, когда не имеешь собственных детей! Как легко давать советы. Никаких проблем и трудностей у вас у всех! — взбунтовалась Анжела и стиснула зубы. Вообще Анжелка всегда предъявляла нам до абсурда нелепые претензии по поводу Кузьмы — казалось, что в его рождении были виноваты только мы — ее подруги, а Михаил вообще не имел к этому факту никакого отношения. — Пеленки, памперсы, бессонные ночи! Мало того — вот уж две недели как у Кузьмы появилась одна жуткая привычка.
— Какая? — с нескрываемым любопытством спросила Икки.
— Он на прогулке залезает в лужу и вылавливает бычки, причем особенно радуется, когда находит целую сигарету, а потом тянет ее в рот и делает вид, что курит! Ужас!
— И как ты борешься с ранним курением сына? — поинтересовалась Пулька.
— Я его бью.
Мы переглянулись, помолчали минуту-другую — разговор как-то не складывался, и чтобы наконец прервать мучительное и угнетающее молчание, Икки пожаловалась:
— У меня жутко болят ноги. По-моему, у меня варикоз.
— Что ж ты хочешь, это профессиональное заболевание фармацевтов. Ты ведь целыми днями на ногах, — пояснила Пулька.
— А это вы видали?! — воскликнула Огурцова и выставила напоказ свою толстую упрямую ногу. — Вот!
Она задрала длинную «адвентистско-православную» юбку, и под самой коленкой я увидела нарост, очень напоминающий виноградную гроздь. «Вот они — мозги! Я всегда знала, что у нее мозги именно в ногах!» — подумала я.
— Что это? — спросила Икки.
— Варикоз, — с гордостью ответила Анжелка. Она запихнула в рот последний кусок пирожного, посмотрела на часы и сказала, что ей уже пора бежать менять книжки.
Огурцова помахала нам с улицы, и мы все облегченно вздохнули — показалось, даже воздух стал как-то чище, несмотря на сигаретный дым. И хоть Анжелка — наша подруга, но чем дальше, тем нам становится все тяжелее с ней общаться — интересы у нас совсем не соприкасаются: она не понимает нас, а мы ее. Кто тут виноват? И что нам теперь делать? Нет ответа на эти два извечных вопроса.
Мы с Икки уставились друг на друга. Через мгновение в наших глазах зажегся огонек. Потом блеснуло понимание, и мы в один голос крикнули:
— Официант, водки!
И зачем только мы заказали этот неженский напиток?! Ни я, ни Икки не любим водку, но, может, на нас так подействовало общение с нашей правильной во всех отношениях подругой, которая неожиданно устроила свою личную жизнь, и мы где-то в глубине души почувствовали себя ущербными обездоленными. Может, дал о себе знать скандал в аптеке. Может, Иккина болезнь или одиночество, которое все мы, оставшиеся за столом, испытываем в той или иной мере. Скорее всего все сразу.
Мы опрокинули с Икки по сто граммов: по телу разлилось тепло, в желудке приятно зажгло, а в голове чуть-чуть зашумело — так, что скандал в аптеке уже перестал казаться ужасом, Анжелкина жизнь — не таким уж раем, а Иккина болезнь — это сущий пустяк, все равно что насморк.
— И чего ты на машине притащилась? Тебе теперь и не выпить! — с сожалением заметила Икки.
— У меня завтра в 12 часов важная операция, я должна быть в форме.
— Нет, а вы заметили, у нашей Огурцовой совсем крыша едет? Она скоро с нами и встречаться не станет: видите ли, она не может нюхать сигаретный дым! — расходилась Икки. — А не она ли нас подсадила на эту дрянь? Праведница! «Как хорошо рассуждать, когда не имеешь собственных детей! Мой Михаил даже квас по праздникам не употребляет и не курит!» — передразнила она Анжелку. — По-моему, у них в семье единственный нормальный человек — это Кузя. По крайней мере, хоть бычки из луж собирает.
— Нет, но бить за это малыша! Она действительно умом тронулась! — возмутилась Пульхерия. — Есть же масса разных способов, чтобы отучить ребенка от вредной привычки!
— Например?
— Уговорами, просьбами, собственным примером.
— А можно палец ему перцем или горчицей намазать, чтобы не тянул в рот что попало. Мне всегда так бабушка делала, — заявила Икки.
— Ну, это тоже крайности. Хотя я согласна, это намного эффективнее, чем бить такую кроху.
— Да! А как же про то, что весь мир познания не стоит одной слезинки ребенка? — вспомнила я слова великого нашего Федора Михайловича.
— Да ну ее! Давайте лучше бедную одинокую старушонку помянем. Пусть ей земля будет пухом, — произнесла Икки, и мы не чокаясь помянули бабулю.
— Вот вы мне лучше скажите, почему одиноких мужиков называют холостяками, а если одинокая женщина, то обязательно разведенка?! Это несправедливо! — помолчав, ни с того ни с сего ввернула Икки.
Мы выпили еще по пятьдесят граммов, и я задумалась над замечанием Икки. Теперь оно казалось очень тонким и правильным.
— Действительно, разведенка как-то оскорбительно, в то время как холостяк — звучит гордо, — согласилась я.
— А, может, мы действительно убогие, одинокие разведенки? — печально спросила Икки. — А наша Анжелка самодостаточна и счастлива — у нее есть Михаил, который не курит и даже квас по праздникам не пьет, и Кузьма…
— Слушайте! Девчонки, а может, мы ей завидуем? — осенило вдруг меня. — Как стыдно, как это нехорошо. Завидуем и сами того не замечаем!
Чему завидовать-то? Смех, да и только! — прокричала Пулька. — Сыну, который в два года уже подбирает окурки на улице? Памперсам, пеленкам, бессонным ночам, поликлиникам, из которых она не вылезает по собственной дури, поносам, запорам, клизмам, вонючим носкам Михаила?! В чем ее счастье-то? Она, по-моему, теперь сама не рада, и, скорее, это она нам завидует, чем мы ей. Ни за что не отдам за это своей свободы!
— Точно! — Правда!
Воодушевились мы с Икки и хлопнули еще по пятьдесят граммов.
— Ну, а как же любовь? — наивно спросила Икки, пристально глядя на Пульку осоловелыми глазами.
— Какая любовь?! О чем ты говоришь! И кому? Любви нет, — категорично заявила Пульхерия. — Я-то уж это знаю наверняка. Например, вчера приходит один хмырь к жене — она на сохранении у нас лежит, а на лестнице его уже новая пассия поджидает, совсем девчонка — наверное, семнадцати лет-то еще не исполнилось. И все они такие! Все, без исключения!
— Ну, может, это его дочь? — предположила Икки.
— Ой! Я тебя умоляю! Дочь! Скажешь тоже!
— Но не все же такие, — все еще не сдавалась Икки.
— Не знаю, — задумалась я. И если бы не была влюблена в Кронского, то однозначно встала бы на сторону Пульки. — Знаю только одно — в таком большом городе, как Москва, очень трудно найти свою любовь. И не только любовь, а хоть кого-нибудь. Казалось бы, полно народу, но все суетятся, копошатся, всем некогда — не до любви.
— Накатим? — печально предложила Икки, и мы снова выпили.
Стало хорошо, и мы с Икки были почти счастливы, только Женьки рядом не хватало.
— Ты зря водку дуешь. Алкоголь несовместим с теми препаратами, которые я тебе выписала, — заметила Пулька.
— Посмотри-ка на нее, Мань! Она точно как наша Обезьяна: «Трихопол несовместим с алкоголем!»
— Твое дело, я тебя предупредила. Кстати, как твой сантехник поживает?
— Не напоминай мне о нем!
— А вчера у Иккиной мамаши заклинило замок в холодильнике, и она вызвала электрика, — проболталась я.
— Что это, теперь электрики замки чинят? Хотя сейчас все может быть. А у меня родители в Питер укатили. Все ребро Гоголя ищут. Им стало известно, что последний раз его видели именно в Санкт-Петербурге на какой-то квартире.
— Твои родители очень целеустремленные люди, — сказала я. — Они найдут ребро, я в этом уверена.
— За это нужно выпить, — твердо проговорила Икки.
— Да, выпьем за то, чтобы твои родители нашли ребро Гоголя и прославились! — поддержала я подругу.
И мы опрокинули еще по рюмке.
— А как твой анстзиог? — спросила я, морщась, — мой язык уже не выговаривал некоторых иноземных слов, но ум мне казался еще светлым.
— Девочки, хватит пить! Мне некогда вас сегодня развозить по домам.
— Не надо, не надо. Ойк, — икнула я, и мой локоть несколько раз соскользнул со стола.
— Не надо, — также благодушно повторила за мной Икки., — мы тут переночуем.
— Мы у меня дома сегодня встречаемся с анестезиологом.
— Как романтично! Прада, Мань? Свидание среди заспиртованных кистом и придатков. За это грех не выпить! Полную, полную наливай! — требовала Икки, я не сопротивлялась и налила нам по полной стопке.
— Слушай! А он не наркоман, этот твой… — Икки хотела было произнести «анестезиолог», но благоразумно нашла синоним, — врач?
— Да с чего ты взяла?
— Нет, это я так… Он мне показался странным, — промурлыкала Икки.
— Ну и что же. Пока меня это в нем привлекает.
— Прада! А давайте выпьем за то, что он, что в нем есть то, что тебя того… — невнятно предложила Икки, и я тут же согласилась.
Я продолжала еще что-то говорить, пытаясь казаться трезвой, но при этом испытывала странное чувство: как будто мой мозг тонул во мне, опускаясь все ниже и ниже. И вот, когда он плавал где-то на уровне вишневого пятна на свитере, мой организм выключился, а четверг для меня закончился. Я не помнила больше ровным счетом ничего. Этой ночью я не искала мучительно вход в лабиринт, а неожиданно для себя упала в черную, всепоглощающую бездну, заснув беспробудным, мертвецким сном. Утром же эта неизмеримая пропасть выплюнула меня обратно в реальность.
Реальность была страшной. Я лежала с закрытыми глазами, боясь их открыть. Я не знала, где я, что со мной случилось вчера вечером и вообще, у кого я дома и в чьей постели лежу. Мой мозг был белым листом бумаги, и эта неизвестность пугала меня больше всего.
Голова раскалывалась так, что я даже не могла и помыслить приподнять ее. Хотелось пить. Хоть глоток воды! Может, меня похитили средь бела дня и я долгое время бродила по пустыне, спасаясь от злодеев, потом потеряла сознание, а теперь лежу на больничной койке? Это, казалось, был самый хороший вариант. По крайней мере, я была бы не виновата в том, что меня украли. Я приоткрыла один глаз и увидела радужный плакат: «Дорогая, просыпайся, тебя ждут великие дела!» Нет, меня никто не похищал, я дома. Ну что ж, это тоже неплохо. А почему валяюсь под одеялом в джинсах и пиджаке? Боже, как болит голова! Ни за что сегодня не встану с кровати.
Вот оно — одиночество! Даже воды некому подать.
Дзз-дзззззз… Телефон! Нет! Нет! Нет! Моя бедная голова не выдержит этого пронзительного звука — она сейчас разлетится на тысячу мелких кусочков!
— Ну что, жива, хулиганка? — услышала я в трубке бодрый и насмешливый голос Пульки.
— Нету меня, — простонала я и хотела было уже нажать на рычаг, как подруга разразилась довольно обидными словами:
Вы с Икки — два сапога пара! Две идиотки! Знаете, что вы вчера вытворяли в кафе? С вами ходить — только позориться! Я больше никогда в жизни не пойду с вами в общественное заведение!
Я чувствовала, что наша компания теряет еще одного человека.
— Да что мы вытворяли?! Ничего такого из ряда вон выходящего я не помню, а раз не помню, значит, ничего и не было. Сидели спокойно за столиком, никому не мешали. Подумаешь, выпили немного лишнего! Ты прямо как чужая!
— Ха! Сидели они спокойно! Да вас теперь в это кафе на пушечный выстрел не подпустят! А раз ты ничего не помнишь, это значит, что у тебя провалы в памяти!
— Ой! Ну, если тебе так хочется мне все рассказать, говори — не томи. Ты ведь, как врач, должна понимать, в каком я теперь состоянии!
— Вы все требовали водки, потом выпили еще графин и вконец одурели. Вы ничего не соображали! Сначала придумали какую-то дурацкую игру — «У кого длиннее язык», придвинули стулья поближе к окну и стали всем прохожим показывать язык. Заметь, был час пик, народу было полно, а вы сидели в освещенном кафе. Так что ваши пьяные физиономии видело пол-Москвы.
Потом Икки приспичило станцевать танец живота. Она полчаса просила официанта завести какую-нибудь восточную музыку, он все отказывал, и тогда ты решила сама спеть «Ламбаду». Икки вскочила на стол как ошпаренная и принялась безобразно и пошло вихлять бедрами, снимая при этом с себя одежду. Ты орала во всю глотку и танцевала на стуле, потому что на столе для тебя не хватило места. В конце концов вас с позором выдворили из кафе, и за нами увязался какой-то хлюпик. Он сидел за соседним столиком. Я сказала, что, если он не отцепится от нас, можете добираться до дома сами, а Икки заявила, что без него она никуда не поедет и что я мешаю ее счастью. Но это еще цветочки. Надо было вас все-таки прямо там и бросить, но я, как верная подруга, решила доставить вас до дома и тем самым пожертвовала своим свиданием.
— Спасибо, Пулечка, ты настоящий друг. Я обязательно поступлю так же, когда ты нахрюкаешься, — горячо сказала я — мне было стыдно. Стыдно за все: и за игру «на самый длинный язык», и за танец на стуле, и за то, что меня видело полгорода. И, наконец, было ужасно неудобно, что из-за меня не получилось никакого романтического свидания у Пульки с анестезиологом среди заспиртованных кистом. Мне не хотелось жить и казалось, что я никогда больше не выйду на улицу, потому что все москвичи и гости столицы видели меня вчера вечером в непотребном виде. Но это действительно были еще цветочки.
После мы погрузились в Пулькину машину вместе с хлюпиком, который увязался за Икки в кафе, а по дороге я настоятельно попросила притормозить у аптеки «Лекарь Атлетов» — видимо, в мою дурную голову крепко засела мысль помочь своей бедной, невезучей подруге и во что бы то ни стало сорвать ее с работы.
В аптеке мы устроили настоящий дебош, хотя для того, чтобы Икки лишили премии, хватило бы и того факта, если бы мы просто показали там свои пьяные физиономии. Но этого нам, разгоряченным неженским напитком, показалось мало, и мы с Икки рассказали нескольким припозднившимся посетителям, что в этой аптеке их бессовестно обманывают, потому что Вонючка, Кургузая, а также женщина с монголоидной внешностью и злыми глазами делят между собой те призы и подарки, которые предназначены для покупателей. Мало того, они втридорога продают наркоманам учетные препараты.
Кургузая сначала посмеивалась, а потом, когда решила наконец узнать, кто же такие Вонючка, Кургузая и женщина с монголоидной внешностью и злыми глазами, изменилась в лице и ушла в подсобку вызывать милицию. Именно в этот кульминационный момент Пульке каким-то совершенно непостижимым образом удалось уволочь нас из аптеки. После чего она сначала избавилась от меня, а Икки так и оставила в подъезде наедине с хлюпиком.
— У нашей Икки — сплошные бзики! — заговорила Пулька рифмой. — Только что узнала — она отдалась вчерашнему слюнтяю из кафе прямо в парадном на широком подоконнике. Теперь ревет белугой! Я вчера долго умоляла ее этого не делать, но Икки ничего не желала слушать и кричала одно и то же: «Не мне одной болеть кандидозом! Мужикам надо мстить!» Я плюнула и поехала домой. Ну не держать же мне над ними свечку! Э-эх! Жаль, что я с вами не наклюкалась! Уж лучше быть невменяемой, чем развозить вас по домам, — закончила Пулька свой ужасающий рассказ, а я поняла, что у русских людей чувство зависти к пьяному человеку перевешивает всегда и при любых обстоятельствах.
— Слушай, а какой сегодня день? — встрепенулась я — смутное, нехорошее предчувствие закралось в мою болящую голову.
— Тридцать первое, пятница.
— Кошмар! — взвизгнула я. — У моей бабушки сегодня день рождения! Это катастрофа! Все, пока.
Значит, сегодня не удастся провести весь день в теплой, уютной постельке, значит, целый день придется натужно улыбаться всем подряд, изнемогая от головной боли. Нет, это выше моих сил!
И стоило мне только подумать об этом, как задребезжал домофон. Это, конечно же, была мама. Она появилась на пороге с сумками наперевес и воскликнула:
— Вот! И это вся моя жизнь! Постоянная мотня, сумки, кастрюли! Как я от этого устала! И когда меня наконец все оставят в покое!
Такое начало не предвещало ничего хорошего. Голова затрещала еще сильнее — каждое ее слово больно било молотком по темечку. Мама перевела дух, скользнула по мне взглядом и сказала:
— Молодец, что оделась.
— А что в сумках?
— Как что? Салаты для стола, жареный цыпленок, антрекоты — бабушка попросила ей сделать. Я с пяти утра у плиты! Когда мне там готовить?! Как все надоело! — снова повторила она и вгляделась в меня получше. — Что-то я не пойму, что ты на себя напялила? Ты что, собираешься поехать на день рождения в этом замызганном свитере и позорных штанах? — Мама принюхалась, у нее было нечеловеческое обоняние — собачье. — Да от тебя перегаром разит! Ты пила! Посмотри, на кого ты похожа!
Она подвела меня к зеркалу, и я увидела там… Я не знаю этого человека! Вот кого я там увидела. На меня смотрело круглое, опухшее, незнакомое лицо.
— Неужели это я? — сомневаясь, спросила я маму.
Казалось, мне ввели какой-то страшный аллерген и произошла необратимая реакция — моя физиономия превратилась в подушку. По-другому можно сказать: «Поднимите мне веки!»
— Ты настоящая идиотка! — не на шутку разозлилась мама. — Ну для кого я все делаю?! Для чего я договаривалась с Олимпиадой насчет Власика? Ты что думаешь, он клюнет на твою опухшую рожу?
— А я и не хочу, чтобы он клевал!
— Замолчи! Как мне все надоело! — в третий раз повторила она. — Меня замучили вы все — бабушка, ты, все! Мой день начинается с того, что я встаю с кровати, открываю дверь своей комнаты и размазываю кошачье дерьмо, потому что Кубик каждое утро валит кучу под дверью. Потом я выношу за ними поддоны, кормлю, драю полы, готовлю обед, снова выношу поддоны, вывожу глистов, блох, чищу уши, варю им кашу, снова подходит время кормежки, мытье посуды — и так целыми днями. Еще надо накормить Колю. А он кабы что есть не станет, ты это знаешь! У меня уже от рук ничего не осталось, я все время полоскаюсь в воде. Как ты можешь надо мной так издеваться!
— Ну тогда зачем ты подбираешь все новых и новых кошек?
— Я их люблю. Тебе этого не понять! Мне их жалко, и они, в отличие от тебя, благодарные существа! Не могу же я их бросить! Но сил у меня уже никаких нет! И еще бабушка — звонит и в самый последний момент просит приготовить ей настоящий антрекот. Садистка! Антрекот! Ты мне скажи, чем она его будет жевать?
— Она еще просила купить по дороге «Орбит».
У тебя что, «белочка» началась? Какой «Орбит»? Она потеряла все зубы в 27-м году прошлого столетия, когда заболела цингой во времена коллективизации!
— Ну, может, у нее десны окостенели, не знаю. Я как-то слышала про одну старушку, у которой в 114 лет выросли молочные зубы!
— Я тоже слышала. И все-таки, как ты могла так поступить?! Ты только взгляни на себя!
— Да я уже смотрела.
— И ты думаешь, что можешь понравиться Власу?! — Мама с пол-оборота заводилась.
— Не хочу я ему нравиться! — закричала я. — Мне надоело, что ты вечно подсовываешь мне каких-то недоделанных женихов! Меня это унижает! Как будто я сама не в состоянии никого найти! Я что, такая страшная? Я уродина?
— Да-а! Ты уже нашла-а! — смачно протянула она. — Целых три раза! Только вот интересно, где ты их откапывала — тех самых недоумков, за которых так стремительно выходила замуж!
— Кто бы говорил!
— Да! Я четыре раза выходила замуж, но не за таких шизиков, как ты! Да! У Николая Ивановича есть свои странности, но кто ж без недостатков?! Зато он для меня ничего не жалеет и котов любит не меньше меня. Самое страшное в мужике — это жадность, запомни! А у тебя, ты посмотри, — кого ни возьми! К примеру, первый твой — Славик, с которым ты прожила год. Я всегда говорила, что он от тебя гулял!
— Он не гулял! Я сама от него ушла!
Где пьянка, там и бабы! Богемный мальчик! Хронический алкоголик — вот кто он! А второй — Юрик! До сих пор не могу понять, зачем нужно было с ним расписываться, чтобы через две недели подать на развод?!
— Мы не сошлись характерами. Подумаешь!
— А раньше ты об этом не могла узнать? Никогда не забуду, как он подарил мне какой-то четырехтомник, когда ты нас с ним познакомила, а на следующий день забрал его обратно, сказав, что еще сам не дочитал! Скупердяй!
— Да, он оказался непригодным для семейной жизни — слишком экономный и придирчивый!
— Ага! А То лик — это ж вообще нонсенс! Мало того что дурак, еще и бездельник — ни копейки тебе не приносил. Только три года мне жаловался, какая ты несносная и как ему с тобой тяжело приходится. И он от тебя гулял! Они все от тебя гуляли! Может, только Юрик — исключение, просто не успел за две недели вашей совместной жизни никого себе найти! Так что позволь теперь мне устраивать твою личную жизнь!
— Позволь не позволить, — буркнула я. — Я повторяю, меня это унижает и оскорбляет! Все эти смотрины и попытки выдать меня замуж напоминают случку породистых клубных собак, которых закрывают в одной комнате в день овуляции у суки! — воскликнула я и неожиданно для себя заревела. Вообще-то я редко плачу, но, наверное, таким образом водка нашла выход.
— Ну, что за глупости, Манечка! Ну, какая случка! Ты вся на нервах, так нельзя. — Мама села рядом и обняла меня, отчего я завыла еще громче. — Бедная моя, наивная глупышка! Успокойся, а то еще и нос распухнет! Ну, перестань! И что ж тебе так не везет-то! — Мое тело сотрясалось от рыданий.
— Никто от меня не гуля-ял! — заливалась я.
— Конечно, не гулял! Это я со злости сказала, но согласись — все они были негодяями.
— У-у-у! — неопределенно протянула я. — Никуда я такая страшная не поеду, голова раскалывается, весь день буду лежа-ать.
— Нет, нет, нет! Это глупо. Иди в душ, а потом я из тебя в два счета сделаю красавицу. И не реви, а то ничего не получится. Хорошо еще, что я рано приехала и у нас есть время.
Я вышла из душа — мама ходила по квартире и срывала мои плакатики.
— Зачем ты это делаешь? Не смей! У меня нет времени писать новые!
— Что за бред! — воскликнула она и принялась читать объявления-памятки, которые только что сняла с входной двери: — «Выключи газ, воду, свет. Закрой окна», «Много пить нельзя — это меня деморализует», «Посмотри на обувь. Не от разных ли пар туфли?!» Ты — ненормальная? Что о тебе подумает Влас, когда прочитает эти бумажки? Он подумает, что ты алкоголичка и маразматичка! Я выбрала тебе самое лучшее платье, там, на кровати, вот колготы.
— Где ты их нашла? — поразилась я.
— Провалились за ящик. Иди, оденься и приведи себя в порядок. Они должны приехать через час.
На кровати лежало самое дурацкое платье из моего гардероба — я не надевала его ни разу. Оно было ужасного небесно-розового цвета, трикотажное, с широкими рукавами-воланами и такой же юбкой. В тот день, когда я его купила, у меня были месячные — естественно, я погорячилась.
— Ни за что не надену эту гадость!
— Прекрати! — грозно сказала мама. Мне стало наплевать, что надевать, и я последовала лозунгу, который выдвинули большевики в 1916 году по отношению к правительству во время Первой мировой войны: «Чем хуже, тем лучше». — И положи побольше румян! Пудру не забудь! Подкрась реснички! — выкрикивала она, наводя порядок в моей берлоге.
— Ну вот, совсем другое дело — хорошая девочка из приличной семьи! — обрадовалась она, увидев меня во всей красе. — Только не надо делать такую кислую физиономию.
— Голова болит, — проныла я, и тут взгляд мой упал на сумку с жареным цыпленком и салатами, из которой весело торчало горлышко бутылки шампанского.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Чем?
— Ты хочешь вылакать шампанское, чтобы встретить Власа полупьяной?
— Зато голова пройдет, и я не буду целый день мучиться! — выпалила я и тут же пожалела, что это сказала — сейчас на меня обрушится шквал упреков, и моя бедная голова разболится еще сильнее.
— Резонно, — вдруг сказала мама. — По дороге мы можем купить еще бутылку, все равно придется где-то останавливаться и покупать цветы. Но от тебя будет разить, как от винной бочки! Что подумает Олимпиада Ефремовна?!
— А ты меня решилась уморить?
«Моя судьба еще ли не плачевна?
Ах! Боже мой! Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!»
продекламировала я отрывок из любимого маминого произведения.
— Ладно. У тебя где-то был мускатный орех. Нужно найти, он отбивает запах спиртного.
В отличие от вчерашних поисков новых колют мускатный орех нашелся очень быстро, мама откупорила шампанское, и мы выпили за бабушкино здоровье.
— Вкусное, правда?
— Как бальзам на душу, — с наслаждением сказала я.
— Полусладкое.
— Я начала новый роман.
— Молодец. Слушай, поехали с нами в деревню, а? Возьмешь с собой компьютер, будешь работать на втором этаже. Тебе никто не помешает.
— Нет, мамочка, я дома привыкла.
— Да ну тебя! Почему ты так не любишь туда ездить?
— Ой! Я же забыла положить бабушкин подарок! — вспомнила я и побежала за ночной сорочкой.
— А я про открытку! На-ка, подпиши, — и мама достала из сумки огромную открытку, на которой был изображен ярко-желтый котенок с красным бантом. — Да, и захвати фотоаппарат, бабушку щелкнем.
— Но он такой старый, в помещении ничего не получится!
— Снимем на лестничной клетке — там светло. Мы допили шампанское, на душе стало легко, безмятежно, благостно, голова прошла, и было совершенно наплевать, что в этом платье я похожа на поросенка и что меня хотят выдать замуж за противного Власа.
Я нацарапала коротенькое поздравление, и тут задребезжал домофон. Мама сорвалась с места, заметалась, подлетела к телефону, от волнения перепутав его с домофоном. Я хохотала — мне теперь было море по колено.
— Да, Власик, открываю, Власик, — любезно проговорила она и нажала на кнопку. — Ну что ты ржешь! Выброси бутылку и запихни в рот мускат, И мне дай, бестолочь.
Через минуту в дверном проеме вырос он — тот, который двадцать лет назад целый месяц ходил за мной хвостом, ревновал к двоечникам с Крайнего Севера, раздражал своими скучными историями и плоскими анекдотами и уже тогда решил, что наша с ним личная жизнь устроена.
Сейчас, когда Влас находился в метре от меня, он показался мне каким-то другим — не таким, как в детстве, и не таким, каким я видела его совсем недавно в метро. Он был совсем чужим мне человеком — далеким-далеким от моей жизни, привязанностей. Он не знает и никогда не поймет ни моих проблем, ни переживаний, ни волнений. Он вообще никогда не будет способен понять, что меня может радовать или огорчать. Тот далекий июньский месяц, проведенный у моря, казался сном — будто его вовсе не было на самом деле.
Прошло так много времени с тех пор — целая жизнь — у него своя, у меня своя, и все это время мы прожили, не зная друг друга. Ну, может, не жизнь, а кусок жизни. Но сейчас все по-другому — не так, как тогда. Сейчас нам чуть больше тридцати, и мы переступили тот рубеж, который называется серединой жизни. Для нас уже начался тот суровый отсчет времени, который приближает людей к концу: время закрутилось быстрее — дни теперь бежали, словно часы, недели, как дни, а годы, как месяцы. Тогда, тем южным, знойным июнем все было наоборот: мы только начали свое движение к середине жизни, конца было не видно — он спрятался где-то за поворотом, дни тянулись так долго, что, казалось, месяц на море никогда не кончится. Было как-то легко и просто — я говорила Власу все, что в голову взбредет, не нужно было задумываться о словах, поступках, действиях…
— Добрый день, Полина Петровна, — скованно поприветствовал он мою маму. — Вы, наверное, Маша?
Господи, какой глупый вопрос! Неужели с тех пор я изменилась до неузнаваемости?
— Да, я Маша. Очень приятно познакомиться, — зачем-то ляпнула я и попыталась улыбнуться самой что ни на есть приветливой улыбкой.
— Бабушка ждет в машине. Так что если вы готовы, можем ехать, — сказал он официальным тоном.
Влас сегодня был одет в костюм бутылочного цвета и… Ужас! На нем были желтые ботинки точно такого же цвета, как котенок с бабушкиной открытки! Я согласна, на мне тоже было платье безобразного розового оттенка, но я-то влезла в него по принуждению, а его никто не мог заставить надеть ботинки такого пошлого цвета!
— Машенька! — воскликнула с заднего сиденья Олимпиада Ефремовна. — Здравствуй! Какая красавица стала! Садись вперед, рядом с Власиком, а Полечка со мной, мы тут пошепчемся. Читаю все твои книги, Маш! И как у тебя это все так ловко выходит! Только зачем ты сестру главной героини убиваешь в конце?.. Это в романе «Радости лета».
— Да я все думала, что бы с ней такое сделать — она как-то нехорошо вылезала из текста. А когда она умерла, все сразу встало на свои места.
Бабушка Власа захохотала, и машина тронулась с места. Олимпиада почти не изменилась с тех пор, как мы втроем (я, Власик и моя мама) ловили ее с поезда на южной трехминутной станции. Только волосы из русых превратились в соломенно-седые. А так — все то же: заливистый смех, больные ноги, круглое лицо с узкими, хитрыми глазками.
— Манечка, подпиши-ка мне свою книгу, — и она протянула мой самый отвратительный роман — «Роковой мужчина».
Я расписалась и отдала книгу обратно.
— Мань? Ты что ж ничего не написала-то?
— Почему? Я расписалась.
— Разве так писатели книги подписывают? — удивилась она, а Влас ухмыльнулся. — Надо что-то написать — ну пожелать, что ли!
И «Роковой мужчина» снова оказался у меня на коленях.
— Пожелать? — переспросила я. — Что же вам пожелать-то такого?
— Пожелай, чтобы у меня скоро-скоро родился правнук или правнучка.
Я написала пожелание под своим автографом и вручила «Рокового мужчину» Олимпиаде Ефремовне. Она нацепила очки и прочитала вслух:
— «Желаю, чтобы вы жили долго-долго. Автор». Ну, понятно, значит, правнуки появятся не скоро, — заключила она, а Влас снова покосился на меня и ухмыльнулся.
Мы остановились у супермаркета недалеко от бабушкиного дома, купили шампанского, букет гвоздик и тронулись дальше. Мне показалось, что мы едем целую вечность, и я поняла Пульку, которая вчера жаловалась, что по Москве совершенно невозможно ездить — сплошные пробки. К тому же бабушка живет в противоположном конце города, на окраине.
С заднего сиденья слышались тонкие намеки по поводу нашей с Власом будущей совместной жизни, он, то ухмыляясь, то удивляясь, косился в мою сторону, благостное действие шампанского прошло, и голова снова разболелась. Короче, когда мы позвонили в дверь виновницы торжества, я чувствовала себя выжатым лимоном.
Однако виновница открывать не торопилась. Мы позвонили еще раз и еще — ответа не было.
— Наверное, что-то случилось, — занервничала мама и достала запасные ключи.
… Бабушка стояла в ванной в чем мать родила и поливала себя водой из кувшина.
— Мам, ты с ума, что ли, сошла?!
— Ой! Кто это тут?
— Мы, — ответила мама. — Зачем ты в день рождения в ванну полезла? Я ведь тебя неделю назад мыла!
— Да хватит ерунду-то городить! Неделю назад!
Мама с бабушкой закрылись в ванной, Влас поволок Олимпиаду в комнату, я отправилась на кухню разгружать сумки.
Минут через пятнадцать стол был накрыт, вернее, это был не стол — стола у бабушки в комнате не было вовсе, зато был стул с большой доской. Бабушка в майке и панталонах (больше она надеть ничего не пожелала) вышла наконец из ванной в сопровождении мамы.
— Манечка, детка, ты что, так вот и приехала, без головы? — обеспокоенно спросила бабушка. — Надо было хоть платочек повязать!
— Да тепло еще на улице.
— Прямо тепло! С носа потекло, не май месяц! — заворчала она и вошла в комнату. — Липочка! Сколько ж мы с тобой не виделись! А это кто? — Она уставилась на Власа.
— Мой внук, Верунчик.
— Внук?! Власик! Какой ста-ал!
Олимпиаду с бабушкой связывали давняя дружба и прежняя совместная работа с умственно отсталыми детьми. Олимпиада была моложе своей наставницы и подруги на тринадцать лет. Она развалилась на диване, бабушка плюхнулась рядом, и они ни с того ни с сего захохотали. Мама и я разместились за «столом» на узких, шатких табуретах, а Влас балансировал на старом качающемся стуле.
Зожоры были категорически против новой мебели в бабушкиной комнате, а у них самих на стене висел переснятый на ксероксе календарь без картинок — листы были соединены скрепками, в центре проделана дырочка, через дырочку продернута черная резинка. И все это «художество» красовалось на ржавом мебельном гвоздике над тумбочкой. На тумбочке лежал сшитый собственными руками моего дяди кривой кошелек из кожзаменителя. И все это скопидомство при его-то капиталах!
Именинница рвала деснами антрекот и с удовольствием выслушивала поздравления. Наконец Дошла очередь до меня, и я вручила старушке открытку с ярко-желтым котенком. Она тут же схватила ее и принялась читать вслух — она всегда читала вслух письма и открытки.
— Дорогая наша Мисс… Чего?
— Надень очки или читай про себя, — посоветовала я.
— Верунчик, лучше надень очки, — попросила Олимпиада — ей хотелось узнать, что в открытке.
— Дорогая наша Мисс Двойная Бесконечность! — с выражением прочла она первую строку и тут же спросила: — А почему Двойная Бесконечность?
— Ну, тебе же 88 лет, а перевернутая горизонтально восьмерка обозначает бесконечность, — неохотно объяснила я. Влас посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся, а я подумала: «Не отвлекайся, а то сейчас со стула грохнешься».
— Дорогая наша Мисс Двойная Бесконечность! — начала заново бабушка. — Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни. Твои дочь Полина и внучка Маня.
— Ты чего написала-то? — шепотом спросила меня мама. — Какие успехи в труде, какая личная жизнь? Сдурела, что ли!
— А что, оригинально, — произнесла Олимпиада таким тоном, будто, разглядывая «Черный квадрат» Малевича, поняла то, что остальные до сих пор никак не могут понять.
Включите телевизор, там сейчас «Ералаш» идет, — потребовала бабушка. — Ой! Мне так нравится «Ералаш»! Вчера смотрела: один мальчик заходит в платный туалет. И уж так ему невтерпеж, так невтерпеж, а там тетка сидит и отсчитывает ему сдачу. И так долго отсчитывает! И вот мальчик в кабинку-то вошел и кричит ей оттуда: «А в МТС все входящие — бесплатно!» Я так смеялась, так смеялась! Липочка, ты смотришь «Ералаш»?
— Это не «Ералаш», а очередной рекламный ролик, — сказала я.
— Да? — удивилась виновница торжества.
— Надо бабушку сфотографировать, — напомнила мама.
— Но я еще не все подарила. Вот, ночная сорочка. — И я смущенно протянула узенький сверток.
— Ох! Красота-то какая! С кружавчиками! — воскликнула бабушка и тут же заявила: — Я хочу примерить! Власик, выйди! Я надену и позову тебя.
Мисс Двойная Бесконечность сдернула с себя майку и натянула белоснежную шелковую горочку с соблазнительным разрезом сбоку как раз до того уровня, где заканчивалось глубокое декольте на спине.
— Ты что ей купила? — прошептала мне на ухо мама. — Ты это купила в секс-шопе?
— Ну, как? — спросила бабушка. — По-моему, неплохо, да? Только длинновата.
— Не вздумай отрезать! — в ужасе воскликнула мама — хоть она и сказала, что я купила эту вещь в секс-шопе, она понимала толк в белье.
— А теперь фотографируйте меня! — потребовала бабушка.
— Нужно выйти на лестничную площадку, тут слишком темно, — сказала я.
— Мама, снимай ночнушку и оденься прилично.
— Нет! Хочу в обновке!
— Тебя там продует, ты ведь после ванны!
Не продует! Власик, помоги мне! — И бабушка рванула навстречу Власику. — Мне идет? Скажи?
— Очень, очень, — ответил он, едва сдерживая смех.
— Липочка, идем фотографироваться!
— Нет, Верунчик, я тебя тут подожду, мне тяжело вставать — ноги болят.
— Мама, оденься!
— Чего ты ко мне пристала!
— Ты простынешь, там сквозняк! Куда ты голая пошла?
— Ладно, дай платок, — и бабушка, покрыв голову и выдернув из вазы гвоздики, кинулась на лестничную клетку.
Я запечатлела ее стоящей около мусоропровода с букетом в руке, напряженно улыбающуюся.
И тут на площадке появился пушистый рыжий котенок. В одну секунду мама забыла о своей усталости, о том, что ей все надоели, о каждодневной куче под дверью, о блохах, глистах и даже о моем замужестве.
— Какая прелесть! — прошептала она. — Какой же ты хорошенький!
И глупый грязный котенок прямой наводкой пошел к ней.
— Тебя выбросили? Да? — спросила она котенка, беря на руки. — И что ж это за люди такие — заводят, а потом выбрасывают!
— Фу ты черт! — брезгливо взвизгнула бабушка. — Поля! Немедленно положи его на место! Гадость какая! Фу! Положи где взяла!
— Щаз! — сказала мама и прижала котенка к груди. — Я его забираю.
— Ты сдурела! — закричала бабушка своим властным голосом. — Тебе что, шестерых мало?
— Где шесть, там и семь, — не отступала мамаша.
— Если ты его возьмешь, я расскажу ей, что у тебя не шесть, а девятнадцать кошек, — прошептала я ей на ухо.
— Тогда я расскажу ей, что ты куришь, — шепнула она мне, и я тут же прикусила язык. Наверное, если бы у мамы не было кошек, бабушка давно знала бы, что я курю, а если б я не курила, она давно бы узнала об истинном количестве маминых пушистиков.
— Я прошу тебя, Поля, положи его на место, — серьезно сказала бабушка. — У меня сегодня день рождения, вот и не порть мне его.
Ну как же я его оставлю, скоро зима, он ведь не выживет! — не уступала та. — Слушай, Маня, а может, ты его возьмешь? У тебя ведь никого нет! Спаси хоть одну живую душу.
— Да перестань ты девочку глупостям-то учить! Не хватало, чтобы еще она дома зоопарк развела!
— Но я пишу, мне некогда, — замялась я.
— Правильно, Машенька! — горячо поддержала меня Мисс Бесконечность.
— Да я и не отдам его ей, у нее даже кактус на окне засох! — с укором воскликнула мама. И тут из квартиры вдруг донесся дикий грохот.
Мы все кинулись домой, распахнули дверь… Олимпиада сидела на кровати с растерянным и виноватым видом, на полу валялась перевернутая доска.
— Я потянулась за икрой, и стол опрокинулся, — оправдывалась Олимпиада.
Но больше всего меня поразило не это: на другой стороне доски оказался инкрустированный портрет Сергея Есенина. Когда-то, когда я была еще маленькой и дядя благосклонно называл меня «голландской соплей» или «глистой в корсете» и иногда угощал орешками, он увлекался инкрустацией, выжиганием по дереву, неплохо рисовал и любил Есенина. С годами он растерял все эти ценности и дошел до того, что приспособил портрет великого поэта бабушке вместо стола, на который она ежедневно проливала сладкий кофе, просыпала сахар, так, что кое-где намертво прилипли яичные скорлупки и крошки хлеба…
По полу был размазан салат оливье, из которого торчали обглоданные кости цыпленка; ваза закатилась под сервант, пустая бутылка из-под шампанского валялась посреди жареной картошки. Короче, комната стала похожа на картину П.А. Федотова «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик».
— Ничего, ничего, я сейчас все уберу, — сказала мама. Котенок быстро сообразил что к чему, спрыгнул с рук и принялся за недоеденный бабушкой антрекот.
Как раз в этот самый момент (момент поистине неподходящий) отчетливо послышалось звяканье ключей по ту сторону двери. Я, мама, Влас, бабушка стояли вокруг перевернутого стола, котенок сидел в центре, Олимпиада Ефремовна — на диване, и все мы с напряжением смотрели на дверь. Наконец она распахнулась, и на пороге появились Зожоры. Поистине это была немая сцена. С минуту они в изумлении глядели на нас, а мы на них. Дядя держал в руке три вялых тощих пиона и глазированный сырок в пакете — видимо, хотел поздравить мать.
— Сыночек! — подобострастно воскликнула Мисс Бесконечность и тем самым первая нарушила тишину. — Я знала, что ты приедешь!
— Что ж, если знала, молчала?! — неслышно, одними губами проговорила я.
Зожоры непонимающим взглядом смотрели на бардак в бабушкиной комнате.
— Жора, здравствуй! — прервала тяжелое молчание Олимпиада Ефремовна. — Это я перевернула стол, ты не волнуйся, мы сейчас уберем.
— Здрасьте, — процедил сквозь зубы «сынок», и они с Гузкой тут же скрылись в своей комнате.
— Ну, Поля, Маша, давайте-ка, собирайтесь! — властно прикрикнула бабушка, намекая на то, что день рождения окончен.
— Власик, поехали, — живо сказала Олимпиада Ефремовна.
— Нет-нет, Липочка, ты можешь остаться.
— Вот нелегкая-то принесла, — квохтала Гузка. — У нас своя семья, и нечего им тут делать!
Наконец мы сели в машину и отъехали от бабушкиного дома. Олимпиада теперь сидела впереди, мы с мамой сзади, котенок обнюхивал салон.
— Влас, довези нас до метро, пожалуйста, — попросила я.
— Влас всех развезет по домам, — распорядилась Олимпиада. — Сначала меня, тут недалеко.
— Она никогда меня не любила, она всегда любила только его, а мы с Маней нужны, только чтобы приехать помыть ее да подстричь ногти на ногах!
— Ну что ты, Верочка вас любит! Не говори ерунды! Жора, конечно, тяжелый человек, но не надо принимать все так близко к сердцу, — заступилась за подругу Олимпиада.
— Как бы мне его назвать? — задумчиво спросила мама — она совершенно успокоилась, взяв в руки теплый мохнатый комочек. — Это котик, я уже посмотрела.
— Не знаю, надо подумать. Может, Гриммельс-хаузен? — неуверенно предложила я.
— Да ну, это слишком длинно, он откликаться не будет. Нужно, чтобы в имени была шипящая буква. Вот у меня котов как зовут: Даша, Гоша, Миша ну и так далее…
— Не надо ему давать имя из церковного календаря, — воспротивилась я.
— Зря ты, Поля, его взяла. А вдруг у него лишай? — вмешалась Олимпиада Ефремовна.
— Да нет у него никакого лишая! — воскликнула мама — она на кошках, если так можно выразиться, собаку съела.
Пока мы думали, как назвать кота, незаметно выгрузили Олимпиаду Ефремовну, потом отвезли маму и, наконец, машина остановилась у моего подъезда.
— Спасибо, Влас.
— Да не за что, — проговорил он и замолчал.
— Я пойду, — не то спросила, не то сообщила я.
— Я тебя на «Тверской» ждал. Почему ты не приехала? — Я не ожидала, что он в этом признается, и чуть помедлила с ответом.
— Я не смогла, извини, а твоего телефона у меня нет. Так что предупредить не было возможности, — запинаясь, врала я.
— Возьми, — и он протянул мне визитную карточку: на глянцевой плотной бумаге было напечатано: «Андреев Влас Олегович. Генеральный директор „Автомаш“.
Ну, естественно, адрес и телефон.
— Какое у тебя платье завидное! — заметил Влас и едва заметно усмехнулся — он издевался.
— А у тебя ботинки. Ну, пока, пойду я.
— Угу.
И когда я оказалась дома, до меня неожиданно дошло (после «завидного платья» и после этого прощального «угу»), что у него точно так же, как и у меня, не было никакого желания заново знакомиться и тем более соединяться со мною узами брака. Он просто отвез свою дражайшую бабушку к подруге на день рождения, потому что слишком уважает ее и не может ни в чем отказать. Вот и все!
Мне стало ужасно неприятно, и, странно, после этого вывода я вдруг стала о нем думать: «Но ведь он ждал меня в метро. Зачем это ему? У него наверняка кто-то есть, в отличие от меня. А может, просто было интересно посмотреть на меня? И теперь, когда он увидел распухшую, отечную девицу, у него пропал ко мне весь интерес? И зачем только я напялила это розовое платье! Оно меня так полнит! Но тогда почему он мне дал свою визитку? Ничего не понимаю!»
Мои размышления прервал телефонный звонок. Это был Женька.
— Куда пропала, подруга? — прогнусавил он в телефонную трубку. — Тебя тут Икки обыскалась. У нее страшная депрессия, не хочет идти на работу, говорит: «Уволюсь».
— И правильно сделает!
— А где она работать будет?
Об этом я как-то не подумала с самого начала. Нужно было сначала подобрать что-нибудь и только потом срывать ее из аптеки.
— Послушай, Жень, а тебе не нужен литературный агент?
— А зачем он мне? Проценты платить за просто так? Может, тебе нужен?
— Не-а. Ну, как же ей помочь-то!
— Слушай, у нее ведь медицинское образование?! Так?
— Так.
— Вот пусть она к Пульке и идет работать! — обрадовался Женька — ему показалось, что он придумал нечто гениальное.
— Кем? Она ведь фармацевт, а не сестра-акушерка!
— Да, проблема. Надо ей было на медсестру обучаться…
Овечкин был хорошим человеком — добрым и отзывчивым, но порой говорил такие глупые вещи, которые могли вывести из себя кого угодно. У него была одна особенность, которая меня раздражала, — мечтать по-пустому и постоянно говорить о том, что при своем таланте он зарабатывает слишком мало денег. Вот и теперь он пустился в бестолковые рассуждения, что было бы, если бы Икки была медсестрой, а не фармацевтом:
— Знаешь, сколько сейчас сиделки зарабатывают? Сто долларов в час! А если бы она была пластическим хирургом, то это вообще… Золотое дно!
— Жень, ну хватит! — раздраженно воскликнула я. — Человеку помочь надо, а ты опять за свое!
— Ну а что, представь, если б она пластическим хирургом была?! Или стоматологом! Они тоже хорошо зарабатывают. Уехала бы в Израиль…
— Почему в Израиль? С какой стати ей туда ехать? Каким образом? — почти кричала я.
— Ну, вышла бы замуж и уехала бы, и там стоматологом работала! Или была бы художником, уехала бы в Америку и продавала бы там свои картины. Я слышал, там за это неплохо платят. Главное — жилу найти.
— Жень, до свидания. Ты не можешь ничего придумать, а я сегодня слишком устала, чтобы выслушивать твой бред.
— Да ладно, я чего-нибудь придумаю. Без работы не останется. А где ты была-то? Тебя замуж еще не выдали?
И я рассказала ему все: и про перевернутый «стол», и про Зожоров, а главное, про Власа и его «угу».
— Представляешь, даже ему я показалась толстой! Что же говорить о Кронском! Он не обратит на меня никакого внимания. Я не знаю, что делать!
— Начни бегать по утрам, — предложил Овечкин.
— Я ненавижу бег и вообще спорт. Я могу только плавать.
— Да, наверное, ты и не сможешь бегать. Тебе будет больно.
— Чего? — не поняла я.
— Ну, у тебя грудь, я бы сказал, немаленькая. Она будет колыхаться, и тебе, наверное, будет больно.
— Все, пока, — сказала я, но совсем на него не обиделась. Я знаю, многие, очень многие мечтают, быть может, чтобы у них была такая же грудь, как у меня, но я считаю, что из-за нее я кажусь еще толще. И если б мне это сказал кто-то другой, я бы оскорбилась, но из уст Овечкина это звучало просто-напросто детским лепетом.
— А может, тебе начать в бассейн ходить? — не унимался он.
— Жень, до свидания. Я устала сегодня.
— Ну, давай, — нехотя попрощался он.
Потом я написала заново сорванные мамой объявления-памятки — уж пусть лучше Влас думает, что я алкоголичка и маразматичка, чем я забуду выключить газ или снова выйду на улицу в разных туфлях!
Потом я решила позвонить Икки и хоть как-то ее утешить. Однако сделать это было невозможно (она совсем меня не слушала, а только рыдала в трубку, периодически выкрикивая, что теперь в аптеке ее загрызут и ей ничего не остается сделать, как повеситься на люстре). Закончив разговор, я тут же нырнула под одеяло, радуясь, что этот ненормальный день закончился.
Теперь-то уж я не буду такой недотепой! Мне надоело выходить из дома в разных туфлях, в свитерах с вишневыми пятнами на груди. Я надеялась увидеть в понедельник героя своего романа и поэтому, чтобы не ударить лицом в грязь, начала чистить перышки с субботы.
Боже! Как я запущена! Двух дней едва ли хватит, чтобы привести себя в порядок. Чтобы ничего не забыть, я все записала на листочек:
1. Ничего не есть (нужно сбросить хотя бы пару килограммов).
2. Покрасить голову.
3. Сделать маникюр на руках (и на всякий случай на ногах).
4. Перемерить весь свой гардероб и приготовить что надеть. Что не нужно, запихнуть обратно, чтобы по ошибке не нацепить.
5. Подвергнуть себя экзекуции и вывести на ногах волосы.
6. Накрутиться на бигуди или не надо? Не знаю.
7. Сделать маску лица (может, даже две).
И все-таки я наверняка что-то забыла. Определенно, забыла, но может, вспомню?..
Итак, я готовилась к встрече с моим героем все выходные напролет. Я была страшно занята и ощущала давно забытое чувство — словно я нечаянно проглотила батарейку. Я суетилась, металась по квартире, руки дрожали, ступни были ледяными, а внутри все клокотало и переворачивалось от мысли о том, что я его увижу.
Вспомнила! Я вспомнила, что забыла! Это ведь самое главное:
8. Не терять самообладания.
9. Соблюдать дистанцию.
10. Не вешаться на шею.
В понедельник днем я вышла из дома, похудевшая ровно на 2 кг и скрипящая от чистоты, лосьонов и масок; волосы блестели, ногти мне все-таки удалось накрасить (правда, с третьего раза)… Может, с одеждой я несколько переборщила — оделась так, как будто собралась в театр средь бела дня: черная длинная юбка с разрезом (по крайней мере, видна хотя бы одна моя красивая нога), шикарный приталенный пиджак из лайки (наверное, единственная приличная вещь в моем гардеробе) и туфли на шпильках, за счет которых я совсем не смотрелась толстой.
На меня глазели прохожие, и сегодня я была уверена, что они действительно любуются мною, а не высматривают вишневое пятно на свитере.
Я приехала в редакцию в 13.00, пробралась на нужный этаж и битый час поджидала Кронского на лестнице, делая вид, что перекуриваю.
14.00. Герой моего романа еще не появился. Я могла бы уже давно забрать авторские экземпляры книги, приехать домой и заняться делом. А сейчас от зверского количества выкуренных сигарет и голода у меня раскалывается голова и темнеет в глазах.
14.30. Кронского еще нет, а я все стою на лестнице и курю. Может, он уже уехал и я теряю время? Нет, это невозможно! Для кого тогда я так старалась все выходные? Для чего подвергала себя экзекуции и выводила волосы на ногах?
15.00. Его нет. Я в отчаянии швырнула бычок в урну и отправилась за авторскими экземплярами, чуть не плача от обиды и несправедливости.
Я даже спрашивать о нем у Любочки не стала — правда, очень хотелось, так и подмывало, но я помнила о восьмом и девятом пунктах своего списка: о потере самообладания и соблюдении дистанции. Я запихнула книжки в сумку и вылетела на лестницу — урна с моим бычком слабо дымилась. Что же делать? Что делать?! Я чувствовала себя виновницей разгоравшегося пожара, бросила сумку на пол и принялась плевать на тлеющий мусор, пытаясь попасть на свой проклятый окурок. Глаза слезились, а из урны валил дым.
— Черт! Черт! Черт! — выругалась я и, задрав над урной ногу, хотела было уже предотвратить пожар шпилькой собственной туфли, как услышала за спиной знакомый хрипловатый голос.
— Что это вы тут делаете, а, прелестница?!
Я обернулась и увидела его — высокого, стройного, с зачесанными назад волнистыми волосами, в черной рубашке с несколькими расстегнутыми верхними пуговицами, в обтягивающих кожаных брюках… У меня закружилась голова — то ли от едкого дыма, то ли от вида моего героя.
Нужно немедленно ему что-нибудь ответить — что-то умное и загадочное, иначе все, я его потеряю навсегда, и мне ничего не останется, как повеситься на люстре. В голову, как назло, ничего не лезло, да и что я могла ему сказать, стоя на одной ноге, как цапля.
— Книги! Мои книги! — неожиданно для себя воскликнула я, глядя на разбросанные по полу авторские экземпляры.
— Ваши книги?! — Он, кажется, был удивлен. — А вы что, тоже писатель?
— Ну, да, — растерялась я.
Он собрал книжки и твердо сказал:
— Пойдемте, я вас провожу до первого этажа. Не тащить же вам такую тяжесть!
— А… Тут… Ведь может быть пожар… — заикаясь, пролепетала я.
— Они этого не допустят.
Когда мы добрели до первого этажа, выяснилось, что у меня нет машины и он не может допустить, чтобы такая очаровательная девушка тащила сама эти кирпичи.
— Но вас ведь ждут, наверное, — сказала я — у меня пока получалось не терять самообладания, соблюдать дистанцию и не вешаться на шею.
Подождут, — пренебрежительно ответил он и усадил меня в машину.
В этот момент я витала где-то в небесах и не верила своему счастью. Мне казалось, что в своем лабиринте сна я наткнулась на самый лучший, который только можно придумать, что он сейчас оборвется и я снова увижу радужный дурацкий плакатик: «Дорогая, просыпайся, тебя ждут великие дела!» Однако этого не происходило (наверное, снова не могу найти выход).
Пока мы ехали, я находилась в полуобморочном состоянии, поэтому даже не помню, о чем мы с ним говорили, но то, что мы разговаривали, — это точно. Я еще чем-то насмешила его, это я помню, потому что теперь знаю, как он заразительно смеется. В себя я пришла, когда машина остановилась у моего дома. И тут произошло такое! Такое! Короче говоря, именно в эту минуту я напрочь забыла о восьмом, девятом и десятом пунктах, то есть «не терять самообладания, соблюдать дистанцию и не вешаться на шею». Но если честно, я в этом совершенно не виновата. Хотя, наверное, приличная девушка принялась бы отбиваться — вот мой просчет, моя ошибка.
Итак, когда машина остановилась, он посмотрел на меня очень серьезно и внимательно — и вдруг как накинется на меня!
Он буквально вдавил меня в дверцу и… поцеловал. Поцелуй этот был таким долгим, таким неожиданным, таким непохожим на все предыдущие, будто я вкусила приторного, ароматного меда, отчего вся онемела и чуть было окончательно не потеряла рассудок.
Нет, никакого просчета и ошибки с моей стороны тут не было. Ну какая бы девушка стала отбиваться? Только ненормальная.
Я сидела совсем отупевшая, мимо проходила какая-то старуха в зимней шапке и остановилась посмотреть, как мы целуемся. Мне стало не по себе. Старуха отвела от нас мутный взгляд, плюнула и пошла дальше.
— Может, подниметесь ко мне, донесете книжки? — сказала я — вот здесь я точно потеряла самообладание и определенно стала вешаться на шею. Зря это. Очень напрасно.
Книжки-то он донес, но домой ко мне так и не зашел — сказал, что поедет в редакцию посмотреть на пожар, а мне позвонит как-нибудь на днях. Да уж, позвонит! Он потерял ко мне всякий интерес, как только я пригласила его к себе. Теперь он считает меня доступной и совсем не таинственной. Все рухнуло в одну секунду! Столько сил было затрачено, чтобы хоть как-то обратить его внимание на свою скромную персону, а потом все испортить! Правильно все говорят, что я чокнутая! Но зачем же он меня тогда поцеловал?..
У меня и у Икки все было просто ужасно — хуже, кажется, некуда.
Я целыми днями ждала звонка Кронского и не могла выйти из дома, потому что дала ему только домашний телефон — тогда, в машине, вдавленная в дверцу, я совсем забыла, что у меня есть мобильник. Я старалась ни с кем не разговаривать, боясь, что он позвонит, а у меня будет занята линия. Я мылась в душе с открытой дверью под тонкой струйкой, опасаясь, что не услышу звонка. И вместо того чтобы писать роман об убийстве на рассвете, я подолгу сидела и гипнотизировала телефон, так, что глаза от напряжения становились красными. Мне казалось, что таким образом я телепатически передаю свое желание — свою энергию любви. Но эта энергия почему-то передавалась всем, кроме моего героя.
Периодически звонил Женька и, успокаивая меня, гнусавил в трубку:
— Ну что ты сидишь, как затворница! Пошли хоть по магазинам прошвырнемся, к лифчикам приценимся.
— Ни за что! — категорично кричала я.
— Не понимаешь ты психологию мужиков, — назидательно говорил он. — Вот если он позвонит, а тебя дома нет, это его заденет, заинтригует. И у него появится спортивный интерес до тебя дозвониться. Азарт, понимаешь?
— Ни за что! — стояла я на своем, хотя знала, что Овечкин прав на сто процентов.
Пульхерия звонила не так часто — ее всецело поглотил роман с анестезиологом. Родители у нее были в отъезде (ребро Гоголя, судя по всему, все еще не найдено), и мне даже казалось, что Пулька заразилась от него (как бы это получше выразиться) — короче, стала вся какая-то непонятная и туманная, точно страстная любительница опиума. Я решила, что она наконец-то влюбилась, а когда сказала ей об этом — туман мгновенно спал, и она закричала, что никогда и ни в кого не влюбится.
Последний звонок Пульки сразил меня наповал. Она сообщила мне потрясающую новость и попросила никому не говорить под страхом смерти.
Однако уже к вечеру эту новость знали все члены нашего содружества, хотя я к этому не приложила ни малейшего усилия. А новость была такова: Анжелка Поликуткина (в девичестве Огурцова) опять была беременна и собиралась рожать. Пулька намекнула ей на аборт, но та взревела в религиозном экстазе:
— Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь!»
Но на самом деле все было куда приземленнее высоких «православных принципов». Дело в том, что Анжела с Кузей прописаны в хрущевке, которая не сегодня завтра пойдет на снос, и ей просто необходим еще один ребенок, чтобы получить квартиру побольше.
Икки звонила чаще всех. Ее положение, пожалуй, было еще хуже моего, несмотря на то что кан-дидоз она с горем пополам вылечила. Самым ужасным была травля в аптеке. Помимо того что ее де-премировали, ей еще объявили бойкот. Но бойкот этот был какой-то странный — только на пятьдесят процентов. Сотрудницы скупо разговаривали, если им было от нее что-то нужно, но когда подходило время обеда и Икки просила подменить ее, этого никто не слышал — будь то Кургузая, Вонючка, Обезьяна, Дуся или Женщина с монголоидной внешностью и злыми глазами. Они делали вид, что или страшно заняты, или вдруг разом все оглохли и ослепли. Одним словом, в такие минуты Икки превращалась для них в человека-невидимку. Но стоило ей только выйти из подсобки, нет — не так — она даже не успевала выйти из подсобки, как за спиной слышался гнусный шепоток, напоминающий змеиное шипение: «Алкоголич-ч-чка подз-забор-рная. А с-с виду так-кая прилич-чная, так-кая тих-хоня. И не подумаеш-шь… Было бы кому работать, не задумываясь уволила ее по статье!» Последняя фраза говорилась уже во весь голос, потому как женщина с монголоидной внешностью и злыми глазами думала, что Икки давно стоит за прилавком и ничего не слышит. Но не тут-то было! В конце концов Иккино терпение лопнуло: она без разрешения покинула свой пост, села в уголок и написала заявление об уходе. Это ее действие произвело неописуемый эффект на коллектив аптеки «Лекарь Атлетов»:
— Да как ты можешь! Мы тебя не отпустим!
— У нас и так кадров не хватает!
— Уже начались простуды, скоро грипп пойдет! Как мы тут справляться-то будем?!
— Ищи себе замену!
Тогда Икки, которая умеет очень долго терпеть, взорвалась подобно атомной бомбе.
— При взрыве освободилось огромное количество ядерной энергии, — констатировала она, забежав ко мне вечером. — Взрыв вызвал большие разрушения и огромные человеческие жертвы.
А дело было так.
Икки вдруг впервые повысила голос и дала отпор всему этому осиному гнезду:
— Как я могу отсюда уйти? «Легко»! Не отпустите? Кишка тонка! Замену себе найти? Фиг вам! Как вы тут без меня справляться будете — мне наплевать! Кадров у вас не хватает? Конечно, где вы еще найдете такую дурочку, как я? Я здесь одна за голую зарплату работаю! И без премий, между прочим! А у вас тут у каждой свой интерес есть! Знаю я все ваши делишки. Вот поеду в офис и все расскажу!
О чем конкретно собиралась поведать Икки в офисе, ни Вонючка, которая отрывала подарочные трусики от упаковок с памперсами, ни Кургузая, которая постепенно вывозила аптечную мебель перед грядущим ремонтом «Лекаря Атлетова», ни Дуся, которая отпускала снотворные таблетки за взятки, ни Обезьяна, которая консультировала народ о совместимости и несовместимости препаратов, выуживая дорогие подарки с населения, ни женщина с монголоидной внешностью и злыми глазами, которая вовсю спекулировала учетными препаратами, не знали. И поэтому все они очень даже испугались. Заведующая со злостью подписала заявление, и началось недельное мытарство Икки.
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Получить расчет и уволиться из «Лекаря Атлетова» оказалось не так-то просто. Для начала нужно было получить «обходной лист», который должны были подписать все сотрудники осиного гнезда — мол, претензий не имеем в том смысле, что Икки не воровка. Подписать его якобы забыли, и Икки принялась добросовестно «обходить» те пункты, которые были указаны в листе.
Она, как нормальный человек, отправилась в офис за трудовой книжкой и расчетом. Проторчав там целый день, узнала, что никто ей ничего не Даст, пока она не отвезет спецодежду на окраину города.
На следующий день Икки поехала на окраину города, однако спецодежду не приняли, потому что в конторе забыли расписаться в обходном листе.
На третий день она снова поехала в офис. Попала в обеденный перерыв и битый час мерзла на улице, пока он не закончился.
— В том дворике, — рассказывала Икки, — ходят не люди, а сплошные толстые кошельки, набитые деньгами! А машины! Ты бы видела, какие у них там машины стоят!
В конторе ей сказали, что ничего не подпишут. Пусть едет в свою аптеку, чтобы получить подписи от каждого члена коллектива.
Это затянулось еще на два дня, потому что поймать сразу всех «бойкотисток» не представлялось никакой возможности — работа ведь посменная.
И когда вконец измотанная бедная моя подруга получила все «закорючки», сдала форму и приехала за расчетом, то получила такую смехотворную сумму за месяц работы (а работала она почти без выходных из-за сложных отношений Дуси со своим «котиком»), которой хватило бы только на пять пачек изделия № 2.
И вот теперь моя подруга сидит без работы и без денег. Меня мучают угрызения совести. А Женька звонит и предлагает «работу»:
— Может, ей сценарий написать?
— Ну, какой сценарий! Человек никогда этим не занимался! — возмущалась я.
— Научится. Чего там сложного-то. А может, ей пойти стриптизершей поработать, я слышал, ей хорошо танец живота удается! Или фильм, что ль, ей попробовать снять? Жаль, она не режиссер, но там тоже ничего сложного нет. В два счета можно научиться. Слушай! А что, если ей китайский язык начать учить? Будет переводчиком с китайского — это сейчас очень ценится.
— Овечкин, ты же знаешь, я не могу занимать телефон — я жду звонка.
— Можно подумать, ты одна страдаешь от неразделенной любви. Я, между прочим, тоже влюбился!
— В кого?
— У тебя есть последний номер «Литобра»?
— Да, кажется, был, только я его еще не раскрывала.
— Ну так раскрой! Страница 41! — нетерпеливо воскликнул он.
Я нашла журнал и принялась листать — ужасно интересно, по кому теперь сохнет Женька! Нашла. На 40-й странице были столбики текста, а на 41-й… Боже мой! Меня будто кипятком ошпарили — во всей красе, закинув ногу на ногу, в кожаном кресле сидел Кронскии и смотрел мне прямо в глаза, а сверху заголовок: «Лучшие люди нашего времени».
— Ну, что ты там замолчала-то? Нашла? Видишь, мужик в белом костюме в кресле сидит?! Я погиб! Я влюбился. И это надолго.
— Я т-тоже, — заикаясь, сказала я.
— Чего, тебе тоже нравится?
— Овечкин, ты совсем обалдел! Это же Кронскии! Ты бы хоть статью прочитал!
— А статья совсем не о нем, статья о трудностях перевода с китайского языка на русский, — мне показалось, что до него еще ничего не дошло.
— Овечкин! Я целую вечность жду от него звонка, стараюсь не занимать телефон, не хожу с тобой лифчиками любоваться, не ем, не сплю, а ты, видите ли, влюбился!
— Так это и есть твоя неразделенная любовь?
И он тебя целовал? — Овечкин, казалось, был разочарован.
— Целовал! И еще как целовал!
— А к мужскому полу он совсем равнодушен? — Надежда еще звучала в его потухшем голосе, но чувствовалось, она была последней. Совершенно! — крикнула я и бросила трубку.
Не знаю почему, но я была в ярости, хотя хорошо знала о любви Овечкина к мужчинам. Он влюблялся только в фотографии, и дальше этого дело не доходило. Но почему он влюбился именно в того же, в кого и я? Мало фотографий, что ли?
Да еще звонила Мисс Бесконечность. Правда, по приезде Зожор звонить она стала значительно реже и могла не объявляться по два дня, удивленно вопрошая:
— А что, мы разве с тобой не разговаривали? В день рождения, когда мы второпях убегали от «сыночка», Гузки и опрокинутого «стола», я забыла взять ее роман, и она решила прочесть мне свою «эпопею» по телефону.
— Начало. Мои воспоминания! — продекламировала бабушка. — Откуда идут корни? А идут они из Владимирской губернии, села Судогда, — взвизгнула она и продолжала: — Мама Анна Алексеевна и дедушка Петр Ильич жили очень бедно…
— Петр Ильич — твой отец, — поправила я ее.
— Какой отец! Это мой дед! Будешь мне еще указывать!
— Да-а, все смешалось в доме Облонских.
Не перебивай! Жили очень бедно. Семья большая — одних парней пять человек. Прошло время. — Она сделала многозначительную паузу и продолжала. — Как семья оказалась в Москве? Дедушка подрабатывал — заменял пожарного: бил в какую-то колотушку, звонил в колокольчик. На одном из пожаров дедушка Петр украл банку варенья. Пережить такой стыд, позор он не мог. Семья переезжает в Москву. Так мы стали москвичами, — повествовательно заключила она.
— Все? — облегченно спросила я.
— Почему это все? Ничего не все! — и она продолжила читать еще выразительнее, срывающимся голосом — того и гляди прослезится: — Спасибо, дедушка! А где жить? — Снова пауза. — Прошли годы. Началась война. Брата Ивана берут на фронт. Он быстро сдружился с Галиной Павловной (она была директором школы), и родилась Люба. Ивана тянет домой… — Пауза. — А где жить? — Пауза. — Прошло время. Школу, в которой я работаю, переименовывают в интернат для умственно отсталых детей. — Молчание. — Прошло время. Жору забрали в армию. Остаемся я, мама и Поля. Пришел Жора. Прошло время. Теперь живу с сыночком. — Она снова замолчала.
— Все? — с надеждой спросила я.
— Нет. Еще эпилог есть. Эпилог, — торжественно объявила Мисс Бесконечность. — Что будет потом? — Снова тишина. — Пройдет время, и я умру. Вот теперь все.
— Что конец такой печальный?
— Все по правде. Это ж ведь эпопея. Ну, как?
— Буккеровская премия обеспечена, — оценила я.
— Учись, как писать-то надо! — воскликнула бабушка то ли с гордостью в голосе, то ли она плакать собралась (я не поняла) и повесила трубку.
Мой роман, несмотря ни на что, тоже медленно продвигался. Хотя я не ожидала, что, находясь в состоянии влюбленности, творить намного сложнее, чем в состоянии покоя. А все говорят, что творческому человеку непременно нужно быть в кого-нибудь влюбленным. Разговоры о музах и «музыках» — ерунда на постном масле. Это не только не помогает в написании любовных романов — напротив, мешает. Уж лучше бы я никогда не видела Кронского!
Но я собрала волю в кулак и целыми днями сидела за компьютером. Роман худо-бедно продвигался к середине. Моему герою-аптекарю (которого я окрестила Степаном), переполненному неистовой ненавистью ко всем подряд женщинам и вдруг влюбившемуся в прелестную женщину бальзаковского возраста, уже удалось с ней познакомиться.
А дело было так:
«Я уже упоминал выше, что я человек забитый, необщительный и неразговорчивый. Мало того— я мерзкий, гадкий и очень вредный человек. Я сам об этом знаю, мне и говорить об этом никому не нужно.
Трехнедельная слежка за прекрасной незнакомкой не дала ровным счетом ничего — разве только то, что я узнал, какие салоны и бутики она посещает, в какой фитнес-клуб ходит, в какие рестораны. И еще одно, пожалуй, для меня самое важное — судя по всему, она одинока, в том смысле, что у нее нет мужчины. Узнал я также, что у нее есть взрослая дочь, наверное, мне ровесница — омерзительная девица, сразу видно, много о себе думает и считает себя неотразимой. Ну и еще сделал вывод, что живут они безбедно. Это, конечно, немало, но в моем случае — бесполезно. Ведь я хочу овладеть ею.
И я придумал план. Подложить на лестницу возле подъезда банановую кожуру. Каждый день подкладывать! Не сегодня, так завтра она обязательно поскользнется, а я тут как тут, стою за углом и ожидаю, стало быть. И как только она упадет, я подлечу к ней и предложу помощь.
Мой план сработал, правда, пострадали одна старушка да маленькая девочка, но, как говорится, цель оправдывает средства. Третьей жертвой все-таки стала моя таинственная возлюбленная. Она растянулась на ступеньках, и тут же появился я — ее спаситель. Я помог ей добраться до квартиры, уложил в постель (ну не в том, конечно, смысле, в котором бы мне хотелось). Мы познакомились — у нее прекрасное, необыкновенное имя — Генриетта. Ее бил озноб, а сама она вся горела. Потом оказалось, что моя Дульцинея сломала лодыжку.
Мое сердце сжималось от жалости, к тому же это я был во всем виноват, но несчастный случай дал мне множество преимуществ. Теперь я, как спаситель, стал вхож в ее дом — прекрасный просторный дом. Я навещал Генриетту каждый день, приносил гостинцы — фрукты, конфеты. А она-то думает, что я положил глаз на ее отвратительную, самодовольную и напыщенную дочь. Она принимает меня за ребенка, ей и в голову не приходит, что люблю-то я ее. Люблю самозабвенно. И теперь это больше всего печалит меня…»
Я была очень увлечена, приближаясь к кульминационному моменту, как на словах «печалит меня» неожиданно зазвонил телефон. Я вздрогнула и недовольно сказала:
— Алло.
— Привет, поджигательница! Я обомлела — это был он.
— Добрый день, — пролепетала я. — Что там, в редакции?
— В какой редакции?! Ее нет давно — все сгорело дотла.
— Как? — спросила я, и сердце мое бешено забилось. — Почему же тогда меня еще не арестовали? Почему я до сих пор дома и преспокойно пишу о любви закомплексованного юнца к женщине бальзаковского возраста? Я пойду в милицию и во всем признаюсь, — твердо заявила я.
В трубке послышался смех.
— Да я пошутил!
Господи, какая я наивная! Я всегда попадаюсь на самые глупые розыгрыши. Вот и сейчас я действительно поверила, что из-за моего окурка сгорела редакция.
— Можно сегодня приехать к тебе в гости? — спросил Алексей — он все еще смеялся.
Я незамедлительно согласилась, сказав, что не могу отказать «Лучшему человеку нашего времени».
Боже! Что я наделала! Он приедет через час: в квартире бардак, угощать нечем — разве что крабовыми палочками с яблоками. Больше в доме у меня ничего нет, потому что все это время я тосковала, страдала от любви и почти ничего не ела. Может, есть какой-нибудь рецепт салата из яблок с крабовыми палочками? Но все равно мне нечем его приправить — ни сметаны, ни майонеза. И тут мне в голову пришла гениальная идея! Заправить салат подсолнечным маслом и посыпать сверху тертым мускатным орехом. Я ринулась на кухню, искромсала два зеленых яблока, туда же добавила мелкую стружку натертых крабовых палочек, перемешала, сдобрила подсолнечным маслом, выложила в фарфоровую салатницу и все это густо присыпала мускатным орехом… И все-таки чего-то недоставало — какого-то маленького, завершающего штриха. Я задумчиво смотрела на улицу — в мое окно настойчиво упирались ветки татарского клена с жухлыми буро-желтыми листьями. Недолго думая, я открыла форточку, выбрала листочек поприличнее (лимонного цвета) и украсила им салат. Получилось превосходно! И все-таки чего-то не хватало! Я сорвала еще лист, и еще и решила покрыть всю поверхность салата осенними листьями. Ободрав всю ветку, я воплотила решение в жизнь. Получилось настоящее произведение кулинарного искусства.
Теперь нужно хоть как-то привести себя в порядок. За десять минут приняла душ, высушила голову, оделась по-спортивному — джинсы и свитер (ну не искать же мне колготы до его прихода и не гладить выходную юбку!), нанесла скромный, естественный макияж. Ногти, конечно, красить было бессмысленно…
Осталось самое главное — соорудить что-нибудь на голове.
Дзззз-зззз…. Телефон.
— Алло, — разъяренно гаркнула я в трубку.
— Ты чего орешь! — послышался не менее разъяренный голос мамы.
— Мне некогда, очень некогда, я спешу!
— Тебе вечно некогда! Только у меня всегда есть время! Ты звонила Власику?
— Нет. А почему, собственно говоря, я ему должна сама звонить?
— Потому что это тебе надо выходить замуж, а не ему!
Вот глупость-то!
— Хорошо, я позвоню вечером, — послушно сказала я только для того, чтобы она отвязалась.
— Честно?
— Да, конечно, нет никаких проблем. Позвоню, поболтаем, может, встретимся. — И меня понесло — я хотела утешить маму, чтобы ее душа хотя бы сегодня была спокойна. — По-моему, он неплохой парень. Состоялся в жизни. Подожди минуточку. — Я включила щипцы и принялась завивать волосы, продолжая релаксирующий разговор: — Реализованный человек. Имеет свой автосалон.
— Да, да, доченька, наконец-то у тебя мозги встают на место, — мама млела.
— Нет, а что? Буду за ним как за каменной стеной. Ведь он не рвань там какая-то, — повторила я когда-то сказанные мамой слова, и, кажется, напрасно.
— А куда это ты так спешишь? — подозрительно спросила она.
— Так, пустяки. В редакцию.
— Зачем? Тебе что, сегодня деньги дадут?
— Нет, там кое-что нужно подписать, и все.
— Ну, ладно, — смилостивилась она. — А у меня, кажется, Рыжик приболел, нос горячий, не ест.
— Да ничего страшного, наверное, простуда. Ну, я побежала?
— Будь умницей. Мне понравилось, как ты рассуждаешь по поводу Власика.
Я стояла перед зеркалом с одной завитой прядью, и в это время задребезжал домофон. Опять я ничего не успела, опять буду выглядеть чумичкой!
Сердце трепыхалось, раздувалось того и гляди проломит грудную клетку.
И вот он передо мной! Этот красавец с картинки, в которого влюблен Женька. Как всегда, безукоризненно одетый, и, как всегда, от него слабо веет дорогой мужской туалетной водой.
— Проходите, проходите, — нервно повторяла я, потому что больше сказать мне было нечего. — Проходите, садитесь за стол, сейчас будем обедать. Нет-нет, не разувайтесь.
— Марусь, да что ты со мной на «вы»?
— Простите, пожалуйста. Вот. Сейчас будем есть.
— Что это? — изумленно, с ужасом в голосе спросил он, глядя на мое кулинарное произведение искусства.
— Нравится? Правда, красиво? Это фирменное блюдо. Салат «Уходящая осень».
— У меня такое впечатление, что под листьями муравейник.
— Ничего подобного, — обиделась я, но обиды своей не показала. — Там яблоки, крабовые палочки, мускатный орех и подсолнечное масло.
— Поехали в ресторан, — сказал он и потащил меня в коридор. Такого поворота событий я никак не ожидала. Я снова просчиталась.
— Но я не одета для ресторана! — сопротивлялась я.
— Ерунда! Поехали!
И он привез меня не в какое-то там замшелое кафе, куда нас с Икки теперь на пушечный выстрел не пустят, а в настоящий ресторан, где по коврам бесшумно ходили официанты с кипенно белыми полотенцами через локоть, где тихо и ненавязчиво звучала музыка, а не орало радио с истертыми хитами, где не приходилось ждать два часа, пока принесут чашку кофе, а по взгляду, эффектному щелчку пальцев «человек» в мгновение ока стоял рядом и выслушивал причудливое меню сильных мира сего. Надо сказать, что мой спортивный (хоть и опрятный) наряд совершенно не подходил к такому шикарному месту, и меня вообще сначала не хотели пускать, но Алексей небрежно бросил швейцару:
— Это со мной, — а мне сказал, нежно прикоснувшись губами к уху: — Вот холуй!
У Кронского здесь был даже свой столик в углу, в полумраке. Алексей сначала спросил, что я буду есть, но, видя, что я совсем растерялась то ли от того, что меня не хотели пускать внутрь, то ли от обступившей роскоши, заказал все сам, и стол мгновенно был заставлен самыми что ни на есть изысканными яствами, которых я отродясь не пробовала, да и сейчас пробовать не стану. Ни за что! Если я съем устрицу, я окончательно потеряю и без того уже потрепанную репутацию — я попросту не добегу до туалета.
Я, как приличная девушка, пригубила шампанское и поставила бокал на стол, свято помня плакатик на моей входной двери: «Много пить нельзя — это меня деморализует», и принялась за какой-то незатейливый салат из настоящих крабов, а не крабовых палочек.
— Выпей еще шампанского. Или, может, тебе налить что-нибудь покрепче?
— Нет-нет! — испугалась я, и он подлил мне игристого.
— А что ты пишешь?
Любовные романы. А ты? — Я прикинулась, будто не прочла ни одного его романа и вообще не знаю, о чем он пишет.
— Ты что, ничего не читала из моего?.. — изумился он. Это был удар ниже пояса. Один — ноль в мою пользу.
— Не-а, — легкомысленно брякнула я.
— Да меня вся Москва читает! — Его самолюбие было задето.
— Знаешь, как ни странно, писатели почему-то не любят друг друга читать. Ты ведь тоже не читал ни одного моего романа?
— Я пишу детективы, — тихо сказал он и при этом как-то весь даже изменился: поник, куда-то делись его спесь и самодовольство. Может, он почувствовал себя обычным человеком, а не великим писателем, каким считал себя до сих пор. — Но ведь ты видела статью в «Литобре», ты же сказала мне, что не можешь отказать «Лучшему человеку нашего времени»?
— Конечно, видела, но там, кроме твоей фотографии, ничего больше не было. Рядом — статья о трудностях перевода с китайского или что-то вроде этого.
— Врешь ты все! Ты же откуда-то знаешь, что я писатель!
— Видела тебя несколько раз в редакции.
— Врушка, — весело сказал он и придвинул стул ко мне вплотную. — Выпьешь еще?
— Нет-нет! — снова испугалась я, представив себя отплясывающей на столе и во всю глотку поющей «Ламбаду». К тому же у меня и без шампанского закружилась голова, стоило ему только присесть рядом со мной.
Он посмотрел на меня в упор — его горящие глаза лукаво улыбались, а рука… Боже мой! Его рука что-то искала под моим свитером. Это невозможно описать. Он просто хамил, но я не могла ничего с этим поделать. Ведь он — «Лучший человек нашего времени!».
Мне было ужасно стыдно. И зачем мы только поехали в этот ресторан! Остались бы у меня дома, съели бы «Уходящую осень» и, как белые люди, занялись тем, к чему он меня склонял в общественном месте.
Как я выглядела со стороны, я не знаю. Наверное, то краснела, то зеленела, а когда он расстегнул мои джинсы, я махнула на все рукой и перестала вяло сопротивляться. Что было потом, я не помню, потому что окончательно потеряла рассудок.
Очнулась я сидящей на толчке в туалете. «Лучший человек нашего времени» стоял ко мне спиной и, судя по всему, застегивал ширинку.
Мы вышли, я оглянулась и увидела на двери черную, жирную букву «М».
— Ты моя «Уходящая осень», — нежно шепнул он и отвез меня домой.
Я сидела одна в темноте собственной квартиры, совершенно ошалевшая от произошедшего, но звонить кому бы то ни было не решалась. Кошмар! Кому только рассказать! Отдаться в кабинке мужского туалета! Может, Икки сумеет меня понять? Нет. Это еще хуже, чем вступить в связь с сантехником или отдаться малознакомому мужчине на подоконнике в парадном. Стыд! Стыд! Стыд!
Странно, но чувства стыда я почему-то не испытывала. И как бы я ни стремилась вызвать угрызения совести со дна моей души, они почему-то не вызывались. Напротив, сладостное, приятное и неизвестное до сих пор тепло (нет, даже, скорее, истома) разлилось по моему телу. И тогда, в тот самый вечер я поняла, кто я есть на самом деле! Я — шлюха! Обыкновенная шлюха! Раньше я об этом не догадывалась.
После этого (если можно так выразиться) происшествия «Лучший человек нашего времени» не звонил мне три дня кряду. Я аргументировала это по-разному. Даже написала себе список тех причин, по которым мой герой не объявлялся:
1. Или он мной уже пресытился.
2. Или он нашел кого-нибудь поинтереснее.
3. Или он относится к тем мужчинам, которые встречаются с девушкой только однажды.
4. Или его обуяло вдохновение после «туалетного» акта.
Хотелось бы, чтоб я оказалась права в 4-м пункте, но меня терзали смутные сомнения.
На четвертый день я решила поддаться уговорам подруг и согласилась встретиться с ними в пять часов вечера в кафе. Благо в резерве у нас была еще одна неплохая кафешка, куда мы заходили значительно реже, чем туда, откуда накануне бабушкиного дня рождения мы с Икки были с позором выдворены.
На сей раз я поехала без Икки — она упорно и самоотверженно искала работу.
Я вошла в кафе (сегодня я оказалась первой) и уселась у самой стенки — от окна и от греха подальше. Народу почти никого не было: за одним столиком сидели два долговязых парня — судя по всему, студенты, а недалеко от меня (через столик) — модная, шикарно одетая стройная девица с копной длинных волос потрясающего тиоцианового оттенка. Еще меня поразили ее ноги — ровные, очень красивой формы (почти как у меня до коленей).
Студенты пожирали глазами девицу, а девица меня. «Да так просто неприлично смотреть на людей», — подумала я, отвернулась к стенке и закурила.
— Девушка, что это вы там одна скучаете?! — вдруг крикнула мне незнакомка.
Вот извращенка! Я даже не повернула голову в ее сторону — мне вполне хватило инцидента в туалете.
— Девушка! — снова крикнула она мне.
— Чего надо? — довольно грубо спросила я.
— А че это вы там одна скучаете? Садитесь за мой столик!
— Отвяжись, — процедила я сквозь зубы.
— Иди сюда, кому говорю! — опять услышала я; голос показался мне до боли знакомым, и я тупо уставилась на расфуфыренную девицу.
Тогда я ощутила очень странное чувство — эта девчонка говорила хорошо знакомым мне голосом, но я-то ее совсем не знала. Наконец она встала, схватила меня за рукав и потащила за свой столик, в то время как студенты не отводили от нас недоуменных взглядов.
— Ты что, мать, совсем умом тронулась?! Это же я, Овечкин! — прогнусавила девица. — Не узнала, что ли?
— Же-еня… — слабо проговорила я предсмертным голосом.
Я не могла очухаться минут пять и привыкнуть к тому, что рядом сидит вроде бы Овечкин, но с другой стороны, совсем не Овечкин.
— Что это ты так вырядилась-ся? — Честно говоря, теперь я не знала, как называть Овечкина — «он» или «она». Я находилась в полном замешательстве.
— Теперь я буду ходить так всегда! — вызывающе восликнул(а) он(а).
— Да что стряслось-то?
— Девчонки придут, расскажу. Чего я, как дурочка, буду два раза одно и то же повторять?!
Сам себя Овечкин ощущал в женском роде. Стало быть, вжился в роль.
— Где такое платье надыбал-ла?
— Что, только платье?! — обиделся(лась) Овечкин(а). — Ты посмотри, какие на мне чулки! Фильдеперсовые!
— Чулки? Но в них ведь неудобно! — попыталась возразить я, но тут же вспомнила, что Овечкин(а) не переносит колгот после свершившегося над ним насилия со стороны сорокадевятилетней вдовы.
Мы еще минут десять мило беседовали о чулках, колготах, нижнем белье. Потом пришла Икки и буквально через минуту заявилась Пулька, как всегда, проклиная московские пробки.
— Ничего! Сегодня опять промоталась зря — работы приличной нет. Ужас какой-то! Мамаша уже рычит на меня! Ну да ладно! — тараторила Икки. — Это твоя новая подруга, да, Мань? Хорошо, что пришла. Тебя как звать-то? Будешь сегодня вместо нашей беременной отщепенки-балалаечницы. Она сказала, что не придет, потому что не намерена нюхать наш сигаретный дым. Нет, представляете?! Вот наглость-то! Сама нас на это подсадила, а теперь нюхать отказывается. Так как тебя зовут-то?
— Ее зовут Женя Овечкин, — сказала я.
— Чего? — не поняла Пулька.
— Какая Овечкина? — пробасила Икки. — У Женьки сестра, что ль, есть?
— Это — Овечкин, — членораздельно повторила я.
В общем, они отреагировали на преображение Овечкина так же, как и я двадцать минут назад. Когда наконец они поняли, что к чему, он (она) начал (а) свой рассказ:
— Я поняла, почему у меня до сих пор нет мужчины, — сказал(а) Овечкин(а).
— Почему?
— Потому что я не женщина, — сказал(а) он(а) таким тоном, будто хотел(а) сразить нас наповал.
— Ерунда какая! — возмутилась я.
— Ничего не ерунда. Смотри, как на меня глазеют те два парня, — они буквально раздевают меня взглядом! У меня еще никогда такого не было!
— Кстати, я давно заметила, что мужиков намного больше притягивают особи своего же пола, переодетые в женскую одежду. Особенно, если они об этом не знают. Помните «В джазе только девушки»? — спросила Икки.
— И все-таки я не пойму, к чему ты клонишь? — допытывалась я.
— Я сегодня вам наконец хочу сказать, что накопил нужную сумму для операции по смене пола.
— Овечкин, ты с ума сошел?! — воскликнула я.
— Мы его теряем, — грустно сказала Пулька.
— Я ничего не понимаю, — сдавленным голосом проговорила Икки.
— И не надо меня отговаривать. Подготовка к операции начнется через три месяца.
— Какая подготовка? — испуганно спросила Икки.
— Ну, гормонотерапия там, и прочее…
— Не делай этой глупости, Овечкин, — умоляюще пролепетала я. — Они ведь очень мало живут, ну, эти, переделанные.
— Лучше прожить маленькую, но счастливую жизнь, чем сто лет мучиться! И потом, чего вы так переполошились? Все складывается очень удачно — даже имя не надо менять — буду Женей Овечкиной.
— Нет, я не могу в это поверить! Ну как же это может быть? Мы все к тебе так привыкли! А ты… Ты настоящий предатель! — трещала Икки.
Мы еще долго обсуждали новость Овечкина, с жаром отговаривали его не делать такой бессмысленный шаг в жизни, которая дается только раз, но все без толку — он намертво вцепился в свою глупую идею.
— Ладно, — наконец сказала Пулька и вдруг спросила, как у меня дела с Кронским. Я и боялась этого вопроса, и одновременно ждала его: странное было чувство — меня так и распирало все рассказать, но в то же время было очень стыдно.
Ну-у-у, — неопределенно протянула я, думая, как бы лучше поступить, но вдруг в одну секунду моя голова освободилась от каких бы то ни было сомнений, и я выложила все, что стряслось в тот самый день, когда я увлеченно приближалась к кульминационному моменту своего романа, и как на словах «печалит меня» неожиданно зазвонил телефон; и про салат «Уходящая осень», и про настоящий ресторан, куда меня не хотели пускать поначалу… Не умолчала я и о туалете.
После изложения своего насыщенного рассказа я выжидающе смотрела на них. Что-то они мне скажут теперь? Наверняка стыдить начнут, хотя после Женькиной новости моя кажется совсем невинной.
— Тебе надо с ним расстаться. Это до добра не доведет, — вынесла свой вердикт Пулька.
— Но почему сразу расстаться? — жалостливо спросила я. — Ну, может, это случайно так получилось. Может, потом будет все нормально.
— Не будет ничего нормального. Я знаю таких типов. Он извращенец.
— Но я его люблю, — чуть не плакала я.
— Глупости. — Пулька была непреклонна.
— Ну что ты на нее набросилась? — заступился(ась) Овечкин(а). — В конце концов, главное — общение. И если по-другому с ним не пообщаться, то почему не пойти на некоторые незначительные жертвы? Она ведь любит его!
— Эти жертвы ей дорого обойдутся! Сначала мужской туалет, потом парки, леса, поля. Кончится это все тем, что она застудит придатки. И это в лучшем случае. Сейчас не лето. А потом, это антисанитарно! В таких местах!
Они говорили обо мне в третьем лице, будто меня тут вовсе не было. Я не выдержала и сказала:
— Он мне уже четыре дня не звонит! Может, он мне вообще больше никогда не позвонит!
— Было бы хорошо, — процедила Пулька.
— Ничего хорошего, — наконец вступила в разговор Икки. — Она его любит, мучиться будет. Ну, подумаешь, в туалете. Ведь все обошлось, правда, Мань?!
— Да-а-а, — я была готова разреветься.
— Сегодня обошлось — завтра не обойдется. И потом, не в обиду сказано, Икки, но кто бы говорил!
— А что такое?! — возмущенно спросила Икки.
— Не знаю, но мне кажется, в нашем содружестве все сошли с ума: один задумал переделываться в женщину, другая в туалетах отдается, третья рожать собралась, а про тебя, Икки, я вообще молчу. Одна я нормальная.
— Со своим анестезиологом, — ввернула Икки.
— Я позавчера его бросила. Надоел он мне пуще пареной репы.
— Так ты теперь одна?
— Нет, сегодня встречаюсь с рентгенологом. Такой забавный парнишка! Слушайте, ну все, мне пора.
— Может, пива? — неуверенно спросила Икки.
— Нет уж, дорогая, уволь. Пьянствуйте сами-с меня прошлого раза хватило.
И мы с Пулькой уехали, оставив Икки с Овечкиным(ой) пьянствовать. Я рвалась к телефону в надежде, что сегодня мне позвонит «Лучший человек нашего времени». Пульхерия довезла меня до дома, всю дорогу убеждая бросить Кронского. Я не поддавалась.
— Ну, как хочешь. В конце концов, это не мое дело, — сказала она и закрыла эту неприятную для меня тему. — Слушай, мне нужна новая машина. Я все-таки решила продать свою колымагу. Ты говорила, что у тебя кто-то в автосалоне есть?
— Да, мой потенциальный жених.
— Может, он мне скидку какую-нибудь сделает?
— Может.
— Как-нибудь заскочим к нему? Ладно?
— Конечно, — сказала я и, попрощавшись с Пулькой, побрела к подъезду.
— Мань! Машка! — крикнула она, вылетела из машины и подбежала ко мне. — Ты на меня не обижайся! Я просто знаю очень много печальных случаев! Ну, ты меня понимаешь… Будь поосторожнее с ним. Береги себя. Если что, сразу ко мне. Я ведь понимаю, любовь зла — полюбишь и козла… Ну все, пока. — Она чмокнула меня в щеку, села в машину и уехала. Я стояла и смотрела ей вслед. В эту минуту я отчего-то чувствовала себя глубоко несчастной.
«Лучший человек нашего времени» все не звонил, и я с головой ушла в работу. Теперь я жила не своей жизнью, а жизнью своих героев.
«Вчера я открылся Генриетте, потому что дальше скрывать свои чувства уже не мог. Она сначала рассмеялась мне в лицо, а я сказал, что если настолько противен ей, то, не задумываясь, уйду из ее жизни и она меня больше никогда не увидит. И это не шантаж, это только доказывает мое глубокое чувство к ней: безумно любя, я способен отказаться видеть ее, разговаривать с ней, вдыхать аромат ее волос. Это настоящая жертва с моей стороны, а на жертву способен только человек, любящий по-настоящему, — той любовью, которая не требует своего, т.е. не эгоистической, не стяжательной любовью.
Видимо, это-то и тронуло ее, задело, короче, она поняла, что в ее жизни, может, впервые появился человек, которому от нее ничего не нужно. Ц это возымело свое действие — у нас была незабываемая, волшебная ночь. Этой ночью Генриетта стала наконец моей… »
И когда Генриетта в придуманной жизни наконец сдалась, в мою настоящую жизнь прорвался Алексей Кронский.
— «Уходящая осень», как ты там? — прокричал он в телефонную трубку.
Как я? Хотелось бы знать, куда он исчез, но кто я такая, чтобы задавать подобные вопросы — мать, жена, сестра? Всего-навсего случайная знакомая, и я просто ответила, что у меня все в порядке.
— Не хочешь приехать ко мне? Я встречу тебя на «Маяковке», у памятника.
Конечно, я хотела. С одной стороны, я не знала, чем закончится это очередное свидание, но отказаться увидеть «Лучшего человека нашего времени» было свыше моих сил. И я согласилась.
Алексей жил на последнем этаже высотного дома, затерявшегося в путаных двориках старой Москвы, недалеко от станции метро «Маяковская». В принципе от моего дома я могла бы дойти до него за сорок минут.
Пока мы поднимались на лифте, мой герой снова взялся за свое.
— Нет, только не здесь, — твердо сказала я. — Не здесь!
— Почему? Какая разница где! Тебе это не нравится? Это же интересно — лифт могут вызвать в любую минуту, и в любую минуту он может открыться. Тебя что, это совсем не будоражит?
— Нет, это уж слишком.
— Не хочешь, как хочешь, — равнодушно ответил он.
Наконец-то мы поднялись.
Чтобы хоть немного ориентироваться в квартире сочинителя детективов, нужно было прожить там, по крайней мере, неделю. Много света, почти никакой мебели. Или это зрительный обман? Мебель все же была, но за счет огромного пространства казалось, что ее нет вовсе. Окна во все стены, бетонная лестница на второй этаж… Ступенчатая архитектура квартиры сначала удивила меня, а потом подавила. Комнат не было вообще — одно гигантское помещение. Я долго осматривала необычную квартиру «Лучшего человека нашего времени», периодически спрашивая: «А где у тебя кухня?», «А кабинет?» — и вдруг вдалеке, у окна, заметила широченную кровать. Я направилась к ней, решив сразу занять позицию и продолжить то, что было начато в лифте. И никаких туалетов!
— Нравится, как я живу?
— Ага, необычно.
— Ну, пошли куда-нибудь погуляем.
— Зачем? — удивилась я.
— А чего дома-то сидеть! — воскликнул он, а глаза хитро заблестели, как в прошлый раз — тогда, в ресторане.
«Ни за что никуда не пойду!» — подумала я и спросила:
— Зачем же ты приглашал меня?
— Чтобы ты посмотрела, как живут лучшие люди отечества. И еще… Хочешь, мы с тобой здесь справим Новый год?
— Вдвоем?
— Да, — загадочно промурлыкал Алексей.
— Хочу, — не раздумывая, брякнула я.
— Пошли воздухом дышать. — И он потащил меня к двери.
Погода на улице была омерзительная — шел мелкий, частый дождик. Холодало, казалось, с каждой минутой, и дождь незаметно превратился в снег, вернее, крупу, которая безжалостно хлестала по щекам. Над городом быстро сгущались сумерки. Сидеть бы дома, в тепле! Но писателю детективов дома не сиделось даже в такую погоду.
Воздухом мы дышали в парке где-то на окраине города, Я ничего не хочу сказать, там, конечно, было очень красиво — снег искрился, окрашенный в разные цвета от вмонтированных подсветок и фонарей. Было даже романтично — так, что я скоро перестала жалеть, что мы сюда приехали.
Мы бродили по дорожкам, просто гуляли, и мне стало хорошо и спокойно на душе. Так спокойно, что я не заметила, как мы очутились в неосвещенной зоне парка, где не было ни одной живой души.
— Куда мы идем? — настороженно спросила я.
— Смотреть военную технику.
— Зачем?
— Тебе что, неинтересно?
— Но ведь темно, мы ничего не увидим, давай лучше приедем завтра с утра.
— Дудки!
Вдалеке зачернелись танки, самолеты, грузовики — видны были только их очертания. Мы подошли ближе, и Алексей с жаром принялся объяснять преимущества той или иной боевой машины. Я ничего не понимала, но слушала с большим интересом. Слушала, слушала, как он вдруг захохотал, подхватил меня на руки и усадил на крыло «кукурузника»
(хотя точно сказать не могу — был ли то «кукурузник» или нет, потому что я в этом не разбираюсь).
— Сними меня! — кричала я. — Немедленно сними меня отсюда!
— Чш-чш-чш-чш. Не надо так кричать, — прошептал он мне на ухо.
И снова произошло все то, что произошло в мужском туалете. Правда, как это могло совершиться на крыле «кукурузника», до сих пор остается для меня загадкой. Но несмотря ни на что — я не лгу — что было, то было.
Наш роман с сочинителем детективов после этого окреп, закрутился в бешеном темпе. Теперь я уже не сидела дома и не гипнотизировала свой телефон — Алексей звонил неизменно два раза в день.
После «кукурузника» была еще прогулка по заснеженному Царицынскому парку — между речками Городенкой и Язвенкой, по руинам еще не отреставрированных павильонов, корпусов, фигурных ворот и дворца, где мы чуть было не попали в кадр (там снимали какой-то исторический костюмный фильм)… Была еще кабинка телефона-автомата, чудом уцелевшая на окраине города, полупустая районная библиотека, глухой переулок рядом с Арбатом, крыша старого дома, где-то недалеко от Ордынки…
Роман о забитом, необщительном и неразговорчивом аптекаре я окончательно забросила и, наверное, никогда бы не дописала, если б после нашей последней «прогулки» не заболела. Два дня я пролежала с высокой температурой, потом температуру удалось сбить, но на улицу выходить было еще рано. Вот тогда-то в промежутках между телефонными звонками и визитами я творила.
За время болезни меня посетили все мои друзья, кроме беременной отщепенки, — она пожелала мне скорейшего выздоровления, но не приехала — побоялась заразиться, а в ее положении это просто недопустимо.
Икки по-прежнему не могла найти работу, Пулька снова уговаривала меня бросить Кронского, Женька морально подготавливался к операции.
«Лучший человек нашего времени», чувствуя свою вину (ведь это по его милости я слегла в постель), навещал меня почти каждый день, приносил цветы и конфеты, как в больницу. Сидел возле меня час-другой и уходил. За две недели моего вынужденного затворничества между нами ничего не было. Напротив, он вел себя чинно и сверхблагоразумно.
Мама приезжала через день, а когда я пошла на поправку, почему-то стала приезжать каждый день. И вообще, ее поведение кажется мне несколько странным — она почти не говорит о своих кошках, глаза блестят, выглядит прекрасно: укладка, макияж, сережки новые…
Последние дни она прибегает ко мне минут на десять, по-моему, только чтобы отметиться.
— Если Николай Иванович будет звонить, скажи, что я у тебя, — просит она меня все время.
— А если он тебя к телефону потребует, мне что, твоим голосом с ним поговорить?
— Боже мой! Где твоя писательская фантазия?! Скажи, что я занята, вышла в магазин, залезла в ванну, суп у меня убегает! Придумай что-нибудь.
А главное — она совсем забыла о моем замужестве и хорошем, реализованном мальчике — Власике. Это был явный знак того, что у мамы кто-то появился.
— Где ты его нашла? — как-то неожиданно спросила я ее.
— Кого?
— Не придуривайся. Кто он?
— Не знаю, о чем ты говоришь. Мне некогда, я побежала. — И мама хотела было уже улизнуть, но я сказала:
— Если ты мне не расскажешь, я не буду тебя прикрывать!
— Опять шантаж! Какая же ты занудная! Кто он? Кто он? — передразнила она меня, а у самой глаза масляные такие — томные, с поволокой, желание выражают.
Я решила выдержать паузу — и не ошиблась.
— Он работает охранником в ювелирном магазине. Все? Я удовлетворила твое любопытство?
— А как же Николай Иванович?
— А что Николай Иванович?! Можно подумать, он тебе отец родной! У него кошки есть, он с ними целый день сюсюкает! А мне все надоело! Надоело каждое утро размазывать кучу под дверью, надоело выносить поддоны, драить полы, готовить обед, снова выносить поддоны, выводить глистов, блох, чистить уши и мыть, целыми днями торчать в воде! У меня и так уже от рук ничего не осталось! Я еще молодая, привлекательная женщина! Мне всего 51 год! Мне надо развеяться! — воскликнула она и ушла, хлопнув дверью.
Невероятно! Моя мама влюбилась! Теперь все побоку — кошки, Николай Иванович и, слава богу, мое замужество. Теперь она будет занята только своими проблемами. Жаль, конечно, ее мужа — ветерана труда и заслуженного строителя России, но я за нее рада. Интересно, что собой представляет этот охранник из ювелирного магазина?..
Невероятно, но за эти две недели я добила роман.
«Произошло непоправимое. Генриетта изменила мне. Как это подло, мерзко, пошло! Как она могла? Променять меня на пятидесятилетнего мужлана?
Я целый день блуждал по городу в лихорадочном состоянии, не замечая никого и ничего. Я даже не помню, где я был. Когда разум возвратился ко мне, то вокруг я увидел незнакомые высокие дома, полукруглый вход в метро… Я по инерции спустился вниз и еще часа два бесцельно катался в полупустых вагонах, пересаживаясь с одного поезда на другой.
Теперь я все решил. Из этого всего есть только один выход — убить ее. И мне все равно, что будет потом со мной. Без нее мне не жить! Может, потом убью и себя.
Я сижу в ее спальне. Тихо. Слышно только, как тикают часы. Я один в чужой квартире — Генриетты больше нет. То есть она лежит на кровати, но она мертва. Как странно — вроде бы она здесь и одновременно уже в каком-то другом месте. Наверное, горит в аду. Я могу смотреть на ее бездыханное тело, истекшее кровью, могу разглядывать нож, застывший в ее груди, на то, как белоснежные шелковые простыни постепенно становятся пунцовыми.
Я убил ее на рассвете — едва только нежные, розоватые лучи нового дня просочились в комнату. Все смешалось: кровь, рассвет, боль, жалость. Я сижу и целую ее белоснежные мраморные неживые ноги. Я пытаюсь их согреть, но ничего не получается.
Теперь мы вместе навсегда. Я не уйду от нее, пока меня отсюда не выгонят. Потом — не будет и меня».
Все, баста! Сегодня отвезу дискету Любочке и буду отдыхать. Теперь, по окончании этого романа, у меня были совсем иные чувства — ; не такие, как всегда. Раньше я чувствовала опустошение, и мне казалось, что я уже все написала в своей жизни и никогда больше не сочиню ни единой строчки. Сейчас же меня переполняла радость — наконец-то я заслужила законный отдых!
По обыкновению я принялась обзванивать всех родных и друзей, сказать, что очередной роман завершен и теперь я в их полном распоряжении. Но мне показалось, что во мне никто особо не нуждался.
Я позвонила маме, но потом очень об этом пожалела, потому что Николай Иванович удивленно спросил меня:
— А что, она разве не у тебя ночевала?
— У меня, конечно, у меня, просто я уезжала, сейчас приехала, а ее нет. Наверное, в магазин вышла, — сумбурно лепетала я.
Мисс Бесконечность сказала, что ей некогда со мной разговаривать — она пишет второй том «эпопеи». Интересно, о чем? Наверное, о жизни после смерти.
Икки тоже было некогда, потому что она собралась с Женькой в редакцию — он договорился о месте секретаря, и, кажется, вопрос с работой был решен. Следовательно, Овечкину звонить нет никакого смысла.
Огурцова была занята и разговаривать не могла.
— У Кузи снова запор, ставим ему клизмочку, — сказала она и бросила трубку.
Господи! И до чего доведут эти клизмочки?.. Пулька была на операции. Все заняты — одна я не при деле. Позвонила Алексею. И только он понял и сумел разделить мою радость:
— Закончила свою бадейку! Молодец! Сколько отдыхаем?
— Не знаю, как получится.
— Как настроение? Депрессия? Опустошенность? Радость? Что чувствуешь? — вопрошал он.
— Облегчение. Поеду, отвезу дискету Любочке.
— Так ты перешли по электронной почте.
— У меня нет Интернета.
— Как так нет?! Сейчас приеду, установлю, а потом отпразднуем это событие. Хочешь? А, моя маленькая «кукурузница»?
Он лучше всех. Он правда самый Лучший человек нашего времени! И без всяких кавычек!
В принципе результат я уже знала — пару лет назад, когда мои романы стали выходить один за другим, когда я набила руку, я уже не сомневалась в том, что очередной мой «шедевр» не будет отвергнут. Поэтому с чистой совестью мы с Алешей поехали в ресторан отметить окончание моей работы над «Убийством на рассвете» и установку Интернета на моем компьютере.
В ресторане все прошло невинно, за исключением того, что мой спутник целенаправленно пытался меня споить:
— Марусь! Ну что ты, ей-богу! Закончила такой роман! Романище, можно сказать! Расслабься! Напейся сегодня!
Вот, глупый, не знает, о чем просит! Ему же хуже будет! А может, он только того и ждет, чтобы увидеть меня в бессознательном состоянии? Ни за что не стану напиваться — это меня деморализует!
Когда «Лучший человек нашего времени» понял, что споить меня ему не удастся, он предложил:
— Хочешь, я отвезу тебя в необыкновенно красивое место?
— Нет, поедем домой, — сказала я, потому что не хотела снова заболеть.
— Скучная ты, Маруська, — напиваться не хочешь, чтобы я тебя в сказочное место отвез, тоже не желаешь! Ну что с тобой делать?
И тут мне показалось, что ему со мной совсем неинтересно.
— Ладно, поехали в твое сказочное место, — согласилась я, и он обрадовался, как ребенок.
Мы колесили по затейливым, изогнутым московским улочкам, где-то в центре. Было уже темно, и я плохо ориентировалась. Наконец машина остановилась возле высокого деревянного забора. Пройдя вдоль него метров двадцать, Алексей отодвинул широкую доску, и мы пролезли внутрь.
— Куда ты меня привез?
— Сейчас увидишь.
— Ну, куда?
— Куда-куда! Если сейчас скажу, то никакого сюрприза не получится.
— Я в сугробе увязла!
— Сейчас выберемся на тропинку, — успокоил он меня, смахивая снег с дубленки.
Ну, хватит, уже отряхнул, — сказала я, но «Лучший человек нашего времени», казалось, не слышал меня — он уже не стряхивал снег, а откровенно дубасил меня по мягкому месту и молчал. — Больно же, перестань!
И тут, после этих моих слов, он вдруг завалил меня в сугроб, из которого минуту назад вытащил, и принялся целовать, приговаривая:
— Полюбил я тебя, снегурочка ты моя! Никуда от меня не денешься! Вот тут и станешь моей!
И я стала его прямо там, в сугробе…
— И что у тебя за манеры-то! — воскликнула я, когда Леша вытянул меня во второй раз из сугроба любви. — Ты не можешь, как все нормальные люди? Я ведь снова заболею!
— «Кукурузница» ты моя, — нежно шепнул он мне на ухо. Нет, я решительно не могла на него обижаться.
— Где мы?
— Пойдем, сейчас увидишь.
Мы скоро нашли тропинку, и вдруг впереди, прямо перед собой я увидела церковь, слева еще одну, вдалеке еще, чуть поменьше. Купола, кресты, небольшое кладбище в стороне…
— Ты куда меня привез? — с ужасом спросила я его.
— В монастырь, — как ни в чем не бывало сказал он.
— Ты что, с ума сошел? Как тебе это в голову могло прийти, богохульник?!
— Ну я всегда мечтал… Около монастыря или кладбища.
— Как отсюда выйти? — негодовала я.
— Что, религиозные чувства заели?
— Да, заели! Можно было бы предупредить! И вообще, ты со мной совсем не считаешься!
— Не злись. Нельзя ругаться около церкви, — серьезно сказал он.
— Ну, кто бы говорил!
— Если б я тебе заранее сказал, ты бы ни за что не согласилась, а с неведающих и спрос малый. Так что успокойся, этот грех уже висит тяжким грузом на моей душе. С тебя не спросится, моя «Уходящая осень», — прошептал он, целуя мое ухо. Нет, я все-таки не могу на него обижаться!
— Пойдем отсюда быстрее.
— А мы выходим.
— Мне кажется, мы удаляемся от забора.
— Сейчас по-другому тебя проведу. Любуйся красотами! Что я тебя, зря привез, что ли, сюда?!
— Слушай, а где монахи?
— Да этот монастырь еще не действующий. Тут реконструкция.
Лучше бы мы вышли через дыру в заборе. Я не знаю, зачем нужно было вести меня в противоположную сторону от монастыря, к посту охраны.
— Что это вы тут делали ночью? — спросил блюститель порядка и посмотрел на меня как на доступную девку. Хотя почему — как?
— Знакомились с архитектурой монастыря, — промямлила я. Стыд! Господи! Какой стыд!
— Н-да? — подозрительно переспросил он, не сводя с меня глаз. — Ночью?
— К вашему сведению, ночью этот архитектурный ансамбль смотрится лучше, чем днем. Открывается нечто такое, что при свете сокрыто от человеческого взгляда, — пришел мне на помощь Алексей.
— Не сомневаюсь, — презрительно проговорил охранник и жестом указал, чтобы мы выметались.
Зачем, зачем нужно было делать крюк и выходить из монастыря через пост охраны? — спросила я, когда он подвез меня к дому.
— Ради острых ощущений, моя монашечка! А тебе не понравилось?
— Нет, — сухо сказала я и вылезла из машины. Получилось очень эффектно, но стоило мне только оказаться дома, как я пожалела, что так сурово обошлась с «Любителем острых ощущений». Он хотел устроить мне праздник, он один сегодня понял мою радость по случаю завершения романа, и что ж поделать, если у нас разные представления о празднике?..
Пулька названивала мне всю неделю и просила съездить с ней к Власу в автосалон, надеясь, что он сделает для нее небольшую скидку и поможет выбрать новую машину.
— Да ты сначала свою колымагу продай, — отнекивалась я.
Мне не хотелось ехать к Власу в автосалон по двум причинам — во-первых, бурный роман с Кронским с каждым днем набирал обороты, а во-вторых, не хотелось, чтобы Влас начал там что-нибудь воображать на мой счет.
— Ну ты какая-то странная, Мань! Я же должна хоть мало-мальски ориентироваться в ценах! Я должна хоть приблизительно знать, сколько мне придется добавлять денег! Ты что, не можешь ради меня съездить к этому индюку? Подруга ты мне или нет?!
И я наконец сдалась. Я позвонила Власу и обо всем договорилась.
— Слушай, а чего ты за него замуж-то не хочешь идти? Смотри, мужик какой серьезный, — сказала мне Пулька, когда мы вошли в автосалон.
— Да, не рвань там какая-то, как говорит моя мама, — уныло ответила я и окинула взглядом громадное помещение, сплошь заставленное новенькими авто.
— Правильно твоя мама говорит, а то связалась с каким-то извращенцем!
— Хватит. Я не хочу об этом говорить.
— Чем интересуетесь, девушки? — перед нами откуда ни возьмись вырос молодой человек в сером костюме, белой отглаженной рубашке, начищенных ботинках и галстуке. Он чем-то напомнил мне улыбчивых, опрятно одетых сектантов, которые всем, кому ни попадя, пихают на улице брошюры о том, как обрести счастье на Земле и при этом попасть в рай после смерти.
— Нам бы Власа Олеговича, если можно.
— Вы договаривались с ним о встрече?
— Да, он нас ждет.
— Идемте, я вас провожу.
Мы долго шли мимо выстроенных в ряд разноцветных машин, пока наконец «сектантский агитатор» робко не постучал в солидную дверь из красного дерева.
— Влас Олегович, извините, к вам тут две дамы пришли.
— Да-да, я их жду, — сказал он, и мы вошли. Солидной здесь оказалась не только дверь из красного дерева — солидным тут было все: и офисная мебель, и оргтехника, и жалюзи на окнах. И сам Влас Олегович в своем директорском кресле выглядел очень солидно. Даже не верилось, что передо мной сидел тот самый нудный Власик, который лет двадцать назад пытался развеселить меня, рассказывая скучные истории: расхаживал по пляжу в красных шортах и мечтал наловить много-премного светлячков, чтобы они служили вместо настольной лампы, ревновал меня к второгодникам с Крайнего Севера и считал тогда (тем жарким июньским месяцем), что наша с ним личная жизнь уже устроена.
— Здравствуй, Маша. А чего это ты так похудела? Ты не болеешь, случайно?
— Нет-нет, — поторопилась заверить я его, а Пулька издевательски хихикнула, мол, как не похудеть при такой бурной жизни — то на горке, то под горкой. — Знакомься, это моя подруга Пульхерия, которая подумывает купить машину.
— Очень приятно, Влас.
— Влас О-о… — Пулька отчаянно старалась вспомнить его отчество.
— Просто Влас, — помог он ей. — Ну что ж, пойдемте осмотрим мои владения. Может, что-то приглянется.
Мы снова отмеривали шагами огромный павильон, заставленный разноцветными машинами. Честно говоря, машины я различаю только по цвету и могу лишь отличить грузовик от легковушки. А впереди слышались обрывки умного, как мне казалось, профессионального разговора об автомобилях: «С коробкой передач или автомат?», «С кондиционером или без?», и так без остановки.
Я почувствовала себя совершенно некомпетентной и решила скоротать время, любуясь радужными автомобилями.
Оттенок той или иной машины вызывал у меня определенную ассоциацию или навевал какое-то воспоминание. Хотя цвета не так легко нагоняют воспоминания, как запахи или музыка. Но сейчас со мной происходило нечто похожее на то, что бывало в детстве, когда я отдыхала с Мисс Бесконечностью на подмосковной даче. Мы гуляли с ней и разглядывали разноцветные домики, а я ставила оценки за качество покраски.
Вот передо мной машина фиолетового цвета. Она напоминает мне. пятно от вишни на моем бежевом свитере. А эта — цвета морской волны, но не бирюзового, а неприятного зеленоватого оттенка. Отчего неприятного? Почему-то в носу стоит запах масляной краски. Вспомнила! Когда я была маленькой, именно в такой цвет красили дедушкину ограду на кладбище. Скверный цвет — пахнет смертью.
А вот серебристая, похожая на акулу. Что-то близкое, очень близкое. Сейчас, сейчас! Я непременно должна это вспомнить. Есть! Точно такого же цвета были стены в туалете того самого ресторана, где Кронский впервые овладел мною.
— Мань! Куда ты пропала-то?! — услышала я позади себя Пулькин голос. — Ушла так незаметно!
— В общем, мы обо всем договорились, Пульхерия. Так что продавайте свою машину и приезжайте за новой, — проговорил Влас, глядя на меня.
— Уже все?
— Да, видишь, как быстро мы сговорились, — Пулька сияла от счастья.
— Тогда мы поедем, ладно, Влас?
— Может, чай, кофе?
— Нет-нет, мы торопимся, — сказала я и почувствовала на себе укоризненный Пулькин взгляд.
— Маш, а ты случайно не захватила свою новую книгу? Бабушка просила.
— Нет, — рассеянно ответила я. — Надо было взять, конечно, но я как-то не подумала…
— А может, встретимся сегодня вечером, посидим где-нибудь?.. Ты книгу подвезешь…
— Конечно, подвезет! — радостно воскликнула Пулька. — Что ей, жалко, что ли?! К тому же, насколько я знаю, Маня сегодня совершенно свободна.
— Вот и отлично!
И мне ничего не оставалось, как договориться с ним о встрече.
— До свидания, всего хорошего, заходите, — сыпал заученными фразами «сектантский агитатор» при выходе.
— Зачем ты это сделала? — задыхаясь от злости, спросила я. — Он эту книжку может в любом книжном магазине купить! И сегодня вечером я занята!
— Глупая ты, Манька!
— Это еще почему?
— Ты что, не видела, как он на тебя смотрел?
— Как?
— Да он влюблен в тебя по уши! Нельзя упускать такого мужика!
— Хочешь, возьми его себе.
— С удовольствием. Только по всему видно, что он тебя любит.
— А я не люблю.
— Конечно, у нас же есть «Лучший человек нашего времени» с нездоровыми и, я бы сказала, опасными причудами в сексе! Не доведет это все до добра! Ой, не доведет!
— Ты сейчас говоришь, будто тебе сто лет.
— Сто — не сто, а до добра не доведет! — настаивала она.
— Я его исправлю, и у нас все будет хорошо.
— Как же, исправишь ты его! — усмехнулась Пулька. Она не верила, что сексуальные привычки Кронского можно исправить. Она вообще не верила, что человека после пяти лет можно переделать, но я решила доказать ей обратное.
А пока ничего не оставалось, как потратить вечер на неинтересный разговор с человеком, который мне был совершенно безразличен.
Я впервые надела норковую шубу (как говорит Мисс Бесконечность — «не май месяц»). Я решила быть неотразимой — ведь, согласитесь, есть особая прелесть в том, чтобы свести с ума человека, который тебе безразличен.
Хоть на дворе и было двадцать седьмое декабря, я чувствовала себя, как в пустыне, — снег тошно и скучно лежал на земле, словно песок: не блестел, был матовым из-за низкого водянисто-серого печального неба. Мне было жарко — рано я все же облачилась в шубу.
Вся эта заунывная уличная картина не предвещала ничего хорошего. Наверное, и вечер впереди ждал меня столь же тоскливый. Сама бы я ни за что не согласилась на эту встречу. Но Пулька!.. И зачем я только ему понадобилась?! Ведь книга — это только предлог. Нужна ему моя книжка! Смешно просто! Ах! Как хотелось бы мне сейчас увидеть «Лучшего человека нашего времени» и провести вечер с ним!
Именно такие мысли роились в моей голове, когда я ехала на свидание к Власу.
Влас стоял у памятника Александру Сергеевичу Пушкину в дубленке безобразного (я бы даже сказала, неприличного) желтого цвета. И откуда у него это пристрастие к желтому — то ботинки, теперь дубленка? В руке он держал белую розу на длинной ножке и беспокойно поглядывал на часы — наверное, думал, что я снова не приду.
Штампованное свидание. С некоторых пор я стала их ненавидеть: памятник великому поэту, цветы, часы, сказанные невпопад пустые слова. Вообще-то это считается нормальным, но меня почему-то раздражает. Наверное, влияние обольстительного и неординарного Кронского не прошло даром. Завидев Власа еще издалека, у меня появилось желание немедленно развернуться и бежать куда угодно и как можно быстрее, но как раз в этот самый момент он меня заметил и помахал длиннющей розой. Бежать было поздно. Я проклинала в душе Пульку, Олимпиаду Ефремовну за ее пристрастие к любовным романам, даже тот далекий месяц на море, когда мы познакомились с Власом.
— Отлично выглядишь, Маша! радостно воскликнул он и спросил: — Книгу не забыла?
Я протянула ему книгу и чуть было не ляпнула: «Вот, возьми свой предлог для нашей встречи».
— Подписала? — шутливым, деланым голосом спросил он, и мне стало противно.
— Подписала.
— Пойдем посидим где-нибудь, я ужасно хочу есть.
— Да вообще-то у меня не так много времени. — Мне в голову вдруг пришла мысль, что я могу немедленно отправиться домой, ведь встретились-то мы из-за книжки — я ее отдала. Так что больше ничем не обязана.
Да это ненадолго. Не люблю есть в одиночестве. Пошли? — настойчиво ныл он, как тогда на юге, когда звал меня ловить светлячков.
Мы пришли в какой-то восточный… нет не ресторан. Это было нечто промежуточное между тем кафе, откуда нас с Икки выдворили, и рестораном, куда впервые меня привез «Лучший человек нашего времени». Среднее заведение, средние манеры Власа, средние разговоры — все среднее. Скука. Все «ради приличия».
— Хочешь, анекдот расскажу? — спросил он, доедая люля-кебаб.
Я не хотела, потому что никогда не знала, в каком месте его глупого анекдота нужно смеяться, но ради приличия сказала:
— Расскажи.
; — Если вы нашли клад, то одну четверть от него законно забирайте себе, а остальное закопайте! — смеясь, рассказал он, а я, выдержав паузу «ради приличия», хихикнула. — Ну а вообще-то, Маш, как жизнь-то?
— Хорошо, — скупо ответила я — говорить было совершенно не о чем. Скорее бы от него отвязаться. — А у тебя?
— Можно сказать, тоже хорошо. Бизнес развивается, деньги есть, квартира, дача, машина, сама понимаешь. Все вроде бы есть, и все-таки чего-то не хватает.
— Чего же?
— Маша, ты потрясающе сегодня выглядишь! С тех пор, как мы виделись на дне рождения у твоей бабушки, ты сильно изменилась… Стала совсем другой.
Да это тебе кажется. Просто сегодня я решила не надевать свое розовое выходное платье. Вот и все. Так чего тебе не хватает для полного счастья?
— Одинок я, — ответил он, и тут произошло нечто странное. Так бывает — нечто, что засело мне в душу, осталось в памяти. Его взгляд. В нем, в этом наполненном многогранном глубоком взгляде было намешено много разных чувств и эмоций — и восхищение мною, и печаль, словно он знал, что совсем мне не нравится, и сожаление, и даже боль. От чего сердце мое защемило, а там, где, говорят, находится солнечное сплетение, что-то запульсировало, и по всему телу разлилось тепло. Мне уже не хотелось никуда торопиться, я откинулась на спинку стула и спросила:
— Никогда не поверю, чтобы такой симпатичный респектабельный молодой человек был одинок. Наверняка ты лукавишь, и девушки вьются около тебя, мечтая лишь об одном — как бы побыстрее выскочить за тебя замуж.
— Может, ты и права, но это все не то, что мне нужно.
Разговор с каждой минутой становился все острее и острее. Я чувствовала — еще минута-другая, и Влас перейдет на личности, а мне этого, несмотря на его проникновенный взгляд, совершенно не хотелось. Нужно было что-то срочно предпринимать.
— Так, значит, беда твоя в том, что ты слишком разборчив и требователен, — заключила я и, взглянув на часы, воскликнула не своим голосом: — Полдевятого! Батюшки! Да мне давно пора…
Пора… Пора… Куда бы мне могло быть пора? Куда бы могла опаздывать в полдевятого вечера одинокая, ничем и никем не связанная девушка?
Мое писательское воображение молчало. Мама права, когда говорит, что у меня нет никакой фантазии.
— Кстати, где ты Новый год справляешь? Может, нам вместе его встретить? Могли бы куда-нибудь поехать…
— Я договорилась с подругами, отказываться уже поздно. Ну, мне действительно нужно идти.
— Да куда ты так торопишься? — недоумевал он.
— Влас, даже не хочу тебе говорить, потому что ты вряд ли меня поймешь или примешь за сумасшедшую, — проговорила я, судорожно придумывая, куда я спешу.
— Нет-нет, ты ошибаешься. Я могу понять.
— Понимаешь ли, писательский труд только со стороны кажется легким и пустым занятием. На самом деле это каторжный труд, требующий от автора много усилий и жертв. Одна из них, по крайней мере для меня, — это сесть за письменный стол ровно в девять часов вечера и работать на износ всю ночь. И что самое ужасное, я не могу изменить моему письменному столу, а то муза мгновенно покинет меня.
— А что, муза и вправду посещает тебя? — серьезно спросил он.
— Ну, не муза, конечно, но если один день, вернее, ночь работы пропущена, мгновенно теряется интонация повествования, и чтобы ее найти, нужно время.
— Как все сложно. Я даже не ожидал. Тогда пойдем, я поймаю такси. Я сегодня не «на колесах». Знаешь, иногда хочется проехаться общественным транспортом, пройтись пешком, да и вообще в центре машину не оставишь.
Он посадил меня в такси и сказал, что непременно сегодня позвонит, чтобы узнать, как я добралась. Однако дозвониться в тот вечер до меня ему не удалось.
Еще за дверью я услышала, как в квартире разрывается телефон.
— Ты где бродишь, шалунья? — послышался из трубки голос родной, близкий, нефальшивый голос моего возлюбленного.
— На свидание ходила, — честно сказала я.
— С кем это? Убью!
— Друг детства, передала свою книжку для его бабушки — любительницы любовных романов.
— Изменщица! А я-то хотел с тобой сегодня в Коломенское съездить.
— Да, там мы еще не были! — усмехнулась я.
— Я там знаю одно милое местечко, скрытое от назойливых взглядов.
— Леша, мне это надоело! Особенно после монастыря. Такое впечатление, что тебя мама в детстве роняла. Ты совсем ничего не соображаешь! — рассердилась я.
— Да ну тебя, не хочешь в усадьбу — не надо. Давай чатиться. Залезай в чат «Толстушки», я тоже подключаюсь. Твой «ник» я знаю. А меня угадывай.
Я скинула шубу, включила компьютер, долго не могла залезть в Интернет (как потом оказалось, я вставляла телефонный шнур не в то гнездо) и вошла в чат «Толстушки». И только мой «ник» высветился, некий Одинокий принц поприветствовал меня. Без сомнения, это Кронский, только «ник» мог бы придумать поинтереснее.
Одинокий принц: Привет, шалунья!
Я: Представляешь, пихаю шнур не в ту дырку. Насилу тут оказалась.
Одинокий принц: Милая, у тебя так много отверстий, куда бы можно запихнуть шнур?
Я: Ну да, я, как всегда, перепутала — в ту, что левее. Не знаю, для чего она. Приедешь, объяснишь.
Одинокий принц: Да я щас готов прилететь к тебе на крыльях, чтобы все подробно рассказать — куда чего.
Я: Ты правда хочешь приехать? И мы не поедем ни в какое Коломенское?!
Одинокий принц: Конечно, хочу, моя толстушечка! Зачем нам ехать в какое-то Коломенское? Мы и так прекрасно проведем время…
Я была на седьмом небе от счастья. Наконец-то он согласился на нормальные, человеческие отношения, наконец-то блеснула надежда исправить «Лучшего человека нашего времени» назло Пульке.
Голодный пес: Можно, я тоже к тебе приеду?
Я: А тебя никто не звал.
Одинокий принц: Смотри-ка, пристроился! Нужен он нам очень!
Я: Так приезжай, чего время-то терять!
Одинокий принц: Дай мне телефон, я тебе позвоню, и ты скажешь свой адрес, а то тут к тебе вся «комната» намылится.
Я: Перестань придуряться!
Одинокий принц: Не понял…
Я: Можно подумать, ты не знаешь моего адреса и телефона!
Одинокий принц: А я-то думал, ты это серьезно.
Я: Серьезно — приезжай. Я тебя жду.
Одинокий принц: Адрес давай!
И только тут меня посетили смутные сомнения, что я приглашаю в гости совершенно незнакомого человека, что этот самый Одинокий принц вовсе не «Лучший человек нашего времени»… Но то были всего лишь сомнения. Чтобы удостовериться, я написала:
Я: Кронский, прекрати издеваться! Ведь я знаю, что это ты!
Одинокий принц: Я — Кронский? Да нет, я Лев Толстой, ты ошиблась!
После этого сообщения я мгновенно вышла из Интернета и позвонила «Лучшему человеку». Как ни странно, у него было свободно — значит, он тоже отключился.
— Это ты — Одинокий принц? — спросила я без всякого предисловия.
— Какой принц?
— Значит, я разговаривала невесть с кем, открыла ему все свои тайны и позвала к себе домой?! Ты почему не в Интернете? — грозно спросила я.
— У меня карточка закончилась, — как обухом по голове.
— Ну вот, ни в чем на тебя нельзя положиться!
— Ты лучше расскажи, кого ты там нацепляла, скромная монашенка?
— Ко мне чуть было не приехал некий Одинокий принц.
— Слушай, а это идея! Давай я сейчас за тобой заеду, съездим куда-нибудь.
— Ночь на дворе. Никуда я не поеду. Хочешь, приезжай в гости.
— Да ну, это неинтересно.
И тут я вспомнила, что обещала Пульке перевоспитать Кронского.
— Я знаю, что тебе интересно. Вот только не пойму, почему за все время нашего знакомства ты считаешься только с собой?! Мне все это не нравится и надоело! — выпалила я и тут же пожалела о сказанном — еще подумает, что он мне надоел. — Нельзя встретиться хоть раз по-человечески?
— Хорошо. Через час буду у тебя, — серьезно сказал он и повесил трубку.
«А вдруг он пошутил или того хуже — обиделся. Ну и пусть обижается! В конце концов Пулька права — до добра это не доведет. Нужно все это прекращать», — думала я, но обрывать отношения с «Лучшим человеком нашего времени» было для меня все равно что отрезать половину сердца. На этот раз я попалась серьезно — я полюбила, поэтому и шла на все, что предлагал мне Алексей: мучилась, позорилась, заболела даже из-за него, а все же шла, зная, что осуждают меня все, кто был в курсе моего с ним ненормального романа. Но странно, после встречи с Алешей, несмотря ни на что, мне не было стыдно, меня не мучила совесть, наоборот, я ощущала какой-то внутренний подъем, прилив бодрости и жизненных сил. С тех пор как я познакомилась с ним, мне хочется жить, просыпаться по утрам, зная, что сегодня увижу его, засыпать, вспоминая прошедший день. Короче, без сомнения, я полюбила. И пускай в меня бросают камни те, кто меня не понимает, те, кто никогда в жизни не испытал этого чувства!
Вот. Все сказала.
Он все же приехал — с охапкой мелких красных гвоздик, конфетами, каким-то синим ликером и целым пакетом продуктов (видимо, побоялся, что я опять стану угощать его «Уходящей осенью»).
Мы долго болтали обо всем и ни о чем. У меня уже слипались глаза, но «Лучший человек нашего времени» и не собирался спать.
— Скоро дворники метлами зашуршат, — намекнула я.
— Правда, приятно ощущать, что кто-то работает на морозе рано утром, в то время когда ты ничего не делаешь и нежишься в теплой постельке? Когда ты сам решаешь, в котором часу тебе встать, пойти, положим, сегодня туда, отложить на завтра или вовсе не ходить. Это преимущество нашей профессии.
— Это преимущество любой свободной профессии. Пошли спать, — наконец прямо сказала я.
— А может, мне лучше домой поехать? — в лоб спросил он и, видимо, тут же прочитал на моем вытянутом, изумленном лице разочарование и даже негодование.
— Как хочешь, — процедила я сквозь зубы. Нет, Пулька права, такого не исправишь.
— А можно я останусь? — спросил он, чувствуя, что обиделась я не на шутку.
— Как хочешь, — снова процедила я.
Он выпил ликера, потом долго сидел в ванной; за окном забрезжил рассвет. Я лежала под одеялом, уткнувшись в подушку и изо всех сил стараясь не заснуть.
Наконец он встал передо мной, завернутый в полотенце, с сильными, длинными ногами, развитым торсом, высокий… Меня от его вида даже как-то повело — книжные полки, стены, радужный плакат «Дорогая, вставай! Тебя ждут великие дела» — все закружилось перед глазами, завертелось…
Он сел на край кровати и серьезно, мне показалось, печально посмотрел на меня — никогда я еще не видела его таким. Всегда он был веселым, неутомимым, всегда что-то придумывал, сочинял. А тут вдруг в одну минуту произошло, перевернулось в нем что-то — будто там, в ванной, он узнал о смерти близкого человека.
Он вдруг схватил меня, с силой притянул к себе и принялся целовать мои волосы. Потом заглянул в глаза, и в эту секунду я поняла, что именно сейчас, в этот момент, он тоже любит меня. Может, не так, как я — а своей любовью, на которую только он один в мире способен. Не помню, у кого вычитала я эту фразу, да и в точности я ее не помню: мол, любила я тебя минутку. До сих пор не могла понять ее смысл, а теперь поняла, вернее, почувствовала, как это можно одно лишь мгновение человека любить.
Он вдруг отпрянул и сосредоточенно посмотрел на меня, словно пытаясь разгадать во мне что-то важное, скрытое от всех — то, что я никому не рассказываю и, может, даже сама не знаю, что это есть во мне.
— Я вдруг вспомнил через запах твоих волос, — глухим голосом проговорил он, — как однажды, в детстве, когда мне было шесть лет, мне приснился страшный сон: хоронили мою бабушку, которая тогда еще была жива.
Гроб стоял посреди поляны, а около него, извиваясь, танцевали красивые цыганки в пестрых ярких юбках, и одна из них захотела сжечь меня живьем. Я бежал от них, пробираясь сквозь утренний туман, но когда оглянулся — никого не увидел. Лишь туман окутывал меня все гуще и гуще, и я не знал, куда идти и что делать. Я проснулся в холодном поту и побежал в комнату к матери — она уложила меня рядом с собой и утешала, а я играл ее красивыми волосами, от которых исходил тот же запах, что и от твоих…
Он замолчал, продолжая с грустью смотреть на меня. И мне отчего-то стало так жаль его, что сердце сжалось. Отчего? Это всего лишь сон. Видимо, за этим туманом, цыганками, костром и отчаянием я почувствовала, что он, сам того не ведая, попытался рассказать мне, насколько он несчастен, несмотря на свою популярность, успех и то, что он — «Лучший человек нашего времени».
— У тебя родители живы? — спросила я.
— Нет. Один я, совсем один, — в голосе все еще слышалась грусть, но вдруг он приблизил губы к моему уху и со своим обыкновенным задором весело сказал: — Пошли на балкон, моя «кукурузница». Тут все равно ничего не выйдет!
— Что?! Ах, вот почему ты меня тут разжалобить старался! А я-то, глупая, клюнула! До чего же я наивная!
— За это я тебя и люблю — за твою неискушенность. Пошли на балкон! — крикнул он, подхватил меня на руки (теперь он это делал без труда — я за это время скинула 10 кг) и понес на кухню.
— НЕТ! НЕТ! НЕТ! Ты что, с ума сошел?! На улице уже светло! Нас увидят из окон всех близлежащих домов! — тщетно сопротивлялась я.
— Надо же хоть чем-то развлечь народ! Им и так несладко живется!
— Ты опозоришь меня на весь район! Я потом из дома не смогу выйти!
— Дудки! — бросил «Лучший человек нашего времени» — он был непоколебим.
Помню только, что на балконе было очень холодно и что руки примерзли к железной перекладине. Вокруг я не видела ничего, потому что от стыда и ощущения того, что меня могут увидеть из окон мои бывшие одноклассники, их родители, а также просто добрые знакомые, закрыла глаза и пребывала в бесчувственном состоянии — в голове пульсировала только одна навязчивая мысль: «И зачем только я пригласила его в гости!»
— Ну, не обижайся, моя скалолазочка, — шептал он, укладывая меня в постель.
Нет-нет. Это уже слишком. Это конец. Я разрываю все отношения с «Лучшим человеком». Иначе нельзя, иначе я погибну — заболею воспалением легких и умру или стану совершенно безнравственной, доступной девицей. Вообще-то, наверное, я ею уже стала. Чего греха-то таить! Я смотрела на него исподлобья. Он наклонился к моему уху и нежно поцеловал. Да что ж это такое, в конце концов! Я совершенно не могу на него сердиться!
— Ты не забыла, через четыре дня Новый год! Встречаем у меня. Подъезжай к половине двенадцатого.
— Ладно.
— А теперь тебе надо выспаться, — сказал он и ушел.
Как же, дадут тут выспаться! В одиннадцать утра заявилась мама — цветущая, помолодевшая, но расстроенная.
— Маня, ты должна мне помочь! — крикнула она с порога. — Я просто не знаю, что делать! Николай совсем взбесился. Он что-то подозревает. Ну чего ты зеваешь?! Уже давно пора вставать.
— Я слушаю, слушаю. Чем помочь?
— Ну, во-первых, какой интерес мне с ним встречать Новый год, когда Веня позвал меня к себе?!
— Веня — это охранник? — поинтересовалась я, впервые услышав имя маминого любовника.
— Ну а кто еще-то! — возмутилась она.
— А как помочь? Мне провести новогоднюю ночь с Николаем Ивановичем?
— Что ты чепуху-то мелешь?!
— Но я не понимаю, что от меня требуется!
— Подтвердить, что мы с тобой где-нибудь вместе встречаем Новый год. Придумай! Ты ведь писатель!
— Можно сказать, что мы идем в клуб… — неуверенно проговорила я, и мама зацепилась за эту идею.
— Точно! Скажи, что ты с трудом достала приглашения, что такой шанс бывает только раз в жизни и так далее.
— Но он тоже захочет пойти.
— Мало ли что он захочет! А котов он кому развел? На кого, интересно, он их оставит? Они передерутся и всю квартиру изгадят!
Я позвонила Николаю Ивановичу и все уладила. Мама светилась от счастья.
— Ну, а что во-вторых? — переведя дух, спросила я.
Во-вторых, совсем плохо — просто катастрофа. В конце января он тащит меня с собой в деревню. Отвертеться нет никаких шансов. Как я там буду без Вени, а он тут без меня? Не представляю. Но на этот счет Николай категоричен — тут, боюсь, ничего не придумать.
— Разлука укрепляет чувства, — попыталась утешить я ее, но мама обреченно махнула рукой, чмокнула меня в щеку и упорхнула на свидание со своим охранником.
У меня же весь день был разбит из-за бессонной ночи, к тому же мысли о Кронском и его пристрастиях съедали меня изнутри. Где-то в глубине души я знала, что наш роман будет длиться до тех пор, пока я иду у него на поводу, только не хотела в этом себе признаться. От этого чувства, нет, скорее, предчувствия настроение испортилось окончательно, и я решила собрать подруг, чтобы немного развеяться. Да и потом, Новый год на носу!
Однако обзвонив всех, я вдруг поняла, что мы все как-то сами собой разбредаемся, что у них свои проблемы и заботы. Одним словом, вся наша пятерка отдалилась друг от друга. Или я ошибаюсь и во всем виновата предновогодняя суета?..
Анжелка была не в духе — она с Кузей наряжала искусственную елку, тот сел на дореволюционную сосульку и закричал как сирена. На том наш разговор был завершен.
Женька сидел дома и второпях переводил какую-то очередную инструкцию — ему было некогда со мной болтать. Он сказал только, что Икки я могу не звонить, потому что со вчерашнего дня она работает секретарем в редакции. Все-таки он помог ей устроиться на работу!
Пулька сразу, без предисловий спросила:
— Ну, как, как у тебя с Власом дела? Что было-то? Расскажи. Только по-быстрому, а то я убегаю. Представляешь, как мне повезло?! Родители укатили в Швейцарию с заездом в Рим, а у меня сегодня романтическое свидание с отоларингологом. Такой парень хороший.
— Твои родители в Швейцарии? — удивилась я.
— Да. Поехали по местам Гоголя. Когда-то великий писатель провел там целый день, убивая ящериц тростью. А теперь эта трость якобы хранится в местном музее. Так они разнюхали, что это подделка, а настоящая где-то в Риме.
— А ребро? Ребро-то они нашли?
— Оно бесследно исчезло самым что ни на есть мистическим образом среди бескрайних просторов нашей страны, но они, конечно, на этом не остановятся и после трости непременно переключатся на ребро. Фанаты! — фыркнула Пулька и снова спросила, как у меня дела с Власом.
— Да никак. Отвезла ему книжку, посидели в каком-то восточном кафе и разошлись.
— Какая же ты глупая! Такого парня проворонишь! Он же тебя любит!
— Спрашивал, где я Новый год буду встречать.
— А ты?
— Сказала, что с подругами.
— А он?
— Предложил встретить вместе…
— А ты?
— Сказала, что уже договорилась, а уговор дороже денег.
— Вот ты меня извини, но ты, Манька, все же с придурью! Хоть сообразила сказать, что с подругами отмечаешь! А то встретила бы с ним Новый год — спокойно, без суеты. Еще неизвестно, что тебе твой Кронский выкинет в новогоднюю ночь! От него только и жди сюрпризов!
— И зачем ты так! — чуть не плача, воскликнула я. — Неужели непонятно, что я его люблю, а этот Влас мне как кость в горле — скучный, нудный, средний!
— Делай что хочешь! Я вмешиваться не люблю, — сказала она, хотя по жизни только и делала, что вмешивалась и давала советы. — Ты слышала, у Анжелки-то нашей что-то не все так гладко с ее трезвенником Михаилом?
И это называется «не люблю вмешиваться».
— А что такое?
— Да она мне по секрету сказала… Не узнать его прямо — как будто озверел мужик. И куда вся любовь его неземная делась — след простыл. С Анжелкой не разговаривает — только в крайнем случае и то через губу, на ребенка рычит, злой, аж страшно.
— Чего это с ним?
— Да кто его знает? Может, климакс ранний, а может, у него кто появился… А у нашей дурочки живот на нос лезет. Мало ей одного Кузи! Она уж и духовному отцу пожаловалась, и к пастору ходила, совета просила. Ничего не помогает. Как подменили мужика. Ой! Ну, ладно, заболтала ты меня! Я тебе позвоню. Кстати, почему у тебя сотовый не работает?
— Работает. Почему не работает?
— Звонила — отключен. Ты что, не платишь за него? Ну, пока.
Не успела я положить трубку, как мне позвонила Любочка из редакции:
— Корытникова?! Маш! Привет! Прочитала твой роман. Никуда не годится! Ты что, обалдела? Это ж надо было додуматься — написать любовный женский роман от лица мужика!
Я не верила своим ушам — как могло такое случиться, что мой роман не подошел? От подобных недоразумений я давно отвыкла — вот уже три года мои тексты брали с закрытыми глазами.
— По-моему, оригинально и необычно, — попыталась возразить я, надеясь, что еще не все потеряно.
— Нет, нам это не подходит. Тоже мне «Лолита» наоборот! — Любочка оставалась непреклонной.
— Но что же делать?
— Что?.. — задумчиво переспросила она. — Нет, Мань, сам по себе текст неплохой. Знаешь, а ты его переделай. Напиши от лица главной героини, и мы его возьмем. Точно, так и сделай. Хорошо? А вообще, лучше бы ты написала то, что я тебя просила — что-нибудь наподобие «Дневника Бриджит Джонс».
— Ну, не знаю. Попробую сначала этот переделать, — неохотно согласилась я.
— Да не расстраивайся ты так. С наступающим тебя.
— Тебя тоже.
Сцена на балконе, Пулькины нападки на Кронского, а теперь еще и проблемы с романом, в то время как в моей голове уже созрел новый сюжет, окончательно вывели меня из равновесия.
Я включила компьютер, открыла файл с текстом и бездумно принялась его перечитывать, совершенно не представляя, что тут можно исправить. На мой взгляд, все было на своих местах — ни убавить, ни прибавить.
Мучилась я часа два, потом решила позвонить «Лучшему человеку нашего времени» и поведать о своем горе:
— Леш, ты представляешь, они не взяли мой роман. Это впервые за три года! Может, я исписалась и больше ни на что не способна?
— Это Люба «с дуба» тебе сказала?
— Да.
— Она объяснила почему?
— Потому что любовный женский роман не может быть написан от лица мужчины.
— А по-моему, это занятная идея. Хотя у них там свои правила и под них нужно подстраиваться, если не хочешь выслушивать отказы.
— Ладно, может, удастся как-то переделать его. Ты что сегодня делаешь?
— До Нового года осталось три дня. Очень мало времени и много дел. Давай встретимся тридцать первого у меня дома.
— Угу.
— Я тебе позвоню, «кукурузница».
У него много дел. У всех много дел. Все бегают по магазинам, скупают все подряд — совершенно ненужные вещи, лишь бы что-то купить и лишь бы было что подарить родственникам и знакомым, чтобы не упасть в грязь лицом. Все это дашь на дашь.
Ужас! До Нового года три дня, а я еще никому не купила подарка. Я до этой минуты даже не подумала об этом! Но традиция есть традиция.
Я оделась и пустилась в путешествие по магазинам.
Стоило только зайти в крупный универмаг, как меня подхватила лавина народа со злыми, озабоченными лицами и понесла в неизвестном направлении. Насилу вырвавшись, я очутилась в отделе женского белья. Может, купить здесь что-то для мамы? Сейчас ей это пригодится. Решено. Через полчаса подарок для мамы был — комплект из нежно-сиреневого пеньюара с ночной сорочкой, вышитый вручную.
А что думать? В этом отделе можно приобрести и подарок для Женьки Овечкина(ой) — он (она) ведь обожает белье, и это ему (ей) тоже в скором времени пригодится. И я купила для Женьки шикарный комплект белья цвета шампанского.
Выйдя из отдела, я изо всех сил пыталась не поддаться обезумевшей лавине, активно работая локтями.
Вот. Отдел подарков для мужчин: фляжки для виски, курительные трубки, кожаные портмоне, мужская туалетная вода, запонки… Что бы купить «Лучшему человеку нашего времени»? Необходимо, чтобы подарок был изящный и нужный. Ручки! Он ведь писатель. И я купила ему дорогущую паркеровскую ручку с золотым пером в бархатном футляре.
Денег оставалось не так уж много, но при желании можно было уложиться и купить подарки остальным членам содружества.
И тут толпа занесла меня в отдел шляп, шарфов и т.п. Взгляд мой сразу остановился на огромном массивном шарфе цвета махровой сирени — любимом цвете Икки. Я не раздумывая купила его. К тому же вместе с ним продавались чудесная муфточка и забавная шапка.
Остались Пулька и Анжела. Только вот кто чему будет рад? Говорят, книга — лучший подарок. И я недолго думая вырвалась из удушливого универмага и ринулась в книжный магазин. Народу там было не меньше. Возле полок толпились студенты, старушки, просто зеваки, которые толком не знали, что им нужно.
Я первым делом прошла к стеллажам с любовными романами, и когда увидела ряд толстых книг в глянцевых обложках, словно сладкие карамельки, по телу разлилось приятное тепло, но, вспомнив, что последний мой роман ожидает другая участь, мне стало не по себе.
Пульке я купила толстенную книгу «Последние разработки гинекологии в области УЗИ», Анжеле — «Ребенок и уход за ним» Бенджамена Спока. Книги мне завернули в подарочную бумагу и прицепили по праздничной, переливающейся всеми цветами радуги звездочке. Так что вид вполне приличный и дарить совсем не стыдно.
Нагруженная книгами, я наконец выплыла из магазина и вспомнила, что нужен еще один подарок — для Мисс Бесконечности. Я даже знала, чему она будет рада, ей нужны добротные шерстяные носки — железобетонные, потому что пятки у Мисс Бесконечности, как лезвия. К счастью, в соседнем магазине я быстро нашла то, что нужно — толстые, шерстяные темно-синие джурабы с интересным серо-красным орнаментом на икрах.
Домой я пришла в полнейшем изнеможении. И кто только придумал эти праздники? Радовало одно — больше не нужно ходить по переполненным магазинам и тратить сумасшедшие деньги на ненужные подарки.
Поздно вечером мне позвонил «Лучший человек нашего времени» и задал мне тот же вопрос, что и Пулька сегодня днем:
— Зачем ты сотовый отключаешь? Звоню тебе весь день, не могу дозвониться!
И тут я поняла, что с моим сотовым действительно что-то не в порядке. Я вытряхнула все из сумки — телефона нет, потом перерыла весь дом — бесполезно. Я его потеряла, где-то оставила. Наверное, вчера в этом проклятом восточном кафе, когда ужинала с Власом. Как чувствовала, не нужно мне было встречаться с этим напыщенным индюком — от него одни неприятности.
Время — три часа ночи. Мой роман отвергнут, Кронского не переделать, сотовый потерян.
В довершение всего снимаю телефонную трубку — гудка нет, мертвая, уходящая в вечность гробовая тишина. Закон подлости: два дня до Нового года — я без связи.
Когда под утро я по обыкновению блуждала по лабиринту забвения, была уверена почти наверняка, что телефон уже включился, что это просто какое-то недоразумение.
Утро 31 декабря. Мои надежды на то, что телефон заработает сам собой или ко мне под Новый год придет телефонный мастер в костюме Деда Мороза, не оправдались — в трубке было глухо, как в… дремучем, непроходимом лесу. Я металась по квартире, ломая от безысходности руки, потом решила позвонить маме и Кронскому. От кого? Соседей я не знаю (надеюсь, и они меня тоже) — жильцы большей частью либо снимают квартиры, либо не так давно купили.
Икки! Конечно же! Я быстро оделась, схватила сверток с подарком для подруги, выскочила на улицу и помчалась в соседний квартал, если преодоление не расчищенных сугробов можно назвать «помчаться».
Над домами низко нависло темно-серое, словно металлическое небо, без характерного блеска — матовое, тяжелое, наполненное водой. Мне показалось, будто кто-то держит его за веревочки, и от тяжести руки ослабели, и этот кто-то постепенно опускает его все ниже и ниже. Даже страшно стало, что он выбьется из сил и уронит небесную твердь нам на головы в самый канун Нового года.
Наконец-то я, занесенная снегом, позвонила в дверь Икки. Внутри послышался крик, потом дверь распахнулась, и я увидела перед собой Людмилу Александровну с бумажками в волосах вместо бигуди, ситцевом летнем халате с вытертым животом и мохнатых шерстяных носках. Она смотрела на меня выпучив глаза, явно не узнавая.
— И шляются, и шляются тут без конца! Как будто это коммуналка, как будто я здесь не живу! Вот к кому вы? — злобно спросила она меня.
— Людмила Александровна! Здравствуйте! С наступающим вас праздником, это же я — Маша! Икки дома? — как можно приветливее воскликнула я — непонятно, что у этой несчастной женщины на уме.
— Машенька! Я тебя не узнала! Надо JKC, КЭ.К порошит-то, как порошит-то! Ты как снеговик. Давай-ка сюда шубу и проходи. Иккуля дома, у себя в комнате.
«Иккуля», «давай-ка сюда шубу» — я за Людмилой Александровной раньше никогда не замечала такой любезности. Что-то с ней не так!
— Ой! Манька! Привет! Ты так неожиданно!
Чего не позвонила-то? — одновременно удивилась и обрадовалась Икки.
— Ты представляешь, закон подлости! Теперь-то я точно убедилась, что он существует! У меня под Новый год сломался телефон!
— А сотовый? Я, кстати, звонила тебе утром: абонент временно отключен. Ненавижу этот голос! Ну, я подумала, что ты уже у своего Кронского и тебе, конечно, не до меня.
— Если бы так! — с горечью воскликнула я. — Я его потеряла!
— Кронского? Вы что, поругались? Это все Пулька! Это ее проделки! — как обычно, затараторила она.
— Да телефон я где-то свой посеяла! И правда Пулька во всем виновата! — Было приятно обвинить хоть кого-то в своем несчастье.
— Расскажи, расскажи!
— Да нечего тут рассказывать. На днях она попросила съездить с ней к Власу в автосалон, чтобы он ей скидку на машину сделал.
— Это к жениху-то твоему в желтых ботинках?! — усмехнулась она.
— Сводница проклятая! Он попросил мою последнюю книжку для своей бабушки. Ну, я, понятное дело, не таскаю с собой собственные книжки. Он — давай встретимся вечером, ты мне подвезешь. Как будто не может сам купить!
— Вот именно! — горячо поддержала меня Икки. — А ты что?
— Да я не успела и рта раскрыть, как Пулька: «Она сегодня совершенно свободна, совершенно свободна…»
— Ну, Пулька! — рассердилась Икки. — И что у нее за охота в чужие дела лезть!
— Пришлось с ним встречаться, подвозить эту чертову книжку. Я, естественно, торопилась, потому что вечером мы должны были встретиться с Алексеем — мы каждый вечер с ним встречаемся, и этот пресный тип поволок меня в какое-то восточное кафе с монотонной музыкой. В общем, это все неважно. По-моему, именно там я и потеряла сотовый. Я никак не могла от него отвязаться — нервничала, торопилась… И вот результат.
— Ну, Пулька! — снова злобно воскликнула она. — Я бы тебе свой дала, но у меня отключен за неуплату.
— Слушай, я ж тебе подарок принесла, — вдруг вспомнила я и достала из пакета сверток.
— Я тоже. — Икки полезла в шкаф.
— Зачем ты тратилась?!
— Что значит тратилась? — обиделась она.
— Ты ведь недавно устроилась на работу. Я же все понимаю.
— Глупости, держи, — и она протянула мне маленькую коробочку — это были мои любимые духи.
— Ты с ума сошла! Нельзя быть такой расточительной!
Но Икки уже не слушала меня — она распаковывала мой подарок.
— Какая прелесть! Божественно! А цвет! Я тебя обожаю! — взвизгнула она, рассматривая бюстгальтер цвета шампанского.
— Черт! Я перепутала подарки! — вырвалось у меня от неожиданности.
— Так это не мне? — разочарованно спросила Икки.
— Это я Женьке приготовила, а тебе… — но она не дала мне договорить — ее уже не интересовало, что я ей приготовила.
— Женька обойдется! Я, конечно, могла бы передать ему твой подарок, потому что мы встречаем Новый год вместе. Вернее, не встречаем, а работаем — он попросил меня помочь — ничего не успевает. А я, как ты знаешь, обязана ему работой и не могу отказать. К тому же мне все равно негде справлять… Ты с Кронским, Пулька с отоларингологом, Анжела — с семьей. Одна я — не пришей кобыле хвост, — сказала она и, подумав, добавила: — Знаешь, и мамаша, кажется, только и жаждет, чтобы я куда-нибудь ушла.
— Да ну, брось ты!
Я серьезно. — Икки перешла на шепот и села рядом со мной на диван. — Последнее время ей кто-то стал звонить, а когда я подхожу к телефону — трубку швыряют. Но вчера… Это вообще — нонсенс! Мужской голос, вежливо так, с придыханием говорит: «Добрый вечер. Будьте добры Людмилу Александровну к телефону». Представляешь? С кем она могла познакомиться, а главное — где, ума не приложу! Она ведь только в магазин ходит да телевизор смотрит!
— Может, в магазине? — предположила я.
— Не знаю, на нее это непохоже.
— А я и смотрю, переменилось она! Я как увидела ее сегодня, сразу это почувствовала, — подтвердила я.
Ты заметила?! Заметила?! — будто даже обрадовалась Икки. — Кошмар! Я чувствую, устроит она мне райскую жизнь. А я-то думаю, что это она со мной разговаривать вдруг начала и даже холодильник на ключ не закрывает — пользуйся, мол.
— Не паникуй раньше времени — может, еще все обойдется. — Я попыталась успокоить ее.
— Да какой там обойдется! — Икки чуть не плакала. — И почему я такая несчастная!
— Нахалка ты! — Я решила действовать методом «бури и натиска». — У тебя есть такие подруги, а ты…
— Давай чай пить, у матери в холодильнике торт со вчерашнего дня остался.
— Нет-нет, я пойду.
— Ну как хочешь, а то бы посидела еще.
— Нет. — Я стремительно встала с дивана и направилась в коридор, снова нацепила мокрую шубу, и тут взгляд мой упал на телефон. — Вот балда-то, я ж к тебе звонить приходила!
— Точно!
До телефонной станции было не дозвониться. Потом я долго набирала номер «Лучшего человека нашего времени», но в трубке слышались лишь монотонные, однообразные гудки, сообщающие о том, что хозяина нет дома, а сотовый был заблокирован, впрочем, как и у меня. Я была в шоке — оказывается, в жизни не все так просто.
— Да не расстраивайся — ведь 31 декабря. Все суетятся, никого дома нет. Вы же с ним договорились?
— Да, — растерянно сказала я, — одни неприятности — представляешь, мой новый роман не подошел!
— Как это? — Икки тоже успела забыть то время, как пять лет кряду я не могла пристроить ни один свой текст ни в одну редакцию Москвы.
— Сказали, в любовном женском романе не может быть главным героем мужчина, хотя текст неплохой.
— Эту идею, мне помнится, тебе подкинул Женька?
— Да, он посоветовал.
— Вот Овечкин! — сквозь зубы процедила она, и мне снова стало приятно, что роман отвергли из-за Овечкина, а я тут абсолютно ни при чем. Нет в том моей вины! И я позвонила маме.
— Здравствуй, Машенька! — весело и бодро крикнула она в трубку. — С кем ты столько разговариваешь по телефону — у тебя все время занято! Поздравления принимаешь?!
У мамы, судя по всему, было превосходное настроение, в отличие от меня. Что ж тут удивительного — у нее работал телефон, и она точно знала, с кем будет встречать Новый год.
— Мам, у меня телефон сломался, вызови мастера.
— А сама не можешь?
— Я не могу дозвониться до телефонной станции. Я от Икки.
— Передай ей привет. А ты в своем уме? Какой мастер на праздник? Кстати, а сотовый?
— Потеряла.
— Молодец!
— Ну что, тебе позвонить трудно?
— Нетрудно, только я точно знаю, что не дозвонюсь и потрачу полдня, а мне нужно еще приготовить праздничный стол Николаю Ивановичу. Он, если ты не забыла, по твоей милости будет справлять этот светлый праздник один с котами!
Вот наглость! Последнее предложение мама произнесла особенно громко (почти прокричала), видимо, чтобы ее услышал бедный и обманутый Николай Иванович.
— Мамочка, мне кажется, тебе не обязательно оставлять Николая Ивановича одного с кошками в этот волшебный праздник. Это как-то нехорошо.
— Дозванивайся до бюро ремонта сама, — прошипела она в трубку и снова воскликнула необыкновенно громко: — Так, значит, в одиннадцать я буду у тебя, потом за нами заедет Пулечка, и мы все поедем в клуб?!
— Какая у тебя бурная фантазия! — издевалась я.
— Ну, договорились! — крикнула она и бросила трубку.
Одним словом, поход к Икки под низким небом, которое вот-вот упадет, не дал ровным счетом ничего, если не считать приятных минут общения с подругой и ее радости по поводу подарка, который был предназначен для Женьки.
До середины дня я слонялась по квартире взад-вперед, периодически срывая трубку бесполезного, молчащего телефона, который так и хотелось разбить о стену. Потом я стала сама себя уговаривать. Ведь мы действительно договорились с Алексеем — я должна подъехать к нему в половине двенадцатого. Чего переживать так по поводу прервавшейся телефонной связи? Надо приводить себя в порядок и готовиться к встрече Нового года.
Долго уговаривать мне себя не пришлось — стрелки часов уже показывали пять вечера, и я вплотную занялась своей внешностью (мне даже удалось безукоризненно накрасить ногти и не смазать их!).
В четверть одиннадцатого я посмотрелась в зеркало и…
Да! Честно говоря, я давно себе так не нравилась. Безупречный, естественный макияж. В меру налаченные кудри густых каштановых волос не напоминали на ощупь сетку советских времен для картошки, как это обычно у меня случается. Платье (купленное когда-то, но совершенно новое) не какого-то там дешевого цвета с наглой примесью электрика, а богатого темно-синего, как южное ночное бархатное небо (если только с него убрать все звезды и луну)! Длинное, с разрезом выше колена, а главное, на узеньких бретельках. Мечта всей жизни! Эти самые бретельки я не могла позволить себе до встречи с «Лучшим человеком нашего времени» из-за жира, который предательски нависал под мышками. Вид, мягко говоря, был неприглядный. Но теперь все изменилось — настолько, что назойливый Влас, когда увидел меня в автосалоне, спросил, не заболела ли я. Неправда! Я чувствую себя как никогда хорошо, да и выгляжу отлично. Особенно глаза — только теперь я заметила, как они блестят, только теперь поняла, что они, как сказал классик, являясь зеркалом моей души, живут, а раньше — блеклые и тусклые — выражали лишь усталость существования, безразличие и скуку. Ой! Совсем забыла — маленький, но очень важный штрих — колье из фианитовых мелких капель, смягчающее строгость темно-синего цвета. Горят, как бриллианты, никто не отличит, мамаша подарила, кажется, на двадцатипятилетие.
Наконец, я накинула шубу и, положив в сумочку подарок для Алексея, помчалась к нему домой встречать самый лучший Новый год в моей жизни.
Мне везло сегодня. Я почти сразу поймала такси и, глядя на падающие хлопья снега, зачем-то считала про себя до тысячи. Меня выводили из себя летящие за окном слипшиеся снежинки, потому что я никак не могла определить, где мы находимся; раздражали частые остановки из-за дорожных пробок, которые вечно ругала Пулька.
Сердце бешено билось: мне не терпелось вихрем ворваться в странную, просторную квартиру Алексея, показаться ему совсем другой — намного красивее, очаровательнее, загадочнее. Я чувствовала — сегодня я действительно другая. Внутри меня появилось нечто новое — искра или огонь, не знаю, как объяснить, что вырывалось наружу, но окружающие улавливали это. И тот молодой человек, который уступил мне свое такси, и сам таксист, который всю дорогу, сбивая со счета, вызывал меня на разговор, пытаясь развеселить…
Что же это новое? Что привлекает, притягивает во мне теперь других людей? Чего не было раньше?.. И тут я поняла — и ощутила, потому что задумалась над новым своим состоянием именно в тот момент, когда оно нахлынуло на меня. Если б стала вспоминать потом, ни за что б не поняла! Оттого-то люди и не могут дать хотя бы приблизительного описания этого наиважнейшего события — пожалуй, главного события всей жизни человеческой! А многие в старости вообще гадают, происходило ли с ними это когда или вовсе не было.
Так вот, в один миг я вдруг поняла, что, пока ловила такси, пока ехала в машине по заснеженной дороге, пока злилась на московские пробки, считала до тысячи — все это время я была счастлива. И не было на Земле человека счастливее, чем я в ту секунду, когда осознала это.
Счастье, оказывается, это не обязательно происходящее в определенном времени и месте событие. Счастье — это предвкушение события, которое должно произойти в определенном месте и в определенное время. Это как праздник, которого мы ждем, к которому готовимся. Именно во время подготовки к нему мы ощущаем радость, трепет; мы представляем, как все должно произойти. А когда он наступает — все куда-то пропадает, и мы не замечаем, что радость-то уже прошла…
Решив, что счастье — есть предвкушение, я подумала: «Теперь все зависит только от меня», и — расплатившись с разговорчивым таксистом, ринулась к подъезду «Лучшего человека нашего времени» — мне так не терпелось его увидеть, будто я жила без него целую вечность. Может, это результат того, что сломался телефон и мы не разговаривали с ним со вчерашнего вечера?..
Я набрала хорошо знакомый код квартиры Кронского, консьержки отчего-то сегодня не было — видно, уже ушла справлять Новый год. Потом долго поднималась на лифте. «Что ж он так тащится?» — все крутилось у меня в голове.
И, наконец, я стою перед дверью живого классика, вытаскиваю из сумки подарок и звоню…
«Что ж так долго-то? — снова думаю я. — Как медленно течет время именно сейчас! И отчего так бывает?»
Я звоню еще раз — уже настойчивее. Третий. Сжимаю бархатный футляр в руках, начиная чувствовать легкое беспокойство.
«Может, он в душе и не слышит звонка? Или я слишком рано пришла? Или он забыл купить что-то самое необходимое и вышел? Хлеб, например. Ну какой хлеб в половине двенадцатого 31 декабря? А может, готовит очередной сюрприз? Он ведь любит сюрпризы!» — именно эти мысли роились в моей голове, словно назойливые мухи. Но делать мне все равно нечего — Новый год справлять больше не с кем. Мы договорились. Нужно ждать. Мало ли что могло произойти — вполне возможно, что Алексей застрял в пробке. Все. Не буду ни о чем думать — буду просто стоять у двери и ждать, с минуты на минуту он должен подъехать.
Однако ни о чем не думать никак не удавалось, я переминалась с ноги на ногу, бархат футляра стал влажным от моих вспотевших рук. Сколько я так стояла у закрытой двери, не знаю, но мне показалось, что президент уже поздравил народ с Новым годом, а народ, в свою очередь, уже радостно выпил по бокалу шампанского и успел снова возвратиться к водке, как в этот момент лифт задребезжал, лязгнул и тяжело стал опускаться вниз.
Сердце мое замерло, я затаив дыхание прислушивалась к каждому звуку. Точно! Кто-то вызвал лифт на первый этаж! И этот кто-то — «Лучший человек нашего времени»! Я не сомневалась, что через мгновение увижу его. Но все же, надо признаться, где-то в глубине души свернулась клубком гнусная, ядовитая змея, которая изо всех сил пыталась сбить меня с толку и доказать обратное: лифт остановится ниже этажом, будь уверена, это не он.
Лифт снова лязгнул в двух шагах от меня, открылся, и я увидела…
Ах! Нет, лучше бы я этого не видела, лучше бы не приходила сюда вовсе, лучше бы сидела дома одна, лучше бы я не встретила тогда самого Мерзкого человека всех времен и народов в коридорах редакции и никогда потом!
Он был не один в лифте: его спутница — толстенная, вульгарная, крашеная блондинка с черными, отросшими волосами у корней — обхватила его за шею и удивленно смотрела на меня маленькими невыразительными глазками, как будто думала, что двери лифта никогда не раскроются, что он вырвется за пределы дома и унесет их в открытый космос. Нет, это не от ревности и злости я так описываю ее внешность — она действительно так выглядела!
Что ж, под Новый год иногда исполняются самые заветные желания — сбылось оно и у Кронского (он ведь баловень судьбы!) — секс в лифте. Они стояли в недвусмысленной позе, полураздетые так, что тут и додумывать мне ничего не оставалось. С минуту длилась эта немая сцена. Потом я швырнула бархатный футляр в лифт, молча развернулась и полетела вниз по лестнице.
— Марусь, Марусенька, — послышался сверху голос Кронского. — Ты совсем не так поняла! Я звонил тебе — у тебя все время занят телефон, — задыхаясь, кричал он мне вдогонку, — я подумал, ты зависла в Интернете и про Новый год забыла! И про меня!
Я мчалась по лестнице, не чувствуя ступеней, — ноги словно одеревенели, лицо полыхало, в голове ни одной мысли. Весь мой организм заполнило какое-то отравляющее вещество — оно, казалось, вместо крови текло в моих венах. Будто составляющие крови — вода, эритроциты, сухой остаток, плазма, креатин — сменились обидой, горечью, злостью, отчаянием, разочарованием, жалостью к себе. На секунду мне даже почудилось, что вены мои потемнели, и я почувствовала, как эта новая черная кровь разрушает меня изнутри, убивая.
Я вылетела на улицу. И теперь мне отчаянно не везло. Такси я поймать долго не могла, в метро спускаться не хотелось, я не перенесла бы давящего, замкнутого пространства подземки — и поплелась домой пешком.
Я встретила Новый год на улице: снег хлестал по лицу, повсюду слышался смех, громкие веселые голоса, взрывы петард, в окнах мерцали огнями елки. Все это я видела как во сне, сквозь пелену забытья. Я не плакала. Плачу я вообще редко, хотя говорят, что иногда это полезно — своеобразный выплеск дурной энергии.
Я была просто несчастна — по-настоящему, так глубоко, как никогда раньше. И теперь поняла, что есть горечь и печаль, потому что в эти минуты я задумалась над своим новым, так неожиданно сменившимся состоянием. Я задумалась точно так же, как час назад задумалась о счастье — уловила его, поймала за хвост. И теперь в старости я могу смело говорить, что в моей жизни было как счастье, так и несчастье.
Только почему-то новое мое нынешнее состояние не привлекало и не притягивало окружающих. Казалось, я для них стала невидимой.
Таким образом, в ту ночь я сделала для себя два вывода: счастье — есть предвкушение праздника, а несчастье — сам праздник, который заранее представляется совсем по-другому.
К трем часам утра я добралась до дома, вошла в темную пустую квартиру и в шубе опустилась возле телефона. Он не работал. Тишина. Лишь изредка слышались крики с верхнего этажа да грохот петард за окном, от которого я невольно вздрагивала.
Так я просидела до рассвета — часов пять, не меньше, — думая обо всем и ни о чем. Скорее, мною овладели не мысли, а эмоции. Очень странное состояние — наверное, результат безысходности, зыбкости, казалось бы, еще вчера, крепких отношений между мной и Кронским — ведь любил же он меня «минуточку». И не успел еще разлюбить — наш роман был в самом разгаре. Или мне так казалось?
Нет, я не ждала никакой серьезности в наших отношениях с ним — того, что эта любовь перерастет в нечто большее, не думала о том, что проживу с этим человеком всю оставшуюся жизнь. Я просто сильно любила его и радовалась каждой минуте, проведенной с ним.. Выполняя каждую его прихоть, я опускалась и превращалась в доступную девицу. И все это из-за боязни его потерять, боязни, что если я поведу себя иначе, тут же стану ему неинтересна и он бросит меня. А для меня, полюбившей впервые в жизни так сильно, это было равноценно смерти.
Боже! Подумать страшно, что я вытворяла эти последние два месяца! Если б мне кто-то сказал об этом полгода назад — плюнула бы ему в лицо, а если б узнала, что кто-нибудь из моих знакомых совершает подобные безнравственные поступки, наверное, непременно бы осудила. И все это время мне было совсем не стыдно! Это просто удивительно! Стыдно стало лишь в первый день Нового года. И наконец, я поняла, что раскаиваюсь.
В эту новогоднюю ночь я многое поняла для себя — существует некий микроскопический образец всей человеческой жизни: сначала человек бывает счастлив (зачастую по уши погрязнув в грехах), потом (что естественно) несчастен, потом ему становится стыдно, и если он неокончательно утонул в своих черных делишках, раскаивается.
— Пусть это будет самым страшным горем в моей жизни. Все пройдет, пройдет и это, — и с этими словами я поднялась с пола, сняла шубу и завалилась спать, раз и навсегда отрезав от себя «Лучшего человека нашего времени».
Первого января я проснулась ближе к вечеру, и это был единственный Новый год (не считая, конечно, тех далеких детских лет, когда для меня имело большое значение завладеть оранжевым карандашом, торчащим из снега), после которого не болела голова, а в желудке урчало от голода.
Я изо всех сил старалась казаться себе бодрой и счастливой: ровно минуту чистила зубы (согласно памятке на зеркале) и даже поверила в то, что меня ждут великие дела. Но, честно говоря, вчерашняя история никак не давала покоя моей душе, а в глазах стояла жирная полураздетая тетка с непрокрашенными белыми лохмами.
Что же делать? Что нужно сделать, чтобы спутница «Лучшего человека» перестала крутиться перед светлыми моими очами? Знаю! Мисс Двойная Бесконечность всегда говорила мне: «Если у тебя плохое настроение или обидел кто, единственное, что может помочь в этом случае, — это работа. Принимайся за что угодно — стирай, мой полы, гладь белье, размораживай холодильник. Только не сиди и не жалей себя!»
Абсолютная истина. Естественно, холодильник я размораживать не стала, как, впрочем, и стирать белье. У меня была своя работа — можно сказать, непочатый край. И чем быстрее я переделаю роман, тем раньше я получу гонорар, который после неумеренных трат на подарки некоторым недостойным и якобы «Лучшим людям» сейчас просто необходим.
Я немедленно села за компьютер и, с воодушевлением открыв файл романа «Убийство на рассвете», прочла первый абзац:
«Впервые я увидел ее за столиком открытого летнего кафе на Арбате. Я, как обычно, возвращался вечером с работы, и вдруг она — прекрасная незнакомка в строгом синем костюме и шляпе с огромными полями. В одной руке она держала чашечку кофе, пикантно отведя мизинец, в другой тлела длинная дамская сигарета».
— Нет, ну что тут можно переделать? — воскликнула я и тупо уставилась на экран. Встрепенулась только тогда, когда передо мной проплыла табличка: «Работай, бестолочь!»
Снова перечитала первый абзац — в голове ни одной, пусть даже захудалой мыслишки, зацепки, каким образом можно переделать хотя бы вот этот самый кусочек текста. Действительно, я — бестолочь!
Может, так:
«Я сидела за столиком открытого летнего кафе на Арбате в строгом синем костюме и шляпе с огромными полями. В одной руке я держала чашечку кофе, пикантно отведя мизинец, в другой тлела длинная дамская сигарета. И вдруг я увидела оч-чень подозрительного юношу».
А что, совсем неплохо! Но все-таки что-то не так. Даже если и так, то переработка текста займет уйму времени. И потом, что делать с финальной, кульминационной сценой убийства на рассвете? Если он ее убивает, а рассказ ведется от лица героини (т.е. жертвы), что ж это получится? Невообразимо:
«Он вонзил мне нож в самое сердце, я истекаю кровью и, преодолевая огромные усилия воли, пишу эти строки, в то время как он оплакивает меня, сидя на окровавленной постели. Что было потом? А потом я умерла».
Прямо как эпилог эпопеи Мисс Бесконечности.
Никуда не годится! Нужно придумать какой-то ход, какую-то хитрость, чтобы переделка заняла немного времени и текст был гладким, без подобных вышеприведенных недоразумений.
Я ломала голову до позднего вечера, изобретая хитрый прием, как вдруг раздался звонок домофона. «Наверное, телефонный мастер», — решила я и схватила трубку.
— Кто?
— «Кукурузница моя», монашенка, «Уходящая осень», — пьяным, умоляющим голосом шептал Кронский снизу.
— Твоя «Уходящая осень» покинула тебя навсегда. И больше не приходи сюда! — решительно воскликнула я и повесила трубку.
Снова звонок. И зачем я опять снимаю трубку? Я ведь все сказала!
— Марусь…
— Что тебе еще? — с замирающим сердцем спросила я.
— Давай поговорим. Тут холодно — мороз, и снег идет. Это негуманно.
— Нам не о чем говорить, — упрямо сказала я и снова повесила трубку. Я прижалась к двери — мне так хотелось пустить его!
«Лучший человек нашего времени» упрямо позвонил еще раз. Ну почему я все-таки снимаю эту проклятую трубку? Ну что у меня за характер такой?!
— Послушай, Марусь, ты ведь знаешь, я тебя полюбил, — начал Кронский, чувствуя, что в дом я его не пущу. — Это был минутный порыв! Это так несерьезно! Это не повод для того, чтобы прерывать наши отношения! Все было так замечательно. Ну хочешь, я всю оставшуюся жизнь буду есть твой осенний салат?
— Не хочу! Поищи новую дурочку для своих извращенных утех, а с меня хватит! — отрезала я и повесила трубку.
Он звонил еще долго, а я стояла у двери и ревела: в душе я проклинала себя, что не открыла ему дверь, но разумом сознавала, что это было единственно верное решение. Я ринулась на балкон и минут через пять увидела его темную фигуру при свете фонаря — он шел между деревьями нетвердой походкой, держа в руках шапку. Сердце мое сжалось, и я поняла, что все еще люблю его и способна простить сейчас все что угодно и снова пуститься во все тяжкие — поехать с ним, куда бы он меня ни позвал. Это было самым ужасным.
На следующий день пришел телефонный мастер.
— У вас тут возле двери что-то лежит. Уж не бомба ли? — пошутил он.
На пороге действительно лежал небольшой сверток. Я развернула его — там оказался вишневого цвета бархатный футляр с ручкой с открытым золотым пером. Кронский сделал мне аналогичный подарок и оставил его вчера на пороге. Значит, он стоял возле моей двери и не позвонил, поняв, что Между нами все кончено.
И несмотря на то что телефон работал и теперь я больше не отрезана от мира, настроение испортилось окончательно.
Остаток дня я звонила то Икки, то Женьке, то Пульке и рассказывала в слезах о проведенном на улице Новом годе и о своем разбитом сердце. Анжеле я ничего рассказывать не стала, а просто поздравила ее с Новым годом.
Потом позвонила мама и, сказав, что отправила Николая Ивановича в магазин, принялась причитать:
— Я не знаю, не знаю, что мне делать! Он тащит меня в деревню! Но я не хочу! Не могу просто! Я бы на развод подала, но как же коты? Коты связали меня с этим человеком цепями по рукам и ногам. Ты пойми, я не имею права голоса! Он сразу начинает шантажировать меня кошками.
— Ты что, все ему рассказала?
— Не-ет, — возразила мама, — я лишь намекнула, что предпочла бы остаться в Москве, а он мне — подавай на развод, что это за жена, которая не при муже. А я ему — и подам.
— А он тебе? — затаив дыхание, спросила я.
— А он — забирай всех кошек и убирайся в свою квартиру, к Мане. Нет, ты представляешь!? С двадцатью-то кошками! Сам понабрал, чтобы привязать меня к себе, старый хрыч!
Нет, присутствие двадцати кошек в небольшой однокомнатной квартире я представить себе не могла даже в кошмарном сне. Где я тогда буду творить? В туалете, сидя на унитазе с ноутбуком на коленках?
Нечего сказать, год начался отвратительно — встретила его я на улице, на моих глазах мне изменил любимый человек, мой роман отвергнут, денег на жизнь оставалось совсем мало.
— Я аргументировала свое нежелание покидать столицу тем, что у меня тут, в конце концов, остается совершенно неустроенная дочь! А он мне — бери, говорит, ее с собой. Мань, а что, может действительно поедешь со мной? И мне там не будет так муторно.
— Мне надо работать, — отрезала я.
— Там будешь работать на втором этаже. Никто тебе не помешает. Хоть воздухом чистым подышишь, в баньке попаришься, побродим с тобой по лесу — снег настоящий увидишь. Ты не представляешь, какая там красота зимой! Это тебе не Москва: голубоватый снег, чистый — никто по нему не ступал — если только заяц пробежит, искрится на солнце, сизые ели вдалеке. А если пасмурно и идет снег, в непогоду укутаешься в теплый плед, сядешь у печки — и смотри себе, как потрескивают дрова… Сказка, а не жизнь. И отдохнешь. Чего бы тебе не поехать? Поехали, — мягко, нежным голосом уговаривала меня мама. А я-то думала-гадала, от кого у меня писательский дар! Оказывается, от нее. Ей бы книжки писать!
— Ничего сейчас не могу сказать, — заколебалась я.
— Ты подумай-подумай. Мы уезжаем в конце января.
Мама могла уговорить кого угодно, кроме, пожалуй, собственного мужа.
За ней следом позвонила Мисс Двойная Бесконечность и радостно крикнула мне в самое ухо:
— Куккаррекку! Куккаррекку! Куккаррекку! С Новым годом, деточка! Я тебя еще не поздравляла с Новым годом?
— Нет, еще не успела.
— Поздравляю. Включай телевизор, там сейчас такой чудесный концерт идет! Посмотри! — прокричала она.
Нет, наше содружество не развалилось, и то самое отчуждение, которое, как мне показалось, пролегло между нами в последнее время, — мнимое. Это я так увлеклась своими чувствами к Кронскому, что сама отстранилась от друзей. Они же, узнав о моей трагедии, приехали ко мне все на следующий же день — даже Анжела, которая узнала о моем разбитом сердце от Пульки (ну, естественно, без подробностей). Подходящий случай, чтобы вручить подарки. Вот как только быть с шарфом, муфточкой и варежками? Не дарить же их Женьке!
Как только они переступили порог, сразу же принялись успокаивать и утешать меня.
— Нет, вы посмотрите, экий мерзавец! — вне себя от злости воскликнула Пулька. — Пригласить девушку на Новый год и приволочь какую-то бабу! Интересно, он что, хотел встретить Новый год втроем? А если бы ты не убежала и осталась? Как бы он вышел из положения? Как бы он объяснил свою выходку?
— Лично меня больше всего поражает, как он мог променять нашу Маню на такую страшенную, толстую, крашеную тетку. Это ж ужас! — застрекотала Икки.
— Учитывая то, на какие жертвы наша Машка шла ради него, не считаясь с собственными принципами и желаниями, — ввернул Женька.
— А на какие жертвы ты шла, а, Мань? — с любопытством спросила Анжела.
— Да так, — сказала я неопределенно.
— Как — так? — привязалась она.
— Ну, так, — промычала я.
— Это оттого, что ты в грех впала! — пророчески прошипела она. — Нельзя, не обвенчавшись с мужчиной, жить! Чему нас учит церковь? Так все-таки на какие жертвы-то ты пошла ради него?
Да… Знала бы наша праведница Поликуткина (в девичестве Огурцова), на какие именно жертвы я шла!
— Ой! На какие! Да стоит только связаться с мужиком, так идешь на одни жертвы! — сказала Пулька. — А если еще и влюбишься, так это вообще — туши свет. Поэтому, девочки, я никогда и не влюбляюсь. Кстати, Женька, где твои фильдеперсовые чулки, где платье, парик?
— Не до этого было, — хмуро ответил он.
— Да, ты права, Пульхерия, — с грустью подтвердила Анжела, тяжело вздыхая.
— У тебя-то что стряслось? — спросила я.
— Ой, и не спрашивайте! — вдруг всхлипнула она, и ее тучное тело затряслось от рыданий.
— А ну-ка, выкладывай, обвенчанная наша! — потребовала Икки.
— О-о-й! — взвыла Анжелка. — Вы не представляете, что происходит с моим Михаилом! Его как будто подменили. Как зверь стал! Даже руки распускает, ребенка лупит. Со мной или вообще не разговаривает, или кричит — спокойно говорить разучился. Я уж и к духовному отцу ходила. Он говорит — терпи и молись, больше тут ничем не поможешь. К пастору тоже ходила.
— Ну, а пастор твой что?
— Провел с ним беседу, но даже это не помогло. Бес в него вселился, точно вам говорю, — заключила она и зарыдала пуще прежнего.
— Успокойся, — сказала Пулька.
— Не могу-у…
— Я как гинеколог тебе говорю, прекрати реветь. В твоем положении нельзя нервы трепать, а то родишь невиданную зверушку. И вообще, мы приехали Маньку успокаивать, а не тебя!
Анжела захлюпала носом, пытаясь сдержать рыдания, но через мгновение опять завыла:
— Куда ж я с двумя детьми-то?! Что ж я делать-то буду? Как жить-то?!
— Что я тебе говорила? — не сдавалась Пулька. — А ты мне — мол, плодитесь и размножайтесь! Никогда нельзя быть ни в ком уверенной, тем более в мужиках. А то «мой Михаил и по праздникам не пьет, мой Михаил идеальный человек»!
— Но он не пьет! — ревностно воскликнула Анжелка.
— Уж лучше б пил! Может, добрее бы стал, — не унималась Пулька.
— Тьфу на тебя! — в злости плюнула Анжела в сторону подруги и, тут же успокоившись, добавила: — Да не приведи господи!
— Ну правда, хватит вам! Мы сюда пришли Маню поддержать в трудную минуту, а вы тут отношения выясняете. Нехорошо как-то! — сказала Икки и начала меня утешать: — Недостоин он тебя, Машуля. Мы тебе другого найдем — достойного, доброго, интеллигентного — чеховского персонажа. Хочешь?
— Да не нужен ей твой чеховский персонаж!
снова перешла в наступление Пулька. — Она такому парню нравится! И симпатичный, и богатый — настоящий чеховский персонаж, ну чистый Нехлюдов! Так он ей ни к чему! Она на него и смотреть-то не хочет! Лучше бы с ним Новый год отметила, он ведь предлагал! Говорила я, общение с этим извращенцем до добра не доведет!
— Извращенцем?! Он — извращенец? — встрепенулась Анжелка.
— И зря тебя, Пулька, отец не порол за то, что ты ни одной художественной книжки не прочла! Нет, это ж надо — Нехлюдов у нее чеховский персонаж! Может, и Раскольников тоже? — возмутилась Икки, но, кажется, с одной целью — сменить тему об извращенце и отвлечь Анжелку.
— Раскольников? Про него, кажется, Горький в свое время писал, хотя это неважно, — отмахнулась Пуля.
— А что это за положительный во всех отношениях молодой человек? Уж не владелец ли автосалона? — поинтересовалась Икки.
— Именно. Тебе, Машка, надо с ним наладить контакт, повстречаться, приглядеться, — снова советовала Пулька.
— И выйти за него замуж, — вставила Анжела.
— Ты уже вышла, — вмешалась Икки.
— Не хочу я налаживать с ним контакт, встречаться, приглядываться и тем более выходить за него замуж, — упрямо ответила я им.
— Ты что, все еще Кронского любишь? — спросила Пуля, глядя на меня.
Я молчала. Врать не хотелось. К тому же я сама не знала — сама не могла разобраться в своих чувствах.
— Нет, вы только посмотрите, девочки, эта ненормальная после всего, что он с ней сотворил, еще не утратила к нему светлого, прекрасного чувства! Поразительно! Я не понимаю, что мы тут тогда делаем?! — злилась Пулька. — Скорее звони ему и зови в гости. Не сомневаюсь, что он прилетит к тебе на крыльях любви, потому что, наверное, уже осознал свою ошибку и то, что нигде такой дурочки, как ты, не найдет.
— Да что ты на нее накинулась! — вдруг прорезался Женькин голос. — Думаешь, так просто разлюбить человека? Так сразу, в один день!
— За подобные дела я бы вмиг разлюбила!
— Как ты можешь ручаться — ведь ты вообще еще ни разу в своей жизни не влюблялась! Лично мое мнение таково, — деловито продолжал Женька — казалось, он один из нашего содружества понимал меня. — Не нужно ей вот так сразу ни на кого бросаться, ей нужно прийти в себя, переболеть, забыть его, а потом она сама решит, нужен ли ей этот владелец автосалона или нет.
— Что ты называешь переболеть? Сидеть в четырех стенах и думать об этом?.. Об этом… Не знаю, как назвать-то такого!..
— Придумал! Ей нужно куда-то уехать. Сменить обстановку, понимаете? Вы согласны со мной?
— По-моему, это неплохая идея, — поддержала Женьку Икки. — Только вот куда бы ей поехать?
— На путешествие денег у меня сейчас нет, — призналась я, — но мама зовет с собой в деревню. Причем очень настойчиво.
— Что это она? — спросила Пулька.
— Скрасить ее одиночество.
— Но она же едет-то не одна.
— Понимаете, у нее роман с охранником ювелирного магазина. Любовь какая-то совершенно неземная. Она вообще не хочет туда ехать. А Николай Иванович ни в какую не оставляет ее тут — кошками шантажирует.
— Тем более! Нужно поддержать маму в трудную минуту! Поезжай! — стоял на своем Женька.
— Что это ты ее так настойчиво выпроваживаешь? А как мы тут без нее будем? — спросила Пуля.
— Ты — эгоистка, а для нее поездка в деревню — единственный выход. Там она отключится, забудет красавчика Кронского, придет в себя и будет смотреть на мир совсем по-другому.
Эти Женькины слова — «красавчик Кронский» — полосонули меня, словно ножом по сердцу, и я снова испытала прилив нежности и любви к сочинителю детективов, вспомнив нашу первую встречу в редакции: как он уверенной походкой шел по коридору в белом костюме; его зачесанные назад светло-русые волосы, почти черные с изгибом брови, а в носу до сих пор стоял запах дорогой туалетной воды, которой он всегда пользовался. Как избавиться от этого наваждения?
— Пожалуй, Женя прав, — согласилась я. — Наверное, мне все-таки следует поехать в деревню и поддержать маму в трудную минуту. А за эти две недели заняться переделкой текста.
— Вообще, наши мамаши, кажется, сошли с ума, — вдруг заявила Икки. — Я прихожу первого числа домой, а у нас мужик какой-то сидит на кухне, чай пьет.
— Да ты что?! — удивилась я. — Значит, твои подозрения были не напрасны?
— Мать мне так ласково, знаете, говорит:
«Проходи, Иккочка, с Новым годом тебя, Иккочка, садись, попей с нами чайку». И тишина. Он молчит. Мать, видно, хочет чего-то сказать, но к холодильнику все жмется. Ну, я тогда сама ей и говорю, мол, познакомь нас, мама. А она мне знаете что?
— Что? — хором спросили мы.
— Знакомься, Иккочка, — это твой отец Роблен Иванович Моторкин. Он, говорит, вернулся к нам.
— Ничего себе! — поразилась я.
— А где ж он был-то все это время? — вызывающе спросила Пулька.
— Скрывался от своей матери — рьяной коммунистки, то бишь от моей дражайшей бабушки, которая нарекла меня Исполнительным Комитетом Коммунистического Интернационала.
— Так она уж умерла давно, — недоумевала Пулька.
— И все это время отец с матерью тайно встречались, а тут решили, что скрывать дальше свои отношения они не в силах — у них, видите ли, вторая молодость началась, и они решили открыться родной дочери.
— Что же теперь будет? — спросила я.
— Благо, у отца есть квартира. Я, наверное, перееду туда, а он к матери.
— Совсем, совсем неплохо. Тебе повезло, Икки. Будешь жить одна, как Машка, хотя я представляю, чем это обернется.
— Какая же ты, Пулька, желчная.
— Не желчная я, просто реально смотрю на вещи.
— Ну, правильно, — заныла Анжела, — всем дали советы, у всех есть выход. А мне-то что делать?
— Рожать! Что тебе еще остается делать на пятом месяце беременности?! — удивилась наша гинекологиня.
— Не на пятом, а на четвертом!
— Без разницы.
Итак, решив все проблемы и посоветовав мне отправиться в деревню, мои друзья разъехались по своим делам, а я принялась за работу.
Первые два дня я ровным счетом не представляла, что делать с текстом, и испытывала настоящие муки творчества, не зная, как это возможно — описать смерть от лица жертвы. Одним словом, я зациклилась на одной-единственной идее и не могла придумать ничего другого.
В то время когда я с нетерпением ожидала посещения музы, вокруг меня происходили следующие события.
Великий писатель детективов ушел в запой и звонил мне по телефону в минуты относительного пробуждения и сомнительного возвращения в реальную жизнь. Приехать ко мне он либо не рисковал, либо был не в состоянии.
Кронский признавался в любви, говорил, что осознал свою ошибку, что раскаивается, и называл себя ослом. Потом корил меня за то, что я слишком жестока и требовательна, что уж давно бы нужно простить его и сменить гнев на милость, и, устав приводить доводы в свою пользу, бросал трубку на полуслове и, видимо, снова пил. И чем больше он звонил мне, тем жальче мне его становилось. Сердце мое размягчалось, и я уже проклинала себя за то, что согласилась поехать в деревню, к великой маминой радости, но отказаться от поездки теперь я не могла. Также проклинала, что рассказала всем своим друзьям, как со мной обошелся «Лучший человек нашего времени» — так, что примирение с ним означало для меня полнейший крах в глазах всех членов содружества.
Последний его звонок совершенно вывел меня из равновесия, и наступил тот решающий момент, когда я должна была выбирать: либо простить Кронского, продолжая вести тот аморальный образ жизни, который вела до Нового года, и разругаться с мамой и членами содружества, либо выскоблить из сердца все, что связано с великим детективщиком и жить в мире и согласии со всеми остальными. В случае повторного сближения с объектом моей любви нет никакой гарантии, что я снова не застану его с какой-нибудь особой в том же самом лифте и в той же самой недвусмысленной позе или вовсе через неделю-другую не надоем ему и он не захочет чего-то новенького (вернее, кого-то).
— Скалолазочка моя, ну нельзя так, — говорил он, икая в трубку. — Я погибаю из-за тебя. Я пью и не могу остановиться, потому что у меня горе — от меня ушла любимая и не хочет приходить обратно. Я или умру, или пропью весь талант. Ты меня губишь.
Он тяжело вздохнул, как могут вздыхать только очень пьяные люди, и снова икнул.
— Спаси меня, а? — жалостливо произнес он не то спрашивая, могу ли я его спасти, не то зовя на помощь. Я чувствовала, что Алексей действительно сам никак не может выйти из запоя, но мне нужно было принять решение.
И я его приняла.
— Хорошо, — сказала я, — слушай меня внимательно. Я приеду к тебе через час или два. Ты в состоянии открыть дверь?
— Да, да, конечно, моя «кукурузница»! — воскликнул Кронский, и мне показалось, что он даже немного протрезвел. — Я знал, что ты добрая, что ты любишь меня, что ты не такая, как все.
— А ты не заснешь?
— Нет-нет, — уверенно сказал он. — Я буду ждать.
— Хорошо. Жди меня.
Я взяла первую попавшуюся рекламную газету, позвонила по объявлению «Алкоголизм. Врач на дом. Выводим из запоя» и вызвала ему на дом врача-нарколога. После я быстро оделась, выбежала из дома и отправилась на компьютерный рынок, где купила себе телефон с автоматическим определителем номера.
Он звонил мне все те две недели, пока я была в Москве, но я не брала трубку — таково было мое решение, которое я не собиралась менять.
Очень хотелось все же побыстрее переделать роман, и не только из-за того, что у меня появились некоторые финансовые затруднения, но еще и потому, что в моей голове созрел новый потрясающий сюжет — любовная история, история о нашем с Кронским коротком, бурном романе.
Так, на третий день бесполезной работы над текстом, выбившись из сил, от нечего делать я стала менять слова местами, потом заменила «он» на «она», а «она» на «он»; женский род на мужской и наоборот. Прочла, что получилось, и… Ай да Корытникова! Ай да… мамина дочь! Я знала, чувствовала в глубине души, что гениальна! Все было настолько просто и легко, а я потеряла уйму времени даром! И вместо:
«Впервые я увидел ее за столиком открытого летнего кафе на Арбате. Я, как обычно, возвращался вечером с работы, и вдруг она — прекрасная незнакомка в строгом синем костюме и шляпе с огромными полями» (ну и так далее).
исправленное начало стало таким:
«Впервые я увидела его за столиком открытого летнего кафе на Арбате. Я, как обычно, возвращалась вечером с работы, и вдруг он — прекрасный незнакомец в строгом синем костюме… (Естественно, пикантно отведенный пальчик и дамскую сигарету пришлось опустить.)
Он явно был старше меня. (Понятия «бальзаковский возраст» для мужчин не существует, поэтому пусть он годится ей в отцы.) Скажу даже больше, он годился мне в отцы, и у меня не было никаких шансов познакомиться с ним — он попросту не стал бы разговаривать с такой, как я, — я не слишком красива, и мне ведь всего 22 года.
Он приворожил меня тогда, в тот день, когда Арбат залился кроваво-молочным закатом, и я как слепая последовала за ним, словно за поводырем.
Так мы дошли до серого шестиэтажного дома… »
То есть теперь моей героиней стала Степанида, которая окончила автомеханический техникум, где в группе учились одни мальчишки. И так как она была не слишком хороша собой, однокурсники ее не жаловали. Этим и обуславливается ненависть героини к мужчинам, в особенности к ровесникам.
Одним словом, сюжет остался тем же самым, с той лишь разницей, что главная героиня — душегубка и убийца и что она влюбляется в мужчину намного старше себя. Следит за ним три недели кряду, узнает, что живет он (кстати, зовут его по аналогии с моей прежней героиней — Генрихом) вдвоем с сыном, сверстником Степаниды, омерзительным, на ее взгляд, парнем, который много о себе думает и полагает, что неотразим.
Именно Степанида подкладывает на лестницу возле подъезда банановую кожуру и после падения возлюбленного выступает в роли спасительницы и становится вхожей в дом Генриха.
Затем, подобно пушкинской Татьяне, признается в любви и уж совсем не как пушкинская героиня отдается ему. Генрих впоследствии изменяет ей… А через неделю я добралась наконец до кульминационного момента — убийства на рассвете. Только вот вопрос — хватит ли у девушки силы всадить нож в изменника? Вот я, к примеру, смогла бы убить Кронского из-за ревности? Пожалуй, что нет. Значит, я недостаточно его люблю, чтобы сильно ненавидеть? Не так. Все люди разные, а героиня не является моим прототипом — в ней нет ни одной моей черты. Она закомплексованная девица, обделенная вниманием мужчин. С ранней юности у нее были с этим проблемы. Поэтому Степанида держит зло на всех представителей мужского пола, и когда наконец, как ей показалось, она нашла свой идеал, который ответил ей взаимностью (что немаловажно), он вдруг изменяет ей. И тут гнев ее достигает наивысшей точки. К тому же он спал, и она убила его, когда он пребывал в состоянии беспомощности, покоя и безмятежности. И вместо прежней сцены:
«Я убил ее на рассвете — едва только нежные розоватые лучи нового дня просочились в комнату.
Все смешалось: кровь, рассвет, боль, жалость. Я сижу и целую ее белоснежные мраморные неживые ноги. Я пытаюсь их согреть, но ничего не получается.
Теперь мы вместе навсегда. Я не уйду от нее, пока меня отсюда не выгонят. Потом — не будет и меня»,
получилось:
«Я убила его на рассвете, когда он спал безмятежным, спокойным сном — едва только нежные розоватые лучи нового дня просочились в комнату. Все смешалось: кровь, рассвет, боль, жалость. Я сижу и целую его белоснежные мраморные неживые руки (целовать женщине мужские ноги я сочла неэстетичным). Я пытаюсь их согреть, но ничего не получается.
Теперь мы вместе навсегда. Я не уйду от него, пока меня отсюда не выгонят. Потом — не будет и меня».
Все. Точка. Теперь никто не посмеет сказать, что это не любовный роман.
Я отправила текст Любочке по электронной почте и перезвонила узнать, дошел ли он.
— Дошел, дошел, — успокоила она меня, — ответ дам через две недели.
— Меня не будет в Москве, я решила съездить отдохнуть.
— Надолго?
— Не знаю, как получится.
— Постой! Как это ты не знаешь? А кто работать будет? Нам через два-три месяца твой новый роман нужен. А если этот снова не подойдет, то я вообще не знаю, что с твоей серией делать!
— Да не волнуйся ты! Я там работать буду — беру с собой компьютер.
— А, ну тогда ладно, — успокоилась Любочка и тут же с нескрываемым любопытством спросила: — Слушай, а ты не знаешь случайно, что с Кронским нашим творится? Как-то заявился тут пьяный в стельку — я сама ловила для него такси, чтобы отправить домой. А он ни в какую, говорит, буду тут до скончания века сидеть и ждать свою Марью-искусницу. Еле вытолкали. А вчера приезжал — лицо спитое, отечное, сутулый, жалкий такой — прям не он, хоть и трезвый. Все о тебе спрашивал приходила ли, мол, звонила, даже вызвать тебя просил под каким-нибудь предлогом. Что у вас произошло-то?
— Ничего не произошло, — ответила я, изо всех сил пытаясь сохранять спокойствие. — Может, у него белая горячка?
— Какая белая горячка! — возмутилась она. — Вчера он трезвый был.
— Ну, может, умом тронулся. Мне откуда знать, что с вашим Кронским стряслось, — равнодушно сказала я (по крайней мере, мне показалось, что голос у меня звучал ровно).
— Не с нашим Кронским, а с твоим. Все знают, что у вас с ним роман!
— Глупости какие! — фыркнула я.
— Ой, Машка, не хочешь, не говори! Но знай, извела ты мужика, смотреть больно! Помирились бы, что ли. Хотя это ваше дело и меня не касается. Пока.
На том разговор и закончился. Мучается, значит. Наверное, он и правда ко мне испытывает какие-то чувства, и, может, зря я с ним так жестоко обошлась. И тут мне до такой степени стало жаль великого детективщика, что я чуть было не набрала его номер телефона, но, к счастью, вовремя остановилась.
Нет, скорее, скорее из Москвы в деревню, в глушь… Чтобы забыть его навсегда, вычеркнуть из жизни и вырвать, пусть с мясом, из сердца.
Все дела, которые я должна была сделать в столице, были закончены главное, переписан и сдан роман. До отъезда в деревню оставалось всего два дня, за которые я должна была собраться и встретиться с членами содружества.
Собиралась я мучительно, совершенно не представляя, что мне может пригодиться в деревне зимой. Посреди комнаты возвышалась огромная гора вещей, на письменном столе — куча косметики, на стульях — тюбики зубной пасты, щетки, шампуни, белье. Еще нужно как-то упаковать средство для зарабатывания денег — ноутбук, а также диски разнообразных словарей, ручки, блокноты, потому что собиралась я туда не на день и не на два, а как минимум на месяц.
Периодически звонила мама и говорила одно и то же: чтобы я не набирала много вещей — там все есть — и что машина будет и так перегружена. Что там было, я очень хорошо знала, потому что сама отправляла в деревню ненужные вещи — старые джинсы, которые либо мне малы, либо велики и которые неприлично носить даже дома, протертые вытянутые свитера, еще времен института, позорные куртки, короткая дубленка с искусственным мехом, гора стоптанной дырявой обуви и тому подобное.
Надо заметить, что и эти вещи невозможно было найти: все они были распиханы по разным местам — на чердаке, в мастерской, в гараже. К тому же я совсем не уверена, что моя убогая одежонка вообще еще цела — быть может, ее давно съели мыши. Когда в доме никого нет, они там полноправные хозяева и пожирают все, что попадается им на зуб: случайно оставленный сухой кошачий корм они перетаскивали в свои норки за щеками из сделанной в пакете дырки, грызли мыло, старые журналы, не говоря о крупах и муке. Они всеядны.
Я перебирала вещи и, держа в руках то свитер, то брюки, долго раздумывала, стоит ли брать это с собой или нет, потом швыряла обратно в кучу.
Ладно, приду после встречи с членами содружества и все оставшееся время буду заниматься сборами. Я оделась и помчалась на прощальный вечер с друзьями в честь моего отъезда. Верхняя пуговица дубленки держалась на честном слове. Надо будет пришить.
Попрощаться со мной пришли все, даже Анжела — она была чернее тучи, ее отношения с идеальным непьющим мужем, судя по всему, ухудшались с каждым днем, и теперь она, казалось, была рада вырваться из дома хоть куда-то.
Пулька, по обыкновению, снова увлеклась каким-то новеньким врачом — молодым специалистом, который в этом году окончил институт.
— Да как же ты можешь! — воскликнула Анжела. — Он ведь на десять лет моложе тебя!
— Это имеет какое-то значение? — глядя на Анжелу в упор, враждебно спросила Пулька. — Меня поражает твое ханжеское отношение к жизни. Ты-то сама чего добилась своими псевдорелигиозными убеждениями?
— Девочки, перестаньте, — примирительно сказала я.
— Нет, ну вот можно мне хоть раз высказаться? А? — не унималась Пулька — казалось, она напрочь забыла, что подруга беременна. — Почему-то никто и никогда не может сказать нашей правильной Анжеле, что о ней думает? Наверное, из-за того, что она вот уж несколько лет строит из себя во-церковленного, верующего человека. Но это только оболочка, мыльный пузырь, и больше ничего.
— Это почему? — не менее враждебно спросила Огурцова.
— А потому, что нельзя, голубушка, сидеть на двух стульях сразу! Нельзя сначала бежать спрашивать совета у православного священника, что тебе делать с мужем, а вечером того же дня мчаться к адвентистскому пастору! И недопустимо сначала крестить ребенка в нашей церкви, а потом у сектантов! И вообще, нельзя только ради того, чтобы выскочить замуж, связывать свою жизнь с иноверцем! И при всей этой проституции…
— Что-о?! — взвизгнула Анжела.
— Проституции — по-другому твои перебежки от одной веры к другой назвать нельзя. Так вот при этом она еще смеет меня осуждать, что я живу с мужчиной, который моложе меня! Тебе-то какое дело? Это сейчас модно, — вдруг спокойно заключила Пулька и принялась за десерт.
— Ты что, с цепи сорвалась?! — набросилась на нее Икки. — Анжеле нельзя нервничать, ей сейчас и так несладко. Все-таки желчная ты, Пулька!
Действительно, вы, кажется, из-за меня тут собрались. — Я сделала вид, что обиделась, хотя в целом Пулька была права, но говорить Огурцовой сейчас такие вещи все же не стоило.
— Ну, погорячилась, простите, — сказала Пульхерия и примирительно дотронулась до Анжелиного плеча. — Но ведь сказала-то правду.
— Что мне теперь делать? — прошептала Огурцова и заплакала.
— Рожать.
— А с Михаилом?
— Может, на него в суд подать? А? — неуверенно предложил Овечкин. Он вообще последнее время был тихим, почти не разговаривал и больше не надевал женского платья. Представляю, как ему было сейчас тяжело — похлеще, чем Анжелке. Перед ним стояла дилемма: делать ему операцию по смене пола или нет. Но с нами по этому поводу он даже не заговаривал, потому что прекрасно знал наше мнение.
— Зачем в суд-то? По какой причине в суд? — удивилась Икки. — Ты предлагаешь ей на развод, что ли, подать?
— Или на развод, — размышлял Женька, — или, еще того лучше, лишить его отцовских прав. А?
Анжела посмотрела на свой уже округлившийся живот и заплакала еще сильнее. Я под столом наступила Овечкину на ногу, чтобы он прекратил говорить ерунду.
— Ну кто мне ноги топчет? Слоны! — крикнул он на весь зал и как ни в чем не бывало продолжал рассуждать: — Нет, а может, тебе действительно с ним развестись? Смотри, родишь, поделите детей, и пусть мучается с ребенком один. Да кто мне ноги-то отдавливает?!
— Я! В надежде, что ты прекратишь молоть чепуху, — не удержалась я.
— Это не чепуха. Надо что-то делать. Ведь так, девочки? — спросил он, надеясь, что его хоть кто-нибудь поддержит. — Придумал! Ты объяви ему бойкот!
— А что, Анжела, это неплохая идея, — сказала Икки, — не разговаривай с ним, и все.
— Да, и супружеский долг не выполняй, — добавил Овечкин. — А так, все как положено — готовка, стирка…
— Попробую, но что из этого выйдет, не знаю, — согласилась Огурцова и даже как-то приободрилась.
Мы еще немного посидели в кафе. Под конец все переключились на меня. Икки даже прослезилась:
— Что я без тебя целый месяц буду делать! А вдруг не месяц, вдруг ты там дольше пробудешь!
— Ой, а то тебе делать нечего! Вещи свои в папашкину квартиру перевозить да ремонт там делать, пока он не передумал, — сказала Пулька.
Оказывается, все было решено — Икки переезжала в квартиру отца, а он к бывшей жене.
Вскоре мы разошлись, и я вернулась домой, где меня ждала куча вещей посреди комнаты, развешанное на всех стульях белье, гора косметики на столе. Я собиралась до трех ночи, но огромная дорожная сумка была по-прежнему пуста.
Сборы эти мне порядком надоели, и, решив, что утро вечера мудренее, я завалилась спать, так и не пришив пуговицу к дубленке.
Весь следующий день у меня ушел на повторное прощание с друзьями — я сидела среди вороха тряпок и болтала по телефону, советуясь с ними, что мне взять с собой.
Пулька придерживалась того мнения, что я, хоть и еду в деревню, не должна там ходить чумичкой и обязана взять туда хорошее белье, пару фирменных джинсов, выходное платье (мало ли что). Короче, если собираться по-Пулькиному, то мне не хватит огромной дорожной сумки.
Женька почему-то особенно настаивал на нижнем белье.
Анжела возмущенно прокричала в трубку: — Я не пойму, куда ты собралась-то?! Ты в деревню едешь грязь месить. Бери пару теплых рейтуз, валенки, телогрейку да зубную щетку. Это все, что тебе там понадобится.
С Икки мы разговаривали раза четыре, но так и не решили, что может мне пригодиться зимой в глухой, богом забытой деревеньке.
Полночь. А посреди комнаты так и навалена гора моих вещей. Мама с Николаем Ивановичем заедут за мной завтра в восемь. Я в полнейшем замешательстве и растерянности. Теперь помимо того, что нужно хоть что-то положить в сумку, необходимо убрать эту груду барахла.
Я сидела на полу и в ужасе переводила взгляд с царившего беспорядка в комнате на секундную стрелку часов, двигающуюся неумолимо быстро.
Минут через пять я впала в панику и в неистовстве принялась набивать сумку всем, что попадалось мне под руку — не глядя. В основном я пихала вещи, которые лежали сверху огромной горы. В довершение всего я смела с угла стола какую-то косметику и, аккуратно положив средство для зарабатывания денег в его родную замшевую сумку, решила, что в деревню я собралась.
Потом открыла шкаф, свалила туда все, что осталось на полу и стульях, и со спокойной душой легла спать. Опять забыла о пуговице. Ладно, завтра утром пришью.
Когда телефонный будильник грубо и бестактно три раза кряду надрывно проревел установленную мной мелодию «Не кочегары мы, не плотники», которая должна бы бодрить и пробуждать, а металлический голос в интервалах членораздельно проговорил: «Семь часов. Ровно», я поначалу не поняла, что происходит, а потом захотелось просто разреветься.
Я зарылась лицом в подушку, со всех сторон подоткнула одеяло и поняла, какую непростительную ошибку совершила. Зачем я туда еду? Зимой, в холод? Что я буду делать среди двадцати кошек, занудного Николая Ивановича и сохнущей от любви к охраннику мамы? Писать роман на втором этаже? Но он ведь не отапливается! Эта мысль пришла мне на ум только теперь. Но отказываться было уже поздно и глупо, к тому же мама с Николаем Ивановичем жили какой-то особенной, непонятной ни для кого жизнью. У них все было расписано на год вперед — когда куда поехать, что сделать, что купить, и мой отказ вызвал бы бурю негодования как со стороны мамы, так и со стороны ее мужа.
«Ну ничего, не понравится, я ведь в любой момент могу оттуда уехать!» — утешила я себя и заставила встать с кровати.
На улице — темнота непроглядная, считай, ночь еще. В доме напротив всего два горящих окна — лишь два человека собираются на работу, все остальные нормальные люди спят безмятежным сном. Даже дворники не начали разгребать снег.
Я включила свет, тем самым записав себя в число ненормальных, куда-то собирающихся людей, и пошла пить кофе.
Пока я чистила зубы, одевалась, причесывалась, меня одолевали недобрые мысли, и в конце концов я пришла к выводу: поездка в деревню — это не выход из положения. Таким образом я не забуду Кронского, потому что от себя не убежишь. В это мгновение задребезжал домофон, а через минуту мама с Николаем Ивановичем появились на пороге.
— Здравствуй, дорогая. Ты все выключила?
— Воду отключила? — спросил Николай Иванович, нахмурившись.
Вообще, я давно заметила одну странную, неприятную особенность отчима: если от него требовалось кого-то куда-то привезти или отвезти, он начинал кочевряжиться и, чувствуя себя хозяином положения, вел себя безобразно.
— Нет, — ответила я. — Кофе не хотите?
— Давай, — бесцеремонно сказал он.
— Поехали! Кофе какой-то! — взорвалась мама. — Нечего рассиживаться, нам еще на оптовый рынок ехать! Это когда ж мы на месте-то будем?!
— Сейчас перекурим и поедем, — невозмутимо проговорил отчим, снимая брезентовую куртку на овчине. — Несладкий совсем.
Почему? Три ложки сахара положила, — оправдывалась я. Надо сказать, что стоило лишь мне увидеть Николая Ивановича, как я почувствовала себя не в своей тарелке. И ощущение было каким-то странным — будто та жизнь, которой я жила до его появления, была сном, причем неплохим, а сейчас я пробудилась и очутилась в суровом реальном мире со своими непоколебимыми, непонятными для меня законами. Я почему-то мгновенно почувствовала себя зависимой от этого человека, хотя с чего бы это?
— Еще четыре положи, — сурово сказал он и закурил.
Мамин муж курил какие-то жуткие вонючие болгарские сигареты — еще с молодости он пристрастился к ним. Может, конечно, четверть века назад, когда первую линию ГУМа занимал продовольственный отдел, на улицах стояли автоматы с газировкой по три и одной копейке, а мороженое с кремовой розочкой в вафельном стаканчике стоило девятнадцать копеек, это считалось особым шиком, но со временем они испортились и сейчас продавались по четыре рубля за пачку.
Мама возвела глаза к потолку и ушла в комнату. Я последовала за ней.
— Не могу! Я не переношу его! Нет, ты видела, ты видела, сколько он сахара кладет?
— Не заводись. Жалко, что ли!
— Что ты думаешь?! Мы уже с утра переругались! Я ему говорю, что мы Рыжика забыли, он мне: «Я сам его в переноску посадил». И чтобы доказать, что мы действительно его оставили, пришлось снова высадить всех котов из переносок, потом бегать по всей квартире и снова их ловить.
— А Рыжик?
Как я и говорила — спрятался под кроватью за упаковкой обоев. Старый маразматик! — сказала она довольно громко.
— Тихо ты! Он же все слышит!
— Да пускай слышит. Ты еще не была с нами на оптовом рынке? — спросила она и сама же ответила: — Не была. Сейчас посмотришь, как он будет ходить от палатки к палатке и сравнивать цены. Не меньше двух часов там проторчим. А это что за кишка? — и мама указала на дорожную сумку.
— Мои вещи, — как ни в чем не бывало ответила я.
— Ты с ума сошла? Куда ты столько набрала? Там есть все!
— Я знаю, что там есть, — насупилась я.
— Тоже упрямая!.. А это?
— Компьютер.
— Зачем? Ты все равно там ничего не напишешь.
— Это почему? А кто меня звал поработать в деревню, обещал второй этаж и что мешать мне там никто не будет…
— Ха! Второй этаж! Там температура ниже, чем на улице!
Та-ак, открываются все новые и новые подробности, не обещающие ничего хорошего. Я чувствую, что делать мне там будет совершенно нечего — болтаться без дела по заснеженному огороду, натыкаться на кошек и слушать ругань мамаши с Николаем Ивановичем. Уезжать из Москвы мне расхотелось окончательно, но, несмотря на это, я безропотно подхватила сумки и вышла вслед за мамой на улицу.
— Садись вперед, — сказала она.
А куда я ноги-то дену? — удивленно спросила я и тут же ощутила на себе ненавистный взгляд Николая Ивановича. Дело в том, что там, где по идее должны быть мои ноги, возвышалась стопка разноцветных кошачьих поддонов, а за ними — сумка с банками из кожзаменителя. На заднем же сиденье друг на дружке стояли переноски с котами — в каждой сидело по четыре-пять пушистиков, а с краю оставалось сантиметров восемнадцать для маминого зада. Она как-то умудрилась сесть и нетерпеливо крикнула мужу:
— Ну что, совсем не соображаешь?! Дверцу-то закрой — я ведь сейчас вывалюсь!
Я усаживалась довольно долго под пристальным, недоброжелательным взглядом отчима. Это было что-то страшное — между ногами почти до подбородка возвышались поддоны. Хоть мама перед отъездом тщательно вымыла их, все же они попахивали кошачьей меткой. И эту пытку предстояло терпеть пять часов дороги!
Машина тронулась, дом мой остался позади, а я все думала и поражалась тому, как это мне удалось усесться. Наверное, оттого, что другого выхода у меня не было. Когда нет выхода, человек может совершать такие чудеса, на которые никогда не сподобился, если б у него была альтернатива.
Машина была настолько перегружена, что, казалось, ехала, днищем цепляя асфальт. С горем пополам мы добрались до оптового рынка — я еле вылезла из салона, запутавшись в ногах и опрокинув поддоны на землю, мама соскользнула на асфальт, подвернув ногу.
— Мрак! — сердито воскликнул отчим, глядя на разбросанные лотки возле машины. «Мрак» — одно из любимых слов Николая Ивановича, выражающее как крайнее негодование, недовольство, гнев, или возмущение, так и заключение косноязычного объяснения какой-нибудь негативной ситуации в стране — будь то наводнение, землетрясение, повышение цен или сюжет из криминальной хроники.
— Что мрак! Что мрак! — передразнила его мама. — Кто так ездит? Только мы! Еще не было такого, чтобы мы налегке отправились в деревню! Не то, что Абрикосовы — он выходит с ключами от машины, она — с сигаретой в зубах!
Абрикосовы являлись ненавистными соседями по даче, тоже из Москвы, которых в деревенской жизни привлекали не леса и поля, парное молоко, ягоды, грибы и речка, а подглядывание в бинокль за местными жителями, сплетни до утра на террасе и распространение ложных неправдоподобных слухов о маме с Николаем Ивановичем.
— Я еще и виноват! — воскликнул он и насупился. Теперь заговаривать с ним было бесполезно — отчим затаил обиду на всех и вся.
Кстати, «я еще и виноват» — тоже одна из любимых, часто повторяющихся фраз маминого мужа. Впрочем, лучше сразу приведу весь его словарный запас, которым он обычно пользуется:
1. «Мрак!»
2. «Я еще и виноват!»
3. «А это ваши трудности (проблемы)!»
4. «И с каким апломбом!»
5. «А ты не хотела!»
6. Вместо «может быть» он почему-то упорно произносит «мобыть», а вместо «сколько» — «коко».
7. «Хорошо скупилися».
8. «Северянин подул», что означает северный ветер.
9. «Совсем распустилися» (в основном применительно к котам).
10. «Чав! Чав!» (Что означает трапезу как для кошек, так и для него самого.)
И. «Хрю! Хрю!», или «Глаз ватерпас», или «Глаз смотрит у койку» (что означает ежедневный послеобеденный сон).
Косноязычие (как я уже сказала), повторение одного и того же, присвоение чужой идеи себе как якобы долго им вынашиваемой, неравнодушное отношение к Полярной звезде на небе и неоднократное описание ее местонахождения — все это особенности его речи или характера, точно не знаю.
Именно в тот момент, когда я собрала пирамидой все поддоны, от моей дубленки отлетела верхняя пуговица, которую я так и забыла пришить сегодня утром. Хорошо еще, что я ее не потеряла!
Спасением от злопамятности Николая Ивановича на сей раз явился оптовый рынок: шаркающей старческой походкой он бродил от ларька к ларьку и действительно, как говорила мама, сравнивал цены, от чего получал ни с чем не сравнимое удовольствие и развлекался от всей души. Я же через пятнадцать минут бессмысленного, на мой взгляд, блуждания по рынку продрогла до костей: «северянин» пронизывал насквозь, дул за пазуху, отлетевшая пуговица давала о себе знать.
Мы ходили по рынку два часа двадцать минут, скупая упаковками сухой кошачий корм, тюки геркулеса, пшена, перловки, рыбных консервов… Я плелась позади — впереди бодро шагали мамаша с отчимом. Я наблюдала за ними — и вдруг на ум мне пришла мысль: Николай Иванович был на 13 лет старше мамы, она же, поглощенная любовью к охраннику, расцвела, помолодела, и казалось, что впереди маршируют отец с дочерью. Именно в этот момент я поняла, как трудно жить ей со старым, вечно чем-то недовольным мужем. Неравный брак какой-то! Но ничего не поделаешь — коты их связывали сильнее, чем мог бы связать общий ребенок. В заключение Николай Иванович купил десять блоков вонючих болгарских сигарет, содержащих 18 мг смол и зверское количество никотина, и, разогревая машину, удовлетворенно сказал:
— Хорошо скупилися!
Мы ехали вон из Москвы по посыпанной реагентом трассе, оставляя позади — в прошлом — мои встречи с друзьями, волнения по поводу сломанного телефона, бурный роман с Кронским, его измену — одним словом, то счастье и печаль, которые я познала в недалеком прошлом и от которых пыталась убежать.
— Смотри-ка, 95-й уже 15 рублей. Мрак! — вдруг воскликнул Николай Иванович, оторвав меня от неопределенных и невеселых мыслей.
— Что? — непонимающе спросила я.
— 95-й бензин стоит 15 рублей за литр, — пояснила мама.
Стоило мне снова задуматься о недавних московских событиях, как Николай Иванович не преминул снова заметить:
— Смотри-ка — 14-90! А машин-то сколько — мрак!
Опять тишина. Ноги начали затекать, но я не рискнула ими пошевелить, боясь снова опрокинуть поддоны. «Лучше поспать», — решила я, глядя на низкое серое небо и темные, проносящиеся за окном голые деревья.
Я задремала. Мне даже приснился сон. Сначала зарябило разноцветными волнами перед глазами, а потом привиделось, будто я еду на машине рядом с водителем. Мне все хочется посмотреть — кто он, этот водитель, но отчего-то я никак не могу повернуть голову, словно мешает что-то. И вдруг на руле вместо рук я вижу собачьи лапы. Машину ведет огромная овчарка с лицом Власа.
Машина останавливается на высокой горе, я выглядываю в окно и вижу, что все пространство вокруг заполнено розовыми поросятами.
— А здесь 14-80, — прорезался в мой сон голос Николая Ивановича.
— Заснула и сон видела. Странный какой-то. — И я рассказала сон, только о Власе ничего говорить не стала.
— Собака — это к другу, — объяснила мама — она умела разгадывать сны. — Большая собака — к большому, хорошему другу. Поросята — к прибыли, а гора — к успеху.
— Прибыль — это хорошо, — заметил Николай Иванович.
Хорошо-то хорошо, только зачем у каждой бензоколонки кричать о цене 95-го бензина! Может, я бы еще что-нибудь важное увидела. К тому же во сне не так чувствуется, как одеревенели ноги.
— В Клину надо заправиться, там самый дешевый 95-й — и хлеб купить, — не унимался Николай Иванович.
— А хлеб-то зачем? — неосмотрительно спросила я, и отчим метнул на меня злобный взгляд.
— Там очень вкусный хлеб. Они сами выпекают, — пояснила мама. — Но куда мы его положим? Если только мне на голову!
У бензоколонки нам с мамой наконец удалось поразмять ноги и походить возле машины.
— Что ж вы дочек-то морозите?! Таких красавиц! — воскликнул здоровенный мужик с черными как смоль усами и здоровым румянцем на щеках.
Так, нас уже принимают за сестер. И немудрено, если он принял меня за старшую. Мама засмеялась, а отчим, вместо того чтобы расстроиться, потому что здоровяк набросил ему как минимум лишних десять лет, гордо раздул ноздри. Он понимал все по-своему, не так, как другие люди, — видимо, ему стало приятно, что у него такая молодая жена.
Купленный в Клину хлеб действительно пришлось положить маме на голову, ну не в полном смысле слова, конечно, но батоны от тряски постоянно на нее скатывались, пакеты с булками повисли на ушах… Пошевелиться она не могла, так и сидела, заваленная сдобами и рогаликами, чем напоминала полотна Джузеппе Арчимбольдо, в частности портрет Рудольфа И.
Я уже с трудом выдерживала многочасовое путешествие — все части тела свело, а до заветной деревни оставалось еще три с половиной часа как минимум. Стоило нам только отъехать от Клина, как позади меня послышалось пронзительное мяуканье — неестественное, нетерпеливое, исходившее, казалось, из самого нутра животного.
— Рыжик, успокойся, ну тихо, тихо, — уговаривала мама подобранного ею у мусоропровода кота в день рождения Мисс Бесконечности, когда я фотографировала виновницу торжества в незабываемой шелковой сорочке. Когда я еще не знала, чем закончится мой роман с «Лучшим человеком нашего времени», да и вообще не ведала, будут ли между нами хоть какие-то отношения. В то время мне лишь очень сильно хотелось этого…
Рыжик не унимался. Я молчала и проклинала себя за то, что уехала из Москвы. По крайней мере, могла бы отправиться своим ходом, чем ехать, упираясь подбородком в кошачьи поддоны, и слушать надрывные вопли!
— Да что это такое, в конце-то концов! — после долгого молчания гаркнул Николай Иванович. — Совсем распусти лися!
— Ты-то хоть молчи! — в сердцах воскликнула мама.
— Конечно, я еще и виноват! — буркнул он, а я почувствовала себя как на пороховой бочке.
Замолчали все, кроме Рыжика. Я отвлеклась на пейзаж за окном — сначала все поля да леса — бесконечные, заснеженные, навевающие сон. Потом проезжали какую-то деревню — то ли Ложки, то ли Чашки: домики, занесенные до окон чистым, нетронутым снегом. Кое-где горел тусклый свет, кто-то топил печку. Как необычно! Все-таки хорошо, что я поехала — я так давно не была на природе, забыла эти деревенские домики, среди которых ходила с Мисс Бесконечностью в далеком детстве на подмосковной даче, оценивая качество покраски.
— 14-90 — смотри-ка, здесь опять дороже. Проехали Тверь.
— 15 рублей. Мрак!
Выехали из города — опять километры лесов и белых, словно мертвых полей… Тоска…
По дороге изредка попадались населенные пункты, полуразрушенные церкви с облупившейся краской на стенах и стертой позолотой на куполах. Запущение…
— О! Наша полоса пошла! — радостно заметила мама, когда мы миновали вытянутый почти до трассы сосновый мыс.
— Да ты только посмотри, какая ясность! — воскликнул Николай Иванович.
Теперь, когда бензоколонки кончились, а по обе стороны дороги радовала глаз девственная природа, отчим сменил пластинку: вместо цен на бензин он то и дело повторял:
— Нет, вы только посмотрите, какая четкость! Я уже не чувствовала ног и подумывала о том, что мне придется учиться ходить заново.
— Какая яркость!
Сзади послышался тяжелый вздох мамы.
— Ясность какая, надо же!
На истошное мяуканье Рыжика уже никто не обращал внимания, у меня же было только одно желание — открыть дверцу машины и вывалиться на ходу. Я больше не могла терпеть столь напряженную обстановку в салоне.
— Какая четкость!
Нет, это просто ненормально, повторять одно и то же тысячу раз. Я сейчас взорвусь! И тут мама, к счастью, воскликнула:
— Мань! Видишь вдалеке блестящую крышу? То, что это крыша, я, конечно, не видела, но вдалеке действительно что-то блестело.
— Ну, — тупо произнесла я, и голос прозвучал, как со дна колодца.
— Это наш дом. Наконец-то. Прибыли.
Машина остановилась на обочине. К дому, хоть он и стоял у самой дороги, пройти (не говоря о том, чтобы загнать машину в гараж) не представлялось никакой возможности.
— У нас тут зимой своя система, — заявила мама, когда Николай Иванович вылез из машины.
— Куда это он?
— Сейчас пролезет в мастерскую, возьмет лопату, снег расчистит, потом все из машины выгрузим, котов в последнюю очередь — дом ледяной. Печку растопим. Два дня холод будет собачий.
На улице смеркалось. Николай Иванович лихо раскидывал снег налево и направо.
— Может, ему помочь? — неуверенно спросила я.
— Сиди, куда там! Ты посмотри, сколько снега-то — утонуть можно! — остановила меня мама.
В конце концов этот сумасшедший день закончился, и все мы расположились на первом этаже: Николай Иванович, мама, кошки и я. Температура в доме была, кажется, ниже, чем на улице. Я легла спать в чем приехала — в пуховом свитере, джинсах, под тремя ватными одеялами. На мою подушку пришел сначала Рыжик, потом Дашка прогнала его, и крикун лег мне на грудь. Минут через десять со мной в кровати уже лежало семь кошек — в этом доме они были главными хозяевами, им тут позволялось все.
— Маша, ты не переживай, первый день всегда такой сумбурный, завтра все встанет на свои места, — успокоила меня мама. «Но что может измениться? Разве только температура в доме повысится…» — подумала я и мгновенно уснула.
Пробудил меня дикий грохот. «Срочно в душ!» — подумала я, лежа с закрытыми глазами, но когда их открыла, увидела обитые вагонкой стены, черного кота с белым треугольником на морде, термометр на стене возле соломенного светильника и поняла, что душ — только несбыточная мечта.
— Чав, чав, чав, чав, чав! — кричали мама с Николаем Ивановичем наперебой — черный кот сорвался с места и побежал на кухню.
Я встала, ощущая себя совершенно разбитой, с налетом гари и сажи после вчерашней дороги, будто сутки ехала в поезде, в общем вагоне. В доме было так же холодно, как и вчера, меня бил озноб.
Войдя в кухню, я увидела незабываемую картину: над мисками сидело двадцать пушистых комочков разных цветов и пород — не было видно даже линолеума. И это ни на что не похожее чавканье двух десятков зверьков доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие маме, продлевая жизнь и, по ее словам, наполняя энергией.
— Здравствуйте, — поприветствовала я маму, Николая Ивановича ну и трапезничающих.
Николай Иванович не имел привычки здороваться, как, впрочем, и говорить «спасибо» после еды, желать спокойной ночи перед сном и прощаться.
— Ну, как ты? — спросила меня мама. — Мы уже напахались. Сейчас поедят, и сядем завтракать. Хочешь есть?
Нет, есть совершенно не хотелось, тянуло снова залезть под одеяло и заснуть.
— Что-то вид у тебя сегодня не очень, — обеспокоенно сказала она и, пробираясь между питомцами, подошла ко мне вплотную, потрогала лоб и заявила: — Да у тебя жар! Еще не хватало тут разболеться! Ложись в кровать!
— Мрак! Ну и молодежь пошла — дохлятина какая-то!
— А ты дрова иди принеси — в доме холод собачий!
Так, не успев приехать в деревню, я заболела. То ли от двухчасового хождения по оптовому рынку, то ли в этом была виновата отлетевшая верхняя пуговица моей дубленки, то ли все сразу.
Не знаю, что было лучше, — лежать в кровати или бесцельно метаться по холодному, необжитому дому.
На третий день моей болезни решили затопить баню — мама была уверена, что после бани мне станет легче. «Главное — прогреться», — говорила она. Я была счастлива — мне даже не верилось, что наконец-то смою с себя всю грязь.
Подготовка к бане была целым ритуалом, и день этот отличался от остальных: смена постельного белья, печку в доме топили с утра, а не как обычно — вечером, убирали комнату, чтобы после мытья прийти в чистоту.
— Какой везде бардак! — возмущалась мамаша — она вот уже минут двадцать рылась в шкафу и не могла найти лифчик.
Я же с удовольствием звякнула «молнией» своей огромной сумки-кишки. «Вот так тут все есть! Как же! Даже элементарной вещи найти не может! Зато я предстану во всей красе!» — подумала я и принялась выгребать на кровать содержимое баула. Глаза мои с каждой минутой округлялись от удивления и отчаяния. Тогда, в тот бестолковый день перед отъездом, я только и делала, что болтала по телефону, выслушивая советы членов содружества, что бы мне взять с собой. Сборы продолжались двое суток, но результат был неожиданным и ошеломляющим. Сверху была навалена косметика, которую я так безрассудно смахнула со стола. Там было много чего, кроме того, что может пригодиться зимой в деревне: три пузырька с молочком против загара, тоники, всевозможные жидкости для снятия макияжа, морская соль в пузатом флаконе с красной ленточкой на горлышке, пена для ванн… Зачем мне зимой молочко против загара? Зачем жидкость для снятия макияжа, когда я не взяла даже пудры, — спрашивается, что этим молочком смывать? А морская соль для ванн? А пена?
Но это еще что! Я полезла дальше, в глубь проклятого баула, и убедилась окончательно, что его нужно было оставить дома. Почему-то вещи, что красовались в последний день перед отъездом сверху той самой необъятной горы, оказались исключительно летними: мой любимый сарафан из крепдешина на широких бретелях с юбкой, скроенной по косой, густого шоколадного цвета, с приглушенно-желтыми, размытыми подсолнухами (обычно к нему я надеваю крупные янтарные бусы — очень эффектно). Но какой сейчас от него прок! Тоненькая шерстяная майка с короткими рукавами до локтя, юбка из штапеля необычной расцветки — в огурцах, строгий густо-красный пиджак для деловых встреч, который я обычно надеваю весной под темно-серые брюки. Брюки остались лежать в куче, в шкафу, в Москве. Везет же им! Хотелось бы мне сейчас быть на их месте! Джинсовые шорты, бриджи, топики, маечки! А самым ужасным был костюм садомазохистки из черной тончайшей кожи, который шутки ради мне купил Овечкин в прошлом году перед самым моим днем рождения, когда мы, по обыкновению, бродили с ним по секс-шопам и отделам женского белья: бюстгальтер с мощными металлическими заклепками и юбка с неровным подолом, в некоторых местах неприлично откровенной длины.
Мне решительно нечего надеть после бани. Хорошо еще, что, послушав Женьку, я каким-то чудом захватила нижнее белье.
И не было другого выхода, как попросить у мамы свои старые джинсы, которые неприлично носить даже дома, и один из тех вытянутых, протертых свитеров времен института.
— А что в твоей набитой до отказа кишке, позволь узнать? — ехидно спросила она.
— Там кое-что другое, но очень нужное, — уклонилась я от ответа.
— Вот и надевай на себя это «очень нужное». — Мама злилась — она все еще не нашла лифчик. — Я не знаю, где твои джинсы, кофты, юбки! Не знаю! Может, на чердаке, может, в гараже, может, в мастерской! Не знаю! — И, подумав, добавила: — Ой, какая же ты, Машка, росомаха!
Нет, росомаха лучше, чем я. Где-то читала, что этот хищный зверь, обитающий в сибирской тайге, по крайней мере, хоть приносит пользу — как санитар леса, уничтожает трупы животных. Я же не приношу тут, кажется, никакой пользы — не успела приехать, как сразу заболела, теперь вот сижу перед сумкой с летними вещами, не зная, что мне надеть. Может, нацепить на себя все вещи сразу?.. Однако маме я решила не раскрывать степень своей никчемности и ядовито сказала:
— «Не бери с собой ничего! Там все есть!» Я это предвидела. Предвидела, что тут давно уже нет ничего моего. Хорошо, не послушала тебя!
— Тогда какие проблемы?
Никаких. Решила тебя проверить. Просто не представляю, что было бы, если б я не взяла с собой, как ты выражаешься, свою «кишку»! — победоносно заявила я, но легче от этого не стало — неизвестно, сколько предстояло ходить в том, в чем приехала — не надевать же на себя, хоть и любимый, открытый крепдешиновый сарафан, когда на улице минус 25 градусов!
Вообще не представляла раньше, что способна несколько дней не менять одежду, впрочем, как и то, что смогу столько времени выдержать без мытья — мои пышные, блестящие волосы превратились в крысиный хвостик, тоже, правда, блестящий, но далеко не от чистоты… На лбу вскочило два отвратительных прыщика.
— Это от грязи, — уверенно сказала я маме.
— Какая тут грязь? — удивилась она. — Это у тебя простудного характера.
— От простуды могут быть лихорадки, а не прыщи.
— Не спорь со мной! И вообще, хватит меня доводить с двух сторон! — взорвалась она и поддала кипятка.
Париться я не люблю, но, несмотря на это, в бане я торчала довольно долго из-за того, что ужасно соскучилась по воде, и все думала, что я еще недостаточно отмылась. Мама от души хлестала меня можжевеловым веником, отчего я вся покрылась красными пятнами (оказалось, что у меня аллергия на можжевельник), а потом нечаянно обдала крутым кипятком коленки. На этом мытье можно было считать оконченным.
— Что ты под руку лезешь? Не видишь, я воду Разбавляю! — пыталась перекричать она мой рев. — На ковш и писай скорее, а то волдыри будут, — приказала мамаша.
— Не хочу я писать, сама писай, — вытаращив глаза, горланила я.
— Я тоже не хочу, — несколько удивленно заметила мама и ринулась к выходу. Она открыла дверь и прокричала: — Коля! Коля! Помочись в ковшик, Машка все коленки кипятком ошпарила.
— Мрак! — послышалось с улицы.
— Да не буду я его мочой свои коленки обливать! — возмутилась я. — Совсем уже! Ты как Анжелкина мать — уринотерапия какая-то!
— Не будь дурой! — разозлилась она. — Это же первый способ против ожогов!
— А я тоже не хочу! — распахнув дверь, заявил отчим.
— Это ты из-за вредности все! Я говорю, Манька ноги ошпарила, а ты даже этого не можешь, не говоря уж ни о чем другом!
— Я еще и виноват! Ноги ошпарила! Да это ваши проблемы! — вызывающе крикнул он и захлопнул дверь.
— Жлоб! И этого добра ему жалко! А ты уродина! Одевайся и иди ложись в кровать! — скомандовала она.
Вообще-то Николай Иванович был не жадным человеком, но у каждого свои странности…
После бани я скрипела от чистоты, но все омрачало жжение коленей. Было такое ощущение, что с них медленно, но верно сдирали скальпелем кожу. Лежа в постели, я поняла окончательно — и никто на свете не сможет переубедить меня в обратном: я человек городской и совершенно не приспособленный к деревенской жизни. Все для меня дико в деревне: и отсутствие душа, и баня с можжевеловыми вениками, и туалет на улице, и печка, которую приходится топить каждый день, — одним словом, эта жизнь не по мне. Я с ужасом представляла, вернее, вовсе не представляла, как я тут смогу продержаться целый месяц.
На следующий день мама с отчимом уехали в райцентр — там каждую пятницу бывала ярмарка. Торговый люд съезжался со близлежащих городов и весей и продавал то, чего в Москве было не сыскать ни в одном магазине — от колгот из Клина до шампуней из Мурманска по 14 рублей за пузырек. И кто только занимается в Мурманске производством шампуней, да еще и отсылает в противоположный конец земного шара, в какой-то захудалый, никому не известный райцентр за 14 рублей?!
Вернулись они только к обеду, и мама, скинув шубу, бросила мне на кровать небольшой пакет:
— На, это тебе жених передал!
Совсем забыла упомянуть, что и тут у меня был потенциальный жених. Казалось, женихи у меня были повсюду, где только успела побывать моя мама.
Этого самого жениха я видела прошлым летом. Правда, ко мне сватался не он сам, а его мамаша. Надо заметить, что разговаривала, делала комплименты, говорила о любви со мной исключительно она — эта шестидесятилетняя женщина с редким именем и отчеством. Странно, но я давно обратила внимание на тот факт: с самого детства меня окружают люди с необычными именами. Наверное, это одно из проявлений судьбы. Так вот, звали мою будущую свекровь Эльвира Ананьевна.
Ей было 60 лет, но выглядела она лет на десять старше своего истинного возраста. Но нет, нет, нет. Все по порядку.
Года два назад мама с Николаем Ивановичем отправились в пятницу в райцентр на ярмарку. И нужно же было моей любезной родительнице при таком изобилии товара заглянуть в захудалый маленький магазинчик на центральной (кстати, и единственной) площади. Ей приспичило именно здесь купить свежей рыбки для своих пушистиков. Народу в лавке не было (что естественно — какой же дурак в ярмарочный день пойдет в убогий магазинчик со стенами, выкрашенными масляной краской ядовито-зеленого цвета, где неприятно и явственно пахнет тухлятиной!).
Мама моя — женщина общительная, и так, слово за слово, она разговорилась с простодушной, верующей продавщицей. Общих тем для беседы у них было предостаточно — хотя бы та, что обе они не местные: мама из Москвы, а Эльвира Ананьевна переехала сюда вместе с сыном из Самары при весьма странных обстоятельствах, о которых новая мамашина знакомая распространяться не желала. Однако через месяц все же распространилась, рассказав леденящую кровь историю о том, как одна из преступных группировок преследовала ее сына (который как нельзя кстати оказался моим ровесником) совершенно несправедливо, приняв его за другого человека и требуя с него огромные деньги — чей-то долг.
Спустя год вышеприведенная версия бегства из родного города в тихий райцентр сменилась еще более ужасающей историей о том, что бедному Шурику живот прострелил отнюдь не преступный элемент из самарской группировки, а отчим — третий, ныне покойный муж Эльвиры Ананьевны, и что рассказывать ей об этом было стыдно и неприятно.
Прошлым летом, когда вдова впервые увидела меня, история изменилась в корне. По сути, получалось, что и истории-то никакой не было — никто в ее Шурика не стрелял и он совершенно здоровый молодой человек. Тут-то все и началось: и сватовство, и комплименты, и необузданное рвение с нами породниться. Как-то мы зашли снова к ней в магазинчик за свежей рыбой для маминых питомцев (хотя свежей ту сплющенную мойву можно было назвать с большой натяжкой), и Эльвира Ананьевна поведала нам вещий сон, что привиделся ей с четверга на пятницу. Будто бы стоит она одна в церкви за алтарем, а перед ней Библия раскрытая (именно Библия, а не Евангелие), и вдруг я в эту самую церковь захожу и прямой наводкой к ней. Подошла вплотную и пальчиком своим (именно так она и выразилась — «пальчиком») указываю ей строку, которая гласит о том, что им с сыном в дом необходимо настоящую хозяйку привести, что пришло время, мол, сыну ее, Шурику, жениться. Указала я ей на строку эту пророческую, повернулась и медленно так, не торопясь ушла.
Самого Шурика видела я лишь раз, когда он матери товар привозил.
— Здрасси, — буркнул он себе под нос, на меня даже не посмотрел. Я совсем не расстроилась, потому что Шурик, во-первых, совершенно не в моем вкусе, а во-вторых, мне показалось, что он даже в приятельских-то отношениях со своей головой не был.
Ну Поля, чем мой Шурик не пара вашей Манечке! — воскликнула вдова, когда тот вышел из магазина. — Высокий, статный — с таким не стыдно и в театр, и в кино выйти!
«Ну, в кино, конечно, можно, — подумала я тогда, — там все равно темно и не видно ничего, в театр — уже с натяжкой, а уж про остальные общественные заведения и мечтать нечего».
— А высшее образование у него есть? — с жаром, даже с каким-то азартом спросила мама. Впрочем, такой нескрываемый интерес мамаши к образованию будущего зятя можно было легко объяснить — ей хватило последнего моего мужа Толика, недоучки и бездельника, который с трудом окончил вечернюю школу.
— Есть, есть, есть! — поторопилась уверить маму Эльвира Ананьевна. — Он в политехническом институте учился!
Вскоре я уехала, а вдова с тех пор, как только завидит маму, настойчиво требует привезти меня обратно, будто я чемодан какой. Вообще не понимаю, на что рассчитывает эта женщина — что я перееду жить в деревню и буду вести домашнее хозяйство? Или Шурик намерен поселиться в моей уютной однокомнатной квартирке в центре города и торговать тухлой рыбой на рынке?
Ко всему прочему, однажды вдову потянуло на откровенный разговор, и она поведала маме, что сын ее влюблен в девицу, которая проживает в той же деревне, что у нее муж и ребенок, и что роман этот продолжается вот уж года два, и она боится, как бы чего не вышло и как бы муж той самой зазнобы не переломал ее Шурику кости.
Я с любопытством раскрыла пакет — подарок жениха: два красных яблока (ненавижу красные яблоки!), от которых пахло опилками и травой, и три апельсина, один из которых был с бочком. И почему у них всегда все с душком, с гнильцой, с бочками? Я сразу же поняла, что так называемый жених тут ни при чем, — этот кулек, без сомнения, передала его заботливая матушка.
Несмотря на ошпаренные коленки, баня мне здорово помогла. Так что к понедельнику я была совершенно здоровым человеком и решила выдвинуть свои требования:
1. Дать мне ключи от гаража, мастерской и чердака, чтобы разыскать там свои вещи (ходить мне было совершенно не в чем).
2. Протопить второй этаж и дать мне возможность наконец работать.
Требования, как мне показалось, были самыми что ни на есть непритязательными, однако мама с Николаем Ивановичем так не думали.
— Ты соображаешь, что говоришь?! — в негодовании воскликнула она. — Как это мы протопим второй этаж? Естественным образом, что ли? И какие тебе ключи от чердака — ты еще не совсем здорова! Что тебе там нужно?
— По поводу второго этажа все, что ты сейчас сказала, — бесстыдная ложь. Его можно запросто обогреть мощнейшими батареями, которых у вас в наличии целых две штуки. Или ты обманывала меня осенью, когда зазывала сюда?! А что касается чердака, то извини, но мне нужна одежда! Ты говорила, тут полно моего барахла. Или ты тоже врала?
Ну-ка, что в твоей сумке? Я никак не могу понять, зачем тебе одежда, если ты привезла с собой эту кишку. — И мама, вытащив из-под кровати мою поклажу, наконец удовлетворила свое любопытство, разразившись после этого такими нелитературными выражениями, которые я не могу привести в тексте по этическим соображениям.
В то время как из мамы сыпались нецензурные словечки — выразительные, меткие, красочные и незаменимые для этой ситуации, — Николай Иванович бросал на меня не менее выразительные, испепеляющие взгляды.
После того как мамина нецензурная лексика была исчерпана, а может, не лексика, а силы все это мне говорить, я спокойным, металлическим и непоколебимым голосом объяснила, что не могу жить в одной комнате с ними и с двадцатью котами, потому как у меня аллергия на шерсть животных, потому что по приезде я уже три раза упала, едва не наступив на очередную кошку, а самое главное, потому, что мне надо работать.
— Мрак! И с каким апломбом! — не выдержал отчим, а я, взглянув на него, начала хохотать. К ужасу своему, я никак не могла остановиться, хотя понимала, что это только усугубит мое и без того критическое положение.
Смех порой является странной особенностью организма, вполне возможно, что защитной. Я знаю много случаев в подтверждение этого. Вот, к примеру, одна из подруг Мисс Бесконечности — Катерина Сергеевна, что работала завхозом в школе-интернате, рассказывала, как хоронила родную сестру. Это целая история.
Все четыре сестры Екатерины Сергеевны жили в деревне. А дело было летом, еще в те времена, когда существовали совхозы, колхозы, коровники и птицефермы. Всех сестер отправили, по обыкновению, на летний сезон на дальнее пастбище (кажется, называлось это тогда «выгул коров» или что-то в этом роде). Из соображений гигиены женщины брились наголо, оставляя лишь челку. Никто никогда об этом не догадывался, потому что они носили платки — вполне приличный вид: из-под платков выглядывали челки. А тут похороны — умерла любимая сестра. Екатерина Сергеевна приехала из Москвы — она скорбит, сердце ее наполнено печалью… Наконец наступает тот самый момент, когда родственники стоят у гроба и прощаются с умершей. Самая старшая плачет сильнее остальных, плач этот постепенно переходит в рев, потом в страшные стенания — все тело сотрясается, и вдруг в эту минуту с ее головы слетает платок, и Екатерина Сергеевна начинает неудержимо смеяться, поначалу пытаясь выдать свой неистовый смех за рыдания, но из этого у нее ничего не получается — она хохочет уже открыто, во всю глотку над гробом родной любимой сестры, а поделать с собой ничего не может. Сестру опустили в сырую землю, а она все заливается, уж землей присыпали, а она успокоиться никак не может. Вот кощунство-то!
Так и я теперь — согнулась в три погибели, кажется, сейчас лопну от смеха и разлечусь на мелкие кусочки, а остановиться не могу.
Мама удивленно глядит на меня — я, схватившись за живот, кивнула в сторону Николая Ивановича. Казалось, понять, что это меня так разобрало в такой неподходящий момент, было довольно сложно, вряд ли кто-то бы понял. Но мама, взглянув на мужа, каким-то непостижимым образом (это, наверное, все же заговорило наше с ней кровное родство) уловила причину моего откровенного и неприличного хохота.
Николай Иванович стоял перед нами — сутулый, с взъерошенными седыми волосами, с длинными, еще рыжеватыми торчащими бровями, в махровом халате двадцатилетней давности в сине-желтую полоску с выдранными котами нитками, висящими, словно тонкие макароны, и в разных танках (один зеленый, другой красный — ведь он дальтоник) на босу ногу. Взгляд отчима был полон гнева, причем глаза его смотрели в разные стороны — левый на меня, а правый — на супругу. Как это ему удается — никогда не понимала.
— Совсем распустилися! — только и мог сказать он.
— Сумасшедший дом на выезде! Ой, не могу! — тоже сквозь смех, всхлипывая, пропищала мама. — Неси батареи на второй этаж! Ой, не могу!
— Интересно мне знать, а коко же мы будем за электроэнергию платить? — прищурившись, спросил он.
Вообще-то мой отчим не жадный человек, но со своими странностями — на какую-нибудь мелочь, сущий пустяк скупится.
Он ушел за батареями, недовольно бормоча себе что-то под нос, а мы никак не могли успокоиться и все смеялись.
— Нехорошо как-то получилось, — сказала я. — Мне даже жаль его стало.
— Нет, сама все это учинила, а теперь ей, видите ли, жаль его! Ключи от чердака, гаража и мастерской на крючке, рядом с дверью.
Через минуту от жалости не осталось и следа, а спустя десять минут я перебирала тряпье на чердаке. Наконец-то лед тронулся!
Здесь пахло мышиным пометом вперемешку с сыростью, затхлостью и плесенью. В ряд висели старые пальто, куртки, шубы, валялись корзины, рамы для картин, в углу — мой первый проигрыватель, на полу грампластинки, изрядно погрызенные крысами, под самым потолком, словно фонарь, — осиное гнездо… Поначалу ни с того ни с сего на меня накатила волна необъяснимой грусти. Потом я поняла, что в глубине моей памяти — где-то на дне, подобно тому, как на этом самом чердаке старые ненужные, проеденные вещи, — свалены обломки воспоминаний о детстве, юности, минувших днях.
Вот плащ стального цвета. Я гарцевала в нем пятнадцатилетней девчонкой, а Анжелкина мать все просила продать его ей или достать такой же. Как-то солнечным весенним днем все мы, члены содружества, отправились на ВДНХ. Мы бегали, как ненормальные, вокруг фонтана «Дружбы народов» и обливали друг друга водой. Единственное, что тогда омрачало всем нам жизнь, так это предстоящие выпускные экзамены. Сейчас это кажется таким пустяком!
Потом мы захотели есть, купили по чебуреку, и жирное пятно, которое я посадила на плащ, отбило желание Анжелкиной матери приобрести его. Оно до сих пор сохранилось — огромное, чем-то напоминающее двугорбого верблюда, у второй верхней пуговицы справа.
В груде хлама торчит чья-то пухлая резиновая Рука. Потянула — оказалась любимая кукла детства, — огромный немецкий пупс в натуральную величину младенца. Что я только ни делала, чтобы мне купили ее! И безутешно плакала в отделе игрушек, и хорошо себя вела целых два дня, даже мороженого не требовала. Я все боялась, что куклы закончатся к тому времени, когда родители соизволят наконец купить мне мою мечту (в детстве еще возможно купить мечту). И каждый раз, когда я врывалась в свой любимый отдел, мое сердце трепетало — а вдруг пупса продали?! Но кукла по-прежнему красовалась на верхней полке в нежно-голубом костюмчике из тонкой фланели. Не покупали ее, вероятно, оттого, что стоила она по тем временам немалых денег — то ли 12 рублей, то ли 25 — сейчас уж не припомню. В один прекрасный день мама взяла меня за руку и сама привела в отдел игрушек. Через какое-то мгновение я стала счастливой обладательницей пупса, который сейчас валяется с растопыренными руками в груде мусора. Теперь он не нужен мне!
Странные все-таки это субстанции — время, память… То, что тебе кажется сегодня необходимым, то, без чего ты сейчас не можешь жить, спустя годы становится ненужным, бесполезным и никчемным; осаждается где-то на самом дне памяти и всплывает лишь, когда что-то напоминает тебе об этом. Неужели так произойдет и с моей любовью к Кронскому? Неужели он тоже потеряется и канет на то самое дно? И лишь какая-то незначительная деталь — цветок, запах или пейзаж — заставит меня вспомнить о нем?
Теперь, когда я нахожусь вдали от «Лучшего человека нашего времени», должна признаться, что то сильное чувство, которое я испытывала к нему, еще не угасло и я все еще продолжаю думать о сочинителе детективов. Глупо скрывать очевидное, к тому же от самой себя.
Мои размышления прервал подозрительный шелест в дальнем углу чердака — обнаглевшие крысы, ощущавшие себя тут полноправными хозяевами, привыкли к моему присутствию и поспешили о себе заявить, что заставило меня немедленно приступить к поиску старой одежды.
В качестве трофея я притащила на второй этаж протертые, изъеденные до колен джинсы и полинялый свитер. Хоть что-то! Я и этому была рада.
Дни в деревне протекали как-то странно, не как в городе — они то неслись с невероятной быстротой, то растягивались, словно густая патока. Теперь я обитала одна на втором этаже, но никакой возможности хоть что-нибудь написать не было — то с первого этажа доносились обрывки эмоционального разговора между мамашей и Николаем Ивановичем, то мама журила своих питомцев, постоянно хлопая дверьми, а через каждые двадцать минут я слышала ее неторопливые шаги на лестнице, тяжелые вздохи и причитания. Так что очередная фраза, которую я пыталась написать, зависала на самой середине, ожидая завершения…
«Я больше не могу!», «Глаза б мои его не видели!», «Я по тебе уже соскучилась, поговори со мной!», «Я тут одна, как в пустыне!» — обычно говорила она, а после обеда:
— Да хватит тебе сидеть-, пойдем, погуляем! Где ты еще воздухом подышишь, как не в деревне?!
И мы отправлялись на прогулку. Всю неделю наш променад заключался в том, что мы неторопливо добирались по безлюдной дороге до соседней деревни. Когда я впервые вышла на прогулку и окинула взглядом тот простор вокруг себя, который и обозреть-то до конца было невозможно, я забыла обо всем на свете — и о Кронском, и содружестве — короче, о своей московской жизни. Глаз мой никогда ничего подобного не видел: бесконечные поля искрящегося голубоватого (будто кто-то невидимый умело и равномерно присыпал их синькой) снега, а где-то далеко-далеко, словно мираж, виднелся серебристый темно-малахитовый лес. Этому однообразному величественному пейзажу не было конца — он лишь прерывался соседней деревушкой, где в морозный зимний воздух вливался сладковатый запах дыма из труб. А дальше опять снег и темная каемка леса вдалеке.
Маршрут наших с мамой прогулок изменился после того, как мы встретили госпожу Попову. Лет десять назад она переехала сюда из Москвы, сдав квартиру в городе. Ей 69 лет. За глаза мамаша упорно меняла ударение в фамилии соседки со второго на первый слог, заменяя начальную букву «П» на «Ж», что звучит крайне неприлично.
— А чо это вы все в ту сторону ходите? — спросила она, поравнявшись с нами и показывая пальцем — они у нее какие-то несуразные — кривые, длинные и толстые одновременно. — Мы с бабами у лес ходили. А вы чо не ходите?
Особой страстью госпожи Поповой было коверканье слов — так что поначалу и не поймешь, о чем она говорит. Однажды она рассказывала, как приехала в гости к дочери и зятю:
— Пока по ступениякам-то подылась, а их 58, я сосчетала! — кричала она, растопырив нескладные пальцы. — В дом-то ворвавшись, сумки как кину, — в слове «кину» ударение неизменно ставилось на букве «у», — и сразу в туфа лет. А мои-то шпионов жарят. Любят они шпионов есть! Оказалось, у зятя рождение. А я забула.
— Но потом-то поздравили, наверное, подарили что-нибудь? — осведомилась мама.
— Вот ишчо! — воскликнула госпожа Попова, будто ей нанесли смертельную обиду. — В жисти никого не проздравляла!
Как потом выяснилось, шпионами она называла грибы шампиньоны.
Другой ее страстью было хвастовство, что у нее, мол, все есть и ей ничего не надо. Как-то раз она даже затащила маму в избу и принялась выдвигать всевозможные ящики, приговаривая:
— Поглядикась, во! Конфекты и такие, и сякие! Две упаковки бананов! А это, это, — задыхаясь, распахнула она холодильник. — «Ножки Буша». Пять коробок! Да! Все у меня есть! Мне мои из Москвы привозят. Я им сальца, а они мне вот!..
И третьей страстью Поповой было стремление к наживе — так что по приезде в деревню из-за этой своей последней страсти она чуть было не перетравила всех жителей. Госпожа Попова где-то краем уха услышала, что самогон можно изготавливать на кетчупе. Поначалу все накинулись на невиданную новинку, не ожидая подвоха, а наутро всем миром пошли к «отравительнице», твердо решив забить ее До смерти дубинками. Госпожа Попова избежала смерти только благодаря тому, что заперлась на все замки и две недели из дома носа не казала.
— Как же в лес-то пройти? Там же сугробы! — Удивилась мама.
— Ничего-того подобного! — победоносно воскликнула Попова (а голос, надо заметить, у нее препротивный — громкий, базарный, переходящий в визг). — Мы с бабами собралися, валенки нацепили и друг за дружкой, следок в следок, ножка к ножке три дня ходили и тропку протундырили. Крысота там, Полин, ну просто описанная! Сходите, поглядите! — сказала она, обнажив гнилые, торчащие в разные стороны зубы.
И мы отправились по «протундыренной» стежке через поле в лес. Очутившись в лесу, от «крысоты» у меня закружилась голова: апельсиновое закатное солнце разлилось по кронам сосен и елей, переливаясь на их заснеженных лапах.
— Как в сказке! — кричала я вне себя от восторга и никак не могла успокоиться, потому что не удавалось подобрать нужных слов, метко определяющих сие зрелище. — Волшебство какое-то!
— А ты гулять идти не хотела!
После этого дня к нашему обычному походу в соседнюю деревню прибавился еще и лес.
Вечерами, когда на улице становилось совсем темно и небо сплошь покрывалось звездами — так, что был даже виден Млечный Путь, а луна висела красным блином над домом госпожи Поповой, — Николай Иванович вытаскивал меня во двор и каждый раз говорил одно и то же:
— Подыши. Смотри небо какое! В Москве ни такой яркости, там вообще звезд не увидишь, — он выжидающе замолкал.
— Да, — поддерживала я его.
— Конечно, загазованность в городе какая! Да, — передразнивал он меня и задавал свой коронный вопрос: — А ты знаешь, где находится Полярная звезда?
— Нет, — отвечала я — ответ «да» оскорбил бы Николая Ивановича.
И отчим в который раз принимался с наслаждением объяснять:
— Видишь Большую Медведицу?
— Это вот эта? — пальцем в небо указывала я.
— Ну, вон, ковш.
— Да, вижу.
— А самую яркую звезду видишь?
— Ну, да.
— Ту, что в ковше. Видишь?
— Да, да, да, да! — с энтузиазмом восклицала я, иначе это могло бы затянуться надолго, а у меня уже мерзли ноги.
И тогда он произносил свою коронную фразу — произносил как-то неистово, неукротимо, с бешеным азартом:
— Вот от нее вниз, камнем на север! Поняла?
— Да, да, да, да! — снова восклицала я.
— Это и есть Полярная звезда! — кричал он на всю округу.
Через час после вдохновенного ежевечернего объяснения Николаем Ивановичем о месторасположении Полярной звезды я обычно ложилась в кровать. Здесь, в деревне, я засыпала мгновенно и незаметно для себя. Здесь, на лоне природы, я не искала вход в огромном путаном лабиринте сна. Вместо него тут была засасывающая бездна забытья. И однажды, проваливаясь в эту всепоглощающую пропасть, я вдруг поймала себя на мысли, что напрочь забыла о Кронском — он теперь для меня все равно что та кукла на чердаке среди кучи ненужного барахла.
По пятницам мы неизменно ездили в райцентр на ярмарку, а также это был день телефонных переговоров — мы звонили Мисс Бесконечности, а я пыталась дозвониться хоть до одного из членов содружества, но тщетно — казалось, они либо вымерли, либо тоже уехали всем скопом из города.
Когда я впервые после болезни оказалась на ярмарке, мы зашли в самый большой магазин на единственной площади, который больше напоминал бестолковый крытый рынок, и встали в длиннющую очередь.
— Больше негде купить поесть? Только тут? — съязвила я, как вдруг впереди из-за прилавка кто-то крикнул:
— Полина! Полина! Как вы ужасно выглядите! Вы что, тоже заболели?!
Вся очередь как по команде обернулась, будто все знали, что именно мою маму зовут Полиной. Мамаша остолбенела — она всегда терялась перед подобными выпадами. Я сначала ничего не поняла, но, как потом оказалось, это кричала Эльвира Ананьевна.
По сравнению с прошлым летом вдова сделала большой шаг в бизнесе — она продала свою вонючую забегаловку, арендовав в центральном магазине на единственной площади добрую половину помещения. Теперь за прилавком стояли трое — сын Шурик, мать и дочь, привезенная из Самары, тоже, кстати, Шура. Почему детей нарекли одним и тем же именем, остается лишь догадываться — то ли это любимое имя Эльвиры Ананьевны, то ли она хотела показать свою оригинальность, то ли от скудости фантазии (как принято у какой-то северной народности, не помню, у какой именно — все Вовки).
Дети были точной копией Эльвиры Ананьевны — с лошадиными, вытянутыми лицами, маленькими птичьими, не моргающими глазками, а носы у всех будто перебитые, свернутые вправо. Сама вдова стояла в центре между собственными чадами и напомнила мне фрица из-за дерматиновой шапки с ушами и козырьком; сзади во все стороны помелом торчал сожженный неудачной химической завивкой длинный хвост. По правую руку ловко и незаметно обвешивал народ Шурик в лыжной обтягивающей шапочке, по левую — дочь Шура, тоже в шапке со снежинками и огромным, почти с ее голову, помпоном. Все они стояли в заляпанных серых фартуках.
Завидев меня, вдова, будто очнувшись ото сна, вылетела в торговый зал, набросилась на меня, словно коршун на куропатку, приговаривая:
— Наконец-то Машеньку привезли, а то Шурик совсем истосковался! Пойдемте, пойдемте внутрь. И она потащила нас в подсобку.
От навязчивых поцелуев вдовы хотелось побыстрее умыться. От нее пахло несвежей селедкой.
Эльвира Ананьевна усадила нас на деревянные ящики и затрещала о том, как хорошо было бы, если бы мы породнились. В подтверждение этого она снова рассказала историю, которую когда-то уже рассказывала маме, но несколько по-иному интерпретированную:
— Ходила в воскресение в церковь. Подхожу к Духовному отцу своему, а он раскрывает передо мною Библию и вычитывает фразу. Потом говорит — фраза эта означает, что в дом нам хозяйка нужна, а Шурику пора жениться. Вы уж не побрезгуйте нами! Шура-то у меня хороший. Ведь не пьет, не курит, работящий! И в театр с ним не стыдно сходить! Глядите, какой он ладный, — и она указала на сына, который в этот самый момент выглядел очень выигрышно, расшвыривая пустые коробки. — А давайте в эти выходные устроим пикник?! Хоть у нас, а хоть и у вас. Молодым надо поговорить, узнать друг друга получше. А уж как он тосковал по вам, Машенька, как тосковал! Ночи не спал! — воскликнула вдова и снова полезла ко мне целоваться.
Мама смотрела на меня с довольной улыбкой. В душе она уже поженила нас с Шуриком, несмотря на придурковатое выражение его вытянутого, лошадиного лица и пустого, не смотрящего на собеседника взгляда (явный признак слабоумия). Мамаша уже видела меня в подвенечном платье рядом с сыном Эльвиры Ананьевны перед алтарем, она представляла меня спустя девять месяцев с животом-арбузом, как сейчас у Анжелки, мечтая о счастливой старости в окружении многочисленных внуков.
В моем воображении рисовалась совсем иная картинка: я стою за прилавком крытого магазина на центральной площади в нахлобученной несуразной шапке из ровницы, в фартуке, четвертая в этой идиотической семейке, и отвешиваю тухлую рыбу. Эта перспектива так явственно предстала перед глазами, что мне вдруг стало нехорошо.
— Я не понимаю, — заговорила я. — А где мы жить-то будем?
— Как — где?! Ты, Машенька, переедешь сюда. У нас тут хозяйство, бизнес. А что Шурику в Москве — он там не у дел будет!
— Да никогда я сюда не перееду! — возмутилась я.
— Посмотрим, посмотрим, — проговорила она, хитро подмигнув, будто на сто процентов была уверена, что я, сраженная любовью к ее длиннолицему сыну с перебитым, как у нее самой, носом, брошу в Москве все — квартиру, работу, друзей — и перееду на пожизненное заключение месить навоз в их забытой богом деревеньке. И что больше всего меня взбесило, так это ее уверенность — она и слушать ничего не желала, она так решила, и это самое главное. — Поленька, так давайте организуем пикник в воскресенье. Я тебе сейчас мяса на шашлык дам, пойдем, пойдем, Полин.
И мама безропотно последовала за вдовой. Кошмар! Они вмешивались в мою жизнь, не обращая на меня ни малейшего внимания, как будто я вещь какая! Ну да — я вещь! Я вещь! Я вещь! Нужно немедленно найти какого-нибудь Карандышева, чтобы он меня застрелил, как Ларису Дмитриевну Огудалову из «Бесприданницы» А.Н. Островского.
Весь следующий день мама готовилась к пикнику — мариновала мясо для шашлыков, варила яйца, рис, картофель для салатов, время от времени прикрикивая на котов и Николая Ивановича. Одним словом, сумасшедший дом.
— Мам, неужели ты всерьез рассматриваешь этого полоумного Шурика как кандидата в мужья? — спросила я, открывая банку с горошком.
Нет, это почему полоумного?! И что у тебя за манера всех унижать! У мальчика высшее образование, он умеет зарабатывать деньги — ты только посмотри, как они тут развернулись. Это тебе не рвань там какая-то! — Мама произнесла свою коронную фразу и с азартом принялась поносить моих бывших мужей. Хорошо еще, что последнее время она была всецело поглощена романом с охранником, а не моей личной жизнью — не представляю, что бы она теперь говорила, знай хоть малую толику, хоть микроскопическую подробность моего романа с Кронским. К счастью, она вообще не знала о существовании «Лучшего человека нашего времени» в моей жизни.
— Ладно, — категорично сказала я. — Вот выйду за него замуж.
— Очень хорошо, — с удовольствием заметила мама. У нее была одна цель относительно меня — побыстрее сбыть с рук.
— И где мы жить будем? Я из Москвы никуда не уеду! — уже кричала я.
— Убежишь ты из своей Москвы — всех нас оттуда выживут, помяни мое слово! Все дорожает и дорожает — и квартплата, и транспорт, и телефон. Скоро за воздух деньги будут брать! А потом, что тебе эта Москва далась? Ты здесь хоть на человека стала похожа — розовенькая, здоровенькая!
— А работа?
— Что работа? Закончила роман — отвезла, закончила отвезла. Что работа? Не понимаю.
Продолжать разговор мне показалось совершенно бессмысленным, и я подумала о том, что спасти меня от вдовы и ее сына может лишь чудо или мой немедленный отъезд. Однако отъезд неминуемо повлек бы за собой дикий скандал, поэтому я решила пока подождать чуда.
На следующее утро все было готово. Мама надела свое лучшее платье, заставила Николая Ивановича побриться и самолично подстригла его торчащие брови.
— Ты думаешь переодеваться? — спросила она меня, подозрительно глядя на потертые бриджи, которые я переделала из обгрызенных мышами джинсов, найденных на чердаке.
— Вот еще, — недовольно буркнула я.
— Немедленно надень что-нибудь приличное и подкрась щечки!
— Вот еще, — снова фыркнула я.
— Не трепи мне нервы! — истерично воскликнула мама. — Иди, приведи себя в порядок!
— Хорошо, — кротко сказала я. — Можно, я воспользуюсь твоей косметикой?
— Конечно, деточка, бери в тумбочке все что хочешь, не стесняйся, — умилилась мама.
Я закрылась на втором этаже, выгребла из сумки все вещи и решила убить наповал своего «жениха». Может, надеть крепдешиновый сарафан или майку с шортами — в доме тепло… И тут взгляд упал на садомазохистский костюм, что подарил мне Овечкин в прошлом году перед самым днем рождения.
Недолго думая, я скинула свою скромную одежонку, надела бюстгальтер из черной тончайшей кожи с металлическими заклепками и юбку с неровным подолом, будто его собаки жевали-жевали, да кто-то им помешал. Начесала волосы так, что они встали дыбом, словно в знак протеста, и ярко (неприлично ярко) накрасилась.
Я посмотрелась в зеркало — узнать меня было практически невозможно, однако созданный мною образ хоть и был несколько вульгарен, зато выглядела я вполне гармонично.
Слышно было, как к дому подъехала машина, я посмотрела в окно и увидела старый раздолбанный грузовик с брезентовым верхом. Из кабины вывалились вдова с Шурочкой, потом выпрыгнул мой «жених».
— Маня! Маня! Выходи! Они приехали! Мать ожесточенно колотила в дверь.
— Иду! — крикнула я, но решила дождаться того момента, когда гости войдут в дом, а потом уж появиться перед ними во всей красе, иначе мамаша немедленно отправит меня снова переодеваться.
И когда с первого этажа послышались восторженные вопли вдовы, я наконец соизволила спуститься.
— Добрый день! — сказала я, чувствуя, что мой приветливый и ласковый голос совсем не подходит созданному образу.
Эти трое смотрели на меня во все глаза — казалось, они совершенно растерялись от моего вида и не знали, что говорить и вообще как себя вести. Николай Иванович неотрывно глазел на кожаный бюстгальтер — ничего подобного в жизни он, наверное, не видел, и никак не мог отвести взгляд.
— Тебе так не холодно, дорогая? — поинтересовалась мама, однако любезный тон ее таил в себе желчь, злость и бешенство.
— Нет, в доме тепло.
— Ну, гости дорогие, прошу всех за стол, — процедила она и едва слышно рявкнула на Николая Ивановича: — Что ты уставился на ее грудь! У тебя там сейчас шашлыки сгорят!
Наконец все уселись, Николай Иванович принес шампуры со слегка подгоревшими шашлыками. Эта троица как вкопанная сидела у стены, и, глядя на них, у меня возникло странное, неприятное ощущение. Мне вдруг почудилось, что передо мной сидят не живые люди, а фотография, сделанная в натуральную величину, на которой запечатлены давно умершие Эльвира Ананьевна, Шурик и Шурочка. Такими плоскими и неживыми они выглядели.
— Шура, вы бы нам что-нибудь рассказали, — нарушила я томящее молчание только для того, чтобы проверить, живые ли они или нет.
— Да все нормально, себе под нос проговорил он, не глядя на меня, и снова уткнулся в тарелку.
— Ой! Шурочка у нас такой стеснительный! — поспешила вмешаться Эльвира Ананьевна. — Он совершенно не умеет с девушками разговаривать. Уж такой застенчивый! А ведь это и хорошо — вот поженитесь, так он ни на одну не посмотрит. Всю жизнь тебе верный будет, Манечка!
— Да, скромный мужчина — это сейчас большая редкость! — поддержала вдовицу мама, улыбаясь, а мне шепнула на ухо: — Иди немедленно умойся и переоденься!
— С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой-то — как плохо! Ведь ему за тридцать — жениться уж давно пора, а он до сих пор перед женщинами робость испытывает.
— А разве не влюблен он в девицу — ту, что живет в соседнем с вами доме? — неожиданно спросила я. Все удивленно смотрели на меня, но никто не отвечал, а мама, наверное, проклинала себя за то, что передала мне их откровенный разговор с вдовой. — Она, кажется, замужем, и ребенок у нее. Шура, вы ведь влюблены в нее? — не унималась я.
— Ма, а откуда она знает? — промычал «жених», не отводя взгляда от тарелки.
Да что ты, Машенька, она ему нравилась давно, но он ведь у нас такой робкий, так и не подошел к ней. Да и разонравилась она ему! Вот как тебя в прошлом году увидел, совсем голову потерял ночи не спит, все меня просил с твоей матушкой поговорить, чтобы она тебя привезла из Москвы. И все это время ждал тебя да тосковал!
— А разве вы не говорили, что роман между вашим сыном и той девицей замужней вот уж два года продолжается? А разве не боялись вы, что муж ее вашему Шурику все косточки попереломает? — Я делала все возможное, чтобы они оставили меня в покое, и, кажется, ввела семейку в замешательство, отчего получала истинное наслаждение, как вдруг в мою ногу с силой вонзился мамин каблук.
— Машенька, это какое-то недоразумение! Нам просто все завидуют, вот и наговаривают на моего сына!
— Да, здесь до ужаса завистливые люди! — горячо поддержала Эльвиру Ананьевну мама, и разговор переключился на здешних жителей, потом на тот беспредел, который царит в области, и потом еще на что-то, и так до позднего вечера, пока дорогие гости не засобирались домой.
Когда мы остались в кухне вдвоем с мамой, на меня обрушился шквал упреков, к которым я давно привыкла, поэтому близко к сердцу сказанное не принимала.
— Мам, да Эльвиру Ананьевну ничего не остановит — ни моя прическа, ни тонна косметики на лице, ни кожаный бюстгальтер. У нее навязчивая идея — женить на мне своего Шурика!
После этих слов мама успокоилась, потому что знала, что я права. А я, в свою очередь, лежа в кровати, подумывала об отъезде.
Была середина марта. Это, пожалуй, самое отвратительное время года в этих краях — началось таяние снега, погреб затопило, и Николаю Ивановичу приходилось каждый день откачивать воду, наши с мамой прогулки стали редкими, и ее вздохи и тоска по охраннику порядком мне поднадоели, пробраться в лес не было никакой возможности.
Бескрайние поля уже не радовали глаз — напротив, они наводили печаль, задавливая со всех сторон хоть и величественной, но все же однообразностью. Я больше не могла жить без душа в ожидании бани; работа стояла на месте. Но уехать я не могла. Все зависело от Николая Ивановича, который патологически ненавидел Москву и ездил туда исключительно по делу — пенсию получить да за квартиру заплатить. Поездка в столицу нашей родины намечалась лишь на середину мая, поэтому я попыталась уехать из деревни своим ходом, но не ожидала, что это будет так сложно. То из-за таяния снегов, то из-за снегопадов или гололедицы, то по техническим причинам утренний шестичасовой автобус, курсирующий всего лишь один раз в неделю, постоянно отменяли — так что не было никакой возможности добраться до вокзала.
Никогда прежде я не ощущала полной оторванности от мира, от нормальной жизни, от цивилизации! Я скучала по дому, по друзьям, по нормальному унитазу и ванной, но выбраться даже при наличии на дорогу денег никак не могла. Абсурд какой-то!
К тому же меня выводили из себя частые визиты вдовы с сыном, которые и не думали отступать от намеченных планов. Эльвира Ананьевна при встрече кидалась мне на шею, целовала; меня тошнило от запаха тухлой селедки, которой она насквозь пропиталась. Шурик стоял поодаль, а его отрешенный взгляд был устремлен в неведомые дали. У меня складывалось впечатление, что это не он собирался жениться на мне, а его разбитная и упрямая мамаша. Семнадцатого марта, в пятницу, мы, как обычно, поехали на ярмарку. Первым делом мама потащила меня в магазин на центральной площади. Эльвира Ананьевна, бросив торговлю, вылетела и повисла у меня на шее.
— Идемте, идемте, мне нужно с вами поговорить, — сказала она и увлекла нас в подсобку. — В это воскресенье мы приедем к вам делать официальное предложение. Это помолвка, — заговорщическим тоном проговорила она. — Полина, ты как, не против?
— В общем-то нет, — заявила моя мать-предательница.
— Тогда решено, — радостно взвизгнула вдова.
— А моего согласия тут никто не хочет спросить? — взорвалась я, будто очнувшись ото сна. Надо сказать, что деревенская жизнь превратила меня за полтора месяца в тупую, глупую курицу. — Вообще-то я не собираюсь замуж!
— Это мы еще посмотрим, — проговорила Эльвира, хитро подмигнув маме. — Видела бы она кольцо, что Шурик ей купил, не стала бы так говорить!
Эта длиннолицая женщина с перебитым носом и хвостом, напоминающим помело, придавливала окружающих, словно железобетонная плита. Всех, кто встречался на ее пути, она прижимала своими глупыми идеями, что попадали в ее голову то ли посредством снов, то ли придуманных ею самой, намертво врастая корнями в мозг. Она властвовала, упорно навязывая совершенно чужим людям тот образ жизни, который вела сама. Все обязаны были выполнять ее желания; она, вероятно, никогда не признавала собственных ошибок, всегда считая себя правой и, подобно дорожному катку — медленно, но верно, будто гладким, но жестким стальным вальцом, — закатывала в асфальт все лишнее и неугодное на пути, достигая конечной цели.
Только теперь я поняла, что вот так, играючи, с кондачка, оказалась совсем не в шуточном положении — я попала под колесо этой машины для уплотнения грунтов и дорожных оснований, и выбраться оттуда не представлялось никакой возможности. Вдовица брала упрямством, терпением и полнейшей невозмутимостью. От проклятой помолвки меня могло спасти только чудо, в которое я хоть слабо, но все еще верила.
Потом мы поехали на телеграф. Обычно мы звонили сначала Мисс Бесконечности, и, узнав, что у нее все в порядке, мама выпихивала меня на улицу для страховки, а сама звонила своему обожаемому охраннику — Вене. Однако сегодня было не так, как обычно…
Дозвонившись до бабушки, мы узнали, что Зожоры три дня тому назад уехали на дачу, где пробудут до глубокой осени. В этом году воду дали значительно раньше.
— Я умираю, умираю, — упадническим голосом говорила Мисс Бесконечность. — Не знаю, доживу ли до вечера, — добавила она, тяжело вздохнув.
— Господи! Что случилось? Что с тобой?! — кричала убитая горем мама.
— Сердце… И «Скорую» вызвать некому, сказала бабушка и повесила трубку.
— Я поеду в Москву, — заявила мама.
— А я?
— Ты побудь здесь. Я не могу разрушать твою судьбу, у тебя помолвка в воскресенье.
— Ты в своем уме-то?! — возмущенно воскликнула я.
Мы еще долго стояли в телефонной кабинке и спорили, кто поедет спасать бабушку, но скоро все решилось само собой. Чудо все-таки свершилось! Конечно, оно заключалось не в том, что Мисс Бесконечность при смерти, а в том, что Николай Иванович проявил всю силу характера, чтобы не отпускать свою благоверную в Москву.
— Как это я не поеду?! — в истерике кричала мама. — Да я в жизни тебе не прощу, если ты не отпустишь меня!
— Это твои трудности, — спокойно отвечал он. — Жена должна быть при муже.
— В тебе нет ничего человеческого! Зверь! Ирод!
— Совсем распустилася! — загрохотал он. — Еще вдвоем они поедут! Вон пусть она и едет за бабкой смотреть! А жена должна быть при муже!
— Маня одна не справится!
— А вот это ее проблемы! Жена должна быть при муже! — в третий раз повторил он.
И сколько бы мама ни кричала, ни объясняла, ни просила Николая Ивановича отвезти нас вместе до вокзала, он оставался непреклонен. Я думаю, что он подозревал супругу в неверности, а в скорую кончину Мисс Бесконечности не верил, принимая этот факт как очередную уловку жены для отъезда в Москву.
Мамаша сочла своим долгом заехать к вдове, чтобы отложить помолвку.
— Это еще почему?! — гневно удивилась Эльвира Ананьевна.
Мы долго объясняли ей ту уважительную причину, по которой я должна была уехать, но она отказывалась что-либо понимать. Вдовица со злостью махнула рукой — жест говорил сам за себя: мол, зачем вы нам теперь нужны — и хотела было убежать, но все же не выдержала и высказалась:
— Вы просто не хотите с нами породниться — вот и вся ваша причина! Побрезговали нами!
— Эльвира Ананьевна, ну как вы можете такое говорить! У нас ведь беда… — попыталась возразить мама, но вдова уже сиганула в отдел. — Вот дура старая!
— И ты хотела, чтобы я жила с этой старой дурой в одном доме!
— Да ладно! — обреченно сказала мама, и мы поехали обратно.
Одевшись в первый раз за полтора месяца по-человечески и захватив лишь средство для зарабатывания денег, я спустилась на первый этаж. Однако Николай Иванович, казалось, вовсе не торопился — он медленно жевал слоеную булку, с удовольствием запивая ее переслащенным кофе (как он любил). Мама подгоняла его, но глаза отчима вдруг посмотрели в разные стороны — левый на меня, а Правый — на супругу, что означало крайнее раздражение и злобу:
— Мрак! Сейчас вообще никуда ее не повезу! Настал, настал звездный час Николая Ивановича — сейчас он мог все, потому что от него зависело многое: жизнь Мисс Бесконечности, мое замужество, а главное — поездка на вокзал. От важности у отчима то и дело раздувались ноздри, волосы торчали задиристым хохолком петуха, лоб разделила глубокомысленная вертикальная морщина — он выглядел не в меру серьезным и смотрел на нас с мамой свысока, ощущая в этот момент полную власть над нами.
— Машенька, если что-то, не дай бог, случится, сразу отбей телеграмму и смотри, не растеряйся. Я уж найду выход и как-нибудь выберусь из этой тюрьмы! Позвоню тебе завтра утром. Ох, как ты доберешься?! Я буду так нервничать, — причитала мама.
Наконец Николай Иванович, напившись кофе, вышел из дома, машина вскоре дрогнула и, сорвавшись с места, полетела по направлению к Москве, оставляя позади, в прошлом, полтора месяца моей жизни, так и не свершившуюся помолвку, вдову, ее сына Шурика и дочь Шурочку, а также сумку с моими вещами, которые я не в силах была бы собственноручно дотащить до дома.
Навстречу летели то поля, будто подернутые тленом — сероватые, но еще покрытые снегом, то синие сосновые леса, то черные остовы деревьев — появлялись и мгновенно исчезали позади.
Мы ехали молча до тех пор, пока на пути не появилась первая бензоколонка. Тут Николай Иванович оживился и принялся выкрикивать, как на аукционе:
— 15 рублей! Мрак!
Несмотря на то что в Москве меня не ожидало ничего хорошего, настроение было приподнятое. Я думала о том, что избавилась наконец от косноязычного ежевечернего объяснения о расположении Полярной звезды, от туалета на улице, бани, а главное, от замужества, навязчивой вдовицы и ее престранного сынка.
— 14-90! — неожиданно воскликнул отчим, и я вздрогнула.
Спустя два часа он в последний раз огласил стоимость 95-го бензина, сделал круг, и машина остановилась на привокзальной площади. «Свершилось!» — раздавалось внутри меня.
— Мобыть, тебя проводить?
— Нет-нет, спасибо, что довезли, я сама, — убедительно ответила я.
— Ну, смотри.
Когда я открыла дверцу и хотела было вылезти из машины, Николай Иванович сказал:
— Ты это… Если бабка помрет, телеграмму отбей, я мать привезу, а то, наверное, одной тяжело будет и в морг везти, и гроб заказывать — не разорваться же тебе. Ну, давай.
— До свидания, — пролепетала я — последние его слова ошеломили меня и моментально вывели из того состояния эйфории, в котором я пребывала до сих пор. Я вдруг представила весь ужас той ситуации, которая, вполне возможно, поджидает меня в Москве.
Я раскачивалась в полупустом вагоне электрички, бессмысленно глядя в окно, и по мере приближения к столице нашей Родины нервы мои натягивались, как струны, руки тряслись, а когда вдалеке показалась Останкинская телебашня, то я окончательно впала в панику. Я проклинала себя за то, что согласилась ехать одна, проклинала отчима за то, что он не отпустил маму, — мне было страшно, в моем воображении возникали жуткие картины того, что меня может ожидать.
С вокзала я хотела сразу поехать к бабушке — хорошо вспомнила, что ключи от ее квартиры у меня дома. На дворе было уже темно — девять часов вечера.
Я как смерч ворвалась в метро, сбивая с ног всех, кто ненароком попадался мне на пути; от метро до дома я летела сломя голову, будто бежала на время, чувствуя себя олимпийской чемпионкой. Дождь хлестал по лицу, ледяной мартовский ветер пронизывал насквозь, но я этого не замечала.
Трясущимися руками я открыла дверь и, не раздеваясь, набрала бабушкин номер — сердце мое в этот момент бешено колотилось, казалось, что оно выпрыгнет. Первый гудок — неживой, монотонный — раздался, как из могилы. Второй — точная его копия. Третий — все, надо хватать ключи и ехать в противоположный конец города.
— Да! — в трубке послышался бодрый и твердый бабушкин голос. «Слава богу! Успела! Она еще жива!» — молнией пронеслось у меня в голове.
— Бабушка, здравствуй! Как ты?
— Манечка, деточка, как у вас-то там дела? В баньке паришься?
— Где — там? Ты ведь сегодня сказала, что плохо себя чувствуешь, даже «Скорую» вызвать некому! Я сорвалась и приехала в Москву.
— Н-да? Я разве так сказала? А ты что же, разве не в деревне?
— Я из-за тебя приехала! — взорвалась я. — Ты ведь умирала поутру!
Ничего я не умираю! Я прекрасно себя чувствую. Включи телевизор, там концерт хороший идет по первой программе. Вообще, Машенька, запомни — всегда придерживайся первого канала, там показывают замечательные передачи! — воскликнула она и бросила трубку.
Я разозлилась не на шутку — я была в бешенстве: Мисс Двойная Бесконечность оказалась притворщицей, аферисткой и симулянткой!
Но пока я стояла в душе под сильным напором воды, злоба во мне постепенно утихала, и я подумала: «Не так уж плохо, что бабушка сыграла на своей смерти. Иначе как бы я оказалась в Москве? Да никак. Послезавтра я была бы помолвлена с придурковатым Шуриком, а уж после этого знаменательного события мне вряд ли удалось вырваться из цепких клешней вдовицы. Так что Мисс Бесконечность, сама того не ведая, спасла меня от нежелательного брака с торговцем тухлой селедкой и от скучной деревенской жизни».
Я долго не могла заснуть от усталости и взятой мной дистанции от Ленинградского вокзала до дома — болело все тело, особенно мышцы ног, не привыкшие к таким нагрузкам. Лабиринт сна, казалось, был наглухо закрыт этой ночью для меня. Я лежала и думала о том, как встречусь с членами содружества, гадала, что у них тут произошло без меня, но встать и позвонить была не в состоянии. «Завтра, все завтра», — подумала я, как вдруг одна-единственная дверь лабиринта открылась, и я попала внутрь.
Проснувшись утром я ожидала увидеть просторную комнату второго этажа, обитую вагонкой. Вставать не хотелось — я представила, как сейчас вылезу в холод из нагретой кровати, потом меня поджидают трудности с умыванием, потом нужно хоть как-то причесать грязные волосы (баня будет только в среду), надеть несвежий свитер, обрезанные джинсы… Как не хочется открывать глаза! Но надо.
И вдруг передо мной нарисовался радужный плакатик: «Дорогая! Тебя ждут великие дела!»
Какое счастье, я дома! Дома! Где не надо топить печку, где есть центральное отопление, туалет представляет собой не кабинку с дыркой, а унитаз с бачком; где есть душ, телефон, Интернет, друзья, работа. Вот оно как! Чтобы почувствовать себя счастливой, нужно пожить в спартанских условиях.
Я еще нежилась в постели, когда раздался непривычный звонок телефона.
— Ну, как там бабушка? — беспокойно спросила мама.
— Наша бабушка — симулянтка. Она и не собиралась умирать. Так что не волнуйся, у нас все в порядке.
— Я так и знала! Сколько раз она проделывала этот номер, а я до сих пор ей верю! И зачем ты только уехала! Она мне не давала устроить личную жизнь, теперь на тебя переключилась! Эгоистка! — Мама продолжала возмущенно кричать в трубку — несколько странная реакция на то, что Мисс Бесконечность жива и пребывает в полном здравии. — Может, ты приедешь? Николай встретил бы тебя на вокзале, — предложила она.
— Нет-нет, мамочка, у меня полно работы, да и бабушку тут одну оставлять как-то нехорошо.
Ну вот, теперь ты снова будешь прикрываться работой и тебя никаким калачом не затащить обратно, — разочарованно проговорила она. — А ведь могла бы и тут писать свои романы. Никто бы тебе не мешал.
— Не сейчас. Я отдохнула, подышала свежим воздухом, но не написала ни строчки.
— Как хочешь, — обиделась мама и, пообещав позвонить в следующую пятницу, повесила трубку.
После маминого звонка меня тут же завертела, закрутила городская жизнь — словно говядину в мясорубке. Проверив номера телефонов на определителе, я обнаружила, что пару раз мне звонили из редакции, все остальные звонки исходили с домашнего и мобильного телефонов Кронского. «Значит, мучается», — с удовольствием подумала я и немедленно позвонила Любочке домой, потому что сегодня была суббота.
— Любочка, это Маша Корытникова. Я приехала.
— Ну наконец-то! Куда ты пропала? — недовольно пропищала она.
— Как там мой роман? Только не говори, что он снова вам не подходит!
— Что ты, Маня! Великолепный текст! Мы тут все в ударе! Давно ничего подобного не читали! И как тебе удалось так тонко изобразить чувства, внутренний мир героини? Книга выйдет примерно в конце апреля, так что приезжай за гонораром. И знаешь, что мы подумали тут…
— Что же? — с любопытством спросила я. Тепло радости, гордости и удовольствия от слов Любочки наполнило все мое существо — мысли закомплексованного прыщавого юноши, изложенные от лица забитой девушки, показались им интересными. Никогда бы не подумала!
Нужно организовать презентацию книги в одном из крупных книжных магазинов. Пора тебе выходить из тени. Кстати, ты написала что-нибудь за это время?
Я замялась, промычав в трубку нечто неопределенное.
— Маш, я не понимаю! Мы ведь договорились! — нетерпеливо восклицала Любочка. — Короче, чтобы к концу апреля у меня был твой новый роман!
Это был ультиматум. Роман за месяц — при всем желании я неспособна на такое. Снова нужно было как-то выкручиваться. И тут в голову пришла неплохая мысль. Дело в том, что с сентября и по сей день я записывала почти все события, которые происходили со мной за это время. Я подробно описала всех членов содружества наших, бывших мужей, женихов, дебош в кафе, роман с Кронским, разрыв с ним, поездку в деревню. Написала и о том, как меня чуть было не выдали замуж за торгаша Шурика, и о Мисс Бесконечности…
Чем не «Дневник Мани Корытниковой», который так требовала от меня Любочка? И любовь там есть. Правда, текст довольно личный, и я еще не знаю финала всей этой истории, но что делать? Да и выхода другого я не вижу.
Я так обрадовалась этой своей идее, что решила не суетиться, потому что придумать финал за месяц для меня сущий пустяк, и принялась обзванивать своих друзей. Но, к моему великому удивлению, кроме Анжелки никого из них дома не оказалось.
— Ой! Я так рада, что ты приехала, — проговорила она, но голос ее нельзя было назвать радостным. Я расспрашивала Огурцову, что у них тут нового, как она сама, Кузя и куда все подевались, но поняла, что бедняжка со мной разговаривать не может — вероятно, рядом стоял ее трезвенник Михаил и отношения между ними до сих пор так и не наладились.
Из Анжелы мне только удалось вытянуть сведения о том, что все остальные члены содружества отправились на выходные в подмосковный санаторий, а во вторник Икки пригласила всех к себе на новую квартиру.
— А ты-то придешь? — спросила я.
— Конечно. Как всегда, собираемся в пять вечера. Этот день — день моего приезда в Москву после долгого отсутствия — я представляла совсем иначе, планируя провести его в разговорах с друзьями, а может, даже зайти к Икки. Я не ожидала, что она так скоро переберется в квартиру отца.
Однако загад не бывает богат, и я весь день занималась тем, что разгребала в шкафу гору вещей, наваленных накануне отъезда в деревню, а вечером объявилась Мисс Бесконечность.
— Здравствуй, деточка! Мы сегодня с тобой еще не разговаривали? — задала она свой обычный вопрос.
— Нет, не разговаривали. Как самочувствие? — ядовито спросила я.
— Да ничего, вот только что-то ноги болят. Машенька, а ты завтра ко мне не можешь приехать?
Завтра воскресенье — выходной, делать все равно особо нечего, к тому же и приехала я в Москву ради нее.
— Приеду, конечно. Что тебе привезти?
— Ой! Манечка, привези мне пива!
— Чего-чего тебе привезти? — переспросила я.
— Так хочется пивка! Только привези мне «правильного» пива!
Да, хорошо, что запретили рекламу крепких спиртных напитков, а то бы Мисс Бесконечность запросила виски или коньяк «Наполеон» и еще, чего доброго, спилась бы на старости лет.
— Ладно, привезу тебе пива. Больше ничего?
— Да нет. Все у меня, Машенька, есть. Вот приедешь, я тебя куриным бульончиком накормлю, сегодня сварила.
Но не прошло и десяти минут, как она позвонила снова и попросила купить сгущенного молока — баночки три.
Звонила Мисс Бесконечность раз пять и все время вспоминала что-то новое — то сахарный песок, то картофель, то геркулес, и я поняла, что любимый сын Жорик уехал на дачу, оставив мать с пустым холодильником. Судя по всему, есть ей было совершенно нечего, и я составила длиннющий список, что купить.
В результате на следующий день пришлось два раза бегать в магазин и приволакивать неподъемные сумки.
— А пиво? — спросила она, будто ребенок, которому обещали купить игрушку и не купили.
— Держи.
— Это «правильное» пиво?
— Правильное, правильное. Только не напейся в твоем возрасте этого достаточно, чтобы потерять рассудок. Да что ты из горла-то хлещешь! Я сейчас чашку принесу.
— Нет! — взвизгнула она. — Из чашек чай пьют, а пиво так.
— Не захлебнись, — посоветовала я. Что поделать — Мисс Бесконечность стала жертвой рекламы.
Допив «правильное» пиво, она сначала хохотала на всю квартиру, потом несколько раз сбегала в туалет, что меня удивило — ведь она жаловалась на боли в ногах (неужели это очередная уловка?), и в конце концов заснула.
Приготовив обед и прибравшись в комнате, я растормошила поклонницу Бахуса и, пообещав навестить ее на следующей неделе, уехала, довольная тем, что выполнила свой долг.
Во вторник ровно в пять часов я стояла у метро с лампой в руках в ожидании Икки и остальных членов содружества. Вчера, получив гонорар, я решила купить ей на новоселье настольную лампу с зеленым, круглым плафоном, которая напоминала ту самую лампу, что тридцать один год назад около Иккиного подъезда выгрузила ее бабушка — рьяная коммунистка, когда переехала на постоянное место жительства к снохе. Не знаю, понравится ли этот подарок Икки, но лампа действительно красивая.
Постепенно подтягивались члены содружества, кидались мне на шею, истосковавшись после долгой разлуки, называя предательницей.
— Ты совсем с ума сошла! Обещала там месяц пробыть, а проторчала два! — больше всех возмущалась Икки.
— Наверное, у нашей Мани там был свой интерес, — предположила Пулька.
— Ты снова влюбилась? — спросил Овечкин. И пока мы ждали Поликуткину (в девичестве Огурцову), я рассказала им страшную историю о том, как меня чуть было не выдали замуж за торговца тухлой селедкой. Я дошла до того места, когда благодаря бабушке-симулянтке мне удалось избежать этой участи, как к нам подошла Анжелка с заплаканными глазами. Ее живот был огромный. «У нее, наверное, будет двойня», — подумала я, но ничего не сказала.
— Опять ревела? — грозно спросила ее Пулька.
— Угу.
— Тебе нельзя нервничать! Что опять стряслось?
— Михаил ведет себя безобразно.
— Он уже давно себя так ведет, к этому можно и привыкнуть, — заметила Пульхерия.
— Он кури-и-ить начал, — и Анжела горько заплакала.
— Ну и пусть курит себе на здоровье, только выгоняй его на лестничную площадку.
— Как это пусть курит?! — остолбенела та. — Что это значит? Я тебя не понимаю? А как же вера? Что станут в церкви говорить, когда узнают?
— Да какая тебе разница? Ему не пять лет, он взрослый человек — сам разберется, — настаивала Пулька, и я была с ней полностью согласна — Анжела делала из мухи слона.
Икки жила в пяти минутах ходьбы от метро в уютной однокомнатной квартире, где еще были заметны следы холостяцкой жизни ее отца и уже наметились признаки обитания Икки: швейная машинка в углу, книги на полках, цветы на подоконниках.
— Пуль, а что это ты сегодня не на машине? Сломалась? — спросила я.
— Так я продала ее на прошлой неделе. Месяца через два наберу нужную сумму, и поедем к твоему Власу.
— А одна ты не можешь?
— Не-а.
— Ну, рассказывайте, рассказывайте, что у вас тут нового произошло? — нетерпеливо расспрашивала я.
— У меня Михаил закурил.
— Это мы уже слышали, — съязвила Пулька. — А я всех своих мужиков разогнала и полностью сублимировалась на диссертации. Секс отвлекает. Это я вам как врач говорю.
— Так ты сейчас одна? — удивилась я.
— Да. Надоели они все. Глупые, инфантильные, заносчивые индюки. Я поняла вдруг, что мой организм требует отдыха, — проговорила она, слизнув розочку с торта.
— Ну и правильно, — горячо поддержала ее Анжелка.
— Я тоже так думаю. Вот защищусь, а там видно будет. Слушайте, родители совсем ополоумели: все ищут ребро Гоголя. Да с таким азартом, будто в казино играют — мотаются по всей стране: сегодня здесь, а завтра там. Я даже немного завидую их энтузиазму.
— А у моих — второй медовый месяц, — вздохнула Икки. — Мамашу не узнать — лет десять скинула. Счастливы, одним словом.
— И тебе неплохо — смотри, квартирка какая обломилась, и от центра недалеко, — заметила Пулька, которая всю жизнь только и мечтала, как бы разъехаться с родителями.
— Слушай, Анжел, если тебя так допек твой благоверный, почему бы тебе не переехать к родителям, пока ты в таком положении? — вдруг спросил Овечкин.
— Они говорят, раз вышла замуж, терпи теперь и не жалуйся.
— Но это жестоко.
— Ничего не жестоко! — возразила Пулька. — Почему она должна свою квартиру этому петуху оставлять?
— Тогда выгони его. — Овечкина снова заносило не в ту сторону.
О своей предстоящей операции он молчал, мне очень хотелось узнать, готовится ли он к ней, принимает ли гормоны, но сдержалась, потому что сочла подобный вопрос некорректным.
Мы просидели у Икки до позднего вечера, о Кронском никто даже словом не обмолвился, вероятно, боясь задеть меня за живое. Специально для Анжелы меня попросили во второй раз изложить историю неудавшейся помолвки.
Теперь, когда Зожоры были в отъезде, Мисс Бесконечность звонила мне по пять, а то и по семь раз на дню. Но как-то в конце марта раздался звонок; я взяла трубку и услышала незнакомый женский голос:
— Маша?
— Да, — растерянно проговорила я.
— Это соседка Веры Петровны. Ваша бабушка сегодня утром упала. Вам нужно приехать.
— Как упала? Что с ней?
Упала, когда выходила из туалета, и ударилась головой. Получилось так, что она попросила соседа сходить за сахаром, дверь оставалась открытой. Он пришел, а она в коридоре лежит без сознания.
— Так у нее есть сахар. Я ей купила, — тупо отвечала я. — Боже мой, о чем это я! Немедленно выезжаю!
Я быстро оделась, и снова мне пришлось «бежать на время», чувствуя себя олимпийской чемпионкой.
Когда я ворвалась в квартиру, бабушка лежала на кровати и была уже в сознании. Соседи разошлись по своим клетушкам.
— Ох! Ой! Ох! — стонала она.
— Что у тебя болит? Голова? Сердце?
— Все плывет перед глазами, — вяло сказала она.
Я вызвала «Скорую». Мисс Бесконечность не протестовала, напротив, кажется, даже была рада этому. Радовалась она до тех пор, пока врач не вынес свой приговор:
— Бабульку нужно госпитализировать. И чем раньше, тем лучше.
— Ни за что! — отрезала она, и голос ее мгновенно из скрипучего превратился в твердый и властный.
— Я настаивать не могу, это ваше дело, но если будете тянуть время, ничего хорошего не ждите.
— Ни за что! — закричала она так, будто перед ней сидело сорок недоразвитых интернатовских ребятишек.
Доктор почему-то особое внимание обратил на ее ноги, а когда я присмотрелась получше, то заметила, что большой палец на левой ноге у Мисс Бесконечности мертвенно синюшного цвета.
— Можно вас на минуту? — позвал меня доктор и вывел в коридор. — Если мы ее сейчас же отвезем в больницу, то есть шанс сохранить ей ноги. Если же вы будете медлить, закончится ампутацией, и она превратится в лежачую больную, которой необходима сиделка — она и до туалета ведь тогда дойти не сможет.
— У нее гангрена?
— Все это результат неправильной работы сердца и сосудов головного мозга, — сказал он и назвал мне диагноз, который я не в состоянии воспроизвести.
— Так. Ты ложишься в больницу. Давай собираться, — скомандовала я.
— Нет! Нет! Нет! Никогда! Ни за что! — Бабушка заплакала, но я-то знала, что заплакать она могла в любой момент — это был ее конек — из нее могла бы получиться неплохая актриса.
— Прекратить истерику! — прикрикнула я и стала насильно надевать на нее шерстяную кофту, но у той были отрезаны рукава. Я понимала, что нужно собраться как можно быстрее, что мы задерживаем людей, однако все свитера, ночные сорочки, майки были изуродованы — где-то зигзагом отрезан подол, где-то отхвачены рукава или воротник. — Вандалка! Зачем ты кромсаешь хорошие вещи?!
— Отрезаю то, что мне мешает.
— Чем тебе рукава-то помешали?
— Не поеду никуда, — снова завыла она, и начался второй приступ истерии.
— Хочешь, чтобы тебе ноги оттяпали, как ты вот этот воротник откромсала?
— Так вот, значит, зачем меня туда везут! Не поеду-у-у-у! — орала она.
— Сейчас тебе назначат курс лечения, а если не поедешь, отхватят, можешь не сомневаться.
— Платье мое захвати, — внезапно успокоившись, скомандовала она.
— Какое еще платье?
— Которое ты мне на день рождения подарила. На вешалке висит.
На вешалке болталась белая шелковая сорочка с глубоким вырезом на спине, которую я купила в тот день, когда впервые увидела Алексея Кронского в коридоре издательства, с неровно отрезанным низом. Мама все-таки оказалась права, когда сказала, что бабушка все равно ее обрежет. Но выяснять отношения было некогда — я во что попало одела Мисс Бесконечность, запихнула в сумку изуродованную сорочку, и в этот момент, как назло, зазвенел телефон. Это была Олимпиада Ефремовна. Все разузнав, она пожелала подруге крепиться и пообещала звякнуть мне вечером домой.
— Ей нельзя ходить, позовите кого-нибудь из соседей, чтобы вам помогли дотащить ее до машины, — посоветовал врач.
Соседи не открывали.
— Я бы вам помог, — сказал доктор, — но я на «Норд-Осте» надорвал позвоночник.
— Вы там были?! Да вы настоящий герой! — восторженно воскликнула я, взвалив на себя Мисс Бесконечность.
— Нет, все-таки я вам помогу. Она очень тяжелая.
Настоящий герой, — завороженно повторила я, и мы вдвоем поволокли болящую к лифту. — Прекрати нарочно тормозить ногами! — шепнула я ей на ухо, заметив, что она сознательно буксует да еще и посмеивается.
— Какой хороший паренек! — воскликнула бабушка, глядя на молодого доктора влюбленными, горящими глазами, и попыталась взъерошить его волосы.
— Тихо, тихо, тихо! Старайтесь опираться на нас, чтобы нагрузка на ноги была минимальной.
Наконец мы уложили Мисс Бесконечность на кушетку и отправились в больницу. Поначалу она лежала спокойно, но потом вдруг начала вскакивать и что-то высматривать сквозь запотевшее окно.
— Прекрати дергаться, а то упадешь!
— Ты смотри, Мань, как Москва-то изменилась! Я ведь лет восемь на улице не была! Вот жизнь пошла! Везде висят огромные объявления, что нужно покупать. В мое время ничего подобного не было, — заметила она и принялась декламировать рекламные слоганы.
Поразительно, у Мисс Бесконечности до сих пор стопроцентное зрение — она прекрасно видит довольно мелкие буквы на скорости 60 км в час!
В приемном покое я осталась без поддержки настоящего героя — «Скорая» уехала, так что таскать бабушку из кабинета в кабинет мне пришлось самой. После двухчасового обследования я вкатила Мисс Бесконечность в палату № 415. Она вытянула руку в знак приветствия и радостно воскликнула:
— Здравствуйте, девочки! Меня зовут Вера Петровна, а это моя внучка — известная писательница Марья Корытникова.
«Девочки», возраст которых колебался от 50 до 80 лет, устремили на меня пытливые, полные любопытства взгляды. Я готова была провалиться сквозь землю, миновав четыре больничных этажа и подвал.
— Очень приятно, — сказала женщина со скудным кульком седых волос на затылке, лежавшая на кровати у окна. — Екатерина Гавриловна меня зовут.
— А я, кажется, читала ваш роман! Вы ведь про любовь пишете?
— Да, — ответила я, вдергивая подушку в наволочку с серой печатью на углу.
— Меня Рая зовут, — представилась та, что читала мой роман. Ей было лет 55, и, судя по всему, она была разбитной бабенкой — своего не упустит. — Маша, за бабушку не беспокойтесь, я над ней беру шефство. А вы мне за это принесите свой роман какой-нибудь почитать.
— С удовольствием, — вежливо отозвалась я, перекладывая Мисс Бесконечность с каталки в койку.
— А вы, Вера Петровна, по ночам храпите? — проскрипела старуха у стенки.
— Откуда ж мне знать? Я сплю и себя не слышу! — возмутилась бабушка.
— Вы, Маша, завтра после обхода приезжайте и подойдите поговорить с лечащим врачом. Он вам все объяснит, — порекомендовала Рая и добавила: — И книжечку не забудьте.
— Да, да, конечно, — ответила я и, пожелав всем скорейшего выздоровления, отправилась домой.
Вечером вместо Олимпиады Ефремовны позвонил Влас и предложил свои услуги:
— Давай я отвезу тебя завтра в больницу.
Нет-нет, не стоит. Ты человек занятой, а мне после утреннего обхода нужно переговорить с лечащим врачом.
— Знаешь, какое преимущество у начальников?
— Какое?
— Они могут позволить себе отлучаться с работы в любое время.
— Но зачем тебе это нужно?
— Люди должны помогать друг другу. К тому же ты не чужой мне человек — все-таки вместе голышом бегали на море.
— Ничего подобного, я голышом не бегала.
— Все равно я тебя видел! Я за тобой подглядывал!
— Чего? — удивилась я и, разозлившись, воскликнула: — Да знаешь, кто ты?! Знаешь?!
— Кто?
— Озабоченный тип!
Так, незаметно для себя, я вдруг принялась с ним кокетничать. Ну, может, это называется по-другому, но между нами с этого самого дня возникли какие-то новые отношения. Нам было о чем поговорить. А уж этого я никак не ожидала от общения с Власом.
— Подумаешь! Интересно же! — по-мальчишески воскликнул он.
— С тех пор во мне многое изменилось. Так что зря старался!
— Зато каркас остался прежним.
— У меня нет никаких каркасов! Я тебе не автомобиль!
— Ладно, я подъеду в одиннадцать, — заявил он и поторопился положить трубку, вероятно, чтобы не услышать отказа.
«Ну, если человек так хочет отвезти меня в противоположныи конец Москвы, зачем ему мешать? Мне-то лучше», — решила я, а потом стала думать над причиной сего рвения. Наверняка на него снова повлияла Олимпиада Ефремовна. Это она попросила Власа помочь внучке ее лучшей подруги, а он ни в чем не может отказать старушенции — слишком уж ее уважает.
А что, если это не так и Пулька была права, когда уверяла, что Влас влюблен в меня по уши? Тогда к чему это может привести? Каковы будут последствия? Я не хочу замуж! Не хочу!
Не отрицаю, Влас — кандидат в тысячу раз лучше, чем сын вдовицы, торгующий тухлой селедкой, но все равно я ни с кем не хочу пока связывать свою жизнь. Или я лукавлю? Может быть, с кем-то я и хотела связать свою одинокую, холостяцкую жизнь? Даже знаю с кем! Только ни за что не признаюсь в этом даже самой себе!
А с Власом нужно вести себя как с давним другом, и эти отношения не должны перерасти в нечто более серьезное и глубокое…
— Ее может поставить на ноги только одно лекарство, — говорил мне лечащий врач после обхода.
— Это лекарство возможно где-то достать? — поинтересовался Влас.
— Конечно. Мы закупаем его у немцев. Курс лечения — две недели. Через день будем ставить ей капельницу, а потом еще недельки две интенсивной терапии — и ваша бабушка будет как огурчик!
Ну, так в чем проблема? — спросила я. Сколько это будет стоить? — осведомился Влас, и я сразу почувствовала себя тупой, неприспособленной к жизни, а также в эту минуту я ощутила себя защищенной этим уверенным, деловым мужчиной, который сейчас был так не похож на глупого мальчишку, рассекающего пляж в красных девчачьих шортах.
— Триста пятьдесят долларов, — ответил доктор не моргнув глазом.
Мой спутник вытащил из внутреннего кармана портмоне и отдал деньги.
— Нет! — всполошилась я. — Ни в коем случае! Я сама в состоянии оплатить лечение родной бабушки! К тому же на днях я получила гонорар!
— Я это знаю, дорогая, — спокойно проговорил Влас и сказал доктору: — Не обращайте внимания на мою жену, она любит поскандалить. Сделайте все как надо.
— Хорошо, мы начнем процедуру с завтрашнего дня, — процедил сквозь зубы лечащий врач и скрылся в ординаторской.
Я возмущалась всю дорогу, пихала Власу те три тысячи, что у меня были с собой, но он повторял одно и то же:
— Нет, Маш, ну за кого ты меня принимаешь?
— Ты усложняешь мою жизнь. Теперь мне придется ехать к Олимпиаде Ефремовне и отдавать долг ей! А у меня дел невпроворот!
— Да она тебя на порог не пустит!
— Это еще почему?
— Я ей скажу — она и не пустит, — промурлыкал он и не взял деньги.
— А какая я тебе жена? — возмутилась я.
А, по-твоему, нужно было пуститься в объяснения, что ты внучка подруги моей бабушки и нас связывает лишь летний месяц, проведенный на море?
«Вообще-то логично», — подумала я и успокоилась.
Сколько я помню бабушку, у нее всегда были проблемы с пищеварением. Так, спустя неделю после того, как она попала в больницу, у нее случился страшный запор.
— Маша, поставь ей клизму, она три дня не ходила, — настоятельно порекомендовала Рая (со мной она уже не церемонилась, незаметно перешла на «ты» и постоянно давала советы).
— Но ведь вы сами дали ей вчера три таблетки бисакодила, а, насколько мне известно, это довольно сильное слабительное. Нужно просто подождать.
— Рая говорит — клизму, значит, надо поставить, — упрямилась бабушка — теперь она во всем слушалась Раю, она боготворила ее и выполняла все, что та советовала.
— Да, да. В душевой есть комнатка с кушеткой, а в шкафу лежат кружки Эсмарха. Ты там все промой и сделай как надо, — скомандовала Рая — бабушка смотрела на нее с обожанием.
— Эта Раечка — просто чудо! — воскликнула Мисс Бесконечность, лежа на кушетке с голым задом. — Хорошо бы иметь такую дочь или внучку!
— А у тебя что, дочь с внучкой плохие?
— Я этого не говорила, но Раечка такой замечательный, отзывчивый человек. А эта бабка, что у стенки лежит, ну ты ее видела…
— Та, что газеты все время читает?
— Да, да, да! Помнишь, спрашивала меня, храплю я по ночам или нет?
— Помню, — проговорила я, надевая на шланг новый стеклянный наконечник.
— Так она сама никому спать не дает — от газов мучается: только я задремлю, а она ка-ак дернет!
— Что ж теперь поделаешь. Потерпи уж как-нибудь.
— Потерпи! Тебе легко говорить! И вообще, отмените мне эти проклятые капельницы! Я больше не выдержу! — завыла она.
— Больше ничего не хочешь?
— Нет. Полежать в больнице я могу. Тут весело. А капельницу попроси отменить, мне все руки искололи!
На следующее утро после процедуры с клизмой мне позвонила Раечка и сказала, чтобы я немедленно приехала в больницу со сменным бельем для старушки.
— Она обделала ночью всю постель! — вопила эта активистка в трубку. Я в этот момент готова была ее убить.
Войдя в палату, я увидела Мисс Бесконечность, лежащую в нечистотах, закинув руки на подушку. Она напомнила мне воробья в грязной луже — и «лапки кверху».
— Маня! Что ты наделала! — взвизгнула бабушка. — Я чуть не умерла этой ночью! Если б ты знала, что мне пришлось пережить!
Рая сидела за столом и как ни в чем не бывало грызла свежий огурец.
— Я вас предупреждала. А клизма, между прочим, ваша идея, Раиса, — колко сказала я.
— Зато бабушка очистилась.
— И то правда, Раечка. Я столько поняла за эту ночь! Столько поняла!
— Что поняла? — поинтересовалась я, складывая зловонное белье на край койки.
— Сколько ж дерьма-то в человеке!
— Маша, ты сначала белье поменяй, чтобы после душа ее сразу на чистое положить, да попроси у санитарки на всякий случай клеенку, мало ли что, — командовала Рая. Очень хотелось послать ее куда подальше, но я смолчала — воспитание не позволяло.
В душевой бабушка то визжала от удовольствия, обливая меня водой, то требовала отменить капельницу.
— Я не буду надевать трусы! — заявила она после мытья.
— Это еще почему?
— Не буду — : и все.
В дверь кто-то настойчиво постучал.
— Ладно, разберемся в палате, — сказала я и сложила ее, мягко говоря, несвежее белье в пакет.
— Ты постирай и привези мне его завтра.
Я представила, как от меня будут шарахаться в метро — еще подумают, что у меня недержание.
— Я тебе сказала — не хочу трусы. Не надену! — кричала Мисс Бесконечность в палате.
— Маша, ну что ты бабушку мучаешь, пусть без трусов ходит, — снова вмешалась Рая — не вмешиваться она, кажется, не могла. «Ну и ладно, пусть делают, что хотят!» — подумала я, и в эту минуту вошла медсестра, ставить бабушке капельницу. Старушка замахала руками, будто отмахивалась от тучи комаров, а я, попрощавшись со всеми, вылетела из палаты.
Это было сумасшедшее время: я каждый день ездила в больницу, не общалась с друзьями — я снова была отрезана от них — теперь из-за болезни бабушки. После визита к ней я не в силах была ни с кем разговаривать — я падала на кровать и засыпала как убитая. Придумывать финал романа мне было некогда. Под глазами появились темные круги, как будто и не было тех двух месяцев отдыха в деревне.
Влас, глядя на меня, предлагал сходить то туда, то сюда, развлечься. И в тот самый день, когда Раечка, бабушка, которая по непонятной для меня причине наотрез отказалась надевать трусы, лечащий врач, пациенты палаты — одним словом, все надоели мне до чертиков, я приняла приглашение и, отстирав зловонное белье Мисс Бесконечности, встретилась с Власом.
Сначала мы гуляли по бульварам, и я тщетно пыталась вернуть ему 350 долларов. Нагуляв аппетит, мы забрели в одно очень милое, уютное, безлюдное кафе. Влас заказал красного вина, сказав, что оно сейчас необходимо для восстановления высосанной из меня Мисс Бесконечностью крови, салат из свежих овощей, огромную тарелку картофеля, кусок телятины, взбитые сливки с фруктами.
— Ты хочешь, чтобы я превратилась в корову?
— Не беспокойся, тебе сейчас нужны силы. Я ведь знаю, что дома ты для себя ничего не готовишь. — Надо же, какая проницательность!
Я поглощала салат и вдруг почувствовала, что Влас пристально смотрит на меня. И снова, как в тот раз, когда мы сидели в восточном средненьком кафе, произошло нечто странное, что остается в памяти, и это уж никак не вычеркнуть потом — его долгий, глубокий, выражающий одновременно печаль и восхищение взгляд. У меня, как и тогда, защемило сердце, а там, где находится солнечное сплетение, что-то запульсировало, и по всему телу разлилось тепло. Но нет, нет, нет! Никаких чувств и сантиментов! Между нами могут быть только дружеские отношения.
Вечером я долго думала, почему я так уверена, что между нами возможны только дружеские отношения. Ведь он хорош собой, видно по всему, что я ему нравлюсь, и потом, он не рвань там какая-нибудь, как говорит мама. У меня все равно никого нет, к Кронскому я никогда не вернусь. Тогда почему?
Д-ззззззззз. Звонок телефона прервал мои размышления. Номер не определился, и я решила, что это не иначе как Раечка из больницы — эта ворона опять принесет какую-нибудь гадость на хвосте.
— Наконец-то я дозвонился до тебя! Только не бросай трубку! Пожалуйста! — умолял меня до боли знакомый голос. Сердце мое затрепетало, как рваная тряпка на ветру, кровь ударила в голову, лицо горело. Это был Кронский. — «Кукурузница» моя, Скалолазочка, моя «Уходящая осень», я без тебя совсем не могу!
Я слушала затаив дыхание. Нет, он не был пьян — видно, после того как вместо меня к нему приехал нарколог, он больше не пил.
— Ты не берешь трубку, ты куда-то уехала, я не видел тебя целую вечность! Разве можно быть такой жестокой?! Я все это время один и думаю только о тебе. — Вот заливает — один он все это время! Но слушать приятно, отрицать не стану. — У меня никогда такого в жизни не было. Я полюбил. Никого я не любил до встречи с тобой, кроме себя, а теперь мне наплевать на себя. Ну, оступился один раз, совершил ошибку! Ну что мне теперь — повеситься?! Почему ты молчишь?
— Мне нечего тебе сказать, — хладнокровно произнесла я.
— Но ведь это глупо! Я знаю, что ты меня любишь, я это чувствую, и я тебя тоже люблю. Так почему тогда мы должны расставаться?
— Да мало ли, что ты чувствуешь! Ты это себе придумал. Я не люблю тебя, и точка.
— Давай поженимся, — едва слышно сказал он. Это была поистине огромная жертва с его стороны.
— Чего-чего? — наслаждаясь, переспросила я.
— Я предлагаю тебе руку и сердце. Выходи за меня замуж.
Мне было трудно сказать это, но я все же выдавила из себя:
— Я не могу, потому что больше не испытываю к тебе никаких чувств.
И хотя это совсем не так, но ответ был единственно правильным. После разговора с Кронским я сразу поняла, почему, кроме дружеских отношений между мной и Власом, не может быть никаких других — я не любила его.
Мисс Бесконечности осталось принять всего две капельницы, потом предстоял курс интенсивной терапии.
Я приехала в больницу утром, надеясь переговорить с лечащим врачом. Войдя в холл, я не поверила собственным глазам: на самом видном месте, на банкетке, сидела бабушка в обстриженной шелковой сорочке, неприлично оголив дряблые руки и старческие, морщинистые плечи, и колотила ложкой по алюминевой миске, крича на весь этаж:
— Нет капельнице! Руки прочь от заслуженного учителя Советского Союза!
Потом она бросила миску с ложкой и, схватив альбомный лист с неровными, написанными дрожащей рукой буквами: «ПРОТЕСТ», принялась скандировать:
— Го-ло-до-вка! Го-ло-до-вка! Го-ло-до-вка! Около нее столпился медицинский персонал — врач из приемного покоя, медсестра, гардеробщица и охранник. У меня было одно желание — повернуться и бежать отсюда куда глаза глядят.
— Бабуля, вы из какого отделения? — спросил доктор и попытался взять ее под локоток.
— Руки прочь от заслуженного учителя Советского Союза! — воскликнула она и возмущенно добавила: — Так я вам и сказала, из какого я отделения! Го-ло-до-вка! Отменить капельницу!
— Наша больница превращается в сумасшедший дом, — заметила медсестра и кокетливо дернула плечиком.
— Безобразие какое! Что вы себе позволяете! — прикрикнула на Мисс Бесконечность полная гардеробщица. — А что себе охрана думает? Уберите ее отсюда!
— А куда я ее уберу? — растерялся охранник. — Ведь мы даже не знаем, из какого она отделения.
— Может, она вообще с улицы? — предположила медсестра и снова дернула плечиком.
Бабушка никого не слушала и кричала что было мочи:
— Нет насилию! Го-ло-до-вка!
Я пребывала, словно в тумане — не знала, что делать, и не решалась подойти, потому что Мисс Бесконечность вряд ли меня послушает.
— Она из 415-й палаты! — неожиданно вырвалось у меня.
— Предательница! — злобно воскликнула старушка.
— Ваша? — осведомился врач.
— Да, это моя бабушка.
— Что ж вы за ней так плохо смотрите?! — укоризненно спросил он.
— Пошли отсюда! Как ты вообще сюда спустилась одна? Тебе еще не разрешили ходить.
— Раечка привела.
— Эту твою Раечку я давно бы придушила, — буркнула я, пытаясь взвалить Мисс Бесконечность на себя.
— Оставь меня в покое! Я буду голодать до тех пор, пока не отменят капельницу. И буду сидеть тут.
— Девушка, вы бы сдали верхнюю одежду, — строго сказала гардеробщица.
Скинув пальто, я подхватила бабулю с одной стороны, охранник — с другой, и мы поволокли бунтовщицу к лифту. Она упиралась, как могла, выкрикивая свои требования. С горем пополам мы уложили ее в койку. Рая непонимающе смотрела то на меня, то на старушку, то на охранника.
— Что случилось? — наконец спросила она.
— Раиса, зачем вы помогли ей спуститься на первый этаж?
— Она сама попросила, сказала, надоело ей лежать, хочет тебе сюрприз сделать — встретить у входа. А что тут такого?
— Ничего. Она голодовку объявила в знак протеста.
— Против чего это, Вера Петровна?
Мисс Бесконечность лежала обиженная, поджав губы, и ни с кем не разговаривала.
— Против капельницы.
— Верочка Петровна! Ведь всего две осталось. Вы уж потерпите, милая! — стелилась Рая.
— Да, ты так думаешь, Раечка?
— Конечно, и будете здоровенькая. А тебе, Маша, никто не давал права так издеваться над пожилым человеком! Это ж надо, волоком тащить с первого этажа бедную старушку.
— Вот именно! — горячо воскликнула «бедная старушка», довольная, что Раечка за нее заступилась. — И вообще, иди отсюда! И больше не приходи, я тебя не хочу видеть! Хочу, чтобы Жорик ко мне пришел! Позвони ему и скажи, мать, мол, при смерти, приезжай, а то не успеешь проститься. Иди! Вот сыночек у меня, Раечка, золото. Такой парень хороший…
О том, какой у нее Жорочка хороший парень, я слушать не стала и ушла.
Естественно, я не бросила Мисс Бесконечность после ее выходки и просьбы больше не приходить, но как только начался курс интенсивной терапии, который заключался в приеме таблеток и уколов, я стала посещать бабушку через день.
В конце апреля Мисс Бесконечность наконец выписали из больницы, и мы с Власом привезли ее домой. За две недели после этого она встала на ноги, и никто бы не поверил, что полтора месяца назад над бабушкой нависла страшная угроза и что она месяц отлежала в больнице.
— Сколько же я пережила! Сколько испытаний Выпало на мою долю! Нужно вставить это в эпопею!
Но несмотря ни на что, Маша, вот ты не поверишь, я очень скучаю по нашей палате, по Раечке. И отчего она мне не позвонит? Я ведь дала ей свой телефон. Как ты думаешь? — не уставала спрашивать меня старушка.
— Пройдоха твоя Раечка!
— Это почему она пройдоха?! Да как ты смеешь ее так обзывать?! Она человек занятой — в Думе работает.
— Кем? Уборщицей?
— Почему уборщицей?
— А по-твоему, Раечка — правая рука президента Российской Федерации?
— Может, и не правая, но она ему помогает, — неизменно отвечала она, искренне веря в подобную глупость.
За то время, что я пробыла в Москве, мне удалось отредактировать записи начиная с сентября — с описания того самого утра после смотрин женихов на станциях метро «Тверская», «Пушкинская» и «Чеховская», которые я надеялась подсунуть Любочке в качестве «Дневника», который она требовала еще осенью. Вот только с финалом я не знала, что делать, — ничего не приходило в голову — не заканчивать же текст выздоровлением Мисс Бесконечности!
В апреле роман я, конечно же, не сдала, объяснив Любочке, в какой тяжелой ситуации оказалась.
— Я понимаю, — проговорила она. — Нет ничего ужаснее, чем ухаживать за больным, старым человеком, но, Маня, представь, если бы ты каждый день ходила на работу — вот как я. Что бы тогда стала делать?
— Уволилась бы, наверное.
— Даже так! Ну, хорошо, тогда я жду текст до первого июня. Успеешь?
— Да, постараюсь.
— Уж будь добра. А то ведь это кошмар какой-то! У тебя свои проблемы. Кронский тоже ничего не пишет — у него, видите ли, душевная травма и депрессия. Я так жалею, что переманила его из другого издательства, пусть бы там сами с ним нянчились. От него толку, как от козла молока. Ты бы, что ли, помирилась с ним!
— Люба, — сказала я серьезно. — Поверь мне, я к его депрессии не имею никакого отношения.
— Ой! Не морочь мне голову, все знают, что зимой у вас с ним роман был!
— Глупости какие!
— Маш, не хочешь, не говори! Это ваше дело, и меня не касается. Самое главное забыла тебе сказать! 15 мая в книжном магазине… Сейчас, подожди, адрес найду. Вот, записывай. — И она продиктовала мне адрес одного из центральных книжных магазинов. — 15 мая там будет презентация твоей последней книги. Для нас отвели зал. Там недавно был ремонт, и один отдел еще не успели оформить — он пустой. Мы его украсим стендом из твоих книг, воздушными шариками…
— И что я должна делать? — растерялась я.
— Во-первых, пригласи туда всех своих знакомых к 16.00, а сама приезжай к часу или к двум, чтобы успеть подписать книги. Сначала будешь сидеть и отвечать на вопросы журналиста.
— Какие вопросы? — испугалась я.
— О своем последнем романе расскажешь, а потом про тебя статью в газете напишут. Подпишешь желающим книги. Эта процедура займет час-полтора. Затем отдел закроют, и будет фуршет для своих. Раздаришь книжки, потолкаешься с часок… Вот, собственно, и все.
— Наверное, нужно продукты купить? — нерешительно спросила я.
— Все организационные вопросы издательство берет на себя. Что от тебя требуется, я тебе объяснила. Ну, пока.
— Пока, — ошеломленно промолвила я и с беспокойством заглянула в календарь. Сегодня 11 мая. Презентация через три дня! Кошмар! Нет, я этого не перенесу! Я никогда не общалась с читателями — сидела себе спокойно дома и писала свои романы. Я даже не знаю, кто их читает! Еще на какие-то вопросы придется отвечать! Надо бы подготовиться, а то буду какую-нибудь ерунду говорить. А в чем идти на эту презентацию? Тоже вопрос! Ведь существует какой-то определенный стиль для таких случаев — в вечернем платье, наверное, неприлично, в деловом костюме тоже как-то нелепо. Голова подобно старой засохшей булке крошилась на мелкие частички от неразрешимых проблем. И я снова позвонила Любочке:
— Послушай, не хочу я никакой презентации!
— Что это еще за новости?! Мань, ну ты как маленькая, честное слово! Кто тебя спрашивает, хочешь ты или нет? Это уже решенный вопрос.
— Но я не знаю, что говорить, я никогда не выступала перед публикой. Я боюсь! И потом, совершенно не знаю, что мне надеть!
— Ну, что-нибудь поприличнее, не джинсы, конечно, хотя можешь и джинсы. Кому какое дело!
— А какие вопросы будут? Как мне отвечать — то?
— Мань, ну ты меня поражаешь! Сначала расскажи о творческих мучениях, потом о том, как тебя посещает вдохновение и ты придумываешь сюжет, как муза не отходит от твоего письменного стола и водит твоей рукой, пока ты не допишешь последнее предложение. Было бы из-за чего суетиться! Успокойся, никто тебя там не съест! Главное, позови побольше народа для солидности.
И я стала думать, кого бы мне позвать. 14 мая должна была приехать мама с Николаем Ивановичем. Просто замечательно! Может, мама решит еще и охранника прихватить. Было бы неплохо.
А что, собственно говоря, думать — презентация через три дня! Нужно немедленно всех оповестить и сказать: «Явка обязательна». Проще простого!
Я пригласила Икки с родителями, у которых до сих пор продолжался медовый месяц; Пульку с гоголеведами — как нельзя кстати они решили передохнуть от утомительных поисков ребра великого писателя, автора бессмертных «Вечеров близ Диканьки» — сборника повестей, которые Пулька в детстве приняла за сочинения Леси Украинки; Женьку Овечкина, Анжелу со всем ее многочисленным семейством — она обещала прийти, несмотря на то что должна была родить через две недели; Власа, его родителей, Олимпиаду Ефремовну. Мне очень хотелось позвать и Мисс Бесконечность, но я побоялась — она еще слишком слаба для подобных мероприятий.
Итак, один день прошел настолько быстро, словно пущенная из лука стрела. Я занималась только тем, что приглашала друзей на презентацию. Катастрофа! Оставалось два дня!
13 мая. С самого раннего утра я села писать свою «Речь к читателям». Для меня это оказалось намного труднее, чем набросать сюжет для романа. «Уважаемые читатели!» — чиркнула я и задумалась — в слове «уважаемые» хоть и слышалось мое почтение по отношению к публике, но также присутствовало и отстранение от нее, некая отдаленность. «Нет, так дело не пойдет», — решила я и заменила «уважаемые» на «любимые».
«Любимые читатели!» — это вообще никуда не годится. Слышится какая-то фамильярность в слове «любимые», когда обращаешься к массе народу, не зная ни одного человека из этой самой массы. Еще наш великий писатель-пророк Федор Михайлович Достоевский говаривал: «Любить всех, значит, не любить никого». Стало быть, словосочетание «любимые читатели» наполнено фальшью и обманом.
«Дорогие читатели!» — слишком просто и избито.
Ну как, как мне начать свою «Речь к читателям»?! Может, мне оттого так трудно обратиться к любителям моих книг, что я никогда о них не думала — строчила романы, не представляя себе, кто их читает и покупает?
Весь день ушел на так и неудавшуюся «Речь». В конце концов я оставила эту затею и решила: буду говорить все, что придет в голову, не подумав о том, что в голову вообще в тот момент может ничего не прийти.
Утром следующего дня в Москву прибыли мама с Николаем Ивановичем. Я незамедлительно пригласила их на презентацию. Мама порадовалась моему успеху и тут же залилась слезами:
— Он изменил мне! А я-то, наивная, поверила! Влюбилась! Подлец!
— Кто? Николай Иванович?! — спросила я как громом пораженная. — С кем? С Эльвирой Ананьевной?
— Да при чем тут Коля? Кому он нужен! К тому же он все это время был под моим присмотром. Веня! Мой охранник! Я как приехала, ему первому позвонила — вперед тебя! Дочь на этого мерзавца променяла, а он мне — мол, между нами все кончено, у меня есть другая женщина! — воскликнула она и снова захлюпала.
— Нужен он тебе сто лет! Он тебя недостоин! Забудь о нем! У тебя муж есть, в конце концов!
— И то правда, — мгновенно успокоилась мама. — Коленька хоть и странный, но меня любит. Подумать только, я чуть было с ним не развелась и не ушла к этому ироду! Правильно говорят: «Что бог ни делает, все к лучшему».
С «Речью» у меня ничего не вышло, и я стала думать, в чем идти на презентацию. Думала целый день и в конце концов решила надеть строгий красный костюм, освежив его шелковым шарфом серебристого цвета.
Наконец наступил мой день — мой звездный час.
Все утро меня трясло мелкой дрожью, как перед зачетом по истории Древнего Востока на первом курсе института. Потому что преподавательнице, которая полгода посвящала нас в запутанный, покрытый вековой пылью мир шумерской цивилизации, заставляя близко к тексту пересказывать «Эпос о Гильгамеше» и подробно излагать о державе Хаммурапи, о хеттах-завоевателях, реформах Эхнатона, Тутмосе I и Рамсесе II, сдать зачет с первого раза не представлялось никакой возможности. Этой восточной женщине с иссиня-черными, распущенными до талии волосами, казалось, доставляло удовольствие нас мучить, заставляя снова и снова сдавать один и тот же, выученный наизусть, предмет. Студенты ловили ее около института, у подъезда ее дома, в метро, на автобусной остановке, рассказывая о духовной культуре Месопотамии и создании Персидской державы Киром, держа наготове ручку с зачетной книжкой. Рекордсменом стал юноша, который, по иронии судьбы, увлекался историей Древнего Востока с детства — он сдал предмет на двадцать пятый раз, лишь к концу второго семестра. Влас заехал за мной в полдень, чтобы отвезти в книжный магазин.
— Ты прекрасно выглядишь, — заметил он. — И перестань дрожать от страха!
— Я не знаю, как себя вести, что говорить, и вообще, я, кажется, напрасно так официально оделась.
— Веди себя естественно. А этот костюм тебе очень идет и создан для подобных мероприятий.
— Правда?
— Правда. Сейчас тебя отвезу и поеду за бабушкой. Слушай, а хочешь, я всех своих сотрудников к тебе на презентацию пригоню? Тебе ведь сказали, чтобы народу побольше было.
— Да нет, сотрудников, пожалуй, не стоит, — подумав, решила я.
На улице светило солнце и было не по-весеннему жарко.
— Зря я этот костюм все-таки надела! Запарюсь!
— Вечером обещали похолодание.
— Это вечером…
— А зачем ты ноутбук с собой берешь?
— Нужно, — загадочно сказала я.
Я всю дорогу молчала, а Влас пытался развлечь меня, правда, он больше не рассказывал своих плоских, приводящих в замешательство анекдотов.
Стоило мне только войти в книжный магазин, как на меня набросилась Любочка, схватила за руку и поволокла в пустой, недавно отремонтированный отдел. Усадив за стол с горой моих книг, она приказала:
— Сиди и подписывай, а мы тут все устроим.
— Что, все эти книги нужно подписать? — удивилась я, потому что передо мной красовалось не меньше ста экземпляров «Убийства на рассвете».
— Конечно!
— А что писать-то?
— Ну, я не знаю. Что хочешь. Ты же автор! Напиши хотя бы: «На память, автор», потом поставь сегодняшнее число и дату.
— Точно! — радостно воскликнула я — эта подпись показалась мне гениальной.
На обложке книги на фоне нежно-розового неба было изображено искаженное ужасом красивое лицо жгучей брюнетки. Художник-оформитель, видимо, не удосужился прочесть роман, а ознакомился лишь с эпилогом — ведь Степанида, героиня романа, на самом деле-то страшненькая и вовсе не брюнетка. А в центре, на белых простынях лежит мужчина с запрокинутой головой, истекающий кровью, с ножом в груди.
Я робко подписала первую книгу (буквы получились неровные, как кривые зубы), потом вторую, третью. Подписав с десяток экземпляров, я так увлеклась, лихо закручивая букву «К» собственной фамилии, что книжки то и дело отлетали на соседний столик, как футбольные мячи.
Вскоре это занятие мне надоело, рука устала, а стопки книг передо мною не уменьшались.
Какие-то незнакомые люди под руководством Любочки подвешивали к потолку разноцветные шары, вносили столы, стулья. Так к четырем часам книжный отдел совершенно преобразился и стал похож на банкетный зал. Я же, в свою очередь, ровно без пяти четыре корявым почерком подписала последнюю книгу, и моя обессиленная рука повисла вдоль туловища.
Любочка открыла дверь, и в отдел, словно сильный речной поток, долго сдерживаемый плотиной, ворвался народ.
Среди этого потока я увидела маму, Икки с родителями, Анжелку с огромным животом… Глазам своим не верю! Расталкивая всех руками, в зал вплыла Мисс Двойная Бесконечность. Или мама, или Влас приволокли ее сюда.
Помимо приглашенных мной родных и друзей тут оказалось и много незнакомых людей, но не успела я опомниться, как ко мне подскочила Любочка и представила высокую худощавую девицу:
— Это Наташа, журналист. Она будет задавать тебе вопросы. Имей в виду, тебя будут транслировать на весь книжный магазин, так что думай, что говоришь.
— А кто все эти люди? — спросила я.
— Как — кто? Многие из редакции. А ты что, никого не пригласила?
— Пригласила.
— И твои знакомые. Сконцентрируйся, мы сейчас начнем, — сказала она мне и вдруг крикнула: — Немедленно уберите эти книги со стола! Это ведь экземпляры для приглашенных.
Откуда ни возьмись, перед моим носом появился микрофон, я сидела, опутанная проводами, словно цепями, — теперь уж ни за что отсюда не выбраться!
— Ну, начнем? — спросила Наташа.
От страха язык мой присох к нёбу, и я не могла вымолвить ни единого слова.
— Да не волнуйтесь вы так. Вот, выпейте воды, — она протянула мне стакан воды, и неожиданно ее голос разлетелся во все концы книжного магазина: — Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях знаменитая писательница любовных романов — Мария Алексеевна Корытникова.
Как назло, минералка попала не в то горло, и я зашлась кашлем. Остановиться я никак не могла, и по всему магазину разносились мои надсадные хрипы. Молодая журналистка поколотила меня по спине, потом заставила выпить залпом стакан воды, но я еще кряхтела.
— Месяц назад вышел новый роман Марии Алексеевны Корытниковой под названием «Убийство на рассвете», — продолжала она как ни в чем не бывало. — О нем сразу заговорили литературные критики. Роман поражает своим психологизмом, глубиной внутреннего мира главной героини, а также необычной композицией. Этот роман вы можете приобрести в нашем книжном магазине, подойти в пятый отдел после интервью с автором, и Мария Алексеевна с удовольствием подпишет вам книгу. Не так ли, Мария Алексеевна?
— Это вы меня спрашиваете? — с ужасом спросила я, квохча, как курица. — Конечно, конечно, жалко, что ли?!
Теперь на меня с ужасом глядела журналистка.
— Хочется поговорить о вашей последней книге. Как вам удалось так тонко описать внутренние переживания, характер героини? Вообще, читателям, наверное, интересно будет узнать, как вам в голову приходит новый сюжет?
Я перестала кашлять, но совершенно не знала, что говорить. И тут вспомнила Любочкин совет — сначала рассказать о творческих мучениях, потом о том, как меня посещает вдохновение и я придумываю сюжет, потом про музу.
— Труд писателя — не такой простой, каким может показаться с первого взгляда, — назидательно начала я. — Месяц, а то и два я пребываю в творческих мучениях — мучаюсь, мучаюсь, придумывая сюжет, но он не придумывается. Это ужасно! И в одну минуту (это как озарение) сюжет вдруг проносится в голове, и я принимаюсь за работу. Это меня посещают вдохновение и муза, которая буквально стоит у меня за спиной и уже не покидает до последнего предложения, — закончила я свою тираду и добавила, словно убеждая себя в том, что именно так оно и происходит: — Да.
— Так же вы писали и «Убийство на рассвете»?
Конечно, — ответила я и вдруг неожиданно для себя ляпнула: — По правде говоря, я совсем не так пишу. Это Любочка, мой редактор, посоветовала мне насчет музы и вдохновения вам сказать. На самом деле первоначально я написала роман от лица юноши, Степана, который ненавидит женщин, работает аптекарем и влюбляется в Генриетту — женщину бальзаковского возраста. В конце она изменяет ему, и он убивает ее из ревности. Но когда Любочка прочла текст, она сказала, что получилась страшная ерунда и что любовный роман для женщин не может быть написан от лица закомплексованного юноши. Она попросила меня все переделать. Я долго не могла ничего поделать с этим текстом, и вдруг в голову пришла одна мысль — все перевернуть.
— Как это — перевернуть?
— Слово «он» меняю на «она», вместо героя Степана героиней делаю Степаниду, а вместо убитой в конце Генриетты убиваю неверного Генриха. Так что и переделывать ничего особо не пришлось, и Любочка осталась довольна. И волки сыты, и овцы целы, — заключила я и почувствовала, что сказала явно что-то не то. Получалось, что в качестве «волков» выступала Любочка, а «овцы» — это уважаемые читатели. Нехорошо…
В этот момент я ощутила, что на меня кто-то пристально смотрит из зала. Я всмотрелась в толпу и увидела Любочку — она стояла метрах в четырех от нашего столика и злобно глядела на меня, а когда поймала наконец мой взгляд, покрутила себе у виска пальцем. Тут я прикусила язык и, чувствуя свою вину, спросила журналистку:
— Может, я что-то не то сказала? — Я опять забыла, что меня транслируют на весь магазин. — Хотя мне простительно — я вообще не знала, о чем буду говорить, ведь это моя первая презентация. По крайней мере, я не кривила душой и честно все рассказала, потому что люблю и уважаю тех, кто читает мои книги, — патетично сказала я.
— Уверена, что читателям понравилась ваша откровенность, — заметила журналистка, но по ее лицу было видно, что она сомневается — задавать мне еще вопрос или этого не стоит делать. Все-таки она его задала: — И последний, так сказать, традиционный вопрос. Не расскажете ли читателям о своих творческих планах?
— Да, конечно. Вообще-то за последние два месяца я должна была написать новый роман, но так как моя бабушка лежала в больнице и я почти каждый день навещала ее, времени совершенно не было, а мой редактор Любочка требует текст к концу мая. К счастью, с сентября прошлого года я вела записи того, что происходило в моей жизни.
— То есть это ваш дневник? «Бриджит Джонс» по-русски, так сказать?
— В какой-то степени да. Хотя нет, я бы так не сказала — это связный текст, описывающий девять месяцев, вырванных из моей жизни. Осталось дописать финал.
— То есть вы еще не знаете, чем закончится ваш роман?
— Нет. Это будет сюрприз, как для читателей, так и для меня.
— Спасибо вам за исчерпывающий рассказ о своем творчестве и о романе. Теперь все желающие могут пройти в пятый отдел, и Мария Алексеевна с удовольствием подпишет вам свою книгу на память.
И в зал, к моему великому удивлению, повалил народ. Ко мне выстроилась целая очередь желающих подписать книгу. У входа незамедлительно появились охранники и пропускали людей «дозами».
— Будьте так добры, Мария Алексеевна, подпишите мне вот тут в уголке: «Любезной Татьяне Васильевне от лучшей подруги». Вам не трудно? Пусть все думают, что вы моя лучшая подруга! — попросила полная женщина средних лет в цветастом платье.
— Пожалуйста. Жалко, что ли!
— Спасибо! Я так люблю ваши романы! Мне они жить помогают! — вдруг заявила она, прижав подписанную книгу к груди, как будто это было нечто драгоценное.
Надо сказать, я не ожидала, что кому-то нравятся мои книги, но любителей, я бы даже сказала, поклонников моего творчества оказалось немало — так что моя бедная рука вместо автографа готова была ставить лишь крестики.
У меня кружилась голова от большого количества людей, от постоянно мелькающей перед глазами обложки с розовым закатом и зарезанным на кровати мужчиной, как вдруг я услышала знакомый голос:
— Мария Алексеевна, напишите мне: «На память от „Уходящей осени“.
Тут меня будто током ударило, и я мгновенно пришла в себя. Я подняла голову и увидела перед собой «Лучшего человека нашего времени». Он был так же прекрасен, как тогда, летом, когда я впервые увидела его в коридоре издательства. Я почувствовала аромат его любимого одеколона, и мое сердце, как мне показалось, с грохотом ударилось о ребра и провалилось вниз, застряв где-то рядом с желудком.
— Наконец-то я могу хоть посмотреть на тебя! — сказал он отчаянно. — Я буду ждать тебя в машине во дворе у запасного выхода.
После него я механически ставила закорючки на обложках книг, зная наверняка, что не смогу ему отказать. Вообще-то вернее будет сказать — не смогу отказать себе. Только сейчас, увидев его так близко, я поняла, как сильно соскучилась по нему.
— Не пойму я что-то! — донесся до меня властный голос Мисс Двойной Бесконечности. — Это ведь я эпопею написала! Так почему Машка за меня автографы всем раздает?!
— Прекрати ерунду говорить! — довольно громко осекла ее мама.
— Но это несправедливо! Я эпопею написала! все еще слышался удаляющийся бабушкин голос. — Это я должна была там на ее месте сидеть!
Через час отдел был наконец закрыт для посторонних и начался фуршет.
— Ну, ты, конечно, молодец! — Первой ко мне подбежала Любочка.
— Правда?!
— Ой! Ладно! Не хочется портить тебе праздник! Я с тобой завтра поговорю. Что за новый роман?
— Маша! Я тобой так горжусь! — подлетела мама и заключила меня в объятия.
— Ладно, все завтра, все завтра, — проговорила Любочка и отошла.
— Поздравляю! А ты не хотела! — крикнул Николай Иванович.
— Чего не хотела?
— Писателыней становиться.
Машенька, поздравляем тебя! — взвизгнула Людмила Александровна. Я даже не узнала ее сначала — так хорошо она еще никогда не выглядела. — А это мой муж, отец Икки — Роблен Иванович.
Рядом с ней стоял подтянутый лысеющий мужчина с живыми, блестящими глазами, и я заметила, что Икки очень на него похожа.
— Молочина! Поросто молочина! — восторженно повторяла Вероника Адамовна. — Мы с Аполлинаием Модестовичем так ады за тебя, Мафэнька! Если бы Пульхеиа слуфалась нас в детстве, сейчас бы тоже книгу написала.
— А как ваши успехи?
— Ну, ребро Николая Васильевича мы так и не нашли, — вмешался Пулькин отец.
— Зато нафли его запонку.
— Да хватит Машке в такой день голову морочить! — возмутилась Пуля. — Пошли со мной, у нас сногсшибательные новости! Буквально на пять минут!
— Машенька! Машенька, постой! — прогнусавила Нина Геннадьевна, как обычно монотонно, растягивая слова. За ней тащился Анжелкин отец. — Поздравляем, от всей души!
— Спасибо, спасибо.
Меня поздравляли, я раздаривала налево и направо подписанные экземпляры своих книг. Да, это действительно был мой звездный час.
— Пойдем, мне надо тебе кое-что рассказать! — не унималась Пулька.
— Я не пойму, Маша, почему ты подписываешь и даришь мои книжки? — спросила меня Мисс Бесконечность, дергая за рукав, — она наконец-то добралась до меня. — Это я написала эпопею, а не ты!
Вот, Вера Петровна, возьмите книгу и удостоверьтесь, что это не вы ее написали! — И Пулька, подсунув ей роман, потащила меня в коридор, где столпились все остальные члены нашего содружества. — Мань, ты только послушай, какие у нас новости и что они, вот эти двое, от нас скрывали! Икки, Женька! Говорите!
— Ну, в общем… Мы это… — не решался раскрыть тайну Овечкин. — Ну во-первых, мы тебя поздравляем.
— Да, — пискнула Икки.
— Они решили пожениться! — не выдержала Пулька. — И уже заявку в загс подали, а нам ничего не сказали!
— Это правда? — Я не верила своим ушам.
— Да, — сказал Женька и обнял свою невесту.
— Да, — подтвердила Икки — она первый раз за многие годы выглядела по-настоящему счастливой.
— Я так рада! Если бы вы знали, как я за вас рада! — Это известие было полнейшей неожиданностью для меня — Икки наконец обрела счастье, а Овечкин выкинул из головы навязчивую идею переделаться в женщину.
Анжелка стояла и плакала. Я сначала подумала, что от радости за друзей, но она расходилась все сильнее и сильнее.
— Ты что, Анжел? — спросила я.
— Эта сволочь, Михаил мой, запил! — И она выругалась. Невероятно! Верующая Анжела снова превратилась в прежнюю Анжелку Огурцову, которая привыкла безбожно сквернословить в музыкальном училище.
— Ты ведь говорила, что он даже по праздникам не пьет?
— И что никогда спиртного в рот не возьмет?
— А как же обет? — спрашивали мы наперебой.
— Оказывается, он дал обет всего на три года, а они истекли вот уже как неделю назад, и теперь плевать он хотел на обеты, на церковь, на меня, на Кузю, на мою беременность! Дайте мне сигарету. Курить хочу, просто невыносимо! — заявила Анжелка.
— Девочки, ни в коем случае не давайте! Ей рожать через две недели! — запретила Пулька как врач.
— Надоело мне рожать!
— Думать нужно было! Вот родишь, а потом хоть обкурись!
— Нет, ну я не понимаю, Маня, что ты тут делаешь-то?! Там тебя все ждут! — воскликнула Любочка. — Я тебя ищу повсюду! Побудь еще хоть полчаса, выпей шампанского, а потом иди на все четыре стороны!
— Иду! Иду! — заверила я Любочку, а когда та ушла, сказала Анжеле: — Мы с тобой завтра все решим. Девчонки, Овечкин, ведь мы никогда не оставляем друзей в беде и обязательно что-нибудь придумаем?!
— Конечно, придумаем! — поддержали они меня, и я побежала в зал.
Около часа я еще выступала в качестве радушной хозяйки, принимая поздравления и раздаривая книги, мило беседуя с незнакомыми людьми и предлагая им шампанское.
— Я подожду тебя в машине у запасного выхода, во дворе. Хорошо? — Влас смотрел на меня так же, как тогда в кафе.
— Да-да, — бросила я, разговаривая с главным редактором отдела детской литературы.
— Сейчас нет хороших детских книг! Это просто катастрофа! — жаловался он мне. — Может, вы попробуете что-то написать для детей?
— У меня никогда не получалось сочинять детские вещи.
— А вы все-таки попробуйте.
— Может быть, — неопределенно сказала я, и тут под локоть меня подхватила Любочка.
— Ты что, и вправду написала «Дневник», как я тебя просила?
— Да.
— Молодец. Я так рада. Так когда ты мне текст сдашь?
— На этой неделе. Устроит?
— Вполне. А это правда, что ты там про себя все написала?
— Там и о тебе есть.
— Не смей! Машка! Вырежи про меня!
— Тогда роман по объему не пройдет. Пойми, у меня безвыходная ситуация — кроме этого текста в запасе больше ничего нет, а тебе вынь да положь — в мае…
— Ах, ну ладно, посмотрим! Тебя там, на улице, кажется, кто-то давно поджидает. Иди уж! — лукаво проговорила она, и я, попрощавшись со всеми, вышла через запасной выход на улицу.
Я оказалась в уютном московском дворике, заросшем кряжистыми тополями с размашистыми ветвями. Друг напротив друга стояли две хорошо знакомые мне машины. Из одной, той, что справа, на меня пристально смотрел «Лучший человек нашего времени», из другой — Влас.
Сколько времени я стояла у подъезда, не знаю наверное, считаные секунды, но мне они показал вечностью. Нужно было сделать выбор — окончательный и бесповоротный — я знала это, но внутри меня все трепетало, и я не могла ни о чем думать.
Не знаю, чем я руководствовалась в ту минуту и по какому принципу выбирала, но я бездумно повернула в ту сторону, где стоял автомобиль ближе к моему сердцу в буквальном смысле слова — то есть налево. Я твердыми шагами подошла к машине Власа, села и неприлично громко хлопнула дверцей.
— Все сказанное мной на презентации, наверное, полнейшая чепуха? — пытливо спросила я и тут вдруг почувствовала, что не испытываю никаких чувств к человеку, что ждал меня на противоположной стороне дворика. У меня было такое ощущение, словно я сумела выпутаться из смирительной рубашки, наконец избавившись от кем-то навязанного наваждения. Как и что послужило тому причиной — не могу сказать. Может, Влас?..
— Никто бы не смог так честно отвечать на вопросы, как ты. А люди любят открытость. Именно поэтому было столько желающих получить твой автограф, — сказал он, а машина стремительно мчалась по Дмитровскому шоссе, вон из города.
— А как же Олимпиада Ефремовна? Кто ее отвезет домой? — опомнилась я.
— Родители.
— Куда мы едем?
— Сейчас увидишь. Это недалеко.
Ехали недолго — минут сорок: вокруг лес, песчаная тропинка, ведущая с пригорка к реке. На горизонте малиновое закатное солнце медленно тонуло в молочно-лиловом пышном облаке.
— Красота-то какая! — воскликнула я. — :Жаль, что купаться еще рано.
— Закрой глаза, — попросил Влас. — Представь, что перед тобой не речка, а море, вокруг не одуванчики, а чайные розы, вместо бузины кусты шиповника с крупными белыми цветами, галька под ногами.
— Представила. Это как сон.
— Ты слышишь шум прибоя, как волны, ударившись о скалу, отдаляются и снова упрямо, с большей силой бьются об нее, будто желают снести?..
— Да, — ответила я и почувствовала, будто я действительно на юге, будто открою сейчас глаза и увижу бескрайнее зеленоватое море, каменистый берег, одноэтажные домики за спиной, кусты шиповника, стройные кипарисы, словно коконы, впиваются верхушками в безоблачное лазурное небо.
Я вдруг почувствовала себя одиннадцатилетней девчонкой. Это было странное ощущение — будто я вижу прекрасный сон, который перенес меня в беззаботное детство, словно не было позади двадцати прошедших лет. Сейчас в эту самую минуту мне казалось, что мы с Власом не расставались, что отсчет — то движение к середине жизни — только начался, что конца не видно — он спрятался где-то за поворотом…
На душе стало спокойно, легко, и тут я познала другое счастье — не такое, когда сердце бешено колотится в груди в ожидании встречи с любимым человеком. Я поняла вдруг, что счастье не всегда есть предвкушение события, которое должно произойти в определенном месте и в определенное время, как представлялось мне, когда я летела на всех парах 31 декабря к «Лучшему человеку нашего времени». Наибольшую глубину и радость чувствуешь в счастье безмятежности, когда время перестает существовать, уходит на второй план, когда ты его не ощущаешь, когда можно перемещаться в пространстве. И для тебя не имеет никакого значения, что окружает тебя в данный момент, — на самом деле ты находишься совсем в другом месте.
— А теперь можешь открыть глаза. — Влас держал на широкой ладони маленькую красную бархатную коробочку в форме сердца, и я в один миг очутилась у речки, неподалеку от Москвы.
«Не дай бог он решил предложить мне руку и сердце! Не дай бог там, в этой коробочке, обручальное кольцо! Я этого не переживу!» — думала я, не решаясь взять «сердечко» и посмотреть, что внутри. Тогда Влас сам открыл его…
Я не ошиблась — там было кольцо невероятной, ослепительной красоты, так что на минуту я потеряла дар речи, совершенно забыв, что кольцо это преподнесено с одной лишь целью — лишить меня свободы.
Это было золотое кольцо с большим овальным цейлонским сапфиром в середине, сияющим в ореоле бриллиантов густой прозрачной синевой. Нежно-розовые лучи заходящего солнца разбивались искрящимися фонтанами, разлетаясь в разные стороны от многогранного камня, покрытого мелкими шестиугольными фасетами.
— Потрясающе!.. — только и смогла вымолвить я.
— Ты согласна выйти за меня замуж? — Этот вопрос мгновенно вывел меня из состояния эйфории безмятежного счастья, прекрасного сна, вернувшего в далекое беззаботное детство.
Я отвернулась, чтобы не смотреть на кольцо, — оно оказывало на меня магическое действие, и, глядя на него, я могла согласиться на все что угодно.
— Влас, это так неожиданно, — замялась я. — Мне нужно подумать.
— Сколько же можно думать?! Ты двадцать лет думаешь!
— Ну, ты еще скажи, что ждешь моего ответа с тех самых пор, когда мы, будучи детьми, ловили светлячков поздними южными вечерами!
— Да! И, между прочим, следили за твоей мамой, — добавил он. — Помнишь, что я сказал тебе тогда?
— Нет. Ты много чего говорил.
— Что мы с тобой обязательно поженимся.
Я молчала и чувствовала себя припертой к стенке.
— Тебя что-то удерживает? Или у тебя кто-то есть?
— Нет у меня никого! — воскликнула я.
— Дай мне ответ сейчас. Ты вправе отказаться — никто тебя не тянет насильно к алтарю.
И вдруг совершенно неожиданно для себя (не знаю, что на меня нашло!) я ответила:
— Да! Я выйду за тебя замуж.
— И все-таки я прав был тогда! — радостно воскликнул он, будто выиграл пари.
— В чем это ты был прав?
— В том, что на курорте можно устроить личную жизнь и что тем июньским месяцем мы с тобой ее уже устроили. Правда, в кредит. А все эти двадцать лет оплачивали его своим одиночеством и неудачными знакомствами… Поехали в какой-нибудь ресторан, отметим твой успех.
Да, только я бы хотела дописать финал моего романа. Мне нужно завтра предоставить свое сочинение Любочке, а то она меня съест. Мы можем побыть здесь еще часок?
— Так вот зачем ты взяла с собой ноутбук? Ты не похожа ни на одну женщину. Тебе только что сделали предложение, а ты садишься дописывать роман!
— Но у меня безвыходная ситуация! — защищалась я. — Кстати, и много у тебя было женщин?
— Ты лучше вспомни, как ты чуть было не выскочила замуж за двоечника с Крайнего Севера!
— Смотри у меня, шалунишка! — воскликнула я, глядя на голубой монитор ноутбука, а Влас, смеясь, побрел вдоль берега.
Ну что ж! Подведем итоги.
Я все думаю, какие это странные понятия — рок, судьба. Как причудливо могут поворачивать они жизнь, не оправдывать надежд, изменять то, что никогда уж не должно измениться и кажется непоколебимым, вечным, прочным. Разрушать, создавать что-то новое, невероятное, о чем никто никогда и помыслить не мог.
Итак, вышеописанный отрывок — а именно девять месяцев (сентябрь — май), выхваченных из моей жизни и жизни окружающих меня людей, — в целом закончился хорошо.
Взять, к примеру, Икки: сначала мучилась с бабкой-тиранкой, потом с изменщиком-мужем, нелюбимой работой…
Ее мать — одинокая, несчастная женщина, которая лучшие годы своей жизни провела в одних стенах со свекровью — совершенно чужим ей человеком.
Казалось бы, что могло измениться в судьбе этой семьи? Полная безысходность. Но откуда ни возьмись появляется Иккин отец. И удивительно! Людмила Александровна с Робленом Ивановичем смогли пронести свою любовь через всю жизнь и соединиться спустя тридцать лет.
Икки тоже находит свою любовь, которая, оказывается, была все это время так близко. Это вообще невероятная история! Женька Овечкин решил остаться самим собой и наконец выкинул из головы свою бредовую идею о том, что его привлекают мужчины. Я видела, с какой любовью и нежностью он смотрел на Икки.
Пулька, около которой всегда вились поклонники и всегда имелся воздыхатель, вдруг отказалась от мужского внимания и с головой ушла в науку, решив защитить диссертацию. Кто бы мог подумать?
Кажется, только ее родителям судьба не преподносит никаких сюрпризов — они всю жизнь ищут клочки писем, кости, запонки, воротнички, сапоги великого русского писателя. Поиск — это смысл их жизни, который, наверное, связывает больше, чем Пульхерия.
У моей мамы тоже все наладилось. Может, сейчас рана, которую ей нанес охранник из ювелирного магазина, еще не затянулась и она вовсе не считает, что все произошедшее — к лучшему, но я уверена, что ни к чему хорошему эта связь бы не привела.
Мисс Двойная Бесконечность, которая стояла на краю пропасти буквально два месяца назад, рискуя навсегда расстаться со своими ногами, теперь в полном здравии и, кажется, принялась за новую эпопею.
Вот только Анжела, которая девять месяцев назад не могла нарадоваться на своего мужа — трезвенника Михаила, несчастна. Она жестоко ошиблась в нем. И кто бы мог подумать, что он запьет? Кто бы мог подумать, что воцерковленная, набожная Анжела Поликуткина (в девичестве Огурцова) снова станет ругаться как сапожник и на девятом месяце беременности потребует у Пульки сигарету?
Да, не понять эту судьбу! Что хочет, то и делает! Но я уверена, что наше содружество наверняка что-нибудь придумает и проучит адвентиста Михаила. И Анжелка опять будет счастлива.
Что же касается меня, то тут ничего определенного сказать не могу. Сегодня я собралась замуж, но кто знает, что ждет меня через час, как пройдет грядущая ночь и какие повороты предуготованы мне судьбой. Быть может, в недалеком будущем я произведу на свет кучу правнуков для Мисс Бесконечности, с такими же взъерошенными волосами, припухлыми глазами и упрямым тяжеловатым подбородком, как у Власа. А может, мы поссоримся с ним через день, и я никогда его больше не увижу…
На этом и поставлю точку. Что будет дальше со мной, моими близкими и друзьями — не предугадать, но надеюсь, Любочке понравится этот текст и она попросит меня придумать продолжение, где я опишу, какой стороной для нас всех — героев этого романа — обернется в дальнейшем судьба. Как знать?..