
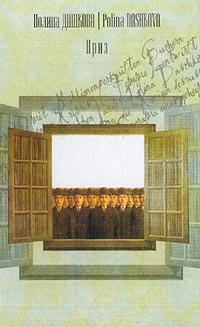
Полина ДАШКОВА
ПРИЗ
«И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его».
«Ведь это так, что ангелы всегда, спасая смертных, падают в пучину…»
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Свет фар едва пробивал душную ночную тьму. Заброшенная бетонка тянулась через густой смешанный лес. Плиты раскрошились, сквозь щели проросла трава, вздулись корни столетних дубов и елей, такие крупные и крепкие, что тяжелый, набитый людьми грузовичок «Газель» подпрыгивал и трясся.
Кончалось лето 2002 года, самое жаркое и засушливое за последние сто пятьдесят лет. Горел торф на болотах. Над огромным пространством от Архангельска до Краснодара небо стало мутным, молочно-розовым. Днем матовое вишневое солнце просвечивало сквозь марево, как зрачок циклопа. Ночью лунный диск казался маленьким рваным облаком. Слезились глаза, першило в горле, и трезвые шатались, как пьяные.
Водитель грузовичка был человек опытный, но еле справлялся с управлением. Много лет по старой бетонке никто не ездил. Она змеей проползала сквозь лес и упиралась в пустоту, оставшуюся от железных ворот и обозначенную двумя обломками столбов, из которых торчали щупальца ржавой арматуры. Дальше дорога становилась шире, лучше, сохранилось асфальтовое покрытие, тоже очень старое, но достаточно крепкое.
Метрах в двадцати от въезда высилась одинокая фигура девочки-физкультурницы в пышных коротких шароварах, в футболке и пионерском галстуке. Она стояла здесь на цыпочках больше пятидесяти лет, пытаясь закинуть свой облупленный мяч в несуществующую корзинку. От ее братьев и сестер, пионеров и пионерок с книжками, веслами, горнами и барабанами, остались только обломки. Кое-где на заброшенной территории бывшего пионерлагеря «Маяк» белели в некошеной траве то голова с отбитым носом, то кусок беспалой руки, то нога в носке и тапочке.
Из пяти деревянных корпусов сохранилось три. Остались гнилые фрагменты забора, отделявшие территорию от песчаного берега реки Кубрь, и ржавые клочья колючей проволоки. Пятнадцать лет назад последний директор пионерлагеря распорядился обтянуть забор колючкой, чтобы дети самовольно не бегали купаться. Здесь до сих пор был чудесный пляж, чистый и совершенно дикий. Уцелело небольшое каменное здание, в котором когда-то размещались кухня и столовая. Окна выбиты, рамы выломаны, двери сняты с петель.
Грузовичок, прощупывая фарами темноту, медленно свернул на боковую аллею, пересек квадратную площадку, на которой когда-то проходили пионерские линейки, и остановился у здания столовой. Мотор затих. Из кабины выскочили двое молодых людей. Водитель был почти на голову выше и заметно крепче пассажира. Несмотря на жаркую ночь, оба в плотных камуфляжных куртках. К свету фар прибавился свет двух мощных ручных фонарей.
– Все, Лезвие, прибыли, – тихо сказал пассажир и, повесив свой фонарь на шею, закурил.
Водитель обошел машину, открыл кузов, запертый снаружи.
– Подъем! – рявкнул он, полоснув фонарем по нутру кузова. – Миха, Серый, вы спите, что ли?
– Тут уснешь, в такой вони, – ответил из глубины кузова молодой веселый голос.
– Ты чего пихаешься? – заныл другой голос, хриплый и больной. – Убери свет, прямо в глаза, блин, и так ничего не видно!
После короткой возни и вялой, сонной перебранки из кузова вылезло пять человек. Двое молодых, в камуфляже, с фонарями, – Миха и Серый, трое постарше, в грязном тряпье, – безымянные бомжи. Один, самый старший, не удержался на ногах, опустился на четвереньки, тут же получил от крепкого Михи несколько ударов тяжелым ботинком и завыл дурным голосом.
– Хорош учить, покалечишь, – произнес невысокий человек, который приехал в кабине и никак не участвовал в процедуре извлечения из кузова трех сонных бомжей.
– Ты бы, Шама, посидел в их вони без противогаза, – огрызнулся Серый и поднял бомжа на ноги, вздернув за шиворот.
– Ничего, здесь воздух свежий, продышишься, – утешил Серого человек по прозвищу Шаман и обратился к бомжам вполне вежливо, даже приветливо: – Значит, так, мужики, сейчас все грузим быстро, но очень аккуратно. Груз ценный.
– Мы вам доверяем, – с ленивым смешком добавил водитель по кличке Лезвие.
– Так чего грузим-то? – поинтересовался самый бойкий из трех оборванцев.
– Не твое собачье дело, – ответил Миха и слегка подтолкнул бомжа к черному дверному проему бывшей пионерской кухни.
Пятеро исчезли во мраке.
На улице у грузовичка остались Лезвие и Шама.
– Может, зря мы этих трех вонючек взяли? – спросил Лезвие, прикуривая. – Вполне могли бы сами справиться.
– На фига надрываться? Железо тяжелое, и вообще, пусть поработают напоследок, хоть какая-то польза от вонючек. – Шама потянулся, мягко хрустнув суставами. – Ты сам предложил их взять. Что же теперь?
– Теперь я думаю, что совсем не обязательно было перевозить железо. Место отличное, надежное, где мы еще такое найдем?
– Перестань. Отсюда до свалки всего пять километров. Свалка горит, рядом торфяники, при такой жаре огонь может перекинуться сюда, и начнется салют, от нашего железа только шкварки останутся.
– А вонючки?
– Что вонючки? С ними будет, как обычно. Ладно, пойду, искупаюсь. – Шаман потянулся и покрутил головой, разминая шею.
– Иди. Я вообще не понимаю, зачем ты с нами поперся? Не царское это дело, Шама. Тебе пора отвыкать от черной работы. И рисковать тебе нельзя, особенно сейчас, – сказал Лезвие.
– Мне надо встряхнуться, а то закисаю. Риск бодрит, без него скучно. Ладно, если что, свистнешь.
Крепкая невысокая фигура бесшумно растворилась в темноте. Из бывшей кухни слышались голоса, тяжелый хриплый кашель. Бомжи, скрючившись, вынесли толстый брезентовый сверток, метра полтора длиной и, тихо матерясь, бережно загрузили его в кузов грузовичка. Всего таких свертков было шесть. Затем, после перекура и нескольких глотков водки, они принялись грузить ящики Бомжи очень старались. Им было обещано, что после погрузки их не только отпустят, но и денег дадут.
Шама разделся на пустом песчаном пляже. Фонарь свой он погасил. Глаза привыкли к темноте, к тому же лунный свет сумел просочиться сквозь плотное марево. Реку пересекла зыбкая жемчужная дорожка. Шаман осторожно ступил на эту дорожку, сделал несколько шагов по илистому дну. Вода была теплой и мягкой. Из-за жары молчали ночные птицы и лягушки. Казалось, лес умер, так тихо было вокруг. Голоса и грохот погрузки едва долетали сюда и звучали мягко, почти музыкально.
Шаман застыл, прислушиваясь к тишине. В его жизни было слишком мало тишины, он совсем отвык от нее. Ему стало немного не по себе, словно лес, песок, обмелевшая усталая речка Кубрь и розовый лунный диск молча, недоброжелательно уставились на него, чего-то от него ждали и знали такое, что неодушевленные предметы в принципе знать не могут.
Слева, в зарослях дикой малины, ему почудился шорох и еще какой-то звук, похожий на вздох. Он резко оглянулся, но ничего, кроме мрака, не увидел. Вспомнив, что времени совсем мало, с бодрым возгласом «Кайф!» он плюхнулся в теплую воду, нырнул и поплыл по лунной дорожке легким красивым брассом.
Погрузка подходила к концу. Бомжи сильно устали. Лезвие позволил им напоследок еще один недолгий перекур и дал допить оставшуюся водку.
– Слышь, а кузов-то почти полный, мы там все не поместимся, – вдруг произнес один из бомжей, оторвавшись от горлышка бутылки.
– Не поместимся, – отозвался другой бомж, кашляя и едва ворочая языком.
– Ничего, пешочком прогуляетесь, вам полезно, – тихо засмеялся Серый.
На минуту повисла пауза. Вдруг третий бомж, самый молчаливый, вскочил и метнулся к темному кустарнику.
– Ты куда? – удивленно окликнул его Лезвие.
В ответ послышался тяжелый, удаляющийся топот. Бомж бежал. Другие два уже поднимались на ноги. Они были слабее и пьяней, но в такой темноте имели неплохой шанс исчезнуть, тем более побежали они в разные стороны.
Шаман вылез из воды. Шумно отфыркиваясь, он достал из кармана куртки маленькое мягкое полотенце, которое прихватил заранее, ибо знал, что непременно искупается этой ночью в реке Кубрь. Вытерся и стал одеваться. Когда он, прыгая на одной ноге, натягивал джинсы, до него донесся тревожный условный свист Лезвия, потом крики, и наконец сухо щелкнул первый выстрел.
* * *
Если бы Василиса могла не дышать, она бы не дышала. Съежившись в кустах, мокрая насквозь, она замерзла, хотя ночь была жаркой. Каждый выстрел отдавался в ней крупной дрожью, словно ее било током. Рука все еще сжимала бутылку колы.
Пляж был залит мутным лунным светом. Несколько минут назад Василиса отчетливо видела силуэт человека, который пришел купаться. Она понятия не имела, кто он И откуда взялся, но чувствовала, что надо сидеть тихо и ждать, когда он уйдет. Он не ушел, а убежал, едва успев натянуть штаны, и пару метров прыгал на одной ноге. Кроссовки у него были на липучках, что-то там застряло, он не сумел застегнуть сразу. Из темноты кричали, свистели, потом стали стрелять.
Три выстрела, четыре. Крики, топот. Василиса впервые в жизни слышала настоящую стрельбу, и у нее ни на миг не возникло утешительного чувства, что это всего лишь страшный сон или кино. Она сразу поняла: люди, явившиеся сюда ночью на машине, убивают по-настоящему.
Она не видела никого из них, кроме одинокого купальщика, но по голосам, доносившимся издалека, догадалась, что их человек пять, не меньше.
После четвертого выстрела стало тихо. Василиса решила, что все кончилось. Она заставляла себя верить, что Гриша, Оля и Сережа сидят сейчас, притаившись, точно так же, как она. У них есть хороший шанс. Они выбрали для ночевки самый дальний из корпусов, самый чистый и целый. Вряд странные ночные гости станут обыскивать в темноте развалины бывшего лагеря, они разбираются между собой. Разберутся и уедут. Вот, кажется, заводят мотор. Ну что их сюда принесло, спрашивается? Здесь делать совершенно нечего. Это дикое место, заброшенное и проклятое. Это вроде Бермудского треугольника, но не в западной части Атлантического океана, а на суше, в подмосковных лесах. В тридцатые годы НКВД расстреливало здесь кулаков. В конце пятидесятых построили пионерский лагерь, и каждое лето кто-нибудь из детей тонул в реке, была история с маньяком, который работал массовиком-затейником и успел за месяц убить трех девочек, потом в молоко попала крыса, и несколько детей умерли от отравления. Лет десять назад какой-то бизнесмен арендовал этот кусок земли, чтобы построить шикарный дачный поселок, но был убит при загадочных обстоятельствах. С тех пор никто сюда не совался.
Два мальчика и две девочки, Василиса, Гриша, Оля и Сережа, оказались здесь совершенно случайно. Это была дурацкая авантюра.
Собирались большой компанией на дачу, рано утром загрузились в электричку, но тут выяснилось, что дача отменяется, туда явились родственники, будет полно взрослых. Надо было куда-то деться. Меньше всего хотелось возвращаться в Москву. И вот Гриша вспомнил, что когда-то его родители снимали домик в деревне. Километрах в пяти, на берегу реки, были развалины пионерлагеря. Он облазал их в детстве вдоль и поперек. Любопытно посмотреть, что там сейчас. Поскольку они уже едут в электричке по Савеловской дороге, то вполне логично доехать до станции Катуар, оттуда придется пилить пешком часа три по заброшенной бетонке через лес.
Гриша вдохновенно рассказывал ужастики про заброшенный лагерь, пока тряслись в электричке, и в итоге пять человек сошли в Лобне. Дальше решились ехать только две влюбленные парочки, Сережа с Олей и Гриша с Василисой.
День получился длинный и сумасшедший. В Гришин Бермудский треугольник попали только к вечеру. Пока шли по разбитой бетонке, у Василисы отломился каблук. Босоножки были новые, нещадно терли, она разозлилась, выбросила их и дальше пошла босиком. Часть пути Гриша нес ее на загривке.
Потом купались в реке, бегали по пустой территории бывшего лагеря, вопили, дурачились и бесились, выпили на четверых две бутылки водки.
Василиса и Гриша почти не пили. Все вылакали Оля и Сережа, к тому же эти двое несчастных влюбленных курили травку. Обнявшись, повиснув друг на друге, они удалились в соседнюю палату. За стенкой долго были слышны характерные звуки. Оля и Сережа занялись главным делом своей жизни. Гриша сказал, что они уже год этим занимаются везде, где можно и нельзя. Не исключено, что они поженятся, когда Оле исполнится восемнадцать.
Правда, им негде жить, и родители категорически против.
У них не было с собой ни спальников, ни одеял, только легкие куртки. Оля и Сережа не побрезговали улечься прямо на рваные матрасы, которые в изобилии валялись по всему корпусу. Гриша заранее набрал кучу ельника и сухой травы, сложил все это на занозистом полу бывшей пионерской палаты, расстелил сверху свою куртку.
Василисе было легко и хорошо с ним, словно они знали друг друга не два дня, а сто лет. Они сидели, шептались, только изредка, почти случайно, соприкасаясь то головами, то локтями, вздрагивая и краснея. Наверное, они проговорили бы так до рассвета, а потом отправились купаться. Но Василиса ляпнула глупость, и Гриша обиделся. Она сказала, что не может целоваться с человеком, у которого потные усики.
На самом деле он пока не собирался с ней целоваться. Они оба чувствовали, что рано, и можно все испортить. Просто он потянулся за сигаретами, потерял равновесие, мимоходом скользнул губами по Василисиной щеке. У нее так закружилась голова, что она растерялась и ляпнула глупость про потные усики. Гриша помрачнел, заявил, что пора спать, улегся на свою куртку, отвернулся к стене.
– Спокойной ночи! – сказала Василиса, подошла к выбитому окну и закурила. Она ждала, что он встанет и обнимет ее. Но он продолжал лежать. Он ждал, что она подойдет и уляжется рядом.
Выкурив сигарету, она перемахнула через подоконник и спрыгнула вниз, в высокую мягкую траву. Ей вдруг ужасно захотелось искупаться, прямо сейчас, сию минуту. И еще она вспомнила, что на пляже осталась бутылка колы. Днем они клали в воду у берега несколько бутылок, чтобы охладить.
Оказавшись на пустом пляже, она заплакала и засмеялась одновременно. Река светилась изнутри мягким серебряным светом. На противоположном берегу в кромешной тьме смешанного леса неясно белели тонкие березовые стволы. Песок под босыми ступнями был бархатным и теплым. Раздеваясь, Василиса с веселым ужасом представила, что будет, если сейчас явится сюда Гриша, и тут же поняла, что больше всего на свете хочет именно этого. Но и не хочет, ибо прежде, чем что-то такое случится, он должен все-таки сбрить свои усики.
В воде ей стало казаться, что с нее сползла старая грубая кожа и теперь она все чувствует острей: шепот и щекотку реки, холодок ночного воздуха на мокром лице, прозрачную тяжесть капель на ресницах.
– Гри-ша, – пропела она, перевернувшись на середине реки на спину и глядя в сизый мрак ночного неба, – мне никогда не нравилось это имя. Я никогда не знакомилась в кафе. Это вообще не я, это кто-то другой, тупой и счастливый. Счастливый и тупой Васька.
Василиса услышала собственный тихий смех. А потом далекое ворчание мотора. Сначала она ничуть не испугалась: ну подумаешь, где-то едет машина. Но звук приближался. На всякий случай она подплыла к берегу. Натягивая джинсы и футболку на мокрое тело, с удивлением заметила, что торопится и даже слегка дрожит.
«Да что я психую? Никто сюда не приедет. Прежде чем бежать назад, надо отыскать бутылку колы. Она у нас последняя. Я выпью пару глотков, остальное отнесу в корпус».
Машина подъехала совсем близко. Свет фар почти задел Василису. Она отскочила от двух смутных световых столбов, словно это были живые хищные щупальца, и кинулась к зарослям дикой малины, из последних сил продолжая врать себе, что вовсе не боится, просто хочет найти бутылку колы, которую могло отнести течением именно в ту сторону.
Пока слышались голоса и блуждали толстые фонарные лучи, Василиса сидела в кустах и пыталась сообразить, возможно ли как-то в обход, короткими перебежками, добраться до своих, чтобы не заметили чужие. Потом обнаружила, что в двух шагах от нее из воды торчит горлышко бутылки, и обрадовалась, словно это было добрым знаком. Она уже стала осторожно подниматься, хотела рвануть к темной прогалине между гнилыми досками забора, но рядом послышались шаги, и вспыхнул свет, так близко, что полоснул по лицу. Она медленно опустилась на колени, сжалась в комок и чуть не вскрикнула, спохватившись, что невысокий крепыш может заметить свежие следы ее босых ног на песке. Но он выключил фонарь, разделся, подошел к воде.
Василиса оказалась в ловушке, не знала, сколько еще предстоит ей просидеть в колючих кустах дикой малины, что вообще происходит и что будет дальше. Она верила, что ее друзья догадались не вылезать из дальнего корпуса, не показываться на глаза таинственным и опасным ночным гостям. Ворчание мотора, топот, голоса, даже выстрелы, все это не так уж громко, к тому же корпус далеко, на другом конце лагеря. Оля и Сережа могли вообще не проснуться. А Гриша?
* * *
– Я не приказывал стрелять! – тихо, сквозь зубы, проговорил Шаман.
Серый вздрогнул и резко развернулся, его палец лежал на спусковом крючке, он мог запросто от неожиданности пальнуть в Шамана в упор. Пуля попала бы в живот. На миг в его разгоряченной голове вспыхнула мысль, что это было бы совсем не так плохо.
В темноте глаза Шамана светились. Он смотрел на Серого, не моргая. Он аккуратно вынул пистолет из потной ладони Серого. Еще минута, и дуло уперлось Серому в грудь, слева, прямо в сердце.
– Никогда, ни при каких обстоятельствах не стреляй без моего приказа, – сказал Шаман и медленно переместил дуло от груди к горлу.
– Шама, успокойся, никто не виноват, вонючки могли уйти, – прозвучал рядом голос Лезвия.
– Куда? – Шаман продолжал держать дуло у горла Серого. – Водка с добавками, через пару-тройку часов они бы все равно сдохли.
– А если нет? – произнес в темноте Лезвие и встал рядом с Серым. – У них желудки луженые. Они могли уйти и выжить.
– Я не приказывал стрелять, – повторил Шаман, – я много раз говорил вам всем, что сначала надо думать, а потом стрелять. Желудки у них самые обыкновенные. Серый, скажи, что ты сорвался. Ты не подумал и сорвался, и больше так никогда не поступишь.
– Я сорвался. Я больше так никогда не поступлю, – послушно просипел Серый.
– Молодец, – кивнул Шаман, – ну а теперь давай по-честному. Что, если ты сделал это нарочно? Тебе проще выстрелить, чем отрабатывать болевые приемы на живых вонючках, верно?
Серый взмок, кровь ударила в лицо, глаза забегали. Хорошо, что было темно. Хотя, кто знает, может, Шама правда видит в темноте? Во всяком случае, читать чужие мысли он умеет.
Серый действительно стрелял в бомжей не случайно. Ему очень не хотелось убивать их руками, ударами по сонным артериям, а перед этим заставлять копать для самих себя могилы под дулами. И он воспользовался тем, что они побежали.
– Ладно, – Шаман опустил пистолет, – придется поработать. Мы не можем оставлять три трупа с нашими пулями. Самих себя они уже не закопают… – он вдруг замолчал и замер.
Остальные повернули фонари в направлении его взгляда. В скрещенных лучах мелькнула фигура человека.
– Я уложил всех троих, – растерянно прошептал Серый.
– Стоять! Милиция! – выкрикнул Лезвие.
В ответ громко зашуршали кусты. Миха и Серый кинулись на звук. Через минуту их фонари осветили парнишку лет семнадцати. Он стоял на коленях над трупом одного из бомжей. Вероятно, споткнулся об него на бегу и теперь пребывал в шоке.
Первым заговорил с ним Лезвие.
– Тихо, пацан, спокойно. Ты здесь один? Что ты здесь делаешь?
– Я ничего не видел и не слышал, – медленно, хрипло произнес парень, – я ничего никому не скажу.
– Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, – прозвучал из темноты мягкий голос Шамана. – Я тоже знаю такую песенку. Так ты здесь один?
– Один, – парень продолжал стоять на коленях над бомжом. Фонари били ему в лицо.
– Врать нехорошо, – вздохнул Шама и едва заметно кивнул Михе и Серому. – Сколько вас? Где остальные?
Миха и Серый обошли парня и встали позади него. Их фонари осветили Шамана.
– Вы?! – ошалело выкрикнул парнишка, вскочил на ноги и уже после выстрела, медленно заваливаясь навзничь, прошептал: – Господи, так не бывает!
На этот раз стрелял сам Шаман. Но Миха и Серый опять оказались виноватыми. Их фонари осветили Шамана, и парень узнал его. Это исключило возможность выбора. Впрочем, выбора все равно не было. Грузовик набит оружием. Скоро начнет светать.
– А если остальные ушли? – тревожно спросил Лезвие.
– Не думаю, – Шаман присел на корточки и осветил фонарем лицо убитого мальчика, – они забрались сюда, чтобы оттянуться. Пили, кололись. Надо посмотреть корпуса, только очень быстро и тихо.
Он оказался прав, как всегда. В самом дальнем корпусе нашли сонную, обкуренную парочку. Их не стали ни о чем спрашивать. Просто пристрелили. Они даже не успели ничего понять.
Лезвие вместе с Шаманом обыскали вещи убитых. Серый и Миха приволокли трупы с улицы.
– Должна быть еще одна девка, – задумчиво произнес Шаман, вертя в руках небольшой джинсовый рюкзачок, который нашли в соседней комнате вместе с мужской курткой, расстеленной на куче травы и лапника, и большой спортивной сумкой.
– Один паспорт, один студенческий, – сообщил Лезвие, – три зубные щетки, три рюкзака, одна сумка.
– Ерунда, – сказал Шаман, – можно либо гадать, либо искать. Первое бесполезно, на второе нет времени.
– Посвети-ка, я посмотрю фотографию в паспорте, – попросил Лезвие.
– Перестань, – Шаман выхватил у него документы, – надо уходить.
Миха и Серый успели принести запасную канистру и уже поливали пол бензином.
Прежде чем бросить джинсовый рюкзачок в бензиновую лужу, Шаман достал оттуда ключи с брелком – плюшевым медвежонком и спрятал в карман вместе с документами.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Маша Григорьева бежала по Краснопресненскому бульвару. Ничего глупее нельзя было придумать. Над Москвой висел смог. Горел торф в подмосковных лесах, горела свалка в Люберцах. Никакого кислорода, сплошной угарный газ и прочие яды. Ужасно вредно для здоровья. И все равно Маша встала на час раньше, надела шорты, майку, кроссовки и отправилась бегать.
– У меня все хорошо, – повторяла она в ритме собственного дыхания, – у меня все отлично. Я не буду раскисать, не буду, не хочу.
На самом деле следовало остановиться, дойти пешком до дома, встать под прохладный душ. Она не просто раскисала, она растворялась в пространстве, словно кусок рафинада в чае. В последнее время с ней такое случалось слишком часто. Она становилась маленькой, беспомощной девочкой, потерянной в сутолоке, на вокзале в чужом городе; ребенком, о котором забыли и никогда не придут. Мир вокруг делался уродливым и безнадежным. Воздух – черным и жестким, как наждак. Она знала, что в таких ситуациях требуется помощь психолога. И понимала, что никто не поможет, поскольку сама была профессиональным психологом.
Утром одиннадцатого сентября две тысячи первого года Маша Григорьева, она же Мери Григ, офицер ЦРУ, доктор психологии, человек, проживший половину жизни в России, половину в Америке, проснулась в своей квартире в Гринвич-вилледж от странного, оглушительного гула. Ей показалось, что на крышу ее дома садится гигантский реактивный самолет. В доме имелся выход прямо на крышу, через чердак. Маша вскочила и, как была, в пижаме, босиком, бросилась наверх.
С крыши отрывался вид на Манхэттен. Маша видела своими глазами, как выпрыгивали люди из окон, как рушились башни торгового центра, краса и гордость Америки, знаменитые небоскребы-близнецы. Потом еще долго воздух оставался черным, и ничто не могло перебить мерзкого сладковатого запаха. Маше казалось, что ее квартира, салон машины, одежда и даже кожа пахнут этой гарью.
И вот сейчас Москва, окруженная горящими лесами и торфяниками, пахла примерно так же. Впрочем, ничего странного. Просто гарь и духота мутили мозги и навевали жуткие воспоминания.
Маша Григорьева родилась в Москве, в 1972 году. Ее отец служил в КГБ, во внешней разведке. Родители развелись, когда ей исполнилось семь. Мама вышла замуж за известного артиста. Папа женился на своей коллеге, был направлен в Вашингтон, в посольство. В 1984-м он сбежал к американцам и стал работать на ЦРУ. Маша, разумеется, ничего об этом не знала. Она жила с мамой и маминым мужем. Артист любил выпить, мог пьяным сесть за руль. Однажды это кончилось катастрофой. Маша осталась сиротой, с ней произошло много всего плохого.
В 1986-м ее родному отцу Андрею Евгеньевичу Григорьеву удалось за большие взятки, с помощью Международного Красного Креста, вывезти ее в Америку. Она стала стопроцентной американкой, закончила Гарвард и школу ЦРУ. Шеф ее отца, глава русского сектора ЦРУ Билли Макмерфи, который с самого начала принимал активное участие в судьбе девочки, взял ее к себе на работу.
Два года назад Макмерфи отправил Машу в Москву.
Самое значительное американское лобби в российском парламенте представляла фракция «Свобода выбора». Возглавлял ее Евгений Николаевич Рязанцев. В этого политика и его партию было вбито много американских денег. В мае 2000 года американский политолог Томас Бриттен, работавший в пресс-центре «Свободы выбора», «официально числившийся постоянным консультантом по связям с общественностью, был убит в Москве, и не просто убит, а вместе с пресс-секретарем Рязанцева, Викторией Кравцовой, в ее квартире, в ее постели.
Томас Бриттен был офицером ЦРУ. Виктория Кравцова – последней любовью политика-демократа, вскормленного американскими деньгами.
Мери Григ неофициально принимала участие в расследовании, вытягивала из депрессии Евгения Николаевича Рязанцева и временно взяла на себя функции его пpecc-секретаря.
Убийца был найден. Предполагалось, что Маша останется в Москве на несколько лет и заменит Бриттена. Но случилось так, что на нее вышел бывший шеф ее отца, генерал ФСБ Всеволод Сергеевич Кумарин, давний противник Билла Макмерфи. Офицер Григ обязана была сообщить об этом контакте. Ее тут же отозвали домой, в Нью-Йорк.
Следующие два года она занималась рутинной кабинетной работой. Ее ввели в группу аналитиков, которые пытались прогнозировать политическое будущее России.
Маше приходилось проводить многие часы перед экраном телевизора, сидеть в Интернете, читать огромное количество российской прессы.
Главная задача группы сводилась к тому, чтобы определить первую тройку будущих лидеров оппозиции, назвать имена людей, которые имеют реальные шансы через несколько лет стать значимой общественно-политической силой. Но чем больше работали аналитики, тем дальше уходили от решения задачи. Никто не мог с уверенностью назвать ни одного имени. Получалось, что сегодня в России нет авторитетов, даже само это слово вызывает ассоциацию исключительно с уголовниками.
Однажды, наблюдая на экране потную беготню участников очередного экстремального шоу, Маша обратила внимание на ведущего. Это был человек-брэнд, человек-коммерческий проект. Звали его Владимир Приз. Фамилия настоящая, не псевдоним. На вид лет тридцать. Весь жилистый, крепкий, подвижный. Мужественная открытая физиономия, темные волосы, голубые глаза, ясная улыбка. Профессиональный актер Приз, снявшийся в нескольких боевиках, отлично смотрелся на экране. Казалось, прикажи он игрокам встать на четвереньки и захрюкать или броситься со скалы без страховки, и они с восторгом сделают это.
Потом она увидела его же на церемонии вручения одной из главных телепремий года. Премировали сериал, в котором Приз сыграл главную роль. Когда раскрыли конверт с именем победителя по номинации «лучшая операторская работа», на сцену вместо названного оператора поднялась пожилая женщина, одетая слишком просто для такого торжества. Она быстро подошла к ведущему и что-то прошептала ему на ухо. Ведущий смутился, помрачнел и долго откашливался, прежде чем начал говорить.
– Друзья мои! Только что стало известно, что наш уважаемый и любимый Федор Владимирович скончался от острой сердечной недостаточности.
В зале повисла тишина. Оператор многие годы проработал на киностудии «Мосфильм», снял несколько десятков фильмов. У него любили сниматься все звезды, сидевшие в этом зале. Телекамера медленно заскользила по рядам. Кто-то сидел с ошеломленным застывшим лицом, кто-то плакал. Грохнуло несколько стульев. Один за другим люди стали подниматься, чтобы почтить память. В центре третьего ряда сидел Приз. Развалившись, он энергично двигал челюстями, жевал жвачку. Глаза его были пусты и прозрачны. Камера задержалась на нем довольно долго.
После минуты молчания церемония продолжилась, но уже не так весело. Вскрытие конвертов и награждение победителей чередовалось с концертными номерами. Сатириков и куплетистов на сцену больше не выпускали. Широкоплечая танцовщица с толстой длинной шеей и маленькой змеиной головкой исполнила эротический танец под «Реквием» Моцарта. Белокурый тенор в парчовом фраке, с конусообразным лицом и такими же ляжками спел арию Ленского перед дуэлью. Аплодисменты звучали вяло. Победители в разных номинациях уже не улыбались и не шутили, получая награды. Каждый считал своим долгом сказать несколько печальных добрых слов об умершем операторе.
Камера постоянно фиксировала энергичные челюсти и прозрачные глаза Приза. Наконец настала его очередь. Его объявили победителем по номинации «лучшая мужская роль». Он взбежал на сцену легко, пружинисто, просиял улыбкой, рассказал, как счастлив, как все классно, и скоро наше кино станет самым лучшим кино в мире. Он смачно расцеловал красотку, которая вручала ему награду, и похлопал ее по попе. Жест, более уместный в деревенской пивной, чем на сцене одного из самых солидных клубов Москвы. Но все остались довольны. Девушка в ответ радостно захихикала. Волна облегчения и благодарности пробежала по залу. Публика ожила, кто-то с галерки крикнул «Уау!». Праздник опять стал праздником. Сразу после Приза на сцену выскочил жирненький куплетист в кружевном женском белье и, приплясывая, запел под гармонику. Зал покатывался со смеху.
Маша стала целенаправленно отслеживать все, что касалось Вовы Приза. Читала его интервью, смотрела сериалы, ток-шоу и телеигры с его участием. Параллельно она взялась за изучение разных молодежных групп, формальных и неформальных. Во всем этом бодром хаосе не было ничего нового и ничего опасного. Но если появится магнит и создаст центростремительное движение, если кому-то удастся объединить под своим флагом энергичные стада молодежи, они превратятся в серьезную силу. Сегодня они просто орут, хулиганят, устраивают уличные побоища. Общество никак на них не реагирует. Но стоит только сказать им «Ату!», и что они натворят, страшно представить. При известном российском бардаке завтра они могут добраться и до ядерного оружия.
Эти мрачные прогнозы аналитик Мери Григ выдавала своему руководству без всякой радости.
– Нет такого магнита, – возражало руководство, – нет ни идеологии, ни конкретного человека, ничего, что могло бы объединить разрозненные группировки в единую структуру.
Маша долго не решалась произнести вслух то, о чем думала постоянно. Она боялась стать посмешищем. И все-таки однажды, в запале очередного спора, назвала имя: Владимир Приз.
В ответ она получила именно ту реакцию, какую ожидала: «Этот актеришко? Этот мачо? Он наглый мальчишка с симпатичной мордой, не более. Он никогда не полезет в политику».
Над ней смеялись: она вычислила будущего русского фюрера, но сегодня это не актуально. Однако сказать, что же актуально, назвать хотя бы одно альтернативное имя никто так и не сумел.
Проплаченные кумиры, искусственно раздутые люди-брэнды вызывали временный ажиотаж, нездоровое любопытство публики. Но им не верили, их не любили. Стоило им исчезнуть с телеэкрана, их забывали. Однако, если они застревали на экране слишком долго, появлялись слишком часто, их лица надоедали. Единственным исключением был Вова Приз. Он не надоедал. Популярность его росла. Он сумел стать точкой пересечения больших денег и большой народной любви.
Роли на политической сцене были давно распределены. Резонеры, злодеи, шуты, плуты, комические вояки, ледяные жлобы, веселые гуляки-пофигисты. Они успели по двадцать раз переругаться, примириться, прокрутить свои балаганные интриги. Они устали от вечных повторений. Они смертельно надоели друг другу и публике. Стало модно привлекать в политические структуры звезд эстрады и шоу-бизнеса. Весной 2002 года Владимир Приз вступил в партию «Свобода выбора». Это было выгодно и партии, и ему.
В начале лета в России довольно вяло развернулась кампания по слиянию трех оппозиционных партий и выдвижению единого кандидата от оппозиции. Вова Приз стал рекламным лицом партии «Свобода выбора». Пожилой вялый Рязанцев заметно проигрывал на его фоне.
От Маши сначала потребовали подробного доклада об этом мачо. Затем предупредили, что в августе ей предстоит отправиться в Москву.
– Знакомиться с Призом? – уточнила она. В ответ раздался веселый смех, хотя ничего смешного она не сказала.
– Нет, – объяснили ей, – как и в прошлый раз, главная ваша задача – господин Рязанцев.
Она прилетела в Москву вчера вечером, никому не стала звонить, решила для начала отоспаться. В отличие от прошлого раза, поселили ее в удобной двухкомнатной квартире, в Шмитовском проезде, неподалеку от Краснопресненской набережной. Утром Маша отправилась бегать по бульвару. Она бежала медленной рысцой и думала о том, что партии могут и не объединиться. Их лидеры слишком долго и усердно поливали друг друга грязью. Они перегрызутся, продолжая сводить счеты и решая, кто станет главным. В принципе, если объединение состоится, главным обязан стать господин Рязанцев. В него вложено много американских денег. Его партия существует под контролем ЦРУ, возглавляемая им думская фракция – американское лобби в российском парламенте. Но у господина Рязанцева опять депрессия. Задача офицера ЦРУ, психолога Мери Григ определить, насколько глубок кризис, способен ли Рязанцев выйти из депрессии и продолжить работу. Или это конец его политической карьеры, и надо искать замену.
– О, черт!
Маша поскользнулась и чуть не упала. В нос ударила вонь. Прямо посреди аллеи кто-то навалил кучу, и Маша умудрилась наступить. Морщась, она перешла с аллеи на травку и принялась вытирать подошвы.
«Вот и побегала. Вот тебе и первое московское утро. Прелестное начало. Нет, правда, прелестное! Было бы значительно хуже, если бы это оказалось взрывное устройство», – утешила себя Маша и, кое-как очистив кроссовки, огляделась.
На самом деле, в парке было красиво. Розовая дымка придавала чахлым городским тополям и липам нечто таинственное, сказочное. В голове, конечно, муть, соверт шенная каша от недостатка кислорода, зато какое чудо это матовое утреннее солнце. На него можно смотреть, не щурясь.
За кустами раздался бодрый топот. Кто-то бежал по аллее. Было слышно тяжелое дыхание. Внезапно топот прекратился. Молодой мужской голос совсем близко произнес сквозь одышку:
– Стой, блин, у меня шнурок развязался!
– Твою мать! Давай быстрей!
Двое остановились в метре от Маши. Ей совершенно не хотелось, чтобы они ее увидели. Она замерла за кустами и только слегка переместилась, чтобы посмотреть на бегунов. Возможно, это и есть авторы кучи дерьма. Впрочем, какая разница? Может, дерьмо вовсе собачье, она ведь не специалист.
Юноши были накачанные, бритые наголо. На обоих черные боксерские майки и черные широкие трусы до колен. Маша разглядела профиль того, который наклонился, чтобы завязать шнурок. И еще она успела заметить наколку у него на плече: мертвая голова, крупный, размером с большую грушу, череп. Второй качок стоял спиной, чуть дальше. На его плече темнело пятно, наверное, такой же череп.
«Точно, дерьмо – их работа, – зло подумала Маша, – гады, ненавижу!»
Качки убежали. Впереди был длинный, тяжелый день. Первый день в Москве. Маша перевела дыхание и продолжила чистить подошвы.
Ничего страшного. Наоборот, все отлично. Надо уметь радоваться жизни и быть счастливой хотя бы оттого, что под ногами оказались какашки, а не взрывчатка.
Часть пути до выхода из парка она решила пройти по траве, параллельно аллее, чтобы окончательно очистить кроссовки. Туман был настолько густой, что она видела перед собой метра на три, не дальше. Впереди, где, по ее расчетам, кончался травяной газон и шли кусты, отгораживающие его от асфальтовой аллеи, она заметила какой-то транспарант, высотой метра в два. Это был кусок фанеры, прибитый к палке. На белом фоне гигантские красные буквы: «БЕЙ ЖИДОВ!» Внизу кривая свастика.
«Здрассти вам! – рявкнул кто-то в голове у Маши чужим противным голосом и тут же добавил: – Стой, где стоишь!»
В Нью-Йорке Маша видела в новостях пару подобных сюжетов. Первый такой транспарант появился на Киевском шоссе, в нескольких километрах от Москвы. Молодая женщина остановила машину, чтобы убрать эту гадость, и подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Это передали все информационные агентства. Милиция и ФСБ выступили с невнятными заявлениями о несовершеннолетних хулиганах, которые, безусловно, будут пойманы и наказаны, но никакой серьезной террористической организации за ними не стоит. Смелая женщина, к счастью, выжила. Потом появились сразу пять таких транспарантов, тоже на трассах у кольцевой дороги. Два из них оказались заминированы. Однако никто не пострадал.
Мобильный телефон был прикреплен к поясу шортов.
Маша позвонила в милицию. Пока она ждала приезда группы, у нее за спиной послышался шорох. Прямо на нее шла дворничиха с метлой.
– Ой, батюшки! Это чего ж такое?
– Стойте! Дальше нельзя! Сейчас приедет милиция, – сказала Маша.
Надо отдать им должное, группа явилась быстро, сработала толково и оперативно. Под транспарантом оказалось самодельное взрывное устройство, довольно мощное. Маша подробно описала двух бритоголовых качков и оставила милицейскому капитану номер своего мобильного.
« Вот тебе и Москва, – повторяла Маша, стоя под про-хладным душем, – вот тебе и прелестное начало дня».
* * *
Пахло гарью. Небо стало черным. Василиса с трудом поднялась и тут же упала. Ноги затекли, она их почти не чувствовала. Часов она не носила и понятия не имела, который час. Было светло, несмотря на черноту неба. Над противоположным берегом реки Кубрь, над кромкой леса, висел жемчужно-розовый солнечный диск. У Василисы слезились глаза, щипало в носу. Она чихнула и пришла в себя.
Сколько она проспала? Как могло случиться, что она заснула у реки, в кустах дикой малины? Она собиралась отсидеться, дождаться, когда уедут страшные чужие мужики, и вернуться к своим, с трофеем, с бутылкой колы. Но бутылка оказалась пустой. Василиса нечаянно опрокинула ее, незакрытую.
Там, где должны были ждать ее Гриша, Оля и Сережа, чернели клубы дыма. Корпуса полыхали открытым пламенем.
Она все-таки встала, на ватных ногах сделала несколько шагов по песку, к воде, ополоснула лицо, промыла глаза. Вода была почти горячей и тоже пахла гарью. Дым становился все гуще. Сквозь мрак виднелась фигура девочки с мячом, объятая пламенем. Причудливая игра огненных бликов делала мертвый гипс подвижным и живым. Минуту Василиса с ужасом смотрела на скульптуру и вдруг стала задыхаться, словно от приступа астмы. Она потеряла равновесие и упала. Несколько метров проползла по песку, вздрогнула, наткнувшись ладонью на что-то твердое, сжала кулаки, стиснула зубы, пытаясь справиться со страшным искушением просто заорать, забиться в дикой безнадежной истерике. Так, со сжатыми кулаками, зажмурившись, она невероятным усилием воли заставила себя опять подняться на ноги.
Когда ужас немного отпустил, она открыла глаза, медленно втянула ноздрями горький едкий воздух, разжала кулаки. На правой ладони, в горсти горячего песка, тускло блеснул кусок металла.
Это был перстень с печаткой. Василиса вдруг отчетливо вспомнила крепыша купальщика. Наблюдая за ним, она машинально отметила, как он стянул что-то с пальца левой руки и положил в карман джинсов. Снял кольцо, но не снял часы. Наверное, они водонепроницаемые. С ними ничего не случится. А кольцо может соскользнуть в воде.
Ей захотел ось тут же закинуть перстень подальше, она уже замахнулась, подняла руку, но в последний момент стиснула пальцы.
«Это может быть улика, все сгорит, ничего не останется, их никогда не найдут».
Надежней всего было надеть перстень. Он оказался не таким уж большим и со среднего пальца правой руки не сваливался.
Внезапно ее будто шарахнуло током, дрожь пробежала по телу. Ей показалось, что рядом опять стреляют, причем звучат не отдельные выстрелы, а очередь. Но нет, это просто что-то там лопалось и трещало от огня. Рухнула крыша дальнего корпуса. Сноп искр взметнулся высоко в черное небо. Василиса решилась взглянуть сквозь дым, туда, где горело сильней всего. Там полыхал уже не только деревянный корпус, но и деревья. Несколько сухих старых берез были похожи на гигантские факелы, окруженные снизу дрожащими кругами из мелких язычков пламени. Круги расширялись, росли на глазах. Вспыхивали ветки, тлела и трещала трава.
Василиса глубоко вздохнула, собралась с силами и попыталась крикнуть: «Гриша!» Но в горле першило, никакого звука не было. Все заглушал треск горящего леса, она не услышала даже собственного надрывного кашля.
Ни о чем больше не думая, задыхаясь от дыма и слез, она пошла прочь, вдоль берега реки. Кустарник подходил вплотную к воде, ноги по щиколотку увязали в прибрежном теплом иле. Надо было идти быстрей, но не получалось. Ей стало казаться, что она вообще не продвигается вперед. Сколько она ни шла, треск за спиной не делался тише. Огонь догонял ее. Василиса боялась оглянуться и постоянно кашляла от дыма. В какой-то момент ей послышался новый звук, громкий рокот мотора. Сначала она решила, что все-таки добралась до шоссе, однако потом сообразила, что звук идет от реки. Она как раз подошла к излучине и не могла видеть, что там, за поворотом. По движению воды, по зыбким расходящимся полосам она догадалась, что это катер, и уже хотела крикнуть, замахать руками. Но вместо крика из горла вылетел слабый неслышный хрип, а стоило взмахнуть руками, и Василиса потеряла равновесие, свалилась в высокую острую осоку, лицом в ил.
* * *
Нельзя оставлять трупы с пулями внутри. Нельзя оставлять живых свидетелей. Нельзя возвращаться туда, где наследил. Тем более глупо возвращаться, когда там все полыхает открытым пламенем. Но фаланга левого мизинца покраснела и стала зудеть.
Перстень был его единственным талисманом. Он ничего не носил на шее, на запястье надевал только платиновый «Роллекс». Он не терпел побрякушек, не верил в обереги и прочую мистику, но за своим перстнем готов был полезть в огонь и в воду.
Оружие благополучно довезли и разгрузили. Временным пристанищем нескольких гаубиц, ящиков с гранатами и прочего железа послужил просторный подвал дачи, которая когда-то принадлежала родному дяде Шамана, а теперь стала его собственностью вместе с участком в пятнадцать соток, добротной банькой, бассейном и теннисным кортом. Безусловно, прятать там железо было рискованно, и если бы не пожары, Шаман никогда бы не пошел на это. Но в сегодняшней ситуации более надежного места он придумать не мог, к тому же представить, что кто-нибудь нагрянет туда с обыском, было практически невозможно.
Лезвие, Миха и Серый завалились спать. Шаман спать не хотел, но чувствовал себя разбитым. Мысль о перстне не давала покоя. После контрастного душа, плотного завтрака и крепкого кофе он немного посидел в одиночестве на веранде. Из-за смога окна были закрыты. Мощный кондиционер, как мог, охлаждал воздух. На журнальном столе лежали паспорт и студенческий билет. С билетом все было ясно. Он принадлежал студенту второго курса медицинского института Королеву Григорию Николаевичу, 1984 года рождения, тому самому парню, который наткнулся на мертвого бомжа и был убит первым. Что касается паспорта, тут возникали неприятные сомнения.
Грачева Василиса Игоревна, 1985 года рождения, внимательно смотрела на Шамана с маленькой черно-белой фотографии. У нее были большие круглые глаза, широкие черные брови. Темные волосы гладко зачесаны назад, чистое маленькое лицо открыто и не накрашено.
Шаман разглядывал паспортную фотографию и пытался вспомнить убитую девицу. Перед ним вставал совсем другой образ. Взлохмаченные желтые волосы, круглые щеки, тонкие брови. Василиса Грачева получила паспорт в 2000-м. Ей было пятнадцать, то есть прошло два года. Девицы в этом возрасте любят экспериментировать со своей внешностью. Она могла подстричь и перекрасить волосы, выщипать брови, похудеть или поправиться. Могла надуть себе губы силиконом до негритянской пухлости. Что касается глаз, то спросонья, да с похмелья, они отекают, меняют форму.
Шаман привычным жестом прикоснулся к фаланге левого мизинца и честно признался себе, что потеря перстня тревожит его значительно больше, чем проблема с Грачевой Василисой Игоревной. Даже если было две девицы, то вторая вряд ли видела кого-то. Она могла слышать голоса, стрельбу, но видеть – нет. В противном случае кто-нибудь из них четверых непременно бы ее заметил.
– Дел много, времени мало, – произнес Шаман и резко поднялся с кресла.
Через десять минут самая неприметная из трех его машин, темно-синяя маленькая «Мицубиси», катила по пустынному шоссе. Маршрут он продумал заранее и аккуратно сверился с картой.
Река Кубрь была тощая, но длинная. Она тянулась на многие километры, сливалась с Румяным озером и текла дальше, на северо-запад. Румяное озеро находилось всего в десяти километрах от поселка Временки, то есть от дачи Шамана. На берегу озера был небольшой яхт-клуб, там давали напрокат яхты и катера.
Самый банальный камуфляж —джинсовая кепка, темные очки, накладные усы сделал Шамана неузнаваемым. К клубу он не стал подъезжать на машине, оставил ее на парковке у придорожного кафе. Вместо паспорта в качестве залога вручил парню, выдающему катера, две купюры по сто долларов.
– Там дальше все горит, – равнодушно предупредил парень.
– Ну, вода пока не закипела, – ответил Шаман.
Оказавшись на реке, в полном одиночестве, он стал тихо напевать: «Лютики-цветочки у меня в садочке». Он с детства любил эту песню. Ее постоянно пел дядя, шикарный драгоценный дядя Жора, генерал-майор военной авиации. Он был жизнелюб, шутник и обжора, ни в чем себе не отказывал. Умер красиво, по-купечески, в возрасте семидесяти лет. На масленицу обожрался блинами с черной икрой. Ел, ел, поперхнулся, закашлялся, рухнул на персидский ковер, и все. Он весил столько, что санитары долго не могли поднять на носилках его тело в светлом кашемировом костюме, заляпанном икрой и маслом. Он не имел детей и все свое имущество оставил любимому племяннику, которого много лет назад баюкал дурацкой песенкой.
Однажды, засыпая, маленький племянник спросил, о чем эта песня.
– О людях, – ответил дядя, – люди – они как лютики, слабенькие, липкие цветочки. Липкие и ядовитые. Лютик от слова «лютый».
Чем ближе подплывал катер к заброшенному лагерю, тем трудней становилось дышать. Лес вдоль правого берега еще не горел по-настоящему, но уже тлел сухой прошлогодний валежник. Катер несся на максимальной скорости, вспарывая мутную речную гладь. Из-за рева мотора Шаман не слышал собственного голоса, от дыма слезились глаза. Но он продолжал петь.
Сегодня ночью к его послужному списку прибавилось сразу шесть убитых. Это не много и не мало, не хорошо и не плохо. Дядя, человек военный, часто повторял: в отношении любого объекта сначала необходимо понять, существует он или нет. Три бомжа были несуществующими объектами. Спившиеся безобразные вонючки. А три подростка? Они оказались там, где их не должно быть. Значит, тоже стали несуществующими объектами. Они приехали, чтобы пить, курить травку, колоться. Они ядовитые лютики.
«Лютики-цветочки у меня в садочке». Они пробуют жить, и все не начинают жить, поскольку не знают, как это делается. В «лютиках» заложена генетическая программа на самоуничтожение. В какие бы условия они ни попадали, непременно изгадят окружающую среду. В принципе, их можно вообще не трогать, они подыхают сами. Но слишком медленно, и слишком много при этом вони.
Чем цивилизованней и благополучней общество, тем больше в нем лжи и лицемерия, тем безрассудней оно тратит средства на то, чтобы заглушить вонь от собственных бтбросов. Сколько денег уходит на идиотов, даунов, на сумасшедших пьяниц и наркоманов, на гниющих стариков, на всякие интернаты, хосписы и лепрозории? При одной только мысли об этом Шамана тошнило. Жизнь слишком коротка, чтобы врать. В истории человечества существуют примеры здоровых, развитых и свободных от лицемерия обществ. Древняя Спарта, Римская империя, Третий рейх, коммунистическая Россия. Там слабые рационально использовались и уничтожались, сильные жили в свое удовольствие.
Сейчас в России выросло и окрепло поколение молодых людей, для которых главная ценность – они сами. Их не проведешь на мякине, не утопишь в соплях. Они знают, чего хотят, и своего не упустят. Они не корчат постных рож на чужих похоронах и, говоря о деньгах, никогда не добавляют, потупившись, что дело вовсе не в деньгах.
На них можно опереться. Они свободны от гнилой рефлексии. Они не подведут.
Конечно, такие люди были всегда, но им приходилось притворяться, изображать паинек, зайчиков, лютиков, разыгрывать любовь к младенцам и старушкам, уважение к научно-академическим придуркам, которые считают себя гениями оттого, что тратят собственную жизнь и государственные деньги на изучение амебы или черепков от ночного горшка тысячелетней давности. Но теперь с этим покончено. Общество созрело, чтобы стать здоровым и гармоничным. Для его разумного переустройства не надо никаких революций. Революции, как известно, плохо кончаются и пожирают своих детей. Нужны, во-первых, деньги, и во-вторых – тоже деньги. А в-третьих – надо до конца прокрутить известный «принцип худшего» Макиавелли. Общество должно озвереть от преступности, наркотиков, от бардака во всех областях жизни. Люди-лютики обязаны осознать собственное убожество и возненавидеть власть, которая не может и не желает их защищать, кормить, лечить, обеспечивать счастливое детство и спокойную старость.
Риторические упражнения помогали Шаме справляться с дурным настроением не хуже, чем песенка про лютики. Он плохо учился в школе и в институте, с трудом мог осилить более двух страниц текста, не отвлекаясь. Историю Шама знал по голливудскому кино. Литературу и философию – по хлестким цитатам и крылатым выражениям, которые употреблялись в телевизионных ток-шоу. Собственные рассуждения о правильном и неправильном устройстве общества казались ему абсолютно свежими и оригинальными. Что касается Никколо Макиавелли, то имя это он слышал от дяди-генерала, а тот, в свою очередь, от Юрия Андропова. А слово «рефлексия» ему просто нравилось, но он не понимал, что оно значит, поскольку не имел привычки заглядывать в толковые словари.
Шама был девственно, стерильно необразован, однако это не мешало ему быть умным, бодрым и хитрым. В определенном смысле это даже помогало. Чем больше человек знает, тем сильней сомневается в своей компетентности и в своей правоте.
Шама не ведал сомнений. Шама был всесилен и очень умен, прежде всего потому, что никогда не оставлял за собой трупов с пулевыми ранениями, не возвращался туда, где наследил, и свои социально-философские теории озвучивал только в узком кругу единомышленников, которые учились еще хуже, чем он, и слушали его, не перебивая.
Он любил, когда его слушают, когда на него смотрят. Еще в раннем детстве ничто так не оскорбляло Шаму, как равнодушные, скользящие мимо взгляды. Если его не замечали, он бесился, все в нем кипело, бурлило, кровь приливала к лицу, кулаки сжимались. Ему хотел ось убить тех, кто на него не смотрел, кто пренебрегал им. Желание впечатлять оставалось единственной его слабостью и неутолимой страстью. Всегда, при любых обстоятельствах, вопреки здравому смыслу, он не забывал любоваться собой и работать на публику, даже если эта публика состояла из одного зрителя.
То, что мальчик, наткнувшийся в кустах на мертвого бомжа, мгновенно узнал Шамана, было важно. Среди всех бурных событий прошедшей ночи искреннее, удивленное восклицание «ВЫ?!» оставило в душе Шамы приятный, полезный для здоровья след.
Чем ближе он подплывал к маленькому песчаному пляжу, тем гуще был дым и ярче огненные блики. Языки пламени отражались в реке, расходились ровными волнами от катера. Это выглядело классно, как в кино. Помня о коварстве угарного газа, он прихватил с собой респиратор, небольшой легкий намордник, который мог временно защитить от вредных воздушных примесей. Такими намордниками он и его товарищи пользовались, когда приходилось испытывать на бомжах-вонючках новые виды газового оружия.
Наконец он причалил к пляжу, привязал катер к столбу, оставшемуся от старого забора. Следовало спешить. Вокруг пляжа было несколько сухих деревьев, они могли в любой момент вспыхнуть и рухнуть. Шаман стал ориентироваться по следам. Поскольку кроме него на этом пляже никого не было, оставалось просто пройти до того места, где он раздевался. Кольцо могло лежать только там. Скорее всего, оно выпало из кармана, когда он натягивал джинсы.
На ровной, бархатной поверхности песка он увидел четкие отпечатки подошв своих кроссовок и босых ног, заметил глубокие крупные вмятины там, где раздевался и оставлял джинсы. Опустившись на колени, он принялся шарить по песку, перебирать его, пересыпать в ладонях.
Дым ел глаза, слезы мешали видеть. Темно-серебристый блеск то и дело мерещился ему в гуще влажных песчинок. Он уже понял, что перстня нет, но продолжал искать. Раздражение и злость высушили слезы. На несколько минут зрение его стало острым, как у ночного животного. Рядом с собственными следами он заметил другие, маленькие аккуратные отпечатки босых ног, детских или девичьих. Они были беспорядочно разбросаны по пляжу, чередовались с глубокими вмятинами от локтей и колен, вели к воде, от воды, к тому месту, где он сейчас искал свой перстень, и наконец уходили вправо, к зарослям дикой малины.
– Грачева Василиса Игоревна, – тихо, задумчиво произнес Шаман, поднимаясь на ноги.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Что-то неприятное было в этой маленькой сине-розовой гостинице. Розовые стены, :иние диваны и кресла в фойе. Розовое на умяненное лицо и синие волосы девушки-портье за стойкой. Вазочка с бесплатными карамельками для гостей, тоже розовая, с синими цветочками.
Гостиница называлась «Манхэттен» и находилась напротив вокзала, в центре Франкфурта-на-Майне. От вокзальной площади к финансовому сердцу города, Маленькому Манхэттену, району небоскребов, банков и офисов, шло сразу три улицы, и все арабские. Множество магазинов с коврами и дешевым золотом, мини-маркеты, где любая вещь стоит не дороже трех евро. Фруктовые лавки с горками орехов и штабелями из напудренных кубиков рахат-лукума. Подозрительные темные кофейни, где курят кальяны с дурманящими добавками и за небольшую плату в отдельных кабинетах можно получить массу разнообразных удовольствий.
Несмотря на близость вокзала и дешевые соблазны, здесь было мало народу. После известных событий 11 сентября немцы бойкотировали арабские районы. Из-за этого бойкота, а также из-за частых полицейских облав закрывалось множество бизнесов.
Гостиница «Манхэттен» стояла почти пустая. Для людей среднего достатка она была дорогой. Для богатых недостаточно удобной и престижной. Своих четырех звезд она не оправдывала. В общем, так себе отельчик. Зато никаких прослушек, видеокамер и прочих пакостей.
Андрей Евгеньевич Григорьев прилетел вечером из Нью-Йорка, страшно устал от перелета. Он давно не путешествовал, надеялся, что поездка в Германию его взбодрит, но пока получалось наоборот. Все раздражало. Во-первых, ни в аэропорту, ни тем более в самолете нельзя было курить. Во-вторых, пришлось провести в очередях на досмотр в общей сложности часа четыре. Досматривали тщательно, но бестолково. У Григорьева отняли маникюрные ножницы. У пожилой дамы, которая проходила перед ним, – пинцет для бровей. А потом, в международной зоне, какой-то пьяненький русский с нервным смехом рассказывал, что эти лохи даже не заметили у него в кейсе старинный осетинский кинжал, который он за дикие бабки купил на Брайтоне и вывозил без всякого особого разрешения. Он не постеснялся тут же, во фришопе, продемонстрировать свое приобретение.
Франкфурктский аэропорт оглушил Григорьева. Густая толпа вынесла его в гигантский зал прилетов, где крутились и грохотали чемоданами больше ста багажных лент. У стоянки такси выстроилась длинная очередь. В городе открывалась очередная международная ярмарка.
Андрея Евгеньевича не покидало чувство бессмысленности, какой-то любительской театральности затеи с его прилетом в Германию. Ему было слишком много лет, чтобы играть в шпионские игры. Его дело – сидеть дома, в тишайшем уголке Бруклина, цедить информацию из разных источников, копаться в ней, анализировать, делать выводы, выстраивать прогнозы. Однако на этой поездке настаивали сразу два его руководителя: глава русского сектopa ЦРУ Билл Макмерфи и генерал ФСБ, глава Управления Глубокого Погружения Всеволод Сергеевич Кумарин. У каждого были на то свои причины.
Официально Андрей Евгеньевич Григорьев являлся бывшим полковником КГБ, который сбежал к американцам и стал сотрудничать с ЦРУ. Почти двадцать лет назад его на родине приговорили за это к расстрелу. На самом деле полковник Григорьев все эти годы продолжал работать на Россию. То есть на Управление Глубокого Погружения, на загадочную структуру, которая зародилась в недрах КГБ незадолго до развала СССР, до сих пор существовала вполне успешно и умудрялась держать под своим контролем если не всю финансово-политическую систему России, то хотя бы часть этой системы.
После американской катастрофы 11 сентября прошел почти год, но реальные организаторы так и не были обнаружены. Рассматривалось 47 тысяч версий и сигналов с мест, множество психов рвалось взять на себя вину либо выступить в роли свидетелей. Все оказывалось блефом, тупиком. Поисками, прямыми и косвенными, занимались спецслужбы, не только США, но и Европы, и даже России. Каждая очередная порция информации еще больше запутывала расследование.
За два дня до катастрофы между Григорьевым и Макмерфи произошел забавный разговор. Они ужинали в итальянском ресторане в Манхэттене. Макмерфи, ловко наматывая спагетти на вилку, рассуждал о том, что во всех нынешних бедах России виноват КГБ.
– Знаешь, Эндрю, все эти липовые фирмы в оффшорных зонах, открытые КГБ в начале девяностых, они вроде черных дыр втянули в себя Россию. Им за копейки продавали нефть, лес, металл, а они перепродавали это добро по нормальным рыночным ценам. Прибыль получалась колоссальная. Но им все было мало. Они постоянно вели двойную игру. Вычисляли воров и бандитов, но вместо того, чтобы судить и наказывать, шантажировали их, теснились у их воровских кормушек. Они породили монстра под названием российский криминальный капитализм. Им казалось, что, участвуя в отмывании и перекачивании криминального капитала, они контролируют процесс. На самом деле они питали эту черную стихию, и стихия их всосала, как воронка.
– Они питали самих себя, – сказал Григорьев и отправил в рот розовый, нежный кусок лососины.
– Ну да, – радостно кивнул Макмерфи, – я об этом и говорю. Обжорство, как известно, ни к чему хорошему не приводит. В итоге они разрушили собственную структуру. В России сейчас нет реальной силы, способной противостоять криминалу. Заказные убийства, взрывы жилых домов, дикий разгул экстремизма. Кто за этим стоит? Чеченцы? Олигархи? Воровские авторитеты? МВД? ФСБ? Криминальные сообщества? – Макмерфи сердито помотал головой. – Вот что я тебе скажу, Эндрю. В конечном счете не важно, кто за этим стоит. Важно, что остановить это некому. И я не удивлюсь, если завтра в утренних новостях услышу, что взорвали Кремль!
Билли, конечно, был пьян. Но Григорьев все равно на него разозлился. Его тоже слегка повело от кьянти, воображение разыгралось, он вдруг ясно представил кошмарную картину – взрыв Кремля. И неожиданно для самого себя выпалил:
– А я не удивлюсь, если завтра кто-нибудь взорвет Пентагон и Манхэттен!
В ответ Макмерфи весело рассмеялся.
Этот разговор происходил вечером девятого сентября. Одиннадцатого сентября, почти одновременно, четыре пассажирских самолета врезались в небоскребы на Манхэттене и в Пентагон. Погибло более семи тысяч человек.
У Билли Макмерфи случился инфаркт. Через неделю Григорьев навестил своего шефа в госпитале ЦРУ. Бледный, отечный, постаревший Билли, едва увидев Андрея Евгеньевича на пороге палаты, приподнялся на подушках и с хриплым пафосом произнес:
– Я тебя ненавижу, Эндрю! Я тебя когда-нибудь убью!
«Может, он меня отправил сюда, во Франкфурт, потому что всерьез решил убить?» – кисло пошутил про себя Григорьев, заполняя гостиничный бланку стойки портье.
* * *
Василиса уже не пыталась позвать на помощь. Звук мотора таял и вскоре совсем исчез. Катер проплыл мимо, вокруг опять ни души. Ни одного живого движения и звука. Только упрямое потрескивание вспыхивающей древесины, дрожь языков пламени и черное ядовитое дыхание дыма. Сил хватило на то, чтобы приподнять голову, глотнуть воздуха и перевернуться на спину. Надо было встать и идти, но так хотелось полежать еще немного, не двигаясь. Если закрыть глаза, можно представить, что лежишь не в злом горящем лесу, а дома, в своей комнате, на лохматом мягком коврике.
«Я посплю капельку, – сказала себе Василиса, как говорила совсем недавно, когда ночами готовилась к экзаменам, – я только на минуту закрою глаза, а потом встану, и вперед».
Дома, ночами, каждый раз получалось, что спала она долго и ничего не успевала. Не помогали ни кофе, ни чай. От холодного душа знобило, несмотря на жару. Она садилась за стол, сжав ладонями виски, читала вслух главы из учебников, зубрила английские «топики», но уставала шея, она опять укладывалась пузом на коврик, с книжкой, и минут через тридцать шептала: «Я посплю капельку».
У нее была отличная память, мозги работали вполне живо. Многое она понимала и схватывала налету. Но невозможно за пару месяцев наверстать то, на что требуется два года. В десятом и одиннадцатом классах Василиса практически не училась. Она самоутверждалась. Мучительно решала для себя вопрос: красивая она или нет. Положительный и отрицательный ответы чередовались, как день и ночь.
Если посчитать, сколько времени за эти два года она провела перед зеркалом, получится кошмарная цифра. Если к этой цифре прибавить еще количество часов, проведенных в кафе, в гостях, на улице, в ночных клубах, магазинах молодежной одежды и парфюмерии, то не останется практически ничего. Конечно, в школу она иногда ходила, сидела на уроках, но мысленно плавала в странных и мутных водах своих подростковых томлений.
Жила бы она в грязной холодной коммуналке с родителями-алкоголиками; родилась бы инвалидом или, на худой конец, сильно и безответно влюбилась в какого-нибудь подонка, вероятно, было бы проще договориться с самой собой. У нее имелась бы уважительная причина для страданий. Но уважительной причины не было, а страдать хотелось. Впрочем, иногда, наоборот, хотелось бурно радоваться, скакать и вопить во всю глотку. Тоже просто так, без всякой причины.
Василиса родилась здоровой девочкой, в чистенькой двухкомнатной квартире в центре Москвы. Она была единственным ребенком. Родители очень ее любили, правда, пять лет назад они развелись, она осталась с мамой, но с папой виделась часто, он успешно занимался бизнесом и старался, чтобы девочка ни в чем не нуждалась.
Влюбиться она не могла, ни в подонка, ни в кого-либо вообще. Напряженная внутренняя борьба с ветряными мельницами собственных комплексов создавала в ее душе такой грохот и такое пестрое мелькание, что других людей она практически не слышала и не видела.
В ящике ее письменного стола лежало круглое двустороннее зеркальце, одна его сторона была с пятикратным увеличением. Василиса могла часами разглядывать свое лицо во всех подробностях, и подробности эти ее ужасали, особенно когда она сравнивала собственную физиономию с гладкими, вылизанными компьютерным способом личиками журнальных моделей.
«Господи, ну почему я такая страшная? Зачем мне жить, если я уродина? Зачем учиться, поступать в институт?»
Она находила где-нибудь на подбородке едва заметный прыщик и с яростью набрасывалась на него. Через пятнадцать минут он превращался в большую, воспаленную гадость, с которой нельзя выйти на улицу и тем более идти в школу.
Если совсем нечего было расковырять на лице, агрессия саморазрушения направлялась на килограммы веса. Василиса целеустремленно голодала, доводила себя до голодных обмороков. Но вдруг хотелось чего-нибудь вкусненького. Она украдкой от самой себя съедала булочку, шоколадку, мороженое, сначала немного, потом больше, и уже не могла остановиться. Килограммы возвращались на место. Впрочем, никто, кроме нее, этого не замечал, их было всего полтора-два, не больше, этих килограммов.
Когда она плясала на ночных дискотеках, сидела на уроках или в кафе в компании друзей, невозможно было представить, сколько шума, визга и суеты происходит в ее душе. Тоненькая, ладная, большеглазая девочка, с густыми тяжелыми волосами до пояса. Какие у нее могут быть комплексы?
«Правда, какие комплексы? Ну их к черту!» – говорила себе Василиса, возвращаясь домой на рассвете после очередной безумной вечеринки, обещая себе, что перепишет, наконец, сочинение, исправит пару по физике. Вместе с учебниками и тетрадями на столе само собой появлялось увеличительное зеркало. Все начиналось сначала. Устав от борьбы, лежа на коврике в своей комнате, Василиса виновато шептала: «Я посплю капельку».
Она засыпала крепко, видела счастливые детские сны и просыпалась другим человеком. Умывшись, глядела в зеркало в ванной и вдруг жутко себе нравилась, начинала громко петь, прыгать, танцевать. Вдохновенно наряжалась, причесывалась, рвалась вон из дома, чтобы срочно кто-нибудь ее, такую красивую, увидел и оценил по достоинству.
Ценители всегда находились. Главным из них в последнее время был некто Герман, шикарный молодой человек, почти вдвое старше нее.
Когда Василиса училась в восьмом классе, он преподавал в ее школе физкультуру. Проработал всего год. Девочки сохли по нему, учительницы приходили в школу надушенные и накрашенные, со свежими парикмахерскими укладками. Он был вкрадчиво любезен с учительницами и благоразумно не обращал ни на кого из учениц внимания. И все-таки Василиса могла поклясться, что уже тогда, в восьмом, он выделял ее, худющую, слегка дикую, из общей стаи вполне зрелых одноклассниц. Он чуть дольше, чем следовало, задерживал на ней взгляд своих узких голубых глаз и, когда страховал ее при прыжке с брусьев или через «козла», обязательно ловил, прикасался сухими горячими лапами, хотя она отлично прыгала и совершенно безопасно приземлялась.
Однажды он застал ее у зеркала в вестибюле. Вокруг никого не было, шел третий урок, Василису отпустили домой, у нее поднялась температура. Физкультурник Герман Борисович внезапно возник у нее за спиной, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга в зеркале, а потом он тихо спросил:
– Нравишься себе?
– Естественно! —Василиса щелкнула заколкой и красиво тряхнула волосами.
– Умница, – он склонился чуть ближе и, почти касаясь губами ее уха, прошептал: – Еще пара лет, и по тебе начнут сходить с ума мужики. А тетки при твоем появлении будут хвататься за своих мужей, как в рыночной толпе хватаются за сумки и карманы, опасаясь воровства.
– Это вы к чему, Герман Борисович? – Василиса развернулась, так резко, что ее тяжелые длинные волосы хлестнули его по лицу.
Он отступил и, улыбнувшись по-дурацки, промычал в ответ нечто невнятное.
Ухо и часть щеки, то место, куда он подышал, потом еще долго пылало. Она кожей вспоминала его теплое дыхание, у нее сладко ныло солнечное сплетение и щекотало в носу, как от цветочной пыльцы. Но тогда, у зеркала, в пустом гулком вестибюле, она ничем себя не выдала. Она чувствовала, что стоит поплыть, как плывут от его роскошной мужественной морды и потрясающей фигуры все остальные особи женского пола, и он перестанет выделять ее из общей массы. И еще, она понимала, что Герман, как таковой, не особенно ее интересует. Просто это отличный способ самоутверждения и лекарство от комплексов.
В девятом он уже не преподавал. Он исчез из школы, и никто не знал куда. Василиса легко и быстро о нем забыла. Но однажды случайно столкнулась с ним на улице.
Был ноябрь, шел мокрый крупный снег, у Василисы промокли ноги и от жестокого насморка болели барабанные перепонки. Ветряные мельницы внутренней борьбы крутили крыльями с невероятной силой.
Герман увидел ее из машины, остановился, предложил подвезти. Машина у него была шикарная: перламутровый, как нутро ракушки, новенький «Ауди», волшебно чистый, несмотря на глубокую слякоть.
С тех пор они стали встречаться довольно часто. Она не могла точно ответить себе на вопрос зачем. Ей нравилось собираться на эти свидания, носиться по квартире, примерять кофточки, крутиться перед зеркалом, красить губы липким розовым блеском с запахом клубничной жвачки. Нравилось впархивать в его шикарную машину. Нравилось сидеть с ним в каком-нибудь эстетском кафе, где весь дизайн сводится к извивам водопроводных труб и авангардным калякам-малякам на стенах, где орет музыка, взмыленные официанты носятся, обмотанные длинными фартуками цвета хаки. Тут же, в центре зала, повара в колпаках жонглируют пиццей и толстыми лоскутами кровавого мяса, все вокруг шипит, дымит, вопит и пахнет, так же оглушительно, как у нее в душе, когда крутят крыльями бессмысленные ветряные мельницы.
Ей не нравилось, когда он опрокидывал в машине спинки сидений и мокро целовал ее в шею и трогал, трогал своими горячими быстрыми лапами. Ей не нравилось бывать в крошечной квартире, которую он называл офисом.
Однажды, когда они кувыркались в этом самом офисе на кожаном диване, он вдруг вскочил, бросился к балкону и завопил, как сумасшедший: «Быстро, вставай, одевайся!»
Через три минуты Василиса опомнилась на лестничной площадке, двумя этажами выше. Было четыре утра.
Она услышала, как внизу открылась дверь, как женский голос произнес: «Привет. Ты здесь? А почему не позвонил?» Дверь быстро захлопнулась, Василиса побежала вниз, чтобы поскорей убраться вон отсюда, домой, но вспомнила, что ее сумочка с деньгами, ключами и мобильным телефоном осталась в квартире.
Пока она размышляла, что делать, дверь опять хлопнула. Явился Герман с ее сумочкой. Заикаясь и не глядя в глаза, сообщил, что сейчас ей нужно ехать домой. Протянул сто рублей на такси. Она не взяла. Он спустился с ней вниз, по дороге бормоча грустную историю о свирепой начальнице, пожилой даме, с которой ему приходится спать, иначе она его выгонит с работы, и он умрет с голоду. Внизу, рядом с его «Ауди», стоял красный спортивный «Пежо».
– Она забыла пакет с продуктами в машине, – объяснил Герман, глядя вверх, на окно офиса, – она сейчас в ванной, так что ты быстренько… Прости, я не могу поймать для тебя машину, не успею, но здесь нормально, не опасно. – Он даже попытался поцеловать ее и прошептал, что завтра позвонит.
Василиса еле сдержалась, чтобы не врезать ему по физиономии, и потом долго жалела, что не врезала.
Это было совсем недавно. Всего лишь неделю назад. А еще неделей раньше она завалила экзамены в университет. Самое обидное, что даже не завалила. Просто ее мама легкомысленно мало заплатила нужному человеку.
Человек этот даже намекнул Василисе по телефону, накануне последнего экзамена, что следует дать еще. Однако мама улетела в Испанию. Она служила гувернанткой в богатом семействе, воспитывала двенадцатилетнюю чужую девочку. Папа со своей новенькой женой и двумя новенькими маленькими детками отдыхал в Греции.
Что противней, провал экзаменов или Герман с его пожилой начальницей, Василиса не знала. Да это и не важно. Дня три она не вылезала из дома, под орущий телевизор валялась на своем коврике, смотрелась в кривое зеркало, пыталась читать, но строчки расплывались. Пыталась плакать, но тут же засыпала.
Наконец, проснувшись в очередной раз, вымыла голову, причесалась, оделась и отправилась шляться по душной смутной Москве, не просто так, а с конкретной целью. Ей вдруг безумно захотелось купить себе на последние полторы тысячи рублей коричневые джинсы-клеш. Но именно таких джинсов не нашла, устала, забрела в маленькое подвальное кафе на Гоголевском бульваре и познакомилась там с Гришей, а потом он познакомил ее со своими друзьями и пригласил к одному из них на дачу, в итоге они оказались в этом страшном Бермудском треугольнике.
«Я посплю капельку».
Она была уверена, что произнесла это вслух, но собственного голоса не услышала. Рядом ревел мотор. Катер возвращался. Это был последний шанс позвать на помощь. Но шевельнуться и крикнуть казалось невозможно. Она вспомнила, как Гриша пугал всех симптомами отравления угарным газом. Слабость, тошнота, головная боль. Иногда потеря сознания, вплоть до глубокой комы.
«Я капельку посплю».
Во сне она увидела Гришу. Он смотрел на нее живыми ясными глазами. Во сне она решила, что выкинет свое увеличительное зеркало. Она вполне четко увидела, как открывает ящик, достает зеркало в красивой золотистой рамке, смотрится в последний раз, и там возникает ее лицо, вернее то, что осталось от лица. Черные дыры глазниц, оскаленный рот, клочья обугленной кожи…
Василиса сначала вскочила на ноги, а потом уж проснулась и почувствовала жуткую, ни с чем не сравнимую боль. Секунду назад она дернулась во сне, вскинула руку с воображаемым зеркалом, чтобы отбросить его подальше, и задела тлеющий сучок мертвой, давно рухнувшей елки.
Наверное, она кричала. Но никакого звука не вылетело из ее горла. От этого стало совсем страшно. Надо было бежать, идти, ползти, как можно скорей и как можно дальше отсюда, пока хватит сил.
* * *
Оказавшись в крошечном гостиничном номере, Андрей Евгеньевич Григорьев скинул ботинки и рухнул на целомудренно узкую койку.
«Надо встать, открыть чемодан, принять душ, почистить зубы. Хотя бы просто раздеться и залезть под одеяло», – подумал он.
И тут же уснул.
В номере было тихо, как в пещере. Единственное окно выходило в глухой бетонный колодец. Григорьеву приснилась московская квартира, в которой четверть века назад он, молодой офицер КГБ, жил с женой и дочерью. Дочь Маша, сегодняшняя, взрослая Маша, стопроцентная американка Мери Григ, сидела на диване, поглаживая белого кота Христофора Первого. Покойный кот уютно свернулся у нее на коленях и урчал, как деревенский мотороллер. Обстановка квартиры была воссоздана довольно точно, но тени расходились неправильно, в разные стороны, независимо от направления света. Зеркало стенного шкафа отражало не книжные полки и угол дивана, а почему-то кухонный стол и разноцветные шарики люстры, которая висела за стеной, в соседней комнате. Ни один из предметов не выдерживал долгого внимательного взгляда, подтекал, оплывал и терял форму, как пластилиновая фигурка на горячей батарее. Когда явилась Катя, жена Григорьева, мать Маши, погибшая в восемьдесят пятом году, подвох стал очевиден. Катя была непомерно большая, в глухом розовом платье до пят. Ткань зыбилась медленными крупными волнами, предательски подчеркивая, что там, под ней, пустота вместо тела. Катя курила толстую сигару, чего никогда не делала при жизни. Аккуратные столбики пепла падали на клетчатый черно-белый ковер, но не рассыпались, а превращались в шахматные фигуры и выстраивались в исходную позицию для игры. Андрей Евгеньевич чувствовал, что им с Машей надо поскорей покинуть это мертвое прошлое, грубую подделку под воспоминание. Как часто случается в сновидениях, он хотел крикнуть, но из горла вылетала тишина.
Он проснулся в холодном липком поту, уставился в потолок и несколько минут лежал, не в силах шевельнуться, не понимая, где он, удивляясь, что рядом нет белого кота Христофора Второго, кровать слишком узкая, подушка маленькая и плоская, и вообще, все чужое, непривычное.
За окном сияло солнце, такое яркое, что даже каменный колодец был наполнен светом. Часы показывали девять. Сначала он подумал, что девять вечера. Но этого не могло быть. Солнечный свет вечером имеет совсем другие оттенки.
Андрей Евгеньевич прилетел в шесть, в гостиницу попал в восемь, рухнул в койку в половине девятого. Сколько же он проспал?
Во рту было противно, перед сном он не почистил зубы. Из коридора слышался гул пылесоса. Горничные громко переговаривались по-испански. Голоса приближались, наконец постучали в дверь. Не ожидая ответа, появилась темнокожая пожилая толстуха в сине-розовой униформе и на чудовищном немецком сообщила, что ей необходимо срочно проверить содержимое мини-бара.
– Позже! – невежливо рявкнул Григорьев и понял наконец, что на самом деле сейчас девять утра, то есть он проспал больше двенадцати часов.
Такого с ним не случалось лет сто. Он был старый. Старики мало спят. Он привык к своей бессоннице, привык думать ночами, а не видеть многозначительные странные сны. Горничная сердито хлопнула дверью. Андрей Евгеньевич снял с себя мятую, влажную рубашку, джинсы и прошлепал босиком в ослепительную маленькую ванную. Вид собственной опухшей бледной физиономии в зеркале заставил вздрогнуть. За ночь щеки поросли седой щетиной, остатки волос торчали короткими пегими перышками. Глаза отекли и покраснели. Минут пятнадцать, стоя в стерильной душевой кабинке, он поливался то кипятком, то ледяной водой, мыл голову миндальным гостиничным шампунем из пакетика, чистил зубы. Побрившись после душа, он почувствовал себя вполне живым, бодрым, уже не так хмуро глядел на собственное отражение.
Спохватившись, что гостиничный завтрак заканчивается через десять минут, Григорьев отправился в ресторан. По дороге его окликнул портье. Вместо вчерашней девушки за стойкой дежурил добротный пожилой толстяк, тоже сине-розовый. Лысина его напоминала шарик земляничного мороженого.
– Мистер Григорьефф! Вам послание.
Он протянул Андрею Евгеньевичу конверт из матовой серой бумаги с золотым тиснением. Внутри лежал пригласительный билет на литературный вечер, который состоится сегодня в двадцать один час в клубе «Кафка» по адресу Циммер плац, 8. Григорьев заказал его еще из Нью-Йорка, накануне отлета, через Интернет, на адрес франкфуртской гостиницы «Манхэттен».
В зале для завтраков было пусто. Официанты уже убирали еду со шведского стола. Осталось только несколько пригоревших булочек, скрюченные ломтики сухого сыра, немного йогурта на дне алюминиевого бочонка. Стаканчики для сока были размером с водочные рюмки. Кофе эспрессо – за отдельную плату.
«Все ворчишь, ворчишь. Ты просто старый и ввязался не в свое дело. Куда тебе ловить террористов? Не к лицу и не по летам!» – думал Андрей Евгеньевич, ковыряя ложкой густую красно-белую смесь фруктового компота с йогуртом.
– Почему вы не едите? Это вкусно и полезно, – послышался над ним знакомый голос. Он вздрогнул и поднял глаза.
Возле его столика со стаканом сока и тарелкой, на которой лежал пригоревший рогалик, стоял Всеволод Сергеевич Кумарин. Он, как обычно, явился без всякого предупреждения. Андрей Евгеньевич ждал увидеть здесь связника, а не самого шефа.
Генерал ФСБ, глава Управления Глубокого Погружения в последнее время все больше тяготел к театральным эффектам. К старости ему надоело оставаться в тени.
Обычное дело для разведчиков и контрразведчиков. Одни свихиваются на секретности и конспирации, страдают манией преследования, разговаривают шепотом, озираются и косятся, как затравленные зайцы. Другие, наоборот, как садовые павлины, распускают хвосты, повышают голос, позируют перед камерами, жаждут общественного признания, боятся, что так и умрут безымянными героями и никто не узнает, сколько славных дел они совершили на благо родине.
И то и другое одинаково скверно.
Кумарин был в модных мятых штанах цвета какао с молоком, в шелковой рубашке навыпуск цвета горького шоколада и в шоколадных мягчайших мокасинах. За два года он немного располнел, не отрастил пуза – такого с ним в принципе произойти не могло, но весь раздался вширь, стал вальяжней и внушительней. Когда они виделись в последний раз, он был тощим и мрачным. Сейчас сиял лихорадочным оптимизмом, самому себе нравился, улыбался так, словно рядом была дюжина фоторепортеров.
– Ну, что вы молчите и смотрите? Приземлиться можно? Или у вас здесь занято? Между прочим, из-за вас я практически остался без завтрака. Сидел в фойе целый час, ждал, когда вы соизволите спуститься. Проспали, что ли?
– Проспал, – кивнул Григорьев, – садитесь. Завтрак здесь отвратительный. Можно было бы поесть в другом месте.
– Так ведь уплачено, – Кумарин, поставил на стол тарелку и стакан, уселся напротив, – зачем же деньги на ветер швырять?
«Он сошел с ума, – поздравил себя Григорьев, – он поселился в этой же гостинице! Он может все сорвать к чертовой матери!»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
– Сейчас пойду и застрелю их, – сказал майор Арсеньев и не услышал самого себя. За стеной гудела дрель. Стена заметно вибрировала. Противоположная стена тоже вибрировала, там что-то прибивали, колотили молотками.
Полгода назад майор милиции Арсеньев Александр Юрьевич решил наконец свои жилищные проблемы, разъехался с бывшей женой Мариной и поселился в собственной однокомнатной квартире. Тридцать пять квадратных метров в муниципальной новостройке в Лианозове, на тихой зеленой улочке с выразительным названием Зональная. Пятнадцатый этаж, балкон, чудесный панорамный вид на Москву, комната шестнадцать квадратов, кухня восемь, раздельный санузел, два встроенных шкафа. Саня Арсеньев долго не мог поверить такому счастью. Изначально он рассчитывал, что после разъезда с женой, продажи их двухкомнатной квартиры на Соколе его части денег хватит только на комнату в коммуналке.
Он оказался первым жильцом в подъезде. Остальные владельцы въезжать не спешили. Лифты не работали, не было телефонов, телевизионной антенны. Но свет горел, батареи грели, из кранов текла вода, холодная и горячая. Арсеньеву этого было вполне достаточно. Он въехал в феврале. Остальные жильцы пока только делали ремонты, никого не устраивала отделка и планировка. Ломали и возводили стены, меняли плитку, сдирали ламинат и стелили паркет. Вокруг Арсеньева все гудело, выло, стучало и вибрировало.
Сначала Арсеньев утешался тем, что скоро это закончится. Потом понял, что нет, не скоро, и, поднимаясь по темной, неотделанной лестнице пешком на свой пятнадцатый этаж, спотыкаясь и пачкаясь известкой, убеждал себя, что человек ко всему привыкает. К началу апреля он стал воспринимать тишину, самую обычную тишину, как праздник, а лифт и городской телефон – как огромные незаслуженные подарки.
В середине мая произошло знаменательное событие. На четырнадцатом этаже, прямо под Саниной квартирой, поселилась семья. Маме, Вере Григорьевне, сорок пять, старшему мальчику Грише восемнадцать, младшему, Вите, двенадцать. Теперь Арсеньев не чувствовал себя одиноким космонавтом, которого забросили на далекую планету, населенную неразумными грохочущими механизмами, лебедками, досками, керамзитом и упаковочной тарой. Рядом были живые люди. Арсеньев с ними подружился. Он помогал Вере Григорьевне таскать на четырнадцатый этаж тяжести, с удовольствием угощался ее домашними котлетами и борщами. Шестикласснику Вите помогал решать задачи по математике и физике и радовался, что не забыл школьную программу. Гришу, студента второго курса медицинского института, снабжал историями из своей милицейской практики. Гриша пытался писать детектив.
Муж Веры Григорьевны, отец мальчиков, погиб три года назад в автомобильной катастрофе. Он был хирургом-кардиологом, талантливым, известным. До его гибели семья ни в чем не нуждалась. Вера Григорьевна всю жизнь проработала в библиотеке медицинского института. После несчастья какое-то время держались на сбережениях, потом пришлось продать большую квартиру в центре и переехать в эту новостройку на Зональной улице, в такую же однокомнатную квартиру, как у Арсеньева.
Гриша хотел написать детектив, чтобы заработать денег. У него не получалось. Он приносил Арсеньеву каждые три-четыре страницы текста, распечатанные на принтере, и стоял у майора за спиной, затаив дыхание, пока тот читал. Текста было слишком мало, три-четыре страницы всегда оказывались первыми. Гриша сочинял начало, но не знал, что писать дальше. Уничтожал написанное и придумывал другое начало.
К концу июля дышать в Москве стало нечем. Жара за тридцать, тяжелый смог. Работяги в соседних квартирах днем спали, за отбойные молотки брались поздно вечером или ранним утром.
– Сейчас пойду и застрелю их, – повторил Саня, взглянув на часы. Половина шестого. В принципе, можно поспать еще полтора часа, но не дадут, гады. Вон, как разошлись. Со всех сторон дрели, молотки. Саня вылез из постели и прошлепал босиком на балкон. Москва тонула в плотном смоге, ничего не было видно. Такое чувство, что висишь в невесомости, плаваешь, как дохлая муха в сером молоке. Саня взглянул вниз и увидел прямо под собой смутный силуэт. Соседка курила на балконе. Раньше он никогда не видел ее с сигаретой.
– Доброе утро, Вера Григорьевна! – громко произнес Арсеньев.
Она задрала голову и взглянула вверх.
– Здравствуйте, Саша. Хорошо, что вы уже проснулись. Я хотела к вам подняться, но не решалась. Может, вы спуститесь к нам? Мне надо с вами посоветоваться.
Саня быстро принял холодный душ, побрился. Приглашение оказалось весьма кстати. У него кончился кофе, и позавтракать, как всегда, было нечем.
Вера Григорьевна, хоть и была одета и причесана, но выглядела ужасно.
Под глазами черные тени.
Арсеньев еще ни разу не видел ее в таком состоянии. Несмотря на жару, она куталась в старую свалявшуюся шаль. Руки дрожали.
– Проходите, пожалуйста. Витя спит. Уши заткнул ватой и спит. Кофе я уже сварила.
– Я, конечно, сумасшедшая мамаша, – сказала она и достала из холодильника тарелку с нарезанным сыром, – я понимаю, как это глупо, поднимать панику. Но Гриша, кажется, пропал. Его нет третьи сутки. Слушайте, может, вам рыбу пожарить?
Вера Григорьевна, всегда спокойная, немного даже вялая, нервно суетилась, бестолково металась по кухне, уронила сначала нож, потом мешок с хлебом.
– Мы собирались вчера ехать на строительный рынок за карнизами, прождали его весь день. Ночью я не спала. Он даже не позвонил.
– У него нет мобильника, – напомнил Саня, – у вас один телефон на всю семью, и потом он, кажется, собирался с друзьями за город.
– Ну да. Почти у всех его друзей есть мобильники. Я дозвонилась одному мальчику, Кириллу Гусеву, он сказал, поездка сорвалась. Они собирались к нему на дачу, но в последний момент выяснилось, что туда приехали какие-то родственники. Они узнали об этом уже в электричке, по дороге. Часть компании вернулась в Москву, часть отправилась дальше, причем неизвестно, куда именно.
Арсеньев хлебнул кофе, откусил бутерброд. Вера Григорьевна перестала суетиться, уселась напротив, но к еде не притронулась, потянулась за сигаретой.
– Вы бы кофе выпили, – сказал Саня, – нельзя курить на голодный желудок. И вообще, вы же не курите.
– Ну да, конечно. Я не курю, – кивнула Вера Григорьевна и щелкнула зажигалкой. – Это Гришкины сигареты. Нашла у него в ящике. Знаете, я пыталась дозвониться девочке, которая поехала вместе с Гришей дальше на электричке. Телефон выключен. Кирилл сказал, дальше поехали четверо. Кроме моего Гриши, эта девочка, Оля Меньшикова, мальчик Сережа Катков и еще одна девочка, не из их компании. Гриша с ней познакомился накануне, в кафе. Кажется, ее зовут Василиса.
– Погодите, Вера Григорьевна, а что вы так разнервничались? Четверо ребят отправились за город. Две девочки, два мальчика. Грише восемнадцать лет. Он взрослый парень. Загулял. Бывает. Он же недавно сдал сессию, и хорошо сдал.
– Полтора месяца, – она помотала головой, – даже больше, пятьдесят дней назад кончилась сессия. Все это время он болтался, бездельничал, не знал, куда себя деть.
– Он обустраивал новую квартиру, вещи разбирал, полки вешал. Я живой свидетель. Имеет право отдохнуть.
– Да, конечно. Имеет право. У Сережи Каткова телефона нет, он постоянно теряет. Что это за Василиса, никто не знает. Даже фамилию не спросили.
– Имя редкое, – заметил Арсеньев, – уже хорошо. Дача по какой дороге?
– Савеловское направление, станция «Луговая».
– Значит, вся компания вышла где-то до «Луговой», а Гриша и остальные отправились дальше…
– Как вы считаете, уже пора писать заявление? – Вера Григорьевна была так занята своими размышлениями, что почти не слышала вопросов.
– Вы говорили с родителями Сережи и Оли?
– Пока нет. Я с ними не знакома, у меня из всех телефонов есть только мобильный Кирилла, они с Гришей дружат давно, еще с первого класса. А остальные дети – я их никого не знаю. Кирилл рассказал мне про Сережу, Олю, про эту новую девочку Василису.
На пороге кухни показалась тощая фигура Вити в широких пижамных штанах. Он тер глаза кулаками.
– Мам! – крикнул он во всю глотку. – Ну что, пришел Гришка?
Вера Григорьевна отрицательно помотала головой и показала жестом, чтобы он вытащил из ушей затычки.
– И не звонил?
– Нет. Иди, умойся.
– Здрассти, дядь Саш. Вы ей объясните, она зря паникует. Гришка взрослый, у него своя жизнь. Тем более, там появилась какая-то Василиса, премудрая, или прекрасная, или вообще лягушонка в коробчонке. – Витя зевнул и хихикнул. – Мама не понимает, все думает, он младенец. А я так вообще эмбрион.
– Иди, умывайся, я сказала! Витя поплелся в ванную.
– Может, он прав? – спросил Саня, допивая свой кофе. – Ну в самом деле, поехали ребята за город, в Москве сейчас дышать нечем, а там река или озеро.
– Гриша со мной никогда так не поступал, он всегда находил возможность позвонить. Всегда. И потом, знаете, я чувствую. Я что-то очень плохое чувствую. Спать не могу, какая-то чернота в душе. Никогда раньше такого не бывало.
– Ну, Вера Григорьевна, я тоже не сплю. Здесь, на нашей стройке, можно запросто свихнуться. Я попытаюсь что-нибудь узнать и сразу вам позвоню. – Саня поднялся. – Спасибо за кофе. Вам бы сейчас принять валерья-ночки и отоспаться, но ведь не дадут.
– Да, Саша, да. – Она покорно, тупо кивнула, проводила его до двери. Когда он уже прошел лестничный пролет, она громко окликнула его: – Александр Юрьевич! Подождите! По радио в новостях передавали, там, знаете, леса горят, какой-то бывший пионерский лагерь у поселка Первушино, и лес вокруг. Это ведь именно Савеловское направление…
Саня сбежал вниз, остановился напротив соседки и четко, почти по слогам, произнес:
– Ну и что? При чем здесь Гриша? ? – Совершенно ни при чем! – Закричал из-за ее спины Витя. Голос у него был звонкий и сердитый. – Я ей Говорю, а она не слушает!
* * *
Василиса шла по тлеющему лесу, неизвестно куда, умирая от боли, жажды, задыхаясь от дыма. Она боялась наткнуться на бандитов, надеялась встретить Гришу, Олю, Сережу, прислушивалась к каждому шороху, слышала отдаленный гул шоссе, но из-за того, что голова кружилась, не могла определить, в какую сторону идти, чтобы до него добраться. Она утешалась тем, что это все-таки подмосковный лес, а не тайга и рано или поздно ей удастся куда-нибудь выйти. Возможно, она просто ходила по кругу. Она выросла в Москве, к тому же с детства страдала болезнью многих горожан – пространственным идиотизмом, могла заблудиться в трех соснах. А тут еще обоженные, исколотые босые ноги, шок, страх, слабость.
Несколько раз она подходила к реке. Была ли это та самая река, возле которой стоял лагерь, или какая-то другая, Василиса не знала. Она умывалась, пригоршнями пила воду. Так хотелось пить, что не имело значения, какая в речной воде может плавать зараза. Однажды, когда стало совсем худо, она заставила себя искупаться, но чуть не захлебнулась.
Местами лес становился таким густым, что идти было почти невозможно. Василису качало, она натыкалась на ветки, билась о стволы, спотыкалась о корни, торчавшие из земли, как стариковские варикозные вены. Когда впереди показался просвет, она обрадовалась, легко преодолела участок бурелома и увидела гладкую, приветливую поляну.
Под ногой было что-то восхитительно мягкое, теплое, ласковое. Василиса сделала несколько шагов. Боль от ожогов стала затихать, словно земля тут была целебной. Василиса остановилась, чтобы немного насладиться этим новым чувством – когда не так жжет. Но вдруг заметила, что ноги ее увязли по щиколотки и там, внизу, никакой опоры. Жижа. Болото.
«Спокойно. Только не дергайся!» – приказала она себе, чувствуя, как запрыгало сердце, как перехватило дыхание.
Оглянувшись, она увидела, что деревья слишком далеко и до веток уже не дотянуться. Единственное, за что можно ухватиться, – пучок осоки. Болотная жижа подходила к коленям.
Теряя равновесие, она медленно передвинулась, протянула руку, ухватилась за острую, как кинжал, траву, сжала кулак. Боль была неправдоподобная, запредельная.
«Тихо, тихо, тебе не больно, еще немножко, и все».
Она вцепилась в осоку обеими руками и так, передвигаясь по вязкой жиже, добралась до твердой земли, упала, прижалась к ней, тяжело дыша. Она только что чуть не погибла в этом приветливом болоте, в котором так блаженно отдыхали от боли обожженные ноги. Отдышавшись, она медленно поднялась, сначала на четвереньки, потом на колени Наконец встала на ноги и пошла, сама не зная куда, главное, подальше от болота.
Скоро чаща расступилась, кончился бурелом. На небольшой поляне росла заячья капуста. Пальцы распухли, почти не слушались, но удалось нарвать немного. Она жевала кислые мелкие листочки. От них меньше хотелось пить. Потом попались заросли орешника. Орехов было много. Разгрызая мягкую белую кожуру, она впервые почувствовала настоящий голод. Заболел живот. Она поняла, что если сейчас наестся орехов, будет только хуже. Оставалось идти, идти, рока хватит сил.
Лес вокруг был мертвым. Птицы молчали, даже на рассвете. Из-за тяжелого дымного марева было трудно отличить рассвет от сумерек, день от ночи. Сколько это продолжалось, она не знала.
Иногда она проваливалась в сон, глубокий, как обморок. Перед ней мелькали бессвязные, бессмысленные картинки.
Университетская аудитория, вступительные экзамены, сочинение, масляные стены цвета хаки, облупленная лепнина на потолке. Голубая пластиковая столешница, на которой крупно нацарапано матерное слово, проштампованные листки, исписанные дурацкими фразами. «Тема природы в лирике Лермонтова». Стул с железными ножками и занозистым фанерным сидением. Спущенная петля на колготках. Добротная, гладкая, словно отлитая из розовой резины, физиономия Германа, его быстрый, чмокающий шепот. Кружевная крона тополя, теплый свет чужих окон сквозь листья, музыкальная заставка телерекламы. Ласковая тишина летней ночи. Несколько мгновений тишины, и вдруг оглушительный рев. Пульсация во всем теле, такая мощная и быстрая, что трудно дышать. Ритм тяжелого рока не совпадает с естественным ритмом дыхания, и, возможно, именно недостаток кислорода вызывает бурную реакцию толпы. Девочки стонут, теряют сознание. Мальчики ревут и дергаются, как под током. На сцене скачет маленькая безобразная фигурка, мотает жидкими сальными патлами, выкрикивая нечто бессвязное в ритме тяжелых музыкальных волн. Толпа подростков вторит солисту, тысячи голосов сливаются в единое эхо. Тысячи рук тянутся вверх, качаются, словно белая трава под ветром. Толпа хрюкает и визжит, как гигантская свиноматка, покрытая долгожданным боровом.
Не важно, что он поет, какая чушь вылетает из его мокрого рта, они повторяют каждый звук. Главное – синхронно раствориться, исчезнуть, не быть собой, не быть вообще, вернуться к изначальному одноклеточному кайфу, вне времени и пространства. «А-а-х-х… ха…»
Василисе приснился рок-концерт, на который она попала с компанией одноклассников прошлой весной. Группа была жутко популярная, солист – суперзвезда. Василисе, в принципе, такая музыка не нравилась, но один раз стоило послушать живьем, чтобы понять, отчего у многих ее друзей и знакомых едет крыша.
Впечатление оказалось незабываемым. Сначала она просто стояла в толпе и наблюдала, как искажаются лица, как рыдают и стонут фаны.
К третьей песне она заметила, что сама подергивается, покачивается, под мышками и в глазах мокро, во рту, наоборот, сухо. Когда солист запел четвертую песню, Василиса обожала его и готова была вместе со всеми ринуться к сцене, пробиться сквозь милицейский кордон, содрать с себя одежду, кожу, вывернуться наизнанку, лишь бы прикоснуться к божеству. Она растворилась в толпе, как в крепкой кислоте, перестала существовать и только потом, в пустом вагоне метро, глядя на свое смутное отражение в черном стекле, держась за влажный теплый поручень, поняла, что за несколько часов концерта пережила нечто вроде клинической смерти. Еще немного – и у нее стали бы разрушаться клетки мозга. Ей было мерзко, стыдно.
Концерт превратился в дежурный ночной кошмар. Сейчас ей было плохо, и он опять приснился.
Толпа ревела и похрюкивала. «Ах-ха… ха-ай!» Огни блуждали в темноте. Сотни, тысячи огней. Они двигались, выстраивались в гигантскую фигуру, похожую на крест, но почему-то все его четыре конца надломлены.
Не крест. Совсем наоборот. Свастика. Пылающая свастика размером в площадь. Толпа ревела «Хайль!». Вдалеке, на высокой трибуне, дергалась маленькая фигурка. Толпа изнывала в едином экстазе.
Площадь, заполненная уже не пестрыми потными подростками с войлочными косичками «дредами», с серьгами в носах и бровях, а взрослыми аккуратными людьми в одинаковой темной униформе. Смешной каркающий уродец на трибуне, подвижная кукла с черным квадратиком усов под носом. Он вопит, как охрипшая кладбищенская ворона, он выбрасывает руку так энергично, что кажется, она сейчас оторвется от туловища, полетит в небо со свистом китайской петарды, врежется в маленькую хрупкую луну и расколет ее, как фарфоровое блюдце. Уроду вторит могучий гул толпы, похожий на раскат грома. «Хайль!»
Во сне Василиса решила, что умерла и попала в какое-то другое измерение. Ну что же, всякое бывает. Мало ли, куда человек забредает в своих снах? В другом измерении пахло одеколоном: смесь свежего огурца и хвои. Краски казались незнакомыми. Цветовая гамма вроде бы та же, но состав другой. Как если бы ее родной, привычный мир был написан акварелью, а этот, чужой, маслом.
Все кругом лоснилось и блестело. Теней, полутонов не было вовсе. Много черного и красного. У всех чистая обувь.
– Отто! Отто Штраус!
Отчетливый звук чужого имени на чужом языке заставил Василису обернуться, словно это обращались к ней лично. В дрожащих отсветах факельных огней она увидела круглое бледное лицо. Зеркальный блеск пенсне, усики. Нижняя челюсть скошена к шее, как будто лицо не доделали, а потом, спохватившись, наспех прилепили под губу маленький круглый подбородок. Виски и затылок выбриты, темные волосы напоминают плотную круглую шапочку. Василиса не знала этого человека, но почему-то обернулась, когда он произнес: «Отто Штраус». Ответила ему вместе с кем-то, чужим голосом, на чужом языке: «Здравствуй, Гейни!» И почувствовала влагу его холодной, слабой ладони при рукопожатии.
Гейни, старый приятель, бывший одноклассник, в новенькой красивой форме. Френч сидит изумительно, плечи кажутся шире, спина прямей. Надо записать имя и адрес портного. А еще говорят, что не осталось в Берлине приличных портных.
Василиса узнала место действия и без всякой подсказки определила время: тридцать третий год. Язык, разумеется, немецкий. Голос мужской, глуховатый, низкий. 1 Она так удивилась, что пришла в себя, открыла глаза, увидела мутное небо, темные верхушки елок, бледный маленький диск, то ли луны, то ли солнца.
Что это было? Сон? Галлюцинация?
Пожар давно остался позади, но воздух пропитан гарью. Василиса поклялась себе, что больше отдыхать не будет, пока не отыщет что-нибудь, похожее на человеческое жилье, или не выйдет к дороге.
Она шла дальше, потеряв счет времени, иногда поедая какие-то ягоды и листья, отдыхая все чаще и дольше.
«Еще сутки, и я начну умирать», – подумала она со странным спокойствием, словно не о самой себе, а о ком-то другом, далеком и безразличном. Тут же вспыхнула следующая мысль, совсем уж ледяная:
«А что, если это уже произошло? Мне только кажется, будто я иду по лесу, на самом деле меня нет. Я осталась лежать на берегу той узкой теплой речки или утонула в болоте».
В ушах нарастал гул, такой отчетливый, что казалось, над головой кружит вертолет. Но небо было пустым и тусклым. Ни души рядом, никто не мог подтвердить ей, что она жива. А самой себе она почти не верила.
Лес то редел, то густел. Вдали, на пригорке, показался купол с крестом. Сначала Василиса решала, что это мираж. Отдохнула немного, посидела на опушке. Купол не исчезал. У нее открылось второе дыхание. Где церковь, там и деревня, только бы хватило сил дойти. Она старалась не смотреть на свои распухшие черные ноги, на руки, которые покрылись глубокими ссадинами и крупными тугими волдырями.
Опять стало темно. Василиса потеряла из виду купол С крестом и продолжала идти наугад, в полусне. Лес кончился, она оказалась в открытом поле, ступила на колючую свежескошенную траву. Ноги прожгло такой адской болью, что перехватило дыхание. Но боль придала сил. В туманной голове засветилась простая утешительная мысль: если недавно косили траву, значит, какая-нибудь деревня должна быть совсем близко.
Из сумрака проступила светлая стена часовни, потом темные силуэты крестов, пирамидок со звездами. Василиса добрела до часовни и села на землю, прислонившись к стене.
ГЛАВА ПЯТАЯ
– Полно вам, расслабьтесь, – снисходительно улыбнулся Кумарин, – у нас с вами вполне легальный контакт. Кстати, первый за все эти годы. Вы сегодня же сообщите о нашей встрече, кому сочтете нужным.
Для руководства ЦРУ контакт Григорьева с бывшим шефом мог действительно считаться легальным. После 11 сентября между российскими и американскими силовыми структурами было подписано несколько соглашений о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. Генерал Кумарин числился почетным членом Временного Объединенного совета ветеранов спецслужб. Полковник Григорьев числился там же консультантом.
– Мы с вами теперь союзники. Жаль, что мы сейчас во Франкфурте, а не в Дрездене. А то у нас получилась бы встреча на Эльбе. Это было бы красиво, вполне символично, – продолжал балагурить Всеволод Сергеевич, размазывая масло по рогалику.
– M-м, – грустно промычал Григорьев, – остроумное сравнение. Но в той войне союзники встретились на Эльбе, когда самое неприятное было уже позади. А у нас все только начинается.
– Правильно, – кивнул Кумарин, – должно же время хоть чему-то учить. Слушайте, а почему вы мне совсем не рады? Неужели не соскучились? Мы не виделись два года.
– Я рад, – вяло соврал Григорьев и поискал глазами кого-нибудь, чтобы заказать чашку приличного кофе.
– Злитесь из-за Маши? Напрасно. Я ведь даже не приблизился к ней тогда, два года назад, в Москве. Я просто отправил ей бутылку хорошего вина. Она сидела в ресторане с милым молодым человеком, майором милиции. Я не стал им мешать. Я отлично помню ваши тихие родительские истерики. – Кумарин скорчил глупую рожу и зашептал, склонившись к Андрею Евгеньевичу: – «Оставьте мою дочь в покое! Не трогайте Машку!»
– Я и сейчас могу это повторить.
– Не надо, – Кумарин сощурился, как кот, и покрутил головой, – это уже не смешно, и даже обидно. Я что, совратитель малолетних? Маньяк сумасшедший?
– Есть немного.
– Ну, спасибо, – Всеволод Сергеевич фальшиво рассмеялся.
За те два года, которые они не виделись, Кумарин изменился. В нем появилось нервозное шутовство. Он не мог сказать ни слова в простоте, все, что слетало с его уст, должно было сверкать остроумием и запоминаться слушателями, как афоризм.
В течение последних двух лет Григорьев, сидя у себя Бруклине, изучая российские средства массовой информации, все чаще встречал физиономию своего шефа на телеэкране и на страницах глянцевых журналов. Умнейший, хитрейший Кумарин, глава УГП, серый кардинал, человек, предпочитавший всегда оставаться в тени, теперь с удовольствием мелькал на экране телевизора в разных политических ток-шоу, охотно давал интервью, позволял снимать себя на премьерах и презентациях. Это было нехорошо, опасно. Григорьев видел, что делает с людьми эпидемия пиар, как деградируют самые сильные и талантливые. Режиссеры перестают снимать кино, писатели не пишут книг, политики и чиновники, наоборот, пишут книги, умильно излагая подробности своих поучительных биографий. А потом устраивают шикарные презентации этих книг и самим себе платят щедрые гонорары. И все, словно по чьему-то издевательскому приказу, становятся тусовщиками, или, по-русски, толпыгами. Разодетые, важные, толкутся в телестудиях, на всяких презентациях, церемониях, галдят, как куры в курятнике, самозабвенно грубеют и глупеют на глазах у всей страны.
– Я видел вас по телевизору, – внезапно произнес Григорьев, отчасти чтобы сменить тему, отчасти потому, что это действительно мучило его. – Вы решили стать звездой экрана? Вы раскручиваетесь, что ли? Сейчас в России все раскручиваются.
Кумарин засмеялся, на этот раз вполне искренне.
– Это я так легендируюсь и внедряюсь, – прошептал он и подмигнул. – А вы решили, что я впадаю в маразм? Не бойтесь, я еще в своем уме. Просто меня мучает одна проблема… Ладно, об этом после. Слушайте, вы что, правда, считаете, что это я устроил веселые каникулы нашему дорогому Билли?
Наконец принесли долгожданный кофе. Кумарин продолжал улыбаться, но глаза его стали колючими, и слегка дрожал краешек рта. Он напряженно ждал ответа на вопрос. Пожалуй, слишком напряженно.
– Нет, – покачал головой Григорьев, – я так не думаю. Макмерфи тоже так не думает.
– Правда? – Кумарин облегченно вздохнул, и впервые за все время разговора расслабился. – Что случилось с Билли?
– А вы разве не знаете? – удивился Григорьев.
– Я знаю, что ваш официальный шеф, глава русского сектора ЦРУ Вильям Макмерфи временно отстранен от должности и находился в долгом отпуске, официально – по состоянию здоровья. На самом деле он, бедняжка, томится под домашним арестом. Что, засветились его старые афганские связи?
– Да, – кивнул Григорьев.
– Расскажите подробней. Собственно, ради того, чтобы вас послушать, я и прилетел сюда.
Григорьев рассказал.
Специальная сенатская комиссия, созданная сразу после 11 сентября, вела служебное расследование, касавшееся прошлых и нынешних связей высших чинов ЦРУ с исламскими террористами.
В поле зрения комиссии Макмерфи попал вместе с другими ветеранами разведки, которые имели несчастье в начале восьмидесятых служить инструкторами в подразделениях ЦРУ в Афганистане, летать в приграничный пакистанский город Пешавар, лично общаться с Усамой бен Ладеном и с его ближайшим окружением. И, словно по заказу, стали приходить по почте конверты с фотографиями. На них высшие офицеры ЦРУ были запечатлены в компании арабского юноши с умным породистым лицом.
В 1979 году сын аравийского шейха, выпускник университета из Саудовской Аравии по имени Усама прилетел в Пешавар формировать и вооружать отряды правоверных мусульман для борьбы с «коммунистическими шакалами».
Иногда попадались фотографии и более позднего периода, середины и конца девяностых, уже не с самим бен Ладеном, а с другими известными террористами из его окружения. К снимкам не прилагалось никаких комментариев кроме дат, фамилий, и пометки: «совершенно секретно, для внутреннего пользованья». Конверты приходили членам комиссии, сенаторам, сотрудникам ФБР и ЦРУ, их получали сами офицеры, запечатленные на снимках. И все – на домашние адреса.
Судя по почтовым штампам, конверты были отправлены из разных городов Европы, больших и маленьких, в том числе из Рима, Парижа, Ниццы, Копенгагена, Брюсселя, Вены, Берлина, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне. Адреса были напечатаны на разных принтерах, лазерных и струйных, разными компьютерными шрифтами.
За три месяца, с ноября 2001-го по февраль 2002-го, пришло всего пятьдесят четыре конверта. В марте поток прекратился. В средствах массовой информации ни один из присланных снимков не всплыл. Заинтересованные лица ждали новых сюрпризов от неизвестного отправителя (или отправителей). Предполагалось, что за этим последует еще что-то – шантаж, например. Но не после довало ничего.
– Как я понимаю, до сих пор неизвестно, кто отправлял конверты? – усмехнулся Кумарин.
– Нет.
– И зачем это делалось, тоже пока неизвестно?
– Ну, если бы могли выяснить – зачем, скоро узнали бы – кто, – Григорьев пожал плечами, – конечно, старые афганские контакты никому особенно не навредили. А вот новые комиссия проверяла весьма тщательно. По каждому контакту девяностых до сих пор идут отдельные расследования. Всплывает кое-что любопытное, но до отправителя конвертов пока добраться невозможно. Знаете, какая там версия оказалась главной?
– Догадываюсь, – хмыкнул Кумарин, – небось, решили, что это кто-то из своих, из ветеранов?
– Совершенно верно. Кто-то, оскорбленный грубыми методами работы комиссии, решил показать, что у всех рыльце в пушку. Правда, профессионал из числа «своих», даже старый и обиженный, не стал бы добавлять к афганским снимкам современные. Прорабатывается еще одна версия. Журналистов, фоторепортеров, которые имели возможность снимать американцев в Афганистане, совсем немного. Система оформления спеццопуска была достаточно сложной. Их имена известны, всех их сейчас проверяют.
– И вам, конечно, достался ваш старинный приятель, немецкий журналист, авантюрист и пройдоха Генрих Рейч, – вздохнул Кумарин, – да, пожалуй, лучше вас с ним никто не сможет побеседовать. Ну, а что же все-таки не так с Билли?
– Макмерфи в этой истории повезло меньше других. Из всех ветеранов он единственный продолжает занимать высокий пост, остальные уже в отставке. Но главное, его набор картинок оказался особенно неприятным. Вот, у «еня с собой несколько штук.
Григорьев достал из кармана маленький конверт. Там было всего четыре фотографии.
На старых, черно-белых, молодой крепкий Билли в военной форме, в компании молодого Усамы и еще нескольких боевиков. Снимки датировались январем 1980-го.
На цветных фотографиях, датированных сентябрем 1998-го, – глава русского сектора ЦРУ, уже сегодняшний, пожилой, почти лысый Билли, в джинсах и клетчатой ковбойке, на живописной лужайке, возле шашлычного мангала, в компании двух мужчин восточной наружности. Один лет сорока, с аккуратной бородкой и ясной улыбкой. Известный чеченский полевой командир Рахманов, самый цивилизованный и образованный из руководителей боевиков. Второй пожилой, без бороды, но с пышными черными усами. Доктор Абу-Бакр, египтянин, ближайший сподвижник Усамы, один из первых подозреваемых в причастности к терракту 11 сентября.
– Проблема в том, – объяснил Григорьев, пряча фотографии, – что о контакте с чеченцем Рахмановым и египтянином Абу-Бакром в сентябре девяносто восьмого Билли не счел нужным никому сообщить. Контакт не был зафиксирован в документах и отчетах.
– И поэтому его отправили в отпуск? – грустно улыбнулся Кумарин. —Да, действительно, неприятно. Ну, а как вы сами считаете, ваш старый приятель Генрих Рейч имеет отношение к этому дерьму? Прошло столько лет, он мог продать старые снимки кому угодно. Логичней предположить, что все это придумал и проделал либо кто-то свой, либо кто-то из покровителей террористов. Ну, захотелось им покуражиться после одиннадцатого сентября, внести дополнительную смуту в ряды противника.
– Да, эти две версии мне тоже кажутся вполне правдоподобными, – равнодушно кивнул Григорьев.
– И вы прилетели сюда, чтобы встретиться с Генрихом Рейчем, – Кумарин нахмурился, сыграл пальцами на скатерти какую-то быструю беззвучную мелодию и спросил: – Вы уверены, что Рейч полностью отошел от дел, порвал свои старые связи, в том числе и с «Аль-Каидой?»
Прежде чем ответить, Григорьев нарочно долго разглядывал счет, возился с мелочью, отсчитывал чаевые. Подошла официантка. Андрей Евгеньевич похвалил кофе, пожаловался на слишком раннее завершение гостиничных завтраков, обсудил сегодняшнюю жару и магнитные бури. Неделю назад Кумарин, узнав о предстоящей встрече Григорьева с Генрихом Рейчем, через своего агента заверил его, что намерен взять ситуацию под контроль, подстраховать Григорьева, выяснить сегодняшний статус Рей-ча, круг его общения и степень опасности.
Когда девушка удалилась, он грустно взглянул на Кумарина и покачал головой.
– Я не уверен, Я надеюсь.
«Я надеялся на вас, вы обещали дать мне дополнительную информацию и при необходимости обеспечить прикрытие. Пока вы только язвите и задаете идиотские вопросы».
– Надежды юношей питают, – улыбнулся Кумарин, – я, в свою очередь, надеюсь, что вы не только выясните все, что вас интересует, но и вернетесь к себе в Бруклин целым и невредимым.
– Спасибо, – Григорьев вежливо кивнул и улыбнулся, – я постараюсь вернуться целым и невредимым. Хотя все не так страшно, как вам кажется, все очень даже мило. Вечером я отправляюсь в клуб «Кафка», слушать главы из романа молодого талантливого писателя Рихарда Мольтке « Фальшивый заяц».
– Что за бред? Какой заяц? – нахмурился Кумарин.
– А еще интеллигентный человек, – вздохнул Григорьев, – ничего-то вы не знаете, книжек не читаете. Талантливый молодой писатель Рихард Мольтке, автор романа «Фальшивый заяц» – последняя привязанность господина Рейча. Он выпускает и рекламирует книги мальчика за свой счет. Пока мальчик успел написать только одну, про зайца. Но все еще впереди. Господин Рейч заботливо растит молодое дарование. Он одевает юного %ения у Версачи, возит на Канары.
Григорьев говорил, а сам думал: «Ты, Сева, хороший человек. Ты приехал сюда потому, что хочешь получить через меня какую-то очень важную информацию от Рейча. Собственных подходов к нему у тебя, вероятно, нет. Ты, как всегда, играешь в свои игры, используешь других людей в качестве пешек и теннисных мячиков, не считая нужным ничего объяснять. По-другому ты просто не умеешь и вряд ли уже научишься».
Кумарин долго, напряженно молчал, наконец поднялся и, глядя на Григорьева сверху вниз, тихо произнес:
– Ладно. Мне пора. Передайте господину Рейчу привет от генерала Георгия Колпакова. От генерала Жоры. Вы помните, кто это?
Гулять под палящим солнцем было не очень приятно, и все-таки Григорьев отправился бродить по Франкфурту. Он почти забыл, что такое старая Европа, ему так хотелось именно в Европу, куда-нибудь в Прагу или в Париж, но, словно в насмешку, его занесло в самый американский из всех европейских городов. Он шел наугад, без карты, и все никак не мог миновать район небоскребов.
Длинная улица Кайзерштрассе, названная «злачной» в каком-то случайном путеводителе, который он листал в самолете, оказалась вполне благопристойной. Офисы, дорогие магазины, небольшой сквер, ремонтные леса.
Вероятно, следовало взять такси и отправиться в красивый туристический район Захсенхаузен. А еще лучше, в знаменитый Штеделевский художественный институт.
Там отличная коллекция европейской живописи, есть Дюрер и Брейгель младший. Но по понедельникам музеи закрыты.
Григорьев сам не заметил, как забрел на старинную площадь Ромерплац. Перед ним возвышался готический собор Дом. С XVI по XIX век здесь короновались немецкие императоры. Григорьев вспомнил что-то про Золотую буллу и Карла IV. Солнце плавило причудливые контуры высокой резной башни. Даже сквозь темные очки смотреть вверх было невозможно. Андрей Евгеньевич постоял, задрав голову, подумал, не войти ли внутрь, но увидел сразу несколько туристических групп, которые вползали в темное прохладное чрево собора под разноязыкие команды экскурсоводов, и нырнул в ближайший кабачок.
Сидя за маленьким полированным бочонком, заменявшим стол, разглядывая репродукции немецких романтиков, развешанные по стенам, потягивая кисло-сладкое яблочное вино, Андрей Евгеньевич пытался понять, чего хочет от него Кумарин. В своем ли он уме, старый шеф, глава УГП, и если нет, что теперь делать?
Кумарин с самой серьезной миной попросил передать привет Генриху Рейчу от генерала Колпакова. Ни Георгий Федорович Колпаков, которого все называли генерал Жора, нажил огромное состояние на продаже оружия, вывозимого из Прибалтики и бывшей ГДР в начале девяностых. Никто не знал, куда он дел деньги. Все попытки привлечь его к ответственности, вытянуть хотя бы часть наворованных миллионов оказывались тщетны. Не помогали ни хитрость, ни угрозы, ни шантаж. Люди, которые пытались найти ключ к тайне банковских вкладов генерала Колпакова, погибали в результате несчастных случаев или пропадали бесследно.
Жора был генерал-жулик, генерал-мафиози. Он весил килограмм двести. От его хохота лопались барабанные перепонки. На Масленицу он сжирал не меньше сотни блинов с черной икрой. Четыре года назад сто первый блин оказался для него последним. Он поперхнулся и умер.
Генерала Колпакова не было. Он лежал под гранитной плитой на Ваганьковском кладбище. А генерал Кумарин просил передать от него привет господину Рейчу. И, как всегда, не объяснил, зачем.
* * *
Заявления от родителей двух пропавших подростков, Оли Меньшиковой и Сережи Каткова, уже поступили. В районных отделениях к ним отнеслись прохладно, как обычно относятся к потеряшкам, особенно если это подростки. Майор Арсеньев перегнал все имевшиеся данные в свой компьютер и позвонил Кириллу Гусеву, тому мальчику, который собирался везти компанию друзей к себе на дачу. Кирилл вполне толково рассказал всю историю, от начала до конца. Арсеньев взглянул на карту и понял, куда именно решил отправиться его сосед Гриша Королев вместе с Олей, Сережей и Василисой. О ней, кстати, не имелось пока никакой информации, и никаких заявлений о пропаже девочки семнадцати лет по имени Василиса ни в одно из московских отделений не поступало. Кирилл не знал ее фамилии, только возраст. Он описал ее довольно подробно и при необходимости мог бы составить словесный портрет.
Территория заброшенного пионерлагеря полыхала открытым пламенем. Лесные пожары охватили огромную часть Подмосковья. Отправить спасателей в тот район было практически невозможно. Из-за сильного задымления вертолеты в воздух не поднимались, спасателей, как всегда, не хватало. К тому же не было достоверно известно, что четверо подростков находятся именно там. Они могли уйти как угодно далеко. Они могли вообще передумать и отправиться совсем в другое место, вернуться в Москву и застрять у кого-то в гостях, в пустой квартире, где нет родителей.
Гриша любил сочинять страшные истории. Вот, выдумал очередную сказку про Бермудский треугольник на территории заброшенного лагеря. Наверное, хотел поразить воображение девочки Василисы. По словам Кирилла, вся эта авантюра с поездкой была посвящена именно ей.
А не могла ли прийти ему в голову еще какая-нибудь глупость? Например, устроить в честь Василисы салют, запустить петарды, разжечьсостер, чтобы через него попрыгать, а потом испечь картошку? Почему там вдруг так сильно вспыхнуло? Понятно, что горят торфяные болота, свалки, леса. Но сам по себе лес воспламеняется не так уж часто. Причиной пожара может стать тлеющий костер или умышленный поджог. За последний месяц было заведено несколько уголовных дел, связанных именно с поджогами, которые устраивали, чтобы покрыть воровство и незаконную продажу подмосковного леса.
У Арсеньева болела голова. От запаха гари, от бессонницы он плохо соображал. Меньше всего ему хотелось признаваться самому себе, что начать поиски Гриши Королева, Оли Меньшиковой, Сережи Каткова и Василисы сейчас практически невозможно. Единственное, что остается, – разослать ориентировки во все районные отделения Москвы и Московской области и ждать. Главное, ничем не выдать своего беспокойства вечером, когда придется встретиться с Верой Григорьевной.
Тихая мелодия мобильного заставила его вздрогнуть.
Оказывается, он почти задремал на стуле.
– Спишь?—услышал он в трубке сердитый женский голос.
Звонила Зюзя, то есть старший следователь по особо важным делам Лиховцева Зинаида Ивановна.
– Нет. Уже проснулся, – ответил Арсеньев и энергично покрутил плечами и головой, чтобы размять затекшие мышцы.
– Давай быстренько ко мне, – скомандовала Зюзя и бросила трубку.
Полтора года назад Зинаида Ивановна отпраздновала свое шестидесятилетие, и с тех пор у нее появилась дурацкая манера хронически уходить на пенсию. Из-за этого она постоянно спешила, хотела поскорей скинуть все дела, отправиться на заслуженный отдых, водить восьмилетнего внука на музыку и вязать ему варежки.
Саня был знаком с ней с юности. Когда он учился в университете на юрфаке, Зинаида Ивановна вела спецкурс «Тактика следственных действий». Там к ней прилепилась кличка Зюзя.
Мало кто из оперативников любил работать с Зюзей. Ее считали жесткой и категоричной, говорили, что она не терпит возражений, не умеет слушать, трепещет перед начальством и за свою кристальную репутацию любому глотку перегрызет. Впрочем, неважно, что о ней говорили. Арсеньеву работалось с Зюзей легко. Глотку она еще никому не перегрызла, боялась не начальства, как такого, а его глупости и возможных подстав, то есть тех известных ситуаций, когда виноватым оказывается стрелочник. Что касается неумения слушать, да, ее раздражала болтовня, треп, переливание из пустого в порожнее. Когда с ней говорили по делу, четко и доказательно, она слушала.
Однажды Зюзя в приступе философской откровенности объяснила Арсеньеву причину своей постоянной спешки. С возрастом человек болезненно чувствует время. Даже поспать лишний час жалко. Понятно, что этих часов осталось значительно меньше, чем прошло, и глупо тратить драгоценный остаток на ерунду.
В прокуратуре, в кабинете Зюзи, майора Арсеньева ждала приятная новость. С ним пожелал встретиться молодой рецидивист Булька, проходивший единственным подозреваемым по делу, которым Арсеньев занимался уже третий месяц.
В середине мая был убит писатель Драконов Лев Абрамович. Убийство самое банальное – с целью ограбления. Писатель возвращался домой из гостей, шел пешком от метро. В начале первого ночи зашел в свой подъезд, получил смертельный удар по голове тупым предметом. Похищен портфель, часы «Сейка», мобильный телефон, бумажник, в котором лежало не более двух тысяч рублей. По свидетельству родственников и друзей, ничего ценного для грабителей в портфеле находиться не могло.
Драконов не имел ни настоящей славы, ни настоящих денег. Он был литературным середнячком, состоял в Союзе писателей, в советское время выпустил пару-тройку сборников повестей и рассказов, подрабатывал то переводами, то статьями в толстых журналах, правда, умел обрастать знакомствами и связями, создавать вокруг себя флер салонной популярности, часто мелькал на ток-шоу и всяких презентациях. В последние годы стал активно сотрудничать с телевидением, в составе разношерстных бригад писал сценарии для сериалов.
Среди его знакомых попадались весьма любопытные в криминальном смысле личности, например крупный жулик по фамилии Хавченко, бывший руководитель пресс-службы партии «Свобода выбора».
Хавченко хотел запечатлеть себя для истории, издать роман о собственной жизни, и нанял Льва Драконова в качестве литературного обработчика. У жулика были большие планы. В дальнейшем он намеревался заказать пo роману сценарий и спонсировать широкоформатный фильм о самом себе. На главную роль он планировал пригласить популярного актера Владимира Приза.
По словам общих знакомых, бандит обещал писателю в качестве гонорара такую сумму, которая обеспечила бы ему безбедную старость. Но Хавченко застрелили прежде, чем была дописана последняя глава романа, и значительно раньше, чем погиб бедняга Драконов. Убийством Хача занималось РУБОП. У них был такой же «глухарь», как и с Драконовым. Но поскольку там речь шла о классическом заказном убийстве, то никто и не ждал скорых положительных результатов. А писателя убили непрофессионально, ради ограбления. Такие преступления положено раскрывать, хотя бы иногда. Тем более что довольно скоро всплыл первый фигупант.
При облаве и обыске в одном из наркопритонов, неподалеку от дома, где жил писатель, нашли шикарную вещь, серебряную авторучку фирмы «Ватерман». На ее толстом корпусе имелась мелкая гравировка, надпись по-немецки: «Льву, с любовью, от Генриха, Франкфурт, 2001 год». Содержательница притона тут же вспомнила, что ручкой расплатился с ней за несколько доз синтетического героина известный человек Булька, постоянный посетитель ее печального заведения. То есть дважды судимый за мелкие грабежи Куняев Борис Петрович, 1973 года рождения.
Бульку тут же взяли, его даже не пришлось искать. Он проживал вместе со своей матерью по адресу улица Столярная, дом 15, кв. 23, в двух шагах от дома, где жил и был убит писатель Драконов. При задержании Куняев не оказал ни малейшего сопротивления и сообщил, что авторучку нашел в собственном кармане. Далее, при обыске в квартире Бульки обнаружили кредитную карточку «Виза», принадлежавшую Драконову. Каким образом эта вещь попала в квартиру, ни мать Бульки, ни он сам объяснить не могли. Любопытно что на следующий день после убийства с карточки через разные банкоматы была снята почти вся наличность, то есть сто семьдесят долларов. По свидетельству жены Драконова, писатель плохо запоминал цифры. Карточку он держал в специальном пластиковом чехольчике и туда же сунул бумажку, на которой крупно написал пин-код.
Вскоре нашли портфель. Совершенно пустой, с оторванной ручкой, он валялся на дне мусорного контейнера во дворе, в двух кварталах от места преступления. На внутренней стороне крышки были обнаружены отпечатки пальцев Драконова и еще одного человека. Чуть позже экспертиза установила, что они принадлежат Куняеву Борису Петровичу.
Никакого алиби у Бульки не оказалось, но он ушел в глухую несознанку, категорически отрицал свою причастность к убийству и отсиживался в КПЗ. Иногда, впрочем, он выдавал на допросах порции смутной, но многообещающей информации.
– Вот если он сейчас признается, я спокойно оформляю дело для суда и ухожу на пенсию, – заявила Зюзя в машине, по дороге в Бутырку, и принялась подкрашивать губы, – это стало бы хорошим финалом. Ну что ты на меня так смотришь, Шура? – спросила она, поймав в своем маленьком зеркальце взгляд Арсеньева. – Ты хочешь сказать, что, если Булька признается в убийстве Драконова, это будет самооговор?
– Хочу, – кивнул Саня, – хочу, но промолчу.
– И напрасно, – Зюзя растянула свеженакрашенные губы в хитрой улыбке. – Кстати, ты совсем недавно говорил, что в связи с убийством писателя было бы не худо встретиться с одной американкой, которая могла бы кое-что интересное рассказать о Хавченко и о Драконове. Говорил?
– Между этими двумя убийствами нет никакой связи – мрачно отчеканил Саня.
– Ох, а покраснел, батюшки, как покраснел, – Зюзя притронулась к его подбородку и повернула лицо Арсеньева к себе. – Между убийствами нет, а между людьми, пока они были живы, связь имелась. Правильно?
– Правильно. Только это нам ничего не дает.
– И встречаться с американкой, стало быть, совершенно ни к чему?
– Зинаида Ивановна, зачем вы меня мучаете? Я нервничаю, у нас впереди важный допрос.
– Я тебя не мучаю, Шура. Я, наоборот, хочу тебя взбодрить. Вот, смотри, что у меня есть. – Она порылась в сумочке и достала тонкий маленький листок факсовой бумаги.
Это была вырезка из сводки происшествий по городу. Арсеньев пробежал его глазами и узнал, что в восемь часов утра на пульт дежурного поступило сообщение об очередном транспаранте антисемитского содержания, на этот раз его установили на Краснопресненском бульваре. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила под фанерным щитом самодельное взрывное устройство. Свидетельница, позвонившая в милицию, – гражданка США Мери Григ.
Далее шариковой ручкой был вписан телефонный номер.
– Это ее мобильный, – пояснила Зюзя, – я попросила у ребят, по старой дружбе. Ну, что ты молчишь? Или ты уже забыл свою белобрысую цээрушницу?
Сане до смерти хотелось курить. Но Зюзя не терпела табачного дыма. Саня принялся вертеть в руках зажигалку. Он не знал, куда деть руки и глаза. Следователь Лиховцева не сводила с него насмешливого взгляда. Остаток пути оба молчали.
– Шура, Шура, – нежно пропела Зюзя когда они вылезли из машины у служебной проходной Бутырской тюрьмы, – ты так глубоко задумался, что даже не подал старой даме руку.
– Простите, Зинаида Ивановна, – спохватился Арсеньев и взял Зюзю под локоток.
– Ладно, расслабься. Сейчас нам с Булькой общаться, он начнет ныть, жаловаться, морочить голову. Господи, как я ненавижу этот запах! Тебе никогда не приходило в голову, что неплохим средством профилактики преступлений могли бы стать специальные духи под названием, скажем, «Мадам Бутырка»? Я бы раздавала флакончики бесплатно.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Толпа двигалась медленно и ровно, словно не шла через пустую площадь, а плыла по морю, как гигантский корабль, при полном штиле. Было тихо. Молчали даже младенцы. Их несли на руках. Никто не решился взять с собой детскую коляску. Вчера охранники вытряхивали из колясок младенцев прямо на булыжник, а одного, который особенно громко закричал, группенфюрер СС, профессор, доктор медицины, Отто Штраус лично пристрелил из своего именного пистолета.
Пистолет был маленький, изящный, и руки у Штрауса тоже маленькие, женские, с тонкими холеными пальцами. Кожа на кистях нежная, прозрачная, видны голубые жилки. Не реже раза в неделю к нему приходила маникюрша Герда. Штраусу нравилось погружать пальцы в теплую воду, мутную и душистую от мыльного порошка, нравились легкое быстрое мелькание серебряной пилки, мягкое прикосновение кусочка замши, которым Герда шлифовала его выпуклые розовые ногти.
Сегодня не было колясок. Детских, во всяком случае. Но в гуще толпы группенфюрер заметил инвалидную. Ее катила женщина в синем пальто и вишневом берете. Внутри сидело нечто, закутанное клетчатым пледом. Сочиняя очередной приказ, бюрократы из городской управы не учли, что, кроме детских, существуют еще инвалидные коляски. Сейчас ничего уже не сделаешь. Приказ есть приказ, порядок есть порядок. Но к завтрашнему дню следует распорядиться, чтобы написали новый приказ, учитывающий инвалидные коляски. Ведь с ними потом не меньше возни, чем с детскими.
Что касается одежды, обуви, белья, драгоценностей, тут все было организовано наилучшим образом. Сорти ровщики, специальная тара, строжайший учет. А для колясок не было ни тары подходящей, ни графы в бланках документации. На все имелась графа: на золотые зубы, волосы, кожу и даже такие сравнительно редкие предметы, как трости, костыли, протезы. На коляски – нет.
Настроение заметно испортилось. Только что все было хорошо. Толпа двигалась ровно, тихо. Ни криков, ни причитаний, никто не выскакивал из строя, как это случалось раньше.
Колонну гнали через вокзальную площадь к товарной станции. Там уже был готов эшелон, заранее выстраивалась охрана, отборные ребята из СС. Они стояли, широко расставив ноги в сверкающих высоких сапогах. Глаз не видно под низко надвинутыми козырьками. Только точеные, скульптурные носы, рты, подбородки. Штраус знал, что в их глазах все еще горит пламя факельных шествий, костров, в которых уничтожались вредные книги, печей, в которых сейчас по всей Европе упорядочение, аккуратно уничтожаются вредные существа, паразиты, похожие на людей только по недоразумению.
Четыре года назад, в тридцать девятом, молодой эсэсовец, охранявший группу из пятидесяти заключенных евреев, не выдержал, открыл огонь, без всякого приказа, перестрелял всех до одного. Юноша только что прошел ритуал посвящения в «Черный орден». Сознание своей принадлежности к элитным войскам СС делало его особо чувствительным к виду евреев. Ему хотелось поскорей внести свой вклад в очищение жизненного пространства для людей высшей расы. Он был слишком молод, горяч, ему пока не приходило в голову, что, если их стрелять по одному, не хватит свинца.
Тогда, в тридцать девятом, трудно было вообразить истинные масштабы предстоящей великой работы. Все знали, что евреев много, очень много. Есть еще цыгане, славяне, негры. Одно дело – теория, и совсем другое – практика. Тут нужна техническая и административная смекалка, знание химии, социологии, психологии. Гигиенические процедуры очищения жизненного пространства должны проводиться рационально, четко, экономично. Конечно, горячего юношу полагалось наказать. Но старшие товарищи поняли и простили его романтический пыл.
Штраус невольно улыбнулся, вспомнив, как сверкали глаза новобранца. И тут же нахмурился. Это сверкание, этот очистительный огонь обернулись хаосом, грязью. Гигиенические процедуры на восточных территориях с самого начала были организованы совершенно бездарно. Слишком много крови, воплей, бестолковой суеты. В августе 1942-го Генрих Гиммлер в ходе инспекционной поездки по восточным территориям остановился в Минске, чтобы лично присутствовать при казни очередной партии заключенных. Ход казни был нарушен неприятным инцидентом. Рейхсфюрера вырвало. По счастью, только люди из близкого окружения оказались свидетелями этого позора. Они достаточно хорошо знали Генриха Гиммлера, чтобы понять истинные причины. Никто не заподозрил рейхсфюрера в слабости, в жалости к истребляемым особям. Все знали, что накануне фюрер вызывал его в ставку и приказал уничтожить шесть миллионов евреев за очень короткий срок. Картина минской операции ошеломила рейсфюрера потому, что он осознал величие своей миссии, объем предстоящей работы и степень ответственности перед будущим.
Гиммлер понял, что это безобразие следует прекратить, что к работе по очищению жизненного пространства необходимо привлечь не узколобых солдафонов, бюрократов и карьеристов, а людей образованных, честных, творчески мыслящих, талантливых администраторов, инженеров, медиков.
Существует много способов заставить толпу идти на смерть, тихо и добровольно. Толпа не должна знать, куда ее ведут и что с ней собираются делать. Не надо собачьих кнутов, воплей, прикладов. Достаточно знаковых слов, четких и убедительных: «переселение», «дисциплина», «регистрация», «дезинфекция». Достаточно вбить в сознание стада простейшую истину: пострадает только тот, кто нарушит приказ. Если вести себя хорошо, не шуметь, не выбегать из колонны, не прятаться, с тобой поступят гуманно. Необходимо дать примитивный перечень правил, что можно, а чего нельзя, и стадо станет покорным. Вот таким, как сейчас.
Штраус сделал несколько шагов к ровной колонне. Только одна деталь нарушала гармонию. Коляска. Ее хотелось изъять из кадра, прихлопнуть, как муху, которая уселась на свежий срез розовой вестфальской ветчины, соскрести, как грязь, которая налипла на сверкающий чистый сапог. Коляска приближалась. Взгляд генерала был прикован к большим, как у велосипеда, колесам, к клетчатому пледу, к фигуре в синем пальто и вишневом берете. И вдруг он отчетливо разглядел, что существо, закутанное в плед, – ребенок, мальчик лет десяти.
– Киндер! – произнес он громко. – Киндер ваген!
Отто Штраус был не только талантливым врачом, но и толковым администратором. Раз в коляске сидит ребенок, значит, она детская. Следовательно, приказ нарушен. За это полагается расстрел на месте.
Через минуту нарушительница была выведена из колонны. Вблизи стало видно, что она совсем молодая. Не старше восемнадцати. Белое овальное пятно лица, наглые еврейские глаза. Алый, развратный рот. Длинная и толстая, как змея, коса. Женские волосы, особенно такие длинные и качественные, это ценное сырье. Из них вяжут специальные, чрезвычайно теплые носки для подводников и альпинистов.
Рука с пистолетом сделала легкое, едва заметное движение. На безымянном пальце тускло блеснул перстень. Он казался серебряным, но на самом деле был отлит из платины, самого благородного из всех земных металлов. Доктор Штраус получил его от своего пациента, друга детства, бывшего одноклассника Генриха Гиммлера, от милого Гейни, в мае тридцать седьмого, в торжественной обстановке.
На печатке был портрет германского короля Генриха I Птицелова, основателя саксонской династии, жившего в начале IX века. Гиммлер обожал короля Птицелова, свое-tro тезку. Церемония принесения присяги молодыми эсэсовцами проходила перед его гробницей, в Кафедральном соборе Брюнсвика, в полночь, при свете факелов. Кинжал с эмблемой СС, двумя молниями на рукояти, выдавался всем рядовым членам. Серебряный перстень с черепом – элите. Платиновый, с Генрихом Питицеловом – высшей элите, членам тайного «Внутреннего круга». Таких перстней насчитывалось не более двух десятков. Каждый отливался индивидуально, имя владельца гравировалось мельчайшими готическими буквами на тыльной стороне печатки.
Существо в инвалидной коляске дернулось и обмякло. Штраус не сразу понял, что это не он стрелял. лида прошил короткой очередью начальник охраны, стоявший рядом с генералом. А пистолет Штрауса заклинило.
Молодая еврейка, вероятно, сестра маленького инвалида, свалилась, как убитая, хотя в нее не стреляли. Это нерационально. Она могла еще принести пользу в лагере. Ее подняли, затолкали назад в колонну. Порядок был полностью восстановлен.
Штраус проверил пистолет, выстрелил в воздух. Оружие вполне исправно. Но рука ныла, болела, словно кто-то крепко стиснул его правую кисть, когда он хотел выстрелить в инвалида. Стиснул, а потом отпустил. Перстень Генриха Птицелова в тот момент стал нестерпимо горячим, обжег фалангу. Теперь он медленно остывал, и до сих пор был теплым, значительно теплее кожи. Фаланга безымянного пальца покраснела и припухла.
Правая рука ныла, в суставах что-то дергало, как будто там зрели нарывы. Василисе приснился кошмар. Площадь старого провинциального города, здание, похожее на вокзал. Под крышей огромные часы. Циферблат без стрелок. Странное освещение, не день и не ночь. Вероятно, сумерки или рассвет. Но солнце никогда не садится и не встает, его просто нет. Луны тоже нет. И какое время года – совершенно не понятно. Голая площадь, черный влажный булыжник. Вместо неба – пустота, глубокая, бесконечная, бессмысленная. Ни облачка, ни звезды, ни единого светового блика. Влажный булыжник должен блестеть, но кажется матовым. Стройная колонна людей медленно пересекает площадь. Вдоль пути колонны стоят вооруженные охранники в нацистской форме. Среди них высокий худой человек в черном кожаном плаще.
Взгляд его прикован к инвалидной коляске, которую катит девочка в вишневом берете. Большие колеса подпрыгивают на булыжнике.
Сон, галлюцинация, не более. Девочки в синем широком пальто и вишневом берете, мальчика в инвалидной коляске, старухи в шляпе с вуалеткой и всех других шаркающих по черному булыжнику вокзальной площади женшин, детей, стариков не существует. Не в том дело, что вскоре их загрузят в вагоны для скота, потом, рассортировав, уничтожат слабых, а тех, кто еще может работать, расселят по баракам. Их не было никогда. Они фантомы, тени. Они несуществующие объекты. Природа ошиблась изначально, предоставив им возможность расплодиться. Ошибку следовало исправить. В этом заключалась великая миссия человека в черном плаще.
Василиса смотрела на колонну из его глазниц. Сквозь нее текли все его чувства, мысли, воспоминания. Сердце группенфюрера ровными толчками гоняло кровь, желудок и печень аккуратно вырабатывали в нужных количествах соответственные жидкости, по кишечнику двигалась пища, железы методично выбрасывали порции гормонов, мозг работал четко и ясно.
Люди, которые шли колонной через площадь, не были людьми для Отто Штрауса. Сам он тоже не был человеком. Другое измерение, все другое. Перевернутый мир.
Вместо неба – адская бездна. Хаос представляется гармонией, неодушевленные предметы функционируют, как живые организмы. Одушевленные, живые люди идут на убой. Время пульсирует, то сжимается до секунды, до точки, то расползается полужидкой хлюпающей массой, готовой всосать все, что шевелится и дышит.
Зачем просыпаться и жить дальше, если существует такое зло? Зачем все это наблюдать так подробно, если ничего не можешь изменить и ни единого человека из покорной колонны не защитишь, не спасешь?
И все-таки, когда поднялась рука с пистолетом, Василисе каким-то образом удалось вмешаться в чудовищную механику. Штраус не сумел выстрелить. Это стоило огромных усилий, но не имело смысла. Мальчика в коляске все равно убили. Девочка погибнет чуть позже.
Проснувшись, Василиса ничего не забыла, но самой себе не поверила. Осталась огромная, бесконечная тоска, пустая, как небо над вокзальной площадью. Осталось покалывание в правой руке и жжение там, где надет перстень. Впрочем, руки были сильно обожжены. От локтей до кончиков пальцев постоянно болело, покалывало и горело.
* * *
Клуб «Кафка» занимал двухэтажную виллу на богатой окраине Франкфурта. Снаружи здание напоминало пряничный домик, раскрашенный во все цвета радуги, с цветными витражами в окнах. Внутри было мрачно. Серые стены, серая мебель. Цинковая стойка бара, цинковые столики и стулья. В центре, в стеклянной пирамидке, стояли швабра и старое ведро. Палку швабры украшал пышный бант из розового шелка. К стеклу была приклепана медная табличка с именем автора этой оригинальной композиции: Карл Гебхардт. На стенах пестрели авангардные полотна. Художники-любители устраивали здесь свои бесплатные вернисажи. Грубые цветовые пятна, ломаные линии. Иногда проглядывало что-нибудь конкретное: глаз, торс, ступня. Изредка кому-то из любителей везло, картины покупали хозяева гостиниц, ориентируясь больше на дешевизну, чем на художественные достоинства.
Нечто похожее висело в отеле, где жил Григорьев, в его номере, над кроватью. Если присмотреться, розовые пятна сливались в бугристую женскую грудь с толстыми васильковыми сосками.
Были скульптуры: мотки проволоки, комья глины, конструкции из пробок, пластиковых стаканов, обрывков газет. Но любимым материалом для художественных поделок почему-то становились части тел поломанных игрушек. Ножки и ручки пластмассовых пупсов, лапки и головы плюшевых мишек, машинки с оторванными колесами. Григорьеву было интересно, использовали авторы чьи-то старые игрушки или специально покупали новые, а потом уничтожали?
Среди всех этих красот сиротливо темнели несколько вполне удачных фотопортретов Франца Кафки.
Кондиционеры работали на полную мощность, и холод стоял такой, что казалось, сейчас повалит пар изо рта.
Григорьев пришел раньше на полчаса. Он уселся в баре, заказал себе кофе. К нему тут же подлетела энергичная седая дама в круглых очках и предложила пройти в просмотровый зал, послушать лекцию на тему «Эротическое садоводство и эротическая поэзия в немецком барокко».
– Там изумительные слайды, стихи, вы получите истинное духовное наслаждение, – строго сказала дама.
Григорьев поблагодарил и отказался. Дама удалилась. Он остался один в баре, если не считать бармена, печального юношу. Сварив Григорьеву дрянной кофе, юноша забился в угол, за стойку, и уткнулся в книгу. Григорьев успел заметить, что это учебник философии. Вероятно, бармен был студентом университета и подрабатывал на каникулах.
Андрей Евгеньевич взял несколько свежих газет, принялся листать их и тут же наткнулся на любопытную информацию в криминальной колонке газеты «Кронос».
«В Мюнхене арестованы двое бывших инструкторов восточногерманской „Штази“, которые недавно провели восемь месяцев в одном из лагерей в Афганистане, где обучали курсантов Братства бен Ладена обращению с личным химическим и бактериологическим оружием, скорее всего, с гранатами, начиненными отравляющими веществами. Известно, что также для этих целей были наняты бывшие бойцы элитного подразделения Советской Армии, специалисты по подрывным действиям, химическому и биологическому оружию».
«Все продолжается, – подумал Григорьев, – природа не терпит пустот. В истории не бывает логических прорех».
В течение десяти лет, с 1979 по 1989, американцы старательно выращивали монстра. Он атаковал их в 2001-м. Произнести это вслух после 11 сентября решались только циничные неудачники, которым нечего терять. На фоне всеобщего траура и патриотического подъема это звучало кощунственно. Никто не желал вспоминать о событиях в Афганистане двадцатилетней давности, когда гигантские средства были затрачены на вооружение и обучение афганских муджахидов. Усама бен Ладен, сегодняшний главный враг Америки, в конце семидесятых был завербован ЦРУ.
Тогда Афганистан называли «мягким подбрюшьем» Советского Союза. Шла холодная война. Соблазнительно вцепиться в уязвимое место противника, тем более – чужими клыками. Так соблазнительно, что не хочется думать о последствиях.
В конце 80-х стало очевидно, что монстр вышел из-под контроля. В горной стране, дикой, вечно голодной, нашпигованной оружием и наркотиками, выращивать отряды боевиков очень опасно.
В апреле 1988 в Женеве представителями Афганистана Пакистана, СССР и США были подписаны четырехсторонние соглашения о политическом урегулировании в Афганистане. Через четыре месяца взорвался самолет, на борту которого находился президент Пакистана Зия уль-Хак и посол США в Пакистане.
В феврале 1989 последние советские солдаты покинули Афганистан. Холодная война между Россией и США официально была объявлена законченной. Победителей не оказалось. Но был побежденный – весь цивилизованный мир. Мир гуманный и сытый, свободный и щедрый. Мир, в котором благотворительные организации торгуют оружием и наркотиками. Президенты ядерных держав и руководители силовых структур, как средневековые монархи, верят шепоту придворных астрологов и колдунов охотней, чем здравому смыслу. Женщины и дети обвязывают себя взрывчаткой, а интеллектуалы правозащитники заняты борьбой за права убийц. Гигантские спецслужбы, со всеми их космическими и компьютерными технологиями, оказываются бессильны перед наглостью и коварством горстки маньяков.
Злодей номер один, бывший враг России, нынешний враг Америки, мог быть десять раз арестован или уничтожен задолго до сентября 2001-го. Многолетняя дружба с ЦРУ не прошла бесследно. Связи Усамы, его денежные каналы, его родственники и сподвижники – все известно. Но деньги Усамы, его оружие, его боевики шли в Чечню. И хотя холодная война осталась позади, ужасно не хотелось, чтобы заживали старые раны бывшего против-ника. К тому же многочисленное богатейшее семейство саудовского безумца продолжало участвовать в совместных коммерческих проектах с американскими бизнесменами и военными. Клан бен Ладенов вкладывал в эти проекты огромные деньги. В 1998-м семья заключила очередной контракт на строительство казарм для американских солдат, направляемых в Персидский залив, и вложила в это строительство 150 миллионов долларов. Как же можно ответить на такую щедрость арестом и убийством Уса-мы? Конечно, официально семья отреклась от своего заблудшего брата. Публично, через средства массовой информации, многочисленные родственники призывали Усаму одуматься и сдаться властям Саудовской Аравии, заявляя при этом, что не располагают никакими сведениями ни о нем, ни о каналах передвижения его финансовых потоков.
Родственные связи, единство внутри клана – это очень серьезно, особенно на востоке. По сути, гигантские денежные вливания семьи саудовских миллиардеров в американскую экономику были чем-то вроде выкупа за Усаму.
И все-таки 20 августа 1998 года президент Клинтон дал согласие на пуск крылатых ракет «Томагавк». Завод в северной части Хартума был стерт с лица земли. По данным разведки, этот завод являлся одним из стратегических объектов Усамы в Судане, производил нервно-паралитический газ VX, используемый как химическое оружие. В тот же день ракетами обстреляли штаб-квартиру террориста № 1 в Хосте (Афганистан).
Мировая пресса назвала эту двойную атаку величайшим провалом американских спецслужб. Завод в Хартуме производил безобидные медикаменты. В Афганистане вместо Усамы пострадали невинные люди, женщины и дети. Американцам пришлось вернуть владельцу завода, мирному суданскому промышленнику, 25 миллионов долларов, которые к моменту атаки были заморожены на его счетах в американских банках. Дипломатические отношения с Суданом прекратились. Усама остался не только жив и здоров, но и при своем шикарном венце мученика за веру, и при новых выгодных государственных контрактах, заключенных с правительством Судана.
Билли Макмерфи тогда чуть не слетел со своего поста. Информация о заводе в Хартуме и о том, что бен Ладен якобы находится в Хосте, пришла через его источники.
В Бруклине находился один из филиалов международной благотворительной организации «Муслим», которая официально занималась помощью беженцам мусульманам, на самом деле являлась одним из координационных центров «Братства Усамы».
Макмерфи удалось внедрить туда своего информатора, таджика Ибрагимова, активиста исламского движения, беженца из бывшего СССР. В какой-то момент Ибрагимов был перевербован «братством», а может, с самого начала работал на два фронта, не важно. Именно он сообщил Билли о заводе и о Хосте. На проверку времени не оставалось. Ибрагимов сказал, что буквально через несколько часов партия баллонов с газом будет отправлена с завода за океан, и неизвестно, в каком именно городе США состоится газовая атака в метро, наподобие той, что устроил в Токио Асахара.
Усама не собирается долго задерживаться в Хосте, и надо спешить.
Макмерфи поспешил. Правда, данные, полученные от своего информатора, он представил руководству как непроверенные, но потом, после позорного провала, его осторожные комментарии были забыты. Только старые связи и наработанный за многие годы безупречной службы авторитет помогли Билли избежать серьезных неприятностей.
Таджик Ибрагимов исчез бесследно.
Макмерфи встретился с двумя цивилизованными бандитами, надеясь получить информацию об исчезнувшем Ибрагимове. Билли искал человека, который так чудовищно подставил не только его лично, но и все спецслужбы США. На память о встрече осталась видеозапись и фотопленка, где было запечатлено, как Макмерфи кушает шашлык с двумя бандитами.
Лекция на тему «Эротическое садоводство» закончилась. Из соседнего помещения раздавался гул голосов, смех. Дверь была приоткрыта, слушатели потихоньку перебирались в бар. Студент философ оторвался от учебника, варил кофе, разливал спиртное и соки. Возле стойки образовалась небольшая оживленная очередь. Андрей Евгеньевич с громким шорохом перевернул очередную газетную страницу, но читать уже не смог. Сквозь гул голосов до него донеслась отчетливая фраза:
– Нет, милый, тебе не стоит сейчас пить холодное, ты охрипнешь.
Это было произнесено с материнской нежностью.
Григорьев поднял глаза. Через зал шла пара. Полный лысый пожилой господин в светлом костюме и худенький юноша в черных обтягивающих джинсах, в серебристой шелковой сорочке. Мягкие светлые волосы зачесаны назад и стянуты в хвост на затылке. Лицо бледное, тонкое, кожа прозрачная и чистая, как у девушки, глаза аккуратно подведены, алый пухлый рот приоткрыт в застенчивой сладкой улыбке. Довольно было одного взгляда на эту пару, чтобы понять: хитрый ледяной господин Рейч вляпался очень серьезно на старости лет.
– Рики, ты уверен, что не хочешь ничего съесть?
– Отстань. Я сыт.
– Рики, детка, что не так? Что?
– Я просил тебя не надевать этот идиотский костюм, ты в нем похож на провинциального учителя.
Они уселись за соседний столик. Зеленые близорукие глаза Рейча скользнули по лицу Григорьева.
– Хочу икры, – задумчиво произнес Рики.
– Но здесь не бывает. После выступления мы поужинаем в ресторане.
– Я хочу сейчас. Почему так мало народу? Ты обещал хорошую рекламу.
Григорьев искренне пожалел Рейча. Старый авантюрист, безусловно, узнал его, но не смел отвлечься от своего капризного Рики.
– Простите, – улыбнулся Андрей Евгеньевич, – мне кажется, настоящая литература не нуждается в рекламе. Я приехал из Америки, специально, чтобы посмотреть на последнего и единственного гения немецкого авангарда. Надеюсь, вы дадите мне автограф?
Рики помахал ресницами. Рейч благодарно улыбнулся и подмигнул.
– Добрый вечер, господин Григорьефф. Рад вас видеть.
– О, это твой знакомый? – слегка удивился Рики.
– Да. Это американец русского происхождения, граф, кажется?
– Князь, – серьезно уточнил Григорьев.
– Настоящий? – Рики порозовел от удовольствия. – Чистокровный русский князь? Да, это сразу видно! Такое породистое лицо. Очень, очень рад познакомиться.
– Ну вот. – Рейч погладил своего крошку по щеке. – Я обещал тебе русского аристократа на твоем выступлении – вот он. Я обещал икру – будет икра. Но позже.
– Неужели вы купили мою книгу в Америке? – спросил Рики.
– Конечно, – легкомысленно соврал Григорьев, – я нашел ее в маленькой книжной лавке в Нью-Йорке, в Гринвич-вилледж, и проглотил буквально за сутки. Не могу похвастать, что свободно владею немецким. Но главное я понял: передо мной яркий, талантливый писатель.
Григорьев покосился на Рейча, спрашивая взглядом, не перебарщивает ли он. Бедняга улыбался, благодарно и счастливо. Настроение капризули Рики заметно улучшилось.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Евгений Николаевич Рязанцев плавал в небольшом бассейне у себя на участке, от одной кафельной стенки до другой. Вода была теплой и пахла хлоркой. Евгению Николаевичу было скучно. Он знал, что ровно через десять минут откроется задняя калитка и по дорожке к дому, как тень, проскользнет фигура его жены Галины Дмитриевны, в длинной юбке, в платке на голове. Они увидят друг друга, но оба сделают вид, что не заметили. Поздороваются, только если столкнутся лицом к лицу в доме. Завтракать будут отдельно.
Два года назад Евгений Николаевич забрал жену из частной психиатрической клиники. Врачи уверяли, что она практически здорова. Он с ними не мог согласиться. Не реже трех раз в неделю Галина Дмитриевна ходила в ближайшую сельскую церковь на службу, вместе с деревенскими старухами исповедалась, причащалась. Главным человеком в ее жизни стал батюшка, настоятель храма, пухлый низкорослый старик с колючими глазами и седеньким хилым хвостиком, стянутым аптечной резинкой. Евгений Николаевич не считал себя атеистом, мог иногда потихоньку перекреститься, во время Великого поста старался не есть мяса и яиц, на Пасху и в Рождество заходил в храм, ставил свечки. Но сейчас церковные ритуалы и тот особый образ жизни, который вела его жена и ее новые знакомые, вызывали у него кислую сонную тоску. Что может быть общего между огромным, бесконечным, сложным понятием веры в Бога и этими бабьими платочками, длинными бесформенными юбками, хлебными крошками в бороде у батюшки, диетической дисциплиной постов?
Галина Дмитриевна ничего не читала, кроме специальной православной литературы, в ее комнате работало радио, настроенное на одну из православных радиостанций, телевизор она вообще никогда не смотрела. Молилась перед завтраком, обедом и ужином. Прежде чем лечь спать, не менее получаса стояла на коленях, отбивала поклоны. Евгению Николаевичу было трудно с ней разговаривать, даже на самые мелкие, бытовые темы. Они категорически не понимали друг друга. Она говорила страшно тихо, так, что приходилось напрягаться, чтобы расслышать. Она никогда не возражала, не упрекала ни в чем, но рядом с ней он чувствовал себя хронически виноватым, греховным, грубым существом.
В очередной раз вынырнув из воды, он увидел, как Галина мелко семенит по тропинке, хотел опять нырнуть, но в доме хлопнула дверь. Появился начальник службы безопасности Егорыч, в руке у него был телефон. Две фигуры двигались навстречу друг другу. Галина Дмитриевна шла, низко опустив голову, обмотанную темным старушечьим платком, и наверняка бормотала про себя молитву. Егорыч, в небесно-голубых джинсах и белой футболке, несся энергичным галопом, при этом глядел на бассейн и уже открыл рот, чтобы что-то крикнуть Рязанцеву. «Сейчас врежутся!» – отметил про себя Евгений Николаевич.
Егорыч, бывший полковник КГБ, аккуратно следовал бандитско-номенклатурной моде. Он тоже стал православным, постился и любил поговорить о том, как это в принципе полезно для здоровья. К Галине Дмитриевне Относился с трепетом и почтением, даже побаивался ее, называл «женщиной божественной, продвинутой в смысле духовности».
Галина шла, низко опустив голову и глядя под ноги вовсе не потому, что боялась споткнуться, просто у нее выработались новые привычки, новая пластика и мимика. Она даже как-то вся съежилась, стала ниже ростом от своего смирения
Рязанцев мог бы окликнуть жену или дать знак Егорычу, чтобы тот посторонился. Но ему вдруг стало весело и захотелось, чтобы они столкнулись, чтобы энергичный, жилистый начальник охраны сшиб божественную женщину с ног. Он представил, как забавно станет извиняться Егорыч, как Галина примется отряхивать юбку и поправлять платок. Хоть что-то случится, хоть какая-то мелочь возмутит нудное течение его домашней жизни.
В последний момент Галина подняла голову и отступила.
– Доброе утро, Егорыч, – произнесла она со своей обычной смиренной улыбкой.
– Доброе, доброе, – небрежно, без всякого почтения, откликнулся Егорыч, подхватил полотенце, валявшееся в плетеном кресле, и протянул Рязанцеву телефон.
Он услышал женский голос с мягким, едва уловимым акцентом.
– Здравствуйте, Евгений Николаевич. Это Мери Григ.
– Маша, вы уже в Москве?
Он знал, что она должна прилететь, но забыл, когда именно. Ее приезд означал, что пора выходить из долгой спячки, начинать жить и действовать. По сути, это его последний шанс. Если сейчас он не соберется, не взбодрится, то американцы заменят его кем-нибудь другим. И будут правы. Зачем вкладывать деньги в политика, который утопает в хронической депрессии, постоянно болеет, ноет и спит на ходу?
Рязанцев с телефоном в руке неуклюже вылез из бассейна. Мери Григ готова была явиться к нему прямо сегодня, часа через полтора. Ему хотелось спать. Жара действовала убийственно. День только начался, а он уже устал. Хотелось забиться в нору, в свой кабинет, пить ледяную воду, валяться на диване и смотреть старые американские мультики.
«А может, правда стоит послать все к черту? Отказаться от встречи с мисс Григ, от завтрашней пресс-конференции, и прямо сейчас, в самом начале пиарошной кампании по объединению оппозиционных партий, умотать в Испанию или на юг Франции?»
Два года назад у Рязанцева случилось несчастье. История была грязная, запутанная и весьма оскорбительная для Евгения Николаевича. При расследовании двух убийств на свет Божий вылезла семейная грязь, которую потом пришлось еще долго и мучительно разгребать. Это пожрало столько драгоценной жизненной энергии, что Евгений Николаевич стал чувствовать себя никчемным существом, вроде яблочного огрызка. В итоге глава партии «Свобода выбора» впал в тяжелую депрессию и готов был подать в отставку. От этого глупого шага его спасла Мери Григ. Она в тот тяжелый период выполняла функции его пресс-секретаря, оградила от назойливого внимания прессы, вывела из душевного кризиса, сумела даже примирить с тихим и мучительным присутствием в его жизни жены Галины.
Тогда, два года назад, Мери Григ улетела домой, в Нью-Йорк, оставив его здоровым, сильным и в гармонии с самим собой. Она честно выполнила задание своего руководства из ЦРУ. Эта организация вложила в партию «Свобода выбора» большие деньги и не была заинтересована, чтобы Рязанцев сломался.
Он не сломался тогда, но был почти сломлен сейчас, хотя никаких личных драм не переживал. Просто устал, понял, что никто на свете его не любит и сам он никого не любит. Вся его карьера – блеф. И семья тоже блеф. Исчезни он с политической сцены или умри прямо завтра, никому даже грустно не станет. Смиренная жена закажет отпевание, поплачет по-христиански, помолится за упокой его грешной души. Сыновья прилетят из Англии, прольют несколько скупых мужских слезинок и станут жить дальше. Вот американцы, пожалуй, будут искренне огорчены. Он дорого им обошелся. Разумные хозяева заботятся о своей собственности. Поэтому они опять прислали к нему Мери Григ.
– Евгений Николаевич, я не поняла, вы хотите, чтобы я приехала к вам домой, или лучше встретиться в городе, пообедать где-нибудь?
«Лучше, если вы все оставите меня в покое!» – прохныкал про себя Рязанцев и, кашлянув, произнес в трубку:
– Приезжайте ко мне, Маша. Обедать в Москве в такую жару не хочется, а я все-таки живу за городом, здесь воздух чище.
– Хорошо, как скажете. До встречи.
Рязанцев вернул Егорычу телефон. Даже сквозь пелену своего кислого равнодушия он заметил, как пристально и напряженно смотрит на него начальник охраны.
– Что ты, Егорыч?
– Ничего. Американка во сколько явится?
– Часа через два. Да в чем дело? Почему ты так напрягся?
– Нет, все в порядке. Просто не нравится она мне.
– Чем же? – удивленно улыбнулся Рязанцев.
– Да так. Очень умная. Лезет, куда не просят.
– Брось, Егорыч, ее два года здесь не было. Сейчас начинается кампания по объединению партий, и хорошо, что прислали ее, а не кого-то другого.
– Ну, не знаю, не знаю. Лучше бы они вообще никого не присылали. Они вас контролируют, как будто вы больной или не в своем уме. Они во все лезут, учат нас, русских, жить. У них своих проблем хватает, а наши мы уж сами как-нибудь решим.
Рязанцев терпеть не мог, когда хитрый Егорыч прикидывался невинным валенком. Начальник охраны прекрасно знал, что американцы вкладывают в партию «Свобода выбора» большие деньги и имеют полное право присылать своих экспертов.
– Ладно, хватит. Тут зрителей нет, так что не устраивай спектаклей, – сердито одернул его Рязанцев, – хочешь сказать что-то по делу, говори.
– Хавченко – их работа, – чуть слышно пробормотал Егорыч, – никто ничего не докажет, но это их работа. А если уж совсем честно, Хача убрали по наводке этой вашей белобрысой американки.
Хавченко по прозвищу Хач руководил партийным пресс-центром. Рязанцев терпеть его не мог за хамство и бандитские повадки. Американские деньги, и вообще все чужие деньги, прилипали к его рукам, словно эти пухлые розовые ладошки были смазаны клеем. Он воровал много и нагло, строил себе особняки, покупал джипы и «Мерседесы», носил бриллиантовые запонки, менял девок, плохо говорил по-русски, никакими иными языками не владел.
Два года назад Хач вошел в число подозреваемых в убийстве Вики Кравцовой и Томаса Бриттена. Американская сторона считала, что он мог быть заказчиком. Бриттен незадолго до смерти обращал внимание своего руководства на то, что через Хавченко деньги уходят к бандитам Мери Григ не успела заняться проверкой. По причинам, Евгению Николаевичу до сих пор неизвестным, она улетела в Нью-Йорк значительно раньше, чем предполагалось. Однако с Хавченко дотошная леди побеседовала, и он произвел нее неприятное впечатление. Она сказала, что насчет денег пока не знает, но в любом случае такому человеку неприлично возглавлять партийный пресс-центр.
Хача убили в июне прошлого года. Это было классическое заказное убийство. Снайпер прострелил ему голову, когда он шел от ресторана к машине. Исполнителей и заказчиков так и не нашли. Для Рязанцева и его близкого окружения одной из главных версий оставалась та, которую условно обозначили как «американскую». Разумеется, ЦРУ и международный концерн «Парадиз» в лице господина Хогана не нанимали снайпера, чтобы расправиться с Хачем. Они просто разработали новую систему финансирования партии «Свобода выбора», при которой жулик уже не имел прямого бесконтрольного допуска к деньгам.
Хач так привык решать свои финансовые проблемы за чужой счет, что не сразу сориентировался в ситуации. А когда понял, что происходит, не сумел осознать и поверить, что к американской кормушке его теперь не пускают. Между тем его товарищи и покровители не желали терпеливо ждать, особенно когда речь шла о деньгах. Они привыкли регулярно получать дань от Хача. А он стал скуп. Время шло. Росли долги, товарищи Хача сердились. В итоге у кого-то из них сдали нервы.
Но возможно, Хач пал жертвой очередной эпидемии криминальных разборок и заказных убийств. Американцы с их деньгами вообще не имели к этому отношения.
– Ты вроде бы собирался сегодня в тренажерный зал, – напомнил Рязанцев Егорычу, когда они поднимались на крыльцо.
– А? Нет, в такую жару неохота.
– Там же кондиционеры. Поезжай, я тебя отпускаю на целый день.
Евгению Николаевичу вовсе не хотелось, чтобы начальник охраны вертелся рядом, когда они будут общаться с Мери Григ. Он сам пока толком не понимал, почему.
– Мне тут надо кое-чем заняться, и вообще, не время сейчас.
– Если ты собираешься слушать, о чем мы будем беседовать с американкой, я тебя сразу предупреждаю: нет! – Рязанцев постарался сказать это как можно жестче. Все-таки он здесь был главным, а не Егорыч.
– Я останусь, – отчеканил Егорыч, пристально глядя в глаза партийному лидеру, – пока еще я несу ответственность за вашу безопасность, а потому останусь.
– Очень интересно. – Рязанцев туже затянул пояс легкого халата и уселся на диван. – Какое отношение имеет моя безопасность к приезду Мери Григ?
– Самое прямое.
Егорыч стоял над ним, широко расставив ноги.
– Ты с ума сошел? – вкрадчиво спросил Рязанцев и взглянул на него снизу вверх.
– Я в своем уме. – Егорыч нагло, упорно смотрел в Глаза Евгению Николаевичу. – Вы бы лучше побеспокоились о собственном здоровье.
– Что?!
– Что слышали.
– Так. – Рязанцев резко закинул ногу на ногу, оголив бугристое волосатое колено, и попытался придать своему лицу максимально спокойное и снисходительное выражение. – На тебя, Егорыч, жара действует очень плохо. Ты несешь какую-то ересь. Успокойся и попробуй сформулировать максимально четко, что ты имеешь мне сообщить.
Едва заметная усмешка змейкой проскользнула по тонким красным губам Егорыча. Он продолжал пялиться в глаза Рязанцеву. Взгляд сверху вниз был неприятен. Евгений Николаевич почувствовал себя диссидентом застойных времен на допросе в пятом отделе КГБ.
– Я имею вам сообщить, – саркастически передразнил его Егорыч, – что Мери Григ не только профессиональный психолог. Она еще и офицер ЦРУ. Их там обучают таким гадостям, которые вам даже в кошмарных снах не привидятся. Она будет с вами мило беседовать, и со стороны никто ничего не заметит. Да и вы сами вряд ли почувствуете. Она вас обработает так, что вы превратитесь в марионетку, в зомби.
– Зачем? – быстро, деловито спросил Рязанцев прежде, чем до него дошла суть услышанного.
– Затем, что, если вы возглавите объединенную оппозицию, вы должны будете полностью, безоговорочно подчиняться их воле. А если вы окажетесь за бортом, то в дальнейшем можете стать для них опасным свидетелем. Вдруг вас кто-то перекупит или припугнет, и вы расскажете, что столько лет работали на них? Сейчас такой момент, что им надо усилить контроль над вами, как вы не понимаете?
Егорыч говорил быстро, хрипло, с придыханием. Евгению Николаевич стало одновременно и страшно, и смешно. Бывший полковник оказался отвратительным актером. Речь его звучала фальшиво, пафос отдавал мыльным душком. Егорыч прекрасно знал, какую порет чушь, но не испытывал ни малейшей неловкости.
– Ты считаешь меня идиотом? Ты врешь, как наглядная агитация брежневских времен. И не краснеешь. К чему бы это? Ладно, я устал от тебя. Если не можешь толком объяснить, чего надо, уматывай. Все, свободен.
– Я не вру, – невозмутимо возразил Егорыч, – возможно, я преувеличиваю, не совсем точно формулирую. Американка явилась сюда по вашу душу. Она будет вас обрабатывать. Вы устали. Но не от меня, а от себя самого. Вы сейчас в таком состоянии, что из вас можно веревки вить. – Чем ты и занимаешься, – вздохнул Рязанцев, – у тебя какая-то своя игра, свои интересы. Мери Григ тебе мешает. Либо ты выкладываешь мне все по-честному, либо Фюшел вон!
Это было произнесено вяло и неубедительно. Кураж, вспыхнувший на минуту, тихо угас. Рязанцеву опять стало скучно, челюсти свело зевотой. Человек, который хамит не по природной склонности, а от бессилия, выглядит жалким. Евгений Николаевич был устроен достаточно тонко, чтобы чувствовать такие вещи, и озноб неловкости, который изводил его в последнее время, продрал как-то особенно мощно. Начальник охраны продолжал возвышаться над ним бело-голубой глыбой и нагло, неотрывно сверлил его взглядом. Рязанцев понимал, что, если сейчас плюнуть, позволить ему остаться, в дальнейшем он всегда будет диктовать ему свою волю. Надо заставить его убраться отсюда, во что бы то ни стало, хотя лень, и скучно.
– Ну что застыл? – спросил он, не сдерживая зевок. – Ты можешь идти, Егорыч. Свободен.
Бывший полковник больше не произнес ни слова, развернулся, направился к двери, хлопнул ею так, что зазвенело стекло. Самое неприятное, что он так и не ответил, уедет ли, останется ли, и что вообще собирается делать дальше. …
* * *
– Меня здесь скоро замочат, – с тоской произнес рецидивист Булька и колупнул грязным ногтем краску на столе. – Я не убивал этого вашего писателя. А меня здесь точно замочат.
– Кто и почему? – спросила Зинаида Ивановна, вглядываясь в мутные несчастные глаза подозреваемого.
– В камеру психа посадили. Он на меня смотрит. Его посадили специально. Он меня замочит, но сделает так, будто я сам. Понимаете?
– Не совсем, – честно призналась Лиховцева.
Булька обшарил глазами маленькую комнату для допросов, поднял голову, оглянулся и уперся взглядом в Арсеньева, который стоял у него за спиной.
– Пусть она выйдет, – прошептал он, мучительно морщась, – я не могу при ней. Пусть выйдет.
Такое повторялось почти на каждом допросе. Булька не мог говорить при следователе Лиховцевой. Она, по его словам, была ужасно похожа на врачиху из диспансера, где он однажды проходил лечение от наркотической зависимости, и вызывала целую бурю тяжких воспоминаний. В тюрьме ему пришлось пережить несколько мучительных «ломок», он чуть не погиб. В итоге почти вылечился от наркомании, правда, сам пока не мог поверить в это.
Поскольку Булька оставался практически единственным источником информации по делу об убийстве писателя Драконова, приходилось считаться с его желаниями.
Всякий раз, когда он просил Зюзю выйти, он сообщал Арсеньеву какую-нибудь новую мелкую подробность. Иногда казалось, что он вот-вот признается если не в убийстве, то в чем-то еще, что существенно продвинет расследование. Он явно знал больше, чем говорил, однако кто-то контролировал его, держал на коротком поводке. Вполне возможно, с ним даже была заключена сделка. Ему обещали покровительство и комфортное пребывание на зоне, если он возьмет на себя убийство, которого не совершал.
Впрочем, мог работать другой механизм. Куняев действительно ограбил и убил писателя Драконова, но не один. У него были сообщники. И все это время через тюремную почту шел торг. Они пытались заставить его молчать и брать все на себя одного. Он выдвигал какие-то свои требования. В принципе, это могло продолжаться бесконечно.
Почти сразу после ареста в камеру к Бульке подсадили осведомителя. Это был человек пожилой, опытный. Ему удавалось раскалывать куда более серьезных преступников. Куняев легко пошел на контакт, стал откровенен, много возбужденно говорил, плакал, повторял, что влип, запутался и теперь жизнь его кончена. Однако на главный вопрос – убил, или нет, – информатор ответа не получил. Булька уверял, что не помнит, был как в тумане и очень хотел денег. Куняев любил деньги. Информатору пришлось раз десять выслушать трогательную историю этой неразделенной любви.
Денег Бульке хотелось даже больше, чем наркотиков. Очередной порции «дури» требовало его тело. Денег жаждала душа. Купюры для него были не средством, а целью. Он не мечтал о вещах, которые можно купить, о путешествиях, в которые можно отправиться. Он думал о деньгах, как о символе абсолютного счастья, и относился к ним настолько трепетно, что ни разу не назвал «капустой», «бабками», «гринами».
Каким-то образом он узнал, что писатель, его сосед, должен получить много денег, и тут же ясно представил тощего Драконова с седым хвостиком, в кожаных брюках. Портфель в руке старика зазывно сверкал пряжками, пульсировал и дышал, одушевленный своим волшебным содержимым. Толстые пачки долларов тревожно трепетали и перешептывались. Они рвались на волю, им было душно в портфеле из грубой свиной кожи. Отнять у противного старика деньги казалось сказочным подвигом, все равно что вырвать нежную красавицу из лап чудовища.
– Да, – соглашался осведомитель, – чудовище не жалко. Можно дубиной по башке, правда?
– Жалко! Очень даже! – Булька всхлипывал, шмыгал носом, размазывал кулаками слезы. – Я муху прихлопнуть не в состоянии. Как представлю, что она тоже хочет жить, – отпускаю. В деревню с мамой ездили, там хозяин головы курочкам рубил. Мне так стало плохо, так страшно, будто я тоже курочка.
В общем, Куняев уходил от главной темы, и получалось, что информатор зря тратил на него время и душевные силы.
Всякий раз, когда подозреваемый просился на допрос, возникала надежда узнать нечто новое, но почти никогда она не оправдывалась. Булька ныл, клянчил сигареты, погружался в мучительные воспоминания о месяце, проведенном в диспансере, просил Зинаиду Ивановну выйти.
Разговаривать с Куняевым было трудно. Зюзя охотно оставляла своего подследственного наедине с Арсеньевым.
– Допустим, я возьму на себя это убийство. Вы меня на следственный эксперимент повезете? – прошептал
Булька, когда за Лиховцевой закрылась дверь.
– Что значит – допустим, возьмешь на себя? Ты убивал или нет?
– Не знаю, – Булька обхватил ладонями свою маленькую бритую голову и облизнул губы, – я был под кайфом. Я ни хрена не помню.
– Ладно, – смиренно кивнул Арсеньев, – давай вспоминать вместе. Начнем с того, что ты до этого людей не убивал. Грабил, да. Было дело. Но грабил ты ларьки и машины. Это ведь совсем разные вещи. Согласен?
– Еще бы, – криво усмехнулся Куняев, – тем более, этого старика я, в принципе, знал. Не просто человек. Знакомый.
– А может, именно потому, что знакомый, ты шил убить, а? Кстати, ты не вспомнил, кто тебе сказал что Лев Абрамович должен получить большие деньги?
– В «Килечке» говорили.
«Килькой» называлось кафе, в котором Куняев Борис Петрович числился экспедитором. Там лежала его трудовая книжка, там он проводил много времени, грузил ящики с пивом и продуктами, подменял то уборщицу, то судомойку, просто болтался на кухне и в подсобке. Писатель Драконов бывал в этом кафе довольно часто. Оно находилось в квартале от его дома. Писатель приходил иногда пообедать, иногда только выпить чашку кофе и рюмку коньяку.
Арсеньев успел побывать в «Кильке» уже несколько раз, беседовал с официантами, узнал, что покойный любил рыбную солянку, судака в кляре, мясо ел редко и если заказывал мясные блюда, то предпочитал мягкую постную свинину.
– А кто конкретно говорил о деньгах писателя?
– Не помню! – жалобно простонал Булька.
Саня чувствовал, что он врет. Но не ему, майору, а прежде всего самому себе. Что-то все-таки застряло в его мутной башке, какая-то информация, важная и опасная, сидела в мозгах, как заноза. Он хотел сказать, но не мог. Или мог, но не хотел.
– Слушай, а почему ты так боишься следственного эксперимента? – внезапно спросил Арсеньев.
– Стыдно. Во дворе все меня знают, будут смотреть, обсуждать. Потом на маму пальцами начнут показывать.
– Но ведь и так все знают.
– Я не убивал, честное слово.
– Верю, – кивнул Саня, – помоги нам это доказать, помоги найти настоящего убийцу.
– Ага, а они маму мою замочат, – Булька произнес это совсем тихо, чуть слышно, и тут же испугался, уставился на Арсеньева безумными глазами.
– Кто они? – так же тихо спросил Саня.
– Кто? – повторил Булька.
– Ты сказал «они». Тебе или твоей маме угрожали?
– Что? – Булька часто, глупо заморгал.
– Если они такие гады, что матерью тебя шантажируют, им верить нельзя. А мы, между прочим, маму твою можем защитить.
– Как?
– Ну, допустим, мы с Зинаидой Ивановной попробуем устроить ее в больницу.
– Уборщицей?
– Зачем уборщицей? Мы положим ее поправлять здоровье. Она ведь женщина пожилая. Наверняка есть какие-нибудь хронические заболевания. Почему бы ей не подлечиться в хорошем госпитале? А там охрана. Там ее никто не достанет.
– Но она же не всю жизнь там будет лежать, – резонно возразил Булька.
– Конечно. Ровно столько времени, сколько понадобится, чтобы найти и обезвредить настоящих убийц. Как свидетель ты опасен до тех пор, пока молчишь. А когда уже все рассказал, какой смысл тебя трогать? Ты же назад свои слова не проглотишь?
– Я не то, что слова, – язык проглочу, – отчаянно всхлипнул Булька.
– Смотри, как они тебя запугали и как подставили, – Арсеньев сочувственно покачал головой. – Раздразнили разговором о деньгах писателя, накачали дурью до полнейшего беспамятства. А денег в портфеле не оказалось.
– Ага. Только бумаги, – эхом отозвался Булька.
– Какие бумаги?
– Черт их знает. Просто листы.
Арсеньев затаил дыхание. Раньше про бумаги Булька не говорил. Он повторял, будто намертво забыл все, что происходило с ним той злополучной ночью.
– Чистые листы? – осторожно спросил Саня.
– Нет. Что-то было написано.
– Что?
– Ну я же не читал. Просмотрел, думал, может, деньги внутри, и все сложил на место.
– В портфель?
– Сначала в папку. Такая папочка, прозрачная, на кнопке. Сверху, на первой странице, написано «Генерал Жора», очень крупно. А дальше вроде мелкий текст, почерк косой, неразборчивый.
«Рукопись. „Генерал Жора“» – чиркнул Арсеньев в своем ежедневнике и, не глядя на подозреваемого, как бы продолжая писать, спросил быстро и небрежно:
– Когда ты взял портфель, Драконов был еще жив?
– Жив, – энергично закивал Булька, – то есть совсем жив, даже очень. Заказал больше, чем обычно. Болтал с Надькой, официанткой. Она хихикала. Я решил, что это он из-за денег такой радостный. Это ж было в пятницу, двенадцатого мая. Десятого у мамы день рождения, я отпросился на два дня, а двенадцатого отрабатывал.
– Так. Стоп. Давай-ка все подробно, по порядку, – Арсеньев закурил и угостил сигаретой Бульку, – получается, что ты заглядывал в портфель Драконова за день до убийства?
– Ну да, в «Килечке», в сортире. Писатель попил, поел, расплатился, перед уходом в сортир зашел. Портфель поставил на подоконник. И забыл там. Потом, конечно, вспомнил, вернулся, Иваныч ему отдал. А я пол протирал, смотрю – портфель. И никого вокруг. Ну вот, я не удержался. Прямо сами руки потянулись. Но денег там никаких не было.
– А ручка? Кредитная карточка?
– Не помню. На фига мне это?
– Но ручку ты потом поменял на наркотики. А с карточки снял всю наличность.
– Ой, блин, так я вроде как нашел эти штуки. Ручку, карточку. Я ж не знал, чье это хозяйство.
– На карточке написана фамилия владельца, – тихо заметил Арсеньев.
– Так не по-русски же! – простонал Булька. – Я что там написано не читал. Я увидел бумажку, на ней четыре цифры, крупно, и решил попробовать, вдруг это код? Попробовал. Получилось. Да если бы я знал, чье это все, я бы сразу выкинул подальше! Я ж не совсем лох.
– Совсем, – вздохнул Арсеньев, – совсем ты лох, Куняев Борис Петрович. Почему ты раньше этого не рассказывал?
– Ну так, это… – Булька нервно подергал себя за нос, – я думал, если скажу про портфель, еще больше запутаюсь. И потом, Иваныч железно обещал молчать. Чего ж я буду?
– Погоди, кто такой Иваныч?
– Швейцар. Он как раз заглянул, когда я закрывал этот несчастный портфель. И шуганул меня. Правда, тихо, шепотом. Потом у нас с ним разговор был. Я, конечно, приврал, сказал, будто не успел заглянуть внутрь, только собирался. Но, в принципе, если бы кто узнал, меня бы точно выгнали из «Кильки». Иваныч хороший человек. На первый раз, говорит, прощаю, считай, я ничего не видел.
Однажды Арсеньев уже допрашивал швейцара, и тот ни словом не обмолвился об истории с портфелем. С каждым из работников «Кильки» он обсуждал подробности вечера накануне убийства. Куняев действительно подменял заболевшую уборщицу и отвечал за чистоту туалетов.
Писатель Драконов ужинал в одиночестве, иногда говорил по мобильному телефону.
Из всех работников кафе швейцар оказался самым сострадательным человеком. Он жалел убитого, жалел подозреваемого, тяжело вздыхал, повторял, что Булька парень, в принципе, добрый, мухи не обидит. Конечно, надо поговорить с ним еще раз. Он должен подтвердить историю с портфелем. Отпечатки Куняева на внутренней стороне крышки были самой важной уликой. Если он заглядывал в портфель за сутки до убийства, это серьезно меняет дело.
– Ну может, теперь расскажешь, кто тебе угрожает? – спросил Арсеньев.
– А-а! – жалобно вскрикнул в ответ Булька, сморщился и поднес руку ко рту.
– Что такое?
– Опять содрал, блин!
Арсеньев увидел, что по его маленькой грязной кисти течет кровь.
– Ой, больно, больно, – хныкал Куняев, – не могу, как больно! Врача позовите! Я ж крови боюсь, блин!
– Да что случилось? – Арсеньев нажал кнопку вызова охраны.
– У меня там рана, воспаление, давно уже, и все не заживает, – плача, объяснил Булька, – я опять нечаянно корочку содрал.
– Про портфель это любопытно, – сказала Зюзя, выслушав Арсеньева.
Они зашли перекусить в маленькое подвальное кафе неподалеку от Бутырки. Там работал мощный кондиционер. Было прохладно и почти пусто. Зинаида Ивановна с отвращением ковыряла вилкой морковный салат и косилась на тарелку Арсеньева, с которой быстро исчезали жареная картошка с грибами и огромная, сочная свиная отбивная на косточке. Зюзя вынуждена была сесть на строгую диету, уже не ради красоты, а из-за проблем со здоровьем.
– Ну да, – кивнул Арсеньев, —это, конечно, не алиби, но кое-что.
– Алиби, – грустно вздохнула Зинаида Ивановна, – разве у нас есть что-нибудь, кроме этого паршивого алиби? Мне надо дело в суд передавать, а я на нуле. Если бы мы нашли орудие убийства, если бы Куняев вспомнил, где был и что делал в тот вечер. Пусть даже не вспомнил, а придумал. Вранье тоже информация. Когда подозреваемый начинает врать, его легче вывести на чистосердечное признание. Знаешь, что меня сейчас интересует больше всего? Каким образом слабоумному Бульке с его заплесневелыми от наркотиков мозгами удалось разобраться с пин-кодом и снять деньги с карточки Драконова? Если он все-таки одолел это, куда он дел деньги? Ведь за дозу он расплатился ручкой.
– Куда дел – это хороший вопрос, – произнес Ар-сеньев с набитым ртом, – дома у него их точно нет. Либо там какой-то совсем уж хитрый тайник. Впрочем, потратить сто семьдесят долларов не так уж сложно. А ручкой он расплатился потому, что безумно любит деньги и не захотел с ними расставаться. Что касается карточки, тоже не велика наука, особенно когда вместе с карточкой лежит бумажка, на которой крупно написан код. Рядом с «Килькой» есть уличный банкомат. Булька сто раз наблюдал, как люди снимают деньги, и мотал на ус. А вообще, Зинаида Ивановна, мы зациклились на этом несчастном Куняеве и забыли о других версиях. Его вполне могли подставить. Лев Драконов все-таки не рядовой пенсионер, он писатель, тусовщик, болтун, не тем будь помянут. Он работал над книгой о Хавченко…
– Ой, перестань! – поморщилась Зюзя. – Ты же видел рукопись, там ничего серьезного, сплошные сопли с сахаром. – Нацелившись вилкой в тарелку Арсеньева, она быстрым движением подцепила кусок отбивной, который он только что отрезал, отправила в рот и тихо застонала от удовольствия.
– Зинаида Ивановна, давайте я вам закажу отбивную, – сочувственно предложил Саня.
– Тебе жалко для меня кусочка мяса, да?
– Мне вас жалко. Вам же хочется.
– Перехочется! Мне нельзя. Вот еще маленький кусочек у тебя украду и картошечки. И все. Это точно, все. Надо худеть.
Жевала она долго и молча.
– Ну хорошо, – вздохнул Саня, – допустим, книга о Хавченко – это действительно не серьезно. А то, что он в последнее время работал над мемуарами какого-то генерала? Он говорил, публикация станет настоящей бомбой.
– Какой бомбой, Шура? Мало ли что он болтал в интервью? Он не называл фамилии генерала, даже не говорил, где этот генерал служит.
– Служил, – поправил Саня, – он сказал, что генерал умер. И теперь он, писатель Лев Драконов, чувствует себя обязанным довести до конца то дело, которое они вместе задумали. То есть создание книги генеральских мемуаров.
– Он только напускал таинственности для саморекламы, – Зюзя со вздохом принялась за свой морковный салат. – Мы же не нашли никаких материалов ни в его компьютере, ни в записных книжках.
– Генерал Жора, – задумчиво произнес Саня.
– Что?
– Булька сегодня рассказал, что в портфеле была пластиковая папка, а в ней рукопись. На титульном листе крупно написано: «Генерал Жора».
Зюзя перестала жевать, схватила стакан с водой и выпила его залпом.
– Что же ты молчал, Шура? Господи, нет! Зачем ты это узнал, ну зачем? Лучше бы ты молчал. Ох, я старая идиотка, карга несчастная, когда же это кончится? – она чуть не плакала и от огорчения, незаметно для себя съела еще несколько ломтиков жареной картошки с тарелки Арсеньева.
– Зинаида Ивановна, я не понял…
– И не надо. Не надо тебе ничего понимать. Генерал Жора! Вот только этого мне перед пенсией не хватало!
– Да в чем дело, вы можете объяснить?
– Дело в том, Шура, что влипли мы с тобой на этот раз очень нехорошо и серьезно. И как теперь быть, не знаю. – Она решительно пододвинула к себе его тарелку и доела все, что там оставалось.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Зачем тратить свинец, когда есть газ? Инженерная мысль не стоит на месте. Умерщвление может быть вполне спокойной и даже гуманной процедурой. Ради чего мучить несчастных тварей? Сортировка. Мужчины, женщины, подростки направо. Старики и дети ниже 120 сантиметров налево. Некоторые дети встают на цыпочки, когда проходят под мерной палочкой. В таких случаях помогает хлыстик. Хлоп хлыстиком по ногам: обманывать нехорошо. Во всем необходим порядок. Конвейер должен работать исправно. Малейший сбой может привести к катастрофе. Когда конвейер работает, толпа не успевает понять, что происходит. У нее не остается времени на размышления. Дети встают на цы-с почки не потому, что знают, какая их ждет участь. Они просто не желают расставаться с родителями. Если бы было заранее известно, что значит черный дым из высоких труб, огромная партия вновь прибывших превратилась бы в неуправляемое стадо. При неправильной организации стадо способно смести все на своем пути, включая вооруженную охрану. Их ведь в тысячу раз больше, чем охраны. Их больше, чем пуль в автоматах. Стрельбой можно скосить только десятую часть толпы. Несмотря на истощение каждой отдельной особи, нельзя удержать такую массу одним лишь физическим усилием. Тут нужна сила духа, убежденность, ну и немного хитрости.
Состав остановился. Нормальный вокзал, с часами, с таблицей расписания поездов. Кажется, там, дальше, город, в котором можно жить. После долгих дней и ночей в тесных грязных вагонах, без еды и питья, они радуются хотя бы тому, что их привезли куда-то, что дорога кончилась и поменялись декорации. Они не замечают, что здание вокзала – всего лишь декорация, причем сделанная довольно грубо. Они не хотят этого замечать, де Толпа выгружается из вагонов, с чемоданами, тюками, с детскими горшками. Десятки тысяч живых существ не желают знать, что их привезли убивать. Они идут под музыку, со своими чемоданами, детским горшками, одеялами. Из динамика звучит классическая музыка. Она помогает создать спокойную торжественную атмосферу. Кроме того, работают специальные зондер-команды из заключенных. Они рассказывают вновь прибывшим, что их ждет. Душ. Дезинфекция. Потом сытный обед и расселение по баракам. Зондер-команды не только помогают поддерживать порядок, но берут на себя всю грязную работу. Немецкие руки не должны прикасаться к трупам и пеплу. Таким образом, лишние, неполноценные существа уничтожают сами себя. Это естественный суицид. В зондер-команды идут добровольцы, за еду, выпивку, сигареты. Четыре месяца они живут значительно лучше остальных заключенных. Потом их убивают и заменяют другими добровольцами.
Толпа голых мужчин, женщин, подростков, проходит перед дежурным врачом СС. Врач, как положено, в белом халате. От легкого движения его руки зависит дальнейшая судьба каждой отдельной особи. Врач волен отправить в печь сию минуту или подарить еще несколько недель жизни. В этом зрелище есть нечто величественное и поучительное. Все хотят понравиться божеству в белом халате. Выпрямляют спины, подтягивают животы, стараются выглядеть бодрыми и здоровыми. Так стараются, что ни о чем другом не могут думать. Не знают, что их ждет. Не желают знать. Для них главное – произвести хорошее впечатление.
Группенфюрер Штраус обязательно присутствовал при селекции и внимательно следил, как отбирается живой материал для его опытов. Его, в отличие от рядовых врачей, санитаров, охраны, не тянуло потом расслабиться, напиться до бесчувствия. Они уставали. Они действовали, как автоматы, спешили закончить, махали, не глядя: этот направо, тот налево. Группенфюрер не осуждал их, но сожалел, что они не сознают космическую значимость своей миссии, что не хватает им душевных сил насладиться ролью Бога и грандиозными картинами Страшного суда.
«К свободе ведет один путь, И его вехами являются покорность, честность, чистота, самопожертвование, порядок, дисциплина и любовь к родине». Гейни Гиммлер сам сочинил это и приказал выложить белой черепицей на крыше центрального здания концлагеря Дахау. Жена коменданта вышила слова Гейни красным шелком, готическими буквами по белой кисее, по уголкам голубые цветы, зеленые листья. Получилось очень красиво, настоящее произведение искусства. Вышивку взяли в рамку, повесили в комендантской гостиной. Жена коменданта – рукодельница, как многие немецкие женщины. Оказывается, человеческая кожа – отличный материал для творчества. Из нее получаются превосходные дамские сумочки, кошельки, абажуры. Особенно интересные изделия выходят из лоскутов с татуировками. Досадно, что дежурный врач постоянно забывает об этом. Нельзя быть таким черствым и невнимательным человеком. Вот только что отправил налево, то есть прямо в печь, высокого мужчину, тело которого расписано весьма оригинально. Настоящие цветные картины на спине и на груди. Розы, львиные головы, рыцарский герб. Недавно мужчина был толстым, кожа висит крупными складками, ее много.
Отто Штраус вмешался. Всего л ишь легкое прикосновение перчаткой, кивок головы. Мужчина вздрагивает, растерянно озирается, хлопает глазами. Его ставят в отдельную колонну, к самым здоровым, отборным особям, к мужчинам и женщинам, которых отправят в больничный корпус. С ними предстоит работать ученым: врачам, физиологам, психологам. Серьезная научная работа под руководством Отто Штрауса прямо-таки кипит здесь, в этом чистилище. Столько проводится интереснейших экспериментов! В мирное время такое невозможно, из-за опасности и отсутствия добровольцев. Настоящий ученый, врач, физиолог, не может ограничивать свои исследования только работой с морскими свинками и обезьянами. Чтобы узнать физиологию человека, следует изучать человека, а не мышь и лягушку.
Кстати, эту расписную особь тоже можно сначала использовать для экспериментов. Он здоровей, чем кажется. Глаза его блестят, на щеках играет румянец. Он счастлив сейчас. Он чувствует себя избранным. А у жены коменданта фрау Линды день рождения только через месяц. Как раз подоспеет оригинальный подарок.
Сегодня хороший день. Ни одного сбоя. Обидно, что дежурный врач так невнимателен, то и дело поглядывает на часы и вот допустил еще одну небрежность. Отправил направо женщину, которой прямая дорога налево. Она не сумеет работать ни одного дня. Она ходячий скелет. Только что она умудрилась чем-то поранить себе палец, смазала кровью губы и щеки, чтобы выглядеть лучше. Никто не заметил, кроме Штрауса. Он, хоть и был занят татуированным мужчиной, а бдительности не терял. Опять прикосновение перчаткой, легкий кивок. Но женщина как будто окаменела, не понимает, не слушается, кричит, упала на пол. Как это неприятно… Неприятно ноет рука, странный зуд в ямке между пальцами. Неужели подцепил чесотку? Нет, не может быть. Отто Штраус – сама чистоплотность.
Женщину между тем поставили, куда следует. Она успокоилась и затихла. Ничего не произошло. Но зуд и досада остались. Группенфюрер вышел на улицу, снял перчатки, взглянул на часы, автоматически отметив про себя, что уже полночь. Все три стрелки, включая секундную, на двенадцати. Он закурил. В свете прожектора тускло сверкнул перстень. Кожа под ним и вокруг покраснела. Фаланга припухла. Постепенно генерал перестал чувствовать всю свою правую кисть, как будто отлежал ее. Сигарета выпала. Штраус попытался шевельнуть пальцами, – и не смог. Рука не слушалась. От кисти к плечу пробежала быстрая тревожная пульсация. Он обнаружил, что дрожит всем телом, рубашка под кителем взмокла, словно температура у него поднялась до сорока градусов. Но это была не лихорадка. Что-то со всем другое. Генерал не узнавал и не понимал самого себя. Ему хотелось биться лбом о каменную стену. Аккуратный, привычный пейзаж лагеря исчез, погасли прожектора, растаяли ровные прямоугольники бараков, вышки и ряды колючей проволоки потерялись во мраке, словно были тоньше паутины. Стало тихо, темно и страшно. Время остановилось. Он не знал, дышит ли, бьется ли сердце. Если это инфаркт, или кровоизлияние в мозг, или что-то еще, внезапное, неотвратимое, он должен чувствовать боль. Но ее не было. Легкое жжение там, где надет перстень, оставалось единственным подтверждением, что он жив.
Сколько это длилось, неизвестно. Ему казалось – чудовищно долго. Час, два, не меньше. Но наконец прошло
Отто Штраус взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что секундная стрелка не сдвинулась ни на миллиметр. Все еще полночь. Абсолютный ноль, растянутый до бесконечности.
Василиса открыла глаза, увидела кресты и пирамидки деревенского кладбища, услышала истеричное карканье одинокой вороны и далекие раскаты грома. Вспыхнула молния, на мгновение стало совсем светло. Она поняла, что жива, что дошла, пусть не до деревни, но хотя бы до кладбища. Каркает ворона, гремит гром. Начинается гроза, воздух стал чище. Галлюцинации, вызванные угарным газом, сейчас закончатся. Рано или поздно кто-нибудь ее здесь подберет. Все.
«Я посплю капельку».
У Рики был высокий резкий голос. Читая первую главу своего романа «Фальшивый заяц», он нервничал, покашливал, иногда завывал. В небольшом зале стояла сонная, но вполне уважительная тишина. Слушателей собралось около дюжины, включая Рейча, Григорьева и седую даму в очках, ту, что приглашала Андрея Евгеньевича на лекцию «Эротическое садоводство».
В романе речь шла о подростке, который мечтает вырваться из серых будней провинциального городка и найти себя. У него строгая мать, тупые учителя, у него нет друзей, он одинок и несчастен. Вокруг все пьют пиво, едят сосиски. Юноша задыхается в мире пошлости, бездуховности и видит во сне Венецию. Наяву его грязно соблазняет официантка из придорожной закусочной. Далее следует бесконечное, чрезвычайно подробное описание процесса потери невинности. Официантка именуется «Майне гроссе эротишен фюрер».
Слушатели сохраняли внимание. Ни улыбки, ни вздоха, ни покашливания. Это были в основном пожилые, солидные люди. Каждый в прошлом имел какое-то отношение к авангардному искусству, к богеме. Каждый запечатлел в своем облике нечто знаковое из времен своей легкомысленной юности. У стариков длинные волосы, у старух, наоборот, совсем короткие ежики. Обилие крупных серебряных украшений на шеях и запястьях. Рядом с Григорьевым сидела дама лет шестидесяти в лохматой кофточке ядовито-зеленого цвета, с точно такими же волосами. Она клевала носом и просыпалась, когда Рики повышал голос.
Генрих Рейч слушал своего детку, затаив дыхание. В начале чтения детка произнес: «Глава первая». Прошло двадцать минут, полчаса, но первая глава все не заканчивалась. Григорьев стал опасаться, что роман «Фальшивый заяц» целиком состоит из первой главы, и она будет прочитана до конца. Судя по толщине книги, это могло затянуться больше чем на сутки. Чтобы не заснуть, он наблюдал за Рейчем и проверял свою память, пытался восстановить некоторые детали биографии несчастного влюбленного старика.
Генрих Рейч был завербован «Штази» в начале шести десятых и действовал внутри молодежных группировок как провокатор. С его помощью руками террористов уст ранили нескольких ученых и журналистов, которым удалось перебраться из ГДР на Запад, через Берлинскую стену. Это выглядело как случайность, любой ведь может оказаться в эпицентре взрыва. Кроме того, ему удавалось при помощи тех же террористов сшибать с постов высокопоставленных сотрудников западногерманской контрразведки и бундесвера. После очередного терракта фабриковалась информация, из которой следовало, что офицер или чиновник знал о готовящейся акции, но не предотвратил ее.
В семидесятых он работал криминальным репортером, сотрудничал с немецкими газетами правого толка, стал уже не двойным, а тройным агентом, продолжая сотрудничать со «Штази», для полиции Западной Германии выполнял функции секретного агента, внедренного в молодежные террористические группировки.
В 79-м попал в Пакистан в качестве журналиста, три года крутился в Пешаваре, обрастал знакомствами, часто выполнял роль переводчика, поскольку кроме родного немецкого свободно владел английским, арабским и русским.
В 82-м перебрался в США, забросил журналистику и стал художником-авангардистом, но продолжал зарабатывать деньги на политическом и уголовном сводничестве, на провокациях, на торговле убийцами международного масштаба.
Григорьев познакомился с ним в Вашингтоне, в начале 80-х. Андрей Евгеньевич тогда служил в советском посольстве, официально числился «чистым» дипломатом, первым заместителем пресс-атташе, на самом деле являлся помощником резидента по работе со средствами массовой информации и активно общался с авангардной богемой. Изначально знакомство с господином Рейчем было санкционировано его руководителем, тогдашним резидентом КГБ в Вашингтоне Всеволодом Сергеевичем Кумариным. Точкой соприкосновения стала история мистических учений и тайных обществ. Господин Рейч увлекался этим многие годы, мог часами говорить об алхимии, масонстве, об Ордене Тамплиеров и Ордене Золотых Розенкрейцеров. Григорьев представился ему историком, русским эмигрантом во втором поколении, гражданином США.
Генрих Рейч многие годы торговал информацией о финансовых потоках и контактах между террористическими группировками разных стран. У него были связи с «Ирландской республиканской армией, с испанскими бастками, с немецкими неофашистами, с мусульманскими «экстремистами. Ему приходилось играть роль посредница в переговорах, он умел спрятать какого-нибудь между Народного монстра, а потом аккуратно сдать его спец-рлужбам. Или не сдать, тоже аккуратно. Сам он никогда ?ни в кого не стрелял, ничего не взрывал.
Однажды Григорьеву удалось оказать художнику-авантюристу большую услугу, практически спасти ему жизнь. К Рейчу попала информация об одном известном международном террористе, которого разыскивал Интерпол. Официальные власти предлагали приличное вознаграждение за любые сведения о нем. Но еще более приличное вознаграждение предлагало анонимное частное лицо, заинтересованное в поимке злодея. Рейч колебался. По некоторым косвенным, осторожным вопросам Григорьев разгадал суть его сомнений и намекнул, что заманчивое предложение частного лица может оказаться ловушкой. Довольно скоро выяснилось, что он был прав. В ловушку угодил офицер полиции Испании. Автором объявления был сам террорист. Он таким образом выявлял предателей из числа купленных им чиновников и силовиков разных стран.
Труп испанского полицейского обнаружили в багажнике машины его непосредственного начальника. Был громкий международный скандал. Под шумок Рейч быстро сдал террориста Интерполу, получил хорошие деньги и главное, обрел душевное спокойствие на некоторое время.
– Я ваш должник, – сказал он Григорьеву при встрече, – как мне вас отблагодарить?
– Не беспокойтесь, – ответил Григорьев, – я просто подумал и дал вам совет. Это бесплатно.
В Америке Рейч прожил семь лет. В начале 90-х вернулся в свой родной Франкфурт, открыл литературное агентство и маленький антикварный магазин.
Это было забавное заведение. Там продавался антиквариат времен нацизма и Второй мировой войны: ордена, мундиры, каски, флаги, пуговицы, открытки, фотографии, книги, пластинки с маршами, бритвенные приборы, портсигары, наручные часы и прочие предметы, принадлежавшие как известным фашистским бонзам, так и простым офицерам и солдатам Третьего рейха. Там можно было приобрести всякие символические штуки, сделанные в наше время. В основном значки, перстни, медальоны и прочие украшения со свастикой, мертвой головой, имперским орлом. Имелся также особый отдел магических талисманов из Африки и Юго-Восточной Азии. Амулеты из рыбьих костей и лягушачьих шкурок, бубны, пучки перьев, колокольчики, камушки, глиняные фигурки с кошмарными рожами и гигантскими фаллосами, бусы из птичьих коготков.
Литературное агентство и магазин почти не приносили дохода. Впрочем, Рейч был состоятельным человеком и торговал больше для удовольствия, чем ради прибыли.
С Григорьевым они иногда общались по электронной почте, вполне открыто и бескорыстно, как два старых интеллектуала, которым приятно поделиться друг с другом впечатлениями о литературных новинках, художественных выставках, фильмах и так далее.
«Майне гроссе эротишен фюрер» продолжала насиловать нежного юношу уже десятую страницу подряд, с небольшими перерывами на пиво, сосиски и сны о Венеции. Потом подросток вдруг взял и откусил ей ухо.
Сжевал, выплюнув сережку, как вишневую косточку.
«Эротишен фюрер» не обиделась, но и в долгу не осталась. Откусила подростку нос. С аппетитом обсосала хрящик. Дальше дело пошло еще энергичней. Он отрезал и положил на решетку гриля ее грудь и филейные части.
Она, весело смеясь и причмокивая, сделала тоже самое с его фаллосом, который, поджариваясь, лопнул вдоль и пустил сок, как свиная сарделька.
Григорьев иногда косился на слушателей. На их лицах было все то же спокойное уважительное внимание.
Наконец от героев остались только скелеты. Они принялись прыгать, размахивая электрическими ножами, полетели по воздуху над спящим городком. Григорьев решил, что последует продолжение пиршества, любовники сожрут всех грубых бюргеров и несправедливых учителей, но нет. Выяснилось, что небо над ними представляет собой гигантский компьютерный экран. Они нырнули туда, разбив стекло, и там стали обрастать виртуальной плотью. Буквы бесчисленных текстов на разных языках становились клетками их организмов. Когда процесс восстановления закончился, герои вынырнули из компьютера в комнате подростка, как новенькие, в компании нескольких десятков своих клонов.
Рики закрыл книгу, облизнул губы, выпил воды, обвел зал туманным взглядом. Публика похлопала. Зеленая дама рядом с Григорьевым окончательно проснулась и потянула вверх руку, как школьница на уроке.
– Да, я вас слушаю, – кивнул ей Рики.
– Мне очень понравился ваш роман «Фальшивый заяц», господин Мольтке, – произнесла дама глубоким оперным басом. – Но у меня к вам вопрос. Скажите, при чем здесь заяц и почему «фальшивый»?
Рики слегка нахмурился. И тут же растаяла счастливая улыбка Рейча. Его старая морщинистая физиономия зеркально отражала все оттенки чувств, которые читались на нежном личике Рики.
«Может быть, мальчик Рики пишет эту чушь от обиды, что не родился девочкой? – подумал Григорьев. – Почему он не родился девочкой, лет на двадцать раньше? Они бы встретились с Генрихом, и получилась бы идеальная семейная пара. Рики не писал бы своих сублемати-ческих романов. Возможно, они с Рейчем были бы по-настоящему счастливы вместе, что случается с людьми редко или не случается вообще…»
– «Фальшивый заяц» – это глубокая аллегория, – стал терпеливо объяснять Рики, – мой герой всего боялся: других людей, самого себя, пространства и времени. Он дрожал, как заяц. Но страх лишь иллюзорное состояние его внутреннего «я», зыбкая субстанция, оставшаяся внутри индивида от его прошлой, человеческой природы, от коллективной ментальное™ христианства. Герой побеждает свой страх, находит свое новое «я» в симбиозе с другим, нечеловеческим, над-человеческим началом, с ментальностью будущего, которая видится мне где-то на стыке генной инженерии, мультимедийных технологий и наркотических миров. Вы понимаете?
Дама важно кивнула. Больше вопросов не возникло.
Автора еще раз поблагодарили, преподнесли скромный букетик белых гвоздик, взяли пару автографов.
– Вы тоже хотели, – прошептал Рейч и сунул Григорьеву книжку, – подойдите к нему, и не забудьте: вы русский аристократ, князь. У вас, кстати, есть деньги?
– Конечно, – Григорьев содрал с книжки целлофановую обертку, – а что, у вас проблемы с наличностью?
– У меня вытащили бумажник. Я обнаружил это пять минут назад.
– Неужели здесь? – удивился Григорьев.
– Нет. Мы сегодня днем гуляли по старому центру, слушали уличных музыкантов, крутились в толпе.
Он шептал Григорьеву на ухо по-английски и увлекал его за локоть к маленькому столику, за которым сидел Рики, готовый дать очередной автограф.
– Беда, – успел прошептать в ответ Григорьев, – вы обещали мальчику икру. Но я вас выручу, так и быть. Я приглашу вас в ресторан и угощу икрой, как это принято у нас, русских аристократов.
– Да, да, – благодарно улыбнулся Рейч, – а потом мы поговорим о писателе Льве Драконове и мемуарах генерала Колпакова. Вы ведь за этим явились, верно?
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Маша выехала из Москвы сразу после разговора с Рязанцевым. Она не любила опаздывать, опасалась знаменитых московских пробок. На этот раз ей выдали в посольстве „iai маленький старый «Форд», черно-серый, как кладбищенская ворона. Машина резко выделялась на фоне нарядных дорогих автомобилей, заполонивших улицы, особенно в центре. Но двигатель бьш мощный и работал исправно.
До дачного поселка ей удалось доехать всего за сорок минут. В пробках она не стояла, дорогу помнила отлично. Только оказавшись у ворот, она спохватилась, что явилась на час раньше. Оставалось погудеть, чтобы открыли, и позвонить Рязанцеву, предупредить, что она уже здесь.
«Приезжать раньше еще хуже, чем опаздывать, – думала она, слушая сигналы своего „Форда“ и протяжные гудки в телефонной трубке, – здесь, похоже, сонное царство. Охрана дрыхнет. Их светлость отвечать не желают. Интересно, кто проснется первым?»
Проснулся Рязанцев. То есть он вовсе не спал. Его голос прозвучал в трубке так резко и раздраженно, что у Маши зачесалось ухо.
– Извините, Евгений Николаевич, я приехала почти на час раньше, не рассчитала время.
– Не страшно. Где же вы?
– У ворот.
– Так въезжайте. В чем дело?
– Я бы с удовольствием. Не пускают.
– Что за бред! Они там оглохли?
– Скорее, заснули.
– Ладно, сейчас разберусь.
Пока он разбирался, Маша отъехала от ворот, припарковалась у обочины, вышла из машины. Воздух был, конечно, чище, чем в городе, но молчали птицы, от земли исходил горячий, какой-то прачечный пар. Маша потянулась, разминая суставы, щелкнула заколкой, распустила волосы. Два года назад у нее была стрижка «тифози», совсем короткая, делавшая ее похожей на лопоухого мальчика с тонкой шейкой. Сейчас волосы отросли до плеч. Она выглядела вполне женственно. На ней было легкое светлое платье без рукавов, белые открытые босоножки на тонких каблуках.
Над воротами она заметила глазок видеокамеры и почувствовала чужой взгляд. Кто-то наблюдал за ней, то ли излома, толи из охранной будки. Она стала подозревать, что ворота так долго не открывают вовсе не из-за общей вялости и сонности, которая разлита в воздухе. Кто-то ее здесь совсем не ждал и не хочет видеть. Впрочем, она отлично знала кто. Начальник охраны Егорыч. Он был тесно связан с Хавченко, активно кормился за счет американских денег, которые воровал руководитель партийного пресс-центра. Но, кроме того, его вполне устраивала ситуация, когда Галина Дмитриевна Рязанцева находилась в закрытой психиатрической лечебнице. Он владел горячей, скандальной семейной тайной и мог свободно манипулировать Евгением Николаевичем. Сейчас никаких особенных тайн не существовало. Муж и жена жили вместе. Врачи признали Рязанцеву здоровой. А что касается политических и шпионских секретов – Егорыч сам зависел от денег ЦРУ и был прочно впаян в этот узел. Это его бесило. Свое бешенство он, вероятно, решил излить на Мери Григ.
По детской привычке она загадала: если первым человеком, которого она здесь увидит, окажется Егорыч, значит, с самого начала дело пойдет плохо. Но если впустит ее кто-то другой, ей повезет, все будет хорошо. Она нарочно отвернулась от ворот, от камеры, и стала смотреть на березовую рощу. Стволы казались дымчато-голубыми, в кронах сквозила осенняя желтизна. Маше захотелось скинуть босоножки, пройти пешком сквозь рощу, до деревни Язвищи, увидеть старый дом, который сначала был барской усадьбой, потом детской лесной школой, наконец, стал закрытой психиатрической лечебницей. Она даже почувствовала горячую пыль тропинки и сухую щекотку первых опавших листьев под босыми ступнями, перед глазами серебристо мелькнули некрашеные доски деревенских заборов, дальше возникло поле, и, наконец, качнула ветками старая одинокая яблоня, которая когда-то спасла ей жизнь.
Маша так увлеклась этим мгновенным, воображаемым путешествием, что не услышала, как поехали в стороны створки ворот у нее за спиной.
– Машенька, здравствуйте! – голос прозвучал совсем близко. Она обернулась. Перед ней стояла Галина Дмитриевна. Из всех обитателей дома это был, пожалуй, единственный человек, который искренне обрадовался ее приезду.
Они расцеловались. Рязанцева казалась ниже ростом, голову ее туго обтягивал синий в крапинку старушечий платок, ситцевая темная юбка доходила до щиколоток и висела мешком. От нее пахло мылом, утюгом и ладаном.
– А я смотрю, вы или не вы? Я же помню вас стриженой и всегда в брючках. Знаете, так вам больше идет, – она вдруг замолчала, резко развернулась на глазок камеры, нахмурилась, но тут же опять посмотрела на Машу и улыбнулась. – Это ваш автомобиль? Какая мрачная расцветка. На ворону похож. Загоняйте его и пойдемте скорей в дом, там прохладней. А вот и Евгений Николаевич. Фигура партийного лидера четко нарисовалась между створками гаражных ворот. Он шел спиной к солнцу, и не было видно, какое у него выражение лица.
– Ты уже открыла? Вот и хорошо. Добрый день, Мери Григ. Рад вас видеть. Галя, попроси, чтобы там приготовили что-нибудь холодное попить.
Галина Дмитриевна кивнула и заспешила к дому, не оглядываясь. Рязанцев дождался, пока Маша вкатит свой черно-серый «Форд», нажал на кнопку пульта, закрывая ворота.
До дома они шли молча. Маша искоса взглядывала на заострившийся профиль Рязанцева. Он постарел, полысел, стал сутулиться. Из широких коротких рукавов белоснежной тенниски торчали руки, уже не мужские, а стариковские, в седом пухе и бежевых пигментных пятнах.
«Ему ведь не так много лет, – подумала Маша, – он не пьет, следит за здоровьем, правильно питается, а выглядит старше моего отца».
– Как вам Москва? – вежливо поинтересовался он, когда они поднялись на крыльцо веранды.
– Жарко, тихо, – улыбнулась Маша, – правда, уже сегодня утром у меня было небольшое приключение.
Она рассказала о транспаранте на Краснопресненском бульваре и, пока говорила, заметила еще одну неприятную перемену в Рязанцеве. Он совершенно разучился слушать. Он бессмысленно шарил глазами по бревенчатым стенам, теребил застежку часов, наконец резко крикнул:
– Галя!
Вошла Галина Дмитриевна, в руках у нее был поднос со стаканами и кувшином.
– Вот, Машенька, морс клюквенный, домашний.
– Галя, почему так долго? Егорыч здесь, не знаешь? – отрывисто спросил Рязанцев.
– Я его не видела.
– Так поищи, выясни, уехал он или остался.
– Наверное, остался. Машина здесь. Галина Дмитриевна разлила морс по стаканам и быстро вышла.
– Вы видите, какая она стала? – прошептал Евгений Николаевич. – Не вылезает из деревенской церкви, не снимает своего идиотского платка. Развернется предвыборная кампания, надо будет пустить сюда телевидение, потребуются семейные сюжеты, а тут этот ее платок, постная физиономия. Да она вообще откажется сниматься, заявит, что все это грех, бесовство. Знаете, мне все чаще приходит в голову, насколько было лучше и спокойней, когда она…
– Перестаньте, Евгений Николаевич. С ней сейчас все нормально. Лучше скажите, почему вы так напрягаетесь из-за Егорыча? Что-нибудь случилось?
– Как будто вы не знаете. Убили Хавченко. Потом этого писателя, как его? Ну, который писал биографию Хача, – Рязанцев поморщился и защелкал пальцами. – Сказочная такая фамилия… Ладно, не важно, вы знаете, о ком я говорю. С тех пор Егорыч ведет себя неадекватно. Он стал хамить.
– Погодите. Писатель Лев Драконов? – удивленно уточнила Маша. – Разве ваш Егорыч был с ним знаком?
– Понятия не имею. Только знаю, что с ним на эту тему беседовала милиция. Кстати, ваш хороший приятель, тот майор, помните?
– Арсеньев? – Маша удивилась еще больше или сделала вид, что удивилась. Во всяком случае, слегка покраснела. Правда, Евгений Николаевич этого совершенно не заметил, он продолжал раздраженно жаловаться на начальника охраны.
– Полкан, холуй, пытается навязывать мне свою волю. Разговаривает со мной, как на допросе. Беспредельно хамит. И вообще, он нас сейчас наверняка слушает.
Маша как будто пропустила мимо ушей последнюю фразу и нарочито небрежно спросила:
– Хамит? Странно. Неужели он не боится, что вы просто откажетесь от его услуг? Ведь в конечном счете не вы от него зависите, а он от вас. Найдется немало желающих занять его место.
– Ох, Маша, это легко сказать. Я трудно привыкаю к новым людям, я вообще с возрастом все тяжелей переживаю всякие перемены, даже мелкие. Когда в моей жизни что-то меняется, у меня такое чувство, словно я потерялся в незнакомом городе, не знаю, куда идти, все чужое. А стоит освоиться, привыкнуть, и сразу скучно.
«Да, скучно, – вздохнула про себя Маша, – это, пожалуй, главная проблема. Он не может ни на чем сосредоточиться, кроме собственной тупой усталости. Конечно, в таком состоянии он провалится. Его просто не станут слушать, рядом с ним даже воздух киснет, как молоко».
– Эти два года состарили меня лет на двадцать. Я все время задаю себе один и тот же вопрос: «зачем?» Утром просыпаюсь и думаю: зачем начинать день? Что он мне даст? У меня нет ни настоящих врагов, ни друзей. Вот, допустим, ситуация с Егорычем. Он наглеет и хамит потому, что я его распустил, и ему на меня плевать. У него нет злого умысла. Но мне от этого еще гаже. Нет умысла, значит, обо мне вообще не помыслили, не подумали, пусть даже со злобой. Мною просто пренебрегли. Меня не заметили. Что может быть ужаснее?
Маша слушала, и ей казалось, что не было никакого двухлетнего перерыва. Все продолжается. В принципе, рядом с Рязанцевым должен постоянно находиться его личный психотерапевт. У него колоссальная потребность изливать на кого-то поток своих душевных шлаков. Она говорила об этом Хогану и Макмерфи еще тогда, два года назад. Рязанцеву нужна нянька, неважно, кто возьмет на себя эту роль: врач, друг, любовница. Конечно, в идеале – жена, но с женой опять проблемы. Они не понимают друг друга, ее образ жизни вызывает у него глухой протест, тоску и отвращение. На самом деле все просто. Рязанцев безнадежно одинокий человек. Был бы он окончательным, однозначным фанатиком, которому ничего, кроме власти, не нужно, не страдал бы так. Но в нем слишком много намешано. Жажда руководить, командовать, возвышаться над толпой – и простое естественное желание быть любимым, уткнуться носом в чье-то теплое плечо. Это вещи несовместные, как злодейство и гений. Вот он и мучается, хнычет, теперь уже не по-детски, а по-стариковски.
– Евгений Николаевич, вы хотите участвовать в кампании? Вы чувствуете в себе силы возглавить объединенную оппозицию? – спросила Маша, прервав поток его унылых откровений.
Он застыл, словно она только что вылила на него ведро ледяной воды. Уставился на нее удивленно и гневно. Она улыбнулась ему.
– Хотите. Вижу, что хотите. Вот давайте об этом и поговорим. Но только не здесь. Предлагаю выйти и погулять немного.
Чистокровный русский князь, попросивший автограф, и перспектива полакомиться икрой смягчили сердце Рики Из клуба они с Рейчем вышли, держась за руки. В такси, на заднем сиденье, целовались. Григорьев сидел впереди, рядом с шофером, и старался не попадать взглядом в зеркало заднего вида.
Самый большой выбор икры был в новом русском ресторане «Кремль» В отличие от прочих русских ресторанов, этот обошелся без павлово-посадских платков, матрешек и балалаек. Хозяин был немец из бывшей ГДР, русских корней не имел, языка не знал. Он оформил свое заведение в стиле сталинского ампира. Гипсовые колонны, золоченые колосья, серпы и молоты, скульптуры рабочих и колхозниц вдоль стен, хрустальные люстры и плафоны, расписанные как в московском метро.
– Вам должно здесь нравиться, – ободрил Григорьева Рейч. – нечто неопределенно ностальгическое. После развала Советского Союза и воссоединения Германии русские и немцы чувствуют себя почти родственниками. Во всяком случае, здесь многие стали увлекаться Россией, причем именно ее тоталитарным прошлым.
– Обожаю имперскую стилистику! – сообщил Рики. – Есть в этом величие, душевное здоровье, это вам не утонченный модерн начала века, это мощь мировых гигантов, мускулы, жесткость, определенность. Люди будущего, люди-клоны, будут жить в таких интерьерах.
Народу оказалось совсем мало. Ресторан был дорогим, помпезным, и большая часть столиков оставалась свободной, даже когда все окрестные заведения забивались посетителями до отказа.
– Мне только икры, – скромно сообщил Рики, – немного красной, неного черной. Можно еще ржаных тостов и полусладкого шампанского.
Рейч заказал себе осетрину по-монастырски, Григорьев – цыпленка-табка
– Вы во второй раз меня выручаете, – произнес Рейч тихо и серьезно, когда рики удалился в туалет. – Двадцать лет назад, в Вашингтоне) и сейчас – здесь. Спасибо.
– На здоровье, –. улыбнулся Григорьев и подумал: «Дурак ты, Генрих. Двддцать лет назад в Вашингтоне я спас тебе жизнь. А сейчас сего лишь заплачу за икру. Неужели для тебя это равнинные события?»
– Тогда вы ничего не потребовали взамен. И все эти годы я чувствовал себя вашим должником, – задумчиво продолжал Рейч. – Итак, вас интересует Лев Драконов?
– Мг-м, – промчал Григорьев, пытаясь вспомнить, кто это.
В глубине зала показалась тонкая фигура Рики. Он снял резинку с хвоста, распущенные волосы красиво взлетали при ходьбе.
– Знаете, я всю жизнь держал себя в жесточайшей узде. Как говорят руские, в ежовых рукавицах, – произнес Рейч, нежно поедая взглядом своего Рики, – я сидел на голодной диете, обливался ледяной водой, бегал каждое утро, в любую погоду, на сорокоградусной жаре, иногда даже под пулями, я ни с кем не дружил, никого не любил, никому не верил. Любая человеческая привязанность казалась мне ловушкой я изучал зло, собирал коллекцию зла. Наверное, я подознательно хотел доказать себе, что ничего другого нет ни в человеке, ни вокруг него. У меня было две цели: выжить и разбогатеть. Кажется, удалось и то и другое. После Шестидесяти мне стало скучно. Если бы я не встретил Рик наверное, сошел бы с ума, спился, скололся. Мальчик Спас меня. С ним я расслабился. Вы не представляете, какое счастье иметь рядом человека, от которого у тебя нет секретов. Мы как единый организм. У нас все общее, даже банковские счета.
Генрих произнес этот монолог на хорошем русском языке, очень выразительно и прослезился. Рики сел за стол и мимоходом погладил своего друга по лысине.
– Какой все-таки странный язык, – задумчиво заметил Рики. – жаль, я им не владею. Принесли напитки.
– Когда чокаются, надо обязательно смотреть в глаза, – сказал Рики и пригубил шампанское. Несколько пузырьков вспыхнуло и лопнуло на его розовых губах.
– Лев все никак не мог освоить Интернет, не пользовался электронной почтой. В итоге у меня нет ни одной страницы текста Хорошо, что я не успел получить для Него аванс, – сообщил Генрих, уже по-английски, – пришлось бы возвращать деньги, это всегда неприятно.
– Ты о Драконове? – спросил Рики.
– О ком же еще? – Рейч вздохнул. – Так было заманчиво продать мемуары Колпакова! Сразу четыре издательства захотели купить права, готовы бьши заплатить очень приличные деньги. Все ждали бестселлера.
– Да. эта книга обречена была стать бестселлером, независимо от того, как она написана, – заметил Рики с грустной усмешкой.
– Обидно, что в итоге она не написана, – добавил Рейч.
Григорьев слушал, не перебивая, не задавая вопросов. Он вспомнил, что писатель Лев Драконов был как-то связан с покойным бандитом Хавченко, который возглавлял пресс-службу партии «Свобода выбора». Но про мемуары генерала Колпакова он слышал впервые. Если они правда существуют, это должно очень интересовать многих, в том числе Кумарина и Макмерфи. Может быть, именно из-за мемуаров Кумарин просил передать Генриху привет от покойника генерала?
Принесли икру в хрустальных вазочках.
– Рики, сделать тебе бутерброд? – спросил Рейч. Юноша помотал головой и принялся есть ложкой.
– Разумеется, всех волнует не столько сам генерал, сколько его деньги, – продолжал Рейч, – понятно, что в мемуарах вряд ли раскрылась бы тайна банковских вкладов. Но информация о том, как генералу Жоре удалось умыкнуть такие колоссальные суммы из-под носа своих бдительных коллег, это, конечно, эксклюзив.
– Он был урод, – сказал Рики и облизнулся, – жирный, грубый, неинтересный человек. Но у него очень приятный племянник. Вы, князь, наверняка слышали о нем. Владимир Приз. Он сейчас чуть ли не самая популярная личность в России.
Григорьев едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Слово «князь» было произнесено с особенной интонацией и сопровождалось таким томным взором, что Рейч мог заревновать.
– Актер? – спросил Андрей Евгеньевич равнодушно. – Да, я пару раз видел его по российскому телевидению. Вы с ним хорошо знакомы?
– Когда он приезжал во Франкфурт, мы с ним сидели в этом же ресторане, за этим же столиком, и ели икру, – сказал Рики.
Рейч слегка помрачнел.
– Меня очень привлекает Россия, – сообщил Рики, – в ее ментальности есть нечто экзистенциальное. А вы давно навещали свою бывшую родину, князь?
– Очень давно. Я там не был больше четверти века.
– Обязательно поезжайте. Но не сейчас. Лет через пять, когда Приз станет президентом, – посоветовал Рики и отправил в рот очередную ложку икры.
– У него есть шансы? – серьезно поинтересовался Григорьев.
– У него есть обаяние, – сказал Рики, – просто убийственное мужское обаяние.
– Ну, этого не достаточно.
– Там много всего, – подал голос Рейч, – наглость, популярность, бешеная энергия, но главное, там дядины деньги.
– Деньги – не главное, – возразил Рики, – Владимир такой мощный, мужественный, но при этом нежный. Он похож на древнего викинга. С ним удивительно легко общаться. Он ведет себя просто и естественно в любых ситуациях. Я уверен, он станет президентом. России нужен именно такой правитель. Я счастлив, что познакомился с ним. Конечно, благодаря тебе, Генрих.
Подали горячее. Пока официант расставлял тарелки, все молчали. Андрей Евгеньевич заметил, что настроение Рейча сильно переменилось. Он занервничал. Возможно, Рики слишком восторженно отзывался об актере Призе и дело было в ревности.
– Он что, интересовался мемуарами своего дяди? – спросил Григорьев, когда удалился официант.
– Нет, ну что вы! Он не знал о мемуарах, – поспешно ответил Рики. Он почти выкрикнул это и энергично , помотал головой.
– Странно. Родной племянник не знал о мемуарах своего легендарного дяди? – удивился Григорьев.
– Мы все держали в строжайшей тайне. К тому же у Владимира Приза слишком напряженная, бурная жизнь, – сообщил Рики уже спокойно и собрал корочкой остатки черной икры.
– Да, мне тоже это показалось странным, – признался Рейч. – Драконов успел дать полдюжины интервью русской прессе. Правда, он не называл имени генерала, но все равно в итоге какой-то наркоман ударил его по голове дубиной в подъезде. Возможно, это случайность, простое совпадение. Но я бы на месте российских правоохранительных органов поставил господина Приза в первый ряд подозреваемых. Мы, конечно, ничего ему о Драконове не говорили, но узнать он мог откуда угодно. И ему вряд ли бы это понравилось.
– Почему? – спросил Григорьев.
– Потому что теоретически там могла бы содержаться косвенная информация о деньгах. Это во-первых. А во-вторых, Драконов еврей.
– Он что, антисемит, этот актер? – слегка удивился Григорьев.
– Не то слово! Он расист, нацист. Забавно, да? Он состоит в самой демократической из российских партий, в «Свободе выбора», произносит речи о всеобщем равенстве, братстве, гуманизме, сострадании, любви. И уже является там вторым лицом после Евгения Рязанцева.
«Это действительно забавно, впрочем, Рейч может преувеличивать. Он зациклен на теме нацизма», – подумал Григорьев.
Они беседовали в основном по-русски, только иногда Генрих переходил на немецкий, и тогда в разговор встревал Рики.
– Жаль Драконова, – вздохнул Рики, – писатель он был бездарный, но все равно жаль. Нет-нет, вы не думайте, Владимир здесь ни при чем! Даже если бы он знал о мемуарах, ему это безразлично. Мало ли какие выходят книжки? Ему читать некогда. Вот если бы перевели на русский мой роман, он непременно бы прочитал. Непременно.
– Он интересовался вашим творчеством, Рики? – улыбнулся Григорьев.
– Он интересовался моей коллекцией, – сообщил Генрих по-русски, совсем уж мрачно.
– Фотографиями? – небрежно уточнил Григорьев.
– Он купил у меня один из самых ценных экспонатов, – сказал Рейч и ковырнул вилкой осетрину.
– Любопытно, что именно?
Рейч аккуратно соскреб слой соуса, отправил в рот маленький кусочек рыбы, хлебнул воды и спросил:
– Вам что-нибудь говорит имя Отто Штраус?
– Личный врач Гиммлера? Один из тех, кто проводил зверские эксперименты над людьми в концлагерях и был в Нюрнберге приговорен к повешению?
– Да, вы неплохо знаете историю, – кивнул Рейч и странно, отрешенно улыбнулся. – Владимир Приз купил у меня платиновый перстень Отто Штрауса. Купил, и сразу надел на мизинец. Теперь носит, не снимая.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Над деревней Кисловка Московской области набухла туча, не сгусток дыма, а настоящая туча, толстая, тяжелая, грозовая. Ждали хорошего ливня, но воздух оставался сухим и шершавым. Туча висела, а дождя все не было, только иногда на востоке, над кромкой леса, вспыхивали оранжевые зарницы, от раскатов далекого грома пугалась и вздрагивала скотина. День был темным, как ночь. На электростанции случилась авария, в окошках мерцали слабые огоньки свечек и керосинок.
Кузина Анастасия Игнатьевна работала фельдшерицей в медпункте при агрокомплексе. Ей было пятьдесят лет. Она жила одна, изба ее стояла на самом краю Кисловки. Дальше начиналось открытое поле, разрезанное на две части проселочной дорогой, потом лес, маленькое деревенское кладбище на опушке. В ясные дни из окна был виден голубой масляный купол кладбищенской часовни с узорным крестом и крона молодой березы, которая успела вырасти на могиле единственного сына Анастасии Игнатьевны, Василия.
Он погиб семь лет назад. Его, как положено, взяли в армию, когда исполнилось восемнадцать, и тут же отправили в Чечню. Больше года Анастасия Игнатьевна не имела никаких известий от сына, не знала, где он служит, потом получила официальную бумажку, в которой сообщалось, что сын ее погиб при выполнении какой-то спецоперации, а через пару месяцев ей выдали маленькую керамическую урну. Внутри было все, что осталось от ее Васи.
Анастасия Игнатьевна не могла спать без света. Керосинка сильно коптила. Струйки дыма переплетались, тянулись к потолку.
– Васенька! – тихо позвала Настя. – Дай водички попить.
Кружка с водой стояла совсем близко, на подоконнике. Настя нашла ее на ощупь и, стукнув зубами о жестяной край, пробормотала:
– Спасибо, сынок, спасибо, милый.
За окном полыхнула очередная зарница, осветила на миг маленькую чистую комнату, беленый бок печки, выпуклый зеленоватый экран телевизора, полированную спинку тахты, фотографии на стенах. На самой большой был запечатлен Василий перед уходом в армию, уже побритый наголо, хмурый и напряженный. Анастасия Игнатьевна могла часами смотреть в его остекленевшие глаза и вести с ним спокойные неспешные диалоги, рассказывая о каждом прожитом дне, жалуясь на соседей, на гипертонию и отвечая вместо него самой себе что-нибудь ласковое.
– Видишь, Вася, как сухо, какое долгое ведро стоит? – спросила она, успев поймать за короткую вспышку стеклянный взгляд с фотографии. – Листья сохнут, как будто уже осень. Сохнут и падают, падают.
– Да, мама, могилку мою совсем занесло. Земля тлеет. Ты бы сходила, прибрала.
– Схожу, сынок. Как рассветет, сразу и пойду.
Еще одна зарница выхватила из мрака круглое лицо Василия, и Насте показалось, что он нахмурился.
– Нет, ты сейчас иди!
Шарахнул далекий гром, ветер загремел листьями, и звук был таким, словно они вырезаны из жести.
– Скорее, мама, скорее…
Она понимала, что голос сына ей только чудится. Но больше поговорить было не с кем. Очень тяжело, когда не с кем поговорить, и вот она уже многие годы баюкала свою одинокую тоску этими воображаемыми диалогами.
Однако сейчас тихий голос Василия звучал вполне самостоятельно, звал ее настойчиво и страшно.
Кругом тлел торф, горели леса. А кладбище как раз на лесной опушке. Конечно, ничего там не загорится, но все-таки лучше сходить, все равно бессонница.
Настя встала, нашарила тапки под кроватью, прямо на рубаху накинула халат, затянула поясок, наспех повязала седую стриженую голову ситцевым платком.
Поднялся ветер. Дверь избы громко стукнула, в соседнем дворе проснулся старый кобель Дружок и залаял дурным басом. Анастасия Игнатьевна легко засеменила по тропинке через поле. Мрак не пугал и не сбивал ее, она знала наизусть эту дорогу и прошла бы по ней с закрытыми глазами.
Опять вспыхнула молния, гром ударил совсем близко. Настя ускорила шаг. Сквозь протертые подошвы фланелевых тапок она чувствовала тревожный жар, исходивший от земли. Земля жгла ступни и гнала вперед. Вася, когда был маленький, очень боялся грозы.
Легко, как молодая, взбежала Настя на пригорок. Глаза привыкли к темноте, она уже различала церковный купол. Крона березы на могиле Василия крупно, быстро дрожала под порывами ветра. Очередная вспышка осветила аккуратный жестяной крест. С овальной фотографии Вася хмуро глядел на мать.
Когда утих раскат грома, она услышала какой-то новый, странный звук. На лицо ей упало несколько тяжелых крупных капель.
– Господи, дождь! – Настя заулыбалась, растерянно огляделась. Следовало скорей бежать назад, домой. Она сама не понимала, зачем среди ночи ее понесло на могилу. Раньше ничего подобного с ней не случалось. Диалоги с погибшим сыном были всего лишь печальной игрой, утешением, но никак не помешательством. Видно, совсем стало плохо с головой от гари и повышенного давления. Если, не дай Бог, кто-то из соседей узнает, подумают: свихнулась фельдшерица. Следовало бежать домой, но она медлила. Капли падали все чаще. Деревья благодарно, радостно зашумели. У Анастасии Игнатьевны возникло странное чувство, что она здесь не одна.
– Кто тут? – спросила она как можно бодрей и громче.
Ответом был новый, жуткий порыв ветра. Долгая яркая молния озарила кладбище. Анастасия Игнатьевна успела заметить скрюченный силуэт у белой церковной стены, разглядела маленькое светлое пятно лица, длинные упутанные патлы и немного успокоилась. Похоже, на кладбище забрела деревенская юродивая Лидуня, существо забавное и безобидное.
– Лидуня, ты, что ли? Смотри, промокнешь, простудишься.
Настя решительно шагнула к церкви, чтобы поднять Лидуню, отвести домой.
– Ну что застыла? Плохо тебе? – Она подошла совсем близко, кряхтя и охая, присела. В кармане халата был коробок спичек. Огонек вспыхнул, ослепил, Настя спрятала его от дождя в шалаш из ладоней и наконец заглянула Лидуне в лицо.
Но никакая это была не Лидуня. На Анастасию Игнатьевну смотрели совершенно чужие глаза. Они были большие, черные, в них подрагивали два крошечных спичечных огонька.
Настя не испугалась, не закричала, только чуть отстранилась и чиркнула новой спичкой. Перед ней на земле сидел ребенок, девочка лет четырнадцати, лохматая, оборванная, немытая. Такие шныряют по электричкам, клянчат милостыню.
– Нет у меня ничего, – сердито проворчала Настя и поднялась на ноги, – нашла место! Иди домой!
Девочка не ответила.
Дождь усилился, платок на голове быстро намокал, а в голове закрутилось черт знает что. Она вспомнила деревенскую легенду о юной барышне, которая утопилась лет сто пятьдесят назад из-за несчастной любви и была похоронена за кладбищенской оградой. Девица эта якобы выходила ночами из своей могилы, бегала по окрестностям и, если кого встречала, пила кровь. В детстве Настя верила в эти сказки, сейчас, конечно, нет, но все-таки продрал озноб. На самом деле, девчонка-нищенка могла забрести на кладбище за продуктами, которые оставлялилюди на могилах. Яблоки, конфеты, крутые яички, спиртное. Не исключено, что где-то поблизости прячутся взрослые воры. Взять у одинокой фельдшерицы нечего, но зарезать могут и за три рубля, и за двести грамм медицинского спирта.
– Не знаю, не знаю, кто ты такая, что здесь делаешь, Бог поможет, – неуверенно промямлила Настя.
Дождь превратился в ливень, однако ноги как будто приросли к земле. Насте стало совестно и жалко оставлять одинокого ребенка ночью, на кладбище, в грозу. Кто бы ни была эта девочка, побирушка, воровка, все равно человек, к тому же маленький и беспомощный.
– Идти можешь? – крикнула Настя сквозь шум ливня.
Девочка опять не ответила. Голова ее свесилась на грудь, волосы закрыли лицо.
– Ты глухонемая? – спросила Настя, опять присев перед ней на корточки и пытаясь подробней разглядеть ее лицо в темноте.
Девочка открыла рот, поднесла руку к горлу и помотала головой.
– Нет? Не глухонемая, но говорить не можешь? Что-то с горлом?
Девочка кивнула.
Анастасия Игнатьевна хотела поднять ее и, прикоснувшись, почувствовала, какая она горячая. У ребенка был жар, не меньше тридцати девяти. Настя профессиональным движением нащупала пульс на мокром тонком запястье. Он был частый и слабый. Ни о чем больше не рассуждая, она побежала к небольшой кособокой избе, в которой когда-то жил кладбищенский сторож, а теперь хранилась всякая хозяйственная утварь. Дверь была заперта на замок, ключ прятали в дранке, в широкой щели между бревнами. Через пять минут Анастасия Игнатьевна вернулась, с трудом катя по мокрой траве старую, но крепенькую тачку с двумя оглоблями.
– Ну, давай, помогай мне, не отключайся! – приказала Настя, усаживая ее в тачку. Девочка оказалась совсем легкой.
Вниз с пригорка, потом через поле, но не по размякшему суглинку дороги, а рядом, по траве, Анастасия Игнатьевна волокла тачку. Иногда она останавливалась, чтобы перевести дух, поправляла мокрые волосы, вытирала лицо отжатым платком.
Ливень кончился, ветер отогнал тучу, открылась гигантская, расплывчатая, матово-розовая луна. Дышать стало значительно легче.
– В избу сама войдешь? – спросила Настя у крыльца и легонько похлопала девочку по мокрым щекам. – Давай, миленькая, очнись, и ножками, потихонечку. Как тебя зовут?
Девочка помотала головой и опять поднесла руку к горлу. Настя подняла ее и втащила в избу. Едва они оказались в сенях, сам собой вспыхнул свет и заработал телевизор. Не обращая внимания на рекламные рулады, Анастасия Игнатьевна усадила свою гостью на сундук. Девочка была босая. Ее одежда, джинсы и футболка, пропиталась грязью и порвалась.
По телевизору шли новости. Рассказывали о пожарах. Горели торфяники, с вертолетов их пытались заливать водой. Настя услышала краем уха, что в двадцати километрах от поселка Первушино горит лес. Очаг возгорания находится на территории бывшего пионерского лагеря «Маяк». Первушино было совсем близко от Кисловки, а пионерлагерь и того ближе, если идти лесом, по берегу реки, можно дойти часа за четыре. В пионерлагере четверть века назад, три лета подряд Настя работала медсестрой. Теперь там ничего нет, кроме ржавого забора и заб-' решенных, сгнивших деревянных корпусов.
– Скажите, а там могут находиться люди? Например, рыбаки, грибники, туристы? – спрашивал на экране корреспондент у какого-то ответственного чина.
– Это практически исключено, —отвечал чин, —там нет грибов, почва болотистая. Рядом протекает река Кубрь, но рыбы в ней давно не водится. И туристам там тоже, в общем, делать нечего.
– Но высказывалась версия, что лес мог загореться от незатушенного костра, а потом уже вспыхнули корпуса лагеря.
– Это всего лишь версия. Мы пока пытаемся ликвидировать огонь с вертолета. Добраться туда по земле невозможно. На сегодня наша главная задача, чтобы пламя не перекинулось дальше, к жилым поселкам.
Анастасия Игнатьевна почти не слышала, что говорили по телевизору. Она смотрела на страшные ожоговые пузыри, которыми были покрыты ноги и руки девочки. Длинные темные волосы опалены, но не слишком. Лицо не пострадало, если не считать ссадину на щеке, под слоем грязи. Но руки и ноги были в ужасном состоянии. Непонятно, как она могла идти с такими ожогами на ступнях. Но ведь не с неба же она свалилась.
На среднем пальце правой руки Настя увидела странный перстень, вроде бы старинный, из белого металла, массивный, похожий на мужской, без камня, но с печаткой, с полустертой гравировкой. Обожженные пальцы распухли, снять его было невозможно.
– Ой, Господи, как же больно тебе, миленькая, – прошептала Анастасия Игнатьевна и принялась за дело.
Одежду пришлось разрезать, чтобы не содрать пузыри. На теле ожогов не оказалось. Девочка была худая, как дистрофик. На шее висел золотой православный крестик, в ушах маленькие золотые сережки.
– Нет, ты не бездомная побирушка, – бормотала Настя, – что же с тобой случилось? Ожоги сильные, второй степени, но поверхность небольшая, только стопы и кисти. А температура отчего? Ведь не меньше тридцати восьми. На вот, выпей, – она бросила в кружку таблетку парацетамола. – Глотать можешь?
Девочка пила с жадностью, но глотать ей было трудно. Анастасия Игнатьевна приготовила слабый раствор марганцовки, достала упаковку стерильных салфеток, фурацилиновую мазь.
– Как же тебя зовут?
Девочка помотала головой, мучительно сморщилась, сглотнула, открыла рот. Глаза ее наполнились слезами.
– Ты ведь слышишь меня и понимаешь? Но даже стонать не можешь, хотя тебе больно. Потерпи, скоро станет легче. Больно, но не смертельно. И шок у тебя, конечно. Ничего, миленькая, ничего, моя хорошая. До свадьбы заживет.
Анастасия Игнатьевна продолжала разговаривать, делая обезболивающий укол, обрабатывая ожоги. Судя по тому, что девочка не могла издать ни звука, у нее была афония. Она лишилась голоса из-за спазма голосовых связок. Такое бывает в результате сильных нервных потрясений. Ничего страшного. Скоро должно пройти.
Кончились новости, оглушительно заорала реклама. Анастасия Игнатьевна выключила телевизор, достала фонендоскоп.
– Дай-ка я тебя послушаю. Дыши глубоко. Теперь не дыши. Повернись. А чего худая такая? Плохо питаешься? Или на диете сидишь, о фигуре заботишься? Ох, смотри, все хорошо в меру. Жирок кое-какой должен быть обязательно, а то могут начаться проблемы со здоровьем, по женской части. Ты, кстати, покушать не хочешь?
Запекшиеся губы чуть дрогнули. Наверное, девочка пыталась улыбнуться, но не получилось.
– Ладно, – вздохнула Анастасия Игнатьевна, – давай, поднимайся, в легких у тебя, слава Богу, чисто. Никаких хрипов. Сейчас теплого чаю попьешь, и спать. А завтра решим, что делать дальше. Хочешь чаю с медом?
Через полчаса все процедуры были закончены. Руки и ноги забинтованы. Настя надела на нее самую мягкую из фланелевых рубашек своего сына, отвела в его комнату, уложила в его постель.
Восемь лет там никто не жил и не спал, но Анастасия Игнатьевна упорно поддерживала чистоту, мыла полы, перестилала белье, протряхивала одеяло и подушки. Убедившись, что девочка уснула, она погасила ночник, прикрыла дверь, налила себе еще чаю.
– К участковому сходить? Разбудить, чтобы там связался с кем следует? Может, ищут ее родители, с ума сходят? – спросила Анастасия Игнатьевна, опять обращаясь к фотографии сына.
Но был третий час ночи. Участковый жил на другом конце деревни, сейчас крепко спал. Настя представила, какое у него будет лицо, если она примчится, поднимет его с постели. И начнет рассказывать, как отправилась ночью на кладбище, в полной темноте, Васину могилку от листьев расчистить. Нет, лучше не надо. Разумней подождать до утра.
* * *
К ночи Франкфурт остыл, продышался. Темное небо затянулось влажной дымкой, позолоченной снизу ночными огнями. Запахло дождем. Из ресторана шли пешком. Рики слегка отстал, разговаривал по мобильному телефону. Григорьев впервые остался с Рейчем наедине. Он решил пока не касаться главного вопроса. Тему фотографий логичней будет затронуть в антикварном магазине, просматривая альбомы, и так, чтобы Рики не маячил поблизости. У юноши постоянно подрагивали уши, и обо всем имелось оригинальное мнение. После недолгого общения Григорьева стала раздражать его томность, его манера прикасаться к собеседнику то ногой, то рукой, как бы нечаянно. Но главное, Андрею Евгеньевичу не нравилось, что нежная детка все слушает, причем как-то слишком внимательно для своего возраста и положения. Иногда Григорьеву даже казалось, что Рики кое-что понимает по-русски. Понимает, но помалкивает.
– Драконов, безусловно, владел какой-то информацией, – рассуждал Генрих. – Другое дело, что он вряд мог самостоятельно отделить зерна от плевел. Для этого надо много лет крутиться внутри системы. А Лев был всего лишь посредственным беллетристом, к тому же патологическим болтуном и лентяем. Знаете, есть такая порода энергичных бездельников, живчиков, которые страшно много суетятся, за все хватаются и ни на чем не могут сосредоточиться. Сейчас я сомневаюсь, написал ли он хотя бы страниц десять этих мемуаров, существуют ли они вообще.
– И все-таки вы ему поверили? – улыбнулся Григорьев.
– Не настолько, чтобы заключать договор и брать аванс у издательства. Правда, я подарил ему дорогую серебряную ручку с дарственной надписью, но только потому, что у него был день рождения.
Они остановились у светофора и замолчали. Машин не было, но они стояли и ждали, когда загорится зеленый. Рейч беспокойно обернулся, увидел Рики. Он медленно приближался, все еще разговаривая по телефону.
– С кем это он так долго? – проворчал Рейч.
Рики догнал их, захлопнул телефон. Загорелся зеленый, они перешли дорогу.
– Мы с Генрихом планируем усыновить ребенка, мальчика, совсем маленького, не старше трех месяцев, – задумчиво сообщил Рики. – Здесь, в Европе, это не просто, особенно если речь идет о здоровом белом младенце. А вот на вашей бывшей родине – никаких проблем. Русские торгуют своими детьми. Забавная тенденция, верно? Такой общенациональный акт абсурда, что-то вроде глобального социального перформанса. Как вы думаете, сколько стоит сегодня здоровый русский младенец мужского пола? Заметьте, не сирота, не подкидыш.
– Понятия не имею.
– От одной до трех тысяч евро. Причем мать получает около сорока процентов, остальное идет посредникам, чиновникам, которые оформляют необходимые документы. Самое интересное, что никого не волнует, зачем покупается ребенок – для усыновления, для донорских органов, для забав сексуальных извращенцев. Плати деньги, забирай живой товар и делай с ним, что хочешь.
– Мы почти пришли, – сказал Рейч, – если вы не слишком устали, можем зайти ко мне на полчаса, выпить по чашке чая. А потом я вызову для вас такси. Кстати, в какой гостинице вы остановились?
– В «Манхэттене», у вокзала.
– Дрянной отель. Дорогой, но дрянной. Вас привлекло название? – Рики зевнул и прикрыл рот ладошкой.
– Не знаю. Я, честно говоря, не выбирал. Заказал через Интернет то, что попалось на глаза.
– Так вы зайдете или нет? – спросил Рейч. – Вот мой дом.
Они остановились у чугунных ворот. За высоким забором виднелся ухоженный садик и фасад пятиэтажного дома конца XIX века. На толстых столбах были прибиты блестящие медные таблички, всего штук десять, с именами владельцев квартир. Здесь жили адвокаты, дантисты, психоаналитики. Григорьев нашел ту, на которой красовалось имя Генриха Рейча. Он обозначил себя «литературный агент», а рядом выгравировал: «Рихард Мольтке, писатель».
«Ну конечно, все общее, даже банковские счета, – грустно улыбнулся про себя Григорьев, – может, этот маленький злой фавн – наказание хитрюге Рейчу за все гадости, которые он натворил? Впрочем, почему наказание? Он ведь счастлив, старый дурак. Разве так важно, сколько продлится это счастье и чем закончится?»
В просторной полутемной гостиной они опять остались вдвоем. Рики отправился принимать ванну после такого жаркого дня. На всякий случай Григорьев стал говорить по-русски.
– Генрих, вы не забыли позвонить в банк, предупредить, чтобы заблокировали ваши карточки? У вас ведь вытащили бумажник.
– О, да, конечно. Я это сделал сразу. Кстати, сколько вы собираетесь предложить мне за информацию?
– А в какую сумму вы сами оцениваете то, что можете мне сообщить?
Рейч тихо засмеялся и покачал головой.
– Смотря что вас интересует. Если я вас правильно понял, речь идет о мемуарах, которых нет? Сколько может стоить то, чего нет? Генерал – вор, писатель – врун, и оба мертвые, – Рейч вздохнул, – дрянь, а не информация. Как вы, русские, говорите, дырка от бублика.
– Но вы не исключаете, что Драконова убили из-за этих мемуаров?
– Из-за болтовни о них, – уточнил Рейч, – я поверил Драконову, мог поверить кто-то еще. Лев умел не только болтать, но и слушать. Генерал Жора любил рассказывать о своих подвигах. У него к старости амбиции доминировали над здравым смыслом, он говорил о себе как о великом русском полководце. Всерьез заявлял, что его фигура имеет для российской истории не меньшее значение, чем фигуры Суворова, Кутузова, Жукова. Портрет его должен непременно быть во всех школьных учебниках и энциклопедиях.
– Он, кажется, пил крепко? – спросил Григорьев.
– Ну да, да, – поморщился Рейч, – пил, жрал, как свинья. Однако у него хватило ума наворовать миллионы и спрятать их так, что никто до сих пор не может найти.
– А племянник? Вы сказали – за ним стоят дядины деньги.
– Существует версия, что дядя все оставил ему. Собственно, других наследников у генерала не было. Деньги хранятся в нескольких швейцарских банках. Система защиты простая и надежная. Любая операция требует личного присутствия владельца счета, поскольку кодом доступа являются отпечатки его пальцев и компьютерное сканирование радужки глаза. Но есть иные версии. Например, что деньги генерала Жоры – миф. Наворовали другие, и все свалили на Колпакова. А Приза раскручивают некие структуры, криминальные, силовые, коммерческие, это кому как больше нравится, в общем, тайные силы, заинтересованные поставить во главе оппозиции свою марионетку. Конечно, президентом он не станет, это смешно, однако политическое будущее у него есть.
Андрей Евгеньевич не спешил заводить разговор о фотографиях. Генриху совсем не обязательно знать, за какой именно информацией явился к нему Григорьев. Не стоило спешить. В конце концов, это не последняя их встреча.
Что касается Владимира Приза, всего лишь пару недель назад он пытался отмахнуться от Маши, он уже слышать не мог об этом Вове. «Прекрати! Над тобой смеются», – повторял он, когда она пыталась доказать ему, что Приз не безмозглая марионетка, что он опасен.
– Генрих, что собой представляет этот Приз?
– Вы меня спрашиваете? – усмехнулся Рейч.
– Ну, а кого же еще? Вы с ним общались недавно, он купил у вас перстень доктора Штрауса. Кстати, любопытно – зачем?
– Зачем? – Рейч хрипло хохотнул. – Есть две породы людей, которые тратят большие деньги на подобные штуки. Коллекционеры и фанатики идеи. Коллекционером Владимир Приз не является. Но он не просто фанатик идеи. Он маньяк. Я же вам говорил. Он нацист, он как будто родом из Третьего рейха. Даже внешне чем-то похож на молодого Гитлера, и страшно гордится этим. Удивительно, что в России этого до сих пор никто не замечает.
* * *
Анастасия Игнатьевна проснулась необычно поздно и удивилась, поскольку ей казалось, что этой ночью она вообще не сомкнула глаз. Комнату заливал дымчатый, знойный свет. Во дворе, под самым окном, возмущенно орал петух и кудахтали куры. Было девять.
Настя несколько минут лежала, растерянно глядя в потолок и пытаясь собраться с мыслями. Бессонные ночи не были для нее чем-то необычным, но никогда еще она не чувствовала себя такой разбитой и никогда не спала утром до девяти.
Дверь в соседнюю комнату оставалась приоткрытой. Настя привыкла каждое утро видеть застеленную кровать, на которой когда-то спал Василий, гладкое покрывало, подушки, высоко взбитые и накрытые гипюровой накидкой. Сейчас в дверном проеме виднелось смятое байковое одеяло, из-под него торчала забинтованная нога.
– О, Господи, – прошептала она, опомнившись. Девочка крепко спала. Анастасия Игнатьевна убрала с ее лица длинную слипшуюся прядь. От прикосновения девочка вздрогнула, пожевала запекшимися губами, перевернулась на бок, но не проснулась.
– Ладно, спи, – вздохнула Настя и отправилась кормить кур.
У калитки маячила юродивая Лидуня. Она часто заходила к фельдшерице. Настя кормила ее, мыла, расчесывала длинные жидкие патлы, которые Лидуня не давала подстричь. При виде ножниц поднимала жалобный крик и рев.
Лидуня никогда ничего не клянчила, просто подходила к забору, садилась на корточки и рисовала палочкой, летом на земле, зимой на снегу. Рисовала она всякие каракули, как трехлетний ребенок. Ей было около сорока. Она родилась здоровой, но в раннем детстве перенесла менингит и так и осталась на всю жизнь маленьким ребенком, восторженным, добрым и обидчивым.
– Солнушко! – сообщила она, увидев Настю, оскалила беззубый рот и указала палочкой, зажатой в кулаке, на мутный розовый диск.
– Привет, Лидуня, кушать хочешь? Заходи. – Анастасия Игнатьевна открыла калитку.
Лидуня прошмыгнула во двор, мимоходом ткнув палочкой в открытое окно комнаты Василия.
– Вася плиехаль? – спросила она радостно и побежала в дом.
Наверное, из всех жителей деревни только одна Лидуня помнила Васю.
Анастасия Игнатьевна поднялась вслед за ней на крыльцо и, едва шагнув в сени, услышала веселый удивленный голос:
– Вася! Вася!
Лидуня стояла у кровати. Девочка завертелась, откинула одеяло, села. Длинные волосы закрывали лицо.
– Кто это? – испугалась Лидуня и отскочила, спряталась за Анастасию Игнатьевну.
– Ох, если бы я знала, – пробормотала Настя и обратилась к своей ночной гостье.
– Доброе утро. Как чувствуешь себя?
Девочка забинтованной рукой попыталась откинуть волосы с лица, тряхнула головой, открыла рот и тихо, сипло закашлялась. Говорить она по-прежнему не могла.
– А где Вася? – растерянно вскрикнула Лидуня. Девочка сильно вздрогнула, уставилась на юродивую, прижала забинтованные руки к груди.
– Вася мой сын, – вздохнув, объяснила Анастасия Игнатьевна и кивнула на фотографию, – он погиб семь лет назад, в Чечне. Это я к нему ходила на кладбище. Понимаешь?
Девочка кивнула.
– Комната его, кровать его. Лидуня все не верит, что он никогда больше не вернется. Он ее защищал. Дети злые, дразнили ее, а мой Вася пару раз даже подрался из-за нее.
– Вася добый, – важно надувшись, подтвердила Лидуня, – Вася пиедет скойо.
– Ну что, говорить не можешь? – спросила Анастасия Игнатьевна, вглядываясь в лицо девочки. – Попробуй шепотом.
Та открыла рот, словно рыба, выброшенная на берег. Было видно, как она пытается издать какой-нибудь звук. Ничего не получалось.
– Но ты не глухая? Ты меня слышишь? – уточнила Настя.
Девочка закивала, притронулась рукой к губам, помотала головой. Глаза ее наполнились слезами. Ей самой было странно и страшно оттого, что она не может произнести ни слова.
– Ладно, не мучайся, – вздохнула Анастасия Игнатьевна, – скорее всего, у тебя афония. Спазм голосовых связок. Это бывает, от переживаний, от нервных потрясений, особенно у подростков. Кстати, тебе сколько лет? Ах, ну да, ты сказать не можешь. И написать тоже не можешь. Ожоги на руках серьезные. Давай так, – она показала десять пальцев, потом еще четыре.
Девочка помотала головой, подняла забинтованную руку и медленно прочертила в воздухе какие-то линии. Настя не поняла, зато Лидуня радостно сообщила:
– Идиница, симёычка!
– Семнадцать? – удивилась Настя.
Девочка кивнула.
Диалог получился довольно скудный. Анастасии Игнатьевне удалось выяснить, что ее гостья живет в Москве, у нее есть родители, но они сейчас где-то далеко и позвонить им нельзя. Лидуня воспринимала происходящее, как забавную игру. Когда Анастасия Игнатьевна отправилась готовить завтрак, она осталась с девочкой и продолжала задавать ей вопросы. Из кухни Настя слышала, как чередуется картавый голосок юродивой с долгими паузами. Потом заскрипели пружины кровати, что-то стукнуло. Через минуту в дверном проеме появились Лидуня и девочка. Юродивая стояла позади и поддерживала свою новую подружку за локти.
– Тетя Настя, тетя Настя, она хочет итико умыть!
– Проводи ее и покажи заодно, где туалет. Вот тапки. Справитесь без меня?
Юродивая энергично закивала.
На завтрак Настя приготовила яичницу с салом. Девочка не могла есть самостоятельно, вилка выпадала из забинтованных пальцев, и Лидуня принялась кормить ее, комично приговаривая: «За маму, за папу!»
– Ну вот, – сказала Настя, когда выпили чай, – теперь сходи за Поликарпычем.
Участковый явился минут через двадцать, сонный, разомлевший от жары. Он весил килограмм сто, сильно потел и страдал одышкой.
– Что у тебя стряслось, Игнатьевна? – спросил он, тяжело присаживаясь на скамеечку у крыльца.
Настя рассказала ему про девочку, правда, слегка изменила время. Ей неловко было признаваться, что она бегала на кладбище глубокой ночью. Она перенесла действие на раннее утро.
– Так, так, – важно кивал участковый.
До его маленького отделения ориентировка на четырех пропавших подростков пока не дошла. Факс имелся, но не работал. Настроение у Поликарпыча было скверное. С утра он плохо соображал, поскольку выпил вечером, к тому же от жары у него всегда поднималось давление, и пот заливал не только глаза, но и мозги.
– Ну что, говорить совсем не можешь? – спросил он, дослушав до конца и разглядывая девочку. Та в ответ отрицательно помотала головой.
– И писать тоже?
– Нет пока, – ответила за нее Настя, – ожоги на руках ужасные. Ей семнадцать, живет в Москве. Единственное, что я выяснила.
– Ты в зону пожара попала, что ли? – спросил Поликарпыч, повышая голос и выговаривая слова так, словно перед ним была глухая или иностранка.
Девочка опять кивнула.
– Ну и что делать с тобой? Как тебя оформлять? Потеряшка, бродяжка, кто ты у нас? Из Москвы. Значит, отдыхала здесь где-нибудь поблизости. Выехала на природу, не одна, наверное, с компанией. Захотелось вам косгтрок в лесу развести, то, да се, выпили, завалились спать, а про костерок-то и позабыли. Так дело было? Сейчас вон, ,за Первушиным, горит, вдоль берега Кубри все полыхает, там бывший пионерлагерь, места дикие, безлюдные. Здесь у нас в Кисловке дождик покапал, а там все никак. Хотя, .если верить моей гипертонии, дождик еще будет. Ну, да ладно, гипертония у меня дура, соврет, не дорого возьмет. Слушай, а если ты была не одна, в компании, то где остальные?
Девочка помотала головой, открыла рот. Лицо стало таким несчастным, что Лидуня принялась гладить ее по голове, а Настя сердито одернула участкового:
– Хватит болтать, Поликарпыч. Надо решать, что девать.
– Ну что, что? Докладывать районному начальству. Она из Москвы, говоришь? Вот пусть ее доставят, куда положено, и разбираются по месту жительства.
Выпив литр домашнего кваса, Поликарпыч отправился к себе в отделение, ворча под нос, что наверняка никого из начальства сейчас на месте не окажется и никто на себя эту ерунду брать не захочет. Что толку от девчонки? Ни к отчетности ее не подошьешь, ни в какую статистику не подпишешь. Была бы она, допустим, в розыске, или имелись бы при ней хоть какие документы, или могла бы что-то на словах сообщить о своей личности, тогда поятно. А так – толку чуть, возни много. Хорошо, если машину пришлют, а то ведь придется, чего доброго, везти ее в Лобню на своей развалюхе, по такому пеклу.
Поликарпыч доплелся до отделения, отдышался на крыльце, выкурил сигарету и позвонил вышестоящему начальству, в город Лобню. К его глубокой досаде дежурным оказался Колька Мельников, старший лейтенант, человек вредный, грубый и нервный.
– Слышь, Коля, тут у меня потеряшка, – начал объяснять Поликарпыч, – девчонка семнадцати лет, обгоревшая, без документов, вроде проживает в Москве. Попала в зону пожара, говорить не может. Там у вас, случайно, ориентировок никаких не поступало?
Вопреки ожиданиям старший лейтенант Мельников отреагировал вполне живо, спросил, как она выглядит.
– Девушка, семнадцать лет, волосы длинные, темные. Глаза темные, лицо овальное, нос прямой, рост средний – принялся объяснять Поликарпыч и еще раз, не спеша, изложил все подробности.
– Погоди, что значит – не может говорить? Глухонемая, что ли? – тревожно спросил Мельников.
– Да нет, вроде нет. Игнатьевна сказала, шок у нее, от нервов.
– Кто такая Игнатьевна?
– Фельдшерица, Настя Кузина. Я ж объясняю, она ее на кладбище подобрала, полумертвую. Я вот не знаю, что делать? В Москву везти или сюда к вам, в больницу сначала? Ты скажи, ориентировка хоть какая похожая не поступала? Девушка, семнадцать лет…
Насчет ориентировки старший лейтенант так и не ответил, зато пообещал приехать и разобраться, чем несказанно удивил деревенского участкового. Уж от кого, но от Кольки Мельникова он не ждал такой расторопности и такого человеческого участия.
Колька был из местных, родился в соседнем поселке, в неблагополучной пьющей семье. Лет пятнадцать назад Поликарпыч лично драл его за уши и не ставил на учет только из жалости. Подросток Мельников пару раз вместе с компанией пытался ограбить сельский магазин, участвовал в кровавых драках на дискотеке, причем отличался особенной, отчаянной жестокостью.
Была одна история, совсем уж паскудная. Какие-то мерзавцы напали на юродивую Лидуню, изнасиловали ее, избили и бросили в лесу. Случайно на нее наткнулся Вася Кузин, сын фельдшерицы Насти, дотащил до деревни, приволок в медпункт. Настя месяц ее выхаживала.
Преступников так и не нашли. Не было свидетелей. Лидуня сжимала в кулаке черный капроновый чулок. Немного оправившись, сумела объяснить, что напало на нее четыре человека и морды у них были черные. Позже по деревне пошел слух, что чулок она содрала с головы Кольки Мельникова. Но доказательств никаких не было, кроме истошных криков Лидуни, когда она видела подростка Мельникова.
Он мог бы стать уголовником, но после армии пошел служить в милицию.
Поликарпыч включил электрический чайник, уселся на крыльцо. Да, Колька Мельников мог бы стать уголовником, а стал старшим лейтенантом, и вполне возможно, дослужится до полковника. Интересно все-таки поворачивается жизнь. Пройдет еще лет десять, и вот вам полковник милиции, Мельников Николай Иванович, солидный уважаемый человек. И никто не вспомнит, каким он был: наглый, хитрый подросток, бьющий всегда до крови, жестокий звереныш по кличке Лезвие.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
– Терпеть не могу чай в пакетиках, – сказал Рейч, заливая заварку кипятком в пузатом фарфором чайнике, – странная русская привычка – пить на ночь крепкий чай.
– Я больше люблю кофе, – сказал Григорьев.
– Кончился кофе. Это вам не Москва. В Москве можно купить что угодно, в любое время суток, от пачки кофе до автомобиля. Остальная цивилизованная Европа к восьми вечера закрывает магазины и отдыхает. Так что попьете со мной чайку. Кстати, кофеину в нем значительно больше.
Они сидели в гостиной при тусклом свете старинных бра. Рики больше не появлялся, вероятно, лег спать. Генрих разлил чай по чашкам, поставил на журнальный стол коробку дорогого шоколада и пепельницу.
– Можете курить. Мы с Рики вообще-то никому из гостей не разрешаем курить в гостиной, но для вас, так и быть, я сделаю исключение.
Генриху хотелось поболтать.
– Страстная любовь нацистов ко всему таинственному, мистическому, шла от интуитивного чувства собственной неполноценности, – задумчиво произнес Рейч, взял свою чашку и понюхал пар, – среди них было мало нормальных здоровых людей. Почти в каждом какое-нибудь уродство, или физическое, или психическое, или то и другое сразу.
Он поставил чашку, кряхтя, поднялся с дивана, подошел к книжным полкам, достал большой потрепанный том. Это была «Краткая энциклопедия Третьего рейха», изданная в США в начале шестидесятых. У Григорьева дома имелась такая же книга, с дарственной надписью от Рейча. Он был одним из составителей.
– Вот, смотрите, – Генрих уселся на ручку его кресла.
«А это, кажется, надолго», – заметил про себя Григорьев, глядя, как бережно переворачивает Рейч плотные пожелтевшие страницы.
– Йозеф Геббельс, – представил Рейч носатого человека на фотографии так, словно лично знакомил с ним Григорьева. – Две главные слабости – женщины и власть. Именно в таком порядке. В общем, ничего оригинального. Обидчив и сентиментален. Вел дневник, в котором аккуратно фиксировал все свои любовные переживания.
«Я оставлю всех женщин и буду обладать только ею , одной. Она останется со мной и расцветет пленительной белокурой сладостью. Где же ты, моя королева?»
Цитату из дневника Геббельса Рейч прочитал выразительно, с придыханием, и стал листать дальше. Открыл на портрете очень красивой женщины. Представил ее.
– Магда Геббельс, в девичестве Фридлендер. Хороша, правда? Была на голову выше своего карлика мужа. Высокая худенькая блондинка с правильными лицом и большими нежными глазами. Ненасытная романтическая авантюристка с претензией на аристократизм. С юности обожала разыгрывать пышные мелодрамы и выстраивать любовные роковые треугольники. Митинги нацистов стала посещать из-за врожденного пристрастия к пафосу. Преклонялась перед Гитлером, боготворила его. Именно фюрер благословил брак Йозефа и Магды, сделал из их дома нечто среднее между партийным штабом и светским салоном, а из них – образцовую арийскую семью. В гостиной с утра было полно народу, фюрер вещал, остальные внимали. Магда в кружевном фартуке готовила для своего божества вегетарианские блюда.
Григорьев слушал молча, прихлебывал чай и смотрел, как молодеет лицо Рейча. Ярче сверкают глаза, на щеках проступает румянец, губы то и дело растягиваются в странной нервной улыбке. Когда он перелистывал страницы, было заметно, что пальцы его слегка дрожат.
– Геббельс, сын бухгалтера из провинциального городка, с юности страдал комплексом неполноценности из-за своей колченогости и малого роста. Это стало стержнем его блестящего пропагандистского дара. Он умел горячо и убедительно орать о неполноценности других людей, миллионов людей, целых наций. Как Гитлер мнил себя великим живописцем, тонкой художественной натурой, так Геббельс считал себя философом, писателем драматургом, человеком искусства. Благодаря помощи Католического общества после войны ему удалось прослушать курсы лекций в нескольких лучших германскил университетах. В 1922-м он даже получил степень доктора философии, защитив диссертацию на тему «Романтическая драма». Но на этом карьера философа для него закончилась. Ему пришлось работать мелким биржевым служащим в банке. Именно тогда он вступил в НСДАП и познакомился с Гитлером. Позже получил возможность компенсировать свои творческие амбиции. Стал министром культуры, публично казнил чужие книги через сожжение, запрещал фильмы и спектакли, а их авторов высылал или истреблял физически. Покровительствовал молоденьким актрисам, каждый очередной роман закручивал по всем законам сентиментальной дешевой мелодрамы, со страстями, слезами, роскошью роковых признаний, букетов и будуаров. Опомнился и стал осмотрительней после истории с чешской актрисой Лидой Бааровой. Из-за двадцатидвухлетней славянки министр культуры чуть не развелся со своей образцовой арийской женой Магдой Он предложил Магде любовь втроем, но такой треугольник Магду не устраивал. Она пожаловалась фюреру. Фюрер в то время планировал вторжение в Чехию. Роман министра культуры с чешской актрисой мог иметь ненужный политический резонанс. Актриса была выслана из Германии, и фильмы с ее участием запрещены к показу на всей территории Рейха.
Рейч замолчал, и стало тихо в гостиной. Григорьев слышал его сиплое дыхание и шорох страниц. Рейч быстро листал книгу, наконец нашел, что искал.
– Забавно, что Лида Баарова тоже вела дневник. «Я была влюблена в этого сильного мужчину, начиненного властью Он целовал каждый сантиметр моего тела, он делал все, чтобы в первую очередь наслаждение получила я, а не он И даже когда он предложил мне незнакомые виды любви, я не испугалась. Мы занимались любовью всю ночь, и если бы не утреннее совещание у Гитлера, Йозеф бы не остановился никогда!». Она умерла всего лишь два года назад Я встречался с ней в Праге. Она до глубокой старости не могла забыть своего маленького косолапого любовника
– Да. все это очень интересно, Генрих, но вы знаете, уже третий час ночи. – сказал Григорьев, – я бы хотел…
Рейч болезненно сморщился и помотал головой.
– Не перебивайте меня, Андрей. То, что я рассказываю, очень важно Эта информация для вас сейчас ценнее любой другой Вы сами поймете, чуть позже. Пока просто поверьге мне на слово. Не спешите, и вы не пожалеете, что потратили ночь. Вы спасли мне жизнь, а я не люблю быть в долгу. Если хотите спать, выпейте еще чаю.
– Хорошо, – вздохнул Григорьев, —хорошо, Генрих. Простите, что перебил.
Рейч кивнул, улыбнулся и перевернул страницу.
– Роман с Бааровой чуть не стоил Геббельсу карьеры. Он впал в немилость. Но случай и сообразительность спасли его. В Париже был убит немецкий дипломат. Убийца оказался евреем. Геббельс выступил перед боевиками партии на юбилее «Пивного путча» и призвал отомстить евреям. Так был придуман и организован грандиозный общегерманский еврейский погром 9—11 ноября 1938 года, вошедший в историю под названием «Хрустальная ночь». И сразу за этим последовал приказ Геббельса всем евреям носить на рукавах желтые звезды. Фюрер был доволен. Он простил своего пылкого министра и вновь приблизил его к себе. На правах близкого друга, вождя и божества помирил Йозефа с Магдой. Каждого очередного ребенка, который рождался в этом семействе, называли на букву «Г». Гильде, Гельмут, Гельда, Гайде, Гедда, Гольде, – Рейч поднял тяжелый том и поднес почти к самому лицу Григорьева семейную фотографию Геббельсов.
– Я знаю, что она их всех отравила в мае сорок пятого, – сказал Григорьев и отвернулся.
– Не сомневаюсь, что вы это знаете, Андрей. Но сомневаюсь, что вы когда-нибудь взяли на себя труд подумать – почему? Согласитесь, среди исторических персонажей всех времен и народов вряд ли найдется вторая такая дама. Представьте, с той степенью живости, с какой позволит вам ваше воображение. Молодая красивая женщина, очень женственная, холеная блондинка с большими нежными глазами. Не пьяница, не наркоманка, не сумасшедшая. По отзывам всех, кто ее знал, милая, обаятельная, чувствительная. Она укладывает шестерых своих детей в кроватки. Младшей девочке три года. Перед этим она попросила врача, который оставался вместе с ними в бункере, вколоть детям инъекции морфия, а когда они заснули, собственноручно вложила каждому в рот по ампуле с цианистым калием и сжимала им челюсти, чтобы ампулы раскололись.
Григорьев встал, прошелся по гостиной, закурил.
– Генрих, а зачем мне это представлять? – спросил он тихо, по-русски
Но Рейч. казалось, не расслышал вопроса.
– Врач предлагал ей вывести детей из бункера, отвести в госпиталь, отдать под опеку Красного Креста. Знаете, что она ответила? «Невозможно. Это дети Геббельса». Взяла из шкафа шприц, наполненный морфием, и вручила врачу. Врач потом плакал. Его звали Гельмут Кунц.
Он был хорошо знаком с доктором Отто Штраусом. Между прочим, именно Отто Штраус снабдил всех, кто остался в бункере к маю сорок пятого, ампулами с цианистым калием.
– Генрих, а как к вам попал его перстень? – спросил Григорьев.
– Я же сказал, не спешите. Всему свое время. На Очереди у нас совсем другой персонаж. Мартин Борман. Сын мелкого почтового служащего из провинциального городка .Хальберштадт. Закончил курсы специалистов сельского хозяйства, пока учился, стал активным членом Молодежного объединения против засилия евреев, при Германской национальной народной партии. Торговал продуктами на черном рынке, был успешным спекулянтом Умел делать деньги на голоде и безработице. В НСДАП вступил в двадцать седьмом году, через год стал начальником хозяйственного отдела. К тридцатому году сблизился с Гиммлером, помогал налаживать финансовый механизм работы СС, стал управляющим кассы взаимопомощи НСДАГТ.
– Я читал, ему удалось ускользнуть из Берлина в мае сорок пятого, – сказал Григорьев, – он скрылся в Латинской Америке вместе с деньгами партии.
– Нет. Он погиб в Берлине, прорываясь сквозь оцепление. Но точно это стало известно только четыре года назад, когда провели экспертизу ДНК останков. Впрочем, это совсем другая история. Мартин Борман перстня «Черного ордена» не носил, в теорию космического льда не верил. Он верил только в деньги. Он знал, как их достать, и умел ими распорядиться. Деньги стояли для него на первом месте, а власть на втором. Он заработал любовь и доверие фюрера, отстегивая ему наличные нужды крупные суммы из кассы взаимопомощи партии, а кассу пополнял, выбивая еще более крупные суммы из карманов самых богатых промышленников Германии. Упрямо теснил своим мужицким крепким плечом всех, кто подбирался к фюреру слишком близко, и в итоге стал тенью Гитлера. Контролировал его личные расходы, строительство резиденций, все, вплоть до кухни и подарков Еве Браун. Но я упомянул этого хитрого жадного орангутанга лишь потому, что он удивительно похож на тех, кого сегодня у вас в России называют олигархами. Смотрите, как интересно. Я, кажется, уже говорил вам, что Владимир Приз как будто родом из Третьего рейха. А Мартин Борман вполне современный персонаж. Время – понятие относительное. Я думаю, если бы эти двое встретились, они бы неплохо поладили.
– Но, слава Богу, они никогда не встретятся, и вообще, Генрих, не каркайте!
– Что? – Рейч удивленно шевельнул бровью. – Вы хотели сказать, не будьте вороной?
– Нет. Совсем другое, – Григорьев улыбнулся, – я хотел сказать: не накликайте беду.
– Разве слова что-нибудь меняют? Нет, Андрей. Болтать можно что угодно. В истории работают совсем другие механизмы. Все повторяется, переплетается. После Первой мировой войны в Германии никто ни во что не верил. Нищета, безработица, коррупция, ночные клубы, игорные заведения, публичные дома. Обнаженные танцоры и танцовщицы извивались перед пьяной публикой. Это «была эпоха черной магии, астрологии, садизма и мазохизма. Немцы, затаив дыхание, следили за громкими судебными процессами над маньяками и вампирами. Газеты печатали самые жуткие подробности убийств. Жестокость стала чем-то вроде общенационального наркотика. Все странное, извращенное, патологическое приветствовалось, все нормальное, здоровое объявлялось скучным и серым. Вам это ничего не напоминает? Германия после Первой мировой, Россия после развала СССР похожи, как родные сестры.
– В начале девяностых – да, в России все было плохо, – кивнул Григорьев, – но сейчас наступила некоторая стабильность.
– Германия перед воцарением нацизма тоже успела пережить короткий экономический подъем. Однако дело не только в экономике и политике. Они духовно похожи. Вам не кажется?
– Нет. Не кажется. И вообще, все эти разговоры о «российских кошмарах мне, честно говоря, надоели. Семьдесят лет советской власти русским рассказывали, как загнивает западное общество. Повальная безработица, наркомания, проституция. На улицах стреляют, всем правит мафия. Русские не верили, смеялись над этим враньем, сочиняли о нем анекдоты. Последние пятнадцать лет западные средства массовой информации то же самое говорят о России. И западное общество верит, с тупой серьезностью. Вы, Генрих, судите о стране, в которой никогда не бывали, по газетам и теленовостям. Это неправильно.
– Ох, как же вы рассердились, Андрей, – улыбнулся Рейч. – Ладно, не буду, как вы выразились, каркать, – он пролистал страницы и опять поднес картинку к самому носу Григорьева.
На картинке был Генрих Гиммлер. Очень удачная фотография. Усталые умные глаза сквозь пенсне, мягкая полуулыбка. Если не знать, кто это, – вполне милое доброе лицо.
– Мой родитель, – произнес Рейч сквозь глухой смешок, – можно даже сказать, отец. Папа.
«Что за бред? Генрих Рейч не может быть сыном Гиммлера. Он, правда, не в своем уме, – тихо ужаснулся Григорьев, – я слушаю его четвертый час. Уже светает. А он, оказывается, сумасшедший».
* * *
«Когда я смогу говорить, я никому не расскажу об этом, – пообещала себе Василиса, баюкая свою забинтованную правую руку, как куклу, – если я начну рассказывать, решат, будто я сумасшедшая или наркоманка. Мне мерещатся какие-то слишком конкретные и подробные кошмары. Может быть, готовясь к экзамену по истории, я переусердствовала? Сколько всего я прочитала о Второй мировой войне? Ну, если честно, не так уж и много. Я зубрила даты, имена полководцев, хронику побед и поражений. Но я не читала о том, как в концлагере жена коменданта шила сумочки из человеческой кожи, о том, как старались понравиться палачам голые жертвы, как выпрямляли спины, расправляли плечи. Женщины царапали себе кожу, чтобы подкрасить кровью щеки и губы. В газовые камеры они шли бодрым шагом и тратили на это жалкие остатки физических и душевных сил. А чудовище, Отто Штраус, откуда он взялся? Я вижу его глазами, слышу его ушами. Я думаю, как он. Его мысли внутри моей головы, словно мозговые паразиты, глисты какие-то. Мерзость. Не хочу думать. Не хочу говорить».
Она лежала, отвернувшись к стене. До нее доносилось мирное, уютное бормотание юродивой Лидуни, которая помогала хозяйке вытряхивать во дворе пестрые тонкие половики. Кудахтали куры, кричал петух. Хозяйка жаловалась Лидуне, что все не может купить пылесос.
– Ты смотри, ходики встали! – услышала Василиса голос хозяйки совсем близко.
Стукнула табуретка. Анастасия Игнатьевна, кряхтя, залезла на нее, чтобы снять ходики.
– Ну что ты будешь делать? Не заводятся! Столько лет шли исправно.
– Дай я папобую! – предложила Лидуня.
– Ты попробуешь! Ты их только доломаешь. Который час? Ой, Матерь Божья, и будильник встал! Это что же за беда такая?
Последнее, что слышала Василиса, была песенка Лидуни:
– Тик-так, тик-так! – тоненько, протяжно повторяла юродивая.
В просторном кабинете, обставленном тяжелой кожаной мебелью, с темными шторами на окнах, которые не пропускали дневного света, тоже остановились часы.
Застыл тяжелый фарфоровый маятник старинных, напольных. Замерли стрелки на маленьких циферблатах золотых наручных. Но два человека в кабинете не заметили этого. Генерал СС, доктор медицины Отто Штраус сидел напротив своего бывшего одноклассника, нынешнего пациента Генриха Гиммлера. На столе перед Гейни лежали аккуратные стопки документов, писем, докладных записок. Он ставил пометки на полях зеленым карандашом, прочитав очередную бумагу, отмечал ее тремя буквами GEL («прочитано»), подписывал, складывал в отдельную стопку. Работая с бумагами, Гиммлер всегда пользовался только зеленым карандашом, в отличие от Геринга, который предпочитал красный.
Рядом, на маленьком круглом столике, лежал старинный лечебник, переизданный недавно по приказу Гиммлера. Из книги торчали аккуратные закладки. Гейни увлекался траволечением. На территории Освенцима, где почва обильно удобрялась пеплом, специальная группа заключенных выращивала целебные травы: ромашку, зверобой, розмарин. В кабинете, на одной из полок, стоял ряд стеклянных банок с сухой травой. Гейни подошел к полке, взял банку, открыл ее, поднес к лицу Штрауса.
– Понюхай, Отто. Это анис. Я завариваю его и пью для улучшения пищеварения. Тебе не кажется, что запах немного странный?
– Пахнет анисом, – сообщил Штраус, пошевелив ноздрями.
– Нет никаких посторонних примесей? – спросил Гиммлер, и сам внимательно понюхал банку.
Гейни боялся ошибиться и проявить слабость. Быть отравленным, застреленным, взорванным, оказаться жертвой заговора – это ошибка, следствие легкомыслия и проявить недобросовестности... Дать себя убить значит проявить слабость.
– У меня третий день подряд болит желудок, и сильное сердцебиение, – пожаловался Гейни.
– Давай я тебя осмотрю.
Они прошли в маленькую комнату, примыкающую к кабинету. Штраус щелкнул выключателем, вспыхнули ослепительные электрические шары. Гейни, вздыхая и кряхтя, снял китель, повесил его на спинку стула, улегся на кушетку, застеленную свежей хрустящей простыней. Штраус вымыл руки, долго тер их полотенцем, чтобы согрелись. Гиммлер не терпел, когда к его коже прикасались холодными пальцами.
– Ты переутомился, Гейни, – говорил Штраус, прощупывая, простукивая рыхлый белый живот своего пациента. – Мало спишь, очень много работаешь. Твой желудок болезненно реагирует не только на тяжелую пищу, но и на нервные перегрузки.
– Думаешь, анис здесь ни при чем?
– Конечно, ни при чем. Если ты, конечно, не будешь злоупотреблять им. Все хорошо в меру.
– Отто, меня хотят отравить.
– Я знаю, Гейни.
– Ты так спокойно говоришь об этом?
– Да, Гейни. Я говорю спокойно, потому, что это совершенно нормально. Есть немало людей, которые желают твоей смерти. Ты знаешь это так же хорошо, как я. Но бояться не стоит. Если возникли конкретные подозрения – надо проверить и принять меры. Не мне тебя учить.
– Отто, я имею в виду не яд, не химическое вещество. Меня травят грязной клеветой, мерзкими подозрениями. Я не убивал Фриду!
– Конечно, Гейни. Ты ее не убивал.
Без привычного пенсне лицо Гиммлера менялось. Оно становилось растерянным и жалким. Таким, каким было двадцать два года назад, в Мюнхене, когда он явился ночью, в маленькую квартиру Отто, студента медицинского факультета. Явился испуганный, дрожащий и сказал, что его ищет полиция,
– Я не убивал эту проклятую шлюху! – повторял он, стуча зубами о стакан с горячим молоком. – Отто, клянусь, я ее не убивал!
Штраус поверил ему. Гейни с детства был робким, тихим, законопослушным. Он боялся своего отца, директора гимназии, боялся учителей и одноклассников. Ему всегда хотелось быть правильным, чтобы никто не ругал, не наказывал, только хвалили. Из него должен был получиться отличный, исполнительный чиновник. Но уголовный убийца – никогда.
– Меня хотят отравить, – шептал он, – этот евнух, этот интриган хочет отравить нас всех, даже фюрера! Он на каждого собирает секретное досье. Ты понимаешь, о ком я говорю?
Штраус уже давно понял. Перед его мысленным взором возникло лицо Гейдриха. Правильный тонкий овал. Огромный, круто срезанный кверху лоб в обрамлении белокурых гладких волос, разделенных идеальным пробором. Голубые глаза. Тяжелый мужественный нос. Крупный рот, надменный и чувственный.
– Гейдрих отлично работает, его престиж растет, фюрер ценит его очень высоко, считает умницей, преданным и честным бойцом. Скоро он станет министром внутренних дел, – тихо, задумчиво произнес Гейни и подергал себя за ухо.
Уши у него были оттопырены, в детстве его дразнили ушастиком.
– Да, – кивнул Штраус, – наш друг Рейнхард блестяще работает. Особенно удачна его политика «кнута и сахара» в Моравии и Богемии. Он умеет подавлять население оккупированных территорий не только суровыми репрессиями, но и хитростью. Он разрушает сопротивление врага изнутри. Враг чувствует его силу и ненавидит его. А ненависть населения оккупированных территорий – вещь опасная.
– В Праге сейчас неспокойно. – Гейни встал с кушетки, накинул халат, надел свое пенсне и озабоченно сдвинул брови. – Конечно, замок в Градчанах хорошо охраняется. Резиденция имперского заместителя протектора Богемии и Моравии, обергруппенфюрера СС Рейнхарда
Тейдриха охраняется очень хорошо.
Отто тонко улыбнулся.
– Да, я не сомневаюсь, что охрана там самая надеж-,ная. Но если бы обергруппенфюрер постоянно находиллся у себя в резиденции, тогда можно было бы с полной «уверенностью гарантировать его безопасность. Однако работа, образ жизни, да и особенности характера, заставляют нашего дорогого друга Рейнхарда то и дело покидать свою резиденцию. Он любит разъезжать по Праге и ее окрестностям в открытом автомобиле.
Они вернулись в кабинет. Гейни заметно взбодрился.
– Который час? – спросил он. – Мне казалось, уже половина первого, а всего лишь двенадцать.
Штраус вздернул руку, взглянул на часы. Секундная стрелка неслась по кругу, как сумасшедшая. Минутная, вздрагивая, догоняла ее. Это длилось всего мгновение. Тяжело качнулся маятник напольных часов, они пробили половину первого. Их стрелки успели встать, куда следовало, так быстро, что никто этого не заметил.
Гиммлер снял пенсне, протер стекла.
– Как ты думаешь, Отто, может, мне стоит пить отвар из листьев и плодов черники? Я читал, черника укрепляет зрение.
– Конечно, Гейни, – машинально кивнул Штраус и поморщился.
У него распухли пальцы правой руки. Странное покалыванье в кисти, как будто нарушилось кровообращение. И шум в ушах. Какие-то непонятные, пульсирующие звуки то отдалялись, то приближались, переплетались с гаснущим боем часов и напоминали человеческую речь. Кроме немецкого, Штраус владел еще английским, французским и латынью. Но странный голос, то ли детский, то ли женский, говорил на каком-то другом языке, которого Штраус не знал.
«Они пожирают друг друга, как пауки, как скорпионы в банке. Их давно нет, но они продолжают пожирать друг друга. Это их жизнь и смерть. Это их вечность».
Василисе показалось, что она произнесла это вслух. Но только показалось. Она пока не могла говорить.
Отто Штраус принялся массировать правую руку. Перстень был горячим.
* * *
– Тик-так! Тик-так! Смати! Часики идут!
Юродивая Лидуня трясла Василису за плечо, требовала внимания.
– Надо же, сами затикали! – обрадовалась Анастасия Игнатьевна. – Это, наверное, какие-нибудь атмосферные явления, магнитные волны. Я недавно в газете читала, бывают такие незаметные колебания земли, что человек ничего не чувствует, а часовой механизм реагирует.
«…Человек просто бредит, – возразила про себя Василиса, – когда человеку плохо, у него бывают галлюцинации. И ничего странного в этом нет. Когда я вижу сны, я ведь не знаю, мои это сны или чьи-то чужие, и откуда они берутся, из какого времени, из какого пространства попадают в мою несчастную глупую башку».
***
– Я знаю, Андрей, вы думаете, я сошел с ума, – Рейч грустно улыбнулся, – конечно, я не сын Генриха Гиммлера. Но своим появлением на свет я обязан именно ему, этому селекционеру-любителю. Ни отца, ни матери у меня не было. Я – плод опытов, которые проводил птицевод Гиммлер, сначала на курах, потом на людях. Он был помешан на евгенике, хотел вывести новую генерацию чистопородных арийцев и создал для этого специальные учреждения, «лебенсборн», нечто вроде племенных заводов. Там спаривались элитные офицеры СС, члены «Черного ордена», с отборными арийскими девушками. И те и другие обязаны были предоставить документы, подтверждавшие чистоту их крови, арийское происхождение их предков до пятого колена. Гиммлер верил, что пища влияет на психику и физиологию. Офицеров и девушек сажали на пециальную диету. Они питались, как древние викинги, молоком и кашей. Гипноз, массажи, сеансы медитации. Спаривание проходило под медицинским контролем. С беременными самками работали медиумы, экстрасенсы, колдуны, накачивали их энергией космического льда и любовью к фюреру. Детей отнимали сразу после рождения и растили в питомниках, тоже по специальной программе. Таким образом удалось вывести около пятидесяти тысяч существ. Каждый пятый ребенок оказался умственно отсталым. Мне повезло, у меня с мозгами все нормально. Хотя, судя по вашему лицу, Андрей, вы в этом не уверены.
Григорьев улыбнулся.
– Ладно вам, Генрих. Перестаньте. Мне что, поклясться на Библии, что я не считаю вас сумасшедшим?
– Клясться не надо. Просто отнеситесь серьезно к тому, что я вам рассказываю. Между прочим, вы первый, кому я это рассказываю. Я понимаю, вы явились не за тем, чтобы послушать мои рассуждения о нацизме и узнать, каким образом я появился на свет. Вам нужно нечто другое. Я к вашим услугам. Все, что я могу для вас сделать, я сделаю. Но сначала вы меня дослушаете, хорошо?
За окном уже рассвело. Весело щебетали городские птицы. Спать расхотелось. Выбора у Григорьева не было.
– Хорошо, – кивнул он, – мне действительно все это очень интересно, Генрих, и я готов слушать вас сколько угодно.
– Я помню Гиммлера и Штрауса, – монотонно, медленно продолжал Рейч. – Они навещали питомник. Я был совсем маленький, но отлично помню этих двоих. Я также знаю, что через неделю после моего рождения Гиммлер брал меня на руки. Вместе со Штраусом он явился осмотреть партию новорожденных. Я выглядел отлично, был здоровей и красивей других. Сейчас я покажу вам.
Он отложил энциклопедию, достал с полки маленький альбом в черном бархатном переплете, с золочеными уголками. Расстегнул изящный замочек, пролистал толстые твердые страницы, переложенные папиросный бумагой. На каждой только одна фотография.
– Я не стал помещать этот снимок в энциклопедию, – сказал Рейч, – я никогда не опубликую и не продам его. Для меня это семейная реликвия. Смотрите.
На снимке был Гиммлер в белом халате с голым пухлым младенцем на руках. Рядом худой высокий человек, тоже в халате. За ними виднелись смутные головы двух медсестер в форменных косынках, надвинутых на лоб, с маленькими свастиками посередине, там, где у обычных сестер нашит красный крест. Еще можно было разглядеть край стеклянного шкафа и стол, на котором стояли детские весы-лодочка.
– Отто Штраус? – спросил Григорьев, указав на высокого человека.
– Да. Он очень фотогеничен. Умное приятное лицо. Лицо профессора, интеллектуала. Гиммлер рядом с ним выглядит серым банальным чиновником. Он и был таким. Они отлично дополняли друг друга. Штраус называл Гиммлера Гейни, позже стал называть Рейхс-Гейни. Ихдруж-ба была очень трогательной. Гиммлер любил придаваться сентиментальным воспоминаниям о детстве, о школе, о запахе мела и чернил, о свиных ножках. Он был романтический бюрократ. Мать Штрауса отлично готовила, и маленький Гейни иногда обедал у них по воскресеньям, после того как выполнял свои обязанности служки в католическом храме. Отец Гиммлера был глубоко верующим католиком, заставлял его не только посещать храм, но и работать там служкой. Вот откуда пошла патологическая ненависть Гиммлера к католической церкви и вообще к христианству.
– Соответственно, увлечение черной магией, астрологией, алхимией, – сказал Григорьев, – кажется, у Гитлера были те же проблемы?
– Совершенно верно. У них у всех были похожие проблем ы, идущие из детства.
– И у Штрауса?
– Нет. У него – нет. Его детство похоже на кадры пропагандистских фильмов о Гитлерюгенд и цветные иллюстрации к детским книжкам, издававшимся в Рейхе. Идеальный мальчик. Отлично учился, слушался старших, не шалил. В семнадцать лет их обоих, Отто и Гейни, призвали в армию. Повоевать они не успели, оба прослужили в армии рядовыми всего год, застали самый конец войны, позорный и страшный для Германии. Вернувшись, Отто сразу поступил в университет в Мюнхене. А Гейни отправился в Берлин, надеясь, что в столице будет проще устроиться. Он не собирался продолжать образование. Он не любил учиться. Не видел в этом надобности. Что-то такое надежное должно быть в самом человеке, чтобы он поднялся над обстоятельствами. В Отто Штраусе было. В Гейни Гиммлере – нет. Гейни опустился в Берлине на самое дно. Он лихорадочно и бестолково искал работу, то служил посыльным в щеточной мастерской, то учетчиком на фабрике, где варили клей. Наконец сошелся с некоей Фридой Вагнер, женщиной неряшливой, истеричной, пьющей. Она была старше него на семь лет. Он жил на деньги, которые она зарабатывала проституцией. Отто навестил его в тот ужасный период. В чердачной квартирке воняло потом, перегаром и грязными носками. Пьяная непричесанная Фрида вопила и швыряла в своего юного любовника пустые бутылки. Соседи грозили вызвать полицию. Отто предупредил Гейни, что такая жизнь может плохо кончиться, и поскорей ушел. Он оказался прав. Фриду Вагнер нашли убитой. Гейни разыскивала полиция. Неделю он прожил у Отто, потом исчез, а вскоре был арестован и предстал перед судом по обвинению в убийстве Фриды. Улик оказалось недостаточно. Генриха Гиммлера оправдали.
– Жаль, – вздохнул Григорьев, – вот посадили бы его, и кто знает, как могла бы повернуться история?
– Рейч сердито помотал головой.
– Пожалуйста, хватит меня перебивать. Прошло более двадцати лет. Все архивные документы, связанные с тем давним делом, были уничтожены. Тихий исполнительный Гейни стал главой СС. Его боялось полмира. Под его руководством шло истребление миллионов. А он боялся, что кто-нибудь все еще подозревает его в убийстве несчастной проститутки Фриды Вагнер. Никто не смел вспоминать эту историю. Никто, кроме Рейнхарда Гейдриха.
Рейч опять взял свою энциклопедию и показал Григорьеву очередной портрет.
– Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих, аристократ, талантливый скрипач, обергруппенфюрер СС и генерал полиции, мог бы стать образцом идеального арийца. Он был высок и великолепно сложен. Ничего уродливого, патологического. Светский красавец, умница. Только голос у него был странный, неприятный, высокий, почти женский – голос евнуха. Гейдрих страдал серьезным сексуальным расстройством. По сути, он был сексуальным маньяком, садистом, но ему повезло. Он получил возможность решать свои внутренние проблемы не уголовным способом, а вполне законным, государственным. Он жестоко истреблял сотни тысяч людей – евреев, чехов, поляков, русских. В самом начале военной карьеры он был подвергнут суду чести за изнасилование. Ему, блестящему старшему лейтенанту флота, пришлось подать в отставку в двадцать четыре года. Он, как и Гиммлер, скатился на дно, общался с отбросами общества, с ворами и проститутками. Именно оттуда пришел он в ряды нацистской партии и стремительно сделал блестящую карьеру. Но все ему было мало. Его раздирали противоречия. Он великолепно играл на скрипке, был лучшим в Германии фехтовальщиком, обожал светские рауты, любезничал с дамами, а ночью мотался по самым грязным борделям. В нем сочетались ледяная филигранная хитрость карьериста, интригана с тупой жадностью свиньи. Он жрал жизнь, со всеми ее самыми мерзкими удовольствиями, и не умел вовремя остановиться. Он страдал патологическим интересом к проституции и, если бы не работа, мог бы не вылезать из публичных домов сутками. Ему принадлежала идея создания знаменитого «салона Китти», самого элегантного борделя Германии. Персонал он подбирал лично, весьма тщательно, обращая внимание не только на красоту кандидаток, но и на их идеологическую зрелость. Даже некоторые дамы из высшего общества не брезговали работой в салоне, исключительно из патриотизма и любви к фюреру. Среди избранной клиентуры были высшие офицеры Рейха, иностранные дипломаты. Все, что происходило в роскошных интерьерах борделя, записывалось на пленку. Проститутки умели развязывать языки своим клиентам. Полученные сведения стекались к Гейдриху. На каждого высшего офицера, дипломата, чиновника у него имелось досье. Но этого ему казалось мало. Гейдрих собрал и задокументировал информацию о неразделенной любви Геббельса к Анке Штальхорм. Главный антисемит мира сходил с ума по еврейке более десяти лет, но так и не добился взаимности. Гейдрих имел специальную папку, в которой хранились сведения о многочисленных бурных романах жены Геббельса, красавицы Магды. Первая леди Рейха, мать образцовых арийских детей, кавалерша золотого Ордена Матери, с 1929 по 1932 была любовницей еврея Хаима Виталия Арлазорова, причем умудрялась в это же время спать со своим будущим мужем Йозефом Геббельсом и со своим будущим божеством Адольфом Гитлером. Гейдрих самым подробным образом изучил историю ожирения и психических сдвигов морфиниста Геринга. Он даже попытался собрать документы о сомнительном происхождении фюрера. И, разумеется, не обошел вниманием историю сожительства молодого Гиммлера с проституткой Фридой Вагнер. Прежде чем все полицейские и судебные документы, связанные с убийством Фриды, были уничтожены, с них по приказу Гейдриха сняли аккуратные копии.
В мае 42-го Гиммлер узнал, что в Праге чешское подполье готовит покушение на Гейдриха. Он не стал мешать заговорщикам. Правда, они не оправдали доверия рейхс-фюрера. Гейдрих получил множественные ранения, но остался жив. Его поместили в пражский военный госпиталь, вытащили осколки, он быстро шел на поправку. Гиммлер вместе с доктором Штраусом приехали в Прагу. Штраус лично осмотрел раненого, сделал ему пару инъекций. Через несколько дней Гейдрих скончался. Потом шептались в кулуарах, но вслух, публично, никто пикнуть не смел. Была проведена карательная операция. Деревню Лидице, близ Праги, в которой могли скрываться участники покушения, окружило специальное подразделение из дивизии СС «Принц Евгений». Убили всех жителей, от младенца до старика, дома сожгли, взорвали, бульдозерами стерли с лица земли. В моей коллекции есть крупный осколок, извлеченный из селезенки Гейдриха. Хотите, покажу?
– Нет, спасибо.
Григорьев закурил, но после двух затяжек загасил сигарету. За ночь он успел выкурить почти пачку.
– Все равно покажу, – пообещал Рейч, – правда, уже не сегодня. Мы оба слишком устали. Этот осколок – один из самых ценных моих экспонатов. Все самое ценное я храню не здесь, а в подвальчике своего магазина, в специальном сейфе. Кстати, перстень Отто Штрауса я приобрел не за деньги и не путем обмена. Мне его подарили.
Он замолчал и загадочно улыбнулся. В глазах его опять сверкнула тусклая искра безумия.
– Ну разве вам не интересно, кто?
– Конечно, интересно, – кивнул Григорьев.
– Завтра вы это узнаете. Вечером, часов в семь, жду вас в моем магазине. А сейчас я вызову вам такси.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Корреспондентка модного журнала оказалась сорокалетней дамой с мягким низким голосом, отличной фигурой и лицом итальянской кинозвезды начала шестидесятых. Шаману зрелые дамы нравились больше молоденьких. Еще договариваясь о встрече по телефону, он понял по голосу, что тетка классная. Он млел от этих особенных, бархатных ноток, от хрипотцы, сладкой и тягучей, как сливочный ликер. Такие голоса бывают только у южных женщин, грузинок, итальянок.
Шама согласился принять ее в своей московской квартире и даже позволил притащить фотографа. Обычно он отказывался от съемок. У него был дежурный набор готовых фотографий для интервью. Он не терпел суеты, которая неминуемо сопровождает процесс домашних съемок. Он трепетно и болезненно относился к качеству своих изображений. Было несколько ракурсов, несколько сочетаний света и тени, в которых его лицо могло показаться ужасным. Он знал об этом. Некоторые фотографы нарочно ловили именно такие моменты, потом уже ничего нельзя было сделать. Отвратительные снимки попадали в прессу и серьезно портили Шаману настроение.
– Вы обещаете, что покажете мне фотографии прежде, чем давать их в журнал? – спросил он у корреспондентки по телефону.
– Конечно. Я принесу вам вычитать текст интервью и фотографии. Все, что вам не понравится, мы уберем.
Такому голосу трудно было не поверить. Однако сейчас Шаман все-таки пожалел, что согласился на домашнюю съемку. После бессонной ночи и сумасшедшего утра он выглядел плохо. Косметический клей, которым он воспользовался для накладных усов, оказался дрянным, кожа над верхней губой покраснела и шелушилась.
Из-за утреннего плавания на катере вдоль горящего леса, из-за поисков своего перстня он почти забыл о назначенном времени. Между тем интервью было важным. Журнал считался самым престижным из всех толстых глянцевых изданий. Портрет Владимира Приза намеревались поместить на обложке.
Он опоздал на двадцать минут. Корреспондентка с фотографом уже ждали его во дворе. С ними явилась девочка-гример с чемоданчиком.
Шама был все еще сильно возбужден, перед глазами крутились искры, плясали язычки пламени. В лифте дрожал противный люминесцентный свет, и собственное лицо в зеркале ему не понравилось. Он встретился глазами с гримершей и заметил, как внимательно она смотрит на розовое шелушащееся пятно у него под носом.
– Володя, вы, кажется, немного напряжены. Плохо себя чувствуете? Что-нибудь случилось? – спросила корреспондентка, когда он уронил на кафель лестничной площадки ключи от квартиры и сильно вздрогнул от звона.
«Этой ночью я и мои ребята убили шесть человек», – рявкнул он про себя и усмехнулся, представив, какие бы стали у них физиономии, если бы он произнес это вслух. Впрочем, скорее всего, они бы вежливо засмеялись, приняв это за шутку.
– Я в порядке, – утешил он корреспондентку и скользнул взглядом по ее полным мягким губам, – просто времени мало.
– Мы постараемся быстрей, – пообещала она и достала крошечный дорогой диктофон, – мы можем начать сразу, пока Ира будет вас гримировать.
Ира, не спрашивая разрешения, уже разложила свой чемоданчик на стеклянном журнальном столе в гостиной. Фотограф тоже принялся выкладывать и расставлять свои штативы и зонтики.
– Вы были единственным ребенком в семье? – спросила корреспондентка, присаживаясь рядом с Шамой на низкий мягкий диван.
– Да.
– Глаза прикройте, пожалуйста, – шепотом скомандовала гримерша.
– Как вам кажется, единственные дети отличаются по своему психическому складу от тех, кто растет с братьями и сестрами?
– Конечно, отличаются. А у меня вообще было особенное детство. Я оказался единственным не только в семье своих родителей. У меня еще имелся дядя, мамин брат, у которого не было детей. Они с моим отцом тезки. Оба Георгии. В каком-то смысле у меня было два отца, я в раннем детстве путался, кого называть папой, кого – дядей Жорой. Оба мною много занимались, воспитывали очень строго. Особенно дядя. Он был человек военный, генерал авиации, прошел Афганистан.
– А вы не мечтали в детстве о военной карьере?
Глаза Шамы все еще оставались закрытыми. По лицу мягко скользили пальцы гримера. Он чувствовал прикосновение чего-то жирного, прохладного. Корреспондентка сидела совсем близко, вполоборота, и ее голое колено, округлое и гладкое, упиралось в его бедро. Пахло смесью духов, грима, дезодоранта.
– Здесь у вас сильное раздражение, – прошептала гримерша ему на ухо, – вы, вероятно, недавно наклеивали усы и пользовались плохим клеем. Ничего, у меня есть специальный успокаивающий гель, сейчас смажем, и станет лучше. Щиплет?
Верхней губе стало холодно, в ноздри ударил запах ментола, такой резкий, что Шама чихнул.
– Будьте здоровы, – сказала гримерша.
– Усы? – оживилась корреспондентка. – Вы готовитесь к какой-то новой роли? Расскажите, это ужасно интересно. Насколько я знаю, сейчас вы серьезно занялись политикой. Как вам удается совмещать одно с другим?
– Каждый политик немного актер. Каждый талантливый актер немного политик, поскольку созданные им образы влияют на массовое сознание.
Он проговорил это мрачно, сквозь зубы, что было вполне естественно. Верхнюю губу густо смазали гелем. Гримерша занялась его волосами. Он не видел, что она делает, зеркала перед ним не было, только объектив фотокамеры. Фотограф уже успел полностью подготовиться к съемке.
– Что касается детской мечты, – продолжил Шама после короткой паузы, – я мечтал стать графом Монте-Кристо. Мне хотелось найти клад, я изрыл весь дачный участок своего дяди. Ничего не нашел, кроме дождевых червяков.
– Ненавижу червяков, – пробормотала гримерша. Фотограф, молчавший все это время, спросил:
– И чего? Вы их собрали в банку, чтобы рыбу ловить?
– Нет. Я никогда не увлекался рыбалкой, – сказал Шама и улыбнулся.
Было бы забавно рассказать, как и зачем он набрал полную литровую банку червей. Рыбалка правда ни при нем. Молодая жена дяди Жоры панически боялась червяков.
Дождливым летом 1979 года дядя Жора был в Кабуле. Родители жили в Москве и приезжали на дачу только по выходным. Тетя Оля, красивая, спокойная, ласковая, нищем не ограничивала свободу десятилетнего племянника Володи, давала ему достаточно много карманных денег, разрешала гулять после девяти вечера, включать громко музыку. В отличие от остальных взрослых, от родителей и дяди, она позволяла ему все, но постоянно ставила перед выбором.
– Ты можешь ругаться матом, – говорила она, – но учти, что от этого у тебя будет вонять изо рта. Ты можешь бездельничать целыми днями, шляться с деревенскими пацанами, пить с ними портвейн и курить. Но ты должен знать, что от алкоголя и никотина в твоем возрасте замедляется умственное и физическое развитие. Ты останешься низеньким, хилым и отупеешь. А если ты за все лето не раскроешь ни одной книжки, учебный год начнешь с двоек. Но это твой личный выбор.
Володя привык к железной дисциплине. Никто, ни родители, ни дядя, не предоставляли ему выбора. Дядя Жора муштровал его, как солдата на плацу. Мать орала и щедро отвешивала подзатыльники. Отец нудно пилил и устраивал недельные бойкоты. Володя привык хитрить, врать, существовать в ритме подозрительности, злых интриг, запретов и тайной вражды со взрослыми.
Тетя Оля видела его насквозь, мгновенно разгадывала все его хитрости, но не ругала, не наказывала, только говорила: твой выбор, тебе жить. И улыбалась. Его передергивало от ее улыбки, от мягких ироничных интонаций.
Когда она, меняя тембр голоса, произносила с гундосой растяжкой: «твои пацаны», он готов был ее убить.
Однажды он вытащил десятку из ее сумочки и ждал, что будет. Ничего не было. Она спросила, довольно ли ему десятки, не маловато ли. Он впервые в жизни покраснел от стыда. Если бы она орала, обвиняла, грозила, что нажалуется дяде, он чувствовал бы себя значительно комфортней.
Только одно могло вывести из равновесия надменную тетушку: червяки. И десятилетний Володя принялся потихоньку копать землю на участке, собирать палочкой мягких розовых тварей в литровую банку. Своими тайными планами он поделился с «пацанами», деревенскими ребятами Лезвием и Михой.
Тетя Оля спала на втором этаже. Обычно перед сном она долго читала в постели, часов в двенадцать спускалась вниз, проверяла, спит ли Володя, гасила везде свет, запирала входную дверь и возвращалась к себе.
В тот день шел дождь. К ночи он превратился в ливень. Старуха домработница с утра отпросилась домой. Володя вел себя тихо, после ужина отправился к себе в комнату и сделал вид, что читает. В двенадцать он услышал, как наверху скрипнула дверь, вскочил и громко хлопнул оконной рамой. Это был условный сигнал для Лезвия, который заранее спрятался на чердаке.
Тетя Оля заглянула к Володе в комнату, он задержал ее разговором.
– Ты что, икаешь? Водички принести? – ласково спросила тетя.
– Да, спасибо.
Она сходила на веранду, вернулась со стаканом воды.
Он церемонно поблагодарил и выпил. На самом деле он не икал, а давился смехом, представляя, что сейчас происходит у нее в спальне. Проникнуть туда с чердака было совсем не сложно. Лезвие должен был успеть навалить червяков в постель, выскользнуть и спрятаться в закутке у чердачного люка. Они заранее рассчитали, что это займет не более пяти минут.
Володя взглянул на часы, зевнул и смиренно пожелал тетушке спокойной ночи. Она поцеловала его в щеку, тоже зевнула и отправилась к себе. Как только она вышла, Володя вскочил, плотно прикрыл окно, чтобы шум дождя не мешал слушать, и подкрался к двери.
Сначала было тихо. Володе казалось, что тишина эта длится вечно. Наконец скрипнула дверь, легко и мягко простучали над головой шаги тетушки, еще минута тишины, и вдруг короткий, пронзительный крик: «Мама!»
Все, что происходило дальше, запомнилось Володе на всю жизнь. Тетушка не придумала ничего лучшего, как скрутить постельное белье вместе с подушкой и одеялом и, держа в руках этот огромный, неудобный узел, броситься вниз. Но беда в том, что деревенский пацан Лезвие сочинил еще одну шутку. Он щедро навалил червяков на верхние ступеньки и на широкие перила.
Володя удивился, услышав грохот над головой и совсем новый крик, хриплый и жуткий. Когда он решился вылезти из своей комнаты и зажечь свет на веранде, он увидел, что тетя Оля лежит в странной позе у нижних ступенек. Рядом валялись подушка, одеяло, простыня. По всему этому лениво ползали жирные, длинные, в общем, совершенно безобидные твари, дождевые черви. И еще он успел заметить, что по белоснежному халату тетушки растекается красное пятно.
Несколько минут он стоял и смотрел. Вероятно, тетя была без сознания. У него мелькнула мысль, что она вообще умерла. Он смутно помнил, как скончалась от инсульта первая жена дяди Жоры, полная, шумная тетя Зина. Ему тогда только исполнилось пять лет. Он заглядывал в комнату, в которой пахло лекарствами и на диване, укрытая пледом до подбородка, лежала неподвижная груда. Ветер из открытой форточки шевелил ее рыжие кудряшки. За столом в углу сидел доктор в белом халате и что-то писал. Это было совсем не страшно, наоборот, интересно и удивительно. Говорливая тетя Зина молчала и лежала смирно. Можно все что угодно сделать, даже разбить ее любимую хрустальную вазу об ее голову, она не шелохнется и не будет ругать.
Сейчас он стал старше и лучше понимал, что такое смерть, но все равно не боялся, даже наоборот, постоянно и напряженно думал об этом странном феномене, мог часами с любопытством рассматривать картинки в старых учебниках судебной медицины, которые остались от дедушки, военного врача.
«Я просто хотел пошутить. Это шутка такая!» – простучало в его голове дробью дождя, который колотил по крыше. Он уже почти привык к мысли, что тетя Оля умерла, и даже представил, какие у всех будут лица на ее похоронах, но тут послышался слабый стон.
– Вызови «скорую», – произнесла тетушка вполне внятно.
Телефон был на другом конце поселка, в домике сторожа. Володя опомнился и помчался сквозь ливень.
Тетя Оля получила сильное сотрясение мозга, сломала ногу, и еще у нее случился выкидыш. Никто из взрослых даже не спросил Володю ни о чем, наоборот, его похвалили за то, что он сразу побежал вызывать «скорую».
На втором этаже на окнах стояло много цветочных горшков. Накануне домработница меняла в них землю, вот и натаскала дождевых червей. Никому в голову не пришло иных объяснений.
Тетя Оля долго лежала в больнице. На дачу приехала мать Володи, у нее был отпуск, и остаток лета пришлось провести в привычной атмосфере, с воплями, запретами, подзатыльниками. Когда шел дождь, Володе плохо спалось. Он долго ворочался в постели и шептал, как заклинание: «Это была шутка. Червяки совсем безвредные. Это шутка такая была».
Володя знал, что тетя Оля ждет ребенка. Это не сулило ему лично ничего хорошего. Он понимал, что если у дяди Жоры родится собственный сын, то он, Володя, больше никогда не будет главным и единственным мальчиком в семье. Все станут заниматься младенцем. А потом, когда дядя Жора состарится и умрет, его богатство, конечно, достанется родному сыну, а не племяннику.
То, что богатым в их семействе был дядя, а не родители, Володя усвоил еще в раннем детстве. Его отец работал инженером на небольшом приборостроительном заводе, мать – там же, в отделе кадров. Дядя Жора получал пайки с ветчиной, вкусной рыбкой и сырокопченой колбасой, имел машину «Волга», дачу, ковры и хрусталь. У родителей ничего этого не было.
Володя всегда очень внимательно прислушивался к взрослым разговорам, он знал о слабом здоровье тети Оли, о том, что, если она понервничает, может потерять ребенка. К тому же он с жадным любопытством листал медицинские книжки, которые в изобилии валялись на даче на чердаке, и почерпнул оттуда массу интересной информации не только о смерти, но и о том, откуда берутся дети, как проходит беременность, отчего случаются выкидыши.
Только через многие годы все связалось у него в голове, и он честно признался себе, чего хотел на самом деле, когда копал землю и собирал червяков в баночку.
Летом 79-го случилась еще одна беда. Дядя Жора, узнав о том, что его жена в больнице и ребенка не будет, сильно выпил, отправился на какую-то рискованную операцию, получил осколочное ранение, после которого уже не мог иметь потомства. Из Афганистана он вернулся мрачным и злым, стал ссориться с женой, даже позволил себе однажды ударить ее, в итоге ласковая красавица Оля ушла от него. Больше он не женился.
– Вы верите в судьбу? – спросила корреспондентка.
Это был уже десятый по счету вопрос. Гримерша давно закончила свою работу, фотограф успел отснять две пленки и заряжал третью. Шама принялся красиво и умно рассуждать о судьбе. В этот момент зазвонил один из его мобильных, тот, который никогда не выключался и постоянно был при нем. Пришлось извиниться и ответить, ибо просто так, по пустякам, этим номером никто не решился бы воспользоваться.
– Я нашел ее, – прозвучал в трубке тихий возбужденный голос Лезвия, – ту самую, вторую девку, о которой ты говорил.
* * *
Анастасия Игнатьевна заметила, что бинты на ногах девочки промокли, и решила поменять повязки. Девочка выглядела странно. Она полусидела на кровати, откинувшись на высокие подушки. Лицо заострилось, глаза запали, на щеках горели алые пятна. Притронувшись к ней, Анастасия Игнатьевна тихо охнула и запричитала:
– Господи, что ж я, старая дура, сразу не догадалась? Послала за Поликарпычем. При чем здесь милиция? Надо «скорую», у нее ведь жар. Сепсис, ожог дыхательных путей, нарушение кровообращения – что угодно может быть! Лидуня!
Юродивая, видя, что ее новая подружка задремала, занялась котенком, которого притащила с улицы. Она тихо возилась с ним на полу у кровати, что-то бормоча себе под нос.
– Сбегай к Лукьяновым, попроси, пусть тетя Лена придет сюда с телефоном. Или нет, погоди, я сама. Ты побудь здесь. Видишь, ей плохо.
– Похо, – растерянно отозвалась Лидуня, – я побуду.
Настя схватила свою маленькую потрепанную записную книжку и вылетела из дома.
Мобильных телефонов в деревне было всего два, у ближайших соседей Лукьяновых калитка оказалась открытой. Настя никого не нашла в доме, на крик долго не откликались, наконец из сарая появилась хозяйка, молодая полная женщина в нижнем белье.
– Лена! Дай телефон! – выпалила Анастасия Игнатьевна.
– Случилось чего? Орешь, как оглашенная, —хозяйка зевнула и сдернула с веревки цветастый ситцевый халат.
– Случилось! Дай телефон, «скорую» надо вызвать!
– Батюшки! А с кем плохо-то?
– Потом, Лена, потом все объясню.
Но Лукьянова была женщина любознательная. Ей стало до смерти интересно, для кого это одинокая соседка Настя Кузина собирается вызывать «скорую», да еще так срочно, что не может добежать до своего медпункта, где есть нормальный, бесплатный телефон. Она умудрилась задать Анастасии Игнатьевне дюжину вопросов прежде, чем призналась, что ее мобильник отключен за неуплату.
– А вообще, «03» набрать можно, – вспомнила она, не желая отпускать соседку, поскольку так и не услышала никакого внятного объяснения, – я в инструкции читала, если деньги кончились, все равно милицию, пожарников и «скорую» вызывать можно.
Настя ее не дослушала, умчалась, чем озадачила соседку еще больше.
Владельцы второго мобильника уехали в Лобню, на рынок, поскорей продать мясо забитого кабанчика. Он захворал. Пришлось забить, хотя при такой жаре мясо сразу портится, тем более электричество выключали, и холодильник долго не работал. Все это рассказала Насте бабка Клавдия, глухая, но говорливая до безобразия. Настя надеялась, что соседи оставили телефон дома, но только потеряла время, ибо Клавдия все равно не поняла, чего от нее хотят.
Оставалось бежать в медпункт. От духоты кружилась голова, и тяжело стучало в висках. Она не могла простить себе, что слишком легкомысленно отнеслась к состоянию девочки, которую подобрала ночью на кладбище. Действительно, при чем здесь милиция? Человека с такими ожогами, с афонией, с высокой температурой надо отправлять в больницу. Но не в местную. Там нет ни лекарств, ни оборудования и могут только навредить. Везти девочку надо сразу в Москву. Там и личность ее установят, может, родственников найдут.
Вызывать «скорую» по «03» Настя собиралась только в крайнем случае, если не сумеет дозвониться своей старой знакомой, Веры Агаповой, с которой вместе заканчивала лобнинское медучилище. В отличие от Насти, Вера стала учиться дальше, поступила в институт, потом в ординатуру и теперь заведовала отделением экстренной хирургии в Шестой клинической больнице.
Настя не сомневалась, что Вера все организует быстро и толково и обожженная девочка попадет в хорошие руки.
* * *
За гостиничным завтраком Григорьев встретил Кумарина.
– Как успехи? – спросил он нетерпеливо.
– Никак.
– То есть?
– То есть пока ничего конкретного, – Григорьев зевнул, разрезал булочку и принялся намазывать ее маслом.
– Но вы вернулись только утром. Вы провели там всю ночь.
– Да. Вернулся утром, лег, думал, усну, как убитый, но не смог. Вот, пришел завтракать. Чувствую себя отвратительно.
– Рассказывайте! – Кумарин залпом выпил апельсиновый сок, скрутил трубочкой тонкий ломтик сыра и отправил в рот.
– Что именно? – спросил Григорьев и опять зевнул.
– Все. Весь ваш разговор, от слова до слова.
– Главы из романа Рихарда Мольтке «Фальшивый заяц» тоже пересказать?
– Не надо, – Кумарин помотал головой и добавил себе сливки в кофе, так много, что полилось через край.
Григорьев задумчиво жевал булочку и щурил сонные глаза.
– А зря. Этот мальчик, Рики, очень забавный тип.
– С каких это пор вас стали забавлять юные голубые проститутки? – противно улыбнулся Кумарин.
– Почему вы так неуважительно отзываетесь о человеке, которого никогда не видели? – спросил Григорьев, наблюдая, как с донышка чашки капает на светлые брюки Кумарина кофе со сливками – Молыке писатель, весьма состоятельный господин, несмотря на юный возраст. У них с Рейчем все общее, включая недвижимость и банковские счета.
– Даже так? – Кумарин шевельнул бровями, поставил чашку, поморщившись, промокнул салфеткой пятно на брюках. – Вы хотите сказать, Генрих Рейч совсем свихнулся на старости лет?
– Есть немного. Он всю ночь читал мне лекцию о Третьем рейхе. Он пока не спешит узнать, что мне от него нужно, зачем я к нему явился. Говорит сам, очень много говорит, в основном о Третьем рейхе, о Гиммлере, Геббельсе, Бормане, о том, что это все до сих пор живо и способно возродиться, причем не где-нибудь, а в России.
– Ох, бедные мы несчастные, вечно балансируем на краю пропасти и гуляем по лезвию бритвы! – Кумарин ухмыльнулся, покачал головой. – Мало нам кризисов, парламентской бестолочи, олигархов, коррупции, Чечни. У нас теперь еще и фашизм зреет. Какие же, интересно, он приводил аргументы?
– Никаких. Только общие слова о духовном упадке. Ему хотелось порассуждать. А мне пришлось слушать. – Григорьев зевнул так, что свело скулы. – Он всю жизнь изучал историю нацизма, и ему надо с кем-то поделиться знаниями, мыслями. К старости эта потребность становится почти болезненной. Ужасно, когда тебе есть, что рассказать, а слушателей нет.
– Пусть пишет мемуары, – пожал плечами Кумарин, – или диктует их своей голубой фее. Он же писатель, этот Рики. Кстати, вы не забыли мою просьбу?
– Какую? – удивился Григорьев.
– Вы передали Генриху привет от Колпакова?
– Всеволод Сергеевич, перестаньте, пожалуйста, я слишком устал. Скажите прямо, зачем вам понадобился этот загробный генеральский привет?
Взгляд Кумарина на миг заледенел. Он смотрел в пустоту, не моргая. Пауза затянулась.
– Всеволод Сергеевич, – тихо позвал Григорьев.
– Будто вы не поняли, – Кумарин прищурился и покачал головой, – вы говорили с Рейчем о Драконове и генеральских мемуарах?
– Ну да, говорили. Драконов убит. А мемуары вполне могли оказаться его выдумкой. Вам это зачем, Всеволод Сергеевич?
– Охочусь за генеральскими деньгами, —раздраженно отчеканил Кумарин.
– Своих не хватает?
– Я жадный.
– Да, есть немного, – с удовольствием согласился Григорьев.
Кумарин насупился и слегка покраснел.
– Что касается мемуаров, то я отлично знаю: их нет. Но осталось несколько интервью писателя Драконова. Есть точные сведения, что генерал Жора действительно хотел надиктовать ему свои воспоминания, что они были хорошо знакомы и что Драконов предложил Рейчу права на издание книги, которую собирался написать. Наконец, есть труп Драконова. Между прочим, этим трупом занимается хороший знакомый вашей дочери. Тот самый майор оперативник, с которым она сидела в ресторане два года назад.
– Арсеньев, кажется? – Андрей Евгеньевич сделал равнодушное лицо.
Маша рассказывала ему об этом майоре. Она ни словом не обмолвилась о том, что между ними что-то было, или могло быть, в прошлый ее приезд в Москву, два года назад, но Григорьев достаточно хорошо знал свою дочь.
– Арсеньев Александр Юрьевич, – тихо, почти шепотом, произнес Кумарин, – тридцать восемь лет, разведен, детей нет. Очень честный, порядочный человек. Взяток не берет. Десять лет ездит на одной машине, на старом «Опеле». Если повезет, дослужится до полковника. Но генералом не станет никогда. После развода с женой долго жил с ней в одной квартире, поскольку милицейская зарплата, как вы понимаете, не дает возможности быстро решать жилищные проблемы. Правда, этой зимой он наконец переехал. Теперь у него маленькая однокомнатная конура в новостройке на окраине Москвы. Зато отдельная. Он почти счастлив. Нет, что я говорю? Он совершенно счастлив, этот майор. Он влюблен в вашу дочь, влюблен так, как это могут только такие, как он, честные порядочные люди. Я не знаю, встретились они в Москве или еще нет, но уверен, это случится довольно скоро. Не берусь судить, понравится ли это руководству, как ее, так и его. Они ведь оба люди подневольные, военные, можно сказать. Ну что же вы молчите, Андрей Евгеньевич? Почему не шипите на меня: «Оставьте мою дочь в покое, не трогайте Машку!»
– Вы зачем завели этот разговор, Всеволод Сергеевич? – Григорьев залпом выпил остатки воды.
У него пересохло во рту, и сонливость прошла. Он перестал зевать, сердце забилось чаще. Кумарин заметил это и снисходительно улыбнулся.
– Мне казалось, вам должно быть интересно. Вам, Андрей Евгеньевич, хочется дожить до внуков. А у Машки проблемы с мужчинами после того, что с ней случилось в четырнадцать лет. Замуж она не хочет. Не потому, что защитилась на своей работе, просто не любит пока никого. Но могла бы, честное слово, могла бы полюбить. Я отлично представляю себе ее рядом с этим Арсеньевны. Простите мне стариковские сентиментальные фантазии. Это невозможно. Вы знаете. Я знаю. Но самое грустное, что они тоже знают. И он, и она. d
– Перестаньте, – Григорьев еле сдержался, чтобы не повысить голос, – все это не ваше дело. Это моя жизнь, моя дочь.
– О, Боже! – Кумарин тяжело вздохнул и прикрыл глаза. – Устал я от вас, Андрей. Я устал от вас за эти несколько минут почти так же, как вы за прошедшую ночь от сумасшедшего Рейча с его Третьим рейхом. Когда человек на чем-то зациклен, с ним очень тяжело разговаривать.
– Так и не разговаривайте, – сказал Григорьев, – давайте сменим тему.
– Да. Сейчас сменим. Только скажите, вы хотите знать, как у них там все будет, когда они встретятся? Машка ведь вам ничего не расскажет.
– Это ее право.
– Конечно, она уже большая девочка, – Кумарин грустно улыбнулся, – итак, меняем тему. Что же конкретно поведал вам Генрих о Драконове, о генеральских мемуарах, о генеральском племяннике Вове Призе? Ну, что вы молчите? Это уже не ваша личная жизнь. Это ваша работа.
* * *
Корреспондентка со своей командой уходить не собиралась. Они уютно расположились в небольшой трехкомнатной квартире Владимира Приза и, казалось, заняли ее всю целиком. Куда бы Шама ни направлялся со своим мобильным, как бы плотно ни закрывал двери, как бы тихо ни шептал в трубку, ему казалось, они слышат каждое его слово. Между тем откладывать разговор с Лезвием нельзя было. Решение следовало принимать сейчас, сию минуту. Лезвие рассказал, что пришла ориентировка на четырех пропавших подростков. Есть фотографии и фамилии троих. Что касается девушки по имени Василиса, известны только имя, возраст, словесный портрет. И вот теперь появилась эта кисловская потеряшка. Деревенский участковый описал ее внешность довольно подробно, очень многое совпадает.
– Почему ты так уверен, что это она? – спросил Шаман.
– Полностью не уверен. Надо проверить, – шепотом ответил Лезвие. Он тоже, вероятно, не мог говорить свободно, кто-то был рядом.
– Как?
Это был самый существенный вопрос. Прежде чем покинуть дачу, Шаман спрятал паспорт Грачевой Василисы Игоревны вместе с ключами от ее квартиры и студенческим билетом убитого мальчика в секретное отделение своего сейфа. О существовании сейфа Лезвие, Миха и Серый знали, но код доступа Шаман им не давал и давать не собирался.
Паспортную фотографию видел только Шама. Он, безусловно, сумел бы с первого взгляда определить, является ли кисловская потеряшка Василисой Грачевой, то есть опасной свидетельницей, или это случайный человек. В конце концов, пожарами охвачена вся округа, и мало ли, откуда могла забрести в деревню обожженная девушка?
– Я приеду и просто спрошу у нее фамилию и имя, – предложил Лезвие.
– Ты же сказал, она не может говорить.
– Она слышит и понимает. Я назову имя, она кивнет или помотает головой. Она меня не видела, и никого не видела, – тихо, нервно рассуждал Лезвие, – если это она, я просто не довезу ее до больницы. У нее ожоги, нервный шок, всякое может случиться по дороге.
– А если не она, довезешь? И по дороге ничего не случится? – перебил его Шама с легкой усмешкой.
– Довезу, и не случится, – тупо пробурчал Лезвие, – а на фига лишний риск, если это не она?
– Просто получается, что все зависит от того, кивнет она или помотает головой. Правильно?
– Ну а как еще, блин? Я тебя не понимаю, Шама.
Старший лейтенант милиции Колька Мельников растерялся и разозлился. Он уже видел себя героем, ему удалось обнаружить свидетельницу, он придумал отличный план, как выяснить, она это или нет, и, если она, как ликвидировать ее без всяких проблем. Но Шаман опять был недоволен, насмехался, делал из него чуть ли не придурка.
– А вдруг у нее голова дергается? Ты ведь сам сказал – нервный шок. Как-нибудь не так дернется, ты и не поймешь, кивнула она тебе или нет. Ты довезешь ее до больницы, а через пару дней к ней вернется дар речи, она заговорит.
– Ты хочешь сказать, что я в любом случае должен ее мочить? Ты что, совсем охренел? И так у нас шесть жмуров!
– Семь – хорошая цифра. Знаешь, я сегодня в машине слушал радио. Обещают грозовые дожди на севере Московской области, причем самые сильные в районе Лобни и Катуара.
– И чего? При чем здесь дожди?
– Огонь погаснет, туда запросто могут приехать спасатели или коллеги твои. А там – сам знаешь, что осталось.
– Они же все обгорели, вряд ли можно опознать, – неуверенно возразил Лезвие.
Шаман не счел нужным спорить с ним и отвечать что-либо на это дурацкое замечание. Он просто сказал:
– Ты прошмонай ее, как следует, карманы посмотри, руки.
– Зачем?
– Перстень. Я посеял его на пляже, она могла подобрать. Позвони мне, как только что-нибудь прояснится.
– Да. Я понял, – ответил Лезвие твердым голосом образцового исполнителя.
– Вот так-то лучше, – Шаман произнес это уже не в трубку, а самому себе, под звук спускаемой воды.
Он спрятался с телефоном в туалете. Он смотрел в зеркало и вместо своего лица на миг увидел сердитую физиономию Лезвия. Низкие надбровные дуги, резкий угол покатого лба, маленький аккуратный нос, тонкие губы, всегда бледные и сухие, массивная нижняя челюсть. Красавцем Лезвия нельзя было назвать, но женщинам он нравился. Им нравятся широкие плечи, узкие бедра, низкий голос. Лезвию это было дано от природы. Шаме пришлось много и напряженно работать, чтобы стать привлекательным.
Природа обошлась с ним не то чтобы жестоко, но равнодушно. Он был слеплен без любви и вдохновения. Вроде бы вполне здоров, не урод. Но плохая кожа, жидкие тусклые волосы, склонность к полноте. Полнел он стремительно и как-то по-бабьи. У него округлялись бедра, зад отвисал, а плечи и руки оставались тощими. Стоило немного расслабиться, позволить себе лишний кусок хлеба, и лезло пузо. Многие часы он проводил, потея на домашнем тренажере. Он постоянно качал мускулы, чистил кишечник, накладывал специальные маски на лицо и на волосы. И все сам, не обращаясь в салоны, клиники, оздоровительные центры. Чужим рукам он себя доверить не мог.
У него с детства имелась дурацкая привычка подсасывать губы, мокро причмокивать, пощипывать кожу на лице, постоянно себя трогать, как бы проверяя, все ли в порядке. Со стороны это выглядело неприятно. Он долго отвыкал. Отрабатывал перед зеркалом мимику, пластику. Четыре года в театральном училище очень помогли ему сделать себя другим.
В интервью и публичных выступлениях он говорил, что заниматься своей внешностью ему некогда и скучно. Это вообще не мужское дело. Со смехом отрицал диеты, рассказывал, как уплетает за обе щеки жареную картошку, макароны, пельмени с маслом, как любит водку и может выпить очень много, особенно под хорошую закуску.
На самом деле он не пил спиртного, не ел мяса и сидел на строжайшей диете: сырые овощи, йогурты, обезжиренный творожок, свежие соки. Если приходилось демонстрировать в общественных местах свой здоровый аппетит и пристрастие к водке, он демонстрировал. Но потом устраивал себе голодовки, пил воду литрами, чистил желудок. Вова Приз не хотел выглядеть, как дядя Жора, и умереть, как он.
Он скрывал свои проблемы не потому, что стеснялся. Просто считал, что образ человека, который ест пельмени и пьет водку, ближе и понятней народу, чем образ диетического аскета. Ну и потом, ему просто нравилось врать. Ложь доставляла ему чувственное удовольствие. Как другим вкусно есть мороженое в жару на пляже, нюхать первые ландыши, пить родниковую воду в горах, так Шаману было вкусно врать. Он становился сильней и значительней. Люди-лютики верили Владимиру Призу. Все правильно. На то они и лютики.
Но если врали ему, он бесился, зверел, мог на мгновение потерять рассудок и никогда не забывал, не прощал.
Поговорив с Лезвием и спустив воду, Вова тщательно вымыл руки, поправил волосы, осторожно снял со щеки выпавшую ресницу. За время разговора он успел внимательно разглядеть свое загримированное лицо и остался доволен. Не даром гример Ира мазала гелем раздраженную кожу под носом. Краснота прошла, лицо выглядело гладким, здоровым, никаких следов бессонной ночи.
Гостей своих он нашел на балконе. Все трое курили и рассматривали свежие снимки-пробники.
– Володя, простите меня, нам обязательно надо поговорить еще на одну тему. Я совсем забыла. Часы, украшения, талисманы. Это важно. Собственно, это главная тема номера, – пропела корреспондентка своим сладким тягучим голосом, – вот, кстати, посмотрите, вы можете прямо сейчас отобрать, что вам нравится, что нет.
Шаман стал с интересом разглядывать снимки. Корреспондентка держала их в руках. Молчаливый фотограф, любитель рыбалки, оказался мастером своего дела. Он выбирал самые выигрышные ракурсы, великолепно работал со светом и тенью.
– Вот, это, наверное, можно дать на обложку, – бормотала корреспондентка, – это тоже неплохо.
Ее лицо было совсем близко. Шама чувствовал щекой теплое дыхание и даже слегка поплыл, представил на мгновение, какие классные акробатические этюды можно было бы устроить вдвоем с этой бархатной теткой вот здесь, в гостиной, на ковре, и в кабинете, используя гигантский дядин письменный стол, и в просторной «джакузи». Он успел обратить внимание, что грудь у нее вполне натуральная, без силиконовых добавок, тяжелая и немного вялая, живот чуть выпирает и, вероятно, очень мягкий. Еще давно, когда он был прыщавым сутулым подростком, он дико возбуждался именно от такой женской плоти, от перезрелой, перебродившей фруктовой сладости и теплоты.
– А здесь вы совсем мальчик, смотрите, как хорошо, светло вы улыбаетесь, – голос ее стал еще ниже и глубже, губы подобрались к самому его уху. Он и она задышали чаще, и оба это заметили. Шама так приятно расслабился, что на секунду забыл о своем перстне, о кисловской потеряшке, которая вполне могла оказаться опасной свидетельницей его ночного кровавого баловства.
Тихий смех заставил его вздрогнуть. Это был даже не смех, а гнусное хихиканье. Молоденькая гримерша, оказывается, тоже рассматривала снимки, заглядывая через плечо корреспондентки.
– Нет, это потрясающе! С ума сойти можно! Просто одно лицо!
– Ира, прекрати, – резко одернула ее корреспондентка.
На очередной фотографии он был запечатлен с полоской темного геля над губой. Гримерша умудрилась зачесать ему челку на лоб, наискосок. Брови сурово сдвинуты, мышцы лица сведены нервической судорогой, серые мешочки под глазами, следствие бессонной ночи, еще не замаскированы гримом.
– Ну правда, смотрите, какой хорошенький маленький фюрерчик, – веселилась Ира, – такой лапочка, крошка Адольфик, я прямо не могу.
– Извините, Володя, – спокойно и серьезно произнесла корреспондентка, отстранила гримершу, взяла снимок и разорвала его с легким треском, – не понимаю, чего тут смешного? Вовсе не похож. Любому человеку нарисуй усики, зачеши челку…
– Черты лица – нет. Совсем другие. А глаза похожи, – прозвучал позади них голос молчаливого фотографа, – все дело в глазах.
– Не будем терять время, – перебила его корреспондентка, – Володя, давайте поговорим об украшениях, часах, талисманах. Кажется, вы носите очень интересный перстень на левом мизинце. Он что-нибудь значит для вас? У него есть какая-нибудь история?
Шаман поднял левую руку, растопырил пальцы, пошевелил мизинцем.
– Видите, ничего нет. Я не увлекаюсь ювелирными украшениями и в талисманы не верю. Могу рассказать, какие у меня часы. Из всех фирм предпочитаю старый добрый «Роллекс», обязательно платина, механика, круглый белый циферблат, черные римские цифры, секундная стрелка, календарь. И непременно «уотерпруфф».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
– Масина! Масина! – радостно закричала юродивая Лидуня и захлопала в ладоши.
«Какая машина? Откуда?» – хотела спросить Василиса, но не смогла произнести ни слова. Наверное, Лидуня сквозь живую деревенскую тишину расслышала далекий звук мотора. Василиса ничего не слышала. Ей хотелось просто лежать, не двигаясь. Ей было все равно. Она понимала, что надо заставить себя говорить, это важно. Во-первых, если она не заговорит, то скоро просто сойдет с ума. Во-вторых, никто, кроме нее, не может рассказать, что случилось на территории заброшенного лагеря и где следует искать Гришу, Олю и Сережу.
А может, их уже нашли? Они услышали выстрелы, тихо убежали в лес. Гриша знает эти места. Он вывел всех к дороге. Конечно, они могли также, как Василиса, обжечься, надышаться угарным газом и сейчас лежат в какой-нибудь больнице. Правда, почему нет?
«Потому, – ответила она самой себе, – что за корпусом, в котором они остались, была открытая поляна, а не лес. Они не могли бы убежать так, чтобы их не увидели. И вспыхнуло все слишком быстро. Сначала загорелся дальний корпус, а потом уж уехали бандиты».
* * *
Бандиты уехали, Отто Штраус остался. Она чувствовала вкус пищи, которую он ел. Он употреблял много сырых овощей, особенно капусты и моркови. От этого у него пучило живот, и Василиса морщилась, когда по его кишечнику гуляли вонючие газы. Он лакомился картофельным салатом и тушеной свининой. На десерт – жидкий кофе и теплый яблочный штрудель. Он ел много, набивал свою утробу жирами, белками, углеводами, витаминами, но не толстел. И еще – ему не было вкусно. Он не получал удовольствия от еды. Он вообще ни от чего не получал удовольствия.
Ему, конечно, было приятно безграничное доверие Гиммлера. Он радовался, что Гейни с ним откровенен. Он тревожился, что Гейни действительно могут убить. Но эти два чувства – радость и тревога – соотносились с его душой примерно так, как легкая рябь на поверхности ледяного океана соотносится с мертвым покоем на тысячеметровой глубине.
Он выглядел как здоровый полноценный мужчина, не только в одетом, но и в раздетом виде. Но никаких желаний, никаких инстинктов – ничего. Даже пороков никаких. Полнейшая стерильность. Чтобы не казаться странным, не вызывать подозрений, он иногда встречался с женщинами. Это были медсестры, секретарши. Он ухаживал за ними, спал с ними, знал, как удовлетворить их. Но чувств при этом испытывал не более, чем при посещении уборной.
Он умел легко прекращать отношения, если женщина проявляла признаки некоторой человеческой привязанности к нему или была слишком навязчива. Однажды молоденькая медсестра, очень красивая и бойкая блондинка, с которой он спал, попыталась женить его на себе и заявила, что беременна. Это был единственный случай, когда Отто Штраус рассмеялся. Он знал, что ни одна женщина в мире от него забеременеть не может. Не было у него никаких болезней, приводящих к мужскому бесплодию. Он просто принадлежал к иному биологическому виду. Наверное, все люди были бы такими, если бы размножались почкованием.
Ему никогда не снились сны. Он не помнил детства, юности. Прошлое было для него чем-то вроде сложной трехмерной схемы, без цвета и запаха, с датами, именами, портретами. Имелся портрет его матери, востроносой бровастой дамы. Имелась информация, что она умерла. Был памятник на лютеранском кладбище в Мюнхене. На камне выбито ее имя, тире между двумя датами. Память Отто Штрауса о женщине, которая произвела его на свет, казалась короче этого тире и холодней надгробного камня.
Впрочем, беседуя с людьми, прежде всего с Гейни, он делал умильное лицо, мягко улыбался, слегка прикрывал глаза, если речь заходила о детстве, о родительском доме, о милой матушке, о чернильных пятнах на пальцах и воскресных обедах со свиными ножками.
Единственное живое чувство, которое никогда не покидало его, – зависть. Но завидовал он вовсе не людям. Ни власть, ни деньги его не волновали. С юности он проводил много часов в анатомическом театре медицинского факультета, изучая мертвые тела, как инженер изучает детали разбитой машины, придуманной и созданной гением. Он завидовал гению, Создателю. Как всякий завистник, он радовался, когда находил изъяны и несовершен-ства. Болезни, уродства человеческой плоти были для него утешением.
«Не такой уж ты и гений, – иногда бормотал он, препарируя очередное тело или разглядывая в микроскоп тонкий срез опухолевых тканей, – ты позволяешь себе слишком много небрежностей и ошибок. Смотри, они дохнут, как мухи, от любой ерунды».
Но гораздо более физических изъянов и болезней радовали его уродства психики, некроз и гниение души, черные вонючие дыры в ткани человеческого сознания. Замечая мертвый отблеск в глазах живого человека, отблеск жестокости, жадности, блудливости, он всякий раз праздновал свою маленькую личную победу.
«Смотри, они дохнут еще при жизни, и ты ничего не можешь изменить».
Когда звучало это бормотание, больше похожее на треск сухих стволов, на вой ветра, на гул металла и далекий рык голодного ночного зверя, Василиса начинала дрожать, тело ее становилось невесомым и вялым, каким-то тряпочным. Сердце прыгало слабо и быстро, как бабочка в сетке, и казалось, вот-вот затихнет, рассыплется легким прахом.
Василиса ясно слышала, как сквозь ее дрожь, сквозь озноб, проступает здоровая мерная пульсация чужого сердца.
Пульс Отто Штрауса никогда не превышал семидесяти ударов в минуту.
* * *
После завтрака Андрей Евгеньевич позвонил Маше и услышал то, что ожидал услышать: «У меня все о'кей, папа». Голос был вполне бодрый.
– А подробней можно? – кашлянув, попросил Григорьев.
– Ты что, ночь не спал? Курил, как паровоз? Кофе пил литрами? – сурово спросила Маша.
Это была ее обычная манера – отвечать вопросом на вопрос.
– Чай, – уточнил Григорьев, стараясь, чтобы голос не звучал так сипло и виновато.
Обсуждать по телефону работу они не могли. Говорили только о погоде и о том, что хорошо бы сейчас отправиться к морю.
– Кстати, Машуня, ты знаешь, кто такой Отто Штраус?
– Австрийского композитора, который писал чудесные вальсы, звали Иоганн, – мигом отреагировала дочь, ничуть не удивившись, – был еще Штраус в Третьем рейхе. Врач, кажется. Эксперименты на заключенных в концлагерях. Гиммлер. Нюрнберг. Это ты к чему?
– Так. Легкая умственная гимнастика. Хочу проверить твои реакции и твою память, чтобы понять, как ты на самом деле себя чувствуешь.
– Папа! – возмущенно простонала Маша. – Я же сказала, я в порядке, не надо меня проверять. Выспись и прекрати столько курить. Ты сипишь, у тебя одышка. Гостиница приличная?
– Вполне. Сине-розовая, в таком приторном модерновом стиле. Интерьеры безобразные, подушки плоские, как блины, но стерильная чистота и отличный душ.
– Как ты питаешься? Ты что-нибудь горячее ешь?
– Вчера ел цыпленка-табака в ресторане. Сегодня обязательно съем супу. И обещаю, что выкурю не больше пяти сигарет за день.
– Ладно. Верю.
Когда они уже попрощались, Маша вдруг выпалила в трубку:
– Папа, погоди! Доктор Штраус. Аргентина. «Артишок» и «Блю берд».
– Что? – удивился Григорьев. – При чем здесь «Артишок»?
– Маленькая умственная гимнастика, – ехидно объяснила Маша, – захочешь продолжить цепочку – звони на мобильный в любое время. Все. Люблю, целую.
Положив трубку, Григорьев закурил и уставился в окно, на глухую бетонную стену двора-колодца. Дочь его правда была в полном порядке. И что он так занервничал, когда Кумарин заговорил про нее и про этого майора?
Андрей Евгеньевич не сомневался, они сами разберутся. А может, вообще не встретятся. В самом деле, почему они должны непременно встретиться, если оба понимают, насколько это бесперспективно?
Конечно, Григорьев хотел, чтобы Машка вышла замуж, родила ему внука или внучку, и даже готов был максимально освободить ее от хлопот с младенцем, если это все же произойдет. Из него получился бы отличный дед. Но оттого, что он пока не стал дедом, и неизвестно, станет ли когда-нибудь, Григорьев не чувствовал себя несчастным и обделенным. Верх глупости страдать потому, что может быть еще лучше, чем есть. Сейчас он счастливый отец. И на том спасибо. А когда Кумарин лезет в его личную жизнь, и тем более в жизнь Машки, это неприятно. Не имеет он на это никакого морального права. Никогда Григорьев и Кумарин не были близкими друзьями. Вносить в сложившуюся за десятилетия систему их отношений некую сентиментально семейную нотку не стоит. Слишком фальшивая получается нотка.
Люди Кумарина могут наблюдать за Машей в Москве. Это не хорошо, не плохо. Это их работа. Но совершенно не хочется узнавать от людей Кумарина, как сложатся ее отношения с милицейским майором, который два года назад очень ей нравился и которому нравилась она.
Григорьев понимал, что его тайный старый шеф переводит разговор на семейные темы не потому, что хочет пугать и шантажировать. Просто это ему сейчас интересней, чем все остальное. У него какие-то нелады в собственной семье. Он что-то важное упустил в отношениях с близкими, пока строил свою немыслимую империю, и теперь, к старости, пытается наверстать упущенное, понять, как это складывается у других, что такое быть отцом, дедом.
Всеволод Сергеевич Кумарин устал, размяк. Возможно, ему слишком легко все давалось в последние годы. Он шел по жизни вперед, как нож сквозь масло. Его всемогущество сыграло с ним злую шутку. Ему стало скучно. Или причина в чем-то другом?
– Аргентина, «Артишок», – нараспев повторил Григорьев, стараясь пока не вникать в смысл того, что сказала Маша, – Нюрнберг, «Блю берд».
Он загасил сигарету, включил кондиционер на полную мощь, задвинул шторы. У него было достаточно времени, чтобы выспаться перед вечерней встречей с Рейчем. Он принялся взбивать две плоские подушки.
После войны Аргентина принимала и прятала сотни нацистских преступников. Кому-то удалось дожить в покое и благополучии до конца 80-х. «Артишок» и «Блю-берд». Похоже на кодовые названия каких-то секретных операций и программ ЦРУ. Если Маша поставила это в один ряд с нацистским доктором Штраусом, с Гиммлером, Нюрнбергом и с Аргентиной, то речь, вероятно, идет о послевоенном периоде.
– Машка, ну что ты сделала? Теперь я не смогу уснуть, пока не распутаю твою цепочку, – проворчал Григорьев, ворочаясь с боку на бок.
Он сам приучил дочь к такой умственной гимнастике. Очень полезно составлять цепочки слов по логическим ассоциациям. Эта помогает встряхивать мозги. Но иногда может пригодиться и в работе. Не исключено, что с Аргентиной и «Артишоком» как раз такой случай.
«Ну их к лешему, эти Машкины загадки. Не буду мучиться. Позвоню и спрошу, что она имела в виду», – подумал Григорьев и тут же заснул.
* * *
Звук мотора приближался. Соседский пес залаял хриплым басом. Во дворе, прямо под окном, закричал петух. Василиса вздохнула с облегчением, вспомнив, что всякая потусторонняя нечисть исчезает при петушином крике. Отто Штраус – тварь дисциплинированная. Он обязан исчезнуть, когда кричит петух и светит солнце.
Василиса выглянула в окно. Сквозь забор было видно, что у калитки остановился милицейский «Газик». В сенях что-то грохнуло и разбилось. В комнату влетела юродивая Лидуня. Ее маленькое, сморщенное лицо было мокрым и бледным. Она скалила беззубый рот, таращила глаза и что-то быстро, непонятно бормотала. Подлетев к Василисе, больно схватила ее за руку.
– Пятя! Пятя! – повторяла юродивая и пыталась стянуть ее с кровати, – пахой, зёй, пятя!
Лидуня дрожала, корчила рожи, смешные и ужасные, и все тянула, тянула вниз, на пол. Василиса поняла, что юродивая уговаривает ее спрятаться под кровать, что милиционер, который выпрыгнул из машины и пытается открыть калитку, «плохой, злой».
Калитка была заперта изнутри на щеколду. Сквозь щели забора Василиса видела плечо в летней форменной рубашке с погоном, часть лица. Милиционер никакие мог протиснуть руку между досками. Вероятно, он поцарапался или всадил занозу, громко выругался, выдернул руку. Поняв, что самостоятельно он калитку не откроет, закричал:
– Эй, дома есть кто-нибудь?
Лидуня на миг застыла и прижала палец к губам. В глазах ее сверкала и переливалась паника. Василиса открыла рот. Она была уверена, что вот сейчас заговорит, успокоит юродивую, ответит милиционеру. Но звук опять застрял в горле. Милиционер, между тем, не дождавшись ответа, вернулся к машине и принялся громко сигналить.
«Почему он один? – вдруг подумала Василиса. – Дурочка помчалась встречать машину, потом быстро вернулась, заперла калитку. Господи, да что же происходит?»
Лидуня плакала и уговаривала спрятаться под кровать. В наборе невнятных слов появилось новое: «лезие».
Милиционер перестал сигналить, вернулся к калитке и несколько раз пнул ногой. Конечно, ему стало обидно, что он, такой здоровенный, в форме, в полном своем праве, не может справиться с простой щеколдой. Следовало встать, доковылять до калитки, открыть. Но нет сил. Каждый шаг причинял острую боль. Скоро должна вернуться хозяйка, и все разъяснится.
Очередной удар сбил щеколду. Калитка распахнулась. Лидуня перестала плакать, застыла у кровати, не отпуская Василисиного запястья. В сенях послышался треск разбитого стекла. Милиционер наступил на осколки, опять выругался и крикнул:
– Хозяева! Дома есть кто?
Через минуту, не дожидаясь ответа, он вошел в комнату.
Он был молодой, высокий, широкоплечий. Грубое, блестящее от пота лицо. Кроме пистолетной кобуры у него был небольшой автомат. Он не снял фуражку, глаз его Василиса не видела, но сразу почувствовала неприятный тяжелый взгляд.
– Лезие, уходи! – громко произнесла Лидуня.
Он не то чтобы вздрогнул, но напрягся.
– Уходи, Лезие, – повторила Лидуня, – Вася пиедет, тебя побьет!
Милиционер сделал вид, что не слышит, не понимает лепета юродивой.
– Грачева Василиса Игоревна, – отчеканил он, скорее утвердительно, чем вопросительно.
Василиса радостно закивала и даже сумела улыбнуться.
– Поедешь со мной, – милиционер шагнул к кровати, – до машины сама дойдешь, или помочь?
Василиса хотела сказать, что надо все-таки дождаться хозяйку, которая пошла вызвать «скорую» и вот-вот должна вернуться. Но опять не получилось ни звука. Зато Лидуня продолжала твердить, как заклинание: :
– Лезие, уходи!
Он нервничал. Даже сквозь толстые слои своих смутных и болезненных переживанийВасилиса сумела заметить, как он, этот здоровенный, вооруженный до зубов мент, искрит и дергается от ненормального напряжения, как ходят у него желваки под скулами, как движется выпуклый кадык над мокрым воротом рубашки.
– Грачева Василиса Игоревна, – повторил он. Она опять кивнула, уже механически, без всякой улыбки.
– Ну давай, поехали. Где твои вещи? – Он обшарил глазами комнату, сделал еще шаг к кровати, и тут Лидуня завопила. Голос у нее оказался на удивление мощным и высоким. Она все не отпускала руку Василисы, но слегка переместилась и стояла теперь между нею и милиционером.
– А-а! На помось! Лезие! Уйди атюдя! Пасель вон!
От крика закладывало уши. Лицо милиционера стало багровым. Мгновенным ударом он сбил юродивую с ног. Она держалась за Василису так крепко, что, падая, содрала бинт с ее руки.
Милиционера прорвало, он разразился матерной бранью. Василиса чуть не потеряла сознание. Бинт успел прилипнуть, и, когда он содрался, кисть обварило болью. Перед глазами завертелись огненные колеса.
– Ты заткнешься или нет? – милиционер пнул Лидуню ногой, отшвырнул к печке, но она вскочила удивительно проворно, и в руке у нее оказалась кочерга.
Василиса чувствовала себя беспомощной, как привидение. Она боялась милиционера, жалела юродивую, не могла понять, что происходит. Только видела, как толстые пальцы расстегивают кобуру. Сцена показалась до ужаса знакомой. Сейчас милиционер выстрелит в юродивую, так же, как Отто Штраус выстрелил в мальчика в инвалидной коляске. Только группенфюрер был значительно спокойней, отдавал себе отчет в том, что делает. А милиционер псих. Может, это тоже галлюцинация? Один кошмар сменился другим, более современным и обыденным. Ведь только в страшных снах так бывает: хочешь закричать, а звука нет, хочешь побежать, а ноги не слушаются. Единственное, что она могла сделать – вытянуть вперед, прямо ему в лицо, свою правую руку, как бы защищаясь и защищая юродивую. Рука без повязки выглядела мерзко и убедительно. Василисе самой было противно на нее смотреть.
«Эй, мент, опомнись! Погляди, кто перед тобой. Неужели ты выстрелишь в несчастную юродивую, а потом в меня, поскольку я, хоть и немой, но свидетель ? Кстати, все равно останутся свидетели. Пули из твоего пистолета. Ты должен это знать. Даже я понимаю такие вещи, а ты, между прочим, мент. Ты же не группенфюрер из моих потусторонних кошмаров. Ты обычный российский мент. И мы не в Третьем рейхе, где можно убивать сколько угодно, абсолютно безнаказанно. Тебя посадят, мент. Подумай об этом».
Рука дрожала. Милиционер смотрел на нее стеклянными глазами. Василисе на миг показалось, что он услышал ее горячий внутренний монолог. Но нет. Он уже вытащил свою пушку. Глаза у него были такие, что, вероятно, если бы Василиса произнесла все вслух, он бы не услышал. Лидуня совсем не боялась пистолета. Она замахнулась кочергой. Милиционер щелкнул предохранителем. Но глаза его все никак не отлипали от дрожащей, распухшей, безобразной руки Василисы. Он не смотрел на юродивую. Он смотрел на перстень.
Лидуня, с кочергой наперевес, метнулась вправо, чтобы удобней было врезать ему по башке, и, возможно, она бы успела, но в этот момент в сенях послышались шаги и голоса.
– Ой, батюшки, это кто ж мой квасок опрокинул?
– Да, жаль, хороший был квас…
В комнату вошла хозяйка, а вместе с ней толстый участковый Поликарпыч.
* * *
Магазин антикварных и магических мелочей на Вагнер-штрассе оказался закрыт. Плотные жалюзи опущены, дверь заперта на сложные замки. В углу двери мигал красный огонек сигнализации.
– Ну, здравствуйте! – проворчал Григорьев. – Мы же договорились.
Он набрал номер мобильного Рейча. Телефон был выключен. Набрал домашний. Там с ним поговорил автоответчик томным голосом Рики. Андрей Евгеньевич не стал ждать сигнала и оставлять сообщение. Несколько минут постоял у закрытой двери, посмотрел на часы, огляделся.
Это был тот самый туристический район Захсенхаузен, где Григорьев хотел погулять в первый свой день во Франкфурте. От маленькой улицы Вагнера до знаменитой Набережной Музеев минут десять ходьбы. Музеи, конечно, уже закрыты. Но можно просто побродить в одиночестве, помолчать и поглазеть на город, в котором раньше никогда не бывал.
Туристический район сохранил черты старой Европы, по которой Григорьев так соскучился в Нью-Йорке. После 45-го от Франкфурта мало что осталось, но уцелевшие обломки были бережно восстановлены. Розовые, бежевые, черно-белые фасады, серая чешуя крыш, почти отвесных, и в них выпуклые глаза-окна под квадратными шиферными веками. На первых этажах художественные галереи, бутики авторской одежды, мебели, украшений, очень стильные, вылизанные, продуманные до мелочей. Маленькие приветливые ресторанчики, французские, итальянские, японские, уютные немецкие пивнушки и таверны с интерьерами XVII века. Там тридцать сортов пива, жареную колбасу измеряют метрами, и тарелки размером с мельничные колеса.
– Подожду пять минут и пойду к набережной, – решил Григорьев, – он все равно никуда не денется. Может, до сих пор отсыпается после вчерашней ночи. Странно, что он выключил телефон и сам не звонит.
Прямо напротив магазина Рейча сияла витрина лавки серебряных украшений. Григорьев перешел узкую улицу. Ему захотелось купить что-нибудь для Маши. Он присмотрел комплект, кольцо и сережки с маленькими яркими аметистами, и уже хотел зайти, но тут услышал сзади знакомый голос:
– Вы кому же, интересно, выбираете подарок? Григорьев вздрогнул. Рейч подошел совсем близко, стоял у него за спиной и смотрел на витрину.
– Простите, Андрей, я опоздал. День получился сумасшедший, пришлось срочно решать свои банковские проблемы, потом мы с Рики делали небольшой шопинг. Чемоданы, всякие дорожные мелочи. Рики обожает ходить по магазинам. Так кому же вы собираетесь купить серебряные украшения? Кстати, – он перешел на шепот, – сюда заглядывать не советую. Хозяин болтун, хитрюга, умеет заморочить голову. Купите дорого какую-нибудь дрянь, потом будете жалеть. Серебро очень низкого качества, без титановых добавок, начнет темнеть, пачкать кожу, и вообще, большинство вещей сделано грубо, безвкусно.
– Генрих, что с вами? – тихо спросил Григорьев, вглядываясь в его бледное лицо.
Глаза лихорадочно блестели. Зрачки были расширены. Он говорил и без конца облизывал сухие воспаленные губы. Вопроса он как будто не услышал.
– Андрей, что же мы стоим? Он вас уже заметил, сейчас выйдет, пристанет, не отвяжетесь! Пойдемте ко мне. Я должен вам кое-что показать.
Хозяин ювелирной лавки действительно кивал и улыбался за стеклом, вылезая из-за прилавка. Рейч приветливо помахал ему рукой и потянул Григорьева к дверям своего магазина.
– Ну, рассказывайте! Сколько ей лет? Какая она? Блондинка? Брюнетка? Кто по гороскопу?
– Генрих, вы покупали чемоданы, – перебил его Григорьев. – Вы собираетесь куда-то ехать?
– Я обещал Рики съездить в Ниццу. Хочется на теплое море. А вы? С кем бы вы поехали на море, Андрей?
– Не знаю.
– Знаете, Андрей, конечно, знаете. Просто вы скрытный человек. Ладно, в конце концов, это не мое дело. Но если вы желаете купить подарок даме, то лучше вам сдедать это у меня, чем в лавке напротив. Мои вещички полны внутреннего смысла. Они умеют говорить, они дышат, чувствуют и сами выбирают своих владельцев.
Они вошли в магазин. Рейч тут же запер дверь. Григорьев огляделся. Маленький торговый зал ничем не отличался от обычной антикварной лавки. Застекленные полки с множеством интересных старинных безделушек. Фарфор, бронза, серебро, бисерные кошельки, парчовые и гобеленовые сумочки, кожаные планшеты и портфели, ременные пряжки, чернильные приборы из янтаря и малахита, погоны, ордена на подушках. В углу большие картонные коробки с дешевым старьем, для небогатых чудаков. Изношенные рваные мундиры, наборы пуговиц, дырявые фляги, портсигары без крышек. На широком открытом прилавке телефоны, граммофоны, старые пластинки в высоких деревянных лотках, книги, подшивки журналов, открытки, плакаты.
Хозяин не афишировал, что его товары имеют прямое или косвенное отношение к нацизму. Свастики, черепа, двойная молния СС – все это присутствовало на вещах, спрятанных в следующей комнате, куда мог зайти далеко не каждый покупатель. Там же продавались современные штуки с нацисткой символикой и была пара витрин, посвященных черной магии, астрологии, религии Вуду.
– Здесь все барахло, мелочи, – сказал Рейч, проводя своего гостя через первые две комнаты, – можете даже не смотреть. Осторожно, ступенька! Первый мой торговый зал для случайных туристов. Второй для тех, кто считает себя знатоками. Цены разнятся примерно в пять раз. Вот, например, пепельница с тремя обезьянами. Первая мартышка зажала лапками глаза, вторая уши, третья – рот. Все три очень симпатичные. Материал – бронза. Работа довольно тонкая. Аллегория грубовата: не вижу, не слышу, молчу. В первом торговом зале эта пепельница стоит не больше двадцати евро. Но я могу поставить ее во второй, и у меня есть шанс продать ее за сто евро. Точно такая штука стояла на письменном столе Гитлера. Понимаете, о чем я?
Григорьев молча пожал плечами.
– Посетители второго зала платят за символ, за миф, – Рейч тихо захихикал, – в конечном счете они платят за собственную глупость. Мне, как торговцу, грех не воспользоваться этим. Нет, я не мошенник. Все честно. Семьдесят процентов того, что вы видите здесь, во втором зале, поздние копии. Я не скрываю этого. На каждом товаре есть бирка с информацией. Видите, вот штампик: «копия».
Рейч ткнул пальцем в витрину. На длинной бархатной подушке лежала дюжина маленьких золотых значков. Наружный кружок – колосья. Внутри черная свастика.
– Это партийные значки НСДАП, – пояснил Рейч, – из двенадцати только два настоящие. Кому они принадлежали, я так и не выяснил. Да это и не важно. Они лежат себе, ожидая новых владельцев. И знаете, что самое интересное? Многие предпочитают копии не из-за цены. Даже у идиотов, приходящих ко мне во второй зал, работает инстинкт самосохранения. Им страшно купить подлинник, поскольку каждый подлинник – маленький холодный свидетель череды реальных кошмаров и трагедий. Покупая подделку, они прикасаются к жгучей тайне как бы сквозь перчатку. Обычно с такими покупателями у меня нет дальнейших контактов. Меня интересуют те, кто выбирает подлинники. Когда они уходят с покупкой, я стараюсь не упускать их из поля зрения.
Они миновали оба зала и спустились в подвал. Рейч был возбужден. Болтал без умолку, потирал руки, облизывал губы. Григорьев подумал, что старик просто пьян, но спиртным от него пахло.
– Садитесь. Сейчас я покажу вам, что я припас для вашей прекрасной дамы. Вы так и не сказали, кто она, но я догадываюсь, – он подмигнул.
В подвале стояли удобные кожаные кресла, журнальный столик. Две стены были закрыты плотными шторами. Рейч дернул какой-то рычаг, одна из штор поехала в сторону, обнажив ряды ящиков-сейфов, как в камере хранения. Григорьев опустился в кресло. Щелкнул замок. Один из ящиков выдвинулся. Рейч несколько минут молча копался в нем, затем закрыл, запер и повернулся. На ладони у него лежал синий бархатный футляр с золотой пряжкой.
– Женщина, для которой вы хотели выбрать подарок, – промурлыкал он сладким голосом Рики, – шатенка, пухленькая, прелестная, немного рассеянная. Ей около тридцати. У нее большие голубые глаза. Или зеленые? О, нет, карие! Она худенькая брюнетка. Ладно, не важно. Главное, чтобы у нее были тонкие чуткие пальцы и хотя бы капля воображения. Знаете, если нет ни капли воображения – беда! Скучно жить в мире материальном и конкретном, как канцелярия, пресном, как вареный лук, плоском, как цинковый стол в морге. Иногда помогает марихуана. Всего несколько затяжек – и можно отправиться в сказочное путешествие. Вы пробовали? Очень рекомендую. Кстати, большинство злодейств в истории совершали люди, лишенные воображения. Без него невозможно представить, что другому тоже больно. Знаете, что прежде всего пытались искоренить воспитатели в инкубаторе, где я провел детство? Воображение. Фантазию. Способность видеть мир не плоским и черно-белым, а объемным и цветным.
– Генрих, сядьте, успокойтесь. Наркотики в нашем возрасте – штука опасная, – перебил Григорьев, так и не дождавшись паузы в бурном монологе.
На этот раз Рейч услышал его, замолчал, замер.
– Не опаснее, чем сама жизнь, – произнес он уже другим голосом, вполне спокойным. – Расскажите, как выглядит ваша дочь. Вы ведь ей присматривали подарок у витрины ювелирной лавки? Если бы у меня была дочь, я бы обязательно покупал ей украшения, но не серебряные. Золотые, с настоящими камушками. Вот такие, например.
Он раскрыл футляр и протянул его Григорьеву.
Там лежало колечко с небольшим овальным бриллиантом, простое, строгое.
– Нравится? – спросил Рейч.
– Красиво, – равнодушно кивнул Григорьев.
– Камень удивительно высокой чистоты. Смотрите, как сверкает. Вы ведь приехали ко мне за информацией, которая стоит денег, верно?
– Да, я приехал за информацией, – Григорьев тяжело вздохнул.
– Готов продать вам все, что мне известно. А лучше сразу купите мою голову. Представляете, какая куча шпионской информации оптом, – он постучал себя по лбу костяшками пальцев, – купите голову, там много дерьма, но есть кое-что интересное. – Рейч широко улыбнулся и заговорил наконец своим нормальным голосом. – Но в придачу возьмите это колечко. Хорошо?
– Зачем? – спросил Григорьев.
– Я хочу, чтобы его носила ваша дочь. Посмотрите на него внимательно, можете взять в руку. Ну, не бойтесь! Вы же не верите, что вещи умеют разговаривать. Вы нормальный, прагматичный, трезвомыслящий человек. Все, что я говорю сейчас, кажется вам полнейшим бредом. Да, мы с Рики покурили марихуаны, и еще была какая-то травка в вермуте. Я немного не в себе. Зато мне хорошо. Я расслабился. Ну что же вы, Андрей? Возьмите его, просто полюбуйтесь, как чудесно играет камень.
Григорьев вытащил кольцо из футляра, повертел, положил на место.
– Не обожглись? – спросил Рейч с детской хитренькой улыбкой. – Скажите, у вас нет привычки таскать с собой в бумажнике фотографии членов семьи? Нет? Жаль. Ну ладно. Вчера мы остановились на осколке, который был извлечен из селезенки Гейдриха после покушения. Не бойтесь, я не стану показывать вам эту гадость и не заставлю брать в руки. Гейдрих мертв, вот уже шестьдесят лет как абсолютно мертв. Он был материалистом, отрицал бессмертие души и получил то, во что верил. Мрак. Небытие. С Борманом та же история. Побрякушки, принадлежавшие им и таким, как о.ни, молчат. А вот все, что принадлежало Гитлеру, Гиммлеру, Геббельсу, до сих пор говорит, дышит и ждет новых владельцев. Перстень Отто Штрауса был самым живым и красноречивым экспонатом моей коллекции.
– И он обрел своего нового владельца, – напряженно улыбнулся Григорьев.
– Да. За ним пришел Владимир Приз.
– Поэтому вы решили, что этот актер – будущий русский фюрер и над Россией нависла угроза нацизма?
Рейч ничего не ответил. Глаза его стали спокойными и осмысленными. Возбуждение, вызванное марихуаной, прошло. Он смотрел на Григорьева грустно, даже с некоторой жалостью. В подвале тихо гудел кондиционер. Блестели никелевые замочки сейфов. Маленький овальный бриллиант постреливал иголочками радужных лучей.
– Неужели вы не понимаете, Андрей, – устало вздохнул Рейч, – дело не в кольцах и пуговицах. Я пытаюсь объяснить вам то, что не имеет объяснений. Я забредаю сам и веду вас туда, где привычная логика слепнет, глохнет и не находит слов. Там работают совсем иные причинно-следственные связи. Были нацисты выродками, маньяками или обычными людьми, которые при иных обстоятельствах прожили бы свои жизни как нормальные добропорядочные граждане? Был Адольф Гитлер гением зла или обаятельной марионеткой в руках других гениев, которые остались в тени, или он вообще не являлся самостоятельной личностью, не имел собственной воли и судьбы, а стал плодом коллективной шизофрении? Мы никогда не сможем ответить на эти вопросы. Мы будем бесконечно спорить, выстраивать умственные конструкции, которые рушатся, как карточные домики. На этом пути нас ждут только тупики. Но других путей мы не знаем. Мы не желаем понять, что в первой половине двадцатого века в сердце Европы среди людей стали жить и активно действовать существа с иной биологической структурой. К власти в Германии пришли звери, не животные, а именно звери, в апокалипсическом смысле этого слова. Аналогов в истории человечества не найти.
– Так уж и не найти? – сказал Григорьев. – Древние царства с их кровавым язычеством, рабством и запредельной жестокостью. Культура инков и майя. Египет, Римская империя. Крестовые походы и инквизиция. Россия в двадцатом веке, от семнадцатого до пятьдесят третьего.
– Нет, все не то, – Рейч помотал головой, – жестокости, садизма, глумления в истории много. Но враги в жертвы в сознании самых жутких чудовищ все равно оставались людьми и не становились номерами. Истребление сотен тысяч людей случалось не раз, но никогда оно не превращалось в бюрократическую рутину, в заводской конвейер, не сопровождалось аккуратной бухгалтерией. Африканские племена поедали тела своих жертв, но не варили из них мыло и не вели учет этому мылу в конторских книгах. Американские индейцы использовали скальпы поверженных врагов как ритуальные символы, но не набивали ими матрасы.
– Генрих, вы противоречите самому себе, – сказал Григорьев, – вы говорите о мистическом начале, о чем-то запредельном, а в качестве аргумента приводите примеры грубейшего прагматизма, коммерческого расчета, примитивной потребности из всего извлечь пользу и выгоду.
– Правильно! – Рейч так обрадовался, что даже хлопнул в ладоши. – Вот вы сами все и сформулировали, Андрей. Оккультная грань нацизма была и остается самой заманчивой его гранью. Она до сих пор прельщает амбициозных неудачников, нравственных калек, лишенных живого воображения. В этом ее главная функция – прельщать обиженных и бездарных. Таинства «Черного ордена», теория космического льда и четырех лун, теория единства земли и крови – это сладкая облатка, без которой человеческое сознание не способно принять и усвоить законы небытия. Вся дребедень, собранная здесь, в моем подвале, все эти перстни, значки, вставные челюсти, сумки из человеческой кожи, вечные перья, ритуальные принадлежности, все, что связано с оккультизмом и черной магией, – фрагменты языка, на котором преисподняя говорит с человеком. Это бубенчики и стеклянные бусы для доверчивых дикарей. Но их меняют не на золото, а на бессмертные души. Всегда найдутся желающие продать и купить. Оптом дешевле и удобней, чем в розницу. Элементарный закон бизнеса. Нацизм – это всего лишь торг. Коммерческие отношения. Но не между людьми, а между жизнью и смертью.
– Красиво сказано, – кивнул Григорьев.
– Нет! – Рейч вскочил, всплеснул руками и опять сел. – Ничего в этом нет красивого. Это уродливо, безобразно. Это страшно потому, что торг продолжается! Преисподняя могла бы заткнуться и оставить нас в покое после сорок пятого, после Нюрнберга. Был шанс немного отдышаться от этого смрада, но мы пренебрегли своим шансом. Не в том дело, что несколько тысяч нацистских преступников избежали суда, рассеялись по миру. Это плохо, но не смертельно. Смертельно другое. Во время Нюрнбергского процесса в руки ЦРУ и НКВД попало огромное количество документов. Около шестнадцати тысяч страниц машинописных текстов. Это были подробные отчеты об экспериментах, которые проводились над заключенными в Дахау и Освенциме. Длились судебные заседания. Звучали с трибун пламенные речи. Разрабатывался специальный закон о запрете использования в науке и на практике результатов опытов, которые проводились на узниках концлагерей. А сотрудники спецслужб держав-победителей, люди разумные, прагматичные, под шумок изъяли это из общего набора документов обвинения, засекретили, вывезли к себе, чтобы изучать и использовать в своей работе. Понимаете, рационально использовать, как трупы для мыла и волосы для матрасов.
– Погодите, Генрих, но это были всего лишь трофеи. Из Германии вывозились тонны архивов, научной документации, целые лаборатории, вместе с оборудованием и учеными, – сказал Григорьев, – ну да, спецслужбы вывезли и медицинские архивы концлагерей Засекретили. Вполне понятно. Изучали. Тоже понятно. Почему вы думаете, что они это использовали?
– Я не думаю. Я знаю, – Рейч рубанул ребром ладони воздух. – Они продолжали экспериментировать на людях. Сначала это были уголовники, приговоренные к смертной казни. Потом проститутки и нелегальные эмигранты. Но все казалось мало. В ход пошли так называемые добровольцы, молодые офицеры, которым говорили, что это необходимо для великой цели защиты демократии и совсем не вредно для здоровья. Студенты, которым просто платили за это деньги и не считали нужным объяснить возможные последствия. Сотрудники, подозревавшиеся в предательстве, – чтобы развязывать им языки и не возиться долго. В общем, люди. Тысячи, десятки тысяч людей. А руководил всем этим наш с вами знакомый. Ну, угадайте, кто?
– Доктор Отто Штраус?
– Совершенно верно. Вы что-нибудь слушали о сверхсекретных программах, которые проводились в ЦРУ с конца сороковых под личным контролем Аллена Даллеса? Их кодовыми названиями были «Артишок» и «Блю-берд».
– Откуда вы знаете, что Отто Штраус после войны работал на ЦРУ? – спросил Григорьев.
– От него самого.
Григорьев закрыл глаза и почувствовал странную усталость. Голова кружилась, колени дрожали, словно он только что прошел пешком без остановки сотню километров или его долго крутили в центрифуге.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Следующим номером сегодняшней программы у Вовы Приза было ток-шоу. Оно шло в прямом эфире, ранним вечером, до новостей, и имело чрезвычайно высокий рейтинг. Обсуждалась родная для него тема: нужна ли России твердая рука? С ним вместе выступал старый вялый хрыч Женька Рязанцев, и было бы глупо упустить возможность лишний раз покрасоваться перед широкой аудиторией на таком выигрышном фоне. Хотя по большому счету именно сегодня ток-шоу совсем некстати. Во-первых, жарко. В такую жару студии в «Останкино» к вечеру раскаляются до температуры сауны. Течет грим, плавятся мозги. Но главное, сегодня надо окончательно решить вопрос с этой несчастной потеряшкой. Дело не в том, что она – свидетель. Какой она свидетель, если ничего не видела, не может говорить? Дело в перстне. Только она могла его подобрать. Больше никто.
Шаман почти не сомневался, что нашел бы его в песке на пляже, если бы он там лежал. Река – не море, волн нет.
Он бы лежал себе спокойно и ждал Шамана. Но его не оказалось. Значит, подобрала Василиса Грачева. Брать чужое нехорошо. А Лезвие до сих пор не звонит и отключил мобильник.
Журналистка со своей командой наконец выкатилась.
До поездки в «Останкино» осталось полтора часа. Следовало хоть немного отдохнуть, подремать, потом принять душ. Шама сильно потел, никакие дезодоранты не помогали. В жару приходилось мыться и менять белье три раза в сутки, особенно если предстояло публичное мероприятие. В комнате отдыха в «Останкино», перед ток-шоу, будет полно народу, и все знаменитости. Ее величество Тусовка вполне терпимо, и даже одобрительно, относится к невежеству, к наглости, хамству, к мату, к болезненной сексуальной озабоченности. Ты можешь себе позволить все.
Но у тебя при этом должны быть безупречные зубы, чистые уши и ногти, и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы пахло от ног. А у Шамана пахло. Сам он запаха не чувствовал, но еще в институте пожилая преподавательница сценречи однажды прошептала ему, слегка поморщившись: «Володя, вы уж, ради Бога, простите меня, но вам надо чаще менять носки». Он дико возмутился, обиделся, возненавидел старуху и гадил ей по мелочи при всяком удобном случае. Но тем не менее стал чаще мыться и носки менял ежедневно. Спать не хотелось, несмотря на бессонную ночь. Слишком был возбужден и раздражен. Он с трудом переносил даже совсем короткие периоды бездействия и одиночества. Оставалось принять душ и перекусить. Но жаль смывать такой удачный грим, к тому же аппетит пропал совершенно. Так, ничего не делая, ни о чем не думая, бормоча под нос песню про лютики-цветочки, он просидел в кресле, положив ноги на журнальный стол, в тупом оцепенении, минут двадцать, пока не позвонили в домофон. На экране он увидел искаженную физиономию Лезвия и еще до всяких объяснений понял, что его ближайший друг и помощник упустил кисловскую потеряшку.
Он был в форме, красный, с опухшими блестящими глазами. От него пахло перегаром.
– Что я мог сделать, блин?! Там оказалась эта дура слабоумная, Лидуня. Помнишь ее? Ну вот. Она меня тоже помнит!
– Надо же, еще жива, – Шаман покачал головой. – Погоди, ты что, слабоумной испугался?
– Я не испугался, блин! Я растерялся, занервничал. Я же в Кисловке сто лет не бывал. А что бы ты делал на моем месте? Не стрелять же в нее, на хрен! Она орала на всю деревню, схватила кочергу.
– Ой, какой ужас.
– Ты зря смеешься, Шама. Она вполне могла меня покалечить, метила, сучка, прямо по башке. Как с цепи сорвалась.
– Сколько ты выпил, Лезвие?
– Грамм сто, не больше.
– До или после?
– То есть? – Лезвие заморгал.
– Ты пил по дороге в Кисловку, для храбрости, или на обратном пути, чтобы расслабиться?
– Слушай, Шама, я тебе что, пацан зеленый? Это мое дело, понял? – Лезвие попытался разозлиться, но не получилось. Он громко рыгнул, выругался, лицо его за лилось бурой краской. – Ну, хлебнул малость, только что, у тебя в лифте, – он достал из кармана стальную плоскую фляжку и протянул Шаману: – Хочешь? Это коньяк.
Шаман ничего не ответил, продолжал смотреть на Лезвие, холодно и насмешливо.
– Нет, ну а что, в натуре, я мог сделать? – проворчал Лезвие. – К тому же, знаешь, чей это дом? Васьки Кузина!
– Его убили в Чечне семь лет назад, – мягко заметил Шаман.
– Ну и что? Фельдшерица, которая подобрала эту Грачеву Василису, она Васькина мать. Она меня тоже вспомнила, понимаешь ты или нет?
– Понимаю. Страшное дело. Тебя вспомнили две деревенские тетки, одна из которых слабоумная.
– Шама, ты хорошо живешь, в натуре, —Лезвие бросил фляжку на журнальный стол, плюхнулся в кресло, закурил. Руки его тряслись, но взгляд слегка прояснился. – Мы же ее изнасиловали тогда, эту Лидуню, помнишь? И чуть не убили. А Васька Кузин ее потом нашел в лесу, полумертвую, дотащил до медпункта, там его мать работала, и до сих пор работает.
– Ты что-то путаешь, Лезвие. Пить надо меньше. Юродивую Лидуню пятнадцать лет назад изнасиловали и чуть не убили какие-то подонки, у них лица были закрыты черными капроновыми чулками. Один чулок юродивая содрала и сжимала в кулаке. Следствие этот факт установило со слов потерпевшей, хотя она и была признана недееспособной. Их так и не нашли, этих мерзавцев. Теперь уже не найдут.
– Колготки,—пробормотал Лезвие,—это твоя была идея. Ты стащил две пары черных колготок у своей матери, мы их разрезали и надели на головы. Но с меня Лидуня эту дрянь содрала и видела мое лицо, и сказала об этом Ваське Кузину, пока он ее тащил. Ты что, не помнишь, как мы с ним дрались на кладбище?
– Ага. Он тебя хорошо тогда отлупил. Главное, подстерег тебя одного, когда нас рядом не было. Но ты молодец, молчал, как партизан. Ладно, хватит. У меня скоро прямой эфир. Что там с Грачевой? Давай быстро и по порядку.
– Ну, я вошел, короче. Хозяйки не было. Я сразу понял, это она. Назвал фамилию, имя отчество. Она закивала.
– Как она выглядит?
– Сопля, малолетка, глаза сумасшедшие. На вид лет четырнадцать. Патлы длинные, черные. Тощая, руки, ноги в бинтах.
– И что, правда не может говорить?
– Даже не мычит. Но все слышит. Я сразу спрашиваю: «Грачева Василиса Игоревна?» Кивает. Понимаешь, если бы не эта сучка слабоумная, я бы все быстренько сделал, как мы решили. Но на меня хрен знает что нашло. В общем, пока я там с ними валандался, явилась хозяйка, да не одна, вместе с участковым Поликарпычем. Ему, оказывается, телефонограмма пришла с ориентировкой на четырех подростков москвичей, вот он и допер, что потеряшку ищут. А Кузина уже «скорую» вызвала. Ну не мог же я их там всех четверых из автомата!
– Не мог, – кивнул Шаман, – конечно, не мог. Ты сказал им, как зовут девку?
– Нет. Я ж понимаю, она молчит из-за стресса. Она, в принципе, не глухонемая. Чем быстрей ее найдут родные, тем быстрей она заговорит. Вот пусть подольше ищут.
– Молодец. Умница. А Лидуня? Она ведь слышала, как ты произнес фамилию и имя. У нее, как выяснилось, хорошая память. Впрочем, ладно, тут ничего не поделаешь. Дальше.
– Ну, дальше стали ждать «скорую». Они в доме, я на улице, в машине.
– А что так? Выгнали? – Шаман удивленно поднял брови.
– Нет! Чаем напоили с вареньем! Там, главное, вся комната в Васькиных фотографиях. Пялится со стен, сволочь, как живой! К тому же хозяйка стала базлать: «Что б ноги твоей здесь не было, вон отсюда!» Стыдить меня стала, как сопливого пацана. А тут еще Поликарпыч… Он ведь меня отмазывал несколько раз, я вроде как ему обязан, и ссориться с ним мне не резон, блин. Они же застали меня с пушкой в руке, понимаешь?
– Понимаю, понимаю, только не ори. Ты хотя бы узнал, в какую ее повезли больницу?
– В Шестую градскую.
– Про перстень мой ты, конечно, ничего не выяснил? Прошмонать тебе ее не удалось, юродивая помешала, – Шаман по детской привычке всосал нижнюю губу и стал похож на кролика.
– А не надо было шмонать, – тихо и серьезно произнес Лезвие, – перстень у нее на пальце.
– Ты же сказал, руки забинтованы? – голос Шамы стал странно высоким, он сам не заметил, как начал ковырять ногтем маленькую выпуклую родинку под подбородком.
– Бинт размотался на правой руке. Я увидел перстень, на среднем пальце.
Родинку под подбородком Шаман расковырял до крови и не заметил этого. Душ так и не принял, носки не поменял.
* * *
– Андрей, вам нехорошо?
Григорьев открыл глаза, увидел Рейча и понял, что отключился на какое-то время. Как это произошло, почему и сколько продолжалось, неизвестно. Он сидел в удобном кожаном кресле, в подвале магазина Рейча. Тихо гудел кондиционер. Было холодно.
– Не пугайтесь, – улыбнулся Рейч, – здесь многие теряют сознание.
– Почему?
– В этом доме располагалось отделение гестапо. В подвале, вот именно здесь, где мы сейчас сидим, были камеры. Не могу сказать, что каждый день кого-то пытали, избивали, но случалось. Здесь стены пропитаны ужасом, болью, предательством. Если провести здесь ночь, можно услышать крики, стоны, очень тихие, далекие, но такие жалобные, что сердце разрывается. Собственно, сам подвал – тоже экспонат моей коллекции. Могу сварить кофе.
– Нет. Спасибо.
Григорьев взглянул на часы. Рейч перехватил его взгляд.
– Вы устали?
– Хочу понять, сколько времени был в отключке.
– Всего пару минут, не больше. Еще раз повторяю вам, ничего страшного. Наоборот, такая реакция говорит о том, что вы живой человек, не робот, не инопланетянин. Вот ваш соотечественник Владимир Приз чувствовал себя здесь великолепно, как дома.
– А вы? Как вы себя чувствуете здесь, Генрих? Вообще, зачем вам все это?
– У каждого свое хобби. Сейчас модно быть чудаком. Я с раннего детства чудак и фантазер. Знаете, когда мне было шесть лет, я решил, что Генрих Гиммлер мой отец. Я узнал, что у детей бывают отцы и матери. То есть не узнал, а осознал и стал думать – кто же меня произвел на свет. Простая детская логика. Генрихом меня назвали в честь Гиммлера. Значит, он мой отец. А на роль матери я выбрал легендарную летчицу, первую женщину-испытателя Люфтваффе Ганну Рейч. Мне дали ее фамилию. Это было принято – называть детей, таких, как я, в честь героев Рейха. Далее, я выдумывал разные легенды, почему они, мои родители, не могут признаться, что я их сын, и забрать меня. Я сочинял сказки и этим спасался в кошмарном быту инкубатора. Портрет Гиммлера висел в нашей спальне. Засыпая, я смотрел на него, разговаривал с ним, называл папой и рассказывал, как прошел день. У Гиммлера были слегка оттопыренные уши. У меня тоже. Портрет Ганны висел в комнате медсестер. Туда детей не пускали, но мне удавалось иногда проскользнуть незаметно, и я разговаривал с Ганной. У нее были светлые вьющиеся волосы. У меня тоже.
– Это кольцо принадлежало Ганне Рейч? – спросил Григорьев, кивнув на раскрытый бархатный футляр.
– Да. Удивительная была женщина. Красавица, умница, бесстрашная, благородная. Восемнадцатилетней девочкой летала в Африку, кормить и лечить туземцев. В двадцать установила абсолютный европейский рекорд высоты среди женщин-авиаторов и рекорд самого длительного беспосадочного полета. Была одним из лучших пилотов-инструкторов люфтваффе, экспертом по авиационным исследованиям, первой женщиной-испытателем. Она умерла здесь, во Франкфурте, в семьдесят девятом. Я познакомился с ней в семьдесят шестом. Когда я рассказал ей, почему ношу ее фамилию, она была растрогана до слез. Она до конца своих дней не желала ничего знать о концлагерях и прочих ужасах. Для нее Адольф Гитлер был человеком, который отдал жизнь за то, что Германия стала самой великой страной в мире, чтобы все немцы были богаты и счастливы. Мы с ней очень подружились. Я долго уговаривал ее продать мне это колечко и денег не пожалел. Ганне надела его на палец Магда Геббельс двадцать седьмого апреля сорок пятого года. Ганне удалось выбраться живой из подвала рейхсканцелярии Гитлера. Потом она давала очень трогательные свидетельские показания о последних часах жизни фюрера и других обитателей бункера. Она была искренне предана фюреру и национал-социализму. Вместе с генералом фон Греймом она, рискуя жизнью, под шквальным огнем русских, прилетела в Берлин из Мюнхена, чтобы спасти своего фюрера или погибнуть вместе с ним.
– Простите, но это не совсем точно, – перебил Григорьев.
– Что? – Рейч открыл рот от удивления. – Что вы сказали?
– Генрих, я неплохо знаю военную историю. В конце апреля сорок пятого фон Грейм был вызван в Берлин срочной телеграммой Гитлера. Он взял с собой самого надежного своего пилота, Ганну Рейч. Когда они прилетели, Гитлер официально сообщил, что Геринг стал изменником, и назначил фон Грейма главнокомандующим люфтваффе. Так что ваша прекрасная Ганна летела не спасать и погибать, а просто сопровождала своего командира и выполняла приказ. Впрочем, это ничуть не умаляет благородства ее поступка.
Рейч смотрел на него несколько секунд молча, склонив голову набок, и вдруг спросил, очень быстро и тихо:
– А вы? Чей приказ выполняете вы, Андрей?
Глаза его впились в лицо Григорьева. Никакой марихуаны, никакого безумия. Рейч был спокоен, подтянут и очень наблюдателен. Григорьев чувствовал, что даже легкое движение его лицевых мышц не ускользнет от взгляда Генриха.
«Мы никогда не обсуждали с ним мою биографию и профессию. Он знает, что я русский эмигрант во втором поколении, родился в Нью-Йорке. Зарабатываю на жизнь чтением лекций в нескольких университетах. Специализируюсь на истории дипломатии и тайных обществ. Я выдал ему эту легенду много лет назад, и с тех пор он не задавал вопросов. Я ему, впрочем, тоже. Я довольствовался его легендой: журналист, фотограф, художник, историк-любитель, коллекционер. Мы говорили об искусстве, старом и современном, о масонстве, алхимии, о розенкрейцерах и тамплиерах. У меня не было необходимости задавать ему бестактные вопросы, поскольку я и так знал о нем очень много. А он? Что знает обо мне он? Я никогда не пытался его вербовать и делать своим агентом. Иногда я осторожно цедил через него информацию, иногда покупал за большие деньги. Он не спрашивал, для кого и зачем. Я верил, что ему это безразлично, что его интересуют только деньги» – все это пронеслось у Григорьева в голове за одно мгновение.
– Ладно, расслабьтесь, Андрей, – Рейч махнул рукой, – можете не отвечать. Я задал хамский вопрос, простите. На самом деле я вам очень благодарен. Вы меня так долго, так терпеливо слушали. Спасибо. – Рейч слегка поклонился. – Было бы обидно, если бы все это ушло вместе со мной. Мемуаров я писать не собираюсь. Сам не умею, нанимать кого-то и диктовать не хочу. Ни друзей, ни родственников у меня нет. Я пытался рассказать Рики. Он был в восторге. «О, это здорово! Это так концептуально! Ты был выведен искусственным путем, ты прообраз клона! Ты клон „Черного ордена“! Ты осколок космического льда! Я сплю с клоном!»
Григорьев хотел сказать «сочувствую», но промолчал. Лицо Рейча на мгновение показалось мертвым. Глаза его потускнели и застыли, щеки ввалились. «А ему ведь совсем мало осталось, – подумал Андрей Евгеньевич, – он старше меня лет на десять».
* * *
Когда в больнице Василисе стали обрабатывать ожоги, сначала хотели снять перстень. Долго обсуждали, как зто сделать. Палец распух настолько, что перстень оказался как бы впаянным в сплошной ожоговый пузырь.
– Ну что, может, кусачками перекусить? – предложила сестра, и обратилась к Василисе:
– Колечко ценное? Или не очень?
Как будто она могла ответить!
– Ладно, – вздохнула сестра, – лучше пока не трогать. Можно повредить пузырь, и вообще, возни много, а оно особенно и не мешает. Ведь оно тебе не мешает, нет?
Василиса помотала головой. Она плохо соображала, ей вкололи приличную дозу анальгина с димедролом.
– Да и жалко портить вещь, – продолжала рассуждать сестра, – оно вроде бы старинное, интересное такое. Это серебро? Или белое золото?
Правую руку обработали и перебинтовали, оставив перстень в покое.
«Не хочу, – беззвучно бормотала Василиса, лежа под капельницей в маленьком больничном боксе, – вас нет, гады, ублюдки, вас уже больше полувека нет в живых. Почему я вас вижу и слышу? Зачем?»
Глаза ее были открыты, она смотрела в белый потолок, она отлично понимала, где находится, что с ней происходит, но одновременно со своей жизнью проживала куски чужой, которая давно закончилась и не должна иметь продолжения.
Группенфюрер Штраус спускался по лестнице, в голове у него отщелкивал список имен и должностей, словно кто-то печатал их на невидимой пишущей машинке. Потом каждое имя обводилось аккуратным овалом, между овалами выстреливали прямые линии связей. Он был заинтересован в безопасности своего пациента Гиммлера. Пока Гиммлер владеет всей полнотой власти, никто не мешает доктору Штраусу работать.
В мозгу Штрауса включился какой-то особый аппарат, вроде рентгеновского. Перед его мысленным взором возникла гигантская фигура с уродливым топорным лицом. В углу широкой пасти дымилась сигарета. Эрнст Кальтенбруннер, начальник Главного управления имперской безопасности. Пьет и чудовищно много курит, около восьмидесяти сигарет в день. Зубы у него отвратительные, коричневые гнилые осколки. Постоянно мучается зубной болью. Но боится идти к дантисту. Гиммлеру пришлось выпустить специальный приказ для Кальтенбруннера, чтобы он посетил дантиста. Не помогло. Эрнст продолжал глушить свои зубные проблемы спиртным и табаком.
Аппарат погудел, пощелкал. Фигура исчезла. Отто Штраус убедился, что Кальтенбруннер не имеет дурных намерений по отношению к Гейни. Он вполне может занять место ненадежного красавчика Гейдриха. Интересно, как отнесется к такой рокировке Геринг?
Один урод сменился другим. Жирное существо с двойным подбородком, с тонкими губами и выпученными глазами. Герман Вильгельм Геринг. Любитель охоты, драгоценных камней и морфия. Лечился в психиатрической клинике. Красит губы, пудрится, нацепляет на свои разноцветные мундиры женские брошки с гигантскими бриллиантами и сапфирами. Он стал слишком жирным и ленивым. Кто там еще?
Йозеф Геббельс. Тощий карлик с женским широким тазом, со спелыми прыщами и длинным острым носом.
Страдает колченогостью и фурункулезом. Правая нога короче левой, ступня вывернута. Носит специальную ортопедическую обувь. Нет, этот чувствительный калека сейчас совсем не опасен. С началом войны его влияние упало. Он умеет только орать. А во время войны надо еще и думать. :
Лучше всех умеет думать Мартин Борман. Лицо грубой топорной работы. Узкий лоб кретина, тяжелые челюсти. Шеи нет. Пивное брюхо. Круглая сутулая спина вечного денщика. Вот кто требует особого внимания. Осторожный и хитрый. Никаких сантиментов и амбиций. Только жадность и ледяной расчет. Чрезвычайно живучий экземпляр. Остается снять шляпу и признать, что это шедевр. Вершина творения.
По губам Штрауса пробежала тонкая улыбка.
У Василисы дернулся краешек рта. После очередного легкого щелчка мыслительный аппарат Отто Штрауса перешел к следующему персонажу, которого до сих пор принято считать главным героем трагедии.
«Ну что ж, если так хочется, пусть считают, – думал Штраус, – хотя странно, что никто не замечает некоторых очевидных небрежностей, допущенных при создании данной модели. В общем, работа довольно грубая, как любой плагиат».
Превратить обычного живого человека в убийцу не так сложно. Главное не ошибиться в выборе кандидата и в нужные моменты шептать ему на ухо соблазнительные слова на доступном ему языке, таким образом, что бы он воспринимал их как свои собственные мысли и чувства. Но это рутинная работа, нудная и неблагодарная. С каждой особью приходится возиться отдельно, индивидуально, иногда на это уходит слишком много сил и времени.
Куда заманчивей и увлекательней наладить массовое производство. Для этого надо создать человекоподобную машину, способную распылять вокруг себя гигантские облака смерти, превращать миллионы обычных людей в убийц.
За всю историю человечества удачей заканчивалось не более дюжины попыток, в разные эпохи, в разных географических широтах. Таковыми были, например, гунн Атилла, иудей Ирод, римлянин Калигула, монгол Чингисхан, француз Робеспьер, русский Ульянов (Ленин). Наконец, родной брат и современник Шикльгрубера (Гитлера), грузин Джугашвили (Сталин). Удивительно, что удалось создать сразу две биомашины, в одну эпоху, на близких географических широтах.
Подобные опыты имеют шанс на успех лишь в тех случаях, когда есть достаточное количество исходного материала, чистой энергии разрушения. Эта энергия бесконечно разнообразна, присутствует в небольших количествах в каждой отдельной живой особи, имеет свойство выделяться и накапливаться в атмосфере. Процесс накопления происходит незаметно, постепенно. В какой-то момент нематериальная субстанция, сотканная из миллиардов мельчайших частиц банального, повседневного человеческого зла, вдруг становится материей. Это можно сравнить с образованием твердых кристаллов в перенасыщенном растворе.
Конечно, кристаллы – лишь подобие клеток. На самом деле они мертвы, хотя функционируют вполне полноценно с биологической точки зрения.
Существа, полученные таким образом, не воспринимают себя, как люди. У них проблемы с самоидентификацией. Каждый из них видит себя сверхчеловеком, и чувство собственной исключительности является главным и единственным из всей бесконечной гаммы чувств, которые даны от рождения обычным, натуральным людям.
Смесь зависти и высокомерия – вот топливо, на котором работают эти уникальные биомеханизмы. Зависть ко всему живому выражается в мощной некрофилии, в страсти к мертвому, разлагающемуся, в неутолимом желании расчленять и уничтожать живое, как бы уподобляя его себе, то есть делая мертвым.
Высокомерия в них столько, что обычный человек просто лопнул бы, надуйся он до такой степени. Но для искусственного биомеханизма это всего лишь составная часть внутреннего топлива.
Впрочем, они тоже лопаются, рано или поздно. Не стоит забывать, что при всей уникальности каждый из них – только плагиат, грубый и недолговечный.
Уже к 42 году великий фюрер, кумир толпы, полко водец, превратился в развалину. У него тряслись руки, подгибались колени, он сильно горбился из-за искривления позвоночника. Он страдал страшными головными болями, плохо видел, но упрямо не желал носить прописанные ему очки. Тексты его речей печатались огромными буквами на специальной «фюрерской» машинке. Во время военных советов он рассматривал карты через гигантскую лупу, забывал, что говорил он и что говорили ему минуту назад, при малейшем возражении, неповиновении или просто так, без всякой причины, начинал кричать и дергаться в истерических припадках. Позже появились признаки глухоты и болезни Паркинсона. В носоглотке росли полипы, не осталось ни одного здорового зуба, кожа постоянно покрывалась пятнами экземы, желудок и кишечник сводили болезненные спазмы.
«Плагиат. Грубая работа», – повторял про себя Штраус, когда ему приходилось осматривать и консультировать вождя.
У доктора Штрауса не раз появлялся шанс стать личным врачом фюрера. Но он благоразумно уступал эту честь другим: Мореллю, Брандту, Штумпфеггеру.
Морелль – наглый необразованный авантюрист. Десять лет он колол Гитлера всякой дрянью: вытяжками из кишечника и яичек быков, гормонами в немыслимых количествах, амфетаминами, которые создавали иллюзию бодрости, но, по сути, являлись наркотиками. Если бы фюрер был человеком, он бы давно умер от лечения доктора Морелля. Доктор Брандт также не отличался талантом и профессионализмом. Чиновник, имперский комиссар здравоохранения и медицинской службы, имперский комиссар по санитарии и гигиене. Чиновник не может быть хорошим практикующим врачом, для него карьера важней науки. Доктор Штумпфеггер – мальчишка, неплохой хирург, но мало опыта. Умеет только извлекать пули и осколки, зашивать раны, оказывать самую первую примитивную помощь. Совершенно не разбирается во внутренних болезнях. Впрочем, это не важно. Отто Штраус предпочитал иметь дело все-таки с натуральным материалом, с людьми, а не с механизмами. Фюрер был слишком опасным и безнадежным пациентом. Штраус не лез с советами к своим высокопоставленным коллегам, если его вызывали для консультаций, он всегда говорил то, что от него желали услышать. Он предпочитал оставаться в тени и не терять драгоценного времени, не упускать уникальных научных возможностей, которые предоставили ему война и концлагеря. Он с самого начала сделал ставку на Гейни, на своего друга, одноклассника, спокойного, предсказуемого. Живого человека, а не грубую подделку.
Лестница кончилась. Хлопнула дверь. Пахнуло свежестью. Капли мелкого холодного дождя чуть слышно застучали по лаковому козырьку генеральской фуражки.
Штраус решил немного пройти пешком, подышать влаж ным чистым воздухом.
– А ты сам что такое? Человек или машина? – отчетливо произнес детский голос у него в мозгу.
Он остановился, замер. Улица была пуста. Только что прозвучал вопрос, который Штраус иногда задавал самому себе и пока не находил ответа. Вопрос был произнесен странным голосом на каком-то чужом языке, но разве мысли всегда облекаются в знакомую словесную форму?
Он решил, что в данном случае у него просто слегка зазвенело в ушах от тишины. Что касается нагретого перстня и пульсации в правой руке, это тоже вполне объяснимо. Так называемый писчий спазм. Он ведь очень много пишет, от этого может нарушаться кровообращение.
Генерал двинулся дальше, по мокрой пустынной улице. Рядом медленно ехала его машина. Сквозь чистые стекла был виден тяжелый профиль шофера.
Мыслительный аппарат настроился на обычный рабочий ритм. Штраус не особенно страдал из-за того, что не мог ответить самому себе на вопрос: «кто я?» Это был глупый вопрос, от него веяло чем-то чужим и враждебным. Рефлексия, попытка понять себя, посмотреть на себя со стороны, чрезвычайно опасна для психического здоровья и чревата тяжелой депрессией.
Адольф Гитлер исчез. Штраус знал, что довольно скоро грубая подделка развалится окончательно, и нечего о нем думать. Перед его мысленным взором стали возникать и исчезать другие. Живые люди. Разнообразные интересные особи. Генералы, адъютанты, секретари, врачи, астрологи, массажисты, горничные, повара. Штраус видел все их слабости, страсти, страхи, все их неврозы, подагры, желудочные язвы и вставные зубы. Знал, чего они хотят, на что способны, и мог с точностью до грамма определить весовую разницу между амбициями и возможностями каждого из них. Многих он консультировал и лечил. Он никогда не был и не собирался стать главным врачом Рейха, но многие считали его лучшим врачом и слепо ему доверяли.
Василиса видела этих людей так ясно, словно смотрела слайды. На самом деле она давно спала. Мыслительный аппарат Отто Штрауса работал с легким ритмичным пощелкиванием. Врач, заглянув в палату, заметила, что она слегка дергается, как будто икает во сне.
* * *
Григорьев больше не мог сидеть в подвале. Ему не хватало воздуха. Он боялся, что опять станет дурно.
– Генрих, давайте выйдем, поужинаем где-нибудь, – предложил он.
– Охотно, охотно, Андрей. Тут неподалеку чудесный итальянский ресторанчик. Там подают лучшее во Франкфурте карпаччо из лосося, неплохо готовят салаты и телятину гриль. Пойдемте. Нам обоим надо подышать и подкрепиться.
Рейч долго, тщательно запирал все свои замки, проверял сигнализацию. Наконец они оказались на улице.
Глотнув прохладного вечернего воздуха, увидев дома, огни, людей, нарядную набережную, Григорьев почувствовал себя так, словно вернулся из склепа, с того света.
Итальянский ресторан оказался в десяти минутах ходьбы, прямо на набережной. Несколько столиков стояли на открытой веранде, под полосатым тентом. Все они были заняты, и пришлось ждать еще минут двадцать. Все это время Рейч молчал и смотрел на разноцветные зигзаги огней, танцующие в черной воде Майна. В глазах его застыло какое-то новое, детское, мечтательно-спокойное выражение.
«Долго еще он будет морочить мне голову? – лениво подумал Григорьев, покосившись на мягкий профиль старика. – Интересно, зачем ему это нужно?»
Он закурил, проводил взглядом маленький, ярко освещенный прогулочный катер.
«Впрочем, я лукавлю. Я просто устал и хочу спать. Я отлично понимаю, зачем он все это мне рассказывает. Ему надо выговориться. Это естественная потребность. А я с ледяной профессиональной подозрительностью все пытаюсь нащупать какой-то подвох, хитрость. На самом деле мне тяжело, больно его слушать. Есть вещи, о которых лучше не знать. Знание ничего не меняет. Каждый отдельный человек способен иногда учиться – если не на чужих, то хотя бы на своих собственных ошибках, но толпа – нет. Толпа умеет только чувствовать, и чувства ее истеричны, неглубоки. Германский фашизм созрел на почве национального унижения. Когда общество унижено, появляется национальная спесь. Но если ее изжили в пафосном трепе, в пустых обещаниях политиков, в митингах и ток-шоу, разжевали и выплюнули, то есть способ компенсации – спесь демократическая. Это тоже отличная почва для новой диктатуры».
– Андрей, вы тактично зеваете и пытаетесь определить, как долго еще я собираюсь изводить вас своими устными мемуарами.
Григорьев вздрогнул.
– Простите, Генрих. Вы что, умеете читать мысли?
– Нет. Просто на вашем месте я бы думал сейчас именно об этом. У вас ангельское терпение. Столик освободился, мы можем сесть.
Рейч заказал себе карпаччо, мясо гриль, большой зеленый салат.
– Не знаю, справлюсь ли. Но отказать себе не могу. Целый день ничего не ел.
Григорьев совсем не был голоден. Он хотел спать. Он заказал себе салат и карпаччо, лишь поддавшись уговорам Рейча. Официант ушел. Столик стоял на отшибе, и говорить можно было вполне спокойно, не привлекая внимания.
– Теперь вам известно, откуда я взялся и почему меня зовут Генрих Рейч. Тридцать три года назад это сочетание весьма заинтересовало одного старого профессора американца. Мы встретились в Амстердаме, на открытии выставки скандального художника авангардиста. Он использовал в своих композициях обработанные особым способом части трупов. Сейчас этим уже никого не удивишь, но в те годы вызвало довольно бурную реакцию. Впрочем, не важно. После пресс-конференции ко мне подошел высокий прямой старик. Представился американцем, заговорил на отличном, немного старомодном немецком. Сказал, что приехал из Вашингтона, что зовут его Джон Медисен. Мы беседовали о современном искусстве. Я всегда любил поболтать, особенно с новыми людьми. Старик произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, с ним было удивительно легко. Через несколько минут мне стало казаться, что мы знакомы давно, что он знает меня с детства. Но я не мог избавиться от тяжелого странного чувства. Этот Медисен был не совсем натуральный, какой-то неживой, словно собранный из отдельных частей. Он напоминал экспонат выставки, на которой мы встретились. Приглядевшись, я понял, что лицо его изменено пластической операцией. Знаете, чуть сильнее, чем нужно, натянута кожа, едва заметные шрамы, слишком скупая фальшивая мимика. Он заметил вскользь, что во время войны получил сильные ожоги и пришлось полностью восстанавливать лицо. Мы долго разговаривали, обменялись визитными карточками. На прощанье он пожал мне руку и назвал меня Гейни. Когда он произнес это имя, он вскинул подбородок, посмотрел на меня как бы издалека, щурясь, и его большой острый кадык быстро двинулся, вверх, вниз. Меня вспышкой пронзило воспоминание, очень далекое, детское.
Рейч тряхнул головой и замолчал. Принесли еду. Он занялся салатом, жевал, прикрыв глаза, комментировал соусы, оттенки вкусов разных салатных листьев. Потом, без всякого перехода, продолжил:
– Позже я попытался кое-что узнать о нем. Не узнал ничего. У меня было достаточно знакомых американцев, в самых разных кругах. Никто никогда не слышал о таком профессоре. Я забыл о нем, но примерно через год он появился опять. Просто позвонил мне домой рано утром и пригласил пообедать. Опять было это – «Гейни», вздернутый подбородок, кадык. Мы сидели в ресторане. Он стал спрашивать меня о моих родителях. Я выдал ему обычную свою легенду: погибли во время войны, был маленький, ничего не помню. Он улыбнулся и спросил, нет ли у меня на руке татуировки, двойной молнии. Она была, но я ее вывел. Остался шрам. Я сказал: нет, и не было. Он извинился, взял мою руку, закатал рукав. И вот, когда он прикоснулся ко мне, опять случилась мгновенная вспышка дежа вю. В сорок четвертом году мне исполнилось десять. Как способный и отлично развитый физически питомец «лебенсборн», я был переведен в закрытое учебное заведение «Адольф Гитлер», где проходила начальную подготовку будущая элита СС. Я сдал экзамены и стал «пимпф». Так назывались дети от десяти до четырнадцати, члены «юнг-фольк», младшей группы «Гитлерюгенд». Торжественное посвящение проходило двадцатого апреля, в день рождения Гитлера. Накануне нас приехал поздравить Гиммлер. С ним вместе, конечно, Штраус. Доктор узнал меня, сказал, что помнит младенцем, назвал Гейни. Так же он называл Гиммлера. У доктора были интересные уши. Маленькие, плотно прижатые, стеклянно-тонкие. Верхние хрящи не круглые, как у всех людей, а заостренные, и мочек почти нет, как будто их аккуратно отсекли ножницами. Ни у кого я не видел таких ушей.
Рейч опять замолчал. Пришел официант убрать тарелки. Григорьев удивился, заметив, что, рассказывая, Генрих умудрился незаметно съесть весь салат и огромный кусок мяса. Андрей Евгеньевич заказал два кофе. Официант ушел. Рейч на несколько минут провалился в свое молчание и вдруг глухо, как из колодца, произнес:
– Наверное, не я, тогдашний, взрослый, образца семьдесят первого года, матерый репортер, тайный сотрудник трех разведок, авантюрист и провокатор, а маленький сирота, мальчик «пимпф», решился назвать его по имени: Отто Штраус. Он не испугался, наоборот, обрадовался. Сказал, что не упускал меня из виду все эти годы, что я был самым интересным экземпляром из всех детей «лебенсборн», за которыми он наблюдал с рождения. Спросил, не хочу ли я встретиться со своими братьями и сестрами. Он может это устроить. Ему известны имена и адреса сотни самых лучших. Я сказал: нет. Он не стал спрашивать, почему. Кивнул, положил на стол деньги, ровно половину суммы, на которую мы поели, и ушел, оставив меня наедине с тихой томительной паникой еще на целый год.
– Вы могли сообщить о нем. Он военный преступник, приговоренный Нюрнбергским судом к повешенью. И не было бы никакой паники, – осторожно заметил Григорьев.
– Знаете, – улыбнулся Рейч, – я так и сделал. Из всех известных мне спецслужб я выбрал самую эффективную: израильскую. Меня поблагодарили за помощь и объяснили, что я обознался. Генерал Отто Штраус действительно считался пропавшим и входил в известный список доктора Визенталя, охотника за нацистскими преступниками. Но сегодня точно установлено, что он погиб в сорок пятом году, в Берлине. Останки его обнаружены недавно, при ремонтных работах в берлинском метро. Они идентифицированы. Человек, который выдает себя за него, скорее всего, сумасшедший, ибо настоящий Отто Штраус, будь он правда жив, вел бы себя крайне осторожно. Позже они прислали мне письмо, в котором еще раз подтвердили мою ошибку и сообщили, что тщательно проверили мою информацию. Никакого профессора Джона Медисена с прозрачными ушами не существует.
– Вы сказали, он дал вам визитную карточку, – напомнил Григорьев.
– На ней было только имя. И еще – профессор, доктор медицины, доктор философии. Не оказалось даже его отпечатков пальцев, хотя карточку он доставал из кармана голой рукой. Только мои отпечатки, понимаете, только мои.
Официант принес кофе и счет. Рейч опять замолчал.
– А связаться с кем-то из «лебенсборн» вы не пытались? Он ведь предлагал вам встретиться с ними, значит, встречался сам.
– Пытался, – равнодушно кивнул Рейч, – мне удалось разыскать двенадцать человек. Каждый из них смотрел на меня, как на психа, и повторял: доктор Штраус погиб. Его нет. Только одна женщина призналась, что он часто ей снится, и сказала, что, наверное, мне он тоже приснился. Последний его визит был, правда, больше похож на сон. Я валялся с тяжелой пневмонией. Тогда у меня еще была другая сексуальная ориентация, так сказать, нормальная. За мной ухаживала подруга, милая, добрая девушка, ее звали Гудрун. Я лежал дома, с высокой температурой. Гудрун вышла куда-то. Не знаю, возможно, она забыла закрыть дверь. Я проснулся оттого, что кто-то был в комнате, сидел возле моей кровати. Я помню это кошмарное чувство. Мне хотелось крикнуть, но я не мог выдавить ни звука. Он положил мне руку на лоб. Рука была вполне живая, сухая и прохладная. Он сказал, что у меня сильный жар, чтобы я не напрягался, не пытался говорить, он все понимает без слов. «Ты хотел сдать меня, Гейни. Я не сержусь. Для меня это не опасно. Пойми, Гейни, я им нужен. Они никогда не решатся судить и казнить меня. Для них это все равно, что судить и казнить самих себя. Они меня берегут. Они сдувают с меня пылинки. Я живу в Вашингтоне, у меня отличный дом, в моем распоряжении большая научная лаборатория и сколько угодно живого материала для опытов. Сыворотка правды, эликсир счастья, эликсир отваги. Все это мои know how, мои подарки и сладости для божьих деток. Но особенно нравится им мое последнее изобретение, методика изготовления человека-бомбы. Видишь ли, человека можно с помощью химии и гипноза заставить сделать все, что угодно. Но проблема в том, что загипнотизированный, набитый наркотиками, он выглядит неважно, туго соображает. Нельзя сделать из человека робота так, чтобы он сохранил здравый рассудок, ясный взгляд и, тем более, интеллект. Сегодня я близок к решению этой проблемы. Мои люди-бомбы сумеют действовать разумно и будут выглядеть нормально. Божьи детки в восторге от таких игрушек, в будущем они наладят массовое производство».
Рейч замолчал, машинально открыл папку со счетом, достал кредитку.
– Не надо. Я заплачу, – предложил Григорьев.
– С какой стати? Вы уже платили в русском ресторане, когда у меня украли бумажник. Это было значительно дороже. Теперь моя очередь. Знаете, Андрей, прошло столько лет, а я до сих пор иногда чувствую его руку на лбу. Я молчал. Он говорил. Но это был диалог. Он отвечал мне, точно читая каждую мою мысль, каждое чувство. Потом он исчез. Я не слышал, как хлопнула дверь. Через минуту вернулась Гудрун. Около недели я не мог говорить. Просто не мог, и все. Ком стоял в горле. Позже я спросил ее, встретила ли она кого-нибудь в тот день возле нашей двери, на лестнице. Нет. Никого не встретила. Неделю, пока я молчал, со мной происходили ужасные вещи. Во сне, наяву, я видел целые куски жизни доктора Отто Штрауса, я смотрел на мир из его глазниц. Война, концлагеря, газовые камеры, опыты на живых людях. Моя немота и кошмары закончились, лишь когда мне удалось снять с пальца перстень, который он надел мне, перед тем как уйти. Надел и сказал: «Еще один подарок. Приз победителям».
Пока Рейч говорил, они успели выйти из ресторана. Медленно шли по набережной. Григорьев слушал молча, не перебивая.
– Я не понял его тогда, – Генрих виновато, мягко улыбнулся. – На перстне с внутренней стороны, если посмотреть через лупу, можно прочитать имя: Отто Штраус. Я больше не надевал его на палец, все не мог забыть, как молчал неделю и какие мне виделись кошмары. Я показывал перстень всем, кто интересовался моей коллекцией. Мне хотелось избавиться от него. Просто выкинуть не решался, чувствовал, что лучше всего продать. Продать и забыть. Но тридцать лет покупателей не находилось. И вот всего несколько месяцев назад явился Владимир Приз. Он купил перстень, не торгуясь, не задавая вопросов. Тогда мне стало ясно, о каком призе и о каких победителях шла речь.
– Вы уезжаете завтра? – откашлявшись, спросил Григорьев.
– Послезавтра. Не волнуйтесь, Андрей. У нас еще куча времени. Я вам позвоню.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
–Маша, я не понимаю, почему вы так интересуетесь этим актеришкой? – спросил Рязанцев с некоторой обидой. – Да, в него вкладывают хорошие деньги, его серьезно пиарят. Но сам по себе Вова Приз марионетка, ничтожество.
– Про Гитлера тоже так говорили, – проворчала Маша, тормозя у светофора.
– Про кого? – Рязанцев засмеялся.
Ей понравился его смех, искренний и вполне здоровый. Перед ток-шоу это было совсем неплохо.
Они ехали в «Останкино» на Машином черно-сером «Форде». Никакой охраны, никаких шоферов. Рязанцеву не пришлось долго уговаривать Машу сопровождать его. В каком качестве – неважно. Режиссер программы, когда узнал, что Евгений Николаевич приедет с американской журналисткой, очень воодушевился. В последнее время стало модно приглашать на ток-шоу разных иностранцев. Это поднимало передачу на международный уровень. Режиссер спросил, нужен ли переводчик, и был явно разочарован, когда узнал, что госпожа Мери Григ говорит по-русски почти без акцента.
– Гитлера даже после тридцать третьего года многие считали шутом, марионеткой, – напомнила Маша, трогаясь с места.
– Нет, вы это серьезно? – Рязанцев в очередной раз потянулся за сигаретой. – Вы искренне верите, что в сегодняшней России мальчишка, ничтожество Вова Приз может увлечь за собой миллионы? Я имею в виду людей, конечно. Людей, а не деньги.
– Да, я поняла, что вы говорите о людях, потому, что деньги в него уже вбиваются. Но мне не нравится слово «увлечь». Я бы сказала, заразить. Заразить бешенством. Боюсь, это уже происходит.
– Нет, Машенька, вы совсем запутались и меня запутали. Сегодня Приз состоит в моей партии, а она демократическая. О каком бешенстве вы говорите?
В салоне работал кондиционер, окна были закрыты. Маше надоело просить его не курить, он постоянно забывал, что она не выносит табачного дыма. На этот раз она решила схитрить, после светофора свернула к заправочной станции и с некоторым злорадством сказала:
– Вы лучше не закуривайте, Евгений Николаевич. Мне надо заправиться.
На станции, в ларьке рядом с кассой Маша купила бутылку воды без газа для себя и пакет ржаных сухариков для Рязанцева. Она знала, что он не удержится, начнет грызть, и остаток пути до «Останкино» ей не придется дышать табачным дымом.
– Маша, я не понял. Вы все-таки шутите или нет? Вы действительно считаете, что Вова Приз тянет на фюрера всея Руси? – спросил Рязанцев, когда она вернулась в машину. – Но это же полный бред! Сегодня в России фашизм невозможен. Тем более он не может зародиться внутри партии, идеология которой в принципе исключает любые проявления нацизма и насилия.
– Ох, Евгений Николаевич, идеология – штука эфемерная, она меняется легко и незаметно. Сегодня в России возможен пиар такого масштаба, такой чудовищной наглости, что он вполне может конкурировать с агитацией и пропагандой Третьего рейха. И, между прочим, среди пиарщиков немало людей, которые, как Геббельс, при слове «культура» готовы схватиться за пистолет.
– Пиар. Да, это, конечно, серьезно. Но не настолько. Всегда можно выключить телевизор и выкинуть газету. Никто тебя не отправит за это в лагерь. Все-таки лучше, когда уговаривают купить жвачку или проголосовать за вора, чем когда тебя строят в шеренгу и заставляют кричать «Ура!», «Хайль!», «Да здравствует!». Как сказал поэт Бродский, «но ворюги мне милей, чем кровопийцы». А мозги промывали и будут промывать, в разных социальных системах, разными средствами. Тут ничего не поделаешь. Скорее у вас в Америке зреет диктатура. Вы же там все свихнулись после одиннадцатого сентября. – Рязанцев зашуршал пакетом и принялся за сухарики. – Сегодня шансов взрастить своего фюрера у вас значительно больше, чем у нас. Европа и Россия пережили столько всяких кошмаров, а у вас – что? Война Севера с Югом, великая депрессия тридцатых, Вьетнам? Ну да, кошмар одиннадцатого сентября. Однако это произошло слишком недавно и быстро. У вас нет опыта настоящего страдания, унижения, хаоса.
– И вам это обидно, да? – ухмыльнулась Маша.
– Дело не во мне. Лично я люблю Америку и желаю ей только добра. Дело в исторической справедливости. Мы свое отстрадали. Иван Грозный, Ленин, Сталин. Мы диктатурой переболели, у нас надежный иммунитет. Коррупция, разгильдяйство, воровство. Это да, это про нас. Но в шеренги Россию сегодня уже никто не построит.
– Жалко, я за рулем. Я бы вам поаплодировала с удовольствием. Вы сможете повторить это на бис на ток-шоу?
– Так вдохновенно – нет. Там душно, слишком много народу, и никто никого не слушает. К тому же вы накормили меня сухарями, а они черт знает на каком масле жарились. Изжога мне обеспечена.
– А не ели бы.
– А вкусно. Я грызун. Ужасно люблю всякую гадость в пакетиках – арахис, чипсы, сухарики. Невозможно во всем себе отказывать. С вами я вообще расслабился. Знаете, я только сейчас понял, как плохо действует на меня Егорыч с его мрачностью. И ведь вся служба безопасности такая. Вот вез бы меня кто-нибудь из полковничьей команды, я бы молча подыхал по дороге и на ток-шоу приехал бы покойником. :
– Подыхали от чего? – спросила Маша, уже выискивая место для парковки.
– От тоски, Машенька.
Места не было, пришлось объехать вокруг главного здания телецентра. Маша воспользовалась этим, чтобы вернуться к главной для нее теме.
– Да, мы остановились на том, что Приза кто-то серьезно пиарит. Вы знаете, кто именно? – спросила она вполне равнодушно.
– Мне странно, что вы этого не знаете. Вовой Призом занимается главный политтехнолог страны, личность легендарная, господин Гапон.
– Кто?
Рязанцев опять засмеялся.
– Нет, не тот поп-провокатор, и не его потомок. Эта кличка появилась от инициалов: «Г.П.». Теперь поняли, о ком речь?
– Ах, да, конечно, – Маша тут же догадалась, о ком речь. Собственно, она и без Рязанцева знала, кто пиарит Приза, просто хотела выяснить, насколько Евгений Николаевич осведомлен и насколько озабочен этим. Однако кличку «Гапон» услышала впервые.
– Поп-провокатор – это отлично. Сразу приходит в голову, что «поп» – не в смысле «священник», а поп-звезда. А кто финансирует?
– Маша, вы профессионал, задаете такие детские вопросы, – поморщился Рязанцев. – Когда Гапон кого-то раскручивает, источник финансирования остается неизвестным. Он потому и жив до сих пор, и здравствует, что свято чтит анонимность своих заказчиков.
Место, наконец, нашлось. Прежде чем выйти из машины, Рязанцев долго, тщательно вытирал руки влажной салфеткой, подогнув коленки, причесывался перед наружным зеркалом, наконец спросил у Маши шепотом:
– Как я выгляжу?
И получил необходимую порцию бодрящих комплементов.
«Господи, как же ему мало надо, – с жалостью подумала Маша, – чтобы кто-то был рядом, слушал, говорю иногда что-нибудь приятное».
В главном подъезде их встретила маленькая нервна: девушка, тут же, у поста охраны, передала длинному флегматичному юноше, который молча повел их дальше, к лестницам.
Маша никогда прежде не бывала в «Останкино» и любопытством озиралась по сторонам. Фойе напоминало зал ожидания какого-нибудь небольшого аэропорт или вокзала. Мимо сновали люди, похожие на транзитных пассажиров. Лица тревожные, озабоченные, усталые или болезненно надменные, как бывает, когда ждет кого-то слишком долго и напрасно и стараешься делать вид, что тебе все на свете безразлично.
На лестнице их чуть не сшибла группа девушек. Он были накрашены, наряжены, глаза их лихорадочно сверкали.
– Ты что, дура? Его надо там, внизу ловить! – выкрикнула полная стриженая брюнетка.
– Пленку, пленку не забыла? А то получится, как в тот раз! – отозвалась другая и, резко повернув голову, хлестнула Рязанцева по лицу своими длинными малиновыми волосами.
Снизу послышалось восторженное: «Bay!»
– Подождите, пожалуйста! Одну минуточку! Можно автограф? Можно с вами сфотографироваться?
Рязанцев замешкался на площадке между этажами, полез в карман своего светлого летнего пиджака, так и не придумав, зачем. Достал темные очки, подышал на них, протер бумажным платком, убрал. Достал бумажник, повертел, положил в другой карман. Взгляд его был направлен вниз, туда, где запыхавшиеся, взволнованные девушки по очереди фотографировались с только что прибывшим Вовой Призом.
***
Ночь майора Арсеньева прошла, как обычно, под стук и грохот. Накануне, поздно вечером, поднимаясь пешком на свой пятнадцатый этаж, он размышлял: зайти к соседям или нет. Дверь квартиры на четырнадцатом открылась, как только он оказался на лестничной площадке. На пороге стоял двенадцатилетний Витя.
– Ну что? – выпалил он шепотом.
– Пока ничего, – Арсеньев виновато развел руками, – а у вас никаких новостей?
Витя вздохнул и помотал головой.
– Где мама? – спросил Арсеньев.
– Спит. Я заставил ее выпить снотворное. Мы днем ходили в милицию, написали заявление, на всякий случай. Они не хотели принимать. Сказали, рано беспокоиться, спрашивали, не наркоман ли Гришка. Там был один жирный гад, все интересовался про наркотики, про бухло.
– Про что?
– Ну, про спиртное. Не пьяница ли Гришка. Мама там, в отделении, держалась, отвечала вежливо, а потом, когда домой вернулись, заплакала. Я ей говорю: перестань, районные менты, они все такие. Получают мало, поэтому злые. У нас дядя Саша есть, он поможет.
На площадке был полумрак, и это избавило Арсеньева от необходимости прятать глаза. Сане было стыдно. В его день, забитый до предела, не уместились хлопоты по поискам пропавших подростков. Он держал это в голове, надеялся, что Гриша к вечеру объявится, хотя бы позвонит.
– Если бы у нас была машина, мы бы просто поехали туда, – прошептал Витя.
– Куда?
– В бывший пионерлагерь «Маяк»! Гришка любил там лазать. Там правда классно. Он даже один раз взял меня с собой. Я был совсем мелкий, пять лет, но все равно запомнил. Сто пудов, Гришка туда их повел! Там еще корпуса оставались, и река рядом, можно купаться. А главное, никого никогда нет. Хочешь – ори, хочешь, бегай, на любое дерево залезай на здоровье. И еще, там малины всегда было навалом.
– Сейчас малина отошла, – тихо заметил Арсеньев.
– Грибы, ежевика. Гришка ежевику обожает, и грибы тоже. Сто пудов, он вернется, целую кучу всего привезет!
– Там все горит. Ты же смотрел новости.
– Ну я не знаю, можно просто поездить по окрестностям, за станцией «Водники», и спрашивать всех подряд. Вдруг кто-нибудь их видел? Ложись спать, подождем до завтра. Если ничего не изменится, завтра вечером поедем.
– Точно? Обещаете?
– Постараюсь.
Арсеньев поднялся к себе, услышал, как внизу тихо закрылась дверь. Уснул он только на рассвете. Ему приснился горящий лес. Треск и стук над головой преображались во сне в звуки лесного пожара. И еще ему приснилась американка Мери Григ.
В семь он встал, долго просыпался под холодным душем. В половине восьмого сел в машину, включил радио и услышал о грозовых ливнях на северо-западе Московской области.
В девять, с головной болью, приглушенной анальгином, он сидел в кабинете следователя Лиховцевой и пытался поймать подходящий момент, чтобы поговорить о пропавших подростках. Прошла ночь, но Зюзя все не могла опомниться от того впечатления, которое произвело на нее имя покойного генерала Колпакова.
– Тебе придется встретиться с его родственниками, – произнесла она, рассеянно глядя в окно, – у него остались родная сестра и племянник. Знаешь, кто племянник? Ты опять меня не слушаешь! Ты не понял, насколько все серьезно? Если Драконов правда хранил у себя какие-то материалы по генералу Колпакову, его из-за этого могли убить. Хотя наркоман Булька слишком ненадежная фигура. Они бы состряпали несчастный случай, острую сердечную недостаточность, что-то в этом роде, чтобы не было признаков преступления.
– Кто «они»? – спросил Арсеньев.
– Они, – повторила следователь Лиховцева с такой же тупой панической убежденностью, с какой произносил это слово рецидивист Куняев.
Арсеньеву очень хотелось сменить тему, но это было пока невозможно.
– За покойным генералом стоят гигантские деньги. Гигантские, Шура, – сообщила Лиховцева и болезненно морщилась, – ужас в том, что, когда я говорю «они», я имею в виду даже не братву. Речь идет о ГРУ, ФСБ, УГП… Ты знаешь, что такое УГП? Управление Глубокого Погружения, во главе стоит некто Кумарин Всеволод Сергеевич. Абсолютно закрытая структура, от которой неизвестно, чего ждать. Господи, а какой там может быть тяжелый компромат, в этих мемуарах, если они действительно существуют! Впрочем, компроматом сейчас никого не удивишь. Деньги. Все дело в них. Любая информация о генерале Жоре – бомба, любая ниточка – бикфордов шнур. Ты понял, Шура?
– Я понял, Зинаида Ивановна, просто я хотел вам сказать…
Но она не дала сказать. Она продолжала говорить сама.
– А племянник его – Владимир Приз. Ты знаешь, кто это, или ты совсем темный? Ну да, да, тот самый Приз. Дядя был вор, мерзавец. А племянник такой симпатичный, талантливый. Не думаю, что дядя посвящал его в свои грязные махинации. Но поговорить с ним, безусловно, придется. Никуда теперь не денешься. Вот ты, Шура, и побеседуешь с Призом, спросишь, что он знает о мемуарах своего покойного дядюшки, правда ли, что над ними работал писатель Лев Драконов, какие у них были отношения. Ты спросишь, а он тебе ответит, что никаких отношений между этими двумя покойниками не было, мемуаров его дядя писать не собирался.
– Зинаида Ивановна, если вы заранее знаете, что скажет Приз, может, и не стоит его допрашивать? – безнадежно вздохнул Арсеньев.
– Ничего я заранее не знаю. Допросишь, не растаешь. И не перебивай меня! Кстати, возьмешь у него автограф для моего внука, – она перевела дух, немного успокоилась.
– Зинаида Ивановна, у вас, кажется, зять работает в Службе спасения, – выпалил Саня.
– О, да, – кивнула она задумчиво, – очень скоро нас с тобой придется спасать, вытаскивать из того дерьма, в котором мы потонем, если я права.
– Я совсем о другом. Пропали четверо подростков. Один из них сын моей соседки, – Арсеньев быстро выложил ей всю историю, и пока он говорил, она почти пришла в себя.
– Ну и что? Заявления от родителей есть, ориентировки разосланы. Был бы ты уверен, что они находятся именно там, в заброшенном лагере. Но ведь ты не уверен, .правда? Можно поступить проще. Связаться с Лобнинским УВД, если прошли ливни, нет пожаров, они спокойно доберутся туда как-нибудь на машине или по воде.
– Я уже связывался. Никому не охота лезть в пекло без специального приказа. Да, огонь погас, но все вокруг еще тлеет, в любой момент может вспыхнуть, нужна техника, специалисты, достоверно неизвестно, что подростки именно там, к тому же прошло слишком мало времени, чтобы начинать активный розыск. Они не младенцы и не слабоумные старики.
– Ну вот, Шура, правильно. Успокойся и успокой .свою соседку. Я все понимаю. Но пока рано паниковать.
– В таком случае мне придется ехать туда самому.
– У тебя времени нет. – Зюзя прикрыла глаза и упрямо помотала головой. – Ты должен повторно допросить швейцара из «Кильки», добиться встречи с Владимиром Призом, причем первое – сегодня, второе, желательно, тоже.
– Гришка обязательно позвонил бы матери, – пробормотал Арсеньев, – он нашел бы возможность, тем более, у его приятелей есть мобильники. Пропали все четверо. Да, они не младенцы, они вполне дееспособны, и времени прошло мало. Но они пропали, и никто ничего не делает.
Зюзя достала пудреницу, губную помаду, щетку и принялась молча, нервно приводить себя в порядок. Арсеньев ждал. Наконец она произнесла, спокойно и ласково:
– Слушай, Шура, я поняла бы тебя, если бы этот Гриша был твоим сыном или братом. Но он всего лишь сын твоей соседки. Ты пока не уполномочен заниматься розыском потеряшек. Это не твое дело. К тому же нельзя исключать, что ребятки просто решили оттянуться, у них каникулы, им обидно торчать в Москве. Вспомни себя в этом возрасте. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я клянчила у своего зятя вертолет с бригадой спасателей? Или выписала тебе постановление о возбуждении уголовного дела на основании заявлений, поступивших от родителей? – Она тяжело опустилась в кресло, схватила газету со стола, начала обмахиваться, как веером. – Я не могу сейчас себя этим грузить. И тебе не позволю меня грузить. Считай, что я черствая злая старуха. Да. И нечего на меня так смотреть. Я все понимаю. Ты придешь вечером домой, и тебе надо будет что-то сказать соседке. Скажешь, что сделал все возможное. И это правда. Твоя совесть чиста. Извини. – Она принужденно откашлялась и еще сильней замахала газетой. – Все, Шура. К вечеру жду от тебя подробной информации о разговоре со швейцаром. И вот, кстати, – она бросила ему через стол газету, – Владимир Приз сегодня в прямом эфире, в «Останкино». Ты будешь умницей, если попытаешься отловить его там после эфира. – Она открыла ящик, долго в нем рылась, наконец извлекла яркий глянцевый журнал, быстро пролистала, бормоча: «Где же он, черт, да, вот, кажется, нашла…»
В середине журнала был вкладыш, календарь на 2003 год, с большим портретом Владимира Приза, в белой футболке, украшенной его же портретом. Зюзя аккуратно отогнула скрепки и протянула календарь Арсеньеву:
– Не забудь взять автограф, попроси, чтобы написал что-нибудь теплое моему Антошке. Ребенок его обожает.
Арсеньев вышел из кабинета, как побитый. Зюзя злилась, нервничала. Она знала, что поступила некрасиво, отмахнувшись от истории с пропавшими подростками. Формально она была права. И неформально тоже. Ей позарез надо было скинуть дело об убийстве писателя Драконова, и она не желала отвлекаться, взваливать на себя еще каких-то подростков, связываться с районными отделениями, оформлять, заниматься писаниной, докладывать руководству. Ради чего, в самом деле? Ради того, чтобы майору Арсеньеву не стыдно было смотреть в глаза своей соседке?
***
Кумарин ждал Григорьева в баре гостиницы.
– Опять была лекция о Третьем рейхе? – спросил он ехидно.
– Скорее, маленькая экскурсия, – вздохнул Григорьев.
– Ничего себе – маленькая! Второй час ночи! Что же в итоге?
– Он предлагал мне купить колечко с овальным бриллиантом, которое Магда Геббельс подарила на память летчице Ганне Рейч в апреле сорок пятого.
– Что у него за страсть – торговать кольцами, – покачал головой Кумарин, – Вове Призу – перстень Отто Штрауса, вам – колечко Магды Геббельс. Он как будто пытается всех окольцевать своими нацистскими реликвиями, как орнитолог птиц. Он что, хотел, чтобы вы его носили?
– Он знает, что у меня есть дочь.
– Он хотел, чтобы Машка носила кольцо Магды Геббельс? Нет, он точно свихнулся.
– Он сказал, что готов продать мне любую информацию, и даже собственную голову, но в придачу я должен взять это колечко. – Григорьев устало прикрыл глаза.
– Взяли?
– Нет, Я же у него ничего пока не купил.
– Коньяку выпьете? – спросил Кумарин.
– С удовольствием.
Пока молоденькая барменша наливала коньяк, они молчали. Кумарин смотрел на Андрея Евгеньевича с состраданием.
– Устали вы от него, Андрей? Кстати, я получил, наконец, информацию для вас. По моим данным, Рейч действительно в последнее время ни в какие контакты с террористами не вступал. Живет замкнуто. Иногда путешествует по Европе вместе со своим юношей, но самолетами не летает. Они ездят на машине, так что время поездок и маршруты точно выяснить не удалось.
– А тогда откуда ваши люди знают обо всех его контактах? – Григорьев зажмурился и сжал ладонями виски. – Все просто, – улыбнулся Кумарин, – если бы Рейч оставался значимой фигурой в том бизнесе, которым занимался многие годы, сейчас за вами непременно пустили бы хвосты. Но вокруг вас все чисто. Можно сказать, стерильно. Боюсь, кроме вас и милого Рики, старик сегодня никого не интересует.
– Тридцать лет назад к нему явился призрак нацистекого преступника Отто Штрауса, – пробормотал Григорьев.
– А, понятно, – кивнул Кумарин.
– У него были стеклянные уши, и пальцы не оставляли отпечатков.
– Я ему искренне сочувствую, – улыбнулся Кумарин, – и вам тоже.
– Всеволод Сергеевич, вы что-нибудь слышали о послевоенных секретных программах ЦРУ «Артишок» и «Блю-берд»?
Кумарин сдвинул брови, беззвучно забарабанил пальцами по столу.
– Что-то скандальное, из времен маккартизма. Несколько загадочных самоубийств молодых офицеров-разведчиков. Они выбрасывались из окон небоскребов, без всяких видимых причин. Да, что-то такое было. Вам нужна информация об этом?
– Не знаю, нужна ли, – Григорьев усмехнулся. – Одна из уток в Интернете: ЦРУ посадило в специальную лабораторию сотню нелегальных беженцев с Ямайки, колдунов вуду. Каждому раздали по волоску из бороды бен Ладена. Они сидят, колдуют потихоньку. Если им удастся причинить ему ощутимый вред, они получат американское гражданство.
– А что, вполне похоже на правду! Отличный способ не поймать бен Ладена, написать кучу секретных отчетов, провести десяток закрытых совещаний и хоть немного сократить приток нелегальных эмигрантов. На самом деле никогда его не поймают. Беда в том, что он им нужен, выгоден, такой вот вечный и неуловимый. Терроризм и уголовная преступность могут быть побеждены лишь тогда, когда государство возьмет на себя эти функции, то есть станет уголовно-террористическим. Так что либо исторически конкретные Гитлер и Сталин, либо виртуальный бен Ладен. Альтернативы нет. В доме всегда нужен пылесос.
– Все это было бы забавно, если бы за этим не стояли горы трупов, люди-бомбы, заложники, наркотики, ядерное и бактериологическое оружие, – сердито проворчал Григорьев и опять зевнул.
– Да, я вижу, старик Рейч совсем заморочил вам голову. Кстати, с вашим новым знакомым, доктором Штраусом, история действительно темная. До сих пор достоверно неизвестно, куда он делся. Сначала он сам, потом то, что считали его прахом. Впрочем, это касается многих нацистов. Вальтер Рауфф, Йозеф Менгеле, Антон Бургер. Даже Мюллеру удалось тихо смыться.
– Менгеле и Бургер были врачами в концлагерях, ставили эксперименты на заключенных, как и Отто Штраус.
– Перестаньте, – Кумарин поморщился и махнул рукой, – не говорите ерунды.
– Я еще ничего не сказал.
– Но подумали. Вы сейчас думаете о том, что все эти ублюдки в сорок пятом были потихоньку вывезены ЦРУ из Германии в Штаты, им изменили внешность, дали новые имена, и они продолжили свою научную деятельность в секретных лабораториях, в рамках программ «Артишок» и «Блюберд». Даже если это так, доказать ничего нельзя, никому это не нужно, нацистские старцы умерли. Жизнь продолжается. Давайте выпьем коньяку и пойдем спать.
* * *
До эфира оставалось двадцать минут. Публика толпилась в коридоре перед студией, участники и почетные гости расположились в просторном помещении, которое состояло из двух смежных гостиных с зеркальными стенами, журнальными столиками, мягкими широкими диванами. В глубине были маленькие, ослепительно-осве щенные гримерные. Рязанцев сразу нырнул туда, чтобы его слегка подрумянили и замазали серые мешочки под глазами.
Гости пили легкое спиртное, соки, кофе, угощались бутербродами. Владимир Приз уселся за столик, развалился в кресле, потягивал сок. Рядом с ним пристроилась пожилая, безнадежно молодящаяся актриса. Она взахлеб рассказывала, как невероятно выросла ее популярность после участия в экстремальном супершоу Приза.
– Мне просто не дают прохода, без конца просят автографы, «Ой, ой, вы такая красавица, такая смелая, ловкая, интеллигентная, вы нам так понравились!» Я снялась за свою жизнь в двадцати семи фильмах, но ничего подобного еще не было, просто невозможно выйти на улицу, зайти в магазин. Бросаются, как мухи на мед.
Маша видела эти шоу, поскольку смотрела все, что касалось Приза. На маленьком необитаемом острове собрали знаменитостей: актеров, эстрадных певцов, телеведущих. Они жили в шалашах, жарили на костре экзотических гадов, ящериц, гигантских пауков, змей, которых отлавливали сами. Бегали полуголые, ныряли, мастерили плоты, соревновались, интриговали и периодически довольно злобно выясняли отношения под снисходительным руководством Приза.
Приз стравливал их, провоцировал конфликты, заставлял проделывать всякие штуки, в том числе весьма рискованные и унизительные, например ползать на четвереньках по каким-то лабиринтам, карабкаться на отвесные скалы, есть тухлую рыбу, и все это под круглосуточным наблюдением нескольких телекамер, которые фиксировали даже интимные гигиенические подробности.
– Нет, ну сначала я была в шоке, – гудел хорошо поставленный, низкий голос актрисы, – жара, пауки, мухи, скорпионы, муравьи гигантские, я не могла спать, не могла элементарно вымыть голову, я впервые оказалась перед камерой без грима, как будто голая. А эта еда! Жареные скорпионы, черепашьи яйца! Боже, я думала, умру! И все руками, ни тарелок, ни приборов! Меня тошнило от кокосов и бананов, до сих пор их видеть не могу. Я слишком дорогая женщина, чтобы существовать в таких условиях. А режиссер просто издевался над нами, как будто специально опускал нас: вы знаменитости, так вот вам!
Маша наблюдала за Призом. Впервые она видела его живьем, причем совсем близко. Так близко, что заметила толстый слой грима на его лице и почувствовала странный запах. Сначала ей казалось, что запах этот просто витает в гостиной из-за жары, из-за скопления людей. Нет окон, кондиционер гоняет застоявшийся воздух. Но, принюхавшись, она поняла, что воняет Приз. У него потеют ноги. Актриса, сидевшая вплотную к нему, ничего не чувствовала, поскольку вылила на себя полбутылки приторной туалетной воды. Но девочка-администратор, которая принесла ему кофе, наклонившись над столиком, невольно поморщилась.
Приз что-то отвечал актрисе, совсем тихо, на ухо. Он выглядел вполне расслабленным, он улыбался. Однако глаза его беспокойно шныряли по гостиной, он то и дело ловил свое отражение в зеркалах, менял позу, трогал себя за нос, за подбородок, подергивал мизинец левой руки. Вероятно, привык носить кольцо на левом мизинце, но сейчас кольца не было.
У него заверещал мобильный, и он вздрогнул. Говорил он быстрым свистящим шепотом, сердито торопил кого-то, повторяя: «Время, время!». Маша сумела услышать, чем закончился разговор, поскольку Приз чуть ли не выкрикнул последние слова: «Ты не знаешь? Ну, блин, а кто должен знать?! Это твои проблемы».
Телефонный разговор очень напряг его, он покраснел сквозь грим, и Маше показалось, что изо рта и из ушей его сейчас повалит пар.
«Интересно, он всегда такой, или у него серьезные неприятности? А в общем, он скучный, вполне обыкновенный, этот Вова Приз. Таких самовлюбленных нарциссов, наглых и нервных, тысячи, особенно среди тех, кто тусуется и раскручивается изо всех сил. Может, все это вообще мои фантазии? Одно дело – сериалы, экстремальные шоу, футболки, матрешки, и совсем другое – большая политика. Я, конечно, преувеличиваю. Вова Приз – будущий российский фюрер. Ха-ха, как смешно! Переоценивать противника иногда опасней, чем недооценивать его, ибо в этом случае ты рискуешь стать посмешищем, идиотом в глазах окружающих, и что еще хуже – в собственных глазах. Можно представить себе Вову Приза в роли президента России? Нет, конечно. Но ведь тоже самое говорили и про Гитлера. Никто не мог представить. Смеялись. Покатывались со смеху. Какие у него были шансы, у Гитлера, когда он нищенствовал в Вене, ночевал на парковых скамейках, вопил в пивных? Один из тысячи городских сумасшедших. Бездарный живописец, дважды провалился на вступительных экзаменах в Академию художеств. Паранояльный психопат с половой патологией. Амбиции вселенского масштаба. Впрочем, генерал Людендорф, человек умный и заслуженный, поддался обаянию фельдфебеля с сомнительным прошлым. И не только он. Многие сделали ставку на Гитлера. Почему? Когда смотришь хронику тех лет, видишь урода, психа. Ни одного естественного движения. Или это сегодня так кажется? Для современников было в нем нечто… Господи, что же? Нечто забавное, смешное, неординарное? Вот у Приза носки воняют. Это не смешно. Но это неординарно. Собственной вони не чувствует. Зато сечет взгляд мгновенно. Дергается, косится на меня. Ладно, милый, расслабься, я тобой любуюсь и восхищаюсь, как все здесь, в этих гостиных, как публика, которая толчется в коридоре».
Действительно, было, чем восхищаться. Свою карьеру он сделал мгновенно, на одном дыхании. Другие бьются годами, чтобы заработать хотя бы одну сотую такой славы и всенародной любви. А этот выскочил, как черт из табакерки. То есть не из табакерки, а с телеэкрана. Сыграл главные положительные роли в нескольких боевиках. Потом стал вести экстремальное молодежное шоу с мотогонками, парашютами, отвесными скалами, морскими глубинами и необитаемыми островами. Вскоре его физиономия украсила бутылки с прохладительными напитками, банки с консервированными огурцами, картонки с бритвенными лезвиями, нижнее белье, не только мужское, но и женское. Под улыбающимся портретом сияла косая красная надпись: «Очнись, Россия!».
«Неужели только я знаю, что это был один из лозунгов Гитлера, когда он шел к власти? „Очнись, Германия!“ Почему никому здесь это не приходит в голову? Впрочем, исторические аналогии ничего не доказывают. Каждый раз все происходит по-новому».
На ток-шоу Приз явился в кроссовках, потертых джинсах и линялой синей футболке. Все это необычайно шло ему. Невысокий ладный крепыш. Темные прямые волосы аккуратно зачесаны назад. Фаянсовые голубые глаза. Мертвые глаза. Но стоило ему оказаться на публике, перед камерой, и взгляд его удивительно преображался. Он умел глядеть тепло, проникновенно, он согревал своим ясным внимательным взором. Он умел быть простым, живым и уютным. Сынок, братишка, однокашник, свой, родной, и ничего с ним не страшно.
Маша так увлеклась Призом, что почти не замечала никого вокруг. В гостиной толклись постоянные участники ток-шоу. Вечные сидельцы, они почти забыли о своих основных профессиях и только бегали из одной телестудии в другую. Забавно было, что каждый считал своим долгом засвидетельствовать почтение Вове Призу. К нему подходили молодые и старые, женщины и мужчины. Ему пожимали руку, с ним целовались. Он сидел и снисходительно отвечал на приветствия.
«Пиар, конечно, великая вещь, – думала Маша, – но раскручиваются многие, а Приз один. Почему именно он? Мистика какая-то. Массовое помешательство. Взять даже эти гостиные – сколько здесь людей, более заслуженных и достойных. А он все равно в центре внимания. Здесь народные артисты, академики, музыканты, успешные бизнесмены. Вон, девушка двухметровая, сказочной красоты блондинка, фея. Кажется, она тоже актриса. Или телеведущая. Стоит над ним, млеет и вони не чувствует. Ждет, что он пригласит ее участвовать в своем очередном экстремальном шоу? Неужели это для нее так важно?»
Среди его почитателей Маша заметила румяного шумного старика с крашеными волосами, в белом измятом костюме, в красном шелковом шарфе на шее. Шарф ему мешал, постоянно съезжал, концы его попадали в чужие стаканы. Старик успел много выпить, уронил бутерброд с семгой на белые брюки и размазал масло так, что образовалось жирное пятно. Администратор побежала за солью, кто-то советовал залить пятно водкой, кто-то – натереть мылом. Было много шума и суеты, старик чуть не плакал, так жаль ему было новых брюк.
Маше стало грустно. Она узнала режиссера Дмитриева. Пьяненький старец с крашеными волосами двадцать лет назад снимал любимые фильмы ее детства. Для нескольких поколений герои его лирических комедий стали чем-то вроде близких родственников. До сих пор, если показывали его кино по какому-нибудь телеканалу, Маша застревала у экрана, забывая обо всем, хотя знала почти наизусть каждый кадр, каждую реплику.
До эфира осталось десять минут. Из гримерной явился Рязанцев, накрашенный и грустный. Он подсел к Маше, отказался от кофе, закурил.
В гостиной было два гигантских телеэкрана. Шли криминальные новости. В основном говорили о пожарах в Подмосковье. После рекламной паузы стали показывать репортаж из московской больницы. Корреспондент был в белом халате, в марлевой маске, тараторил с сильной одышкой:
– Всего пару часов назад сюда привезли девушку, которая случайно оказалась на территории пожара и чудом уцелела. Ее подобрала жительница деревни Кисловка, Московской области.
В кадре появилось изможденное, испуганное лицо. Темные длинные волосы разметались по подушке. Корреспондент наклонился, поднес микрофон к губам девушки.
– Как вас зовут?
За кадром послышался резкий строгий голос:
– Я же объясняла, она не может говорить! У нее тяжелый посттравматический шок, афония.
Камера уперлась в лицо, закрытое маской. Корреспондент представил доктора: Агапова Вера Ивановна
– Известно, что девушка живет в Москве, ей семнадцать лет, – сказала Агапова, – больше мы пока ничего не знаем. Она молчит и даже написать ничего не может. Сильно обожжены кисти рук. Никаких документов. Состояние средней тяжести. Нам необходимо связаться с кем-то из ее близких.
Камера вернулась к девушке.
Никто в гостиной не смотрел криминальные новости, все были заняты собой и друг другом. Маша обратила внимание на сюжет лишь потому, что вдруг зафиксировала дикое напряжение Приза. Он замер, замолчал на полуслове, вперился в экран и принялся ожесточенно дергать себя за левый мизинец.
– Да, это ужасно! Бедная девочка, – мельком заметила пожилая актриса, – кстати, Вова, вот вам неплохой вариант для следующего экстремального шоу. Лесной пожар, бег трусцой по тлеющим торфяникам.
Маша не сводила глаз с лица Приза. Что-то было не так. Вонь от его ног резко усилилась. Он вспотел. Мутные струйки бежали по слою грима. Ворот футболки потемнел. И вдруг рядом послышалось тяжелое, хриплое дыхание. Режиссер Дмитриев прошептал:
– Вася! – и тут же закашлялся, лицо его побагровело, из глаз брызнули слезы.
Всего минуту назад он уселся в кресло возле Маши, администратор, опустившись на корточки, аккуратно сыпала соль на жирное пятно на его брюках.
– Если вы узнали эту девушку, если вам что-то о ней известно, пожалуйста, звоните по телефону… – корреспондент дважды повторил номер.
– Это Васюша, – сказал Дмитриев, – внучка моя, Грачева Василиса Игоревна. Господи, Вася, деточка!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Утренний телефонный звонок выдернул Григорьева из душа.
– Доброе утро, Андрей, – прозвучал в трубке радостный голос Генриха Рейча, – вы хорошо выспались? Я вас не слишком утомил вчера?
– Доброе утро, Генрих. Все в порядке.
– Я вас ни от чего не отвлекаю?
– Нет, Генрих.
Мокрый голый Григорьев, в клочьях мыльной пены, стоял посреди номера, кутался в полотенце. На синем ковровом покрытии под его ногами медленно расползалась лужа.
– Через час я иду в свой магазин. Буду рад вас видеть. Впрочем, если вы устали от меня, можем отложить разговор до лучших времен.
– Ну что вы, Генрих. Я совсем не устал. Я отлично выспался и готов продолжить.
– В подвале? – ехидно спросил Рейч.
– Где скажете, – ответил Григорьев.
Было одиннадцать утра. Гостиничный завтрак он проспал. До магазина Рейча всего полчаса ходьбы. Он решил не вызывать такси, не спеша прогуляться, по дороге перекусить. На перекрестке у небольшого сквера сидела компания пожилых панков в окружении десятка собак. Собаки спали, панки пили пиво, жевали сосиски, лениво окликали прохожих, просили милостыню. У одного, самого толстого, голого по пояс, все тело было унизано крупными канцелярскими скрепками. Они гроздьями свисали с ушей, с ноздрей, с бровей, торчали в сосках и в пупке. Григорьев на ходу бросил мелочь в пластиковый стакан и чуть не врезался в рекламный столб, но успел остановиться. Прямо на него со столба смотрел усатый Сталин.
– Господи, твоя воля! – прошептал Андрей Евгеньевич.
Это была всего лишь реклама выставки советского плаката. Такой же Сталин украшал забор стройплощадки в следующем квартале, бетонную стену, газетный ларек. В кафе, куда зашел Григорьев, за соседним столиком девушка читала тонкий журнал. На обложке красовался он же, родимый, усатый.
«Своего усатого они уже ни за что не расклеят по всему городу, а нашего – можно», – с раздражением подумал Григорьев.
К магазину он подошел к половине первого. Ювелир из лавки напротив приветливо помахал ему рукой, как старому знакомому.
У витрины Рейча стоял толстый лысый молодой человек в шортах из звездно-полосатого американского флага, в майке, на которой фотографически точно был запечатлен голый женский торс, от шеи до начала бедер. Когда Григорьев взялся за дверную ручку, молодой человек повернулся к нему, выбросил вперед правую руку, громким петушиным голосом крикнул «Хайль Гитлер!» и убежал, сотрясая широкой звездно-полосатой задницей;
Тихо звякнул дверной колокольчик. Дверь открылась.
– У нас здесь много психов, – сказал Рейч, – проходите, будьте как дома.
В первом зале были покупатели, две пожилые, спортивного вида дамы копались в коробках со старыми открытками. Был и продавец, парень лет тридцати. Он стоял на стремянке, искал что-то на верхних полках.
– Карл, я уйду, через полтора часа можешь закрываться на перерыв, – сказал Рейч. Продавец молча кивнул.
– Не хочу вас опять мучить в подвале, – Рейч улыбнулся, – пойдемте ко мне домой. То, за чем вы приехали, вероятно, там, а не здесь.
– Очень интересно, – хмыкнул Григорьев, – откуда вы знаете, за чем я приехал? Мы до сих пор не говорили на эту тему.
– Я догадываюсь. Хотя, могу и ошибаться. Пойдемте, Андрей. В любом случае дома лучше, чем в подвале.
Григорьев не стал спорить. Дом Рейча находился через пару кварталов, они дошли за пять минут. По дороге им попалось несколько плакатов со Сталиным.
– Неприятно?—спросил Рейч, кивнув на рекламную тумбу.
– А вам?
– Мне все равно. Это же Сталин, а не Гитлер.
– Конечно, – огрызнулся Григорьев, – это наш людоед, а не ваш.
– Смотрите, как вас задело, – засмеялся Рейч, – знаете, в чем главная проблема русских? Вы до сих пор переживаете опыт своего тоталитаризма как жертвы, тем самым полностью снимая с себя ответственность. Мы, немцы, наоборот, считаем себя виновниками своего Национального кошмара.
– Гитлер пришел к власти через выборы, немцы за него дружно проголосовали. А Сталина Россия не выбирала. Он взял власть, прокрутив свою дьявольскую интригу внутри правящей верхушки.
– Вот! – Рейч остановился и помахал пальцем у Григорьева перед Носом. – Комплекс вины делает нацию сильной, комплекс жертвы – слабой. Жертва себя жалеет и все себе, любимой, прощает. Знаете, чем это пахнет?
– То-то у вас так много неонацистов, – хмыкнул Григорьев.
– У вас не меньше.
– Я живу в Америке.
– Там тоже достаточно. А интересно, Россия для вас родина? Или уже нет? Ладно, можете не отвечать. Мы пришли.
В гостиной Рейча было темно и душно. Он поднял жалюзи, включил кондиционер.
– Кстати, мой Рики собирался сегодня посетить выставку советского плаката.
– Да, я заметил, ему нравится тоталитарная эстетика.
– Он, по сути, ребенок. И, как все дети, любит страшные сказки. Отчасти поэтому он был в полном восторге от Владимира Приза. Даже пару раз пригласил его в свой оккультный клуб.
– В оккультный клуб? – слегка удивился Григорьев.
– Ну да, знаете, эти модные игры в колдовство, увлечение вуду, вампирами, ведьмами. Мальчику интересно, и ладно. Кажется, есть такая русская поговорка: чем бы дитя ни тешилось… Сейчас я сварю кофе.
– Генрих, сколько времени провел здесь Владимир Приз?
– Сначала три дня, потом приехал еще раз, на неделю.
– Как вы с ним познакомились?
Рейч застыл с сахарницей в руках, нахмурился.
– Не помню! Он просто позвонил по телефону, представился.
– Он сослался на кого-то? Кто дал ему ваш номер?
– Драконов, кажется, – Рейч поставил на стол сахарницу, разлил кофе по чашкам, сел. – Ладно, Андрей. Теперь выкладывайте, зачем вы явились ко мне из своего Нью-Йорка?
«Вот он, час икс!» – поздравил себя Григорьев.
– Генрих, меня интересуют фотографии двадцатилетней давности. Те, что делали вы сами, когда вам приходилось бегать на сорокоградусной жаре, под пулями.
– Пешавар?
Глаза Рейча напряженно блеснули.
– Именно, – кивнул Григорьев.
Генрих засмеялся, сначала тихо, потом все громче. Он хохотал, как сумасшедший, хлопал себя по коленкам. Григорьеву показалось, что старик сейчас пустится в пляс. Но нет. Остался сидеть. Вытер слезы, высморкался и произнес, все еще давясь смехом:
– Опомнились! Спохватились! Поздравляю! После одиннадцатого сентября я все ждал, когда же кто-нибудь полюбопытствует, что есть интересного в коллекции старика Генриха? Я ведь был одним из немногих, кому выдали разрешение снимать американских инструкторов. Но из тех, кто сумел сохранить пленки до двадцать первого века, я, пожалуй, единственный.
– Вы ждали? – тихо уточнил Григорьев. – И никто в последнее время не интересовался этими снимками?
Рейч отсмеялся, наконец успокоился, хлебнул ледяной воды, лицо его стало серьезным.
– Никто. Не только за последнее время, но вообще за все двадцать лет. Вы первый. Ну скажите честно, зачем они вам, историку? Шучу, шучу. Не утруждайтесь со чинением очередной легенды. Правду вы все равно не скажете. Снимков много. Может, вы уточните даты, имена?
– Я хотел бы взглянуть на фотографии, на которых американские инструкторы запечатлены рядом с террористом номер один, – сказал Григорьев.
– Ого! Это действительно интересно. Какие именно инструкторы? Ну, не стесняйтесь.
Григорьев стал перечислять имена высших офицеров ЦРУ. Всего семь человек. Список этот был заранее оговорен с руководством. В него входили пенсионеры, инвалиды, которым ничего уже не угрожало.
– Неужели сенатская комиссия терзает даже стариков? – спросил Рейч и сочувственно покачал головой. – Как не стыдно!
– Какая сенатская комиссия? – Григорьев изобразил легкое удивление.
Рейч иронически улыбнулся.
– Ну как же! Об это писали все газеты. После трагедии одиннадцатого сентября специальная сенатская комиссия совместно с ФБР потрошит высших офицеров ЦРУ, откапывает старые афганские связи. Вам ли не знать?
– А, вы об этом? – равнодушно кивнул Григорьев.
«Почему, когда я попросил показать снимки, он сразу связал это с сенатской комиссией? – подумал Григорьев. – Впрочем, о работе комиссии газеты, правда, писали»
– Все эти расследования – обычные рекламные трюки сенаторов перед выборами. Неужели вы, Андрей, участвуете в этом безобразии и помогаете политикам делать свой грязный пиар на реальной трагедии? Или наоборот, вы боитесь, что я продам кое-что из своих архивов, пользуясь остротой момента, и хотите выяснить, что у меня есть?
– Генрих, если я вас правильно понял, никто с подобной просьбой к вам еше не обращался и ни одного снимка вы пока не продали? – теперь пришла очередь Григорьева впиться взглядом в лицо собеседника.
– Никто, – повторил Рейч, – вы первый. Желаете, чтобы я продал их вам, вместе с негативами?
– Сначала я хотел бы на них взглянуть.
– О, это пожалуйста. Одну минуточку.
Рейч вышел из комнаты. Вернулся он минут через десять. Был страшно бледен. Руки дрожали.
* * *
– Устала ты от них?—спросила врач Вера Ивановна, когда телегруппа выкатилась.
Василиса лежала, не двигаясь, глядя в потолок. Агапова присела на край койки и погладила ее по волосам.
– Молчишь. Представляю, что у тебя в голове сейчас творится. Столько пришлось пережить, чудом уцелела, а поделиться впечатлениями ни с кем не можешь. И родных никого рядом. Где же мама твоя? К маме, небось, хочется? – Агапова вдруг запнулась, покраснела, пробормотала себе под нос: – Ой, ладно, не буду, вдруг ты вообще сирота, мало ли? – Она поправила шапочку и заговорила нарочито бодрым, громким голосом: – Ты давай-ка, думай о том, что все хорошо. Могло быть значительно хуже. Шрамов у тебя не останется, руки-ноги заживут. Я уверена, после эфира кто-нибудь из твоих родных обязательно откликнется. Я только потому и пустила этих телевизионщиков в палату, чтобы они помогли найти твоих родных. Теперь тебе надо поспать.
Василиса помотала головой, зажмурилась и до крови закусила губу.
Она хотела объяснить, что откликаться некому. И еще, она хотела сказать, что милиционер, который приезжал за ней в Кисловку, связан с бандитами, устроившими стрельбу в заброшенном лагере. Он пытался увезти ее по-тихому. Ему помешала Лидуня. Он вел себя как бандит и неврастеник.
Когда вошли хозяйка и участковый, он не успел убрать пистолет. Стал объяснять, что Лидуня накинулась на него, как дикая кошка, и ему пришлось припугнуть ее. Они поверили, но хозяйка выгнала его из дома. Анастасия Игнатьевна обошлась с ним как с малолетней шпаной, и участковый Поликарпыч ее поддержал. Было удивительно, что этот псих в милицейской форме их послушался, ушел на улицу, за калитку. Он вообще сник и смутился, когда они явились. Не то чтобы испугался, а именно сник, поджал хвост и стал вести себя, как нашкодивший мальчишка. Василисе даже показалось, что ему стыдно. Но не за ту безобразную сцену, которой они не видели, а за нечто другое, из далекого прошлого.
До приезда «скорой» Анастасия Игнатьевна занималась Лидуней, утешала ее, мазала йодом ссадину на лбу, объясняла, что бояться нечего, это раньше он был Лезвие, а теперь старший лейтенант милиции и не имеет права никого обижать, особенно при исполнении, потому что его за это обязательно накажут.
Лидуня тряслась, всхлипывала, бормотала. От волнения она картавила еще сильней. Василисе почудилось, что юродивая пытается произнести ее имя и фамилию, что-то вроде «Гатева Сиися Ииня», но ни хозяйка, ни участковый ничего не разобрали.
А старший лейтенант при них ее имени не повторил. Сначала Василиса думала – случайно забыл, растерялся, но потом поняла: он промолчал нарочно.
Откуда он мог узнать ее имя? Никто до сих пор не сумел выяснить. Никто. А он вошел и сразу выпалил: «Грачева Василиса Игоревна». Произнес вслух только при ней и при Лидуне. И никому, ни единому человеку потом не сказал.
Конечно, он связан с бандитами. Он был ночью в лагере. В корпусе валялся Василисин рюкзачок. Там паспорт, ключи от квартиры. Бандиты обшарили все уцелевшие корпуса. Из этого следовало, что они всех нашли и убили. Всех, кроме нее. Она – единственный свидетель. Пока она молчит, убийц не найдут.
Врач поправила одеяло, вышла, тихо прикрыв дверь. Василиса хотела окликнуть ее. Очень уж страшно оставаться одной. Но опять не получилось ни звука. Голосовые связки заледенели, как от новокаина, когда делают местный наркоз.
Она заплакала и до крови прикусила губу. Пришлось слезать с кровати, ковылять к умывальнику. Минут пять ушло на то, чтобы исхитриться повернуть кран ладонью, без помощи пальцев, налить воды в стакан и не замочить бинты на руках. Умыться она не могла, только прополоскала рот. От всех этих сложных действий она устала так, что закружилась голова и задрожали коленки. Она доплелась до койки, свернулась калачиком на плоском больничном матрасе. Под ней скрипела кровать. Звук этот был каким-то казенным, безнадежным. Ей стало казаться, что она совершенно одна на свете, никому не нужная немая беспомощная калека. И это теперь навсегда.
За окном гудели машины, в сумерках мерцали огни, плескался летний московский вечер, как густое старое вино, как тяжелый древний океан. Ее мысли и чувства, не отягощенные речью, поднимались на поверхность быстрыми крупными пузырями и лопались, сливаясь с какой-то иной, внешней субстанцией. Там было страшно, холодно и ничего не нужно. Там звучал чужой шепот, сухой, бумажный, словно комкали старую газету.
* * *
В который раз сегодня Арсеньев хватался за телефон и отдергивал руку. Номер, записанный на клочке факсо-вой бумаги, он запомнил наизусть. Ничего не стоило набрать его и произнести:
– Здравствуйте, мисс Григ. Это майор Арсеньев, если вы меня помните. И что дальше? Можно сказать иначе.
– Привет, Маша (или даже Машенька), это Саня Арееньев. Слушай, я забыл, мы на «ты» или на «вы»? Как поживаешь? Надолго прилетела? Давай срочно встретимся. Я ужасно по тебе соскучился.
Разумеется, так он ни за что не скажет. Скорее всего, будет мямлить, принужденно покашливать, мучительно выдумывать всякие уважительные причины, вызванные служебной необходимостью. Потому что дурак, трус несчастный. Она прилетела. Он мог вообще не узнать об этом. Спасибо Зюзе. Или нет? Не спасибо, а совсем наоборот? Зачем следователь Лиховцева лезет в его личную жизнь? Тем более нет никакой жизни. Сплошная личная смерть, и грохот ночных штробилок вместо похоронного марша.
– Здравствуйте, Мери. Это майор Арсеньев, если вы помните. Это майор, которому уже давно пора стать подполковником. Кстати, а какой у вас чин в ЦРУ?
– Маша, я ужасно рад, что вы опять в Москве. Давайте встретимся и поужинаем вместе…
«Тьфу, бред какой-то, – одернул себя Арсеньев, в очередной раз прикоснувшись к своему мобильнику, – во-первых, в ближайшие пару дней мне просто некогда с ней встречаться. Во-вторых, это все равно ничего не даст. У меня и так в голове постоянно работает дробилка, грохочут отбойные молотки и рычат дрели. Мне только не хватало Мери Григ. Я окончательно свихнусь, когда увижу ее».
Два года назад майор Арсеньев познакомился с американкой Мери Григ и потерял голову. Правда, никто, кроме него, этого не заметил. Влюбиться в Мери Григ, или Машу, как называли ее здесь некоторые, было верхом идиотизма. Ко всему прочему, она оказалась офицером ЦРУ. Арсеньев догадывался, но не был уверен, пока его не пригласили для беседы на конспиративную квартиру ФСБ. Там приятный пожилой человек, представившийся Павлом Ивановичем, принялся расспрашивать его о Маше.
– Скажите, а вам не показалось, что ее связывает с нашей страной нечто большее, чем профессиональный интерес? – спросил он с мягкой лирической улыбкой.
Саня не решился уточнить, что имелось в виду под «профессиональным интересом».
– Она приезжала собирать материалы для своей диссертации, – продолжал его собеседник после паузы, – она многие годы изучала русский язык, историю, политику, литературу, нашу национальную психологию. Она ведь психолог, верно?
– Психолог, – кивнул Саня и несколько агрессивно добавил: – Она отличный психолог и очень хороший человек. Я не понимаю, к чему этот разговор. У нас не тридцать седьмой год, и нельзя каждого иностранца считать шпионом.
В ответ Павел Иванович рассмеялся и покачал головой.
– Никто не считает ее шпионкой, но у нас работа такая. Она ведь не просто иностранка, она тесно общалась с нашими известными политиками, ей пришлось прикоснуться к расследованию серьезного преступления. В конечном счете, не столь важно, кто она на самом деле. Вполне возможно, она вообще русская. И что с того? Вы совершенно верно заметили, что у нас не тридцать седьмой год и далеко не каждый сотрудник американской разведки является нашим врагом. Существуют сферы, в которых наши интересы совпадают.
Поскольку Арсеньев в этом диалоге предпочитал отмалчиваться, собеседник решил говорить сам и следить за его реакцией. Саня старался сделать свое лицо непроницаемым. Он думал о том, что влюбиться в Мери Григ – это все равно, что влюбиться в Статую Свободы. Так же глупо и непатриотично.
Напоследок Павел Иванович взял с него официальную подписку о неразглашении всех сведений, прямо или косвенно касавшихся гражданки США Мери Григ.
И только оказавшись на улице, Саня понял, в чем был смысл беседы. Хитрых «смежников» интересовали вовсе не сведения о Маше, которые мог бы почерпнуть из общения с ней майор милиции Арсеньев. Они все равно знали о ней значительно больше, чем он. Им просто хотелось понять, сколько именно он, майор, знает, о чем догадывается и что вообще думает по этому поводу.
Она улетела в свой Нью-Йорк, не оставив ни адреса, ни телефона. Саня не надеялся ее больше увидеть и старался забыть.
Подъезжая к кафе «Килька», он отключил мобильник. Не для того, чтобы случайно не набрать номер мисс Григ, но потому, что боялся звонка своей соседки Веры Григорьевны. Ему нечего было сказать Гришиной маме. Ему нечего было сказать и самому себе. Вероятно, все дело в штробилке и отбойных молотках.
Третий месяц он жил под шумовой фон, превышающий все допустимые нормы. Постоянный артобстрел. Хочется орать и биться головой об стену. Хочется убить кого-нибудь, прежде всего этих голых, потных, добросовестных работяг, которые на все претензии отвечают: «А мы в чем виноваты, блин? Нам надо ремонт закончить».
Он пытался ночевать у приятелей, но сколько можно? Одну ночь, две, неделю. Все равно приходилось возвращаться домой.
В последние дни, к вечеру, штробилка стала включаться у него в мозгу сама по себе, где бы он ни находился. К семи ему дико хотелось спать. Он нервно зевал. Трещали барабанные перепонки. Впереди ждала очередная ночь тотального кошмара. Говорить с работягами бесполезно. Они затихают на пару часов, потом все сначала. Дрели, штробилки, отбойные молотки. Они не могут работать днем из-за жары и штробят ночами. А майор Арсеньев медленно, но верно сходит с ума. Он вырубается за рулем, особенно на светофорах.
Самое лучшее, что можно придумать, – оторвать себе голову и хорошенько потрясти, чтобы вытряхнуть эти чудовищные звуки. И поспать. Просто поспать, часов шесть подряд. А потом все остальное – швейцар Иваныч, симпатяга Приз, пропавшие подростки, Бермудский треугольник, лесные пожары, хитрый Булька, раздраженная Зюзя. И Мери Григ, которая с жестоким постоянством снилась ему все эти два года.
Если случится невероятное и ему удастся поспать полноценные шесть часов, она опять ему приснится, ясно и живо, как никогда. Что же с ней делать? Не позвонить вообще, не встретиться – глупо. Он потом этого себе не простит. Но и встречаться страшно. Опять все внутри перевернется, руки задрожат, голос осипнет, сердце будет прыгать, ухать, ахать, как голый псих в рекламе пива, который выскакивает из бани на снег. И даже если что-то получится, то все равно она улетит в свой Нью-Йорк, рано или поздно.
Швейцар Иваныч дремал в пустом гардеробе. Очки съехали на кончик носа, на коленях лежала мятая газета.
– Здрасти! – грубо рявкнул Саня на ухо старику. Бедняга вздрогнул, уронил очки, газету.
– Господи, как вы меня напугали! Что случилось?
Майора Арсеньева уже все знали в «Кильке». Выглянула официантка, улыбнулась, спросила, не хочет ли он выпить кофе или поужинать.
– У нас сегодня раки свежие и очень хорошее пиво.
– Спасибо. Мне только кофе. Двойной эспрессо, покрепче.
«А пиво со свежими раками – это совсем неплохо. Нормальный человек, и особенно нормальный мент, на моем месте спокойно и с удовольствием провел бы здесь остаток вечера, а на ночь отправился бы в гости к какой-нибудь милой девушке. Вон, как смотрит на меня эта официанточка. Ксюша, кажется? Или Настя? Такие девушки за версту чуют одиноких порядочных мужиков. Она, правда, милая, чистенькая, уютная и простая, как пиво со свежими раками. Не красавица, не интеллектуалка, не офицер ЦРУ, не Статуя Свободы…»
Все это пульсировало в голове в ритме штробилки. Он даже не заметил, что уже допрашивает швейцара, и опомнился, лишь когда услышал:
– Главное дело, даже перчатки не снял. А они мокрые, грязные. Я ему говорю: что же ты, паршивец, делаешь?
– Какие перчатки? – поморщился Арсеньев и принялся массировать себе виски.
– Голова болит? – сочувственно спросил швейцар.
– Какие перчатки? – повторил Арсеньев.
– Обычные. Резиновые. Он их на кухне взял. У него нарыв был на руке, он всем показывал, жаловался, что не заживает. Я ему зеленкой помазал и пластырем заклеил.
– Значит, вы точно помните, что в портфель Драконова он залезал в резиновых перчатках?
– Ну да. Он их весь вечер не снимал. Они красные, яркие, сразу бросаются в глаза. А что? Он ведь ничего не взял, я его шуганул, пристыдил, и он понял. Он вообще парнишка неплохой. Как, кстати, там у вас никаких новых подозреваемых не появилось?
Официантка принесла кофе и маленький серебристый ковшик, в котором что-то дымилось.
– Попробуйте, это жульен с креветками. Очень вкусно. Это бесплатно, от меня лично.
– Спасибо. Как вас зовут? – Арсеньев наконец улыбнулся.
– Надя. Мы же с вами уже знакомились. Вы меня допрашивали.
– А, да, извините, Надя.
– Ничего. У вас такой вид усталый. Может, все-таки покушаете чего-нибудь посущественней? Солянка очень вкусная, форель жареная с овощами. А?
– Спасибо, —как автомат, повторил Арсеньев, —ничего больше не нужно.
– Она кивнула, вздохнула, заправила за ухо каштановую прядь. У нее были круглые светло-карие глаза, маленький пухлый рот, выпуклый блестящий лоб под тонкой челкой. Она постояла еще минуту, молча, вопросительно глядя на Арсеньева. Если бы он улыбнулся, поговорил с ней, она бы очень обрадовалась. Милая девушка Надя, которой позарез нужны серьезные отношения с неженатым майором милиции. Даже с таким майором, которому уже давно пора стать подполковником.
Ее позвали из зала. Оставалось съесть жульен и выпить кофе. Потом следовало позвонить Зюзе и успокоить ее.
Возможно, писатель Драконов действительно владел какой-то информацией о генерале Жоре. Но убили его не из-за этого. Убил его наркоман Булька, с целью ограбления. Никто Бульку не нанимал, никто ничего не инсценировал, не давил на него, не торговался. Просто наркоман Куняев оказался хитрей, чем они с Зюзей думали, и тянул время, пытался отвертеться, врал, что ему угрожают, шантажируют жизнью матери. Не так много мозгов для этого требуется. Но он перемудрил. Он забыл одну маленькую деталь: перчатки. Его пальцы не могли оказаться на внутренней стороне крышки портфеля за день до убийства. Значит, он залезал туда после, уже без перчаток.
Да, все просто и вполне правдоподобно. И не надо ехать в «Останкино», ловить знаменитого Приза.
Арсеньев вышел из кафе, сел в машину, откинулся на спинку сидения, закрыл глаза. Минут пять он сидел, не двигаясь, и пытался убедить себя, что отдыхает, наслаждается тишиной. Но тишины не было. Штробилка в голове продолжала долбить.
Зюзя обрадуется, быстро оформит дело для передачи в суд. Теперь не надо признания Бульки. Доказательств его вины вполне достаточно. Кто же убил, если не он? Сколько можно возиться с этим делом, когда и так все ясно? Рецидивист, наркоман, сначала залез в портфель, но швейцар спугнул его. Тогда подстерег жертву в подъезде, шарахнул дубиной по голове и как следует порылся в портфеле, уже без перчаток и без свидетелей. Между прочим, если в момент убийства он был под наркотиком, то действительно может и не помнить, как все происходило. Такое бывает. Напрасно Зюзя стала паниковать, накручивать столько сложностей. Генеральские мемуары тут совершенно ни при чем. Не было никаких мемуаров. Ни в компьютере Драконова, ни на дискетах, ни в записных книжках. Нигде.
Материалы по Хавченко были. Целая куча материалов, включая кассеты, на которых запечатлелся голос покойного жулика. Кроме того, были куски сценариев, нброски каких-то сюжетов. Много всего разного. Драконов все-таки писатель, и постоянно что-то писал. Что угодно, но только не мемуары покойного генерала авиации.
Но ведь Драконов хвастался в интервью, обещал книгу-бомбу. Журналисты просили хотя бы намекнуть, о ком речь. Драконов не намекал. Генерал – и все. Очень известная личность. Его уже нет. Они дружили, собирались вместе засесть за книгу. Генерал рассказывал ему много всего интересного, он хотел запечатлеть свою потрясающую биографию для современников и потомков. Не успел, умер. И вот писатель Драконов считает своим святым долгом выполнить волю покойного. Это будет бомба, да. Сначала книга выйдет на Западе, как в старые добрые времена. Ее опасно публиковать в России. Могут УНИЧТОЖИТЬ тираж.
Вранье? Самореклама?
Но как же тогда быть с прозрачной папкой, которую видел Булька, когда залез в писательский портфель за день До убийства? На титульном листе «Генерал Жора». Булька творческая личность, сочиняет много всего, но про рукопись сочинить не мог. Это ему совершенно ни к чему.
Проклиная свою тупую дотошность, Арсеньев вдруг, ни с того ни с сего, вспомнил, как супруга покойного писателя рассказывала о его проблемах с компьютером.
«Лева всю жизнь работал на пишущей машинке и, когда перешел на компьютер, у него постоянно возникали проблемы. Он умудрялся терять большие куски текстов, не умел перегонять на дискеты, без конца зависал.
Арсеньев понял, что тоже завис. Вместо того чтобы сию минуту включить телефон и обрадовать Зюзю, он полез за своим ежедневником и принялся листать его. Ему срочно понадобилось восстановить в памяти последний разговор с писательской вдовой.
Именно в последнем разговоре, уже после похорон, она рассказала о проблемах с компьютером, о тяжелой депрессии, которую пережил Драконов, когда убили Хавченко.
Сначала Лев Абрамович принялся спешно дописывать биографию жулика, дополнил ее пикантными подробностями, надеясь, что продаст какому-нибудь издательству. Но никакого особенного интереса рукопись не вызвала. В итоге Драконов продал книгу о Хавченко за копейки, затосковал, стал пить. У него пошла черная полоса. Он ждал, что его пригласят на Франкфуртскую книжную ярмарку. Не пригласили. Думал, что чиновники из Министерства культуры включат его в список российской писательской делегации. Не включили. Зависть, интриги.
Однако во Франкфурте он все же побывал, назло завистникам. Как раз накануне ярмарки он получил вполне приличную сумму, гонорар за сценарий сериала. Это были деньги, на которые он давно махнул рукой, но их вдруг выплатили. Жена настояла, чтобы он потратил их на поездку во Франкфурт. Она надеялась, что это выведет его из депрессии.
Она не ошиблась. Он вернулся бодрый, окрыленный, рассказал, что встретился со знакомым немцем, который теперь стал литературным агентом и заказал ему книгу, документальный роман, что-то в этом роде. День рождения Льва Абрамовича пришелся как раз на время ярмарки, и немец подарил ему дорогую серебряную ручку фирмы «Ватерман», с теплой дарственной надписью. Ту самую ручку, из-за которой, собственно, и был задержан Булька. «Леве от Генриха, Франкфурт, 2001».
Драконов должен был к весне представить первые сто страниц рукописи, немец собирался пригласить его, оплатить дорогу и проживание, подписать договор, получить для него аванс у издательства. Остаток осени и всю зиму Лев Абрамович самозабвенно работал, и к концу марта первые сто страниц были готовы. Черная полоса кончилась. Ему везло даже в мелочах. Кто-то из знакомых свел его с молодым человеком, который помог ему освоить наконец компьютер. Симпатичный юноша по имени Стас, студент, подрабатывал, обучая компьютерных чайников элементарным навыкам. Брал копейки. За короткое время стал своим человеком в доме.
Между прочим, именно к этому Стасу Драконов отправился в гости в тот вечер, когда его убили.
Писатель давно мечтал о ноутбуке. У него был дешевый стационарный компьютер, который занимал весь его письменный стол. Стас пригласил его посмотреть несколько образцов ноутбуков, недорогих, подержанных, но очень хороших.
После убийства Стаса, разумеется, допрашивали, но ничего интересного не узнали. Драконов пришел, просидел часа три, они болтали, пили чай. Модель ноутбука, которая ему понравилась, стоила слишком дорого. Он сказал, что нужная сумма появится у него чуть позже.
То есть он рассчитывал на аванс от немецкого издательства.
Арсеньев захлопнул свой ежедневник, нашел в бардачке бутылку минералки. Вода была теплой, с гадким пластмассовым привкусом. Бутылка провалялась в машине месяца два, не меньше. Он выпил залпом, как водку, и закурил.
Ток-шоу, в котором участвовал племянник генерала Жоры, только началось, оставалось вполне достаточно времени, чтобы доехать до «Останкино».
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
«Я буду думать о чем-нибудь хорошем, и все пройдет», – повторяла про себя Василиса и послушно водила глазами направо, налево, открывала рот, показывала язык, подносила к носу забинтованный палец. – Неврологический статус в норме, – бормотала пожилая врач, заполняя карточку быстрым непонятным почерком.
«Представляю, что она бы там написала, расскажи я ей про доктора Штрауса. Спасибо, что я не могу говорить. Я бы вряд ли удержалась. Мне бы захотелось поделиться с кем-нибудь, и меня отсюда прямиком направили бы в психушку, навсегда».
Голова ее лопалась от криков. Кричали мужчины. Это были пленные русские летчики. Всего пять испытуемых. Трое потеряли сознание. Доктор Штраус констатировал кому. Троих унесли. Их должны отогреть естественным образом, с помощью одеял и голых женских тел. Использовать для обогрева «животное тепло» придумал Гиммлер. К испытуемому подкладывали трех-четырех голых женщин. Они должны были прижиматься к заледенелым телам летчиков. Гиммлер, посещая Дахао, непременно присутствовал при опытах и радовался, как дитя, когда однажды испытуемый оттаял до такой степени, что совокупился с одной из женщин на глазах наблюдателей.
Тех, кто выживал после отогрева, опять опускали в ледяную воду. И так до тех пор, пока эксперимент не даст внятных результатов.
Немецких летчиков сбивают над Атлантикой англичане. Они падают в море и погибают от холода. Жирный Геринг, министр авиации, требует проводить эти «авиационные» исследования. Ему нужен точный ответ на вопрос: сколько времени проживет летчик, сбитый в феврале над Северной Атлантикой?
Поддерживать нужную температуру воды, когда бассейн находится в теплом помещении, довольно сложно. Приходится работать на улице, холодными зимними ночами. Врачи замеряют время, наблюдают. Вокруг шеи испытуемого надувной круг, чтобы голова не уходила под воду и он не мог захлебнуться. Головы, освещенные прожекторами, торчат на поверхности, как поплавки. Испытуемые кричат, стонут, некоторые начинают бредить и даже петь. Закрыть им рты кляпами нельзя, это нарушит чистоту эксперимента.
Время на холоде тянется бесконечно медленно. Отто Штраус, в отличие от своих коллег, не бегал греться в офицерскую гостиную. Он, не отрываясь, смотрел на лица оставшихся испытуемых, на четвертого и пятого. Четвертый потерял рассудок. Сначала он кричал непрерывно, пронзительно. Потом стал бормотать. Штраус не знал русского языка, но в потоке незнакомых слов расслышал несколько общеизвестных крепких ругательств. Генерал не терпел брани, и при иных обстоятельствах бывшему летчику пришлось бы поплатиться за сквернословие. Но шел эксперимент, который нельзя прерывать.
Пятый испытуемый казался самым пожилым и слабым, но держался удивительно долго. Он перестал кричать раньше других, вероятно, поняв, что это бесполезно. Только лишняя трата сил. Он молчал. Посиневшие губы были плотно сжаты, глаза широко открыты. Он смотрел прямо на Штрауса. Когда унесли троих, впавших в кому, он проводил их взглядом и опять уставился на генерала. Наконец затих четвертый. Его унесли. Кроме Штрауса не осталось никого возле ледяной купели. Тишина обрушилась на генерала, придавила к мерзлой земле. Луна засияла ярче, как еще один прожектор. Генерал сгорбился, спрятал руки в рукава теплой шинели. Пар клубами валил у него изо рта. Он думал о том, что подробное описание смерти от переохлаждения есть в любом учебнике судебной медицины и только такие необразованные, темные люди, как Геринг, не знают этого. А проблема быстрого разогрева замерзших была решена еще в 1880 году русским медиком Лепешинским.
Штрауса интересовало другое. В молодости, когда он изучал физиологию в Мюнхенском университете, его глубоко поразили опыты с холодом. Сердце, изъятое из живой лягушки, замороженное максимально быстро, до твердости камня, после оттаивания вновь начинало пульсировать. Когда же лягушку замораживали целиком, она погибала. Штраус хотел найти способ консервации жизни. Это была не только медицинская, но и философская задача. Он мечтал остановить время и победить смерть.
Он хотел жить вечно. Иные формы жизни, кроме биоло гической, его не устраивали. Ему представлялось, что в будущем обычный сон заменится глубокой заморозкой организма. Все физиологические процессы остановятся, в том числе и процесс естественного старения клетки.
Таким образом, удастся продлить свое существование сначала лет на десять, потом на двадцать, потом на сто. Конечно, это пока только грубая схема, но надо работать дальше, используя счастливые возможности, которые дает война.
Из офицерской гостиной едва доносились звуки патефонного танго и пьяный женский смех. Приглушенно, совсем далеко, лаяли овчарки. Пятый испытуемый смотрел на Штрауса, не щурясь от ослепительного света, который бил ему в лицо. И вдруг зазвучал его голос. Он говорил медленно, хрипло, с тяжелой одышкой. Генерал подумал, что пятый бредит. Но фразы, которые произносил русский, звучали вполне связно.
– Милая, любимая моя Оленька! Я жив. Машину нашу сбили над лесом, за деревней Лоханки Курской области. Саня Тарасов погиб еще в воздухе, а я каким-то чудом уцелел. Я жив, Оленька, сейчас, сию минуту, я думаю о тебе, говорю с тобой, знаю, ты меня слышишь и чувствуешь. А что дальше – не так уж важно. Сегодня полнолуние. Хотя бы раз за эту ночь, несмотря на голод, холод и смертельную усталость, ты взглянула на луну. Я тоже ее вижу, круглую, белую, важную, как купчиха у самовара. Ты любишь такие ночи, морозные, ясные, скрип снега, четкие тени голых веток на дороге. Помнишь, как мы такой вот ночью шли от станции до дома? Был слышен уютный, спокойный шум поезда. Ты сказала, что далекий стук колес зимней ночью, в открытом поле, кажется тебе гениальной музыкой, которую невозможно записать и повторить. У тебя заиндевели ресницы, я их оттаивал губами. Ты смеялась и говорила, что глазам щекотно.
Сначала Штраус констатировал связность речи испытуемого. И только потом до него дошло, что происходит. Ему стало жарко на морозе. Он ведь не знал русского языка, но почему-то понимал речь пятого, каждое его слово. Понимал, и ничего с этим поделать не мог. Уши его закрывали мягкие меховые наушники, которые он надевал под фуражку морозными ночами. Высокий воротник генеральской шинели был поднят. Но сквозь толстые слои меха голос русского летчика проникал в черепную коробку, бежал по мозговым извилинам, как быстрый язычок пламени по бикфордову шнуру. Генералу стало казаться, что голова его сейчас взорвется. Потребовалось колоссальное усилие, чтобы вытянуть из рукавов руки, взглянуть на часы. Он почти не удивился, обнаружив, что все три стрелки сомкнулись в верхней точке, слились в одну линию. Когда унесли четвертого испытуемого, генерал засек время. Должно было пройти минут двадцать, но не прошло ни секунды.
– Исправны ли часы? – пробормотал Штраус.
Они были исправны. Они тикали. Этого не могло быть, но это было. Когда Штраус взглянул на русского, оказалось, что у того глаза закрыты, губы сжаты. Он молчал. Он уже не дышал. Но голос его продолжал звучать.
– Оленька, я не успел увидеть нашего сына. Ему скоро исполнится год. Первый год его жизни прошел без меня. Но я столько раз видел нашего Сережу во сне. Сначала крошечного, новорожденного, потом чуть старше, когда он начал улыбаться и бормотать что-то на своем младенческом языке. Давно не было от тебя писем, почта работает плохо, но я знаю, что он уже встал на ножки, сделал несколько первых шагов и научился говорить «мама». А «папа»?
На Штрауса пахнуло перегаром. Двое его помощников прибежали вытаскивать пятого испытуемого из воды. Они успели здорово надраться.
– Который час? – спросил генерал,
– Ноль часов тридцать одна минута, – ответил помощник.
– Вы уверены? Посмотрите! – Штраус отогнул край перчатки, поднес свои часы к глазам помощника.
– Ноль часов, ноль минут, – произнес тот, вглядываясь в циферблат, – ваши остановились, господин генерал.
– Нет. Они идут. Послушайте, – он приложил запястье к ледяному уху старшего офицера.
– Да. Тикают. Значит, просто отстают, – сказал офицер.
Тело пятого испытуемого завернули в простыню, накрыли одеялом. Штраус приложил фонендоскоп к его шейной артерии. Надувной круг оставил на коже ровный глубокий рубец, похожий на странгуляционную полосу. Пятый был мертв. Но голос его затих только сейчас, когда затопали по мерзлой земле сапоги эсэсовцев, уносивших его тело на носилках.
Часы генерала спокойно тикали, стрелки сместились и показывали точное время. Луна исчезла за облаком. Тяжело, медленно колыхалась ледяная вода в бассейне.
– Я не получаю от этого удовольствия, – пробормотал Штраус, – я получаю выгоду. Знание – вот главная моя выгода. Это нормально.
Он стянул перчатку с правой руки. Палец с перстнем распух, кисть стала горячей, кожа зудела. Генералу захотелось подойти к бассейну и опустить руку в ледяную воду. Но вместо этого он побежал к больнице, влетел в тесный, освещенный вестибюль.
– Сегодня все сдохли, – сообщил ему доктор Керрль, его ассистент, и протяжно, со стоном зевнул.
– Пятого греют? – спросил Штраус.
– Бесполезно, – Керрль покрутил маленькой лысой головой и опять зевнул, – он уже пару часов как труп.
Эти слова прошуршали в голове у Василисы быстро и сухо, словно крылья бледного ночного мотылька, который бьется в стекло. Она не знали немецкого, но все отлично понимала.
«Я буду думать о чем-нибудь хорошем. Я буду думать о Грише. Он, наверное, пошел в другую сторону. Он с детства помнит эти места, сам рассказывал, что исследовал территорию бывшего пионерлагеря вдоль и поперек».
Дверь скрипнула, явилась сестра.
– Привет. Ты теперь героиня экрана. Когда будешь выписываться, не забудь дать автограф. Знать бы, как тебя зовут. Ничего, скоро узнаем. Наверняка тебя родители ищут. Ну, что грустная такая? «Ищут пожарники, ищет милиция»… Как там дальше, не помнишь?
У сестры было чудесное, счастливое лицо. Лицо человека, который понятия не имеет, кто такой Отто Штраус. Она положила теплую ладонь на лоб Василисы, пробормотала:
– Температурка нормальная, можно даже и не измерять. Я температуру на ощупь определяю, без градусника, с точностью до двух десятых. У тебя сейчас тридцать шесть и шесть. Это классно.
Перед зеркалом над раковиной она подкрасила губы, поправила шапочку, обернулась, улыбнулась Василисе.
– Ты, может, кушать хочешь? Или чайку?
Василиса слабо улыбнулась в ответ и помотала головой.
– По-маленькому, по-большому не надо? А то давай, провожу. Ну ладно, нет, так нет.
Сестра поставила новую капельницу, подтянула одеяло.
– Спи, бедолага. Во сне все проходит. Авось проснешься и заговоришь.
***
– Я был уверен, что это он, до последнего момента я был уверен, – пробормотал Григорьев, налетев на Кумарина в фойе гостиницы.
– Андрей Евгеньевич, да что с вами? Вы мне ногу отдавили, идете, как сомнамбула. Больно, между прочим, теперь вот буду инвалидом по вашей милости. – Кумарин сделал несколько шагов, нарочно прихрамывая.
– Простите, Всеволод Сергеевич, я не нарочно. – Григорьев совсем растерялся и расстроился.
– Еще не хватало, чтобы вы это сделали нарочно! – Кумарин покачал головой. – Ну и видок у вас!
Григорьев повернулся к зеркалу, потрогал двухдневную седую щетину, пригладил волосы.
– Да, действительно, краше в гроб кладут.
– Пойдемте выпьем.
Кумарин развернулся и направился к бару. Григорьев едва поспевал за ним.
– Всеволод Сергеевич! Вы хромать забыли.
Кумарин только хмыкнул в ответ. Они уселись за крайний столик. В баре было пусто, тихо играл старый джаз. Звезда времен Второй мировой войны Пегги Ли пела нежный, давно забытый шлягер «Я так мало знаю о тебе». Григорьев прикрыл глаза, стал подпевать про себя, едва заметно шевеля губами, слегка покачивая головой в такт музыке. Кумарин заказал коньяк.
– Что же произошло в последний момент? – спросил он, когда кончилась песня.
– А? – Григорьев растерянно моргнул.
– Когда вы отдавили мне ногу, вы сказали: «Я до последнего момента был уверен, что это он», – напомнил Кумарин.
– Рейч не нашел ни одного снимка. Негативы тоже пропали. Никаких следов взлома, ничего. Трех альбомов и двух коробок с негативами просто не оказалось в сейфе. Он готов был показать, продать. Но все исчезло, включая фотографии девяностых. Рейч был в шоке, у него чуть не случился сердечный приступ. Я даже хотел вызвать ему «скорую».
– То есть все выглядело вполне натурально? – уточнил Кумарин.
– Ну да, да. Либо он гениальный актер, либо я полный идиот. Я кое-как успокоил его, стал спрашивать подробно, что именно пропало. Я хотел его проверить. Дело в том, что я знал совершенно точно: снимок, из-за которого Макмерфи сейчас в отпуске, был именно у Рейча. Он приобрел его в девяносто восьмом, у некоего Карима. —Григорьев хлебнул коньяку, немного успокоился. – Этот Карим был главной и единственной нашей зацепкой.
– Вы мне о нем не рассказывали, – нахмурился Кумарин.
– Не успел, – Григорьев кивнул барменше и попросил сделать ему большую чашку чаю с мятой и ромашкой. – Карим – вполне добропорядочный гражданин США арабского происхождения, – сказал он, когда девушка отошла, – сотрудник крупной фармацевтической фирмы. Хозяин виллы, на которой Макмерфи встречался с бандитами. Коллекционер. Собирал личные вещи знаменитых злодеев.
– Интересное хобби, – заметил Кумарин, – даже интересней, чем у Рейча. Он хотя бы изучает историю.
– Я видел кое-что из его коллекции. Например, расческу Чикатило, грязный носок молодого Сталина. До сих пор пованивает.
– Вы издеваетесь?
– Ничуть. Лет пятнадцать назад он специально летал в Россию, в Ростов-на-Дону за расческой и в Туруханский край за носком. С середины девяностых Карим через Интернет активно общался с Рейчем, хотел купить у него чуть ли не всю его коллекцию. Рейч навел о нем справки и предложил обмен. Встреча Макмерфи с египетским доктором Абу-Бакром и чеченским полевым командиром Хасановым была заснята по инициативе Абу-Бакра. Хозяин виллы отпечатал несколько кадров, привез Рейчу и получил за это бритвенный прибор, принадлежавший Геббельсу. Собственно, этот прибор окончательно убедил руководство отправить меня в гости к Рейчу. Редкий экспонат Обнаружили при обыске на вилле Карима, упакованный в стеклянный сундучок, снабженный биркой с пояснениями, как и все прочие экспонаты. Самого Карима нашли мертвым. Только тогда и стало известно о его странном хобби.
– Наверное, к нему явился Сталин за носком.
– Или упыриха Майнхофф за своей пудреницей. А может, все злодеи сразу. В общем, он повесился в ванной. Самое неприятное, что никто из нашего департамента не успел с ним до этого побеседовать. Негативы той съемки скорее всего остались у Абу-Бакра.
– Так, может, это вообще работа Абу-Бакра, от начала до конца?
– Ему это ни к чему. Хлопот много, выгоды никакой. Снимков афганского периода у него не было, во Франкфурт он не летал, ни он, ни его люди в дом Рейча не приходили. Ограбление исключено.
– Ну тогда надо трясти голубую фею мужского пола, – пожал плечами Кумарин, – тут возможны три варианта: он сам провернул все это, либо продал кому-то, либо просто проворонил, оставил случайного гостя наедине с коллекцией.
– Совершенно справедливо, – кивнул Андрей Евгеньевич, – но когда я очень мягко высказал последнее из этих трех предположений, Генрих впал в ярость. Случайных гостей у них в доме не бывает. Без него Рики в голову не пришло бы залезать в сейф, показывать кому-то альбомы. А в его присутствии вынести их из дома незаметно просто невозможно.
– Ну хорошо, он помнит, кому в последнее время показывал снимки?
– Отлично помнит. Никому.
– А с Рики вы пытались обсуждать это?
– Пока нет. Завтра днем они оба отправляются в Ниццу. Боюсь, мне придется тоже туда слетать. Мы не договорили.
– Боитесь? – Кумарин засмеялся, так громко, что стали оборачиваться официанты и повар высунулся из дверного проема.
– Дней на пять, может, на неделю, – добавил Григорьев, немного смущенно, не понимая, что сказал смешного.
– Боится он, – фыркнул Кумарин сквозь смех, – совсем вы очумели, Андрей Евгеньевич. Любой нормальный человек на вашем месте радовался бы. Французская Ривьера, море, горы, красота немыслимая, лучшие в мире рыбные рестораны, вина, чудесные отели. Народу, правда, много. Конец августа. Кстати, вы номер себе уже забронировали?
– Нет. Рейч со своим мальчиком будут жить в Вильфранш, это маленький городок, в двадцати минутах езды от Ниццы.
– Изумительное место. Но там всего четыре отеля, вы знаете об этом?
– Понятия не имею. Рейч сказал, что они будут жить в отеле «Марго».
– А где собираетесь жить вы?
– Пока не знаю. Я как раз хотел завтра утром, после завтрака, зайти в ближайшее турагенство.
Григорьеву принесли чашку чая с ромашкой и мятой. У барменши блестела серьга в ноздре, фальшивый бриллиант. Она улыбнулась, покосившись на смеющегося Кумарина и подмигнула Григорьеву, в прошлый раз он дал ей щедрые чаевые.
– Ладно, – вздохнул Кумарин, отсмеявшись, – расслабьтесь. Я все равно туда собирался, неделей раньше, неделей позже, не важно. Полетим вместе. У меня, как у всякого нормального российского олигарха, есть вилла на Лазурном побережье, как раз неподалеку от Вильфранш. Слушайте, вы бы хоть спасибо сказали. Я приглашаю вас в гости.
– Спасибо, —Григорьев принужденно улыбнулся, – но я должен поставить в известность Макмерфи, и не только его.
– Ставьте, ставьте на здоровье. Никто вам слова не скажет. Мы теперь союзники. Да, а как же колечко Магды Геббельс? Может быть, вы зря пренебрегли этим предложением? Вдруг оно принесло бы Маше удачу?
– Отстаньте, – махнул рукой Григорьев, – я пошел спать.
* * *
– Понимаете, мы с ее мамой, с моей дочерью, не разговариваем десять лет, с тех пор, как умерла ее мать, моя бывшая жена, – всхлипывая, объяснял режиссер Дмитриев.
Он вцепился в Машину руку просто потому, что она оказалась рядом. Он был растерян и подавлен, не успел запомнить номер телефона, продиктованный в криминальных новостях, обратился к девушке администратору, но она отмахнулась и убежала. Пора было идти в студию, начиналась передача, прямой эфир, и никто не интересовался несчастным стариком, который, ко всему прочему, осип от волнения и мог говорить только шепотом.
– Маша, ну что же вы? – Рязанцев оглянулся у выхода.
– Да, сейчас, – кивнула она, но руку не отняла и не двинулась с места.
Вова Приз тоже застыл в дверях, рядом с Рязанцевым, теребил свой мобильный и не спускал глаз с Дмитриева.
– Володя, Евгений Николаевич, пожалуйста, быстрей, уже кончается реклама, через минуту мы в эфире, – режиссер вытеснил их из гостиной, увлек за собой в студию.
– Вы идете или нет? – раздраженно обратился к Маше и Дмитриеву второй администратор.
– Нет! Извините! – неожиданно для себя выпалила Маша.
Она не могла оставить старика в таком состоянии. Он, бедный, протрезвел, вспотел и трясся.
– Я видел ее в последний раз на выпускном вечере. Видел, но не подошел, спрятался в толпе родителей, темные очки напялил, кепку до бровей, старый дурак. Я даже не знаю, поступила ли она в университет. Изредка я звонил им, говорил с Васюшей. Если подходила Ольга, клал трубку. Она собиралась на филфак. Я предлагал ей идти во ВГИК. У меня остались связи… Господи, что же мне делать?
– Ехать в больницу, – тихо сказала Маша.
– А? Да, правда. Но только надо вызвать такси. Или попросить кого-то, – он беспомощно оглядел пустую гостиную, встретился глазами с Машей, – я уже год не сажусь за руль, у меня бывают сильные головокружения.
– Я, к сожалению, не могу вас отвезти, я должна дождаться Евгения Николаевича.
– Да, да, конечно, я понимаю.
– Может, вам стоит позвонить дочери? Это хороший повод помириться.
– Куда позвонить? – он сморщился, пытаясь изобразить улыбку. – Ольга сейчас в Испании. Она, видите ли, устроилась работать гувернанткой в семью какого-то мыльного магната, и вот они взяли ее с собой на все лето. У них там дом на побережье. А Игорь, отец Василисы, в Греции, отдыхает со своей новой семьей. Они развелись с Ольгой пять лет назад, для Васи это была серьезная травма.
Старик бледнел на глазах. Нехорошая бледность, и руки ледяные, влажные. Маша испугалась, что в конце концов придется вызывать ему «скорую».
В гостиной появилась администратор и обиженно сообщила, что, если они хотят все-таки принять участие в передаче, у них есть возможность быстро войти в студию во время рекламной паузы, которая будет через семь минут.
Дмитриев судорожно сглотнул, потянулся за сигаретами.
– Скажите, у вас найдется свободная машина? – спросила Маша.
– А что случилось?
Маша быстро, в двух словах, объяснила ситуацию. Администратор испуганно таращила глаза и кивала. Дмитриев пытался прикурить, но руки у него тряслись.
Выяснилось, что всех шоферов отпустили до конца эфира.
– Я сейчас выйду и поймаю такси, не беспокойтесь, – лопотал Дмитриев, едва справляясь с одышкой и не отпуская Машину руку.
– Ладно, я поеду с вами, – сдалась наконец Маша. Администратор проводила их до милиционера, пообещала все объяснить Рязанцеву и отправить его домой на машине.
Когда вышли из подъезда, у Дмитриева соскользнул шарф.
– Постойте! А как же мы найдем эту больницу? – прошептал он, не замечая, что топчет красный шелк. – Они ведь даже не сказали…
– Сказали. Шестая клиническая. Найдем, не волнуйтесь. У меня в машине есть справочник и карта. Вы наступили на свой шарф, я не могу поднять его.
– А, да, простите, – он отскочил и чуть не упал.
«Я, конечно, везу его не потому, что так сильно напрягся Приз, услышав о девочке, – строго сказала себе Маша, – мне просто жаль старика. Его фильмы помогали мне вылезать из детских депрессий. Когда пьяный отчим пытался меня воспитывать, когда мама забывала, в каком я учусь классе, и мне казалось, что никто на свете меня не любит, я проигрывала про себя какую-нибудь сцену из его кино, вспоминала диалоги дословно и наконец замечала, что уже не плачу, а смеюсь. Режиссер Дмитриев, правда, гений. А Приз ничтожество, которому просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время».
– Там сказали, она не может говорить, – донесся до нее сиплый голос Дмитриева, – значит, у нее какое-то тяжелое психическое расстройство?
– Не обязательно тяжелое, – Маша выехала на Шереметьевскую улицу и тут же встала. Дорогу перегородил грузовик. Он нагло, неуклюже разворачивался, нарушая все правила. Позади нервно загудел черный джип с затемненными стеклами.
– Мы так никогда не доедем, – Дмитриев заерзал на сиденье, – это ужас какой-то, что хотят, то и делают… Врач, кажется, произнесла слово «афония». Вы не знаете, что это?
– Беззвучность голоса, – машинально ответила Маша, – что-то вроде спазма голосовых связок.
Встречная полоса тоже встала. Рядом с Машиным «Фордом» застрял потрепанный темно-синий «Опель».
– Вы точно знаете, где больница? – спросил Дмитриев.
– Мы же вместе смотрели в справочнике, только что, – Маша повернулась к нему, – да не нервничайте вы так, Сергей Павлович, доедем, и с вашей внучкой все будет хорошо.
– А меня к ней пустят? Вдруг скажут, что дед – это не близкий родственник?
– Перестаньте, успокойтесь, все проблемы как-нибудь решим.
Грузовик наконец съехал, дал дорогу, машины медленно двинулись.
Маше показалось, что водитель «Опеля» смотрит на нее, и как будто мелькнуло что-то знакомое, но стекла бликовали, и Дмитриев настойчиво требовал внимания. Тронувшись с места, Маша услышала, как «Опель» легонько просигналил. Вовсе не обязательно, что ей. Встречная полоса продолжала стоять. Сигналила каждая вторая машина, у многих в пробке просто сдают нервы.
«Что-то очень знакомое, и хорошее… у кого же был синий „Опель“?
– Конечно, можно просто дать на лапу, тогда пустят обязательно, – продолжал рассуждать Дмитриев, – но я не знаю, кому и сколько. Как вам кажется, рублей триста – это нормально?
– Я американка, – улыбнулась Маша, – у нас все по-другому.
– Но вы сумеете, в случае чего, дать на лапу? Потому что я совершенно не умею, не знаю, как это делается.
– Да, конечно. Не волнуйтесь.
Пока ехали до больницы, Маша продолжала улыбаться, уже про себя. В ответ на тревожные реплики Дмитриева она отвечала невпопад.
Она вспомнила, у кого был синий «Опель-кадет», и поняла, что водитель сигналил не просто так, а ей лично.
* * *
Ничего не было проще, чем набрать, наконец, этот треклятый номер и спросить: «Маша, это вы или не вы в черно-сером „Форде“?»
Но Арсеньеву стало казаться, что она узнала его и отвернулась нарочно. А что, вполне возможно. Она ведь даже не попрощалась, когда улетал а в свой Нью-Йорк. Не оставила телефона и адреса. Они расстались, как чужие люди, которым друг до друга дела нет.
Рядом с ней в машине сидел какой-то пожилой мужчина. Они ехали из «Останкина». Ну да, конечно, Приз на ток-шоу вместе с Рязанцевым. Мери Григ приехала в Москву, чтобы нянчить партийного лидера, выводить его из очередной депрессии. Интересно, почему она не осталась с ним на ток-шоу? И что за старик в ее машине? Кстати, с Рязанцевым тоже придется встретиться. Он был знаком с писателем Драконовым, а начальник его службы безопасности хорошо знал кошмарного и таинственного генерала Жору. Зюзя сказала, этот Егорыч, бывший полковник ФСБ, когда-то входил в так называемую генеральскую свиту, то есть в узкий круг военных и сотрудников спецслужб, которые прямо или косвенно участвовали в вывозе советского оружия из стран Восточной Европы и продавали это оружие черт знает кому.
«А ведь правда, может получиться такая бодяга с генеральскими мемуарами», – подумал Саня, выискивая место для парковки.
В службе безопасности телецентра Арсеньеву посочувствовали. Допрашивать знаменитость после прямого эфира – не самое приятное занятие. Ловить Приза посоветовали не в холле на первом этаже, а прямо у студии. Мало ли, вдруг у него потом еще какая-нибудь съемка, или эфир, или он отправится в бар и просидит там до глубокой ночи?
Серые узкие коридоры без окон, с низкими потолками, действовали угнетающе. Под ногами покачивались хлипкие пористые панели. Мимо сновали озабоченные люди. Арсеньеву пришлось вжаться в стену, чтобы пропустить табунок взволнованных детей, спешивших на телеигру. Вслед за ними пролетела толстенькая, сияющая, усыпанная блестками старушка в розовой балетной пачке и ковбойской шляпе. Рядом с ней вышагивал бритый налысо, длинный и тощий, как скелет, босой юноша в японском кимоно.
– Я так волнуюсь, так волнуюсь! – звонко вскрикивала старушка.
– Да ну, все фигня! – глухо отвечал юноша. – Получится прикольно! Надо стебаться и не комплексовать. Во всем и всегда надо стебаться. Это главное.
Наконец Арсеньев нашел нужную студию. Над толстой, плотно закрытой дверью светилась электрическая табличка «ТИХО!».
Ждать оставалось совсем недолго. Табличка погасла.
Саня вспомнил, что календарь с портретом Приза остался в машине. Придется Зюзиному внуку обойтись без автографа. Впрочем, если бы не этот календарь, Арсеньев вряд ли узнал бы звезду экрана. Он редко смотрел телевизор, к тому же в новом доме еще не было антенны.
Приз вышел одним из первых. Судя по выражению лица, шоу прошло для него не слишком удачно. Он был мрачный и весь мокрый.
– Добрый вечер, Владимир Георгиевич.
При виде формы и удостоверения Приз помрачнел еще больше.
– Да. Я вас слушаю, – он вытащил мобильник и включил его, огляделся тревожно, словно искал кого-то в толпе, валившей из студии.
– Здесь не совсем удобно, – заметил Саня.
Они стояли посреди маленького фойе. Их толкали. К Призу подлетела девушка с календарем, точно таким, какой остался в машине у Арсеньева, и попросила автограф. Потом еще одна, с развернутым глянцевым журналом.
– Хорошо, давайте отойдем, – произнес Приз и, не глядя, расписался на своем портрете.
В редеющей толпе мелькнуло лицо Рязанцева. Он смотрел поверх голов, извиняясь, никого вокруг не замечая. Маленькая полная девушка подхватила его под руку и стала что-то тихо говорить ему на ухо, увлекая за собой вглубь зеркальной гостиной. В дверном проеме мелькнуло удивленное лицо партийного лидера, дверь в гостиную закрылась, и Арсеньев потерял его из вида.
Приз между тем двинулся по коридору, не оглядываясь. Саня догнал его. Приз разговаривал по телефону, заметив Арсеньева, он тут же прихлопнул крышку мобиль-ника. Саня успел услышать его последние слова: «Они уже там, придурок! Раньше надо было думать!»
Самым подходящим местом для беседы с майором милиции Приз счел маленькую площадку между этажами, у стеклянной стены, над вонючей, заплеванной урной.
– Владимир Георгиевич, вам что-нибудь говорит имя Лев Драконов?
– Писатель? Он умер, кажется?
– Его убили.
– А, да, я слышал. Кого-нибудь удалось поймать?
Стоять и разговаривать с Владимиром Призом на лестничной площадке телецентра было, правда, тяжелым делом. Мимо сновали люди, и почти каждый считал своим долгом поглазеть, поздороваться, оглянуться или подойти, попросить автограф, хотя бы на клочке бумаги.
– Задержали одного наркомана, но пока нет полной ясности.
– Ну а от меня, конкретно, что надо? – спросил Приз, и глаза его неприятно заметались.
– Ваш дядя, генерал Колпаков, был знаком с писателем Драконовым?
Прежде чем ответить, Приз дал автограф двум смущенным подросткам и закурил.
– Не вижу связи.
– Незадолго до смерти в нескольких интервью Драконов говорил, что работает над мемуарами некоего генерала.
– И что, назвал имя моего дяди? – Приз скептически хмыкнул.
– Нет. Никакого имени Драконов не называл. Но известно, что на Франкфуртской книжной ярмарке он встречался с немецким литературным агентом. Они должны были подписать договор на книгу мемуаров генерала авиации, ныне покойного.
– Договор? Что за бред? Кто вам это сказал?
– Неважно.
– Очень важно. Для меня это очень важно. Откуда у вас такая информация?
«От вдовы Драконова», – хотел сказать Арсеньев, но вместо этого скромно сообщил:
– Из прессы.
– Нельзя ли точнее? Издание, дата.
– Ну, с ходу, я не вспомню. Если вас это так интересует, постараюсь уточнить.
– Да уж, пожалуйста, – кивнул Приз, – меня это чрезвычайно интересует. Дядя был для меня как родной отец, и я не хочу, чтобы поганили его память.
– Почему обязательно «поганили»? – удивился Арсеньев. – Разве плохо, когда выходит книга мемуаров?
– Мой дядя ничего не писал и писать не собирался, – сообщил Приз и ответил лучезарной улыбкой на чье-то приветствие.
– Сам не собирался, однако мог наговорить что-то на диктофон или просто рассказать. Он ведь был знаком с Драконовым? Или нет?
– Нет.
– Вы в этом абсолютно уверены?
– Абсолютно.
– Но вы же не могли знать всех знакомых вашего дяди, всех до одного?
– Разумеется, всех – не мог. Но я достаточно хорошо знал своего дядю, и у меня есть очень серьезные основания утверждать, что с Драконовым он знаком не был. То есть, возможно, где-то они встречались. Дядя любил ужинать в ресторане Дома литераторов. Однако ни при каких обстоятельствах он не мог обратиться с подобной просьбой к Драконову.
– Почему?
– Потому, – Приз понизил голос и заговорил хриплым, нервным шепотом, – потому, что, если бы дяде Жоре и пришла в голову идея о мемуарах, он обратился бы к какому-нибудь другому писателю. Вам ясно?
– Не совсем.
– Мой дядя, генерал Георгий Федорович Колпаков, герой Советского Союза, был русским офицером. Он кровь проливал за русскую землю. И если бы решил оставить после себя книгу воспоминаний, то на роль литературного обработчика пригласил бы русского писателя, а не Льва Абрамовича Драконова.
Приз ужасно возбудился. Изо рта полетела слюна. Выпалив все это, он сделал многозначительную паузу, глаза стали выпуклыми и блестящими, он смотрел на Арсеньева так, словно ждал аплодисментов.
Арсеньев неуверенно кивнул. Он не знал, что сказать. Генерал Колпаков был антисемитом. Это ничего не доказывает и не имеет прямого отношения к делу. Его племянник тоже антисемит. Правда, не афиширует этой своей проблемы. Наоборот, молодой политик Владимир Приз без конца повторяет, что все люди братья.
– А вы? – внезапно спросил Арсеньев. – Если бы вы вдруг решили издать книгу о себе, для вас имела бы значение национальность литературного обработчика?
Приз покраснел. Но не от неловкости, а от злости.
– Я пока не собираюсь писать мемуары. Я еще не в том возрасте, чтобы думать о мемуарах.
– Итак, если я вас правильно понял, ваш дядя не был знаком с убитым Драконовым Львом Абрамовичем, – уточнил Арсеньев после короткой паузы.
– Нет! – Приз оскалился и посмотрел на часы.
– И ни о какой совместной работе над книгой воспоминаний речи быть не может?
– Нет!
– Ну что ж, спасибо. Было приятно познакомиться.
Рукопожатие Приза оказалось таким влажным, что хотелось вымыть руки.
* * *
Никому на лапу в больнице давать не пришлось. Единственный охранник, дремавший у входа, ничего не спросил. В справочной объяснили, на каком этаже, в какой палате лежит обожженная девочка, которую сегодня снимало телевидение. Пришлось долго плутать по старому зданию, подниматься и спускаться по лестницам.
– Вот так кто угодно может войти, – сказал Дмитриев.
Бокс находился в тупике, в глухом конце короткого широкого коридора. Там дрожал слабый голубой свет. Вокруг ни души. Маша осторожно приоткрыла дверь.
Это была совсем маленькая комната, такая маленькая, что из-за высоченного потолка казалась колодцем. Окно выходило в больничный сквер и было забрано решеткой. На койке спала девочка. Кисти рук перебинтованы, к локтевому сгибу тянулась трубка капельницы.
Дмитриев застыл в дверном проеме и шепотом, еле слышно, позвал:
– Васюша!
Девочка не шелохнулась. Маша шагнула к койке. В голубом слабом свете лицо Василисы казалось прозрачным. Влажные темные ресницы едва заметно вздрагивали, под веками двигались глазные яблоки. Бледные потрескавшиеся губы были приоткрыты. Ей снилось что-то, она тяжело, часто дышала.
– Ну что же вы, Сергей Павлович, подойдите к ней, – прошептала Маша.
– Она спит.
– Все равно подойдите. А я пока найду кого-нибудь: дежурного врача, сестру.
– Нет! Постойте! – он приложил палец к губам, поманил Машу к себе и шепотом, на ухо попросил: – Понюхайте меня и скажите, перегаром не пахнет? Я много выпил там, в «Останкино», перед эфиром. Вася с детства ненавидит запах перегара.
– Нет. Не пахнет.
– Вы уверены? – он вздохнул, покосился на спящую девочку, пошевелил бровями, тревожно размышляя о чем-то, и прошептал: – А вдруг она меня вообще не узнает? У нее ведь шок.
– Перестаньте. Сейчас я сама ее разбужу.
– А вдруг мне не поверят, что я – ее родной дед? Она ведь не может говорить, как она им подтвердит?
Пока они шептались, в коридоре послышались шаги. Кто-то приближался к боксу, и через минуту за приоткрытой дверью возникла высокая фигура в зеленом халате. Волосы убраны под шапочку, лицо закрыто марлевой маской. Маша не поняла, кто это, мужчина или здоровенная плечистая женщина. Фигура всего на миг остановилась перед дверью и тут же исчезла.
– Эй, погодите, одну минутку! – позвала Маша.
Никакого ответа. Мягкие, поспешно удаляющиеся шаги.
Маша вышла в коридор, постояла в замешательстве, глядя вслед человеку в халате. Он – скорее все-таки он, а не она – свернул за угол. Коридор опустел.
– Маша, Маша, не уходите! – шепотом позвал Дмитриев.
Оставалось вернуться в палату. Девочка проснулась, открыла глаза.
– Вася, – виновато произнес Дмитриев и, со скрипом усевшись на край койки, наклонился, поцеловал ее в щеку, – ты узнаешь меня?
Она привстала и тут же потеряла капельницу. Игла с кусочком пластыря отклеилась, закачалась на трубке. Василиса не заметила этого, обхватила забинтованными руками шею деда, прижалась к нему и испуганно уставилась на Машу из-за его плеча.
– Васюша, маленькая моя, как же так? Я совершенно случайно увидел тебя по телевизору. Что с тобой случилось? Какты попала в горящий лес? Сказали, ты не можешь говорить. Это правда?
Василиса слегка отстранилась, кивнула, приложила ко рту забинтованную руку.
– Привет, Василиса. Меня зовут Мери Григ, – сказала Маша.
– Это журналистка из Америки, она меня сюда привезла, – объяснил Дмитриев, – если бы не она, я бы вряд ли так скоро добрался.
– Тебя смотрел психолог, психиатр? – спросила Маша.
Василиса сделала смешную, важную гримасу, потом брезгливо поморщилась, махнула забинтованной рукой, покрутила пальцем у виска.
– А если попробовать шепотом? Совсем тихо? – предложила Маша.
Василиса приоткрыла рот, глубоко вздохнула, выдохнула, но не получилось никакого звука. Лицо ее слегка сморщилось, рука рефлекторно потянулась к горлу.
– Что, больно, когда глубоко дышишь? – спросила Маша. – Может, это просто ларингит? Ты ведь попала в зону пожара, наглоталась дыма, надышалась угарным гадом.
– Она заикалась в детстве, – вспомнил Дмитриев, – и потом, после развода родителей. Может, это как-то связано? Как выдумаете, это скоро пройдет? Ее отпустят домой?
На последние его слова Василиса отреагировала довольно бурно. Заерзала на койке, принялась неловко, возбужденно жестикулировать, показывая, что очень хочет домой, и как можно скорей.
– Но мамы сейчас нет, – сказал Дмитриев, – ты хочешь поехать ко мне?
Она закивала, уткнулась лицом в плечо деда, опять обняла его.
– Я, пожалуй, схожу, позову кого-нибудь, – сказала Маша.
В коридоре было по-прежнему пусто и тихо. Несколько дверей оказались запертыми, только одна открыта. На ней блестела стеклянная табличка «Процедурная». Внутри, в двух смежных комнатах с банкетками, стеклянными шкафами и всякой аппаратурой, никого не было. Маша заметила в глубине еще одну дверь, хотела дернуть ручку, но вдруг услышала мужской голос:
– Я ж говорю, за ней приехали, блин! Короче, дед с девкой какой-то! Белобрысая девка, лет двадцать пять. Откуда я знаю, кто они? Ну, блин, а чего ж не предупредил?! Правильно, я вырубил телефон, чтоб не отвлекаться.
Человек стоял за дверью и говорил по мобильному. Слышно было отлично. Он нервничал, злился, но старался сдержаться. Вероятно, уже отсоединившись, выдал энергичный матерный финал и замолчал. Где-то в глубине, за стеной, стукнула дверь. Опять стало тихо. Маша на цыпочках отступила от двери, вышла из процедурной и лицом к лицу столкнулась с полной пожилой женшиной в халате, шапочке и марлевой маске.
–Что вы здесь делаете? – сурово спросила женщина.
Маша узнала лечащего врача Василисы, которую всего час назад видела на экране, и даже вспомнила, как ее зовут: Агапова Вера Ивановна.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Руководство Григорьева отнеслось к новости о том, что он летит из Франкфурта в Ниццу и собирается провести неделю на вилле своего бывшего шефа Кумарина, вполне спокойно. Тем более – имелась уважительная причина: туда же отправился Генрих Рейч.
– Расслабьтесь наконец, – ворчал Кумарин по дороге в аэропорт, – что вы все хмуритесь? Надо радоваться жизни. Мы с вами к морю летим.
– Я радуюсь.
– Как-то очень кисло.
– Ля-ля-ля! – тихо пропел Григорьев и скорчил комическую рожу. – Еще сахару добавить?
– Не понимаю, какого лешего я вас пригласил? Искали бы себе ночлег в дешевых пансионах, с общим душем в конце коридора. Ничего другого в разгар сезона все равно бы не нашли. Вы, Андрей Евгеньевич, безумно скучный человек. Ну скажите, что вас грызет? Думаете, зачем мне это надо? Бросьте. Мне ничего не надо на этот раз. Я пригласил вас просто так. Бескорыстно. Не верите?
Такси остановилось у зала вылетов. Кумарин не дал Григорьеву расплатиться, оттолкнул его руку с деньгами. До рейса оставалось сорок минут, они зашли в кафе. Кумарин взял себе пиво и толстую белую сосиску. Григорьев – только кофе.
– Так верите вы в мое бескорыстие или нет? – спросил Кумарин.
– Не верю, Всеволод Сергеевич.
– Ну хорошо. У меня имелась определенная корысть Генеральские мемуары. Я знал, что вы встречаетесь с Рейчем, и хотел через вас выяснить у него, есть там какие-то тексты или нет. Слушайте, зачем вы так много пьете кофе? За сердечко не боитесь? – Кумарин похлопал себя по левой стороне груди.
– Боюсь. Но кофе все равно хочется. А вы, Всеволод Сергеевич, не боитесь охотиться за генеральскими сокровищами? Суетное это дело, и долголетию не способствует.
– Все там будем, – весело оскалился Кумарин, – ладно, выкладывайте, что вам рассказал Рейч о мемуарах.
– Хорошо, – кивнул Григорьев, – а вы мне за это изложите все, что знаете про актера Владимира Приза.
– Вот тебе на! Что это вдруг? Им ведь занимается Маша. И вы, насколько мне известно, не разделяете ее бредовых идей о том, что он лет через пять-десять, при определенном стечении обстоятельств, может стать российским фюрером. Вы, как и все там у вас, считаете Вову Приза безмозглой марионеткой, рекламной фишкой для партии «Свобода выбора». Вы что, после бесед с Рейчем изменили свое мнение?
Во второй раз объявили посадку. Григорьев залпом допил остатки кофе, загасил сигарету, поднялся.
– Идемте. Нам пора в самолет.
Досмотр был более толковым и тщательным, чем когда Григорьев улетал из Нью-Йорка. Ботинки снимать не заставили, зато попросили открыть и включить маленький ноутбук. Понюхали содержимое плоской серебряной фляжки с коньяком, которую взял с собой Кумарин. Все чрезвычайно вежливо, с извинениями.
– Вы не ответили, – напомнил Кумарин, когда они уселись на свои места в самолете, хлебнул из фляги и защелкнул ремень безопасности.
«Фишка, – повторил про себя Григорьев, – рекламный брэнд партии „Свобода выбора“. Нацист. Фанатик. Даже внешне похож на молодого Гитлера…»
Он попытался вспомнить лицо этого Вовы Приза, но не смог. Зато лицо Гитлера возникло тут же. Косая челка, выбритые виски, щеки немного обвислые, похожи на жабры, подбородок бесформенный, рыхлый, черты какие-то размякшие, оплавленные, зато квадратные усики очерчены четко.
«Интересно, найдется на земле человек, который не знает этого лица, никогда его не видел? Прошло почти шестьдесят лет, а он до сих пор остался „фишкой“, „брэндом“.
– Я не исключаю, – произнес Григорьев после долгой паузы, – что Маша вычислила очередного маньяка. Мы с вами можем сколько угодно гадать, что будет через пять-десять лет. Сейчас меня волнует другое. Мог этот Вова Приз стащить альбомы Рейча или нет?
Кумарин хотел сделать еще глоток коньяку, но застыл с фляжкой у рта.
– Погодите. Когда он был у Рейча?
– Он был дважды. Сначала в августе, потом в октябре. А конверты начали приходить в ноябре. Рейч к себе домой почти никого не приглашает. Но Приз бывал у него дома, и не один раз. Крошка Рики от него в полном восторге.
На экране кукольная стюардесса с улыбкой демонстрировала, как пользоваться спасательным жилетом.
– Приз носит перстень на мизинце, не знаете? – спросил Григорьев.
– Вам все не дает покоя история с призраком Отто Штрауса?
– Мне просто интересно, он в принципе носит какие-нибудь перстни или нет?
– Понятия не имею. Спросите у вашей дочери. – Кумарин откинулся на спинку сидения, закрыл глаза. – Между прочим, альбомы мог запросто стащить покойный Драконов. Он тоже был у Рейча в гостях, и тоже в октябре, чуть позже Приза. И вообще, отстаньте минут на десять. Я плохо переношу взлет и посадку.
Григорьев сам рад был помолчать. Мысли путались. Драконов – это совсем уж странный вариант. Он приехал продать права на книгу. Рейч ему был нужен как литературный агент. Но, с другой стороны, книги-то нет никакой. И не бьшо. Допустим, мемуары оказались лишь предлогом, чтобы встретиться с Рейчем, проникнуть в его дом. Тогда Драконов должен был заранее знать о снимках. Спрашивается: откуда? Далее. Чтобы отправить конверты из разных городов Европы, ему надо было объездить эти города. Или ему заказали стащить альбомы, а отправлял конверты кто-то другой? Бред, ерунда. А Вова Приз? Фокус со снимками – слишком тонкая для него комбинация. Приз и Драконов – не те люди, которые могли бы узнать домашние адреса американских сенаторов и высших офицеров спецслужб.
«Машка, Машка, неужели ты меня все-таки заразила своей теорией нового русского фюрера? Или это сделал Рейч? Когда ты, доченька моя, умница, развивала свои теории, мучила меня этим несчастным Вовой Призом, я смеялся над тобой, как все твои коллеги. Я считал это глупостью. Когда Рейч попросил меня представить, как Маг-да Геббельс убивала своих детей, я замахал руками: зачем?! Я не хочу. Мне больше нравится думать, что все это далекое прошлое, а Вова Приз – фигляр, существо грубое, примитивное, и поэтому неопасное».
Он закрыл глаза и сам не заметил, как задремал под тихий рев двигателей. Ему приснилась Маша.
«Папа, в тебе говорит твой интеллигентский снобизм. Тебе кажется, если человек публично произносит глупости, т банальности, значит, он дурак. Между прочим, иногда надо очень много ума, чтобы выглядеть дураком».
* * *
Маша все не могла решить, стоит ли рассказывать врачу о разговоре, который она случайно подслушала в процедурной, о неизвестном мужчине, бродившем по коридору в халате, шапочке и маске. Он наверняка успел исчезнуть. Со стороны все это прозвучит довольно глупо. Маша сама ничего пока не поняла и объяснить доктору вряд ли сумеет.
Может, стоит сообщить в милицию, на всякий случай? Именно туда звонила сейчас доктор, диктовала фамилию, год рождения, домашний адрес Василисы. Ну не брать же у нее из рук трубку? «Знаете, тут какой-то тип бегал в халате, я случайно услышала через дверь, как он говорил с кем-то по телефону о чем-то, что могло бы, возможно, вас заинтересовать… Бред!»
– Значит, Грачева Василиса Игоревна? – врач положила трубку, опустила марлевую маску и улыбнулась. – Ну, будем знакомы. Это твой дедушка?
– Да, да, Дмитриев Сергей Павлович. А вы Вера Ивановна. Очень приятно. Вот, пожалуйста, мой паспорт!
Врач взяла паспорт из дрожащей руки Дмитриева, долго разглядывала фотографию, потом оригинал, потом опять фотографию.
– Погодите, а вы не кинорежиссер?
– Режиссер, – старик распрямил спину, сверкнул глазами, – лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств России.
– Очень хорошие фильмы снимали раньше, – холодно кивнула врач, – значит, родители девочки за границей? Как же так можно, не понимаю. Уехали, оставили ребенка одного. Это только кажется, что в семнадцать лет они взрослые, на самом деле – хуже младенцев.
– Доктор, что с ней?
– У нее ожоги второй степени. Афония. Голос пропал, вероятно, из-за ларингита, плюс нервное и физическое истощение. Сильнейший стресс. Тут все вместе. Девочка попала в зону лесного пожара, этим все сказано. Спасибо, что жива осталась. Состояние стабильное, слава Богу, сепсиса нет. Нужно обследовать ее более тщательно. Пока мы взяли анализы, невропатолог ее посмотрел. Лор у нас будет только завтра.
– Я могу забрать ее домой? – робко спросил Дмитриев.
– Нет.
– То есть как это – нет? Почему? Вася, ты хочешь поехать ко мне?
Василиса кивнула.
– Об этом не может быть речи, – жестко сказала врач, – я отдам девочку под расписку только матери или отцу.
– Но я же сказал, они за границей!
– Вот пусть прилетают и забирают. К тому же вы, как я успела заметить, не совсем трезвы. Извините.
Дмитриев густо покраснел, открыл рот, пробежал по маленькой палате, из угла в угол, схватил за руку Машу и закричал. Голос его дребезжал и срывался.
– Да как она смеет! Кто она такая? Скажите ей, что я не алкоголик, я могу обеспечить нормальный уход своей внучке в домашних условиях. У меня для этого есть средства. Три раза в неделю ко мне приходит помощница по хозяйству, очень толковая женщина, кстати, по образованию фельдшер. Сейчас можно вызвать за деньги любого специалиста на дом.
– Я повторяю, появится мать – ей я девочку отдам. Вам – нет, – спокойно, монотонно произнесла врач и посмотрела на часы.
– Вы не имеете права! Это не ваш ребенок! – кричал Дмитриев. – Я буду жаловаться! Я известный режиссер, уважаемый человек, я лауреат, я с министром вашим знаком!
– Сергей Павлович, не надо кричать, Василисе от этого может стать хуже, – тихо, на ухо старику, сказала Маша и обратилась к доктору: – Вера Ивановна, простите, что я вмешиваюсь, я, в общем, человек посторонний…
– Посторонний, но хотя бы трезвый, – Агапова резко развернулась, – послушайте, я все понимаю. Он сильно перенервничал, но зачем сразу орать, хамить? Перегаром от него пахнет, вы что, не чувствуете? Как я могу, на ночь глядя, отпустить с ним больного ребенка? Девочка даже ходить самостоятельно не может, посмотрите на нее. Как я ему ее отдам? Я отвечаю за нее, а ему самому нянька нужна.
– Мы на машине! – крикнул Дмитриев. – Это вообще наши проблемы, а не ваши!
– Сергей Павлович, пожалуйста, успокойтесь! – Маша притронулась к его руке и покачала головой. – Вера Ивановна, вы совершенно правы, Василису лучше на эту ночь оставить в больнице, довести обследование до конца. Я бы на вашем месте поступила именно так.
– На моем месте? Вы врач? – Агапова сверкнула глазами.
– Я по образованию психолог. Но это не важно.
– О, Боже! Вот только психолога мне тут не хватало!
Маша уже не впервые сталкивалась с тем, что слово «психолог» вызывает здесь, в России, странную реакцию.
Слишком много шарлатанов, которые так себя называют. Куда ни плюнь, обязательно попадешь на психолога или экстрасенса. Надо сказать спасибо бесчисленным ток-шоу, рекламным роликам и желтой прессе. Вся эта пакость, конечно, не зомбирует, но расшатывает нервную систему, делает людей тупыми, слабыми и агрессивными.
Два пожилых и, в общем, нормальных человека набросились друг на друга, как голодные звери, рядом с койкой больной девочки. И оба, между прочим, хотят ей добра. Маша не знала, как быть. Она чувствовала, что разговаривать дальше бесполезно. Доктор Агапова взвинчена после долгого, тяжелого рабочего дня. И если в начале была надежда забрать Василису, то теперь никакой надежды нет. Но оставлять ее здесь нельзя. Почему, Маша пока толком не понимала. У нее в ушах все еще звучал случайно подслушанный телефонный разговор, а перед глазами стояло окаменевшее лицо Вовы Приза.
«Ну какая тут может быть связь? Вообще, куда я лезу? Хочет Дмитриев забрать свою внучку? Имеет полное право. Хочет девочка к деду – ради Бога! В любом случае дома лучше, чем в больнице. Охрана здесь никакая. Пройти может кто угодно. Единственное, что мне остается сделать, – отвезти их на своей машине».
– Все, мне надо идти. Я отдежурила сутки. Прошу вас освободить помещение, – жестко заявила Агапова.
– Никуда я отсюда не уйду! – заявил Дмитриев и не придумал ничего лучшего, как усесться на койку, рядом с Василисой.
– В таком случае мне придется вызвать охрану.
Василиса между тем обняла деда забинтованными руками, всем своим видом показывая, как ей не хочется, чтобы он уходил. Агапову это явно смутило. Она старалась не смотреть в их сторону. Ей, конечно, было неловко, но остановиться, уступить или хотя бы смягчить тон она уже не могла.
– Вера Ивановна, можно вас на минуту? – сказала Маша.
Они вышли в коридор. Маша прикрыла дверь палаты.
– Спасибо вам огромное, вы так помогли Василисе, мы вам очень, очень благодарны.
Маша открыла сумочку, достала купюру в пятьдесят долларов, протянула врачу, успев подумать: «Елки-палки, да что же я делаю? Такая строгая, серьезная дама, заведующая отделением, опытный врач, сейчас возмутится, пошлет меня ко всем чертям, и будет права».
Агапова молча взяла у нее деньги, спрятала в карман халата и, не глядя на Машу, сказала:
– Пусть ваш режиссер пишет расписку, и можете забирать девочку. Менять повязки и обрабатывать ожоги надо не реже двух раз в сутки. Никаких жирных мазей. Ладно, я вам все напишу. И еще, ее обязательно надо показать лору и подростковому психиатру. Психиатру, а не психологу, понимаете?
Пока шли к машине, Маше позвонил отец, у него был веселый, возбужденный голос,
– Представляешь, я в Ницце! Вот только что вышел из самолета.
– Отлично, папа. Я очень за тебя рада, – было неудобно разговаривать, она шла очень медленно, поддерживала Василису, и нужны были обе руки.
– Скажи, ты видела этого твоего актеришку?
– Да.
– Ты случайно не обратила внимания, носит он какие-нибудь украшения?
– Что? Прости, одну минуту.
Дмитриев споткнулся, чуть не упал. Маше пришлось ловить его, при этом не отпуская Василису.
– Ты не можешь говорить? – тревожно спросил отец.
– Мне не очень удобно сейчас. Почему ты спросил про украшения?
– Неважно. Просто попробуй вспомнить, есть у него перстень на мизинце?
– Нет, – уверенно ответила Маша.
– Точно?
– Во всяком случае, я не видела.
– Может, ты просто не обратила внимания?
– Нет, папа, я обратила внимание. Ты знаешь, я всегда смотрю на руки. Никаких украшений, только часы. Платиновый «Роллекс». Ты можешь объяснить, почему тебя это вдруг заинтересовало?
– Обязательно. Но не по телефону. В следующий раз, когда увидишь его, опять обрати внимание на руки, ладно? Мне важно знать, носит он перстень или нет.
– Какой-то конкретный? Как он выглядит?
– Да. Платиновый, мужской, без камня. Тридцатые годы двадцатого века, – быстро говорил в трубку отец, – на печатке профиль Генриха Птицелова.
Но Маша его уже не слушала. Она испуганно смотрела на Василису и пыталась понять, что с ней вдруг случилось. Девочка странно обмякла, совсем не держалась на ногах.
– Я тебе позже перезвоню, я сейчас не могу, – сказала Маша и нажала отбой.
Вместе с Дмитриевым они усадили Василису на заднее сидение.
– Тебе нехорошо? – спросила Маша. – Может, стоит вернуться в больницу?
Девочка отрицательно помотала головой, откинулась на спинку, закрыла глаза.
– Нет, Маша, нет, зачем опять в больницу? – Дмитриев замахал руками. – Мы с таким трудом ее забрали! Она просто хочет спать. Она слабенькая. Дома ей будет лучше, в любом случае.
– Ладно, – вздохнула Маша, – домой, так домой.
* * *
Отто Штраус знал смерть так хорошо, так близко, что ему казалось – с ней вполне можно договориться. Кроме опытов с холодом, жидким и сухим, были опыты с высоким и низким давлением, с голодом, со стерилизацией. Штраус хотел жить вечно. Каждый свой эксперимент он рассматривал как маленький шаг в сторону вечности.
Он наблюдал, как умирают люди. Тысячи людей, все вместе и в одиночку, насильственно и добровольно. Он наблюдал, как постепенно, неуклонно меняется один из главных и простейших законов существования жизни. Любой многоклеточный организм, в том числе человек, обязан умирать, расплачиваясь за потребность размножаться. Люди умирают потому, что совокупляются и рождают новых людей. Средневековые алхимики пытались решить проблему бессмертия изнутри, искали философский камень, эликсир жизни, выдумывали дикие смеси, в состав которых входила, например, сушеная жаба, прожившая десять тысяч лет. Ее следовало отыскать, высушить, истолочь в порошок. Правда, как определить, сколько она прожила, не объяснялось.
В древнеперсидском манускрипте имелся замечательный рецепт. Следовало взять ребенка, непременно рыжего, с большим количеством ярких веснушек, кормить его только фруктами до тридцати лет. Затем опустить в каменный сосуд с медом и травами, герметично закупорить. Через сто двадцать лет тело должно обратиться в мумию. Вот тогда сосуд надо открыть, мумию вытащить, отщипывать по кусочку размером с вишню и принимать три раза в день натощак, запивая родниковой водой. Гарантируется продление жизни лет на двести.
Гейни вычитал это в одном из старинных лечебников и стал приглядываться к новым партиям заключенных, искал рыжего ребенка. Штраусу удалось убедить своего наивного друга, что рецепт из персидского манускрипта – ерунда, сказка.
Проблема бессмертия, или хотя бы продления жизни, интересовала многих. Но никому не приходило в голову что невозможно изменить биомеханику человека, не изменив ничего в законах биосферы. Изобретать и пить эликсиры – примерно то же, что пытаться воздействовать на ход времени, остановив свои наручные часы. Миллионы других часов все равно будут отсчитывать минуту за минутой. Время не изменит свой ход, даже если остановятся все часы в мире. Единственный вариант – вынырнуть во вневременной мир.
Отто Штраус чувствовал, что шансы его личного бессмертия увеличивались соразмерно тому, как расчищалось жизненное пространство вокруг него. Известно, что после войн, катастроф, эпидемий, после гибели большого количества людей природа пытается восстановить равновесие. Рождаемость резко повышается. А если нет? ЕСЛИ огромное пространство земли заранее очищено от особей женского и мужского пола детородного возраста, а те немногие, которым сохранена жизнь, стерилизованы? Что будет с ныне живущими, если новые не родятся? Природа не терпит пустот. Она попытается сберечь ту высшую форму жизни, которая останется на земле, и таким образом из врага станет союзником.
Штраус разрабатывал способы стерилизации, незаметные и безболезненные. Не надо скальпеля. Достаточно совсем небольшого количества направленных на нижнюю (часть брюшной полости рентгеновских лучей, чтобы мужчины и женщины лишились своих детородных способностей. Тысячи заключенных проходили эту процедуру, не догадываясь, что происходит, не испытывая никаких неприятных ощущений. В дальнейшем планировалось использовать этот способ не только в лагерях, но и на всех оккупированных территориях. Каждый житель обязан явиться для регистрации в районную управу. Там его приглашают в отдельную, специально оборудованную кабину, чтобы он просто заполнил анкету. Он стоит за конторкой. Внизу, на уровне живота, есть отверстие, за которым спрятана рентгеновская установка. За эти разработки Отто Штраус получил личную благодарность фюрера.
Иногда в его голове всплывали обрывки курса философии, который он прослушал в Мюнхенском университете. Глядя сквозь стекло барокамеры, как бьется в последних судорогах очередная жертва экспериментов с повышением и понижением атмосферного давления, он цитировал про себя Эпикура: «смерть не имеет к нам никакого отношения. Пока мы существуем, смерти еще нет, а когда есть смерть, уже нет нас». И тут же возражал: вот оно, свидание жизни и смерти. Я могу продлить его до нескольких часов.
Вводя пациенту последнюю, смертельную дозу препарата собственного изобретения, который резко повышает свертываемость крови, глядя в глаза пациента, все еще полные горячей надеждой уцелеть, он мысленно цитировал Шопенгауэра. «Мир, основанный на стихийной, неведомо откуда взявшейся воле к жизни, не достоин самого себя, ибо раздроблен на множество маленьких воль, каждая из которых претендует на самообожествление. Так не честнее ли признаться в том, что наш мир не наилучший, а наихудший из всех возможных?»
Память Отто Штрауса была похожа на гигантскую морозильную камеру, где все каменело, но могло храниться очень долго и не терять форму. Он помнил наизусть тонны цитат, дат, биографий. Это не помогало и не мешало ему. Надежность памяти была всего лишь подтверждением сохранности и абсолютного здоровья мозга.
Из всех видов экспериментов самое жгучее любопытство вызывали у него опыты с психотропными препаратами. Мескалин, марихуана, опий, в разных пропорциях, в сочетаниях с искусственными гормонами, с холодом и жарой, с голодом или какой-нибудь изощренной диетой, с гипнозом и электрошоком, позволяли влезать в сокровенную суть чужого сознания и распоряжаться там по-хозяйски. Наблюдая результаты, Штраус вспоминал Ницше: «скоро настанет покой для всех этих шумящих, живущих, жаждущих жизни, за каждым стоит его тень, его темный спутник». Ницше имел в виду смерть, мрак небытия. Но сегодня, сейчас, в лабораторных условиях, для подопытных особей их тенью, их темным спутником был он, доктор медицины, генерал СС Отто Штраус.
Записи он вел аккуратно, подробно, и довольно скоро у. него образовался целый архив. В редкие минуты отдыха он перелистывал, перечитывал, что-то исправлял, обобщал. Человеку, который занимается наукой, свойственно желание запечатлеть свой опыт, не только для себя, но и для других, для учеников, для потомков. Штраус об этом не думал. Других не существовало. Он был одинок в пространстве и во времени.
Сидя в своем уютном кабинете глубокой ночью, он писал в толстой кожаной тетради план официального отчета о последних опытах с искусственными гормонами. Но что-то постоянно мешало ему. Он то и дело вздрагивал, он чувствовал затылком чужой взгляд. Его знобило, хотя в кабинете пылал камин. Он уже не впервые сталкивался с набором этих совершенно новых, странных ощущений чужеродного, враждебного присутствия рядом с ним и даже внутри него.
Отто Штраус не употреблял ни алкоголя, ни наркотиков. В роду у него не было слабоумных, шизофреников, психопатов. Он прилично знал психиатрию, пытался проанализировать с научных позиций то, что с ним происходит, но натыкался на логические тупики. Допустим, голос русского летчика был всего лишь слуховой галлюцинацией. Даже у совершенно здоровых людей случаются галлюцинации от переутомления и недостатка сна. Но воображаемые голоса должны говорить на знакомом языке. Отто Штраус не знал русского. Почему, пока стрелки его часов застывали на двенадцати, он понимал каждое слово?
Позже, на следующий день, он нарочно попросил одного из лагерных переводчиков прочитать ему страницу текста по-русски. И ничего не понял. Между прочим, текст этот являлся письмом, которое нашли в планшете летчика, пятого испытуемого. Переводчик перевел все дословно. Письмо было от жены летчика. Ее звали Ольга.
Она писала, в частности, об их маленьком сыне, и переводчик несколько раз повторил непривычное для немецкого уха имя: Сережа. Все совпадало. Отто Штраус не понимал, почему, зачем, откуда он знает и чувствует нечто чуждое ему и что происходит с часами? Их смотрел часовщик. Швейцарский механизм работал исправно и надежно. Получалось, что часы добросовестно показывали не только время, но и отсутствие времени, дыры в нем? Ну что ж, можно допустить и такое. Интеллект доктора Штрауса так упорно работал над проблемой продления жизни, что в неясной субстанции времени протерлась дыра, и сквозь нее тянуло сквознячком, ледяным и враждебным.
«Не исключено, что содержание представления само по себе имеет такую же ценность действительности и может проецироваться вовне, как и содержание восприятия». Эта цитата из учебника психиатрии, из раздела «галлюцинации», всплыла в мозгу генерала и зависла, переливаясь тусклыми гранями. Получалось, что вечность, в том виде, в котором мог представить ее себе Отто Штраус, стала явью и вступила с ним в странный, гипнотический диалог.
«Убийца. Ублюдок. Тебя нет».
Отто Штраус не слышал этого. Он это думал, причем думал по-русски. Он сидел за столом, продолжая писать отчет, но рука ныла все отчетливей. Пульсировал палец, на котором был перстень. Дрожали стрелки часов, не только наручных, но и тех, что стояли на каминной полке. Дрожали веки генерала. От ледяного сквознячка ярче вспыхнул огонь в камине.
На расстоянии шестидесяти лет и пары тысяч километров девочка Василиса открыла глаза и увидела, как плывут за окном машины в сизом вечернем мареве знакомые московские улицы.
* * *
– Ни в коем случае нельзя туда возвращаться, – ворчал Дмитриев, – эта женщина не врач, она монстр какой-то. Подумать только – не отдавать родному деду внучку! Да по какому праву? Там у них что, тюрьма? Колония для малолетних преступников? Хорошо, что вы были рядом, Машенька, и все уладили, Кстати, как вам это удалось?
– А как вы думаете? – хмыкнула Маша.
– Ох, я старый дурак! – Дмитриев хлопнул себя по лбу. – Как же я сразу не догадался? Сколько я вам должен?
– Пятьдесят долларов.
– Ого, у доктора неплохие аппетиты, – Дмитриев принялся рыться в карманах, – вот, беда, ужасно неудобно, у меня с собой только сто рублей.
– Да ладно вам, Сергей Павлович, как-нибудь потом вернете. А насчет аппетитов – все вполне понятно. Нельзя ее за это судить. Она получает копейки, работает сутками, ответственность колоссальная, постоянные стрессы, нервные перегрузки.
– Мы все так живем, – проворчал Дмитриев, —впрочем, и взятки тоже все берем, не краснея. Кому дают, конечно.
Маша подъехала к воротам больницы и вспомнила, что ей надо позвонить Рязанцеву. Телефон оказался выключенным. Она забыла заблокировать клавиатуру. Стоило включить – он тут же затренькал.
– Здравствуйте, – произнес в трубке низкий мужской голос, – здравствуйте, Мери Григ.
– Арсеньев! – обрадовалась Маша, мгновенно узнав его – Саня Арсеньев!
– Маша, это вы были в черно-сером «Форде» на Шереметьевской улице? Я вам сигналил.
– Да. Я только потом поняла, что это были вы, в синем «Опеле».
– Где вы сейчас, Маша?
– В больнице. То есть только что выехала из ворот больницы.
– Что случилось?
В голосе его прозвучала такая искренняя тревога, что Маша смутилась. Здесь, в Москве, никто не беспокоился, где она, что с ней может случиться. Собственно, на всем белом свете никто, кроме ее отца, всерьез об этом никогда не беспокоился.
– Со мной все в порядке. Просто пришлось отвезти дедушку к внучке. Я вам потом расскажу. Как у вас дела?
Она не ожидала, что так обрадуется Арсеньеву. Не то чтобы она совсем забыла его, просто старалась забыть. Ни к чему это все. Два года назад она прекрасно понимала, что нравилась ему. Надо быть совсем уж бесчувственной дурой, совсем не женщиной, чтобы не замечать такие вещи. Он ей тоже нравился, с ним было легко молчать. Говорить легко не с каждым, но со многими. А молчать – почти ни с кем. Всегда хочется как-то заполнить паузу. Да, пожалуй, Арсеньев даже слишком ей нравился, чтобы позволить себе помнить о нем все эти два года. Ведь это был тупик.
– Тупик, верно? – говорила она себе, встречаясь в Нью-Йорке дважды в неделю со своим замечательным, положительным во всех отношениях бой-френдом Диком.
– Тупик, – объяснила она отцу, когда он стал расспрашивать ее о милицейском майоре, с которым она сидела в ресторане в тот проклятый вечер, когда с ней вышел на контакт генерал Кумарин.
«Тупик», – повторила она сейчас, сворачивая с Садового кольца на улицу Красина, слушая, как дышит Арсеньев в трубку, как на заднем сиденье старик Дмитриев что-то нежно шепчет своей внучке.
– У меня все неплохо. Переехал в новую квартиру, – сказал Саня.
– Поздравляю.
– Спасибо, – он помолчал несколько секунд и вдруг выпалил: – Маша, я бы хотел с вами увидеться. Нет, я понимаю, сейчас поздно, вы очень заняты…
– Саня, Саня, я тоже хочу с вами увидеться. Более того, мне даже надо с вами посоветоваться, и чем скорей, тем лучше.
Они договорились, что она перезвонит ему, как только освободится, как бы поздно ни было. Стоило нажать отбой, телефон опять затренькал. В трубке раздался обиженный голос Рязанцева.
– Я все знаю, – сказал он, – я все отлично понимаю и не осуждаю вас, но вы же не «скорая помощь». Неужели нельзя было вызвать такси? Вы мне бьши так нужны на этом ток-шоу!
– Простите, Евгений Николаевич. Как все прошло?
– Ну, как, как? Разумеется, у меня полный провал, у него триумф. И некому было поддержать меня.
– Я уверена, вы преувеличиваете. Все не так плохо. Вам эфир записали? Ну вот, мы завтра вместе спокойно посмотрим, обсудим.
– Утром я вас жду, Маша, и, пожалуйста, больше меня не бросайте.
– Конечно, Евгений Николаевич.
Он попрощался все еще обиженный. А с заднего сидения прозвучал голос Дмитриева.
– Машенька, вы нас не бросите? Дело в том, что я не умею ни бинтовать, ни делать уколы. А сестру смогу пригласить только завтра. Вот тут круглосуточная аптека, давайте остановимся, купим все необходимое. И еще, надо купить еды. У меня совершенно пустой холодильник.
Василису оставили в машине. Когда зашли в аптеку, Маша пожалела, что не оставила в машине и Дмитриева. Он комментировал цены каждого лекарства, задал аптекарше десяток ненужных вопросов и довел ее до белого каления. В супермаркете сунул в тележку литровую бутылку дешевой водки.
– Сергей Павлович, не надо бы вам сейчас, пока у вас Василиса, – сказала Маша.
– Я капельку, рюмочку перед сном. Я так перенервничал, мне необходимо расслабиться, снять стресс. Нет, ну вы посмотрите, эта колбаса еще неделю назад стоила в два раза дешевле. Безобразие! Вы не беспокойтесь, я вам все верну, мне так неловко, и времени я у вас столько отнял! Это Рязанцев звонил? Перед ним тоже неловко. Знаете, он, кажется, сделал большую ошибку, приблизив к себе этого бойкого мальчонку. Есть в нем что-то неприятное. И актер он, между нами, никакой. Я бы его не взял даже в эпизод, даже в массовку не взял бы.
– Вот как? – удивилась Маша. – А что же вы с ним любезничали в «Останкино»?
– Ну, Маша, я же светский человек. Если бы я смотрел на него, как солдат на вошь, подумали бы, что я завидую его молодости и популярности. И потом, знаете, я не теряю надежды когда-нибудь снять кино, а без звезд в наше время не обойтись, если хочешь, чтобы деньги, вложенные в производство, окупились, нужны раскрученные брэнды. Только они делают рейтинг. Вова Приз – это, безусловно, брэнд.
– Сергей Павлович, вы же только что сказали: «Я не взял бы его даже в массовку».
– Лет десять назад не взял бы. Сейчас в ножки поклонюсь, чтобы он снизошел. Что делать, Машенька? Мое время кончилось, его только начинается.
Наконец вернулись к машине. Дмитриев так заболтал Машу, что она не заметила маленькой черной «Тойоты», которая неотлучно следовала за ними от больничных ворот и потом, от аптеки до дома Дмитриева. Зато Василиса заметила, но сказать об этом не могла.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
В Ницце, в аэропорту, их ждал шофер Кумарина, здоровый детина устрашающего вида, стриженный под «ноль», в гавайской рубашке. Завидев своего шефа у выхода из зала прилетов, он выбросил в урну недоеденное мороженое.
– Привет, Ваня. Как погода? – спросил Кумарин.
– Здравия желаю, товарищ генерал. Жарко.
Больше он не сказал ни слова. Взял у хозяина и гостя два маленьких легких чемодана и зашагал к стоянке. Солнце шпарило жестоко, Григорьев надел темные очки и подумал, что, пожалуй, придется купить какую-нибудь кепку. Кумарин прихватил с прилавка пункта проката автомобилей рекламную картонку и принялся энергично обмахиваться.
– Маша сказала, никаких колец Вова Приз не носит, – Григорьев крутил в руках сигарету, – а по словам Рейча, он надел перстень на левый мизинец и носит, не снимая.
– Правильно, – невозмутимо кивнул Кумарин, – перстень Рейчу оставило привидение, вот он и исчез. Вы что, забыли? Он волшебный. Да бросьте вы ломать голову, Андрей Евгеньевич. Мы с вами в Ницце. Побережье курортного счастья и русских кладбищ. Осмотритесь, принюхайтесь. Вдруг захочется провести здесь остаток жизни?
Шофер распахнул перед ними дверцы белоснежного новенького «Лексуса». Григорьев, так и не закурив, сломал сигарету и выбросил. В салоне заработал кондиционер, и через минуту они забыли о тропическом пекле. Кумарин окончательно пришел в себя после тяжелой посадки, порозовел, развеселился.
– Город изуродовали в шестидесятых, но кое-что сохранилось. Сейчас будет Променад де Англе. Английская набережная. Ее всю застроили бетоном, пластиком, стеклом. Переломали старые прекрасные виллы. У каждой было свое лицо, свое имя и своя история. Теперь почти ничего не осталось. Не одни мы такие идиоты, даже самую эстетскую нацию, французов, коснулась эпидемия архитектурного абсурда шестидесятых. Смотрите, вот она, знаменитая набережная. Кто здесь только ни прогуливался, кто только ни умирал, в девятнадцатом веке от чахотки, в двадцатом от ностальгии!
– Красиво рассказываете, – хмыкнул Григорьев, —может, вам экскурсии водить?
– Злыдень вы, Андрей Евгеньевич. Ну скажите, нравится вам здесь? Посмотрите, какой пейзаж, какое море!
– На нашу Ялту похоже.
– Ага. Она была бы такой, наша Ялта, если бы не семьдесят лет советской власти. А насчет экскурсий – это неплохая идея. Водить, и хорошие деньги брать! Я столько могу рассказать о Лазурном побережье, я так его люблю, но бесплатно никто не слушает.
Машина застряла в небольшой пробке у светофора.
– Посмотрите налево. Это отель «Негреско», входит в пятерку лучших отелей мира. На портье униформа наполеоновского драгуна. Фойе, бар, обеденный зал – все как было девяносто лет назад, те же картины на стенах, вазы, даже кольца для салфеток и дверные ручки. Люстра сделана по образцу кремлевской. Таких всего две в мире. Мы с вами непременно зайдем сюда, выпьем кофейку, коньячку. Здесь все еще витают вдохновенные тени Жоржа Сименона, Хемингуэя, Камю, Франсуазы Саган. Им хорошо писалось в этих милых комнатах с видом на море. Когда я впервые попал в Ниццу, остановился здесь. Каждый уважающий себя русский должен хоть раз переночевать в «Негреско».
– Цитата? – спросил Григорьев.
– Нет. Импровизация. Слушайте, а вы на роликах умеете кататься? Здесь это принято. Посмотрите.
В толпе на набережной многие катались на роликах, лавируя между пешеходами. Промчалась юная мамаша с младенцем в сумке «кенгуру». Проплыла пожилая пара, держась за руки. Три негра, полуголые гиганты, из которых один, вероятно, был женщиной, медленно катились сквозь толпу, выделывая причудливые па. Разъезжались, съезжались, кружили вокруг своей оси, вскидывали руки. Черные тела лоснились, отливали синевой, как оперенье фантастических воронов. Следом осторожно двигались две японские старушки, крошечные и нежные, как колибри. Далее грациозно плыла круглая толстуха в тугих розовых шортах. За ней семенила на поводке малюсенькая пегая болонка.
– Дама с собачкой, – сказал Кумарин, – обратите внимание, какая забавная публика. Вавилон. Ваша голубая парочка знает, что вы последовали за ними?
– Да. Мы договорились встретиться в их отеле завтра, во второй половине дня.
– Вы надеетесь поговорить с Рики наедине? Думаете, удастся купить его или припугнуть, и он расскажет вам, кто украл снимки?
Григорьев кивнул.
– И что дальше? – тихо, с легкой издевкой спросил Кумарин.
Проехали порт, забитый катерами и яхтами. Дорога пошла вверх, начался серпантин, с мягкими поворотами, за каждым открывались новые пейзажные чудеса. Отвесные скалы, пронизанная солнцем зелень.
– Дальше ничего, – сказал Григорьев, – я вернусь в Нью-Йорк и подробно отчитаюсь.
– О Вове Призе будете говорить?
– Пока не вижу смысла. Есть психи, готовые заплатить десятки тысяч за коллекционного плюшевого медведя, ботинок Элвиса Пресли, носок Сталина или перстень Отто Штрауса. Мало ли у кого какая придурь?
– Понятно. А Маше расскажете о колечке Магды Геббельс, которое могла бы носить она? – Не знаю. Там видно будет.
На самом деле Григорьеву очень хотелось сейчас поговорить с дочерью, но не по телефону. Хотелось прежде всего спросить, почему она так легко и быстро выстроила цепочку: Отто Штраус, Нюрнберг, Аргентина, «Артишок», «Блюберд».
Конечно, занимаясь Вовой Призом как возможным российским фюрером, она попутно читала что-то по истории германского нацизма. Старые секретные программы ЦРУ, в том числе «Артишок» и «Блюберд», она могла изучать в разведшколе. Вряд ли им там рассказывали о том, что легло в основу этих программ. Если доктора Штрауса и его коллег действительно спасли от виселицы, тайно вывезли в США, то в любом случае они доживали не свои, а совсем другие жизни, были полностью легендированы. Им поменяли не только имена, но и внешность.
«Папа, ты можешь себе представить, в сорок третьем году целый отдел ЦРУ занимался разработкой разных планов по психической нейтрализации Гитлера. Чего только не придумывали, сами или вместе с англичанами! По заданию Донована один психоаналитик из Кембриджа собирал всю информацию о Гитлере, анализировал его личность, выявлял слабые места, заключил, что в раннем детстве крошка Адольф ассоциировал самого себя не с отцом, а с матерью. В его психическом складе есть женские черты, и физически он не совсем мужчина. Узкие плечи, массивные бедра. На основании этого была разработана операция по постепенной смене сексуальной ориентации фюрера. Решили попробовать через агентурную сеть вводить ему в пишу женские гормоны. Потом пытались вводить препараты, вызывающие облысение. Он все ел, и ничего ему не делалось. Он был какой-то неуязвимый. Не понимаю, если имелась возможность добавлять ему в пищу гормоны, почему не попробовали просто отравить? Вообще, наши умники-психологи вместе с химиками обожали работать над всякой ерундой. Выяснили, например, что боевой дух японца можно сломить, побрызгав солдата жидкостью с запахом какашек. Разрабатывали вещества, вызывающие тошноту, зуд, облысение. Но главной задачей оставалось создание эликсира правды. Не побрезговали даже использовать материалы исследований, которые проводили в лагерях нацистские врачи. Сразу после войны были созданы две суперсекретные программы под личным руководством Даллеса. „Артишок“ и „Блюберд“. Занимались алхимией: эликсир правды, создание агентов-зомби, выборочная амнезия. Опыты проводились на живых людях, в основном на уголовниках и нелегальных эмигрантах. Но были добровольцы, молодые офицеры ЦРУ, курсанты разведшколы, студенты. Существует легенда, что именно в этих программах работали в качестве консультантов нацистские врачи. Например, Отто Штраус, который, по одной официальной версии, в сорок пятом сбежал из английского госпиталя для военнопленных и канул где-то в Аргентине, по другой – погибе Берлине, по третьей – стал призраком, вампиром, жив до сих пор и будет жить вечно».
Григорьев не без удовольствия отметил, что с памятью у него не так уж плохо. Давний разговор с Машей он сумел припомнить почти дословно. Разговор это происходил года два назад. Почему он возник, неважно. Еще не было на Машином горизонте никаких призраков нацизма, никакого Вовы Приза. Но уже был доктор Отто Штраус. Во всяком случае, мелькнула его мрачная тень.
Остаток пути ехали молча. Григорьев заметил указатель на Вильфранш, небольшую скромную рекламу отеля «Марго». Городок остался внизу, Андрей Евгеньевич не рассмотрел его. Свернули на шоссе, ведущее к Булье. Миновали тихий городской центр, дорога вильнула вниз, и через десять минут перед белоснежным «Лексусом» распахнулись литые ажурные ворота. Машина остановилась. Григорьев увидел двухэтажную виллу, выстроенную в стиле модерн из серебристого камня, окруженную пальмами и розовыми кустами. Совсем близко сверкало море. К пляжу вела каменная лестница с перилами. Небольшая яхта стояла на якоре, на мачте развевался российский флаг.
– Вот мой кусок земли в этом раю, – сообщил Кумарин, – добро пожаловать.
* * *
– Короче, Шама, ты должен плюнуть на свой перстень, – сказал Лезвие, – растереть и забыть. Эту Василису Грачеву опасно сейчас трогать, мы все засветимся. Она пока молчит.
– Вот именно, что – пока, – медленно, сквозь зубы, процедил Приз, – из больницы ее забрали, в домашней обстановке она быстро очухается, заговорит.
– И что скажет? Ну, слышала, выстрелы, видела каких-то людей. Потом все вспыхнуло, к едрене фене.
– У нее мой перстень.
– Погоди, а может, не у нее? Может, его сняли в больнице? Ей ведь меняли повязки.
– Думаешь, они могли там его…
Приз не договорил. Глаза его заметались, он принялся массировать и дергать свой мизинец.
– Тихо, тихо, что ты сразу заводишься? – Они сидели поздним вечером вдвоем в полутемной гостиной, в квартире Приза. Перед ними на стеклянном журнальном столе стояла запотевшая бутылка водки, блюдо со свежим овощным салатом, две тарелки. На одной – омар, фаршированный раковыми шейками, на другой – бараний шашлык. Минут двадцать назад еду доставили по заказу из ресторана. Она была еще теплой. Лезвие ел свой шашлык с завидным аппетитом. Приз к омару пока не притронулся.
– Если его сперли в больнице, ну и ладно. Хрен с ним. Так даже лучше. Но, скорее всего, он у нее, – рассуждал Лезвие с набитым ртом. – Допустим, она предъявит перстень ментам. Скажет, что его потерял на пляже человек, который – что? Купался ночью в речке? Кто докажет, что он твой? А если и докажет – ты мог сто раз его потерять, у тебя могли его свиснуть. Пару недель назад мыл руки где-нибудь в сортире, в ресторане или в том же «Останкино», снял перстень, положил на полочку и забыл. Да никто и не посмеет к тебе с этим сунуться, ни одна сволочь не решится.
– Это моя вещь, – Шаман помотал головой так сильно, что хрустнула шея, —. я хочу вернуть перстень. Мне нужен мой перстень.
– Ой, блин, да пойди ты в любой ювелирный, купи себе хоть десять перстней! Из-за какой-то цацки так переживать! Не понимаю. – Лезвие едва удержался, чтобы не сплюнуть на пол.
– Кого ты послал в больницу? – спросил Приз.
– Ну кого? Серого! У него среднее медицинское образование.
– И он, конечно, ни фига не сделал, даже не выяснил, где мой перстень.
– А чего он мог, в натуре? Там народу до хрена.
– Ты дал ему отбой?
– Ну нет, я сказал, чтобы он сел им на хвост и глаз не спускал. Дальше – посмотрим. Будем действовать по обстоятельствам.
– По обстоятельствам! – передразнил Шама и скорчил гадкую рожу. – Ты вообще расслабился, Лезвие. Ты ничего не можешь организовать, как следует. Ты стал много пить и поэтому плохо соображаешь.
– Что значит – не могу? – обиделся Лезвие. – Я тебе Драконова сделал?
– Ну и что? Мемуары оказались пустышкой. Семьдесят страниц пустого трепа, про то, как они вместе пили и трахали девок.
Лезвие вытаращил глаза, возмущенно присвистнул.
– А ты чего хотел? Чего ты ждал, в натуре, Шама? Ты же сам говорил, что твой дядя ничего серьезного этому жиденку рассказывать не стал бы! Ты думал, там какой-нибудь хороший компромат? Или номер счета, на котором есть еще бабки?
– Драконова можно было не убивать, – жестко, чуть слышно произнес Приз, – хлопот много, толку – чуть.
– Ну ты даешь! – Лезвие покачал головой. – Раньше надо было думать! И, между прочим, если бы даже те мульки, которые там есть, вышли бы в книге, товарищ генерал в гробу бы перевернулся. Сам по себе факт дружбы твоего дяди с этим писакой тебе, Шама, вовсе не нужен. И пацанам нашим такие вещи знать ни к чему. Так что все нормально. Дело сделано, и нечего теперь сопли пускать.
Вове захотелось вцепиться в короткую жесткую шевелюру своего верного друга и шарахнуть его мужественной мордой об стол. Но он сдержался.
– Ты, Лезвие, поторопился и наследил с Драконовым, – произнес он тихо и почти ласково.
– Наследил? Да где? Как? Я Драконова чисто сделал! Какие претензии, блин?
– Чисто? А ты знаешь, что сегодня вечером ко мне приходил майор милиции, прямо в «Останкино», после съемки? Ты это знаешь, Лезвие? Ну? Отвечай! Твой Булька должен был признаться, а потом сразу сдохнуть. Он что, живет еще? И не признался? Отвечай, я сказал!
Лезвие молча выпил водки и закусил последним куском шашлыка. Он привык к истерикам Шамы. Следовало подождать, дать ему наораться. Правда, иногда он до того заводился, что мог врезать, но у Лезвия была хорошая реакция. Сдачи он не давал, он успевал перехватить на лету руку, занесенную для удара. Именно так случилось на этот раз. Шама орал, орал, потом замахнулся. Хорошо, что Лезвие дожевал и поставил на стол рюмку.
– Тихо-тихо-тихо, – бормотал он, сжимая запястье Шамана, – успокойся, выпей водочки.
– Пусти, – Шаман попытался выдернуть руку, – пусти, дурак. Я не пью, ты же знаешь. Сколько раз тебе повторять, что я не пью?
– Тогда поешь.
Они опять сели в кресла. Шаман отдышался, успокоился и принялся за своего омара.
– Чего ты задрейфил из-за Бульки, а? Ну, Шама, чего ты? Там все нормально, в натуре. Короче, сейчас надо первым делом отдать железо, пусть дешевле, но отдать, без базара. Оно не может лежать у тебя на даче, ты понял, да? И, это, Миха сказал, короче, бабок пора подкинуть его пацанам, хотя бы по стольнику зеленью, на пивко, на прикид. Пацаны с этими транспарантами жидовскими здорово рискуют, блин.
Шаман обсосал клешню омара, вытер руки и губы салфеткой, сжевал салатный лист, закурил, улыбнулся так, словно перед ним был не друг детства Лезвие, а телекамера, за которой миллионы зрителей, и произнес с мягкой, бархатной хрипотцой, с той особенной интонацией, которую так любила его многомиллионная аудитория:
– Послушайте, господин министр внутренних дел, вам пора учиться говорить по-русски грамотно и красиво. Не короче, а длинней, солидней. Вы же русский человек, вам должно быть стыдно уродовать собственный прекрасный язык, язык Пушкина и Толстого. Пора отвыкать от жаргонных словечек и нецензурной брани. Это засоряет воздух, портит окружающую среду и дурно влияет на нравственность подрастающего поколения. Сквернословят циники, мерзавцы, люди без высоких нравственных идеалов. Вам это не к лицу. Вас неправильно поймут, господин премьер-министр, если вы будете так выражаться. Подумайте о своем имидже и престиже.
Он выпустил дым из ноздрей, а изо рта – крепкий, долгий залп самого грязного мата. Голос его оставался все таким же бархатным, а интонация – такой же плавной и задушевной. Лезвие восхищенно заржал.
– Короче, так, блин, – сказал Шаман, отсмеявшись вместе с ним, – железо скидывай Хасану, не торгуясь. Половину суммы отдай Михиным пацанам. Десятку возьми себе, но учти, что из нее тебе придется отстегнуть минимум две штуки своему человеку в прокуратуре. Мне нужна точная информация, что там с делом по убийству Драконова.
Лезвие молча кивнул и кинул в рот кусок огурца. Такой расклад вполне устраивал его. Информатору в прокуратуре он ничего не был должен, расплатился совсем недавно. С делом по убийству Драконова сумел подстраховаться на всякий случай. Когда выяснилось, что в последнем протоколе допроса подозреваемого Бульки зафиксировано, что он, подозреваемый, прикасался к внутренней стороне портфеля писателя Драконова за сутки до убийства, Лезвие придумал историю с красными резиновыми перчатками. И скинул ее своему верному человечку, швейцару из кафе «Килька», Иванычу. Час назад Иваныч ему звонил и доложил о разговоре с Арсеньевым. Так что Приз напрасно беспокоился. Лезвие, конечно, пил, но умеренно. И расслабляться себе позволял только изредка, не в ущерб делу.
* * *
Пожилая горничная француженка понесла вещи Григорьева наверх, в его комнату.
– Это Клер. Я на лето нанимаю ее, получается дороже, чем привозить прислугу из России, зато работает безупречно, – сказал Кумарин. – Надеюсь, вы не забыли французский? Клер никакими другими языками не владеет.
– Забыл, – признался Григорьев, – но попытаюсь вспомнить.
– Да уж, придется. Здесь без языка худо. Если возникнут проблемы – обращайтесь ко мне, не стесняйтесь.
– Мерси, – кивнул Григорьев. :
– Ну, располагайтесь. Жду вас в гостиной.
Комната встретила Григорьева искусственной прохладой, мягким светом сквозь шелковые кремовые шторы, взбитыми подушками на белоснежном стеганом покрывале, букетом свежих чайных роз. Розы стояли и в ванной, на изящном туалетном столике. С балкона открывался вид на море.
– Это восточная сторона. Утром солнце очень яркое, – сообщила горничная Клер, – на ночь лучше опустить жалюзи.
Григорьев с удивлением обнаружил, что понимает ее.
– Если что-то понадобится, наберите по телефону единицу, и я к вашим услугам, – она приветливо улыбнулась.
Андрей Евгеньевич полез в карман за мелочью, чтобы дать ей на чай, но вовремя одумался. Это все-таки не гостиница.
На балконе стояли соломенные кресла, столик. Григорьев сел, закурил. Море в сумерках отдавало остатки солнечного света, светилось изнутри. У горизонта, в закатной дымке, был виден высокий океанский лайнер. Мимо проплывали катера и яхты, и на его фоне казались игрушечными. Из крепости в Вильфранш доносилась музыка, духовой оркестр исполнял старинный незнакомый марш. Совсем близко от берега промчался катер, за ним на невидимой привязи летела тонкая фигурка водной лыжницы. Длинные светлые волосы трепал ветер.
– Машка так хотела на море, – пробормотал Григорьев, – водные лыжи, акваланг, парашюты – это все для нее. Надо будет приехать вдвоем, хотя бы на неделю, в конце сентября. Народ схлынет, жара спадет.
Перед тем как принять душ, он позвонил Рейчу. Телефон был выключен. Григорьев нашел на телефонном столике небольшой справочник, отыскал номер отеля «Марго» и узнал, что парочка явилась сегодня утром, что они сейчас отдыхают и просили не беспокоить. Портье принял и записал сообщение от Андрея Евгеньевича.
– Как вам ваша комната? – спросил Кумарин, когда они встретились в гостиной.
– Спасибо, все отлично.
– Живите на здоровье. Вы заслужили. И мне не так одиноко. Мое семейство укатило отсюда неделю назад. Пожелали провести остаток лета в Норвегии. Устали от жары. Сын увлекается северной рыбалкой, сейчас это модно. Какие у нас с вами планы на вечер? Вы успели поговорить с Генрихом?
– Пока нет. Надеюсь, мы все-таки встретимся завтра.
– Замечательно. Сейчас искупаемся, потом поедем ужинать в Вильфранш. Я уже заказал столик. Там лучший ресторан на всем побережье, знаменитый «Ла Мер». Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вам хотелось бы привезти сюда дочь. Вам без нее все это не в радость. Верно?
– Ну, не сюда, не к вам в гости. Но на побережье – да. Мне бы хотелось все это ей показать.
– А виллу приобрести не желаете? Здесь, на побережье, уже больше четырехсот вилл принадлежит гражданам России. Исключительно благородная, достойная публика. Они честно трудились и заработали себе место в раю, еще при жизни. – Кумарин сделал сладкое лицо и подмигнул: – Присоединяйтесь, милости просим. Отдыхали бы по соседству, дружили семьями.
– У меня нет таких денег, вы же знаете.
– Правильно. А почему? Потому, что вы никогда денежки не любили, вкуса и запаха их не знали и знать не желали. Ничего вы к ним не чувствовали, ни высокой страсти, ни низкой похоти. А из ничего и выйдет – ничего.
– Не любил, – грустно вздохнул Григорьев, – не чувствовал. Появлялись – тратил, исчезали – обходился малым.
– Ну-ну, продолжайте. Скажите что-нибудь вроде «зато сплю спокойно, зато совесть чиста».
– Не скажу, – Григорьев покачал головой.
– Почему?
– Сплю я плохо, и совесть у меня вовсе не чиста. И вообще, это глупый какой-то разговор. У вас тут красиво, мне очень нравится. Я вас, Всеволод Сергеевич, от души поздравляю, что вы так отлично устроились. И не осуждаю, не завидую. У каждого свои забавы. У Генриха его мальчик, у вас эта вилла.
– А у вас?
Григорьев улыбнулся и ничего не ответил
– Скромник вы наш, – покачал головой Кумарин, – нравится молчать, когда от вас ждут ответа. Нравится недоговаривать. С фотографиями, которые скомпрометировали Билли и огорчили ветеранов, вы ведь тоже поскромничали, далеко не все мне рассказали. Верно?
– Верно, Всеволод Сергеевич, верно.
– Почему такой тяжкий вздох?
– Потому, что часть задания, о которой я вам не рассказал, кажется мне совершенно бесперспективной. Все притянуто за уши. Билли хочет быстрых результатов. Ему надо, чтобы отправителя вычислил именно его человек, то есть я. Он уже решил для себя, что весьма удобно все свалить на Рейча, используя так называемый «франкфуртский след».
– Ну-ну, я вас слушаю.
Пришлось сесть и изложить все по порядку.
В ходе расследования трагедии 11 сентября были установлены имена девятнадцати исполнительней. Это оказались вовсе не мальчишки из нищих арабских семей, прошедшие ускоренный курс обучения в лагерях Афганистана или Ливана. Все девятнадцать камикадзе были людьми взрослыми, семейными, солидными, вполне благополучными. За большие деньги они учились летному делу во Флориде. Они основательно и гармонично вписались в американский образ жизни, они были «кротами», законсервированными агентами.
Двое из девятнадцати в сентябре 2000-го приехали в США из Германии. Один жил в Гамбурге, другой во Франкфурте. ЦРУ еще тогда, за год до катастрофы, получило информацию о том, что двое потенциальных террористов сменили место жительства, перебрались из Германии в США и поселились во Флориде. ЦРУ поделилось информацией с ФБР. Но сведения оказались слишком расплывчатыми. Мусульманская община в Германии насчитывает более двух с половиной миллионов человек. Большинство из них – простые иммигранты. Нельзя же подозревать в агрессивных намерениях всех лиц арабского происхождения и мусульманского вероисповедания!
В конце декабря 2000-го немецкие антитеррористические службы обнаружили во Франкфурте, в квартире тридцатилетнего алжирца, подозреваемого в торговле наркотиками, склад оружия. Химические препараты, документацию на взрывчатые вещества и видеокассету, на которой под протяжные мусульманские молитвы показывались красивые виды Манхэттена, включая южную и северную башни Всемирного торгового центра. Среди экспертов, смотревших кассету, был специалист по исламу. Он объяснил, что это молитвы воинов Аллаха, отправляющихся на бой с неверными. Но такая подробность никого не насторожила.
Арестованный во Франкфурте алжирец был частым гостем интернет-кафе, оно находилось в соседнем доме. И никто не придал особенного значения тому, что один из подозрительных арабов, переехавших в США из Франкфурта тремя месяцами раньше, тоже посещал это кафе не реже двух раз в неделю. Он расплачивался кредиткой. Его имя, Али аль-Шехни, просто промелькнуло в числе постоянных посетителей.
Только после 11 сентября 2001-го попытались кое-как связать воедино эти мелкие детали. К ним прибавилась еще одна, и получился странный, путаный и зыбкий узелок, который условно обозначили как «франкфуртский след».
При обыске квартиры во Флориде, где позже проживал Али аль-Шехни, среди прочих бумаг обнаружили дваномера журнала «Огненный меч».
Это был печатный орган немецких неофашистов, он выходил раз в месяц, тиражом не более тысячи экземпляров, на немецком и на английском языках, в розничную продажу не поступал, и подписка на него никогда не открывалась. В отличие от множества других изданий нацистского направления, содержащих лишь пропаганду и брань, «Огненный меч» был своего рода элитарным изданием. Там печатали всякую наукообразную мистику о космическом противостоянии высших и низших рас. Во Франкфурте было только одно место, где продавался журнал: маленький антикварный магазин на Вагнер-штрассе, принадлежащий Генриху Рейчу. На обратной стороне обложек обоих номеров имелся фирменный штамп этого магазина. И фотографию, которая скомпрометировала Макмерфи, приобрел именно Рейч, причем не у кого-нибудь, а у Карима.
– То есть Билли ждет от вас доказательств того, что старик Рейч напрямую связан с «Аль-Каидой»? – спросил Кумарин, дослушав до конца.
– Да.
– Боже, во что он вас втравил? Вы понимаете, как он вас подставляет? Нет, с его стороны это вовсе неглупый ход. Кто отправлял конверты, неизвестно, и, судя по тому, как долго длится расследование, мало шансов добыть точную, доказательную информацию. Можно считать рассылку конвертов преступлением?
– Вряд ли. Там же не было шантажа, ни один из снимков не появился в средствах массовой информации. Это вообще можно расценивать, как бескорыстную помощь комиссии в ее работе.
– Вот! А Билли между тем сильно пострадал от этой бескорыстной помощи. Да и его коллегам пенсионерам тоже пришлось пережить несколько неприятных минут. Их всех, и в первую очередь Билли, угнетает чувство неизвестности. Кто это сделал? Зачем? Им не понятны его мотивации, они не знают, чего от него ждать. Между тем Рейч – самая подходящая кандидатура на роль козла отпущения.
– Конечно, – кивнул Григорьев, – ему принадлежала большая часть снимков, он имел возможность выяснить домашние адреса. Впрочем, кто угодно имел такую возможность. Имена конгрессменов, вошедших в комиссию, известны. Имена ветеранов – тоже. В любом телефонном справочнике на территории США вы найдете их адреса, и в Интернете, если хорошо покопаться. Засекречен только домашний адрес Макмерфи. Его нет ни в каких справочниках. Но при желании можно узнать.
– И если, допустим, вы все-таки выясняете, что конверты – работа Рейча, этого будет мало?
– Ну, в общем, да, – пожал плечами Григорьев, – им этого будет мало. Они хотят доказать, что он действовал по заданию «Аль-Каиды». Сейчас каждый из них, сознательно или нет, чувствует, что в трагедии одиннадцатого сентября есть доля его вины. Они вырастили и воспитали монстра. И конверты – грубое, бестактное Напоминание об этом. Но есть шанс повернуть все иначе. Конверты отправил человек, связанный с врагами, чтобы внести смятение в ряды ветеранов, навредить им. Тогда все сразу встанет на свои места. Они опять почувствуют себя героями.
Кумарин нахмурился и несколько минут пребывал в мрачной задумчивости.
– Что вы собираетесь делать, Андрей?
– Для начала попробую выяснить правду. Если это вообще возможно.
– Допустим, отправлял конверты Рейч. Что дальше?
– Попробую узнать или хотя бы понять, зачем? Он ведь отошел отдел. Его интересует только Рики, авангардное искусство и коллекция. Перед тем как прилететь во Франкфурт, я навел кое-какие справки. Моя информация полностью совпадает с вашей. Пять лет к Генриху никто не обращался. Его методы устарели, сменилось поколение злодеев. Из тех, кто поддерживал с ним связь, одни погибли, другие в тюрьмах или в психушках. Террористы долго не живут.
– Макмерфи знает то, что вы сейчас сказали мне?
– Конечно. Более того, он это тщательно перепроверил через свои источники. Все именно так. Рейч чист. Если конверты отправлял он, я должен его замазать грязью.
– Каким образом?
– Через Рики. Мальчишка – наркоман, общается с разной нечистью. Это не составит проблемы.
– Ну так и замажьте. В чем дело? – Кумарин усмехнулся. – Вы же офицер и выполняете свой долг, верно?
«Я русский офицер, а не американский. И если я кому-то должен, то уж никак не Билли и его славным коллегам. Правда, моя дочь служит в ЦРУ, она вроде заложницы, и от этого мне никуда не деться».
– Ну что вы, Андрей? Что вы мучаетесь? Не так уж чист ваш Рейч. Тоже мне, ангел! Смешно, в самом деле. Ведь франкфуртский след действительно существует, у летчиков-камикадзе нашли номера «Огненного меча».
– У них много чего нашли, – грустно усмехнулся Григорьев, – летные инструкции, вахабитскую литературу, личные дневники. Слишком много всего сразу, в нужном месте, в нужное время…
Кумарин поднял палец и помотал головой.
– Минуточку! Мы говорим не о том, как есть на самом деле, а о том, что требуется доказать. Если Генрих Рейч связан с «Аль-Каидой», то заслуженных ветеранов и Уильяма Макмерфи с его помощью хотели скомпрометировать злейшие враги американского государства, что само по себе приятно и почетно для офицера ЦРУ. Билли честно выполнял свой долг, оставался мужественным и неподкупным борцом за святые идеалы демократии, и вот теперь враги хотят его оклеветать, очернить. В дальнейшем любые свои неприятности, ошибки, проблемы Билли может со спокойной душой списывать на злобные происки врага. Ну что вы на это скажете, Андрей Евгеньевич?
«А тебе что надо во всей этой истории ? Хотя бы раз в жизни ты способен сказать прямо, чего ты от меня хочешь ? Ты проглотишь мою информацию, переваришь ее, а потом дашь залп по какому-нибудь олигарху, министру, политику в России, или по какому-нибудь сенатору в Америке, или по тому же Билли, старому твоему сопернику, или по всем сразу. Ты пользуешься тем, что, кроме тебя, никто не знает правды обо мне. Ты единственный гарант моей честности. Ты сделал меня перебежчиком, предателем, двойным агентом. Раньше у меня оставалась иллюзия, что, работая на тебя, я работаю на Россию. Но теперь я совсем неуверен в этом».
– Пойдемте купаться, Всеволод Сергеевич, – сказал Григорьев, – я лет сто не плавал в море.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
В квартире Дмитриева было грязно и душно.
В раковине гора посуды. Холодильник открыт и оттаивал, наверное, дней десять.
Под ним стояла вонючая лужа.
«Надо было оставить девочку в больнице, – подумала Маша, – если уж стоило платить, так за то, чтобы оставили, а не за то, чтобы отпустили в этот свинарник. Зачем я вообще во все это влезла? И что мне теперь делать? Я не могу уйти. Беспомощный ребенок, нетрезвый бестолковый старик. А у меня, между прочим, свидание. Меня ждет Саня Арсеньев. Я ведь думала о нем, когда летела сюда? Конечно, думала. Это грело меня – простая и глупая надежда, что я могу еще раз встретиться с Саней Арсеньевым».
– Сергей Павлович, где же ваша помощница? – спросила она, оглядывая грязную унылую кухню.
– В деревню уехала, отдыхать. Скоро вернется и все здесь уберет.
– Как скоро?
– Ну, через пару-тройку дней. Да вы не волнуйтесь, Машенька, я справлюсь. Когда Вася была совсем маленькая, ее мне отдавали на выходные.
– Ладно, надо включить холодильник, разложить продукты. Тряпка где у вас?
– Я все сделаю. Вы помогите Васюше.
Маша вытащила из пакета зубную щетку, пасту и прочие мелочи, которые купила на всякий случай для Василисы. В ванной, увидев новую зубную щетку, девочка радостно закивала, оскалилась, пытаясь объяснить, что ужасно давно не чистила зубы. Попробовала зажать щетку в забинтованной руке, но не смогла. Из глаз у нее по, катились слезы, она задрожала.
– Вася, Вася, успокойся, я знаю, это очень противно – быть беспомощной, – сказала Маша, – зубы мы почистим, умоемся. Ожоги твои заживут. Ты заговоришь. Знаешь, чем хороши болезни? Тем, что они проходят. Нет ничего приятней, чем выздоравливать. Самые обычные вещи кажутся праздником. Хочешь, я тебе голову вымою? Ну, хочешь?
– У меня нет горячей воды! – крикнул из кухни Дмитриев.
– Вот какой отличный слух у твоего деда. У тебя гениальный дед, ты это знаешь?
. Василиса кивнула, а Маша прикусила язык. Ее слегка замутило от собственной фальшивой бодрости. Она так старалась уверить Василису, что все о'кей, что готова была спеть и сплясать, если понадобится. Василиса была чем-то похожа на нее, брошенную, дико напуганную девочку Машу Григорьеву, которая едва уцелела когда-то. И тоже ничего никому не могла рассказать.
– Ты ведь не одна поехала за город, верно? Почему же оказалась одна? Куда делись остальные? Я понимаю, ты можешь ответить только да-нет. Но еще ты можешь, допустим, моргнуть несколько раз. Давай попробуем. Сколько вас было? Четыре человека? Вместе с тобой? Там что-то случилось? Что-то страшное? Что-то очень страшное?
Задавая вопросы, получая немые ответы, Маша чистила ей зубы, умывала лицо, расчесывала волосы.
– Пожар начался не сам по себе? Кто-то поджег лес? Ты знаешь, где могут быть твои друзья? Когда тебя подобрали, ты почувствовала себя в безопасности? Нет? Очень интересно. Ну хорошо, а в больнице? Там тоже нет? А сейчас здесь? Нет? То есть ты чего-то боишься? Каких-то людей? Ты их видела? Нет? Только одного из них?
Пытаясь ответить на этот вопрос, Василиса подняла вверх правую руку, пошевелила пальцами под бинтами.
– Мы поменяем повязку, не волнуйся.
Девочка отчаянно замотала головой.
– Боишься, будет больно? Я аккуратно.
Маша почувствовала, что они перестали понимать друг друга. Василиса хотела ей сказать нечто важное, нечто такое, что нельзя сформулировать жестами. Глаза у нее были жуткие, уже без всяких слез, сухие и безнадежные.
– Ты устала? Хочешь отдохнуть? Нет? Хочешь сменить тему? Правда, мы ведь можем поговорить о чем-то другом. Можем поставить какой-нибудь фильм твоего дедушки. Это отличное лекарство. Нет? Ну ладно, ладно, я поняла, не надо так сильно мотать головой. Еще не хватало, чтобы ты вывихнула шею. Вот что. У меня есть знакомый, майор милиции. Как ты считаешь, стоит к нему обратиться?
Василиса кивнула. В дверях появился Дмитриев.
– Маша, я слышал, какие вы задаете ей вопросы. Вы считаете, такой сильный шок у нее не только из-за пожара?
– Пока не знаю. Мне так кажется. Хотя пожара самого по себе вполне достаточно, но там произошло еще что-то. Она была не одна за городом, их было четверо. Хорошо бы выяснить, где остальные.
– Как же можно, если она не говорит?
– Она хочет, чтобы мы ее поняли, мы попробуем еще. Это важно. Я права?
Василиса кивнула.
– Так пусть сюда приедет ваш знакомый майор, – сказал Дмитриев, – пусть этим займется наша доблестная милиция. Я им, конечно, давно не верю, но пусть попробуют. Он нормальный человек, этот майор? Вы за него ручаетесь? Не вор, не мерзавец? А то сейчас – знаете…
* * *
Арсеньев нашел тихий переулок, удобно припарковался и решил дождаться звонка в машине. Он не собирался домой. Он обещал Вите, что, если Гриша не появится до вечера, они поедут его искать. Теперь придется ехать. Конечно, о том, чтобы брать с собой Витю, речи быть не может. Арсеньев изучил карту, рассчитал, что, если выехать часа в три ночи, к рассвету он доберется до бывшего пионерлагеря. Потом можно поездить по окрестным деревням и дачным поселкам, поспрашивать, показать фотографии. Вдруг кто-то узнает, вспомнит. Но перед этим – Маша. Надо делать себе подарки хотя бы изредка, хотя бы раз в два года.
«А если она не позвонит? – думал он сквозь тяжелую дрему. – Ну и что? Я сам позвоню. Немного посплю и наберу номер. Я обязательно должен ее увидеть. Я заслужил. Пусть это ничем не кончится, пусть она исчезнет, но потом, позже, не сейчас».
Звонок разбудил его в половине двенадцатого. Маша назвала ему адрес, сказала, что все объяснит, когда он приедет.
«Она пригласила меня к себе? Да быть не может, – рассуждал Арсеньев по дороге, – что-то у нее произошло. Она была вместе с Рязанцевым на ток-шоу, но почему-то уехала оттуда раньше, с каким-то стариком. Она говорила о больнице, о дедушке и внучке. Надо было поймать Рязанцева и спросить. Господи, да что же я так волнуюсь? Два года ее не видел. И мог бы вообще никогда не увидеть. Купить цветы? Или это будет глупо? Если бы мы встретились в кафе, на улице, если бы она правда пригласила меня в гости…»
Он остановился у цветочной палатки и купил одну чайную розу. Долго думал, надо ли ее заворачивать в розовый целлофан с золотыми бантиками.
– Ну ведь колется же, господин милиционер, – сказала толстая молодая продавщица, ловко обернула длинный стебель, провела лезвием ножниц по золотым ленточкам так, что они закрутились спиралями. – Вашей девушке понравится.
«Моя девушка. Моя девушка Статуя Свободы. Офицер ЦРУ. Представляется американкой Мери Григ, отлично подделывает акцент, совсем легкий акцент. На самом деле она родилась в Москве, зовут ее Маша Григорьева, и пятнадцать лет назад она чуть не погибла, сиганула ночью из окна третьего этажа подмосковной лесной школы. А потом стала американкой Мери Григ. Почему – я не знаю. На самом деле она отравила мне жизнь. Два года я не могу ее забыть, не могу и не хочу завести себе какую-нибудь веселую непритязательную подружку. Мери Григ никогда не была и не будет моей девушкой. А Маша Григорьева?»
Квартира, в которую его пригласила Маша, находилась на третьем этаже известного в Москве «киношного» дома, фасадом смотревшего на Тишинскую площадь. Здесь жило много знаменитостей, но не сегодняшних, а вчерашних. Первый этаж со стороны площади заняли магазин эксклюзивной мебели и закрытый элитный клуб. Стоянка у клуба была ярко освещена и заполнена шикарными автомобилями. «Мерседесы», «Лексусы», прямоугольные джипы, которые в народе называют «гробами»… У машин топтались охранники, крупные и прямоугольные, как джипы, они терпеливо потели в черных пиджаках, курили, ждали хозяев, сегодняшних знаменитостей.
«Здесь отдыхают такие, как Вова Приз», – подумал Арсеньев, объезжая фасад и сворачивая во двор со стороны Среднего Тишинского переулка, прямо под кирпич. У второго подъезда он заметил черно-серый «Форд», в котором видел Машу в пробке на Шереметьевской улице. Рядом стояла черная маленькая «Тойота». Паркуясь, Арсеньев на минуту осветил обе машины дальними огнями. В «Тойоте», на водительском месте, сидел человек.
«Ну и что? Я тоже сегодня спал в машине».
Дверь открыл старик. Лицо его показалось Арсеньеву смутно знакомым.
– Дмитриев Сергей Павлович.
Арсеньев представился, пожал дрожащую слабую руку и вспомнил, что это знаменитый кинорежиссер. Вчерашняя знаменитость. Крашеные волосы. Слабый запах перегара и одинокой нездоровой старости.
Маша появилась из глубины коридора.
Два года назад, увидев Машу в загородном доме партийного лидера Евгения Николаевича Рязанцева, Саня в первый момент принял ее за мальчика-подростка, белобрысого, лопоухого, с тонкой шейкой. Волосы были подстрижены тогда совсем коротко. Теперь отросли. Она подколола их на затылке. Она стала другой, как будто даже чуть выше. Впрочем, нет. Тогда она носила свободные брюки, мягкие туфли на плоской подошве, а теперь была в босоножках на каблуках, в длинной, до щиколоток, свет лой юбке, в кофточке без рукавов. Она была такая красивая, что Арсеньев замер со своей чайной розой, шуршал целлофаном и не знал, что сказать. .
– Саня, – она шагнула к нему и поцеловала, – какой вы колючий, какой вы стали худой. Здравствуйте.
Он даже запах ее не забыл и вдохнул его, как первый глоток свежего воздуха, когда из города, из пробок и гари, вдруг попадаешь в лес. Голова закружилась. Он не решился поцеловать ее в ответ. Сунул ей в руки розу и сказал:
– Здравствуйте, Маша. Очень рад вас видеть.
* * *
Мобильный Рейча по-прежнему был выключен. Портье в гостинице сказал, что парочка час назад отправилась куда-то, что сообщение от господина Григорьефф он передал.
– Возможно, мы их встретим, —«казал Кумарин, – Вильфранш совсем маленький городок, ресторан прямо на набережной, у отеля „Марго“. Вообще, я не понимаю, что вы так беспокоитесь, спешите? Никуда они от вас не денутся. Вы ведь договорились на завтра.
Они сидели на диком пляже, под мягким закатным солнцем. Неподалеку от них расположилось шумное немецкое семейство. Самого маленького, почти новорожденного, в пухлом памперсе и кружевном чепчике, мать кормила грудью. На ней были тонкие, с блестками, трусики-бикини и ничего больше. На полном загорелом плече Григорьев заметил татуировку, какой-то иероглиф. Самый старый, вероятно прадед, лет девяноста, сухой, как мумия, в лиловых нейлоновых плавках, сидел на раскладном стульчике и улыбался солнышку, показывая белоснежный фарфор вставной челюсти. Отец семейства, здоровенный мужчина лет сорока, с жидкими волосами, длинными у затылка и короткими у лба и висков, стоял, широко расставив ноги, запрокинув голову, лил себе в рот пиво из запотевшей банки. Старшие дети, подростки, девочка и мальчик, громко перекрикиваясь и смеясь, играли в мяч в воде. Вокруг носилась с лаем рыжая пожилая такса.
– Что касается Приза, то ваша дочь знает о нем куда больше, чем я, – сказал Кумарин, укладываясь на живот и подставляя спину солнышку, – она больше года собирала о нем информацию.
– Не скромничайте, Всеволод Сергеевич, – улыбнулся Григорьев и закурил, – я думаю, биография племянника и единственного наследника генерала Жоры изучена вами от первого его крика в роддоме до сегодняшнего дня.
– Слишком много чести, – проворчал Кумарин.
– А как же дядюшкины миллионы?
– Там не наберется и пятисот тысяч. Хотя миллион был. Один.
– Куда же все делось?
– Генерал Жора мечтал о красивой старости и устроил ее себе по полной программе. – Кумарин поднялся, сел, глотнул минеральной воды. – Наворовал он прилично, это верно, но успел очень много потратить. Жрал икру ложками, пил самый дорогой коньяк из горлышка, содержал по три-четыре любовницы, дарил им бриллианты, шубы, автомобили, квартиры. В последние годы не вылезал из Монте-Карло, останавливался в лучших отелях, в королевских апартаментах. В казино мог за ночь проиграть до сотни тысяч. Видите ли, генерал Колпаков, конечно, очень любил своего племянника, но себя он любил больше. Племяннику отстегнул ровно миллион. Потом, после Жориной смерти, мальчику достались квартира, дача, мебель, пара неплохих автомобилей. А денежки, то есть то, что от них осталось, лежат в банке в Монако. Около пятисот тысяч. Хотя сейчас, в связи с переходом на евро, уже поменьше.
Сверху зазвенел колокольчик.
Немецкий мальчик выскочил из воды, подбежал к отцу, взял денег и рванул вверх.
– Мороженое приехало! – оживился Кумарин, поднял с камней свои шорты, выгреб горсть мелочи из кармана. – Вам купить?
– Купите, – кивнул Григорьев, – любое, на ваш вкус, только не шоколадное.
Тележка остановилась у дальней лестницы, на краю набережной. Кумарин сунул ноги в шлепанцы, отправился за мороженым. Оставшись один, Григорьев еще раз набрал номер Рейча. Телефон по-прежнему был отключен. Он хотел позвонить в Москву, Маше, сказать ей еще раз про перстень Отто Штрауса и вообще поговорить с ней.
Кумарин вернулся с двумя вафельными рожками. Андрей Евгеньевич нажал отбой, так и не успев набрать до конца длинный международный номер.
– Один шарик ванильный, другой фисташковый, – сказал Кумарин, протягивая Григорьеву рожок.
Несколько минут оба молча ели и смотрели на немцев, которые тоже ели мороженое, все, за исключением младенца.
– Наши, русские, вот так, семьями, на пикники не ездят, – заметил Кумарин, – а эти, французы, немцы, итальянцы, приезжают на выходные, ночуют прямо на пляжах. И холодильник у них, и мебель, и посуда в красивых корзинках. Тут, наверное, сразу четыре поколения. Эх, не надо было мне жадничать, купил бы сразу вместе с виллой и участком кусок пляжа. Сейчас не было бы здесь никаких немцев. Забор. Частная собственность. Ладно, может, еще и куплю. Ну вот, теперь руки липкие. А мороженое здесь отличное, не хуже нашего. Пойдемте купаться.
Кумарин встал, потянулся, звонко похлопал себя по крепкому волосатому животу, покрутил головой и плечами.
– Денег генерала Колпакова почти не осталось. И мемуаров тоже нет, – произнес он, когда они вошли в .воду, – только Приз есть. Маленькое наглое чудовище. А все прочее – мифы, мыльные пузыри. Все зыбко и неверно, как эти перистые облака.
Григорьев ничего не ответил. Он глубоко вдохнул, плюхнулся в воду и поплыл. Вода была пронизана насквозь последними лучами уходящего солнца. Немецкие дети доели мороженое и теперь барахтались у самого берега, брызгались друг в друга, шумно фыркая и хохоча. В брызгах вокруг них вспыхнула четкая мгновенная радуга.
– У меня внук, – с легкой одышкой произнес Кумарин, перевернулся на спину и уставился в небо, – две недели назад ему исполнилось четырнадцать. Зовут Сева. Всеволод, в мою честь.
– Знаю, – ответил Григорьев и тоже перевернулся на спину.
– Он ни в грош меня не ставит. Мы с ним чужие люди. Как будто с разных планет. Ему ничего не интересно, ничего не нужно, кроме компьютерных стрелялок, пары-тройки каких-то попсовых клоунов, которые ноют со сцены под металлическую музыку, и Вовы Приза. Его, этого Вову, он любит и уважает больше, чем меня, родного деда, больше, чем отца и мать. Он его фан, понимаете?
– Возраст такой. Пройдет, – попытался утешить Григорьев и подумал:
«Вот сейчас ты, возможно, говоришь правду. Сегодня тебя больше всего интересует именно Вова Приз. Ты считаешь, что он отнял у тебя внука. Ты пытаешься найти способ доказать своему внуку и таким же, как он, неразумным детям, что их божество – дерьмо. Ты можешь состряпать на этого актеришку любой компромат, посадить его, несмотря на депутатскую неприкосновенность, уничтожить. Ты можешь это сделать так, что поверит пресса, суд, чиновники в МВД и ФСБ, вся страна поверит, весь мир. Но тебе надо, чтобы поверил твой четырнадцатилетний внук. А это значительно сложнее».
Андрею Евгеньевичу вдруг стало лень разговаривать. Он вспомнил, что года три, а может пять или вообще неизвестно сколько, не лежал вот так, в теплой воде, расслабленно покачиваясь, глядя в небо. Франция, Германия, Польша, а там сразу Россия. Хочется домой. Господи, как жутко хочется на родину. Вроде бы отвык совсем, успокоился, но вот, оказывается, стоит посмотреть в небо, молча, хотя бы минуту, и такая тоска сжимает сердце, что сил нет терпеть.
– Маша сейчас в Москве, – донесся до него сквозь тихий плеск воды голос Кумарина, – тоже ведь из-за этого ничтожества. Изучает его, анализирует.
– Она занимается Рязанцевым, – вяло возразил Григорьев, перевернулся, нырнул, проплыл под водой несколько метров и вынырнул возле немецкого деда, который плескался у буйка в детских надувных нарукавниках и улыбался, как дитя.
– Гуттен таг! – сказал дед.
– Гуттен таг! – ответил Григорьев.
– Так,так,—эхом отозвался Кумарин,—давайте вылезать, уже девятый час. У нас столик заказан на девять, опоздать можно на пятнадцать минут, не больше. Между прочим, этому Божьему одуванчику было лет двадцать пять в сорок первом. Где он воевал, интересно, в каком был чине, сколько наших уложил?
– Спросите, – хмыкнул Григорьев, – вы же знаете немецкий.
– Сами спросите. У вас произношение лучше.
– Не буду, – Григорьев быстро поплыл к берегу.
– Почему? – Кумарин догнал его и поплыл рядом.
– Потому, что мне это совсем не интересно.
Они пошли вверх, по крутой лестнице, кряхтя по-стариковски. Внизу, на пляже, немецкое семейство готовилось к ужину. На мелкой гальке стоял раскладной столик, накрытый бумажной скатертью. Младенец спал в автомобильном детском стульчике. Мать, все такая же голая, закрепляла скатерть специальными скобками, как это делают в уличных кафе по всей Европе, чтобы не трепал ветер. Старший мальчик поплыл за дедушкой. Девочка сидела на корточках у холодильника.
– Как вы думаете, о чем я жалею? – спросил Кумарин, отдышавшись.
– Наверное, о многом, – улыбнулся Григорьев, – о юности, о первой любви, о том, чего вернуть нельзя. Может, о каких-то своих глупых словах и поступках.
Кумарин остановился, вытер лоб влажным полотенцем.
– Да, конечно. О глупых словах и поступках. О том, чего вернуть нельзя. И о тех, с кем больше не поговоришь. Ох, как я бы сейчас интересно поговорил с генералом Колпаковым! Обидно, что Жора никогда не узнает, как его драгоценный племянник распорядился половиной миллиона. Больно оттого, что мы с вами никогда не сумеем полюбоваться брезгливой мордой, которую скорчил бы генерал, узнав, что сделал с суммой пятьсот тысяч его племянник, и не послушаем отборный, искренний генеральский мат.
***
Арсеньев показал Василисе фотографию Гриши Королева и назвал его имя. Реакция была настолько бурной, что Маша подумала: вот, сейчас заговорит! Но нет. Василиса только заплакала. Двух других пропавших подростков она тоже узнала. Подтвердила, что они вчетвером отправились на ночь в бывший пионерлагерь «Маяк», на берегу реки Кубрь. – У нее на руке какой-то странный перстень, – сказала Маша, – когда я обрабатывала ожоги, она пыталась что-то мне объяснить. Мне показалось, это старинная штука. Белый металл, гравировка на печатке почти стерлась, я сумела разглядеть что-то вроде профиля в шлеме. Лупы у Сергея Павловича нет. А снять перстень с пальца пока невозможно. Палец – сплошной пузырь. Саня, посмотрите, вы должны хоть немного разбираться в антиквариате.
– Я в этом ничего не понимаю, – сказал Дмитриев, – но мне тоже кажется, это не ее перстень. Он мужской, грубый какой-то. Впрочем, мы долго не общались, не знаю, может, ей подарил кто-нибудь?
Василиса категорически замотала головой.
– Нет? Никто не дарил? – спросила Маша. – Опять отрицательный ответ. .
– Откуда же он взялся? Ну ладно, когда заговоришь, расскажешь.
«Папа спрашивал, не носит ли Приз на мизинце перстень, – вспомнила Маша, – тридцатые годы двадцатого века. Белый металл. Печатка. Генрих Птицелов. Но папа занят там совсем другими проблемами. Приз все время теребил мизинец, я еще подумала: наверное, привык носить кольцо на этом пальце. Почему вдруг папа спросил? Да что за бред, в самом деле!»
– При чем здесь перстень? – донесся до нее голос Арсеньева.
Он почти не слушал Машу. Он курил на кухне, пил крепкий чай и думал о том, стоит ли вызывать оперативную группу или все-таки сначала съездить одному? А вдруг там ничего нет, в этом лагере?
– Может, и ни при чем, – сказала Маша, – пока Василиса не заговорит, мы все равно не узнаем.
– А скоро она заговорит, как вам кажется?
– Афония – загадочная штука. До сих пор о ней точнo ничего не известно. Длится иногда несколько часов, иногда неделю, десять дней. Но может кончиться завтра. Если бы причина была только в ларингите, но тут еще нервный шок.
– Завтра утром я вызову врача, – сказал Дмитриев.
– Да, обязательно. И старайтесь разговаривать с ней как можно больше. Рассказывайте что-нибудь, читайте вслух. Не оставляйте ее наедине с этим.
Когда Маша с Арсеньевым уходили, Василиса спала.
– Саня, а зачем вы ездили в «Останкино»? – спросила Маша.
– Ловил после эфира одну знаменитость.
– Кого, если не секрет?
– Владимира Приза.
– Да что вы говорите! Надо же, как интересно. Вы допрашивали Вову Приза? Ну и как? Ой, погодите, Саня, вы что, работаете по убийству писателя Драконова?
Она как-то слишком быстро угадала. Вполне возможно, что нынешний ее приезд косвенно связан и с этим,
«Только не теряй голову, – напомнил себе Арсеньев, – не забывай, кто она. Голову не теряй, ладно?»
Они стояли в пустом ночном дворе и смотрели друг на друга.
– Вы там розу оставили, – сказал Саня.
– Ой, простите. Ну не возвращаться же. Надеюсь, Сергей Павлович догадается поставить ее в воду. Вы сейчас домой?
– Нет. Дело в том, что один из этих подростков, Гриша Королев, мой сосед. Я обещал его младшему брату съездить в бывший пионерлагерь.
– Вот почему у вас с собой фотографии. Я только не поняла, этих детей ищут или нет?
– Формально – да. Практически – пока нет. Вот я съезжу туда, попробую поискать.
– Что, прямо сейчас?
– Я обещал.
– Будете вызывать группу?
– Нет. Я просто посмотрю, что там творится, если потребуется – вызову.
– То есть вы едете один? Я с вами. Можно? Саня, ну что вы так на меня смотрите? – она тихо засмеялась. – У меня все равно бессонница, обычное дело, никак не привыкну к разнице во времени. А вы очень усталый. Ехать долго. Чего доброго, заснете за рулем. Раз уж я ввязалась в это дело, мне тоже хочется выяснить, что там произошло. И вообще, я, знаете, соскучилась.
– По мне?
–По нашим с вами ночным путешествиям. Помните?
– Еще бы.
– Ну вот, я ведь вам тогда, два года назад, пригодилась? И сейчас не помешаю.
– Маша, вы серьезно хотите ехать со мной? Зачем вам это? Там еще все тлеет. Там был жуткий пожар, и всякое может случиться. А вы на каблуках, в длинной юбке.
– Это не каблуки, а танкетки. Мы на вашей машине поедем или на моей? Лучше на вашей, моя все-таки казенная, из гаража посольства, к тому же номера дипломатические.
Шофер маленькой черной «Тойоты» спал очень крепко и проснулся, только когда заработал двигатель машины Арсеньева. Он увидел, как отчаливает незнакомый темно-синий «Опель». Поскольку его интересовал черно-серый «Форд», который остался на месте, он решил, что можно спать дальше.
* * *
Как только за Лезвием закрылась дверь, Приз схватил телефон и набрал номер корреспондентки глянцевого журнала. Номер она сама внесла в записную книжку его мобильного и пометила инициалами «М.Н.». Правда, он забыл, как ее зовут, но это неважно. Она мгновенно ответила, узнала его и ничуть не удивилась такому позднему звонку.
– Надо внести несколько уточнений в текст, – сказал он.
– Я еще не сделала распечатку, – в голосе ее прозвучало легкое смущение.
– Неважно. Принесите кассеты. Мы прослушаем, и я кое-что добавлю. Другого времени у меня не будет.
– Володя, вы хотите, чтобы я приехала прямо сейчас? – она сомневалась. Она не могла поверить такому счастью.
– Ну а когда же? Я сказал – другого времени не будет.
Пока она ехала, он принял душ. Проглотил две капсулы мощного мужского биостимулятора. Постоял перед зеркалом, разглядывая ранку от содранной родинки. Погасил верхний свет во всей квартире, оставил только слабые ночники. Все это заняло пятнадцать минут, не больше. Следовало как-то убить оставшееся время. Он плюхнулся в кресло, включил телевизор. Минут десять в диком темпе скакал по каналам. Ничего интересного. Про него, про Владимира Приза, нигде – ни слова, ни намека. За этот вечер его показали всего один раз, в ток-шоу вместе с Рязанцевым. Один раз, и все. Проехали. Как будто его не существует. Как будто может существовать мир без него.
Визг и вой эстрады, мрачное кокетство политических ком ментаторов. Треп ночных ток-шоу. Скажите, вы сильный человек? Ну, не знаю, в чем-то да, в чем-то нет. Скажите, а зачем вы вообще живете? Как к вам и к вашей работе относятся ваши близкие? Кто вам нравится из писателей? А из политиков?
Всего на минуту Приз застрял на культурном ток-шоу. Двое ведущих допрашивали модного художника. Он шмыгал носом и шевелил ртом так, будто что-то застряло между зубами. Ведущие без конца трогали себя, волосы поправляли, таращили глаза. Приз понесся дальше, сквозь колготки, прокладки, йогурты, страсти сериалов, шутки юмористов, сквозь дрожащий туман старого кино, сквозь назойливые тени и шорохи чужого бытия. Он стал нажимать кнопки с дикой скоростью. В глазах рябило, в ушах звенело. Ну ладно, пусть резвятся, болтают, поют, пляшут, совокупляются. Он все равно среди них, незримо и неотлучно. На сегодня он главная их фишка.
– Вы поняли, тупые животные? Я ваш брэнд! Я ваша фишка! Я ваше будущее! Я! Никуда вы от меня не денетесь! – пробормотал Приз и так шарахнул кулаком по подлокотнику, что стало больно. Очень больно. До слез.
Черная тоска душила его. Он тосковал по своему колечку.
Год назад, во Франкфурте, в маленькой подвальной комнате без окон, где хранил самые ценные экспонаты своей коллекции Генрих Рейч, Вова Приз только потрогал колечко, только на ладонь положил – и сразу понял: это его вещь. Он даже не стал торговаться, когда старый жадина загнул несусветную цену за перстень Отто Штрауса.
– Смотри,—говорил Рейч,—вот мундштук Кальтенбруннера, пенсне Гиммлера, вот кукла младшей дочери Геббельса, трехлетней Гайди, с которой она не расставалась до смерти. Малютку отравила собственная мать. Потрясающая женщина. Очень красивая худенькая блондинка. Тебе такие должны нравиться. Во всяком случае, Гитлеру Магда Геббельс очень нравилась. В Третьем рейхе вообще были удивительные дамы. Вот кожаная сумочка незабвенной фрау Керрль, супруги доктора Керрля, верного помощника Отто Штрауса в его научных изысканиях в Дахао и Освенциме. Единственный, уникальный экземпляр, ручная работа, пряжка из чистого золота. Как ты думаешь, дружок, чья эта кожа? Да уж, конечно, не телячья! Вероятно, детская, девичья. Потрогай, чувствуешь, какая она мягкая, нежная? Фрау Керрль – дама с высокими эстетическими запросами.
Женственный красавчик Рики был рядом, примерял мундир и фуражку с черепом, вертелся перед зеркалом,
Косился на Приза, губки облизывал, ресницами трепетал.
Рейч так увлекся, что ничего не замечал. Рики подмигивал Призу, корчил рожи и беззвучно потешался над Рейчем. Дело было вовсе не в кокетстве, не в любовной игре. Игра велась совсем другая. Глупый старый Генрих о ней не догадывался. Он показывал свою коллекцию и получал от этого огромное удовольствие.
Он открыл очередной футляр, потертый кожаный. Там, на вишневом бархате, лежала авторучка, слегка потрескавшаяся, но необычайной красоты, инкрустированная золотом и черным перламутром.
– Вот ручка Гейдриха. Этим золотым пером он подписывал в 1941 году директивы по тотальному уничтожению населения восточных территорий. Кстати, он никогда не использовал слова «уничтожение». Предпочитал употреблять другие термины: «фильтрование», «меры по оздоровлению». А вот осколок, извлеченный из селезенки Гейдриха, после того как на него было совершено покушение под Прагой, 27 мая 1942 года. Тебе интересно, дружок? – ласково спросил Рейч. – По глазам вижу, что да! А скажи, почему ты выбрал именно перстень Штрауса? Ты что-то знаешь о докторе? Читал? Слышал?
Когда Рейч задал вопрос, перстень уже был надет на левый мизинец.
– Он мне нравится, – сказал Приз, не утруждая себя другими объяснениями
– Доктор или его перстень? – с лукавой улыбкой уточнил Рейч.
– Они оба.
– Но доктор не был самой значительной фигурой в Рейхе. Смотри, у меня есть коробочка, в ней три зубочистки фюрера.
– Я хочу перстень.
Рики кивнул и восхищенно прикрыл глаза, показывая, что одобряет такой выбор. Рейч замер, замолчал, глядя на перстень, надетый на мизинец Приза. Потом поднял глаза и минуту смотрел на Приза, не моргая.
– О'кей. Шестьдесят тысяч евро. Поверь, дружок, на любом аукционе это стоило бы дороже. Правда, такие штучки не выставляются на торги.
Тяжелая, бронированная дверь хранилища захлопнулась. С тех пор Приз не расставался с перстнем, снимал его, только когда купался. Он полюбил этот кусок старой платины, как любят в детстве игрушечных мишек, как любят украшения, доставшиеся от прабабушек. Без перстня он чувствовал себя раздетым и беззащитным и сейчас не понимал, как жил без него раньше.
Без перстня все его детские комплексы, его истерики, его страх и жалость к себе возвращались, постепенно, с каждым вдохом. Оставшись без перстня, он как будто стал дышать другим воздухом, вредным и разрушительным для всего его организма. У него таяли силы, ломались ногти, на спине вскочило несколько крупных фурункулов. На расческе оставалось слишком много волос. Перестал работать желудок. Болел и плохо гнулся мизинец левой руки. Он сидел в полумраке, ждал журналистку, с бешеной скоростью переключал телеканалы, не замечая, что бормочет, напевает песенку про лютики-цветочки.
На одном из каналов мелькнули черно-белые, дрожащие кадры кинохроники. Приз остановился, не стал переключать дальше. Передним был Адольф Гитлер, живой, нестарый, энергичный. Вот он принимает парад, вот тянутся к нему сотни рук, сотни лиц, искаженных сладкой судорогой массового восторга. Слезы. Громовой крик приветствия.
За кадром звучал сдавленный, нарочито спокойный голос комментатора.
– Гитлер говорил такие глупости, такие банальности, что казался не то что ненормальным – нереальным, почти привидением. .
– Правильно, – кивнул Приз, вступая в диалог с экраном, – он и был нереальным, был, есть, будет. Совершенно неважно, что он говорил. Люди-лютики слов не слышат.
Кадр в очередной раз сменился. Теперь показывали бараки, ходячие скелеты в полосатых пижамах, их лица, их глаза, груды женских волос, детских горшков, игрушек и обуви. Группа офицеров в белых халатах не спеша проходила сквозь строй заключенных. Среди них мелькнула длинная фигура доктора Штрауса. Потом был показан обед в доме коменданта лагеря. Голос за кадром нервно комментировал меню. Приз не слушал. Он впился в экран. Там тянулась к блюду с овощами худая гибкая рука. На пальце тускло сверкнул платиновый перстень.
Зазвонил домофон. Приз отправился открывать журналистке, громко и хрипло напевая песенку про лютики.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
По заказу Кумарина русский скрипач в ресторане играл романс «Утро туманное». Всеволод Сергеевич застыл с трезубой вилкой над блюдом, на котором дымилась в кристаллической солевой корке крупная морская дорада. Он закрыл глаза. Губы его слегка трепетали, он неслышно напевал слова романса и помахивал рыбной вилкой в такт музыке. Скрипач стоял прямо над ними, едва не задевая быстрым локтем плечо Григорьева.
– Почему вы все время молчите? – спросил Кумарин, когда скрипач закончил, получил щедрое вознаграждение и отошел к другому столику.
– Я ем суп, – сказал Григорьев, – суп «Маринэ каприз» из морских гадов. О чем тут можно говорить?
– О том, как вам вкусно.
– Мне очень вкусно.
– Вы позвонили дочери, рассказали ей, что ее любимый Вова Приз купил перстень Отто Штрауса?
– Зачем?
– Ну-у, ей это было бы приятно услышать. Это в определенном смысле подтверждает ее смешную теорию о новом русском фюрере.
– Ничего это не подтверждает, – Григорьев сердито помотал головой, – из того, что Вова Приз купил перстень, который принадлежал ублюдку, палачу Отто Штраусу, вовсе не следует, что над Россией нависла угроза нацистской диктатуры. Из того, что Приз сумасшедший, вовсе не следует, что у него есть шансы прийти к власти.
Кумарин засмеялся, так громко, что на них стали оглядываться.
– Боже, Андрей! Эта ваша последняя фраза… Вы сейчас почти дословно повторили известное высказывание одного немецкого аристократа об Адольфе Гитлере. Он сказал это в тридцать втором году. Он был не глупее нас с вами. И он ошибся.
Убрали тарелки, торжественно, с бенгальскими огнями, подали десерт.
– К старости я стал сластеной, – сообщил Кумарин и цокнул ложечкой по прозрачной золотистой скорлупе из жженого сахара, которая покрывала шарик лимонного суфле, – Монако. Монте Карло. Ницца. Послушайте, как чудесно, как сладко звучит, даже если не знать, что это. Вроде бы просто слова, фонетические конструкции, но какое в них заключено счастье! Счастье непременно должно быть комфортным, с шелковым бельем, душистым мылом, с цветами в спальне и ванной комнате, с бесшумным автомобилем, с кондиционером, когда жарко, с камином, когда холодно. И обязательно с нежным легким десертом в конце ужина. Вы обратили внимание, какие изумительные здесь сумерки? Стены домов светятся изнутри, солнечный свет пропитывает камни. Другой вкус еды, другие запахи. Только здесь, во Французской Ривьере, я перестаю чувствовать неумолимое истечение времени. Мне шестьдесят пять лет. Позади сплошные воспоминания, скучные или страшные. Веселых почти нет. Назад оглядываться не хочется. И впереди ничего хорошего, только старость и смерть. Когда-то в пятнадцать лет я пытался покончить с собой из-за несчастной любви.
– Вы? – удивился Григорьев.
– Ну да, да. Я тоже человек, не автомат. Она танцевала на концерте в честь дня рождения Сталина, во дворце пионеров, и жила в бараке, в соседнем дворе. Тонкие руки, каштановые локоны, серые огромные глаза. Мать ее была дворничиха, отец пил. От нее знаете, чем пахло? Мокрым клевером. Это был ее природный запах. Представьте: пятьдесят второй год, я сын полковника НКВД. Она девочка из барака. Нам обоим пятнадцать. Один раз мы с ней поцеловались на чердаке, под воркование голубей и хлопанье крыльев. А потом она загуляла со шпаной, с уголовниками. Я сходил с ума. Вскрыл вены, улегся в ванну. Спасли. А она в итоге попала в колонию для малолеток и канула. Я навсегда запомнил запах мокрого клевера и, потом, это чувство – как безболезненно, мягко уходит из тела жизнь, и вода становится сначала розовой, потом красной. Вот так же в старости чувствуешь истечение времени. Медленно, неумолимо жизнь из тебя уходит. И ничего не остается. Скажите честно, Андрей Евгеньевич, вы ведь верите в то, чего нет? В Бога, в бессмертие души? Вам поэтому так легко стареть?
– Мне стареть совсем не легко. Радикулит, простата и прочие пакости, знаете ли. Ничего приятного.
Они уже закончили ужин, спустились к пляжу, прямо у ресторана. Григорьев курил, Кумарин произносил свои монологи и получал от них не меньшее удовольствие, чем от романса «Утро туманное», запеченной рыбы дорады и лимонного суфле.
Над городком кружили жирные чайки с подсвеченными брюшками. Ночью пылали такие яркие огни, что чайки словно фосфоресцировали изнутри. По пляжу ходил человек с миноискателем.
– Вот вам наше чудесное сегодня, – усмехнулся Кумарин, – каждую ночь здесь проверяют песок. Так просто в него зарыть какую-нибудь пакость. Бабах – и привет. Вы не ответили на мой вопрос. Впрочем, ладно, я и так знаю, что вы не атеист и для вас есть нечто за пределами биологического существования. Поэтому вы всегда такой спокойный и не жадный. А знаете, что ответил мне мой внук, когда я попытался поговорить с ним на эту тему? «Зачем мне думать о том, что будет после смерти, если я все равно не узнаю точного ответа, пока не умру?»
– Ну, он у вас умный мальчик, – улыбнулся Григорьев.
– Был. Пока не прибился к табунку фанатов Вовы Приза. А знаете, сколько стоила Вове любовь миллионов таких маленьких дурачков и дурочек, как мой Севка? Всего лишь пятьсот тысяч. То есть как раз половину денег, которые оставил ему дядя. Вот матерился бы генерал Жора, если бы узнал! Пятьсот тысяч долларов Вова вложил в собственный пиар. Он заплатил лучшему специалисту по раскрутке, господину Гапону. Он поставил на эту карту. Не все, но половину. И выиграл.
– Что выиграл? – тихо спросил Григорьев.
– То есть как – что? Славу, власть, любовь.
Человек с миноискателем подошел совсем близко.
Устройство, похожее на электрический полотер, тихо, жалобно пищало, мигало маленькой красной лампочкой.
Человек, кряхтя, присел на корточки и принялся осторожно разгребать песок лопаткой. Через минуту в руках его оказалась сплющенная ржавая жестянка из-под пива. Он рассмотрел ее при свете фонарика, прицелился и закинул в ближайшую мусорную корзину.
* * *
Судя по карте, до бывшего лагеря осталось не более двух километров. За рулем была Маша. Саня спал на заднем сиденье. Ночью они остановились всего один раз, на бензоколонке у кольцевой дороги, чтобы заправиться, купить в круглосуточном магазинчике какой-нибудь еды, воды. Маша заставила его пересесть назад. Саня снял ботинки, улегся, поджав ноги и мгновенно отключился, заснул так глубоко, что, когда проснулся от очередного прыжка на старой бетонке, не мог сообразить, где он и что происходит.
Уже рассвело. За окнами был страшный обугленный лес, какой-то инопланетный пейзаж. В зеркале он увидел усталые, припухшие глаза Маши – и подумал, что все это ему снится.
– Доброе утро, мы почти приехали. Только сумасшедмогут ездить по таким дорогам, – сказала Маша и не прикусила язык, подпрыгнув на очередной коряге. – Твой сосед Гриша сумасшедший. И что его сюда понесло? Ужас, а не дорога! Какая у них была машина, не знаешь?
– Погоди, о чем ты? Какая машина? – Арсеньев потер глаза, глотнул воды из бутылки. – Они ехали на электричке из Москвы, от станции шли пешком.
– Ты уверен?
– Я знаю совершенно точно, они шли пешком. Если только не поймали попутку… Но их было четверо, да и вряд ли кто-то согласился бы везти их в такую глушь. А почему ты спросила про машину?
– Я видела следы. Тут старая бетонка, в некоторых местах плиты совсем раскрошились, есть длинные куски суглинка. Хотя прошел ливень, кое-где остались следы покрышек. Вот, смотри, – она затормозила.
На суглинке отпечатался глубокий след колеса. В нем стояла вода.
– Надо было вызвать группу, – проворчал Саня.
Он вылез из машины, присел на корточки. По ширине колеи и рисунку протектора можно было определить, что проехала небольшая, но тяжелая машина, скорее всего, «Газель». Следы передних колес обычно перекрываются следами задних. Понять направление сложно.
– Они подпрыгнули на коряге, потом резко вдавились в этом месте, – сказала Маша, – они были тяжелее нас. Ты думаешь, профессиональный трассолог определил бы марку машины, направление и время, когда они проехали?
– Нет. Но он бы сделал слепок рисунка протектора.
– Ну да, да, конечно, – Маша поморщилась, тряхнула головой. – Василиса пыталась объяснить, что в лагере был кто-то, кроме них. Кстати, ты знаешь, тут рядом есть замечательное место. Дачный поселок Временки, который в советское время принадлежал ВВС. Дачи высшего командного состава.
– Это ты к чему?
– Вчера, до начала эфира, когда показали сюжет о лесных пожарах и Василису в больнице, я заметила, что Вова Приз очень напрягся. В гостиной было много народу, огромный экран, громкий звук. Но на сюжет отреагировали только два человека. Дмитриев – поскольку узнал свою внучку. И Приз. Теперь я поняла, почему. У него дача неподалеку. Покойный дядя, генерал Колпаков, в свое время выкупил дом и участок у Министерства обороны и оставил Вове. Приз напрягся потому, что испугался за свою дачу.
«Ого, офицер Григ, вас эта знаменитость очень интересует, – язвительно заметил про себя Арсеньев, – вы наблюдали за ним и потом пытались анализировать его реакции. От меня вы этот свой интерес не скрываете. Ладно, спасибо за доверие».
Маша достала зеркальце, расческу. Лицо ее было бледным, за ночь косметика стерлась. Так она выглядела моложе, беззащитней и нравилась Сане еще больше. Так она из офицера ЦРУ Мери Григ, с которой следовало быть осторожным и держать дистанцию, превращалась в Машу Григорьеву, с которой они незаметно перешли на «ты».
Держать дистанцию казалось глупо, и осторожность была нужна лишь затем, чтобы ненароком не обнять ее, не поцеловать, не прижаться лицом к ее светлым мягким волосам.
– Полей мне водички на руки, я хочу умыться, – сказала она и открыла бутылку.
Они умылись по очереди минеральной водой. Саня поднял глаза и увидел совсем близко ее влажное лицо, бледные губы, слипшиеся темные ресницы. Они были одни в мертвой тишине утреннего обгоревшего леса, и оба понимали, что их может ждать на территории заброшенного лагеря. Живых они там вряд ли найдут. При мысли о том, как выглядят люди, погибшие в огне, Саню слегка затошнило.
– Я надеюсь, если придется кого-то вызывать, то не только оперативную группу, но и «скорую», – сказала Маша, – я очень на это надеюсь. Времени прошло мало. Допустим, кто-то из них ранен. Здесь река Кубрь. Ты говорил, твой сосед студент-медик. Он мог догадаться, что единственное место, где есть шанс спастись от огня, – это вода. Прежде всего, надо будет подойти к реке.
– Да, конечно. Гришка умный, он мог догадаться. Я тоже надеюсь…
Саню невозможно тянуло к ней, он избегал смотреть ей в глаза, словно был виноват в чем-то. Она достала пачку бумажных носовых платков. Он ждал, что она притронется к нему, сама промокнет капли на его щеках. Тогда он взял бы ее руку и осторожно, чтобы не уколоть своей двухдневной щетиной, поцеловал в ладошку. Но она просто дала ему платок и сказала:
– Все. Надо ехать.
Она была ясная, легкая, но при этом какая-то непроницаемая. Он не понимал, не мог представить, что она чувствует к нему и как отреагирует на проявление нежности. Время таяло, драгоценное время, пока она здесь, пока не улетела навсегда.
Он сел за руль, она рядом. Оставшиеся пару километров их так трясло на колдобинах, что говорить было невозможно. Наконец показались обрушенные столбы ворот, дорога стала лучше. В приоткрытые окна повеяло приторной гарью. Прямо перед ними было черное от копоти чудовище, остатки гипсовой скульптуры девушки с мячом. Дальше виднелось несколько строений, обгоревших, безобразных.
Машину оставили на открытой спортивной площадке. Отправились к реке. Там было также пусто, тихо, мертво. Никаких следов на маленьком пляже не осталось. Песок был изрыт ливнем. Но воздуху реки казался чище, дышалось значительно легче.
– Давай ты подождешь меня здесь, – сказал Саня, – там еще все тлеет, может какая-нибудь доска на голову свалиться. Если что, свяжемся по телефону.
– Здесь нет сети, – Маша показала ему экранчик мобильного.
Саня достал свой телефон. У него сеть тоже пропала.
– Представь, каково мне будет торчать здесь и ждать тебя, в одиночестве и полной неизвестности, – сказала Маша.
Только сейчас Саня понял, насколько безумной была вся эта затея. Обыскивать обгоревшие развалины, которые еще тлеют, вдвоем с Машей, не имея ничего, кроме карманного фонарика, опасно и бессмысленно. Куда разумней было бы отправиться сразу в деревню Кисловка, поговорить с фельдшерицей, подобравшей девочку, с участковым, потом явиться в Лобнинское УВД, потребовать специальную бригаду. Они бы дали, как миленькие. В крайнем случае, он бы позвонил Зюзе в прокуратуру. Однако раз приехали, надо хотя бы посмотреть. Надо сделать все возможное, и будь что будет.
Они захватили из багажника маленькую саперную лопатку. Ею ворошили головешки в корпусах. Чем больше ходили по пепелищу, тем яснее оба понимали, что пожар начался не сам по себе. Электричества тут давно нет. Огонь от леса не мог перекинуться на старые корпуса, расстояние слишком большое. Почва —суглинок, осталось много бетона и гравия на дорожках, на площадке, где когда-то проходили пионерские линейки. Корпуса у леса вообще не горели. Собственно, это не корпуса, а развалины, но огонь их не коснулся.
Более всего пострадал самый дальний корпус, за которым была широкая поляна. Именно он, судя по всему, и стал очагом возгорания. От него практически ничего не осталось.
– Группа нужна, группа, – ворчал Саня, ступая по обгорелому мусору, – эксперт-криминалист, трассолог, пожарники. Мы можем только напортить, уничтожить следы. Надо кончать эту самодеятельность и вызывать группу.
Он поддел лопаткой то, что когда-то было матрацем, приподнял и увидел кроссовку, совершенно целую, новенькую, тридцать седьмого размера. Внутри – аккуратно скрученный красный носок. Он присел на корточки, хотел позвать Машу, чтобы она помогла поднять матрац целиком. Но тут услышал ее глухой, сдавленный крик.
Маша стояла в углу, возле горы головешек, и указывала на какой-то круглый черный предмет. Она прижала ладони ко рту и застыла так, не говоря ни слова. Саня взял ее за плечи и почувствовал, что она дрожит. Он уставился на шар, покрытый черной коркой. Он понял, что это обугленная голова, когда заметил провалы глаз, нос, дыру рта, шею и рядом – скрюченную, поднятую вверх черную руку. .
* * *
Четыре года в театральном училище не прошли для Приза даром. Он научился владеть собой. Когда явилась к нему смущенная, вся мягкая и томная журналистка, он подыграл ей великолепно. С первых ее слов, с первых взмахов накрашенных ресниц он понял, что никаких акробатик, ничего интересного не будет. Она, хоть и примчалась к нему в квартиру в полночь, все равно хочет от жизни одной лишь кислятины, которую у таких дам принято называть «теплом и нежностью». Ей, стареющей зябнущей собачонке, нужны пристальные взгляды, намеки, полунамеки, свечи, мокрый шепот в ушко, и только, когда будет честно отыграна нудная вступительная часть, последуют пятнадцать минут традиционного секса, почти такого же нудного.
В постели она благодарно повизгивала и закрывала глаза. А потом рыдала, припав лицом к его плечу. Было мокро и смешно. Но он не смеялся. Он гладил ее жесткие, крашеные волосы, называл «малышом» и «зайчонком». На плече остались разводы туши, он долго, брезгливо тер их намыленной губкой, когда отправился в душ. Потом он сам сварил кофе, кормил голую корреспондентку мороженым с ложечки, она кормила его и говорила, говорила. Ей хотелось нежности и тепла. Она жаждала излить душу, рассказать, как жесток мир, сколько вокруг цинизма, как мало осталось чистого и светлого.
– Да, – согласился он, – мы перестали быть людьми. Куда мы все катимся? Сегодня на ток-шоу я встретил своего бывшего учителя, гениального режиссера Сергея Павловича Дмитриева.
– Ты учился у Дмитриева? – она поцеловала его в мочку уха.
– Ну, в определенном смысле все сегодняшние актеры и режиссеры учились у Дмитриева. А сейчас старика совсем забыли. Он одинокий, запущенный какой-то, попивает.
– Да, он давно ничего не снимал, – она прижалась щекой к его ключице.
– Неважно. Он достаточно снял, чтобы его помнили многие годы. Но ты знаешь, за последние десять лет ни одного серьезного интервью. А ведь ему есть, что сказать.
– Конечно! Можно сделать отличный материал. Я поговорю с главным редактором, – она потянулась за сигаретой, – я обязательно возьму у Дмитриева интервью. Пусть попробуют вякнуть, что он уже давно не звезда, я им такое устрою! Слушай, а если побеседовать с ним о тебе? Ну, как бы объединить два материала. Это отличная идея! Правда, тогда придется немного сократить твой текст, но зато не надо убеждать главного. На такой вариант он пойдет с удовольствием.
–Умница, – он дал ей прикурить, – ты настоящий профессионал. Но обо мне с Дмитриевым говорить не надо. Во-первых, старик достоин отдельного разговора, а во-вторых, сейчас проблема в другом.
Он сделал паузу, обнял ее за плечи. В зеркале он заметил ее млеющее, мятое лицо, встрепанные волосы. Она не относилась к тому типу женщин, которые после секса хорошеют. Она выглядела значительно хуже, чем пару часов назад, когда переступила порог его квартиры, ухоженная, со свежим макияжем. Сейчас она казалась пожилой транзитной пассажиркой после нездорового сна в плацкартном вагоне.
– Я не знаю, как быть. Мне надо с тобой посоветоваться, – сказал он, отвернувшись от зеркала.
– Да, да, родной, я тебя слушаю.
– Сегодня в «Останкино», перед началом ток-шоу, пока мы ждали эфира, в гостиной работал телевизор. В криминальных новостях показали сюжет о девочке, которую нашли где-то в Подмосковье, в районе пожара. Ее снимали в больнице, она была в ужасном состоянии. Сильные ожоги, истощение. И представляешь, Сергей Павлович узнал в ней свою внучку!
– Ой! Надо же! – оживилась корреспондентка. – Слушай, это ведь эксклюзив! Конечно, не для нашего журнала, но для какой-нибудь газеты, для телесюжета – просто класс!
– Погоди, – Приз поморщился, помотал головой, – мы только что с тобой говорили, как ужасен нынешний глобальный цинизм. Не надо газет, не надо телевидения. Пойми, там настоящая человеческая беда. Сергей Павлович сразу помчался к внучке в больницу. Он успел сказать, что родители ее сейчас за границей. В гостиной была суматоха, до эфира несколько минут, администратор бегала, кричала, что всем пора в студию. В общем, сейчас ситуация такая. Девочка у Сергея Павловича, он из больницы ее забрал. Он живет один, с деньгами плохо. Конечно, ему понадобится помощь. Какая-нибудь сиделка и хорошие платные врачи для внучки.
– Ну, так позвони ему завтра утром. В чем проблема? Телефон его я узнаю через редакцию. Приз печально покачал головой.
– Денег он не возьмет ни за что, ни у меня, ни у кого. Он очень гордый человек, старой закалки. К тому же у нас с ним когда-то случился дурацкий конфликт, он хотел снимать кино, приглашал меня на главную роль, а я был занят, отказал ему, старик обиделся смертельно. Так что на меня лучше вообще не ссылаться. У меня есть знакомая, профессиональная сиделка, со средним медицинским образованием. Она дорогая, но очень надежная и толковая. Я хочу, чтобы она поработала у Сергея Павловича. Он будет платить копейки, а я – все остальное.
– Господи, Володенька, как ты все усложняешь, – корреспондентка вздохнула и поцеловала его в нос, – да если ты позвонишь ему завтра утром и предложишь эту твою сиделку, он счастлив будет! Ты заранее с ней договоришься об оплате, вот и все.
– Нет! Он не примет от меня никакой помощи, я его знаю! Да и неловко мне ему звонить. Вот если ты позвонишь ему, скажешь, что хочешь взять у него интервью для твоего журнала…
– Что, прямо завтра? – она сдвинула брови, отстранилась, взглянула на него удивленно.
– Ну да, завтра утром. Тянуть нельзя. У меня есть старый справочник Союза кинематографистов, там его телефон. Ты приедешь, такая молодая, красивая, очаруешь его, увидишь его больную внучку, порекомендуешь сиделку. И все будут довольны.
Несколько секунд она молчала. Лицо ее стало серьезньш и озадаченным. Приз слегка занервничал, быстро пролистал в голове фразу за фразой. Мог он себя чем-то выдать в этом разговоре? Почему она так долго молчит? Что ей показалось странным? Не слишком ли далеко он зашел в своем альтруизме?
– А ты уверен, что он пригласит меня сразу домой, а не назначит встречу, допустим, в Доме кино? – спросила она задумчиво.
Вопрос был вполне разумный.
– Можно подстраховаться, сказать, что тебе нужно именно домашнее интервью, со съемкой в непринужденной обстановке.
– А если материал не пойдет? Может получиться ужасно: я возьму интервью, его не напечатают. В любом случае, надо приезжать с фотографом, а никто из наших бесплатно работать не станет.
– Вот интересно, – пробормотал он, – почему, когда надо сделать что-то хорошее, помочь двум беспомощным людям, старику и больной девочке, сразу возникает столько странных сложностей? Ну не напечатают интервью, и черт с ним! Дело же не в этом! У меня есть фотограф, он поедет с тобой и поработает бесплатно.
– Есл и я буду с чужим фотографом, в наш журнал этот материал точно не пойдет.
Ему захотелось выругаться и ударить ее. Но он сдержался. Он не сказал ни слова, встал и вышел из комнаты. Она окликнула его, но он не обернулся. На самом деле он просто отправился в душ, но получилось весьма эффектно. Уже через три минуты она робко скреблась в дверь ванной комнаты.
– Володенька, – услышал он сквозь шум воды ее жалобный, виноватый голос, – я позвоню завтра утром, я все сделаю, как ты хочешь!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Андрей Евгеньевич дозвонился наконец на мобильный Рейча.
Трубку взял Рики. Судя по голосу, нежная детка еще не совсем проснулась.
– А, это вы, князь? – спросил он с тошнотворной томностью. – Генрих принимает ванну. Он просил передать, что вряд ли сможет сегодня поужинать с вами. Он плохо себя чувствует. Вчера перегрелся на солнце.
– Возможно, к вечеру ему станет лучше. Я позвоню чуть позже, – сказал Андрей Евгеньевич и хотел положить трубку, но тут до него донесся истерический вопль:
– Они опять здесь! Они давят, душат меня! А-а! На помощь!
– Извините, – нервно прошептал Рики и бросил трубку.
Григорьев не сомневался, что кричал Рейч. Он повторил вызов. Телефон был отключен. Он набрал гостиничный номер. Никто не ответил. Он позвонил портье и спросил, у себя ли сейчас господин Рейч.
– Да, месье. С утра ни он, ни его молодой друг из номера не выходили.
– Вы не могли бы проверить, все ли там в порядке?
– Простите, месье, кто вы?
– Я приятель господина Рейча. Моя фамилия Григорьев. Мы с господином Рейчем договорились поужинать Сегодня. Я только что звонил на его мобильный, подошел его молодой друг, и мне показалось, там были крики.
– Хорошо, месье. Куда вам перезвонить?
Григорьев назвал номер. Перезвонили ему через пять минут.
– Месье, мы проверили. Все нормально. Месье Рейч и его молодой друг отдыхают у себя в номере. Оба чувствуют себя хорошо, никаких криков никто не слышал.
– Благодарю вас, месье.
Григорьев вышел на балкон, закурил.
– Что случилось? Генриху дурно? Его мальчик ввязался во взрослую игру? – прозвучал рядом громкий насмешливый голос Кумарина.
Андрей Евгеньевич перевесился через перила и увидел внизу, на террасе, хозяина виллы в шелковом китайском халате, с запотевшим стаканом в одной руке и телефонной трубкой в другой.
– Простите, я нечаянно подслушал ваш разговор. Телефон затренькал, а я жду звонка. Спускайтесь, позавтракаем вместе, обсудим, как быть с мальчонкой, или с девчонкой – кто он там на самом деле, этот Рики?
Горничная Клер накрывала стол в гостиной. Кумарин завтракал поздно и красиво. На столе была белоснежная скатерть, блюдо с тончайшими ломтиками копченой семги, ананас, два сорта дыни, мягкие сыры, поджаренный диетический хлеб.
– Отелю лет триста, – грустно произнес Андрей Евгеньевич, усаживаясь в соломенное кресло, – стены толстенные, всюду ковры. Из-за жары окна и балконные двери закрыты, кондиционеры работают. Понятно, что крика никто не услышит. Знаете, что там происходит? Мальчонка сажает Генриха на иглу. У старика наркотический бред, галлюцинации.
– Ну-ну, перестаньте. Может, он просто напился.
– В двенадцать дня? В такое пекло? У него высокое давление, он почти не пьет.
– Вам жалко старого пройдоху? – усмехнулся Кумарин и поднял запотевший стакан со свежим апельсиновым соком, призывая чокнуться.
Стаканы тихо звякнули.
– Я должен получить от него информацию, – сказал Григорьев. – Ну и к тому же, правда, мне жалко Генриха. Он пройдоха, мерзавец, но умный. Жалко, когда разрушается такой мощный интеллект.
Вошла горничная с кофейником.
– Если фокус со снимками – это все-таки работа Рейча, то интеллект его начал разрушаться давно, и жалеть уже не о чем, – задумчиво произнес Кумарин, наблюдая, как льется черный кофе в белоснежную чашку, – я бы понял, если бы он потребовал у них денег или продал снимки прессе. Но он, видимо, хотел кому-то что-то доказать. А это не говорит о высоком интеллекте.
Фарфор был тонкий, почти прозрачный.
– У вас здесь есть возможность пустить за ними наружку? – спросил Григорьев.
– Дороговато, – поморщился Всеволод Сергеевич, – но в принципе можно. Скажите, Клер, – обратился он к горничной по-французски, – вы знаете кого-нибудь, кто работает в отеле «Марго»?
– Да, месье.
– Замечательно. У меня к вам большая личная просьба.
– Я слушаю, месье.
– Дело в том, что в этом отеле отдыхает сейчас наш старый приятель. Он немец, гомосексуалист, приехал сюда со своим юным другом. Мальчик – наркоман, темная личность. А наш приятель – человек пожилой, не совсем здоровый и романтически доверчивый. Мы с месье Григорьевым беспокоимся.
– Да, месье. Что конкретно вы хотите знать?
Ни тени удивления не мелькнуло на аккуратном круглом лице горничной. Кумарин вопросительно взглянул на Григорьева. Клер поставила кофейник и застыла в ожидании ответа.
– Как они провели вчерашний день, сколько времени находились в гостинице, уезжали куда-нибудь и если да, то надолго ли? Ходили на пляж? Что они делают сейчас? – медленно, неуверенно сказал Андрей Евгеньевич.
– Я поняла, месье. В каком они живут номере?
Григорьев назвал номер. Клер удалилась. Тихо звякнул телефонный аппарат. Она звонила из соседней комнаты.
– Вы ешьте, ешьте, пока нечего волноваться, – вполголоса, по-русски, произнес Кумарин и расправил вилкой ломтик семги на поджаренном хлебе. – Да, вы так и не сказали, что за крик вы там услышали? Вы вообще уверены, что кричал именно Рейч? С чего вы взяли, что у него галлюцинации?
– Он кричал: они опять здесь, они меня душат. Он звал на помощь.
– Странно, что вы сразу не помчались его спасать. А может, он просто свихнулся от долгого общения со своей коллекцией ужастиков?
Григорьев покачал головой.
– Рики – наркоман. Когда я в этом убедился, я понял, что он рано или поздно посадит Генриха на иглу. При таком сожительстве нет иных вариантов.
– А знаете, – задумчиво произнес Кумарин, – я не был слишком близко знаком с Рейчем, но мне почему-то всегда казалось, что ему не суждено умереть естественной смертью. Его либо убьют, либо он покончит с собой. В принципе, то, что происходит с ним сейчас, – медленный суицид. Медленный и, наверное, для него сладкий. В его выборе есть нечто изысканно-порочное, я бы сказал, нечто древнеримское.
– Глупость есть в его выборе, – Григорьев сердито помотал головой, – глупость, беспомощность, стариковский страх одиночества.
В гостиную бесшумно вошла Клер. Лицо ее оставалось непроницаемым. Она заговорила четко, как автоответчик.
– Вчера утром, после завтрака, ваш приятель и его молодой друг ездили на такси, вероятно, в Ниццу. Отсутствовали около трех часов. Вернувшись, закрылись в номере. В десять опять уехали на такси. Вернулись в половине третьего ночи. Ваш приятель был бледен, еле держался на ногах. Его молодой друг выглядел и вел себя вполне нормально, только смеялся чуть громче, чем это прилично в такое позднее время. Утром, когда горничная принесла завтрак, дверь долго не открывали. Открыл молодой месье, совсем голый, взял поднос, в номер горничную не пустил. В данный момент два месье занимаются сексом.
– Благодарю вас, Клер, – важно кивнул Кумарин.
– Не за что, месье. Вы хотите, чтобы наблюдение было продолжено?
– Да, пожалуйста.
– Как долго вы будете интересоваться этими двумя месье? .
– Пока не знаю Два-три дня.
– Хорошо. Хочу заранее предупредить, что если вы будете платить сразу за неделю, то в день получается дешевле.
– Я понял. Думаю, завтра или даже сегодня к вечеру мы более точно определимся со сроками. Вы можете идти.
Она царственно удалилась, прихватив с собой пустое блюдо из-под семги.
– Ну что, Андрей Евгеньевич, как долго мы с вами будем интересоваться двумя месье, которые в данный момент занимаются сексом? – пробормотал Кумарин по-русски, давясь смехом. – Песня, а не женщина! Ее старший брат работал в полиции, теперь имеет маленькое детективное агентство. Слушайте, а ведь это правда вылетит в копеечку. Даже со скидкой получится не меньше пятисот евриков в сутки.
– Надо выяснить точную сумму и номер банковского счета агентства, – пожал плечами Григорьев, – остальное – проблема Билли. В крайнем случае, он покроет эти непредвиденные расходы из своего кармана.
– Правильно, – кивнул Кумарин, – пусть раскошелится. Но мне кажется, все это бессмысленно. В принципе, две основные версии у вас уже есть. Первая, удобная для Макмерфи: снимки отправлял сам Рейч. Реальный мотив – напомнить о себе, остаться в информационном поле, доказать ребятам из ЦРУ, что они плохие ребята. Идеальный для Макмерфи мотив – заказ «Аль-Каиды», месть террористов доблестным бойцам демократии. Версия вторая: снимки выкрал либо выкупил у Рики и разослал Вова Приз.
– Зачем? – тихо спросил Григорьев.
– Вы же сами первый высказали эту версию. Вы просили меня рассказать об этом персонаже все, что мне известно.
– Ну да, конечно. Вот и рассказывайте. Я слушаю.
– Он слушает! – хмыкнул Кумарин. – Слушает и мотает на ус. Андрей, вам не кажется, что мы с вами сейчас в жмурки играем? Два старых дурака с завязанными глазами шарят руками по воздуху, натыкаются на всякие волшебные перстни и привидения и сами не знают, кого хотят поймать. Ладно. Вот вам версия номер два. Сейчас Вова всего лишь рекламный брэнд партии «Свобода выбора». Никакой реальной власти у него нет. У него нет даже права голоса, и не будет, пока лидером остается Рязанцев. Именно в Рязанцева вкладываются американские деньги, и за этим стоит Билли Макмерфи. Рязанцев его человек. Он вырастил, выкормил этого демократического лидера, он вместе с Хоганом создал лобби в российском парламенте. И будет поддерживать свое детище до последнего. Но если Рязанцев лишится этой поддержки, он слетит. Без американских денег он никому не нужен. Он слабый, вялый, нездоровый. Вряд ли новое руководство русским сектором ЦРУ захочет оставить Рязанцева лидером. Потребуется свежий человек. А тут как раз Вова, такой молодой, сильный, такой популярный.
– Вы думаете, в головенке этого мачо могла сложиться такая причудливая комбинация? – спросил Григорьев. – Откуда ему знать, кто такой Макмерфи?
– Ну, это не сложно. Вова дружит с начальником службы безопасности Рязанцева, с человеком, которого все называют Егорыч. Этот Егорыч отлично знает, кто такой Макмерфи. Да и генерал Жора был знаком с Билли, еще по Афганистану. Они встречались, но, разумеется, не дружили.
– Вот как? – Григорьев удивился и слегка напрягся. – В таком случае история с мемуарами Колпакова и с убийством Драконова должна была Билли заинтересовать. Но мы с ним вообще не обсуждали это.
– Ой, перестаньте, – махнул рукой Кумарин, – Билли сейчас интересуют только его вынужденный отпуск и возможная отставка. Для него все отошло на второй план, даже проблемы с Рязанцевым. Да, кстати, вы знаете, вчера ваша дочь удрала с ток-шоу, на котором должна была морально поддерживать Рязанцева. Там и Приз выступал, очень ярко, успешно, как всегда. Рязанцев на его фоне выглядел бледно.
Григорьев застыл с куском ананаса на вилке. Кумарин выразительно пошевелил бровями.
– А что вы так заволновались? Там кому-то из гостей стало плохо перед эфиром, и ваша дочь на своей машине повезла его в больницу.
– Кого – его? – спросил Григорьев, хрипло откашлявшись. – Почему именно Маша? Она что, «скорая помощь»?
– Понятия не имею. Вам же не нравится, когда мои люди ведут ее в Москве. Вы не желаете получать от меня информацию. Вот, чтобы вас не обижать, никакого наблюдения со стороны моего ведомства за ней сейчас нет. Я пользуюсь случайными, недостоверными сведениями. Что вы молчите? Опять не так?
– Не знаю, что сказать, – покачал головой Григорьев.
– Помните, был такой режиссер Сергей Дмитриев? Ну, лирические комедии, – Кумарин защелкал пальцами, пытаясь вспомнить хотя бы одно название, но не смог, —ладно, неважно. В общем, режиссер, старик, одинокий, несчастный. С ним Маша отправилась в больницу, забирать его внучку.
– Почему надо было срываться с ток-шоу перед эфиром? Зачем такая срочность? И вообще, откуда она знает этого Дмитриева? Кто он ей?
– Еще спросите, чем больна внучка, – Кумарин вздохнул, – вы, Андрей Евгеньевич, решите для себя, нужно вам, чтобы за Машей там наблюдали мои люди, или нет?
– Ну допустим, ваши люди делают это независимо от того, нужно мне это или нет. – раздраженно заметил Григорьев.
– Успокойтесь. Сейчас никакого наблюдения не ведется. Я пока не вижу необходимости. Наружка – вещь дорогая, хлопотная. Мне, конечно, интересно, как там у Маши все сложится с майором Арсеньевым, но не до такой степени, чтобы ради этого пускать за ней хвосты и прослушивать ее телефоны. О том, что она удрала с ток-шоу, я узнал случайно. Ведущий – мой знакомый. Он звонил мне сегодня рано утром, приглашал выступить у него через две недели. Я спросил, как все прошло вчера у Приза и Рязанцева, он рассказал, что бедный Женя еле ворочал языком, наверное, расстроился, из-за своей американки. Она сорвалась до эфира, помчалась в больницу со стариком Дмитриевым.
– Значит, ваши люди ее пока не ведут? – быстро спросил Григорьев.
– Я же сказал, нет необходимости.
Андрей Евгеньевич вдруг подумал, сам не зная почему, что ему было бы спокойней, если бы именно сейчас Машу вели люди Кумарина. Но тут же отмахнулся от этой глупой мысли.
Два года назад, когда Макмерфи впервые отправил Машу в Москву, Григорьев ужасно не хотел, чтобы она летела, волновался, не мог спать, пока она была там. Однако ничего страшного с ней не случилось.
На этот раз ее отправлял не Макмерфи, а его заместитель. Ни с какими убийствами, ни с какими шпионскими играми ее командировка не была связана. Ей следовало оценить психологическое состояние Рязанцева и понаблюдать за Призом, сравнить политические перспективы нынешнего лидера «Свободы выбора» и его возможного преемника. То, что именно ее отправили с таким заданием, было тактическим ходом со стороны заместителя Макмерфи. Отправляя в качестве эксперта Мери Григ, он хотел показать Билли и всем остальным, что в его отношении к Рязанцеву нет никакой предвзятости. Рязанцев – человек Макмерфи, и офицер Григ – человек Макмерфи. Она хорошо относится к Рязанцеву, и ей категорически не нравится Приз.
Когда она улетала, Андрей Евгеньевич был за нее спокоен. Но сейчас вдруг что-то неприятно кольнуло, просто так, без всяких видимых причин. Кумарину он, разумеется, ничего не сказал. Поднявшись к себе в комнату, набрал номер Маши. Но телефон был выключен.
«Где ты? Что ты там делаешь? Взрослая, умная, самостоятельная, а все равно страшно. Хочется хотя бы голос услышать».
* * *
– Мы больше ничего не будем здесь трогать, – сказал Арсеньев, – ты меня слышишь?
Маша стояла, не двигаясь, глядя на обгоревшие останки.
– Не смотри. Давай отойдем. Тебе надо попить водички и успокоиться.
Она все еще зажимала рот руками. Он попытался развернуть ее за плечи, она очнулась, вздрогнула, вырвалась, побежала к реке. Саня понял: ее тошнит, она не хочет, чтобы он видел, как ее будет выворачивать наизнанку. Он пошел за ней достаточно медленно, давая возможность ей побыть одной, но оставаясь поблизости. По дороге он еще раз взглянул на свой мобильный. Сети по-прежнему не было. Значит, чтобы вызвать группу, придется отъехать на пару километров.
Маша скрылась в кустах малины. Арсеньев закурил.
Меньше всего ему хотелось думать о том, что обгоревшее тело, которое они видели, могло быть телом Гриши Королева, его соседа, его друга, мальчика восемнадцати лет, который учился в медицинском институте и все пытался написать детектив. Перед глазами возникло лицо Веры Григорьевны, Гришиной мамы.
«…И потом, знаете, я чувствую. Я что-то очень плохое чувствую. Спать не могу, какая-то чернота в душе. Никогда раньше такого не бывало».
Гриша с младенчества попадал в разные истории. В два года был покусан бродячей собакой, у которой пытался отнять свой мячик. В четыре на даче скатился в болото на трехколесном велосипеде и чуть не утонул, поскольку ;кикак не хотел выпустить из рук руль. Тогда же разворошил палочкой осиное гнездо и был покусан осами так, что чуть не погиб. В шесть прыгал с балкона третьего этажа, раскрыв зонтик. В семь был серьезно избит зимой на горке. Все говорили: «ехай!», а он упорно поправлял: «езжай!».
Семья жила в центре Москвы, вокруг было много старых домов. Гриша излазал все чердаки и подвалы, натыкался на бомжовские лежбища, притоны наркоманов, а однажды попал в нору беглого уголовника, нашел заточку. Гриша раз десять рассказывал Арсеньеву эту историю, повторяя, что родился в рубашке. Оказалось, что уголовник, который скрывался в подвале, – настоящий зверь, грабитель, убийца. Его искали несколько месяцев. И нашли благодаря Грише. Если бы бандит застал в своем убежище любопытного восьмилетнего мальчишку, неизвестно, чем бы все кончилось. Но если бы Гриша не полез в этот подвал, неизвестно, сколько еще народу мог бы ограбить и убить этот злодей.
– Я жутко везучий, – говорил Гриша, – однажды я провалился сквозь пол в доме, который собирались ломать. Я летел через три этажа, мне засыпало глаза песком, я совершенно ослеп. Никто не знал, что я туда полез. Там был шикарный чердак, я надеялся найти клад, что-нибудь типа сундука с золотом. И вот я лежал, меня придавило доской, а к дому уже подъехал экскаватор. Я валялся полудохлый и вдруг слышу: мяу, мяу! Я не мог допустить, чтобы погибла невинная киска, поднялся на ноги, стал искать ее, понял, что сам не найду, и кинулся на свет, к выходу, позвал на помощь. Киску спасли рабочие, которые приехали ломать дом. Ну и меня заодно не пришибли.
– Он везучий, вы даже не представляете, какой Гришка везучий, – повторял Витя, когда исчез его старший брат.
– С его темпераментом он должен быть ужасно влюбчивым, – говорила Вера Григорьевна, – но пока Бог милует, не попалась ему еще та девочка, которая могла бы по-настоящему вскружить голову.
– Эта Василиса просто с ума его свела, – сказал Кирилл Гусев, друг Гриши, – у него явно крыша съехала. Он как будто никого, кроме нее, не видел и не слышал.
Василиса Грачева, правда, оказалась очень красивой девочкой, даже изможденная, обоженная, немая она выглядела потрясающе. Она была трогательной, беззащитной, нежной. Она бы понравилась Вере Григорьевне. Она подружилась бы с Витей.
– Хватит! – приказал себе Саня. – Потом будешь страдать и ныть, сейчас думай!
Ясно, что в лагере кто-то побывал. Об этом пыталась сказать Василиса. Это косвенно подтверждается следами колес на дороге. Подростки оказались свидетелями. Чего же? Бандитской разборки? Какой-нибудь важной «стрелки» между местными братками? Но почему братков понесло в такую глушь? Могли бы выбрать более комфортное место. Тут даже мобильники не работают. Серьезным браткам неуютно без связи.
Маша появилась, страшно бледная, осунувшаяся. Она умылась речной водой, лицо ее было мокрым.
– Все. Я в порядке. А ты как? – она даже попыталась улыбнуться.
– Ничего. Нормально. Тебе идти не трудно? Голова не кружится?
– Со мной все хорошо. Ты группу вызвал? Ах, ну да, сеть…
Пока они шли к машине, Саня попросил:
– Расскажи мне еще раз, что тебе удалось узнать от Василисы до моего приезда?
– Ты все сам видел и слышал. Главное, что она до сих пор не чувствует себя в безопасности.
– Погоди, я не понял, ее кто-то мог видеть?
– Она не знает. Но вряд ли. Мне кажется, всех, кто их видел, они не выпустили отсюда живыми.
Саня сел за руль, медленно двинулся к выезду на бетонку.
– Кто они? Что, по-твоему, здесь могло произойти? – спросил он.
– Бандитская разборка, – не задумываясь, ответила Маша и тут же добавила: – Тебе ведь тоже пришло в голову именно это?
Саня кивнул и в очередной раз покосился на телефон. Сети все не было. Они выехали с территории лагеря.
– Есть еще один вариант, – сказала Маша, – какая-нибудь секта устроила здесь шабаш. Сатанисты, например. Знаешь, это даже правдоподобней. Что-то жуткое есть в этом месте. Я вполне могу представить, как здесь проводят черную мессу, занимаются всякими оккультными мерзостями. Кстати, у вас в России это сейчас страшно модно. Впрочем, у нас в Америке тоже. Так. У меня появляется сеть. У тебя пока нет, – она протянула ему свой телефон.
Арсеньев позвонил Зюзе, изложил все, что успел узнать и увидеть. Зюзя выслушала, не перебивая.
– Замечательно. Тебя все-таки туда понесло ночью. Ну что ж; я всегда знала, что ты упрямый, как осел. Ты что, один там?
– Нет. Со мной Мери Григ.
– Еще лучше, – Зюзя фыркнула в трубку, – только ее нам не хватало. Где вы находитесь?
– В лесу, километрах в трех от лагеря. Оттуда звонить невозможно. Нет сети.
– Ладно. Я сейчас же отправляю группу и еду сама. Значит, вы пока видели только один труп?
– Да, Зинаида Ивановна. Но он вряд ли единственный. Мы будем ждать вас на шоссе, у съезда на старую бетонку. Когда доедем до перекрестка, я позвоню вам на мобильный, уточню, какой это километр.
Саня отдал Маше телефон. Несколько минут они ехали молча. Маша попыталась глотнуть воды из бутылки, но не смогла, слишком сильно трясло машину.
– Сейчас остановимся, перекусим, – сказал Саня.
– Да, попробуем. Знаешь, я тебе не успела рассказать еще кое-что. За Василисой в больницу приходили. Там был человек, одетый в халат, в маску. Мы с Дмитриевым спугнули его. Он заглянул в палату, увидел нас и скрылся. А потом я через дверь, услышала, как он говорил по телефону.
– Так. Вот этого только не хватало, – зло пробормотал Саня, – получается, здесь ее не видели, но потом все-таки вычислили. Вероятней всего, по тому же сюжету в криминальных новостях. А теперь скажи, когда вы ехали из больницы, хвоста за вами не было?
– Если честно, я расслабилась. Я просто не подумала об этом. Тут еще ты позвонил, потом Рязанцев. Конечно, надо было провериться. Погоди, но если кто-то следил за нами, когда мы ехали из больницы, то они должны были засечь и нас с тобой, когда мы отправились сюда.
Она облизнула губы, жадно припала к горлышку бутылки. От волнения у нее пересохло во рту.
– Саня, мы с тобой с ума не сошли, не знаешь? У тебя хотя бы оружие есть?
– Есть, – кивнул Арсеньев, – но здесь все чисто. Они нас, видимо, потеряли. От больницы они вели твой «Форд». А он остался стоять у подъезда. Они могли бы заметить, как мы вышли. Но не заметили. Проспали, – он взял у Маши бутылку, хлебнул воды, – черная маленькая «Тойота» у подъезда, рядом с твоим «Фордом». Человек на водительском сиденье спал.
– Да, – кивнула Маша, – была «Тойота». Точно, была. Мы заезжали в аптеку, в супермаркет, я несколько раз замечала ее, но, знаешь, машинально, краем глаза.
Маша взяла телефон и набрала номер Дмитриева.
Трубку не брали очень долго. Наконец прозвучало сонное, недовольное «Алло».
– Сергей Павлович, простите, что разбудила. Это Маша. Вы не могли бы подойти к окошку, которое выходит во двор, и взглянуть вниз
– А что случилось?
– Ничего страшного. Просто посмотрите вниз и постарайтесь описать все машины у вашего подъезда.
– Все? – испугался Дмитриев. – Но их там много. А в комнате Васенька спит. Я не хочу ее будить.
– Ну хорошо, не все. Только иномарки темного цвета.
– Они могли смениться за это время, – тихо заметил Арсеньев.
– Ладно, если совсем точно – попробуйте разглядеть, в какой-нибудь из машин сидят люди или нет?
– Я попробую. Но я не так хорошо вижу. А, вот, Васенька проснулась. Мы сейчас вместе посмотрим. Васюша, у тебя глазки молодые, посмотри, в какой-нибудь из машин есть люди? Это Маша звонит… Старый «Форд», серо-черный… Маша, так ведь это ваш автомобиль, мы на нем приехали. Вася, ты чего? Ну все, все, деточка, успокойся!
– Что с ней? – спросила Маша.
– Я не понимаю. Она пытается что-то сказать, показывает рукой во двор. Господи, я больше не могу, – он чуть не плакал, – когда же она заговорит? Это невозможно!
– Сергей Павлович, не надо нервничать. Ей от этого хуже.
– Да, я постараюсь, – он громко шмыгнул носом, – она указывает на какую-то машину. Нет, я не вижу отсюда, я ничего не понимаю, что она хочет сказать? Маша, где вы? Вы не могли бы к нам приехать? У вас получается с ней разговаривать, у меня нет.
– Сейчас никак не могу. Попробуем по телефону. Дайте ей трубку. Просто поднесите к уху. Я буду задавать вопросы. Вы будете отвечать за нее. Она кивнет или помотает головой, а вы мне скажете, да или нет.
– Я понял, – Дмитриев успокоился, – сейчас я возьму параллельную трубку.
Через минуту в трубке повисла живая тишина. Маша услышала напряженное дыхание Василисы. Начался странный диалог.
– Вася, ты заметила во дворе машину, которую видела раньше?
– Да, – ответил Дмитриев.
– Там сидит человек?
– Да.
– Ты видела эту машину возле лагеря?
– Нет.
– Уже в Москве?
–Да.
– Когда мы ехали из больницы?
– Да.
– Это маленькая черная «Тойота»?
–Да.
Маша повторяла короткие ответы. Арсеньев уже звонил по своему телефону в управление, чтобы прислали наряд во двор и очень аккуратно проверили эту самую «Тойоту». А Маше, как только она закончила разговор, тут же позвонил Рязанцев.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Первое сообщение от сотрудника частной детективной фирмы поступило уже через сорок минут. Кумарин и Григорьев играли в шахматы. Идти на пляж не хотелось, солнце шпарило невыносимо, оба боялись перегреться. Они засели в гостиной, при включенном кондиционере. Кумарин так и остался в своем шелковом китайском халате. Партия не складывалась.
Играли они примерно на равных, и второй раз подряд выходила скучная быстрая «ничья». Горничная Клер явилась бесшумно, поправила штору и произнесла своим ровным, механическим голосом:
– Простите, месье, что беспокою вас. Только что сообщили, что месье Мольтке вышел из номера и отправился к стоянке такси. Месье Рейч остался один. Он лежит в кровати. Вероятно, спит. В номере тихо.
– Пожалуйста, проверьте, все ли в порядке с Рейчем. Пусть кто-нибудь войдет в номер, под любым предлогом.
– Да, месье.
– И пусть проследят, куда поехал Мольтке.
– Да, месье.
Она удалилась.
– А вы знаете, Андрей Евгеньевич, вам шах, – сказал Кумарин, – будете сдаваться?
Григорьев минуту озадаченно смотрел на доску. Он играл черными, положение его было почти безнадежно. Но главное, он уже не мог сосредоточиться на партии, он думал о несчастном Генрихе.
– Сдаюсь, – сказал он и поднял вверх руки.
– Слишком быстро, – покачал головой Кумарин, – могли бы еще побороться. Ну ладно, мне тоже, честно говоря, надоело.
Он сгреб фигуры, сложил доску, встал, потянулся, хрустнув суставами.
– У Генриха Рейча удивительная биография, – пробормотал Григорьев, – он, можно сказать, ребенок из пробирки. Знаете, Генрих Гиммлер был помешан на селекции и евгенике. Он создал в Германии систему так называемых «лебенсборн», «источников жизни». Нечто вроде племенных заводов для людей. Там специально отобранные девушки с совершенными нордическими признаками зачинали от таких же отборных эсэссовцев идеальных нордических детишек. Вынашивали, рожали и оставляли государству. Теоретически они должны были составить первое поколение чистых нацистов, сформированных начиная с эмбриона. В «источниках жизни» появилось на свет пятьдесят тысяч детей.
– Да, я читал об этом, – кивнул Кумарин, – правда, насколько мне известно, эксперимент не удался. Интеллектуальный уровень идеальных нордических детишек был значительно ниже среднего. Процент умственно отсталых в четыре-пять раз превышал норму.
– Генрих оказался исключением. У него с интеллектом все отлично. Правда, история его рождения наложила отпечаток на его характер. У него особое, болезненное отношение к нацизму. Смесь любви и ненависти. Если бы не Гиммлер и «лебенсборн», он мог бы вообще не появиться на свет. Но появился он сиротой, его вынашивала идеальная арийка, заранее зная, что оставит государству. Его отец был племенным быком, куском здорового мяса, выделившим в нужный момент порцию спермы. Ходить и маршировать он учился одновременно. Первые его слова были «Хайль Гитлер!». Первая фигурка, которую он нацарапал на бумаге, когда учился рисовать, – свастика. Каждое утро дети и воспитатели произносили хором нечто вроде благодарственной молитвы перед огромным портретом фюрера.
– Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство! – перебил Кумарин. – Я тоже маршировал с флажком в ведомственном детском саду. Что, прикажете теперь разрыдаться от жалости к бедному старому голубому Генриху?
– У вас были родители. Это совсем другое. Генрих до шести лет вообще не знал, что у детей бывают мамы и папы. А потом решил, что его отец Генрих Гиммлер, а мать – летчица Ганна Рейч.
Кумарин засмеялся.
– И что, он до сих пор так думает?
– Перестаньте. Это не смешно. Вошла Клер.
Григорьев замолчал.
– Похоже, у вашего друга сердечный приступ, – сказала горничная, – «скорая» будет там через несколько минут. Сейчас с ним отельный доктор.
– Спасибо, Клер, – Кумарин резко поднялся, – я только переоденусь. Ждите меня у машины.
– Одну секунду, месье, – по бесстрастному лицу горничной пробежала легкая тень, – что касается Мольтке, он действительно поехал в Ниццу. Но есть одна небольшая проблема.
– Да! Я вас слышу! Продолжайте! – крикнул Кумарин из глубины дома.
Клер кивнула и заговорила громче.
– Мольтке отправился в район публичных домов и наркопритонов. Работая там, наши сотрудники могут столкнуться с различными сложностями. Взятки местной полиции, повышенная степень риска, и так далее.
– Да, я понял вас, Клер. Не волнуйтесь, все будет оплачено.
Кумарин успел переодеться за три минуты. Через двадцать минут они с Григорьевым уже въезжали на платную стоянку в Вильфранж.
Возле отеля стоял фургон «скорой». К нему несли на носилках Генриха Рейча.
– Вы родственники? – спросила врач, пожилая, очень высокая француженка.
– Нет. Старые приятели, – сказал Григорьев, – что с ним?
– Инфаркт. Сейчас опасности для жизни нет, но если бы мы приехали на полчаса позже, он бы умер. Мы едем в госпиталь Святой Терезы, вы можете последовать за нами на вашей машине.
Носилки загрузили. Больной застонал.
– Андрей! – расслышал Григорьев сквозь веселый шум пляжа и крики чаек.
Он подошел к кузову фургона. Лицо Рейча было смертельно бледно. Голос звучал совсем слабо и больше напоминал шорох сухой бумаги, чем человеческую речь.
– Да, Генрих, я здесь! – сказал Григорьев по-немецки.
– Андрей, вы во второй раз спасаете мне жизнь, – пробормотал больной по-русски, – зачем?
***
Вова Приз проснулся от сильного сердцебиения. Во сне ему стало страшно. Не потому, что приснился кошмар. Его разбудило неопределенное чувство опасности, легкий электрический разряд пробежал по телу. Он увидел прямо перед собой лицо спящей женщины, немолодой, некрасивой, совершенно чужой. Она спала с приоткрытыми глазами. Сквозь щелки между веками виднелись белесые полоски глазных яблок, как будто она смотрела на него, следила за ним, но не просто, а из какого-то другого измерения, из мира снов и теней.
Он бесшумно встал, прихватил халат, телефон и отправился в ванную, по дороге набирая номер. Он звонил на мобильный Серому, который дежурил сейчас у подъезда режиссера Дмитриева. Слушая долгие гудки, Вова потихоньку заводился. Время уходит, он столько тратит сил, чтобы пробиться к власти, он, безусловно, достиг многого, но до сих пор не имеет собственной службы безопасности, профессиональной и надежной, для которой довольно одного короткого приказа, чтобы организовать наружное наблюдение. Кого надо – купить, кого надо – убрать. Быстро, без лишних вопросов, вернуть ему его собственность, его вещь, его перстень.
Беда Приза заключалась в том, что он продолжал жить двойной жизнью. С одной стороны – друзья детства. Старший лейтенант Лезвие с его милицейскими связями и возможностями. Лезвие – это крыша, это ниточки к серьезным уголовным авторитетам и к чеченцам, это оружие, оперативная информация, это, наконец, неплохие мозги.
Миха, бывший чемпион Москвы по вольной борьбе в среднем весе. Вместе с Серым, бывшим спортивным массажистом, они руководят детской и юношеской спортивной школой «Викинг». За Михой и Серым стоят три сотни дрессированных пацанов, от двенадцати до двадцати двух. В основном дети из неблагополучных семей, из подмосковных городков и поселков. Некоторые уже успели отслужить в армии.
Сначала они просто качали мышцы, бегали, прыгали, играли в войну, учились стрелять по фанерным щитам, избивали тряпочные чучела. Потом объектами тренировок стали бомжи, алкаши, наркоманы, старые проститутки. Этот переход от неживых мишеней к живым произошел легко и естественно.
Однажды на лесную поляну, где проходили тренировки, забрел маленький оборванный старичок. Он искал что-нибудь: землянику, объедки, окурки, пустые бутылки. Ребята успели разгорячиться, отрабатывая на чучелах боевые приемы, а бомжик все не уходил, приставал, ныл, от него воняло. К тому же у него был нос крючком, толстые вывернутые губы, остатки волос подозрительно, не по-славянски, курчавились. Мальчик из младшей групппы его оттолкнул, дал пинка. Бомж упал. Мальчик плюнул в него и произнес короткое слово: жид. Слово это подействовало волшебным образом, оно мгновенно разнеслось по солнечной полянке, на которой резвился здоровый молодняк.
Минут через двадцать вместо бомжа на примятой траве лежал неподвижный комок тряпья, окровавленный и заплеванный. Серому противно было приблизиться, проверить, дышит ли. Бомж не дышал. Над полянкой повисла тишина. Младшая группа тревожно пыхтела и переглядывалась.
– Так, быстро убираем грязь, – скомандовал Серый, – никто ничего не видел и не слышал.
Ребята облегченно вздохнули и оживились. Кто-то из старших предложил не копать яму, а утопить тело в болотце, всего в километре от полигона.
Потом ничего не было. Никто бомжа не искал. Стая сплотилась еще крепче. Теперь их связывала общая тайна.
Всего через неделю Серый достал литровый баллон нервно-паралитического газа нового поколения. Не терпелось испытать его действие. Но не собирать же для этого ежиков и белок в лесу! Средней группе дали задание аккуратно заманить на полигон пару-тройку бомжей. Это оказалось совсем не сложно, ребята доставили в тренировочный лагерь от пивного ларька на станции «Водники» двух алкашей и старуху, бывшую проститутку. Тела утопили в том же болотце. Потом опять ничего не было.
К нынешнему лету количество бомжей, употребленных в учебных целях, исчислялось несколькими десятками. Тела иногда сжигали, иногда просто закапывали в лесу, причем ямы для себя жертвы должны были рыть сами.
Питомцы «Викинга» никогда не забывали об осторожности. В качестве тренировочного материала выбирали тех, кого никто не будет искать, и убивали, не используя огнестрельного оружия.
Стая оперилась и окрепла. Теперь это были настоящие боевики. Самым дисциплинированным и разумным по ручались более серьезные дела. У подмосковных трасс и в Москве стали появляться фанерные транспаранты со старым, как мир, призывом: «Бей жидов!», с самодельными взрывными устройствами, которые срабатывали, когда транспаранты пытались убрать. Милиция квалифицировала это как частные случаи подросткового хулиганства.
И потом ничего не было.
Случались пожары в разных богоугодных заведениях, не только вокруг Москвы, но и в глубокой провинции, где-то за Дмитровом, за Волоколамском. Горели дома престарелых, маленькие сельские психушки, интернаты для слабоумных сирот. Горели люди-лютики, те, кого Вова Приз считал вонючими отходами жизнедеятельности общества, на кого преступно тратить государственные деньги.
Потом ничего не было. Уголовных дел о поджогах не открывали. Причиной пожара объявлялось естественное возгорание. Здания ветхие, проводка никуда не годится, Если в результате получалось слишком много трупов, то заявляли о халатности, все валили на хозяйственников и пожарную инспекцию.
Питомцы «Викинга» активно участвовали в массовых мероприятиях, ходили на футбол и хоккей, на рок-концерты. Они вели себя тихо, не хулиганили, не орали, незаметно смешивались с толпой. Но там, где они появлялись, вспыхивали как бы сами собой кровавые драки. После бойни было много убитых и раненных. Болельщики во всем мире дерутся, и на рок-концерты обычно собирается не самая тихая молодежь. Кто первый начал, кто первый пырнул соседа ножом или раскроил ему череп дубинкой, понять невозможно.
Полная безнаказанность в сочетании с таинственной, взрослой конспирацией развивала в ребятах из «Викинга» пьянящее чувство собственной непогрешимости, абсолютной правоты, избранности, могущества. Они серьезно отличались от всех других организаций с родственной идеологией, прежде всего тем, что никогда не объявляли о себе открыто. Другие, им подобные, закидывали яйцами и помидорами разных политиков, маршировали и митинговали в униформе, со свастиками перед телекамерами, с удовольствием позировали журналистам.
Их маленькие глупые лидеры заботились только о сиюминутной славе и не думали о будущем, спасались от скуки, скандалили и вопили для того, чтобы, по меткому выражению одного из них, не завязнуть в «желе обыденности».
«Вечное должно быть отделено от сиюминутного. Я люблю Россию. Возрождение нашего народа зависит лишь от уничтожения системы, которая обкрадывает здоровые силы нации».
Эта цитата из пропагандистских текстов Геббельса казалась Вове очень актуальной. Он выучил ее наизусть и использовал в выступлениях, иногда внося легкие коррективы. Правда, в первоисточнике вместо «России» была «Германия».
Шама появлялся перед боевиками редко, с большой помпой. Для них он был кумиром. Он шпиговал им мозги идеями о чистоте крови, о людях-лютиках и людях-богах. Он объяснял разницу между дешевым балаганом и священной миссией спасения России. Он учил их понимать, почему с ними он один, а в телевизоре совсем другой.
– Большая ошибка, – говорил он, – не имея реальной власти, публично озвучивать свои истинные цели и убеждения. Если я скажу по телевизору, что ненавижу евреев, никто из богатых евреев не даст мне денег. Если я заявлю, что право на государственную помощь, и вообще на жизнь, имеют только сильные, здоровые, молодые, меня разлюбят бабки и деды, которых пока в России очень много, значительно больше, чем молодых и здоровых. Если я признаюсь, что хочу очистить Россию от грязи, от черных, от кавказцев, евреев, цыган, от дебилов и старых маразматиков, меня могут посадить. Поэтому правду я говорю только вам, пацаны. А остальным вешаю лапшу на уши. Если бы, допустим, большевики говорили правду, разве сумели бы они прийти к власти и продержаться семьдесят лет? Они обещали землю крестьянам – и отняли ее. Обещали свободу – и засадили всех в лагеря. Обещали хлеб – и уморили голодом миллионы. Политика – это вранье государственного масштаба, это такой глобальный крутой прикол. И гели мы с вами будем носить свастику на рукавах и на знаменах, мы добьемся только мелкого скандала. Свастика должна быть в сердце.
Пацанам было лестно участвовать в глобальном крутом приколе. Имя их настоящего вождя, популярного актера Вовы Приза, они не поминали всуе. Они свято хранили тайну. Они были преданы Призу искренне, фанатично, однако он никогда не привлекал их к решению своих личных проблем. Он жестко соблюдал дистанцию, чувствуя, что лучше оставаться для них таинственным и могучим полубогом, чем превращаться в человека с про блемами.
Другая часть его жизни состояла из телеигр, ток-шоу и пресс-конференций, из интервью, презентаций, фуршетов. Здесь он был вторым лицом демократической партии «Свобода выбора» и самым сексуальным мужчиной года. Его любили барышни и старушки. Его называли «сынком» и «братишкой». Его потенциальный электорат на семьдесят процентов состоял людей-лютиков. Он обещал им спокойствие и сытость. Он говорил о добре, справедливости, всеобщем братстве.
Иногда эта двойственность смешила его, иногда бесила. Особенно злился он, когда случайно пробалтывался, как это произошло в разговоре с милицейским майором. Просто он устал, перенервничал из-за Василисы Граневой, а главное, чувствовал себя некомфортно без своего перстня. У него украли дорогую для него вещь. Но даже ближайший друг Лезвие не понимал, почему он так упорно хочет вернуть свой перстень, считал это глупой прихотъю, говорил о том, как это рискованно сейчас. И, в общем, был прав. Но Вову заклинило. Он знал, что вопреки осторожности и здравому смыслу он не успокоится, пока его колечко не окажется на законном месте, на мизинце его левой руки.
…Гудки звучали уже несколько минут. Серый спал крепко. Наконец ответил сонный осипший голос.
– Спишь? – спросил Приз.
– Ну а чего, блин, все пока спокойно, в натуре.
Серый громко, со стоном зевнул в трубку.
– Что значит – спокойно? Где американка?
– Да там она, там! Машина ее стоит с вечера, никто не выходил.
– Что, вообще никто?
– Ну, не знаю, какой-то старый хрен с собачкой вышел, мамаша с коляской.
– А вчера?
– Ну, блин, что ты заводишься, Шама? Вчера тоже было тихо. Они приехали, и все.
– Кто входил и выходил вчера, придурок? – вкрадчиво, вполголоса, спросил Вова и разломал зубочистку, которая лежала в кармане халата.
Трое друзей детства, Лезвие, Миха и Серый, все никак не учились настоящей дисциплине. Они разговаривали с Призом как с равным, продолжали называть Шамой, вели себя расхлябанно и нагло. Они не желали признавать в нем настоящего лидера. Слишком много было общих детских воспоминаний. Они знали его слабости, они бывали свидетелями его безобразных истерик, приступов тупой, почти суицидальной мрачности, у них на глазах он успел наделать массу глупостей, несовместимых с высоким званием вождя и божества. Рассчитывать на их фанатичное поклонение и слепое подчинение не стоило. Но только этим троим, Лезвию, Михе и Серому, он мог полностью доверять. Он зависел от них, и они это чувствовали.
Кончик зубочистки впился под ноготь левого мизинца. Приз чуть не взвыл от боли. Серый между тем молчал.
Сквозь его напряженное сопение Приз слышал невнятные голоса милицейской связи. В машине работала рация.
– Эй, Серый, что затих?
– Так, все, Шама, я тебе позже перезвоню, сейчас здесь будут менты, по мою душу, с проверочкой.
– Погоди, откуда они могли узнать?
В ответ послышались частые гудки.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Eвгений Николаевич Рязанцев обиделся всерьез. Он только начал приходить в себя, обретать уверенность и спокойствие, ему так нужда была сейчас Маша. Но она не успела появиться и сразу исчезла, стала жить здесь какой-то своей жизнью.
Утро началось отвратительно. Его разбудил легкий, вкрадчивый стук в дверь. На пороге появилась жена Галина. Она только что вернулась из церкви, в своем темном, туго завязанном платочке, в длинной мешковатой юбке, в дурацких старушечьих тапках на плоской подошве. От нее пахло мылом и ладаном.
– Доброе утро, Женя. Как ты спал?
– Нормально, – простонал он, потягиваясь.
Он хотел сделать небольшую гимнастику, покачать пресс, но при Галине было как-то неловко поднимать и опускать ноги, лежа на коврике у кровати. А она уходить не собиралась.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила она, заглядывая ему в лицо.
– Нормально. А что?
Он сел на кровати и тут же встретился со своим отражением в тройном зеркале. За ночь он опух, хотя вечером не ел ничего соленого. Мешки под глазами казались тяжелей и темней, чем обычно. Сквозь щель между шторами пробивался солнечный свет и как-то особенно жестоко подчеркивал морщины, тени, нездоровый серый оттенок кожи. Даже нос распух, и стал виден рыхлый второй подбородок.
– Ты плохо выглядишь, Женя, – утешила его Галина.
– Спасибо, дорогая, – он криво усмехнулся, – будь добра, кинь мне халат.
– Пожалуйста.
Пока он одевался, она скромно смотрела в сторону.
– Скажи, Машенька приедет сегодня? – спросила она и поправила свой платок.
Мери Григ обещала явиться рано утром, к завтраку. На двенадцать было назначено закрытое заседание в партийном штабе. Собирались ближайшие помощники и доверенные лица Евгения Николаевича, чтобы обсудить несколько важных стратегических и финансовых вопросов. Мери Григ обязана присутствовать. Он взял телефон и набрал номер ее мобильного.
– Где вы? Чем вы занимаетесь? – спросил он жестко. – Вы должны уже через полчаса быть у меня.
– Простите, Евгений Николаевич. Я не могу.
– Маша, что происходит? Вчера вы уехали с прямого эфира. Причина была вполне уважительная. Но внучка Дмитриева теперь, как я понимаю, дома, с ней все в порядке, и вы могли бы вернуться к своим прямым обязанностям.
Сеть пропадала, было плохо слышно. Он кричал и стал самому себе противен.
«Что я могу сделать? Пожаловаться на нее Билли Макмерфи? Но Билли временно отстранен от должности, возможно, он вообще не вернется, уйдет на пенсию. Позвонить Хогану? Спросить, что происходит? Почему Мери Григ, вместо того чтобы заниматься предвыборной кампанией и моей бесценной персоной, быть постоянно рядом, держать руку на моем пульсе, мотается черт знает где? А может, так и было задумано? Может, ее прислали вообще не для меня, и сейчас у нее совсем другое задание?
Просто от меня это скрывают. Ну конечно! Макмерфи уходит в отставку. Хитрый Хоган станет сотрудничать и дружить с новым руководством. А новому руководству я на фиг не нужен. Для них я чужой, отработанный материал, к тому же старый, о, Господи, старый и некрасивый!»
– Маша! – крикнул он в трубку. – Маша, бросайте все, сейчас же приезжайте! Вы слышите?
В ответ раздался отвратительный металлический треск, от которого зачесалось внутри уха. Связь окончательно пропала. Механический голос вежливо попросил перезвонить позже.
Не обращая внимания на жену, он улегся на коврик и принялся очень медленно поднимать ноги под прямым углом, поднимать и опускать. Двадцать таких упражнений каждое утро занимали всего пять минут и должны были избавить от дряблого живота. Чем медленней поднимаются и опускаются ноги, тем крепче брюшные мышцы. Но это больно, особенно после долгого перерыва. На десятом упражнении он не выдержал и застонал, повалился на бок.
– Что с тобой, Женечка?
Галина обошла кровать, присела рядом с ним на корточки, помогла подняться.
– Ничего, – он встал, опираясь на ее руку, – мышцы свело. Почему ты спросила о Мери Григ? Зачем она тебе?
– Я думала, она приедет к завтраку. Мне хотелось с ней повидаться.
– А ей с тобой – нет! – рявкнул Рязаниев и отправился в душ.
Нервная дрожь все не проходила.
«Чего же ты хочешь, идиот? Ты думал, это будет вечно продолжаться? Все, старичок, пора и честь знать. Пора ?ебе в отставку, на свалку. Надо уступать место молодым. Tы никому не нужен. Тебя никто не любит».
Его качнуло в душевой кабинке, он ухватился за мыльницу, державшуюся на липучках, мыльница отлетела, он поскользнулся на куске мыла, упал, больно стукнулся
Плечом и коленом. От обиды чуть не плакал. Дрожали руки. Вылезал из кабинки, чувствуя себя дряхлой развалиной, опасаясь опять свалиться. Бреясь, сильно порезался сразу в нескольких местах. Ранки вспухли, кровь запеклась вишневыми корочками. Смотреть на себя стало совсем противно. Когда он вышел из ванной, Галина все ,еще была в спальне. Она успела застелить его постель, развесить одежду, которая с вечера валялась в кресле.
– Маша звонила, – сказала она, – просила передать, появится только во второй половине дня. И не обижайся на нее, пожалуйста. У человека могут быть какие-то свои дела. Нельзя все делить и умножать на самого себя. Что у тебя там так грохотало? Ты упал? Ты опять порезался? Женечка, ну за что ты себя так не любишь? Брейся электробритвой, особенно когда ты в таком нервозном состоянии. Да, Егорыч ждет в столовой, весь из себя тихий и виноватый. Он сегодня ходил со мной на службу, хотел исповедаться, причаститься, но мобильник свой не отключил. Ему позвонили, он вышел из храма, да так и не вернулся.
Галина удивительно много разговаривала. Она даже как будто оттаяла. Она говорила нормальным голосом, не шептала, не бормотала, не делала многозначительных пауз, не отводила взгляд. Она смотрела на него открыто и ласково, говорила о вещах вполне обыденных и понятных. Она даже улыбнулась ему пару раз, и в лице ее мелькнуло что-то прежнее, живое, женственное. Или просто он сам вдруг захотел увидеть ее такой? А какая она, правда, какая она стала? Последние два года он смотрел на нее и ничего не видел, кроме собственной смертельной усталости.
– Ты не могла бы снять платок? – внезапно попросил Рязанцев.
– Пожалуйста.
Она развязала узел, опустилась на стул перед туалетным столиком, тряхнула короткими волосами.
– Галя, почему ты носишь эту пакость, не снимая, даже дома?
– Ты бы попросил, я сняла. Я думала, тебе все равно.
Рязанцев обнаружил, что голова его жены успела стать совершенно седой. Это странно, больно тронуло его. Лицо без старушечьей рамки, темного платочка в крапинку, выглядело совсем молодо. Кожа чистая, на щеках нежный румянец, морщинок не видно. А волосы белоснежные.
– Ну? – она поймала его взгляд в зеркале. – Так лучше? Ты видишь, я совсем седая. Красить неохота, да и незачем. Тебе это все равно. А мне, кроме тебя, красоваться ни перед кем не хочется.
Прежде чем ответить, он вдруг наклонился и поцеловал ее в макушку. Нет, не только ладаном и мылом от нее пахло. Было еще что-то, такое знакомое и теплое, что у него перехватило дыхание и стукнуло сердце, мягко, гулко, радостно. Они смотрели друг на друга в зеркале. Дрожь прошла. Он увидел себя глазами жены и показался самому себе вполне молодым, красивым. Она до сих пор любит его, все ему простила и будет еще прощать, бесконечно. Если есть живое существо на свете, которое никогда не предаст, не отречется, не забудет, так это только она, Галина. Надо быть тупой скотиной, слепым самоубийцей, чтобы пренебрегать этим.
Он обнял ее, зарылся лицом в ее волосы и сам не заметил, что уже скользит губами по ее шее, а пальцы расстегивают пуговки дурацкой скромненькой блузки, одну задругой. Она откликнулась, вся раскрылась навстречу, в ней оказалось столько жара и нежности, сколько не было ни в одной женщине. Он с детским восторгом обнаружил, что под бесформенным темным тряпьем тело у нее гибкое, тонкое, такое же, как четверть века назад.
Все его страхи, тоску, отчаяние она вобрала в себя, впитала без остатка. Она принимала его любым, слабым, жалким, злым и капризным, каким угодно. Только бы сохранить эту новую, невозможную, звенящую легкость, всегда чувствовать себя таким свободным и счастливым. Сберечь, запечатать в памяти, пришпилить, как бабочку к картонке.
– Галя, где же ты была раньше?
– С тобой, Женечка, все эти годы, каждую минуту, только ты не замечал этого.
– Почему? Господи, ну почему? Столько лет прошло, в какой-то глупости, в пошлости, в суете, теперь мы старые, время летит, так мало осталось.
Звонил телефон, стучали. Несколько минут они лежали неподвижно, глубоко дышали, близко сдвинув лица, смотрели друг на друга. В дверном проеме, в сладком радужном тумане, возникла физиономия Егорыча.
– Пошел вон! – весело сказал Евгений Николаевич. А Галина Дмитриевна попыталась натянуть простыню, но только запуталась в ней.
Дверь хлопнула. Они смеялись и целовались сквозь смех.
– Ты опоздаешь! – заявила она, когда вдали, в гостиной, часы пробили половину одиннадцатого.
Они стояли перед зеркалом, обнявшись. Ничего на них не было. Галина Дмитриевна выскользнула на секунду в ванную, вернувшись, осторожно промыла перекисью его порезы, припудрила сухим стрептоцидом.
– Ну вот, теперь вообще ничего не заметно.
– Как мне не хочется, чтобы ты одевалась во все это тряпье.
– Что, прямо так и ходить? Меня неправильно поймут. И потом – вдруг похолодает?
– Нет, ну что-то другое есть у тебя? Какая-нибудь нормальная одежда осталась?
– Осталась. Но тебе вряд ли понравится. После больницы я ничего нового не покупала, а все, что было в той, прежней жизни, в храм отдала, бедным.
– Зачем?
– Так получилось. С каждым платьем, с каждым костюмом было связано что-нибудь очень плохое.
– Что ты хочешь этим сказать? – он слегка отстранился и нахмурился.
– Ничего, – она потерлась лбом об его плечо, – пойдем завтракать, ты опоздаешь.
– Нет. Начала – будь добра, договаривай. Давай уж выясним все, поставим точки на «i».
– Не хочу.
– Что значит – не хочу? Ты намекаешь, что в нашей жизни было только плохое, ничего хорошего? Я в этом виноват, да? Ну давай, наконец, поговорим, назовем вещи своими именами. Что ты молчишь? Считаешь меня бесчувственным идиотом, который все равно ничего не поймет?
Она отвела глаза от зеркала, секунду стояла, не двигаясь, низко опустив голову, глядя в пол, потом собрала свои старушечьи тряпки, оделась, повязала платок и, сгорбившись, вышла из комнаты.
* * *
«Вот сегодня я заговорю», – пообещала себе Василиса, глядя из окна на маленькую черную «Тойоту», которая резко рванула с места и скрылась в переулке. Через пару минут во двор въехала милицейская машина. Ох, как жалко, что они разминулись. Если бы у человека в «Тойоте» проверили документы, это была бы хоть какая-то ниточка. Но не успели. Он странно быстро уехал. Заметил их раньше, чем они его? Или у него такая шикарная интуиция? Действительно, странно. Только что Василиса сумела с помощью деда по телефону рассказать Маше про маленькую черную «Тойоту», и вот ее уже нет во дворе.
Василиса осторожно пошевелила пальцами под повязкой. Наверное, она сумела бы сейчас отбить несколько фраз на компьютерной клавиатуре. Она вдруг отчетливо услышала собственный голос: «Дед, у тебя есть компьютер?»
Она тут же представила, как влетает в комнату дед, удивленный, счастливый. Васюша! Ты заговорила! Ну, скажи еще что-нибудь!
Из кухни доносился звон посуды. Дед спокойно готовил завтрак. Ей не удалось произнести вслух эту короткую фразу. Значит, придется пока объясняться жестами. Надо попросить деда, чтобы помог умыться и почистить зубы.
Осторожно ступая забинтованными ногами в байковых дедовых тапках, держась за мебель, Василиса побрела на кухню. С помощью деда ей удалось кое-как привести себя в порядок. Он даже попытался расчесать ей волосы, но драл их немилосердно. В больнице их вымыли шампунем от вшей, на всякий случай. Теперь они путались и были похожи на мочалку.
В ванной Василиса широко открыла рот, заглянула в свое горло при ярком свете, но ничего особенного не увидела.
– Да, да, Васюша, я тебя понял, сейчас попробую вызвать врача. Я просто думал, мы сначала позавтракаем, а потом я засяду за телефон.
Она закивала. Ей тоже хотелось сначала поесть, а потом уж все остальное. Впервые за эти ужасные дни она почувствовала настоящий, здоровый голод.
За завтраком дед с ложечки кормил ее творогом с медом, поил чаем с молоком и говорил, не закрывая рта.
– Знаешь, что самое вкусное на свете? Оладьи из картофельных очисток и бутерброды. Гусиный жир на черном хлебе, с солью. И еще сахар. Твердый колотый сахарок. Когда мне было четыре года, я помирал от дистрофии. Представь: Омск, эвакуация. Мама дрова возила на санках. Холод адский. В поезде, когда мы ехали из Москвы, нас обворовали, не осталось никаких теплых вещей. Ложки стащили серебряные, а хи можно было продать, обменять на хлеб, на молоко.
Василиса сто раз слышала все эти истории и знала, что сейчас он расскажет, как соседка подкармливала его сахарком, как он держал кусочек во рту и молился, не Богу, а товарищу Сталину. Молился, чтобы кусочек не таял никогда, чтобы этот сахарок был вечным.
– Я всю жизнь обязательно держал в холодильнике банку с гусиным жиром. Даже если ничего в доме нет, можно намазать на черный хлеб, посолить, сверху перышко лука, и получается отличная закуска. Бабушка твоя, когда была жива, мама твоя, когда мы еще не поссорились, мои друзья, когда еще было принято приходить в гости и сидеть вечерами на кухне, все называли это гадостью и отказывались пробовать. А я до сих пор люблю. И ты, между прочим, тоже любила. Ты вообще была обезьяnа, все за мной повторяла. Что я ел, то и ты. Однажды водки хлебнула из моей рюмки. Сидела у меня на коленях, было полно гостей, мы трепались о чем-то высоком и важном. Вдруг – дикий рев. Тебе было всего два с половиной годика. Я глазом не успел моргнуть, как ты цапнула мою рюмку, и глотнула. Потом плевалась, ругалась. Ох, как ты, маленькая, умела ругаться!
Василиса сидела, слушала деда и потихоньку оживала. Отто Штраус был далеко. Она почти забыла о нем. Она машинально шевелила пальцами под бинтами, хотелось почесать их, размять, они затекали без движения. Пора было сменить повязки, но дед вряд ли справится. Как хорошо, что у нее есть дед. Бабушки все умерли, а он остался. Почему столько лет она верила маме, что дед эгоист, пьяница, никчемный человек с непомерными амбициями? Почему мама все это говорила и верила себе самой?
«Дед, я тебя люблю. Это будет первое, что я скажу. Потом я позвоню Маше, свяжусь с ее майором. Покажу им перстень. Пусть ищут бандита, который его потерял».
В правой руке постоянно дергалась какая-то жилка. Василиса почувствовала, что под бинтом прорвался ожоговый пузырь. Бинт медленно пропитывался противной липкой влагой. Она засохнет, прилипнет, будет очень больно. Надо срочно поменять повязки.
Дед все говорил, мыл посуду. Над раковиной была закреплена маленькая яркая лампочка-прищепка. Дед включил ее, чтобы лучше видеть. Он весело гремел чашками, тарелками, накопившимися за многие дни, и болтал без умолку. Он вспоминал, как брал ее, трехлетнюю, с собой на съемки, как она бегала по коридорам и павильонам «Мосфильма», терялась, находилась, попадала в разные смешные истории. Дед сам развеселился от воспоминаний. Смеялся, хлопал в ладоши, так, что летели брызги от мокрых рук, изображал все в лицах, говорил разными голосами.
– Ну вот, а мама твоя как раз приехала за тобой. Заходит в павильон и видит: ты сидишь верхом на медвежонке. Она как закричит: с ума сошли?! У ребенка аллергия на кошек!
Дед вдруг замолчал. Лицо его вытянулось.
– Ой, надо бы с мамой связаться, – произнес он тихо и грустно.
Василиса отрицательно помотала головой.
– Нет? Ты считаешь, не надо? Правда, зачем ее беспокоить? Ну, что изменится, если она прилетит? Ей придется потратить кучу денег на билеты, и неизвестно, сумеет ли она их достать сразу. Сейчас август. К тому же она там, в Испании, работает, не отдыхает. Мы справимся без нее, верно?
Василиса кивнула и вытянула вперед руки. Но он не понял, он все не мог наговориться, был очень возбужден.
– А когда она вернется, плохое будет позади. Ты сама ей все расскажешь. Ну или не все, а что сочтешь нужным. Останутся только воспоминания.
«Лучше бы даже их не осталось!» – подумала Василиса и попыталась зубами развязать узелок на бинте. Если сейчас снять повязки, бинт не прилипнет. А дед сообразит, что надо их поменять. Ничего сложного в этом нет. Он справится.
– И еще, ты нас с ней помиришь, – добавил дед, – только ты можешь это сделать, больше никто.
Узелок не поддавался. Василиса беспомощно опустила руки, кивнула, но уже машинально.
– Невозможно столько лет не разговаривать, правда? Это глупость какая-то. Нет, я понимаю, у меня отвратительный характер, но, согласись твоя мама тоже не ангел.
Василиса изо всех сил старалась сконцентрировать внимание на своем дедушке, слышать и видеть только его, никого больше. Маленькая яркая лампа над раковиной слепила глаза. В голове отчетливо прозвучала фраза: «ANUS MUNDI». В ярчайшем свете прожекторов медленно шла колонна вновь прибывших. Играла музыка. Бравурные марши Отто Штраусу надоели. Он приказал, чтобы поставили «Лунную сонату» Бетховена. Эта музыка подчеркивала спокойную торжественность момента.
«ANUS MUNDI». Задний проход мира. Война – это хорошее промывание желудка мирового масштаба. Процедура неприятная, но необходимая. Отходы воняют. Они действительно ужасно воняют. Эти как-то особенно. Их слишком долго везли, слишком плотно забили в вагоны и не выпускали по нужде.
Штраус привык к вони и все же достал надушенный носовой платок, прикрыл нос.
Колонна состояла из женщин и детей. В основном евреи из России, истощенные, вялые, негодные ни для чего, кроме газовой камеры. Ими управляют самые примитивные инстинкты: голод, боль, страх смерти. В иных условиях к этому прибавляется еще один: инстинкт сохранения вида, выраженный в сексуальном влечении. Но здесь, сейчас этот, последний, не действует. Остались только первые три. Существа в колонне подчиняются уже не обстоятельствам, не командам и ударам, а собственному животному автоматизму. Любопытный парадокс. Такая вроде бы надежная и разумная вещь, как инстинкт самосохранения, в экстремальных условиях начинает работать против самого себя, становится бомбой замедленного действия. Если особь тупо и неуклонно следует только животным инстинктам, она самоуничтожается без всяких посторонних усилий. Остается включить газ, чтобы окончательно вывести этот шлак за пределы реального мира.
Отто Штраус прощупывал колонну внимательным взглядом. Высматривал близнецов. Они нужны ему были для новой серии экспериментов. Охрана, всего десяток солдат и три офицера, почти не смотрели в их сторону. Офицеры обсуждали предстоящий ужин у коменданта. Они расслабились. Солдаты тоже расслабились, курили, болтали, громко смеялись.
Высматривать близнецов было непросто. В этой колонне все казались близнецами. На каждом лице лежала печать покорности и смертельной тупости. Спокойный, размеренный ритм «Лунной сонаты» действовал на них, как дудочка крысолова на крыс из старой немецкой сказки. Можно было спокойно убрать охрану, они бы этого не заметили. Они, завороженные волшебными звуками бетховенской музыки и собственным бессилием, шли к воротам газовых камер. Им осталось только дойти, раздеться в предбанниках и окончательно исчезнуть. Эта партия даже не подлежала сортировке. Шанс просуществовать еще какое-то время имели только пары близнецов, если они, конечно, найдутся.
Взгляд Штрауса медленно скользил по колонне, мягко перетекал с одного лица на другое и вдруг зацепился за что-то острое, неприятное. Доктор не сразу понял, что именно привлекло его внимание, и сначала решил, что нашел-таки близнецов. Но нет. Эта особь существовала в единственном экземпляре.
Оно не имело ни возраста, ни пола. Скелет в вонючих лохмотьях. Обритая голова. В гетто, откуда их вывезли, свирепствовала эпидемия тифа, почти все они, женщины и дети, были обриты наголо. Единственное, что продолжало жить в этом автомате, – глаза. Огромные, голубые, они смотрели прямо на Штрауса. Смотрели осознанно, без страха, как на равного.
Пальцы генерала расстегнули кобуру и вытащили пистолет. Он успел понять, что особь – девушка лет двадцати, что она жива и опасна. Ее следовало убить. Выстрелить сию минуту. Она уже отделилась от колонны. Она шла прямо на Штрауса, невероятно быстро и легко, как будто летела по воздуху. Сквозь шарканье множества ног, гогот охраны, звуки музыки прорвался ее высокий резкий голос. Она говорила по-немецки без всякого акцента.
– Опомнитесь! Что вы делаете? Вы же люди! Перед вами женщины и дети! Вы не можете нас убить! Прекратите!
И, словно повинуясь ее команде, замолчала музыка, остановилась колонна. Охрана щелкала затворами автоматов, но почему-то никто не стрелял. Штраус держал свой пистолет, целился девушке в голову. Девушка летела к нему, и не отводила взгляда. Пальцы генерала свело уже знакомой судорогой. Он сжимал пистолет, но никак не мог выстрелить.
Все это продолжалось не более минуты. Он почувствовал сильный болезненный удар в лицо. Из носа потекла кровь. Девушка ударила его кулаком и выхватила у него пистолет. Штраус быстро упал на землю. Девушка палила из его пистолета по охране. Ее прошивали автоматные очереди, она уже была вся в крови, но продолжала стрелять в эсэсовцев и упала замертво, лишь выстрелив в них всю обойму.
«Она могла меня убить», – думал Штраус, лежа на земле и слизывая кровь с верхней губы.
– Она тебя и убила, – прошелестел у него в голове знакомый голос, – Тебя нет, ты тень.
– Кто ты?
Впервые он решился вступить в диалог со странной, неведомой силой, которая не дала ему вовремя выстрелить сейчас и тогда, на площади, в инвалида; которая заставила его понять незнакомый язык и услышать русского летчика.
– Кто ты, черт тебя подери!
Он выкрикнул это уже в полный голос. Но никакого ответа не получил.
Вокруг был гвалт, стрельба не смолкала. Девушка успела уложить троих офицеров и пятерых солдат. Как выяснилось позже, каждый ее выстрел оказался смертельным. Со всех сторон бежали эсэсовцы, кричали, строчили по колонне из автоматов. Следовало встать. Травма носа могла оказаться серьезной. Кровь все не останавливалась. Правая рука затекла и пульсировала.
«Я не мог выстрелить потому, что пистолет заклинило. И тогда, и сейчас, просто заклинило пистолет. Что касается летчика, это была слуховая галлюцинация. Я не спал двое суток, очень много работал. Сейчас я упал на свою руку, и она затекла. Я правильно сделал, что сразу упал, иначе первый ее выстрел убил бы меня. А так я жив. Я буду жить вечно. В природе нет такой силы, которая могла бы остановить меня даже на мгновение».
Штраус очень медленно, осторожно поднял голову. Огляделся. Убедился, что можно встать. Покачиваясь, прижимая к разбитому носу платок, побрел к больничному корпусу. Навстречу ему мчались его помощники, медсестры, фельдшеры.
– Доктор, с вами все в порядке?
– Господин группенфюрер, у вас лицо в крови. Вы ранены? Вы можете идти?
В своем кабинете он осмотрел ушиб перед зеркалом, осторожно прощупал кость. Перелома не было. Пострадал хрящ и мягкие ткани. Нос сильно кровоточил. Главное, чтобы не попала инфекция. Он хотел сделать все сам: промыть ссадину, остановить кровь, наложить повязку, но правая рука все еще не слушалась. Пришлось доверить свой нос одному из ассистентов, доктору Гансу Хартману.
– Как такое могло произойти, как?! – возмущался Ганс. – Я всегда говорил, нельзя расслабляться. С этими тварями расслабляться нельзя!
Штраус молчал и пытался снять с пальца перстень. Но не мог. Металл как будто врос в кожу. Свет лампы невыносимо резал глаза. В ушах звенело.
Зазвонил телефон. Василиса вздрогнула так сильно, что стукнулась коленкой об угол соседнего стула. Дед взял трубку.
– Да, это я. Какой, вы сказали, журнал? О, знаю, конечно! Да, спасибо, очень приятно. Я готов. Сегодня? Но я… у меня внучка больна, я не могу ее оставить. А, да, тогда разумеется… Я целый день дома, приезжайте, когда вам удобно. Как – с фотографом? Ну хорошо, хорошо.
Он продиктовал адрес, положил трубку и посмотрел на Василису. Глаза его сияли, щеки порозовели, на губах дрожала счастливая улыбка.
– Васюша! Ты не поверишь! Мне только что звонила журналистка. Ой, уже забыл, как называется журнал, но ты наверняка знаешь. Такой модный, толстый, глянцевый. Она хочет взять у меня большое интервью, на целый разворот. Она приедет сегодня к двум, с фотографом. Мне надо побриться, причесаться. Ты мне посоветуешь, в чем лучше сниматься. Я тебе сейчас покажу, у меня есть такая модная голубая рубашка с погончиками.
Василиса кивнула, улыбнулась. Дед шагнул к ней, чтобы помочь подняться, и вдруг испуганно произнес:
– Ой, Васюша, у тебя кровь из носа!
Василиса поднесла руку к лицу и увидела, как красная капелька упала на бинт.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Рейча увезли на обследование. Опасности для жизни больше не было, но могла потребоваться операция.
– Вы уверены, что он не умрет? – тревожно спросил Макмерфи по телефону, когда Григорьев позвонил и рассказал ему, что случилось.
– В следующий раз я соединю вас с его лечащим врачом, – пообещал Андрей Евгеньевич.
Он говорил с ним из машины Кумарина, по мобильному. Всеволод Сергеевич сидел рядом, и казалось, его правое ухо выросло в два раза, он почти прильнул к Григорьеву, так хотелось ему услышать разговор полностью.
– Сейчас не время для шуток! – обиженно буркнул Макмерфи. – Куда делся его приятель Рики? Почему вы, а не он сопровождали Рейча в больницу?
– Он в Ницце, в злачном районе. Что он там делает и с кем встречается, будет известно только вечером. Вы перевели деньги на счет агентства? – спросил Григорьев.
– Очень большая сумма. Я должен как-то обосновать для руководства такие расходы.
Григорьев еле сдержался, чтобы не выругаться в трубку, грязно, громко, по-русски. А тут еще Кумарин рядом, с его огромным ухом и хитрой злорадной улыбочкой.
– То есть вы еще ни гроша им не заплатили? – уточнил Григорьев сквозь зубы.
– Мне стыдно за вас, Билли! – прошептал Кумарин, подмигнул и захихикал.
– Я сегодня переведу им полторы тысячи со своего личного счета, – мрачно пообещал Макмерфи.
«Что же ты так подставился, дурень? – думал Григорьев. – Паника и карьерные амбиции – это серьезно, однако голову надо все равно иметь на плечах. К руководству с этими расходами ты, конечно, не сунешься. Ты поскрипишь зубами и заплатишь сам всю сумму, причем так, чтобы об этом никто из твоих коллег не узнал. Теперь у тебя нет выбора. Ты стал одиночкой. Это не твоя стихия, Билли. Тебе неуютно, ты паникуешь и делаешь глупости. У каждого человека, даже если он привык командовать сотнями, тысячами людей, рано или поздно наступает в жизни момент, когда он должен стать одиночкой и может рассчитывать только на себя».
Билли почти потерял рассудок, загоревшись идеей сделать козлом отпущения старика Рейча, ободрать его, изжарить и преподнести сенатской комиссии и своим обиженным коллегам на блюде, с букетом петрушки в носу и ленточками на рогах, а шкуру бросить на пол у себя в прихожей. Григорьев пытался убедить своего шефа, что это плохая идея, но в ответ слышал только все новые способы, как через Рики связать Рейча с террористами.
– Этот Рики шляется по всяким дискотекам, клубам, арабским кофейням, курит травку, – возбужденно рассуждал Макмерфи, – кто бывает в таких заведениях, какие там штуки находят при полицейских облавах, всем известно! К тому же магазин Рейча имеет определенную нацистскую направленность, как и его коллекция. Некоторые неонацистские группировки в Германии сегодня тесно связаны с исламскими фундаменталистами, у них могут быть общие каналы по наркотикам и оружию, по центрам подготовки боевиков. Все переплетено в единый узел, и Рейч – внутри узла. Вам надо просто подчеркнуть это в своих отчетах! Наши с удовольствием поверят! Такие люди, как Рейч, никому не нужны. Он проститутка! Он обслуживал всех, кто ему платил.
– Но он никогда не обслуживал террористов. Он ими манипулировал, продавал их. Вы сами не раз пользовались его информацией, его услугами. По сути, он такой же разведчик, как вы и я.
– С его помощью убивали немцев, которые уходили из ГДР на запад, через стену. Это были ученые, врачи, биологи, физики, мученики совести!
– Они работали на «Штази». Запад перекупал их. Мученики совести! Они предлагали себя Западу, как товар, и становились товаром.
– Не вам их судить, Эндрю! Они хотели свободы!
– Они хотели получать больше денег, а вовсе не свободы! Я их не сужу, Билли. Но и Рейча судить не собираюсь.
– Да, они хотели денег! Ну и что в этом плохого? Только деньги делают человека свободным! – кричал Билли.
– Мы говорим сейчас о Рейче, у нас не философский спор, – мягко напоминал Григорьев, – Рейч за свою жизнь успел натворить много гадостей, как вы и я, но террористов он не обслуживал никогда! Вы хотите, чтобы вместо отчетов я состряпал пару-тройку доносов на старика?
– Это идеология, это уже не разведка, понимаете? А идеология не бывает без доносов и вранья! Разведка, впрочем, тоже! Не надо корчить из себя святого, Эндрю! Если меня выкинут в отставку, вам тоже долго не продержаться! – кричал Билли.
Он как будто забыл, что поездка Григорьева во Франкфурт была не его, Макмерфи, личным поручением, а частью масштабной операции. Григорьев должен был встретиться с Рейчем и проверить его как одного из возможных отправителей конвертов с неприятными снимками. Еще десяток сотрудников ЦРУ и ФБР точно с такими же заданиями поехали в разные города Европы, Америки и Австралии, туда, где жили люди, когда-то работавшие военными корреспондентами и имевшие возможность снимать американских инструкторов в Афганистане. Проверять бывших репортеров следовало тактично, аккуратно и абсолютно законными средствами, без провокаций и подтасовок.
Операция проходила под контролем все той же сенатской комиссии. Придраться могли к любой мелочи. ЦРУ переживало очередной кризис, кажется, самый глубокий и позорный за всю свою историю. Шла кадровая чехарда. Бесконечные проверки, увольнения, сведение счетов. Старая, безобразно распухшая бюрократическая структура, с ее рутиной, интригами, грязными секретами, агентурной сетью, научными лабораториями, дала трещину, сквозь которую стало видно, сколько там накопилось всякой гадости за многие годы напряженной безупречной работы.
Билли Макмерфи не хотел уходить в отставку. В последние годы страх отставки стал для него фобией. Он не доверял своему заместителю, который временно исполнял его обязанности. Он не мог допустить, чтобы за Рейчем и Рики следили агенты ЦРУ. Тогда вся информация стекалась бы не к нему, а к его заместителю, и тот мог распорядиться ею по своему усмотрению, использовать ее против Билли, чтобы занять его место.
Когда стало ясно, что без наружного наблюдения не обойтись, Билли с удовольствием ухватился за предложение Кумарина воспользоваться во Франции услугами частного детективного агентства. Он привык, что вопросы оплаты агентов его не касаются. Он просто забыл поинтересоваться. сколько это может стоить. И не подумал, что платить придется из собственного кармана.
– Пусть, пусть он заплатит брату моей горничной! – радовался Кумарин.
– А если Рейч умрет на операционном столе? – тревожился Билли
«Господи, как же вы мне оба надоели», – вздыхал про себя Григорьев.
Вечером Клер передала Кумарину видеокассету. На ней был заснят Рики в маленьком кафе, в обществе двух арабов. Перед тем как выйти и оставить Григорьева и Кумарина наедине с телеэкраном, она сообщила, что, по данным агентов, которые вели наблюдение, оба мужчины – граждане Саудовской Аравии.
* * *
– У них милицейская рация в машине, – сказал Арсеньев, – они перехватили нас и успели быстро смотаться.
Маша сидела рядом с ним, закрыв глаза, откинувшись на спинку. Ее знобило. Она куталась в плед, который очень кстати нашелся у Арсеньева в багажнике.
– Это не страшно. – сказала она чуть слышно, – они там еще появятся. Им нужна Василиса. Она свидетельница.
– Но она не видела никого из них достаточно ясно, чтобы составить словесный портрет. К тому же она не может говорить, и они знают это, они смотрели телесюжет и побывали в больнице. А ты не думаешь, что она была знакома с ними раньше?
Маша помолчала, потом медленно, неуверенно спросила:
– Как тебе кажется, твой сосед Гриша мог иметь знакомых убийц? Мог он стать членом какой-нибудь банды или секты?
Арсеньев нервно рассмеялся.
– Если бы ты спросила меня об этом неделю назад, я бы точно ответил: нет. А сейчас – не знаю. Гришка очень любопытный и общительный. Ему интересно болтать со всякими странными личностями. Ему кажется, что у каждого бомжа, металлиста, скинхеда есть своя история, таинственная и романтическая. Членом банды или секты он, конечно, не стал бы никогда, но мог с кем угодно познакомиться и разговориться на улице, в метро.
– В электричке, – добавила Маша.
– Да, в электричке, – кивнул Арсеньев, – ты что-то говорила про секту. Легко представить, что знакомство произошло именно в электричке, а со станции они вместе отправились к лагерю.
– На машине?
– Почему нет? Машина могла ждать на станции.
– Ага, и они спокойно, покорно в нее загрузились, поехали неизвестно куда с незнакомыми людьми.
– Ну они же познакомились в электричке, успели поболтать. Гришка, правда, очень общительный, любопытный и доверчивый.
– Саня, все это пока только наши с тобой фантазии. Мало фактов, – Маша поежилась, плотнее укуталась в плед. – В любом случае Василиса пока единственная свидетельница.
– У вас есть программа защиты свидетелей. А у нас нет, – сказал Саня.
– Это только звучит красиво, – усмехнулась Маша. – на практике получается ужасно. Человеку меняют имя. иногда внешность, переселяют в другой штат. Он рвет все свои прежние контакты. Работа, друзья, семья – все остается в прошлой жизни. Некоторые начинают сходить с ума от одиночества, пытаются покончить с собой, сбежать Говорят, лучше смерть, чем такая жизнь. Самый надежный способ защиты свидетелей – это как можно скорее поймать преступников. Кстати, ты поймал убийцу писателя Драконова?
– Задержали одного наркомана, но пока ничего не ясно
– Есть какая-то связь с мемуарами генерала Колпакова?
Арсеньев резко развернулся к Маше.
– Ты откуда знаешь про мемуары?
– Действительно, откуда я знаю? – Маша нахмурилась. – Наверное, из Интернета, – она помолчала, подумала немного и радостно добавила: – Ну конечно! Я знаю о мемуарах от самого Драконова!
– Как это?
– Нет-нет. мне покойник не являлся. Просто два года назад я разговорилась с ним на какой-то презентации. Он тогда писал роман-биографию бандита Хавченко. На фуршете писатель крепко выпил. Узнал, что я американка, и стал толкать антиамериканские речи. Он пытался меня убедить, что во всех бедах второй половины двадцатого века виноваты США. Все происки ЦРУ, в том числе война в Афганистане и нынешний терроризм. Когда он рассуждал про Афганистан, постоянно упоминал своего близкого друга, генерала Жору, героя афганской войны, говорил, что у него осталось много уникального материала, генеральских воспоминаний, и он обязательно напишет книгу Спрашивал, нет ли у меня знакомых издателей в Нью-Йорке
– Погоди, он называл генерала Жору своим близким другом? – перебил Саня.
– Ну да, они были знакомы лет двадцать. Драконов помнил Вову Приза, генеральского племянника, маленьким мальчиком, бывал на даче, на той самой, что здесь неподалеку.
– Ты уверена, что он не сочинял?
– Зачем?
– Ну, не знаю, иногда люди фантазируют, окружают себя всякими солидными друзьями и знакомыми, чтобы придать себе весу.
– Ой, брось,—Маша поморщилась,—кто такой этот генерал Колпаков? Что от него осталось, кроме племянника?
– Кроме племянника, который уверял меня, что его дядя не был знаком с писателем Драконовым. – пробормотал Саня.
– Врет.
– Зачем?
– А ты спроси: господин Приз, зачем вы врете? Потом расскажешь, что он ответит, – Маша зевнула, взглянула на часы. – Рязанцев меня убьет.
Они как будто тянули время, прятались друг от друга за разговорами. Беседовали вроде бы вполне живо, о важных и серьезных вещах, но избегали встречаться взглядами. Фразы звучали слегка фальшиво, а паузы делались все длинней и напряженней.
– Когда приедет группа, можно будет отправить тебя к Рязанцеву на какой-нибудь машине.
– Нет.
– Почему?
– Я хочу поговорить с женщиной, которая нашла Василису И с участковым
– Маша, ты можешь мне объяснить, зачем тебе все это нужно? – Арсеньев решился, наконец притронуться к ее щеке Он хотел видеть ее лицо и просто убрал за ухо выбившуюся прядь
Она вся сжалась, укуталась в плед, как в кокон.
Что-то новое появилось в ее лице. Оно стало грустным, безнадежно грустным. Крайняя степень усталости и шок после пепелища Он только так мог объяснить себе ее застывший взгляд, стиснутые зубы.
– Я не могу сейчас ответить. Нужно – и все. Я должна знать.
– Что именно?
– О, Господи. Саня, не мучай меня, я сама не понимаю, что именно Пока все только на уровне ощущений, догадок. Знаешь, как говорят: если кажется, креститься надо. Вот я только и делаю, что крещусь.
– Помогает? – натянуто улыбнулся Саня.
– Как правило, да.
– Два года назад у тебя тоже были ощущения, догадки. А потом мы поймали убийцу. У тебя потрясающая интуиция.
– Спасибо. Кстати, как там дальше развивались события? Я же ничего не знаю.
– Наш маньяк Феликс Нечаев получил пятнашку: Даже заседания суда он умудрялся превращать в ток-шоу. Корчил рожи, рассуждал о подсознании, сублимации, депривации. о самках орангутанга, фаллической символике, губной помаде и постмодернизме. Несколько раз, с новыми подробностями, рассказывал туманную историю о том, как в ноябре восемьдесят пятого нашел свою Лолиту в подмосковной лесной школе, но она упорхнула от него в окно, как бабочка, и с тех пор вся его жизнь превратилась в поиски этого волшебного образа
– Бедный старик, – вздохнула Маша
– Ты о ком? – удивился Арсеньев
– О Набокове. Он написал гениальную книгу Вряд ли он мог предположить, что потом многие годы разные ублюдки, уголовные и литературные, будут использовать ее страницы в качестве красивых оберток, в которые так удобно заворачивать собственное дерьмо
– Я не читал, – покачал головой Арсеньев. – я не хочу читать, как взрослый мужик развращает ребенка Даже если это гениально написано.
– Книга ни в чем не виновата. Ну ладно, —она улыбнулась, – о Набокове мы с тобой потом поговорим. Ну и как сидится Феликсу?
– Ничего сидится. Уже в КПЗ его опустили, но он, кажется, не слишком огорчился. Легко сменил ориентацию. У него ведь всегда было пристрастие к декоративной косметике. На зоне активно участвует в художественной самодеятельности. А как ты думаешь, где сейчас та девочка, которая сиганула из окна лесной школы в ноябре восемьдесят пятого, спасаясь от маньяка Феликса?
– Понятия не имею, – быстро, тихо, произнесла Маша и отвернулась. – Откуда мне знать?
Они замолчали надолго, оба смотрели прямо перед собой. Наконец Саня чуть слышно спросил:
– Он ведь тебя не тронул тогда? У него ничего не получилось, правда?
Она съежилась так, что стала совсем маленькой, и пробормотала:
– Конечно. Я выпрыгнула в окно.
– А потом уехала в Америку?
– Нет. Я там родилась.
– Маша, перестань Что ты говоришь?
– Ну. хорошо Я там родилась во второй раз. Меня вывезли в инвалидной коляске, без всякой надежды на выздоровление, к тому же с психиатрическим диагнозом. Я никому ничего не могла рассказать. Все считали, что я просто пыталась покончить с собой. По сути, я это и сделала. Я хотела умереть, когда прыгала из окна. Знаешь, от него так воняло. От него воняло смертью, тленом, хотя он был вполне реальным и деятельным. Этот запах я никогда не забуду Он заклеил мне рот пластырем, водил раскрытыми ножницами у глаз, у горла.
– Перестань. – сказал Арсеньев, – не надо больше. Забудь об этом Прошло столько лет, Феликс Нечаев сидит, и сидеть будет очень долго. Если бы не ты, его вряд ли сумели бы поймать.
– Да, но перед тем. как его поймали, он убил трех человек.
– Ты так говоришь, как будто ты в этом виновата.
– Я виновата, что никому не рассказала о нем. Конечно, можно найти множество оправданий. Мне было четырнадцать лет. у меня погибла мама, умерла бабушка, я не могла говорить об этом с чужими людьми, с врачами в детской больнице. Все вполне уважительные причины. Но если бы я тогда, в восемьдесят пятом, рассказала о нем, его бы нашли. Вика Кравцова, Томас Бриттен, проститутка с подмосковного шоссе, не помню, как ее звали; три человека были бы живы сейчас, если бы я тогда заговорила. Но я молчала.
– У тебя преувеличенное чувство вины, – сказал Арсеньев.
Маша впервые решилась повернуться к нему.
– Василиса – девочка, которая пережила кошмар, чудом уцелела и никому не может об этом рассказать. Вот почему я и торчу здесь, с тобой, жду твою опергруппу, а не сижу у Женечки Рязанцева и не вытираю ему сопли.
– У тебя есть кто-нибудь там, в Америке? – внезапно спросил Саня и почувствовал, что краснеет.
– Да. У меня есть Дик. Мы с ним встречаемся дважды в неделю.
– Понятно.
– Ничего тебе не понятно.
Арсеньев взглянул на нее быстро, искоса.
– Но тогда зачем ты встречаешься с ним дважды в неделю? – спросил он шепотом, надеясь, что она не расслышит. Но она расслышала и ответила спокойно, с мягкой улыбкой:
– Чтобы от меня отстали. В моем возрасте, при моей профессии, неприлично не иметь бой-френда. Я обязана быть во всем о'кей. Как все. Я не могу позволить себе никаких странностей. А быть одной, когда тебе тридцать, – это странно.
– Маша! – он взял ее за плечи, притянул к себе, прижался лбом к ее лбу и быстро, на одном дыхании, произнес:
– Ты можешь не улетать в этот свой Нью-Йорк?
Она не ответила. И он больше ничего не спросил. Они стали целоваться, как в первый и в последний раз в жизни.
* * *
На экране возникла мутная черно-белая картинка, какая бывает, когда снимают скрытой камерой в плохо освещенном помещении.
Кумарин и Григорьев увидели комнату, обставленную по-восточному. Ковры, низкий столик, подушки вместо кресел. Вокруг стола на подушках сидели трое мужчин.
– Это Рики, – Григорьев ткнул пальцем в экран, указывая на красивого худого юношу с хвостиком на затылке, – остальных не знаю.
– Ну вам же объяснили, – улыбнулся Кумарин, – это предположительно граждане Саудовской Аравии.
Толстый араб в длинной просторной рубахе, в клетчатом платке на голове поглаживал огромное пузо, вяло жевал большими блестящими губами. Второй, худой, как скелет, в черном костюме, в белой рубашке с черным галстуком, жгучий брюнет с бледным плоским лицом, напоминал агента похоронной конторы. Через минуту стало ясно, что он переводчик.
Толстяк на экране сердито произнес что-то по-арабски.
– Почему он выбрал именно тебя? – спросил тощий по-немецки.
Оба хмуро уставились на Рики. Толстый все жевал губами. Тощий нежно провел ладонью по своей идеальной, глянцевой прическе.
– Наверное, потому, что доверяет мне больше, чем всем остальным, – сказал Рики и улыбнулся, – а также потому, что мне доверяете вы. Вы же согласились со мной встретиться, верно?
– Мы доверяем тем, кто тебя рекомендовал. Но это не значит, что мы доверяем тебе. Скажи, ты мужчина или женщина?
Кумарин захихикал.
Рики нисколько не смутился, гордо тряхнул головой и ответил:
– То, что у меня красивое лицо и хорошая фигура, еще не доказывает, что я гомосексуалист.
Переводчик на экране стал что-то объяснять своему шефу по-арабски, вероятно, заступился за Рики. Толстый снисходительно хмыкнул, кивнул.
– Ты гомосексуалист, но это не важно. Из уважения к тем, кто за тебя поручился, и к тому, кто тебя прислал, мы будем с тобой говорить. Итак, что он просил передать?
– Он согласен на все ваши условия.
– Какие он может дать гарантии того, что наши условия будут выполнены?
– Главная гарантия – ваша поддержка. Вы поможете ему добиться такого уровня влияния, который даст ему возможность действовать в ваших интересах.
– Ты хочешь сказать, что его интересы полностью совпадают с нашими?
Когда толстяк произносил этот свой вопрос по-арабски, его губы перестали жевать и растянулись в усмешке. Похоронный агент, переведя вопрос, тоже усмехнулся.
– Вы сами знаете, что это так, – сказал Рики, – вы имели возможность подробно ознакомиться с его программой.
– Но официально он декларирует совсем другое, – заметил переводчик, – он живет двойной жизнью. Нельзя понять, где кончается правда и начинается ложь.
– Политика не бывает без лжи. Он обманывает врагов. Друзьям он всегда говорит правду.
Толстый сказал что-то, худой льстиво, восхищенно улыбнулся и перевел:
– Мы видели и слышали его публичные выступления. Он врет миллионам своих сограждан. Они все его враги?
– Он врет толпе. Чтобы толпа понимала правду, ее надо очистить, от скверны и потом строго воспитывать, как непослушного ребенка.
Кумарин покачал головой и заметил шепотом:
– Смотрите, он совсем не дурачок, этот мальчик-девочка. Он довольно лихо болтает языком.
– Ну так! – пожал плечами Григорьев. – Писатель!
Толстый и тонкий долго возбужденно говорили между собой по-арабски. Они как будто забыли о Рики, так увлеклись своей беседой. Тот сидел, прихлебывал кофе, терпеливо ждал.
– Он не мусульманин, – наконец сказал тощий по-немецки.
– В его стране, будучи мусульманином, невозможно добиться серьезного политического влияния.
– Это не совсем так, – тонко улыбнулся переводчик. Толстяк произнес по-арабски длинный монолог. Переводчик молча слушал, кивал, затем обратился к Рики.
– Одним из наших условий было то, что он примет мусульманство. Ты говорил, он согласен выполнить все наши условия. Это тоже?
Рики явно растерялся. Он не был готов ответить. Несколько секунд он молчал, низко опустив голову, теребил пуговку на рубашке.
– Я затрудняюсь сейчас сказать точно, да или нет. Но я знаю, что он не христианин и для него вопрос религии не является принципиальным.
– А что для него принципиально?
На этот раз Рики ответил, не задумываясь:
– Спасти свою страну, очистить ее от еврейско-американской заразы, навести порядок и установить новый, правильный режим.
– Почему он не пытается обратиться за поддержкой к кому-то внутри своей страны? Там есть очень богатые люди.
– Это все вчерашние люди. Большинство из них в последние годы вынуждены жить за границей, поскольку находятся под следствием. Связываясь с ними, он серьезно рискует. Никто из них не разделяет его взглядов. Эти люди воры, у них нет никаких принципов, они думают только о себе, им плевать на судьбу своей страны, на будущее мира. Они потеряли влияние. В их окружении полно предателей, и любой контакт с ними…
– Мы говорим сейчас не о взглядах и принципах, – резко перебил толстый, – мы говорим о деньгах. Если у него есть реальные шансы получить власть, почему никто до сих пор не вкладывал в него денег?
– Потому что он ни к кому не обращался. У него есть свои деньги.
– Откуда у него деньги?
– Простите, но этот вопрос я считаю неэтичным и преждевременным. Вы еще не дали ему ни гроша, а уже хотите, чтобы он делился с вами всеми своими секретами.
– У него есть причины скрывать от нас происхождение своих капиталов?
– У него есть капиталы. Остальное не важно.
– Хорошо. Допустим. Тогда зачем же он обращается к нам?
– Ему нужно больше.
Толстый и тонкий опять стали совещаться по-арабски. Совещались долго.
– Мы дадим ему пока одну десятую той суммы, которую он просит, – сказал переводчик, – мы будем очень внимательно наблюдать, как он распорядится нашими деньгами. На следующую встречу он должен приехать сам.
Все трое встали. Комната опустела. Запись кончилась.
Григорьев и Кумарин несколько минут сидели молча. Тишину нарушило тихое покашливание Клер. Она принесла небольшую распечатку с информацией о господине Рихарде Мольтке и о двух господах из Саудовской Аравии.
– Деньги вам пришли? – спросил Кумарин.
– Да. Часть денег уже переведена на счет фирмы. Спасибо, – кивнула Клер, – наши люди продолжают наблюдать за Мольтке. Покинув кофейню, он позвонил кому-то, сказал всего несколько слов. Примерно так: все хорошо, пока одна десятая, но на большее нельзя было рассчитывать сразу, это только начало. Затем взял такси, отправился на набережную. Сейчас сидит на пляже. Телефон выключен. Что касается арабов, они поехали в аэропорт. Пятнадцать минут назад зарегистрировались на рейс Ницца – Женева. Имена, паспортные данные, номер рейса – тут все записано. Продолжать наблюдение за ними мы не можем. У нас нет лицензии на работу в Швейцарии.
– Понятно, Клер. Спасибо. В Женеве этими господами займется Интерпол. Главное, не упустите Мольтке.
– Не волнуйтесь, месье, – она впервые улыбнулась, скупо, не разжимая губ. – На пляже рядом с ним три наших агента.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
В качестве фотографа вместе с журналисткой к режиссеру Дмитриеву должен был отправиться Серый. Он приехал к Призу, загнал «Тойоту» в гараж, на всякий случай отвинтил номера, привинтил другие, запасные. Потом долго, шумно плескался у Приза в джакузи. Наконец вышел, довольный, розовый, растирая полотенцем мощную спину.
– Пожрать дашь?
– Открой холодильник, возьми, что найдешь.
– Слышь, Шама, а чего у тебя до сих пор прислуги нет?
Серый присел на корточки перед открытым холодильником и глубоко задумался.
– Приходит одна тетка, два раза в неделю, убирает квартиру, – тусклым голосом ответил Приз.
– Надо, чтобы каждый день, чтобы жрачку готовила, все покупала. Бли-ин! Да у тебя здесь одни йогурты и трава! Ты чего, на диете, что ли? – он мерзко, нагло заржал.
Призу захотелось ему врезать. Было бы удобно дать пинка сзади. Вова представил, как его друг заваливается вперед, мордой в открытый холодильник, бьется лбом или носом о железную полку. Лучше носом, так больнее. Впрочем, сейчас лицо Серого должно быть целым, чистым и привлекательным.
– Ну так чего насчет пожрать-то? – Серый встал, полотенце скользнуло на пол, он наступил и не заметил.
– Подними! —тихо сказал Приз.
– Что? – белесые брови Серого поползли вверх.
– Подними полотенце.
Возможно, если бы Приз промолчал, Серый сам спокойно поднял бы полотенце, отнес в ванную и не обратил внимания на эту ерунду. Но что-то вдруг произошло. Легкая ледяная молния пробежала между ними.
– Я тебе что, шестерка? – сказал Серый и криво усмехнулся.
Приз замер. Такое было впервые.
– Подними, – повторил он и сжал кулаки.
Серый был сильней физически, но никогда раньше это не имело значения. Работало нечто совсем другое. Много лет назад, когда все они были детьми, Шаман стал главным потому, что он Шаман, и никому не приходило в голову сомневаться и обсуждать это.
Но сейчас вдруг какая-то пружинка лопнула у него внутри, и до слуха Серого донесся тонкий жалобный звон этой пружинки. Все вроде бы по-прежнему, но уже не так, как было.
«Я жил без своего перстня, и ничего. Что же теперь? Почему он смеет так нагло усмехаться? Сволочь, я ведь убью тебя! Ну давай, гнись, гнида, чего ты ждешь?»
В детстве у Шамана случались истерики. Он катался по земле, выл, вопил, грыз зубами все, однажды даже разгрыз до кости собственную руку.
Когда они были детьми, друзья реагировали на эти припадки с суеверным страхом, собственно, из-за них его и стали называть Шаманом. В эти минуты он становился для трех деревенских мальчиков сказочным персонажем, колдуном, Змеем Горынычем, злым, но жутко интересным. Серый, Миха, Лезвие воспринимали его истерики как мощные выплески той дикой таинственной энергии, которую чувствовали в нем постоянно и которой привыкли подчиняться. В минуты приступов он делался невероятно сильным. Исчезали боль и страх. Если он начинал драться, то мгновенно побеждал. Правда, потом дрожал от слабости и обливался холодным потом.
С возрастом суеверное почтение друзей к загадочной истерии постепенно остывало. Чутье вовремя подсказало Шаману, что еще немного и очередной припадок вызовет у них только насмешку. Достаточно одной кривой улыбочки, спокойного скептического замечания, и весь его авторитет рухнет.
Он научился держать себя в руках и выпускать волны бешеной энергии другими способами, регулировать их, использовать, как элемент публичной игры. Для этого хороши были роли в сериалах, экстремальные шоу и политические дебаты.
Его друзья взрослели. Но толпа, публика, оставалась вечным ребенком, для которого истерические заклинания колдуна, сказки, смешные и страшные, куда интересней, чем взрослые умные речи.
Дядя рассказывал ему, как нацисты заряжались магической энергией, сколько было у них разных ритуалов и оккультных штук. Им помогали кинжалы, перстни, сама свастика, древний индийский символ солнца, вечного движения, и еще черт знает что.
Больше всего маленького Шаму заинтересовала история с копьем Лонгина. Лонгин был римский легионер. По легенде именно он наконечником своего копья пронзил сердце Христа на кресте. Когда Адольф Гитлер был совсем молодым, он увидел это копье в Вене, в музее, прикоснулся к нему и зарядился магической силой, которую все в нем чувствовали потом, до конца его земной жизни, и чувствуют до сих пор, хотя он умер почти шестьдесят лет назад.
Дядя Жора считал это сказками, бредовой мистикой, но рассказывал с удовольствием. Маленький Шама слушал, открыв рот, и запоминал.
Через много лет он услышал эту же историю от писателя Льва Драконова. Драконов не считал мистику бредом, знал значительно больше, чем покойный дядя Жора. Он рассказывал о нацистских экспедициях на Тибет, о подвалах Гиммлера, в которых работали алхимики, о теории космического льда и четырех лун, об оккультных обществах «Тиле» и «Аненербе». Огромный архив «Аненербе» был тайно вывезен в СССР после войны и изучался в секретных лабораториях НКВД. Архив «Тиле» бесследно исчез, возможно, его уничтожили сами нацисты, чтобы он не попал в руки врагам.
Однажды Драконов обмолвился Призу, что во Франкфурте живет его старый знакомый, бывший репортер, у которого неплохая коллекция всяких нацистских магических штуковин. Вове очень захотелось посмотреть и потрогать.
– Никаких проблем, – сказал Драконов, – можешь сослаться на меня.
Он дал Вове телефон Генриха Рейча, адрес его магазина на Вагнер-штрассе. При первой же возможности, когда выдалось несколько свободных дней, Приз отправился в Германию и вернулся с платиновым перстнем на мизинце.
О докторе Отто Штраусе он знал, что это был личный врач Гиммлера, который проводил научные опыты на заключенных в концлагерях. Только это, и ничего больше. Но сам доктор его не особенно интересовал. Для него главным был перстень. Он почувствовал родную, целебную энергию, исходившую от маленького кусочка металла. Уже через неделю после поездки во Франкфурт он вообще забыл, кому прежде принадлежал этот магический предмет. Для него перстень стал недостающей частью его собственного тела. Вот не было, а теперь появился в свой срок, как зуб мудрости.
С перстнем он казался себе мудрей и спокойней. Истерики уже не клокотали внутри, не требовалось никакого напряжения, чтобы сдерживать их и направлять в правильное русло. Они сами направлялись, куда надо. Даже физически он стал крепче и здоровей. Очистилась кожа, заблестели и перестали лезть волосы. Лучше заработал желудок. Уже не надо было столько времени мучить себя занятиями на тренажерах и соблюдать такую строгую диету. Он не толстел, даже если позволял себе есть больше, чем обычно, и не пьянел от спиртного.
Перстень хранил его, давал силы, укреплял здоровье и был гарантом будущих побед. Следовало срочно его вернуть и надеть на палец.
Серый стоял на белом мягком полотенце и усмехался. Если сейчас ему врезать, он даст сдачи, да так, что мало не покажется. Если оставить все как есть, просто отступить, забыть об этой несчастной махровой тряпке, будет еще хуже.
«Надо смотреть прямо в глаза, не моргать, не отводить взгляда, представить, что твои зрачки два черных дула. Не говорить больше ни слова, просто молчать и смотреть».
Собрав в кулак всю свою волю, Приз молчал и смотрел. Казалось, прошла вечность. На самом деле, не более минуты. Серый отвел взгляд, криво усмехнулся, медленно, очень медленно наклонился и поднял полотенце.
– Кто мог сообщить о тебе ментам? – ровным голосом, едва справляясь с одышкой, спросил Приз. – Почету они поперлись проверять тебя? Где ты прокололся? Ну? Думай, вспоминай.
Перекинув полотенце через плечо, Серый стоял перед ним, уже вполне ручной, прежний, виновато моргал и не решался поднять глаза.
– А хрен их знает, – сказал он, – может, из жильцов кто заметил, что машина с водителем так долго стоит во дворе, ну и это, короче, решил выяснить. Рядом крутой клуб, ну и ваще, центр. Так чего насчет пожрать, а, Шама?
– Пошарь как следует, там должен был остаться шашлык из ресторана, разогрей в микроволновке и жри.
Приз поплелся в ванную. Он дрожал от слабости и был весь мокрый. Только что он колоссальным усилием воли согнул спину Серого, заставил подчиниться. Он устал, как будто гнул руками подкову. На этот раз удалось. Но удастся ли опять?
Он влез под душ, тихо запел песню про лютики. Стало немного легче.
Через пятнадцать минут он сидел напротив Серого в гостиной и спокойно проводил инструктаж.
– Никаких «блинов» и «короче». Никаких матюков, и даже «ёкелэмэнэ». Молчи и улыбайся. Здравствуйте, пожалуйста, спасибо, головку чуть левее, да, так хорошо. Внимание, снимаю! Вот все, что будешь говорить. Постарайся снять девчонку, но так, чтобы это не вызвало подозрений. Попробуй выяснить, правда ли она не может говорить или только придуривается, или вообще это какая-то лажа, ловушка.
– То есть, блин? Я не понял, в натуре! – Серый похлопал сонными глазами.
Чтобы он проснулся и стал живее соображать, Приз протянул ему три купюры по сто долларов и сказал:
– Это тебе аванс. Тебе лично, понял? Лезвие и Миха ничего не знают. И не надо с ними ничего обсуждать. Это наши с тобой дела. Я тебе плачу, ты делаешь. Сумеешь достать перстень, получишь больше. Чем быстрее его достанешь, тем больше получишь. Действуй.
У Серого была подружка. Она работала медсестрой в частной косметической клинике, имела среднее медицинское образование. Она выросла в «Викинге», ничего не боялась, никого не щадила. Ее звали Надя. Она вполне годилась на роль сиделки для внучки Дмитриева. Надя сразу поняла, в чем ее задача. Она должна была вступить в игру уже сегодня вечером. Корреспондентка поговорит с Дмитриевым, позвонит Наде прямо от него, попросит поскорее приехать.
Корреспондентка Марина не понравилась Серому, он ей – тоже.
Она смерила его брезгливым взглядом и потихоньку спросила Приза:
– Володя, это что, твой друг?
– Он очень добрый и честный парень, – заверил ее Приз, – у него просто комплексы, он стесняется красивых умных женщин, поэтому такой зажатый и хмурый.
– Шама, она дура, ваще, блин! – заявил Серый, когда они остались на минуту вдвоем .
– Не понял! – шепотом рявкнул Приз. – Скажи то же самое, только приличными словами.
– Шама, я могу любыми словами сказать, но проблема не уйдет. Она дура. Зачем ты вообще ее во все это впутываешь?
– Ни во что я никого не впутываю. Она ничего не знает. Я просто хочу помочь своему бывшему учителю. У него тяжело больна внучка, и нет денег на хорошую сиделку. Но он очень гордый, денег у меня не возьмет и не позволит, чтобы я за него платил сиделке. Вот я и придумал такой благородный ход.
– И она тебе поверила? – Серый криво усмехнулся.
– Разумеется.
– Ну вот, я ж говорю, дура!
– Ничего, ничего, – успокаивал себя Приз, когда они, наконец, выкатились из квартиры, – терпеть этот бред придется еще довольно долго, но все когда-нибудь Кончается. Сейчас главное – перстень. Я придумал хороший план, тихий и безопасный. Он должен сработать. Ох, Серый! Не понимаешь, мразь, что настанет момент, когда будет довольно одного моего слова, чтобы от тебя мокрого места не осталось. И от тебя, и от Михи. А потом дойдет очередь до Лезвия. Простите, пацаны, – он посмотрел в зеркало, очень печальным взглядом. Он представил, как красиво, торжественно будут хоронить его ближайших друзей. Оркестр. Военный салют. Горы цветов. Представил – и прослезился. Простите, пацаны!
Что делать? Настоящий диктатор, добившись власти, вынужден уничтожать тех, с кем начинал. Наступает момент, когда не должно существовать людей, которые помнят тебя жалким и слабым, которые могут сказать тебе «ты».
Приз продолжал смотреть в зеркало и горько, искренне плакать. Натуральные соленые слезы обильно текли по его щекам.
* * *
Сергей Павлович Дмитриев до приезда корреспондентки с фотографом ужасно переволновался. Он нашел в справочнике несколько телефонов служб, по которым можно было вызвать доктора на дом. И узнал, что визит доктора (только визит!) стоит от тысячи рублей до двух тысяч. Сейчас таких денег у него не было.
Нет, Сергей Павлович не нищенствовал. Разные случались в жизни периоды. Иногда удавалось получать вполне приличные суммы. Каждый раз он говорил себе, что вот, пока денег много, надо отложить что-то на черный день. Купить самое необходимое, решить накопившиеся проблемы: погасить задолженность за квартиру, за телефон, вернуть долги приятелям, купить пару приличных зимних ботинок, брюки, новый чайник, кое-что из белья, поменять смеситель в ванной.
Он садился за стол с карандашиком и начинал подсчитывать. Получалось, что после всех неотложных трат должна остаться пара-тройка сотен долларов. Но почему-то всегда этот остаток существовал только на бумаге. Стоило начать тратить, и уходило все, до копейки. Сергей Павлович попадал в очередную финансовую дыру.
Именно в такой дыре он находился сейчас. В бумажнике лежала последняя сотня рублей с мелочью. Две сотни остались на сберкнижке. Дней через десять должна была прийти жалкая пенсия от Союза кинематографистов. Потом маячили на горизонте кое-какие выплаты за ретроспективный показ его старых фильмов по нескольким телеканалам. Но когда выплатят, сколько и выплатят ли вообще, он точно не знал. И, как назло, на дворе был август, все его немногочисленные приятели, у которых он мог бы попросить взаймы, разъехались, кто куда.
Сказать внучке, что сегодня, сейчас, денег на врача у него нет, было нестерпимо стыдно. Получалось, что он забрал ее из больницы, взял на себя ответственность, а лечить ему Василису не на что.
После завтрака она опять уснула. Она вообще очень много спала, что вполне естественно для ребенка после таких тяжелых потрясений. Повязки с ее рук и ног Сергей Павлович снял, промыл ожоги в растворе фурацилина, как научили его в больнице, попытался забинтовать, но ничего не вышло.
– Пусть немного на воздухе все подсохнет, – сказал он, – так быстрее заживет.
Василиса не возражала. Она зевнула, свернулась калачиком на чистой простыне и тут же заснула. Дверь в кабинет он на всякий случай оставил приоткрытой.
«У кого же занять денег? Я и так много должен Маше. Пятьдесят долларов она дала врачу, тысячи две рублей потратила в супермаркете и в аптеке, столько всего накупила. Где, в какой стране возможно, чтобы режиссер моего уровня жил как нищий? Стыдно. Мне стыдно, а не им, хотя я, в общем, ни в чем не виноват. Но это все эмоции. Надо вернуть деньги Маше и еще где-то достать».
Сергей Павлович растерялся, расстроился, и, пока он думал, как выйти из этого дурацкого, унизительного положения, в дверь позвонили.
На пороге стояла женщина лет тридцати пяти. У нее было милое, яркое лицо. Она даже напомнила ему какую-то известную итальянскую звезду шестидесятых.
– Марина, – представилась она.Сергей Павлович по своей старой привычке поцеловал ей руку.
За спиной у нее маячил плечистый мужик с лицом мрачным и даже немного ублюдочным. В руках он держал большую сумку, в которой была фотокамера.
– Познакомьтесь, это Сережа, наш фотограф, – сказала Марина и улыбнулась очень приятно, тепло.
– А что он у вас такой мрачный? – спросил Сергей Павлович, когда они с Мариной прошли в комнату, а фотограф остался в коридоре, разбирать свое оборудование.
– Он просто стесняется,—объяснила Марина,—как ваша внучка себя чувствует?
– Спит. Она пока очень слабенькая.
– Сколько ей лет?
– Семнадцать. Зовут Василиса.
– Замечательное имя. Что же с ней случилось?
Сергей Павлович в нескольких словах объяснил, что Вася поехала с друзьями за город, попала в зону пожара, у нее ожоги кистей рук и ступней.
– Ну, если все так серьезно, может, лучше в больницу? – участливо спросила Марина.
– Я ее только вчера вечером оттуда забрал. Лучше дома, – ответил Дмитриев.
– А где ее родители?
– За границей, – Сергей Павлович нахмурился. Ему не хотелось обсуждать эту тему. – Марина, о чем будет интервью? Вы хотите поговорить о моих старых фильмах или вам интересно узнать мое мнение о сегодняшнем кино, вернее о том, что сегодня называют новым российским кино?
– Мне интересно все. Давайте сядем где-нибудь и начнем.
Хорошо, что Дмитриев успел прибрать на кухне. В гостиной творилось что-то ужасное, все раскидано, на диван сесть невозможно, торчат пружины, одно кресло косое, отвалилось колесико. На другое навалена стопка старых газет и журналов, такая пыльная, что страшно прикоснуться. В кабинете спит Василиса. Остается только кухня. Единственное место, где не стыдно принимать людей.
Марина оказалась отличной журналисткой, умным, приятным собеседником. Она умела задавать вопросы, умела слушать. К тому же была очень красивой женщиной. Пока они беседовали, фотограф Сережа щелкал Сергея Павловича, тактично, незаметно, только изредка подавая короткие реплики:
– Головку, пожалуйста, чуть левей. Вот так. Спасибо. Снимаю.
Пока Марина меняла кассету в диктофоне, он попросил разрешения заглянуть в другие комнаты.
– Мне нужно сделать несколько картинок на разном фоне.
– Простите, у меня не убрано, – смутился Дмитриев.
– Ничего страшного, – ответила за фотографа Марина, – у творческого человека редко бывает идеальный порядок в квартире. Не волнуйтесь, Сережа найдет возможность снять красиво.
– Ну хорошо, – согласился Дмитриев. – Только, пожалуйста, тихо, особенно в кабинете. Там моя внучка спит.
– Да, кстати, – сказала Марина, когда фотограф удалился, – если я правильно поняла, вы сейчас один с внучкой. Вам кто-нибудь помогает?
Дмитриев смутился. Вопрос был очень и очень актуальный. Но не хотелось жаловаться и посвящать постороннего человека в свои трудности.
– Я просто знаю, как сложно в наше время найти квалифицированную сиделку. Сама недавно столкнулась с такой проблемой.
– Сиделку? – переспросил Дмитриев удивленно.
Этот вариант ему в голову еще не приходил.
– Конечно! Если у вашей Василисы ожоги кистей рук и ступней, она же совершенно беспомощна. Есть моменты, в которых вы не можете ей помочь. – Марина тактично понизила голос. – Ну, самые элементарные гигиенические процедуры, понимаете? Она все-таки взрослая девочка, а вы, хоть и родной дед, но мужчина. Нужна сиделка, женщина, раз нет рядом мамы или бабушки.
– Да, я понимаю, – Дмитриев озадаченно нахмурился, – а вы не знаете, сколько сейчас это стоит и куда надо обращаться?
– Ко мне можете обратиться, ко мне, – Марина широко, тепло улыбнулась.
Ох, какая у нее была улыбка! Если бы Сергей Павлович до сих пор снимал кино, он непременно пригласил бы ее хотя бы в эпизодик, только за одну эту улыбку.
– У меня есть отличная профессиональная сиделка. Могу ее вам порекомендовать.
– Сколько она берет?
– По-разному. Допустим, если речь идет о лежачем тяжелом больном, это одна цена. Но у вас ведь не тот случай, верно?
– Конечно. Вася худенькая, легкая. С ней хлопот совсем немного. Но вы меня хотя бы сориентируйте по ценам.
Марина еще раз улыбнулась, достала записную книжку и взяла телефон.
– Надя? Здравствуйте. Это Марина.
Минут через десять Сергей Павлович готов был расцеловать свою гостью. Сиделка по имени Надя, с которой она его соединила, оказалась настоящим подарком. Брала она сущие копейки, всего пятьдесят рублей в день. У нее было среднее медицинское образование, приятный спокойный голос и понимала она Дмитриева с полуслова, и могла приехать прямо сегодня.
«Сто рублей у меня есть. Завтра сниму с книжки двести, оставлю там десятку, ничего страшного. Еды покупать не надо, полный холодильник, – весело рассудил про себя
Сергей Павлович, – как-нибудь продержимся. А там пенсия подоспеет».
– Так не бывает! Вы, Мариночка, настоящая фея! – он еще раз поцеловал ей руку. – Скажите, а почему так дешево?
– А вы не понимаете? – опять улыбка, на этот раз, лукавая.
– Нет, – искренне признался Дмитриев, – не понимаю.
– Я сказала, кому нужна помощь, Надя готова была приходить бесплатно. Она обожает ваши фильмы.
Когда Марина увидела, как засияли глаза старика, ей Стало не по себе, впервые за время разговора. Это Володя придумал такое объяснение: дешево потому, что сиделка обожает фильмы Дмитриева.
«Я не слишком много на себя взяла? – тревожно подумала Марина. – Что-то не так. Противный парень фотограф, к тому же, кажется, совершенно непрофессиональный. Девка эта, Надя, тоже немного странная. Я не видела ее никогда, но, судя по тому, как она со мной поговорила, та еще хабалка. Впрочем, Володенька так искренне хотел помочь своему старому учителю. В самом деле, почему всегда надо подозревать что-то плохое? Это же Приз, а не кто-нибудь».
– Ну, Марина, давайте вернемся к интервью. На чем мы остановились?
– Вы рассказывали, как в семьдесят третьем году вам пришлось перемонтировать готовый фильм, – напомнила Марина и включила диктофон.
– Ну да. Заставили перемонтировать. По идеологическим соображениям. Там у меня старый генерал громко пукал, объясняясь в любви героине, и смущался из-за этого, пытался сделать вид, будто под ним скрипит стул. Было очень смешно, однако сказали, что это подрывает доверие к нашей армии.
Слушая старика, Марина смеялась, удивлялась, всплескивала руками, грустно вздыхала. Бесшумно появился фотограф. Дождался паузы и вежливо сообщил, что наснимал достаточно, есть несколько отличных кадров.
– Да, у меня тоже, пожалуй, все, – улыбнулась Марина, выключила диктофон и посмотрела на часы.
– Ой! – спохватился Дмитриев. – Я даже забыл вам чаю предложить!
– Нет, спасибо. Мы и так отняли у вас слишком много времени.
– Когда же выйдет материал? – спросил он, провожая их в прихожей.
– Я вам позвоню. Мне надо сначала все расшифровать, потом написать, потом дать вам вычитать.
– Да, да, конечно, и, если можно, фотографии заранее покажите. Хорошо?
– Обязательно, – пообещал фотограф, важно кивнув.
Дмитриев на прощание поцеловал Марине руку, долго, горячо благодарил, и за сиделку, и за интервью. Ей опять на минуту стало не по себе. Она вытащила визитку и протянула старику, хотя помнила, как Приз предупреждал: не оставляй своих телефонов. В журнал он ни за что не позвонит, проверять ничего не станет. А тебе домой или на мобильник может.
«Доброе дело, – повторяла она про себя, садясь в машину вместе с тупым молчаливым Сережей, – я сделала доброе дело. Ничего плохого. Совершенно ничего плохого».
***
Голоса в прихожей наконец смолкли. Дверь хлопнула. Послышались шаркающие шаги деда, его тихое покашливание. Через минуту он заглянул в кабинет.
– Вася, ты спишь?
Она не спала. Она дрессировала свое горло и пыталась издать хоть какой-нибудь звук. Ничего не получалось, кроме тихого странного скрипа. Но это уже была не полная тишина. Полчаса назад она проснулась оттого, что в лицо ей ударила яркая вспышка. Только что ей снился очень хороший сон, без Отто Штрауса. Залитая солнцем поляна, качели, колокольчики в траве. Во сне она могла говорить. Она качалась на качелях вместе с Гришей, и они болтали о всякой ерунде, вспоминали школьных учителей, одноклассников, рассказывали друг другу какие-то глупые смешные истории из детства.
Вспышка показалась ей началом очередного кошмара. Она открыла глаза и увидела, что у дивана, на корточках, сидит здоровенный, вполне реальный мужик с фотоаппаратом и снимает ее. Конечно, если бы у нее не пропал голос, она бы закричала. Но она могла только открыть рот.
– Привет, – сказал он и усмехнулся.
Первый страх прошел, она поняла, что это всего лишь фотограф. К деду пришла корреспондентка, брать интервью. Фотограф забрел в кабинет и решил щелкнуть внучку знаменитого режиссера, хотя бы спящую.
На Василисе была рубашка деда. Волосы грязные, большая подсохшая ссадина на щеке, которую дед сегодня утром помазал зеленкой. Фотограф оглядывал ее с головы до ног, и взгляд у него был мерзкий. Василиса попыталась натянуть простыню, спрятаться, но не смогла, руки, хоть и без повязок, почти не слушались. Она только коленки сумела прикрыть и помотала головой: мол, уйдите, не надо меня больше снимать. Очередная вспышка заставила ее закрыть глаза.
В ушах отчетливо прозвучал знакомый голос:
– Будет весело, Гейни, поверь мне.
Дальше она уже не понимала, открыты у нее глаза или закрыты. Фотографа не стало, как, впрочем, и комнаты
Все пропало, и постепенно из гулкого ледяного мрака проступила совсем другая реальность.
Салон машины. Заднее сиденье. Справа плоский профиль Гиммлера. Впереди круглый затылок шофера. Проливной дождь стучит по крыше автомобиля, заливает окна. Мерно работают дворники, ходят туда сюда, открывают и закрывают подвижные водяные шторки на ветровом стекле. В салоне тепло, уютно, пахнет одеколоном. Снаружи мокрые темные улицы старинного города, косые капли подсвечены желтыми фонарями. Спереди и сзади небольшие крытые грузовики. В них солдаты специального отряда СС.
Мюнхен. Конец марта сорок третьего года. Отто Штраус и Генрих Гиммлер едут в гости, в небольшой особняк на окраине. Там сегодня праздник. Гиммлера и Штрауса не приглашали и не ждут.
– Сюрприз, – Отто улыбался в полумраке своему усталому, встревоженному другу, – не только для профессора, но и для тебя, Гейни. Сюрприз!
– Что ты выдумал, Отто? – качал головой Гиммлер, подергивал себя за ухо и тер переносицу, уставшую от пенсне.
– Увидишь, – хитро щурился Штраус.
В особняке ярко светились все окна. Там праздновал свой шестидесятый день рожденья профессор биологии Эрвин Лах. Он преподавал в Мюнхенском университете. Отто Штраус когда-то учился у него.
Праздник был в разгаре, когда к особняку профессора подъехал эскорт автомобилей. Хозяин вышел на крыльцо. Сквозь пелену дождя он увидел, как выпрыгивают из грузовиков один за другим силуэты в блестящих черных плащах, с автоматами, и бегут, чуть пригнувшись, шлепая по лужам, окружают его дом.
Дождь хлестал, как сумасшедший. Слуга раскрыл зонтик над плешивой головой профессора.
Штраус и Гиммлер вылезли из машины. В темноте были видны только треугольники белоснежных сорочек, высокие воротнички, под которыми чернели галстуки-бабочки. Два охранника держали над ними зонты.
– Отто? – профессор близоруко щурился, слизывал с губ капли дождя. – Что происходит? Почему столько солдат?
Он узнал своего бывшего ученика, но не мог разглядеть, кто с ним рядом.
– Не волнуйтесь, мой дорогой учитель, – успокоил хозяина Штраус, – это отряд личной охраны рейхсфюрера. У вас сегодня такой торжественный день и такой высокий гость. Поздравляю, – он наклонился и поцеловал побледневшего профессора в щеку.
– Отто, я рад. Не ожидал, – растерянно промямлил Лах.
– Поздравляю вас, дорогой профессор, – широко улыбнулся Гиммлер, сверкнул в темноте безупречными белыми зубами и пожал дрожащую руку хозяина.
Вслед за нежданными гостями в дом был внесен крупный плоский прямоугольный предмет, обернутый алой тканью со свастикой. Два эсэсовца бережно поставили его на диван в гостиной, выбросили вперед руки в нацистском приветствии, щелкнули каблуками и застыли у двери.
В просторной, красиво обставленной гостиной собралось человек двадцать. Мужчины во фраках, дамы в вечерних туалетах. При появлении Гиммлера и Штрауса стало страшно тихо. Тишину нарушал только шорох дождя за окном.
Среди гостей было несколько военных, офицеров Абвера, но большинство штатские, университетская профессура. Штраус со спокойным любопытством разглядывал собравшихся, каждому заглянул в лицо. Гиммлер, в отличие от него, был слегка смущен, прятал глаза за сверкающими стеклами пенсне. Никто, ни единый человек, не поднял руку в нацистском приветствии, не сказал «Хайль Гитлер!».
У одной из дам накренился бокал. Красное вино текло на платье. Она не замечала этого. Сколько продлилась бы немая сцена, неизвестно, но нарушил ее внезапный грохот и звон разбитого стекла. Молоденькая горничная уронила поднос.
– Добрый вечер, господа! – громко произнес Штраус. – Я вижу, вы слегка удивлены? Расслабьтесь, продолжайте веселиться. Мы с господином рейхсфюрером сами не ожидали, что приедем поздравить дорогого профессора, моего любимого учителя. Но мы оба в Мюнхене, и наш единственный свободный вечер так удачно совпал с юбилеем профессора!
Он взял Гиммлера под руку и подвел его к красивой белокурой девушке в голубом платье.
– Познакомься, Гейни. Это Софи, дочь профессора. Я помню ее маленькой девочкой. Смотри, какая выросла красавица.
Гиммлер улыбнулся, крепко пожал руку Софи.
– Очень приятно, —пробормотала девушка, —такой замечательный сюрприз. На улице ужасная погода.
– В Мюнхене весной всегда дождь, – заметил кто-то из гостей.
– Господин рейхсфюрер, вы не могли бы издать специальный указ, чтобы хоть иногда в нашем городе весной выглядывало солнце? – к Гиммлеру подошла высокая яркая брюнетка лет тридцати и взяла его под руку. – У вас такой усталый вид! Очень мило, что вы приехали.
Напряжение потихоньку растаяло. Незваные гости вели себя свободно, шутили, были приветливы со всеми. Штраус принялся ухаживать за Софи, засыпал ее комплиментами, вспомнил, что в детстве она отлично рисовала, спросил, рисует л и сейчас.
Они оказались вдвоем в кабинете Софи. На столе стояли два бокала с вином. Пока Софи доставала папку со своими акварелями. Штраус вылил в ее бокал прозрачную жидкость из маленькой пробирки. Она ничего не заметила. Они выпили за здоровье ее отца. Потом Штраус предложил ей папиросу из своего портсигара. Он посмотрел ее нежные пейзажи и натюрморты, похвалил, они еще немного поболтали и вернулись в гостиную.
Вечер продолжался мило и непринужденно. Хозяин увлекся разговором со Штраусом о перспективах современной генетики. Когда-то Отто был одним из самых любимых его учеников. Профессор сначала старательно обходил тему, которая очень его беспокоила, но, выпив еще вина, решился:
– Отто. я задам тебе вопрос, ты можешь не отвечать. Ноя все-таки спрошу. Это правда, что ты тоже проводишь эксперименты на живых людях? Я много слышал об этом, но, честно говоря, не верю. Кто угодно, только не ты.
– Почему, профессор? – Штраус удивленно поднял брови. – Почему кто угодно, только не я?
– Потому, что ты талантливый врач, ученый. Талантливый человек не может быть безжалостным.
– Интересная мысль. – кивнул Штраус.
К ним подошла маленькая полная дама с рыжими кудряшками, кокетливо улыбнулась и обратилась к Штраусу.
– Простите. Отто. меня мучает любопытство. Что вы подарили профессору9
– Ах, да! – спохватился Штраус, легонько хлопнул себя по лбу. встал и громко окликнул Гиммлера.
– Гейни! Мы забыли о подарке!
Гиммлер тоже встал и кивнул двум эсэсовцам.
Они подошли к дивану и осторожно распеленали непонятный прямоугольный предмет. Все, кто был в гостиной, замерли. Все смотрели, как упала красная ткань со свастикой и появилась написанная маслом фигура Адольфа Гитлера. Это был парадный портрет, в мундире, с железным крестом, на фоне каких-то неопределенных лиловых гор.
Штраус, Гиммлер и двое эсэсовцев одновременно вытянулись, выбросили вперед руки, хором рявкнули «Хайль Гитлер!». Никто из гостей не последовал их примеру. Опять стало тихо. Все стояли и молча смотрели на портрет.
– Спасибо, Отто, – сказал профессор, – благодарю вас, господин рейсфюрер.
Сзади послышался странный глухой стук и высокий женский голос прокричал:
– Не надо! Папа, я прошу тебя, остановись, не делай этого! Они убьют тебя и всех нас!
На ковре, в неловкой позе, сидела Софи. Длинные светлые волосы растрепаны, помада смазана. Юбка задралась, видны края шелковых чулок и резиновые подвязки. В руке был зажат маленький дамский пистолет. Девушка медленно поднесла дуло к своему виску.
– Пожалуйста, не надо, папа! Я не хочу, чтобы тебя убили! – по щекам текли слезы.
– Что с тобой, Софи? – профессор хотел кинуться к дочери, но Штраус удержал его, крепко схватив за руку, выше локтя.
– Отто, в чем дело? Отпусти меня! Софи, детка, ты пьяна! Кто-нибудь, отнимите у нее пистолет!
– Нет, мой дорогой учитель. Она не пьяна. Ее просто мучает совесть.
Штраус выпустил профессора, но он больше не двинулся с места. Рядом с ним оказался эсэсовец. Когда люди в гостиной слегка опомнились и огляделись, они обнаружили, что эсэсовцев уже не двое, а штук десять.
– Что изменят ваши листовки и надписи на стенах? Ради чего так рисковать? Умоляю, не надо! Осталось терпеть совсем немного, скоро кончится этот кошмар!
Софи кричала так надрывно, что у Штрауса заныл затылок. В последнее время он чувствовал себя неважно, его раздражали громкие резкие звуки. К тому же опять стала пульсировать правая рука, и раскалился перстень. Он так увлекся спектаклем, что не сразу заметил это.
– Они нас всех арестуют! Я не выдержу пыток! Я не выдержу, если они станут пытать тебя! Лучше сейчас, сразу, без мучений! – кричала Софи.
Дуло переместилось от виска к груди.
Гости наблюдали молча. Никто не смел сказать ни слова. Отто Штраус стоял рядом с Гиммлером. Оба в идеально сшитых черных фраках, в галстуках-бабочках. Волосы слегка смазаны бриолином.
– Тридцать минут назад она получила дозу моей сыворотки правды вместе с питьем и выкурила папиросу с коноплей Она не знает об этом, – прошептал Штраус, склонившись к Гиммлеру.
– Ты использовал гипноз перед этим? Почему она хочет застрелиться9 – спросил Гиммлер.
– Никакого гипноза. Только мой эликсир и конопля.
– Папа, мне страшно! Я не могу спать, мне снятся кошмары! Если бы мама была жива, она бы никогда не позволила! Ты большой ученый, политика не твое дело! – кричала Софи
– Прежде чем она застрелится, надо ее допросить, – прошептал Гиммлер на ухо Штраусу.
– Пистолет не заряжен. – улыбнулся Штраус и слегка помассировал себе затылок, – не спеши, Гейни.
– Прекратите это! – истерически выкрикнула рыжая толстуха. – Разве вы не видите, ему плохо?
Лицо Эрвина Лаха стало багровым, глаза выкатились из орбит, он тяжело, хрипло дышал, повиснув на руках у двух эсэсовцев.
– Ладно, Гейни, – тихо сказал Штраус, – пора заканчивать вечеринку. У него сердечный приступ. Прежде чем он умрет, он должен все рассказать.
Стиснув зубы, Василиса наблюдала, как эсэсовцы выволакивали из особняка нарядных гостей, как тащили по грязи Софи. Она продолжала кричать, и солдат ударил ее прикладом в лицо.
– Ну, Гейни, ты не жалеешь, что пошел в гости к моему старому доброму учителю? – спросил Штраус, когда они сели в машину.
– Отто, ты гений, – тихо ответил Гиммлер и зевнул. Он не спал третью ночь подряд. Даже для него это было слишком.
В начале февраля 1943 года стало известно, что в Мюнхенском университете существует тайная организация «Белая роза». В нее входят студенты и преподаватели. Она возникла давно, но гестапо ничего не знало о «Белой розе» до тех пор, пока в Мюнхене не появились надписи на стенах домов «Долой Гитлера!», а в университетских аудиториях – листовки с призывами к восстанию против режима.
Расследование началось бестолково. Сразу схватили двух студентов, брата и сестру, по доносу соседей, которые видели, как они бросали листовки из окна. Но дурак Кальтенбруннер все испортил. Студентов насмерть замучили пытками так быстро, что они не успели рассказать .ничего интересного. Расследование затопталось на месте.
– Ты же там учился, Отто! – сказал Гиммлер. – Ты помнишь преподавателей, ты всегда отлично разбирался в людях. Подумай, кто там у них может быть главным?
Штраус подумал и пригласил Гиммлера на день рождения к своему любимому учителю профессору Эрвину Лаху. Это был хороший повод испытать сыворотку правды в новых, не лабораторных условиях.
– Отто, – задумчиво произнес Гиммлер и подергал себя за ухо, – а что, если из жидкости сделать газ и распылить сразу на большое количество людей?
– Я работаю над этим, – скромно улыбнулся Штраус и вдруг вздрогнул, болезненно сморщился.
У тебя ничего не получится. Ты бездарен. Ты мертвец.
На этот раз голос в его голове прозвучал так громко и отчетливо, что ему показалось – Гиммлер услышал его. Но нет. Если бы он услышал, как кто-то в голове у его друга говорит по-русски, странным голосом, то ли детским, то ли женским, наверное, это вывело бы рейхсфюрера из состояния глубокой спокойной задумчивости.
– Который час. Отто? – спросил Гейни и широко зевнул. – У меня, кажется, встали часы.
– Двенадцать сорок. – ответил Штраус наугад, даже не взглянув на свои часы, поскольку знал, что они тоже стоят. Но он всегда очень точно чувствовал время.
Озноб все не проходил. Василиса никак не могла согреться и дрожала. Фотограф смотрел на нее с любопытством.
– Ну, чего, правда, что ли, говорить не можешь, или придуриваешься? А? – спросил он шепотом и подмигнул. От него пахло табаком и мятной жвачкой. Он целую минуту стоял, отклячив зад, в какой-то бойцовско-обезьяньей позе, молча, внимательно вглядывался ей в глаза. Наконец распрямился и чуть слышно произнес:
– Вот и правильно. Молчи. Здоровее будешь, – он ткнул пальцем Василисе в лоб, на губах его лопнул упругий резкий звук: «Пах!».
На пороге он оглянулся, издал неожиданно высокий, почти девичий смешок и произнес:
– Шутка!
– Очень приятная была журналистка, – сказал дед и присел на диван, – представляешь, как удачно получилось, у нее есть знакомая медсестра, она сегодня к нам зайдет вечером. Поможет тебе вымыться, перебинтует тебя. Может, и горлышко твое посмотрит, посоветует что-нибудь. Как ты сама чувствуешь, лучше тебе?
Василиса кивнула. Дед говорил еще что-то. За стеной в соседней квартире включили телевизор, заиграла музыка, забормотал невнятный рекламный голос. Во дворе, под окнами, проехала машина, погудела кому-то. Заплакал младенец. Хлопнула железная дверь подъезда.
Эти реальные звуки то нарастали, то терялись в шуме дождя, который все не кончался в Мюнхене мартовской ночью сорок третьего года.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Рев моторов, вой сирены спустил Саню и Машу на землю. У обоих кружились головы, словно только что остановилась космическая карусель, на которой они неслись неизвестно как долго, пять минут, час или тысячу лет. Он поймал ее ладонь, почувствовал губами, как быстро, упруго бьется пульс на запястье, увидел совсем близко ее глаза, глубокие сумрачно-синие. Он смотрел Маше в глаза, сквозь темные ресницы, как будто лежал на земле и смотрел в небо сквозь ветки деревьев. Земля была теплой. Воздух пронизан солнцем, миллионы невесомых тонн тишины и солнечного света. Не было рядом страшного пожарища с останками людей, не приближался пронзительный вой сирен, мир вокруг казался живым, спокойным и невредимым.
– Все. Саня. все. – Маша в последний раз быстро прикоснулась губами к его губам.
– Я не могу. – прошептал он, – не могу без тебя. Когда все кончится сегодня, ты приедешь ко мне?
– Ты же говорил, у тебя штробилки.
– Ну и что? Я их всех убью, и будет тихо.
– У меня тихо Никаких штробилок, никого не надо убивать – Маша поправила ему ворот рубашки, провела легкой ладонью по волосам.
– Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе? Ты правда этого хочешь? – спросил Саня.
Она засмеялась
– Нет неправда Я притворяюсь.
Он закрыл глаза и помотал головой.
– Не смейся! Скажи: да, хочу. Я два года из-за тебя жил, как в тумане. Ты ни телефона, ни адреса не оставила, могла бы позвонить.
– Здравствуйте, Саня. Как у вас дела? Спасибо, Маша, у меня все нормально. А у вас? Спасибо, Саня, и у меня нормально. Мы бы молчали и дышали в трубки, а потом я бы плакала в подушку. Зачем?
Он закрыл ей рот губами, почувствовал твердый холодок ее зубов и прошептал почти беззвучно, на одном дыхании:
– Никому не отдам.
Четыре машины: «Волга» со спецсигналом, милицейский «Мерседес», фургон «скорой» и пожарный фургон приближались очень быстро. Синий «Опель» Арсеньева, припаркованный на обочине, был им отлично виден.
Когда заскрипели тормоза и эскорт остановился, они оба были в полном порядке. Маша даже успела причесаться, напудриться и подкрасить губы.
– А сигналку зачем включили? – спросил Арсеньев, поздоровавшись с Зюзей. – Дорога пустая, никого нет.
– Затем! – ответила Лиховцева и многозначительно взглянула сначала на него, потом на Машу. – Вы, как я понимаю, та самая Мери Григ? Очень приятно. Лиховцева Зинаида Ивановна, старший следователь прокуратуры.
Хмурясь, не отвечая на Машину улыбку, Зюзя крепко, по-мужски, пожала ей руку.
Дальше первым по старой бетонке поехал Санин «Опель». В него пересела Лиховцева. Маша устроилась на заднем сиденье. Саня видел в зеркале то ее глаза, то губы. «Опель» трясло. По ветровому стеклу скользили матовые солнечные блики. Пахло Зюзиными сладкими духами с примесью ванили. Каждый раз, когда он встречался с Машей взглядами в зеркале, у него дух захватывало, сердце раздувалось до размеров футбольного мяча и тут же сжималось, становилось меньше булавочной головки. В голове выстраивались немыслимые планы, как сделать, чтобы она никуда не улетала. Идеи, одна другой безумней, громоздились, как камни. Он строил воображаемые стены, за которыми можно было бы спрятаться им с Машей от всего мира, чтобы все от них отстали, не трогали, дали побыть вдвоем. Но стены рушились. Руки у Сани дрожали так сильно, что было трудно вести машину. Он был благодарен Лиховцевой за то, что она молчит. А молчала она довольно долго, первые десять минут пути, и сидела надутая, мрачная. Он решил, это потому, что она все про них поняла и сейчас произносит строгие внутренние монологи: как не стыдно! Нашли время и место! Если бы не было рядом Маши, она наверняка бы высказала Арсеньеву все вслух, не стесняясь в выражениях.
– Булька повесился, – внезапно сказала Зюзя тусклым голосом, подпрыгнув на очередной колдобине.
– Что? – тупо переспросил Саня.
– Что слышал!
– Когда?
– Сегодня ночью.
– Как? Он же в общей камере сидел!
– Ну что ты мне идиотские вопросы задаешь?! – закричала Зюзя и тут же охнула от очередного прыжка, – Господи, ну и дорога! Только не вздумай сейчас рассуждать о том, что ему помогли.
– Не буду, – пообещал Саня, – не буду рассуждать, Зинаида Ивановна, но ему, скорее всего, помогли. Во всяком случае, не помешали.
– Сейчас там допрашивают всех подряд, – сказала Зюзя после долгой паузы, – разумеется, никто ничего не видел, не слышал. Под матрацем у него нашли записку: «Я виноват. Мама, прости!». Мы доедем когда-нибудь или нет? Я не выношу тряски. Сколько еще?
– Минут сорок.
– Ну и что же ты молчишь? Рассказывай. Времени достаточно.
– Я вообще-то машину веду.
– Ничего. Авось язык не откусишь.
Саня принялся ей излагать все, что он узнал за эти бесконечные сутки.
По свидетельству швейцара из кафе «Килька», подозреваемый Куняев, ныне уже покойный, все-таки прикасался к внутренней стороне портфеля писателя Драконова после убийства. Иначе не осталось бы его отпечатков, поскольку, когда он прикасался к портфелю до убийства, на руках у него были резиновые перчатки. Он поранил руку, и швейцар дал ему перчатки, чтобы грязь не попала в рану, когда он мыл туалет.
– Да, у него до сих пор какая-то язва на кисти, я видела, – озадаченно кивнула Зюзя, – ладно, продолжай.
Саня продолжил.
– Мемуары генерала Колпакова – не вымысел. Драконов действительно над ними работал, ездил во Франкфурт на книжную ярмарку именно ради того, чтобы встретиться с литературным агентом и продать права на эти мемуары. Одно дело – неопределенный треп в интервью и совсем другое – переговоры с агентом в Германии. Вряд ли немец просто так подарил бы ему дорогую серебряную ручку. Вероятно, он рассчитывал получить текст, и какие-то основания верить Драконову у него были.
По свидетельству вдовы, Лев Абрамович всю зиму работал над мемуарами. Но следов этой работы не сохранилось нигде. Ни в компьютере, ни в записных книжках и блокнотах.
– А что за немец? – спросила Зюзя. – Фамилия известна? С ним можно связаться, это, в принципе, не так трудно.
– Я нашел его имя в своем блокноте. Вдова Драконова назвала. Мы тогда, на первых допросах, не придали этому значения, но имя я записал.
– Да, я помню, она еще искала его визитки и очень удивилась, что в доме не оказалось ни одной.
– Генрих Рейч. Живет во Франкфурте, неплохо знает русский, – сказал Саня и вдруг затылком почувствовал, как на заднем сиденье напряглась Маша. Он поймал в зеркале ее странный, ускользающий взгляд, хотел спросить: что такое? Но не успел.
– Ну, ну, давай дальше! Как ты пообщался с Володей Призом? – торопила его Зюзя.
– Ваш обожаемый Вова соврал мне, – не без удовольствия сообщил Саня, – он сказал, что его дядя с Драконовым никогда знаком не был. На самом деле писатель и генерал общались двадцать лет, Лев Абрамович часто приезжал в гости на генеральскую дачу, помнил вашего любимого артиста маленьким мальчиком.
– Откуда у тебя такие сведения? – сурово спросила Лиховцева.
– От меня, – подала, наконец, голос Маша, – а мне рассказывал об этом сам Драконов, два года назад.
– Так еще не известно, кто из них врал! – заявила Зюзя.
– Бросьте, Зинаида Ивановна, – поморщился Саня, – врал, конечно, Приз. И знаете почему? Потому, что ему не хочется, чтобы марали память его героического дяди. Факт общения с евреем Драконовым – это позор для русского офицера.
– Не поняла, – Зюзя нахмурилась и помотала головой.
– Он патологический антисемит, ваш любимый Приз.
– Ой, ну ладно, – Лиховцева махнула рукой, – это уже совсем бред. Володя нормальный человек. Умный, добрый, так душевно говорит по телевизору, что люди должны любить, уважать друг друга, независимо от национальности. Был бы он антисемит, он бы к каким-нибудь таким же и примкнул, мало, что ли, у нас организаций с нацистской идеологией? Нет, Вова, совсем наоборот, пошел к демократам, в «Свободу выбора». Ты чушь говоришь, Арсеньев! Кому еще верить в наше время, если не Володе Призу? Мой внук его обожает, а дети всегда чувствуют ложь. Не может Вова Приз быть антисемитом, кто угодно, только не он. Наверное, ты просто неправильно его понял.
Лиховцева искренне расстроилась. Ее возмущали любые проявления национализма, она всегда резко обрывала разговоры о черных, о том, что в Москве развелось слишком много кавказцев и вьетнамцев. Она без конца повторяла, что преступность не имеет национальности, и переставала здороваться с теми, кто утверждал обратное. Она терпеть не могла антисемитов. И ей очень нравился Вова Приз.
– У меня был диктофон в кармане, – сказал Арсеньев, – я так мало сплю сейчас, что не надеюсь на собственную память. К тому же духота. Недостаток кислорода плохо влияет на мозги. Вот я и решил записать нашу беседу со знаменитым артистом. Просто для себя. Для личного пользования. Я потом дам вам послушать. Там, конечно, много помех, мы говорили в «Останкино», на лестнице. Но кое-что записалось.
– Ладно. Дальше.
Саня рассказал про Василису. Маша иногда дополняла его. Эскорт уже въезжал на территорию бывшего лагеря.
– И как вы думаете, когда же эта девочка заговорит? – спросила Лиховцева.
– Скоро, – заверила ее Маша, – если ничего плохого с ней больше не произойдет, то очень скоро. Не сегодня, так завтра.
Машины остановились у обгоревших развалин дальнего корпуса. Пожарники и эксперты взялись за работу. Уже через двадцать минут на пожарище было обнаружено шесть трупов. Пока их откапывали, Маша отошла к реке. Лиховцева сказала, что госпоже Мери Григ смотреть на это совсем не обязательно. Маша не возражала.
– Скорее всего, они горели уже мертвые, – сказал эксперт, – вот тут ясно виден след пулевого ранения. Ладно, будем работать дальше.
– Надо здесь все проверить, метр за метром, – сказала Зюзя, – дай-ка мне сигаретку, – она повернулась к Сане, – только потом никому не рассказывай, что я курила.
Он ничего не ответил, не шелохнулся. Он сидел на корточках возле одного из шести тел.
– А вот тут вполне возможно будет и родственников пригласить для опознания, – сказал эксперт, – этот парень лежал лицом вниз, мягкие ткани почти не пострадали.
– Да, с родственниками мы свяжемся, – кивнула Зюзя и посмотрела на Арсеньева. – Ты сигарету мне дашь или нет? Шура, ты слышишь меня? Встань, пожалуйста.
Арсеньев медленно, тяжело поднялся.
– Родственников не надо.
– Что? Ты что там бормочешь? – Зюзя шагнула к нему, взяла за плечи, развернула к себе.
– Королев Гриша, 1984 года рождения, – глухо, как автомат, произнес Арсеньев, – проживал в Москве, с мамой Верой Григорьевной и младшим братом Витей. Адрес такой же, как у меня, только номер квартиры другой. Этажом ниже.
– Шура, Шура, – Лиховцева погладила его по голове, – прости меня, старую дуру.
– За что, Зинаида Ивановна? – он попробовал улыбнуться, но не получилось.
– Ты знаешь, за что. Хочешь, я матери сообщу?
– Да, Зинаида Ивановна. Наверное, лучше, если вы. Я не смогу.
* * *
– Значит, кушать ты не хочешь. Спать тоже. Правда, Вася, сколько можно спать? Давай я тебе почитаю? Ты маленькая очень любила, когда я тебе читал вслух. Ну? Кстати, Маша сказала, чтобы я тебе обязательно почитал.
Василиса кивнула и показала на телефон.
– Что? – не понял Сергей Павлович. Она попыталась подвигать пальцами, изобразить, будто набирает номер.
– А, ты хочешь, чтобы я позвонил Маше?
Она кивнула.
– Набирал уже, несколько раз. И ее, и майора этого. У них то занято, то телефоны выключены. Не волнуйся. Они сами позвонят.
Василиса очертила в воздухе какой-то прямоугольник.
– Что? – Дмитриев растерялся.
Она принялась жестикулировать, пытаясь что-то объяснить ему. Он не мог ее понять и занервничал. Она подносила палец к открытому рту, держала его вверх, так, что получался перечеркнутый кружок. Потом убирала палец. Потом опять подносила, уже к сжатым губам, перпендикулярно.
– Что, Васенька, что ты хочешь мне сказать?
Он встал, принялся ходить по комнате, из угла в угол. Вдруг остановился, резко развернулся. Глаза его сияли.
– Я понял тебя! Детская немая азбука! Точно?
Она закивала.
– Ну давай еще разок попробуем. Ты же меня учила этому, когда была маленькая. Давай!
Василиса повторила несколько жестов.
– Эф, – неуверенно произнес дед, – О. Тэ. О. Гэ. Правильно? Фотограф? Он заходил к тебе?
Василиса кивнула и скорчилась, изображая полнейшее омерзение.
– Он тебе не понравился? Ну да, он неприятный тип. Журналистка Марина очень приятная, а он – нет. Хотя, знаешь, первое впечатление бывает неверным. Может, человек просто стесняется, а кажется, что он мрачный хам. Посмотрим, какие он сделает фотографии.
Василиса опять кивнула и указала на телефон.
– Ты хочешь, чтобы я позвонил ему?
Она помотала головой, тяжело вздохнула и опять принялась показывать буквы детской немой азбуки. Это получалось очень медленно, пальцы не слушались, дед понимал с трудом, но все-таки понимал.
– Маше? Позвонить Маше? Рассказать о фотографе? Но что именно о нем рассказывать? Что он неприятный тип? Больше пока нечего.
Василиса помотала головой, вытянула палец, попыталась повторить губами звук выстрела. Ничего не вышло. На этот раз дед ее не понял и так растерялся, что она готова была заплакать от жалости к нему.
Он подошел, погладил ее по голове, поцеловал в пробор.
– Прости, Васюша, я не понимаю. Давай-ка лучше почитаем что-нибудь хорошее. Что ты хочешь?
Она кивнула и заскользила глазами по книжным полкам. У деда была большая библиотека. Книжные стелажи занимали две стены в кабинете, целиком, от пола до потолка.
– Ты пока выбирай, а я поищу очки, – сказал дед и ушел в кухню.
Василиса смотрела на книжные корешки и пыталась на чем-то остановиться. Пусть это будет «Собачье сердце» Булгакова. Или «Детство, отрочество, юность» Толстого. «Повести Белкина» или «Мертвые души».
Взгляд ее добрался до самой верхней угловой полки. Там на корешках лежал слой пыли. Десять лет назад дед вдруг загорелся идеей снять фильм о Третьем рейхе, о том, как зреет диктатура и люди сходят с ума. Мама говорила, что на этом он сломался. Прежде чем засесть за сценарий, он рылся в архивах «Госфильмофонда», смотрел хронику, читал мемуары бывших нацистов и уцелевших узников концлагерей, документальные исследования разных социологов, историков, психиатров, и у него, по словам мамы, поехала крыша. Он все бросил и запил. Сценарий так и не написал. Ни этот, ни какой другой. Ему как будто вообще расхотелось снимать кино.
На верхней угловой полке стояли пыльные, забытые книги о нацизме. Василиса увидела несколько томов документов Нюрнбергского процесса, «Историю гестапо», мемуары Штрассера, Риббентропа, Гизевиуса.
Раздался сигнал домофона и радостный голос деда:
– А! Это, наверное, медсестра. Надо же, как она быстро!
Через несколько минут в квартире появилась высокая крепкая блондинка лет двадцати пяти.
Василиса встала и приковыляла в прихожую. Дед засуетился вокруг гостьи, даже поцеловал ей руку, что было совсем уж некстати. Легкая насмешка скользнула по ее пухлым, аккуратным губам.
«Надо будет сказать ему, чтобы он бросил эту дурацкую привычку – целовать руки всем теткам подряд», – подумала Василиса.
На девушке были джинсы с блестками, белая эластичная майка без рукавов, с глубоким вырезом. Все тугое, натянутое до предела – вот-вот лопнет по швам под натиском массивных плеч, грудей и бедер. Крупные черты могли бы показаться приятными. Все в ее лице было гармонично и правильно, если бы не глаза, маленькие, водянистые, вдавленные глубоко под надбровные дуги, густо обведенные синим контуром.
«Я не хочу, чтобы эта меня мыла!» – выкрикнула про себя Василиса.
Медсестра скинула золотые босоножки на острых шпильках.
– Вот вам тапочки, Надя, располагайтесь, я дам чистые полотенца, бинтов у меня полно. Горячей воды, правда, нет, но я сейчас согрею, – суетился дед.
– Спасибо, я разберусь. Пойдем, котик, – она шагнула к Василисе.
* * *
Звонок Лезвия застал Вову в машине. Он ехал на Тушинский аэродром, где проводились съемки рекламного ролика партии «Свобода выбора». Вове предстояло посидеть за штурвалом самолета, потом изобразить, как он прыгает с парашютом.
Лезвие был трезв, спокоен и собран.
– Есть две новости, плохая и хорошая. С какой начать?
– С какой хочешь.
– Ладно. Хорошая новость. С Булькой все сделано чисто. Нормальный суицид. Теперь плохая новость. В лагере нашли жмуров.
«Вот почему он так спокоен», – понял Приз.
Если происходило нечто очень серьезное и опасное, Лезвие не паниковал. Он сразу преображался. У него даже голос менялся, и дикция становилась четче. Он прекращал пить, начинал думать. Он умел сосредоточиться, выключал все эмоции, как звук в телевизоре. В самые критические моменты он не матерился, не говорил «блин» и «короче», поскольку это расслабляет. Он брал на себя ответственность и принимал правильные решения. Приз смертельно завидовал этой его способности.
– Кто нашел?
– Не знаю. Из Москвы целая толпа прикатила. Следователь-важняк, опера, эксперты, все, как положено. Пожарников вызвали наших, лобнинских.
– Как фамилия следователя?
– Не знаю.
– Что значит – не знаю? Выясни!
– Не собираюсь.
– Почему?
– Потому, что даже мои проплаченные информаторы не должны знать, что мне это интересно. Мне без разницы, кто там следователь, ты понял? Я к этим жареным жмурам не имею никакого отношения. Успокойся и шевели мозгами, Шама. Сейчас надо затихнуть и не высовываться. Тогда все будет нормально. Стволы, из которых мы стреляли, Миха уничтожил. Железо на днях скинем. Все.
– Что значит – на днях? Ты же сказал, что железо скинул?
– Хасан обнаглел. Хочет купить все за копейки. Почувствовал, сволочь, что я тороплюсь. Нельзя давать слабину, он потом на шею сядет. Я еще поторгуюсь, день-два ничего не меняют, а бабок можем потерять много, не только сейчас, но и в будущем.
– Ладно. С железом не тяни. Откуда могли узнать про жмуров?
– Какая разница? Наверное, девка заговорила. Больше неоткуда. Но это не страшно. У нас все чисто. Ты, Шама, главное, не вздумай лезть сейчас за своим перстнем. Ты всех нас подставишь, так что забудь о перстне.
– О каком перстне? – хрипло спросил Приз после короткой тяжелой паузы.
– Ну вот, молодец, – облегченно вздохнул Лезвие, – а то я уж испугался, что у тебя из-за этой цацки с головкой поплохело. Ты, главное, не переживай. Хочешь, я тебе надень рожденья перстень подарю, в сто раз лучше, с брюликами, хочешь?
«Дурак, какие брюлики?»
– Ты мне лучше копье подари, – процедил он в трубку.
– He понял. Какое копье?
– Копье Лонгина, – Приз хрипло, фальшиво засмеялся и сквозь смех, как бы совсем несерьезно, произнес: – Ты за меня не беспокойся, я не переживаю. Ты о себе подумай, что ты натворил, Лезвие. У тебя был шанс заранее заткнуть девку. И ты этот шанс упустил. А теперь нашли жареных жмуров. Этого не случилось бы, если бы ты вовремя заткнул девку.
– Ага, конечно. И фельдшерицу, и Поликарпыча, и дурочку Лидуню. Всех, да? Может, мне сейчас пацанов поднять, отправить в лагерь, чтобы они там быстро всех московских оперов заткнули, вместе со следователем, с экспертами, с пожарниками, а? Давай уж я сам буду решать. И вообще, Шама, каждый должен заниматься своим делом. Твое дело – большая политика. Я же не учу тебя, как себя вести и что говорить на пресс-конференциях и на ток-шоу.
Призу пришлось это проглотить.
– Хорошо. Допустим, ты прав. Надо затихнуть и не высовываться. Но Поликарпыча и фельдшерицу уже сегодня допросят. Они скажут, что ты приезжал.
– Ну и что? У меня работа такая, – в голосе Лезвия прозвучало искреннее, веселое удивление. – Я дежурил, мне позвонили, я приехал, разобрался. Никакого криминала. Девушка не преступница, не жертва. Кругом пожары, вот она и обожглась. Там нужен был врач, а не милиционер.
– Ты ездил туда пьяный. Я же видел тебя потом и могу представить, как ты вел себя в доме у фельдшерицы. Юродивую с кочергой испугался, фотографий Васьки Кузина испугался. Его уже нет давно, а тебе все страшно! Думаешь, Поликарпыч этого не заметил? Я помню Поликарпыча. И он нас помнит, какие мы были хорошие мальчики. Ты, я, Серый с Михой. Ты не знаешь, о чем он там начнет петь московским операм. Он любит трепать языком. Сейчас все было бы в порядке, если бы тебе не стало страшно.
– Мне страшно? Мне? – Лезвие рассмеялся. – Шама, ты проверь, у тебя в штанах сухо?
Приз ничего не ответил и нажал отбой. Его словно током дернуло. Он только что сделал большую ошибку, показал Лезвию всю глубину своего страха, своей паники и беспомощности. И Лезвие с удовольствием его опустил мордой в его же дерьмо.
Призу давно не было так плохо. У него чесалось все тело, болел живот. Волосы стали приплюснутыми, тусклыми, обильно сыпались, на расческе оставались большие клочья. Во рту постоянно был какой-то мерзкий, кисло-соленый вкус, не помогали ни спрей, ни жвачка. Слоились ногти. Утром выпала пломба из зуба. Раздражение на верхней губе, вызванное просроченным косметическим клеем, когда он наклеивал усы, до сих пор не проходило. Недавно уколол палец зубочисткой, маленькая ранка не заживала, гноилась.
Я устал. Мне надо отдохнуть. Все не так. Мне слишком мало лет, чтобы терять волосы и зубы. Я очень внимательно слежу за своим здоровьем. Невозможно так плохо чувствовать себя без всякой причины. Нельзя, чтобы просто так гноились и не заживали пустячные царапины. Я устал. Море, вот что мне надо! Теплое соленое море. Песок. Следы на песке. Василиса Грачева. Мой перстень».
У него задрожали руки, и стало трудно вести машину. Мысли его крошились так же, как ногти и зубы, сыпались, как мертвые волосы. Он не мог сосредоточиться.
Спокойная рассудительность друга детства его доконала.
Никаких следов, никаких свидетелей. Только Василиса Грачева с его перстнем на пальце. Лезвие уверен: никто никогда не узнает, чей это перстень. Но Лезвие не возвращался в лагерь и не видел следов на песке. Да, конечно, она никого не могла разглядеть. Никого, кроме Приза. Он один отправился к реке купаться, пока шла погрузка оружия. А Василиса Грачева в это время пряталась где-то в кустах у реки. Было темно. Но она наблюдала за ним. У некоторых людей очень острое зрение в темноте. Тем более, он не какой-нибудь Пупкин. Он Владимир Приз. Его вся страна знает в лицо. И никто, кроме нее, не мог рассказать о трупах на территории заброшенного лагеря. Если бы она молчала, туда никто бы и не полез еще лет десять.
Он набрал номер Серого. Сейчас только его подруга Надя могла ответить на вопрос: заговорила Василиса Грачева или нет.
Ни о каком оружии на территории бывшего лагеря, ни о каких трупах, оставшихся на пожарище после перевозки этого оружия, Надя не знала. Для нее Приз сочинил совсем другую историю и заставил Серого выучить наизусть.
Серый рассказал Наде под большим секретом, что недавно Приз переспал со случайной девкой. Ее зовут Василиса Грачева. Она сама вешалась ему на шею, буквально силком затащила в койку. А потом захотела продолжения, и теперь Вова не может от нее отвязаться. Она его достала. Возникла куча проблем. Она оказалась малолеткой, ей нет восемнадцати. Ее дед – известный режиссер. Он знает Приза и ненавидит за то, что Приз однажды отказался у него сниматься. И главное, эта мерзавка сперла перстень, который Призу дорог как память, поскольку принадлежал его любимому дяде Жоре.
Несколько дней назад Василиса моталась с какой-то своей компашкой за город, попала в лесной пожар, обожглась и потеряла голос. Сейчас лежит у своего деда дома.
И Наде будет очень удобно появиться там под видом сиделки, потихоньку забрать перстень и выяснить, правда ли девка не может говорить или это какая-то лажа. Действовать надо очень осторожно, не вызвать подозрений и ни в коем случае имени Приза не упоминать. Режиссеру пудрить мозги по полной программе, приласкать его и обогреть. Он, бедняга, сильно соскучился по женской ласке.
Для Нади, девочки из «Викинга», приласкать кого-то, хоть старика, хоть мальчика, не составляло проблемы. Для Серого это тоже не было проблемой. Он Надю не ревновал. У него таких Надь имелось в запасе штук пять, не меньше. Приз не сомневался, что старик Дмитриев не устоит перед сочными прелестями медсестры и это даст возможность постоянно контролировать ситуацию.
Серый тут же взял трубку.
– Выясни, как там дела, и перезвони мне, – приказал Приз.
Через несколько минут он узнал, что Василиса Грачева пока молчит, молчит вполне натурально.
«Ладно, – решил он, – будем считать, что в лагерь на пожарище забрел какой-то случайный человек, обнаружил жмуров и вызвал милицию».
У ворот аэродрома Вову ждала небольшая толпа подростков в футболках с его портретами. В руках у них были плакаты, тоже с его портретами и с лозунгами «Очнись, Россия!». Он остановил машину, вылез, толпа заметила его, завизжала, запрыгала. Сначала вразнобой, потом дружно, хором, они принялись скандировать: «Во-ло-дя Приз! РОССИЯ, ОЧНИСЬ!».
Грохнул бодрый марш. Засуетились телевизионщики. Подскочил администратор, стал говорить что-то, прибежали костюмер, гример. Вова выключил свой мобильный и расправил плечи.
Перед тем как сесть за штурвал спортивного самолета, он успел дать десяток автографов, на журналах, постерах, календарях и на розовых девичьих ладошках.
ГЛАВА ДВАДПДТЬ ВОСЬМАЯ
–Ну что, Андрей Евгеньевич, его страна – это, как я понимаю, наша с вами страна? – сказал Кумарин.
– Бред какой-то, – покачал головой Григорьев, – допустим, Рики играет роль посредника между неким человеком из России и этими саудовцами. Человек из России просит у них денег. Они готовы вложить деньги, чтобы иметь свое лобби в нашем парламенте? Чтобы этот человек расчищал для них каналы торговли наркотиками, помогал открывать на территории России под видом медресе школы, в которых учатся боевики и производятся люди-бомбы? Но при чем здесь Рики? Почему именно он посредник?
– Он ответил на этот вопрос. Вы слышали, – Кумарин пожал плечами, – на мой взгляд, никакого бреда. Видите, здесь написано, что Рихард Мольтке с шестнадцати лет является членом общества «Врил». Дальше нам с вами любезно поясняют в сноске, что это такое. Общество «Врил» зарегистрировано как культурная организация десять лет назад. Формально занимается авангардным искусством. Ничего противозаконного. Выставки современных художников, перформансы, театр, кино, литература. Все очень даже интеллектуально. Издали пахнет только свежестью, свободой, демократией, никак не трупами, не нацизмом. Существует на членские взносы, спонсорские вливания и пожертвования от богатых лю бителей художественного авангарда. Выпускает небольшим тиражом каталоги выставок, фотоальбомы, ежегодный альманах. Кстати, газета у них есть. Знаете, как называется?
– Неужели «Огненный меч»?
– Да. Как вы догадались? —ухмыльнулся Кумарин. – Ну, что там еще? Есть небольшой офис во Франкфурте. Вроде бы ничего противозаконного. Это вам не бритоголовые ублюдки с дубинами и свастиками. Это интеллектуалы. Они провозглашают свободу самовыражения. Не слишком оригинально, правда? Но не волнуйтесь. Это только теория. На практике все очень оригинально и весело. Свобода самовыражения – это наркотические оргии, Содом и Гоморра, богохульство, порнография, некрофилия. Спектакли и перформансы – черные мессы, а главные темы статей в газете и в альманахе – оккультная антропология, клонирование, чистота расы, новое, совершенное будущее, основанное на компьютерных технологиях и биоинженерии. Наукообразная смесь сатанизма и неонацизма.
– Погодите, я ничего не понимаю! – Григорьев схватился за сигарету и принялся нервно щелкать зажигалкой. – Несколько экземпляров «Огненного меча» нашли в квартире во Франкфурте, которую снимали летчики-камикадзе. Рики – член общества «Врил». Я не читал этот «Меч», но я слышал главы из романа Рики. Не вижу связи! Убейте меня, но представить, что мусульманские экстремисты, камикадзе, общаются с такими, как Рики, невозможно!
Кумарин долго молчал, потом спросил:
– Скажите, когда взорвались «близнецы», это было круто?
Григорьев посмотрел на него, как на сумасшедшего, и молча кивнул.
– Это был классный перформанс! – продолжал Кумарин. – Круто, стебно, отпадно.
– Вы хотите сказать, что…
– Я ничего не хочу сказать. Мы остановились на смеси сатанизма и неонацизма. На оргиях и черных мессах. Знаете, все это безумно привлекательно для миллионов молодых идиотов в Европе, в России, в Америке. Не потому, что миллионы тупы и кровожадны по своей природе. Нет, им скучно. Быть нормальным скучно. Просто жить скучно. Ходить каждый день в школу, в институт, на работу – преснятина, картофельное пюре без соли. Уважать и любить родителей, влюбляться, строить семью, греметь кастрюлями, рожать детей – фи, сопли с сахаром. Стареть и умирать, не испытав ничего этакого, не подкрасив вегетарианскую зелень красненьким, черненьким? Нет уж, дудки! Все надо попробовать: групповуху, наркотический кайф, а если это модно, почему не полакомиться человечиной? Why not?
Кумарин уже давно не читал по бумажке. Он говорил, громко, возбужденно. Он тяжело дышал, сопел, щеки его порозовели, глаза сверкали. Григорьев еще никогда не видел его таким.
Андрей Евгеньевич отложил сигарету, молча налил воды своему шефу и протянул стакан.
– Спасибо, – Кумарин выпил залпом.
– Всеволод Сергеевич, что будем делать? – спросил Григорьев.
– А что мы можем, Андрей Евгеньевич? С Интерполом я уже связался, саудовцев встретят в Женеве. Как только всплывет какая-нибудь информация о них, мне позвонят.
– И окажется, что это честные предприниматели, которые тихо цедят свою нефть, торгуют финиками и никакого отношения к терроризму не имеют.
– Не беспокойтесь, Андрей Евгеньевич. Имеют. Я не сомневаюсь.
– У нас с вами что, теория заговора? – взвился Григорьев. – Темные тайные силы, которые хотят владеть миром? Нет. У нас всего лишь кассета, на которой маленький хорошенький гомосексуалист Рики просит денег у двух несимпатичных арабов. Для кого он их просит – осталось за скобками. О какой стране идет речь – не сказано. Наконец, в чем цель этого тихого мероприятия – тоже понять нельзя. У нас с вами сплошные неизвестные, и решить это уравнение трудно.
– Вы, кажется, рассказывали, как восторженно Рики отзывался о Призе, – тихо произнес Кумарин.
– Да. Он уверял меня, что лет через пять Вова Приз станет президентом. Он таскал Вову в какой-то свой изотерический клуб.
– Ну да, понятно, – кивнул Кумарин, – он знакомил его с товарищами из культурной организации «Врил».
– Нет, – Григорьев помотал головой, – все равно не верю! Зачем это нужно Рики? Он живет в своих мультимедийных и наркотических мирах, сочиняет бредовые тексты, спит с бедным Генрихом и тянет из него деньги. Он считает себя эстетом, интеллектуалом. Ну да, он состоит в этом вашем страшненьком обществе «Врил». Порнография, богохульство и даже некрофилия, и даже черная месса – еще не нацизм.
– Хорошо, – устало кивнул Кумарин, – а что, по-вашему, нацизм?
– Концлагеря. Бюрократическая машина, аккуратно, рационально убивающая миллионы людей. Между прочим, строжайшая дисциплина и абсолютно реалистическое тоталитарное искусство.
– Когда начинаются концлагеря, уже поздно, – Кумарин встал и прошелся по комнате, – а что касается искусства, я вам скажу по секрету: тоталитарное, режимное искусство и то, что принято сегодня называть авангардом, удивительно похожи. Декларативность, идеологическая непримиримость. Вечная попытка внушить себе и миру, что самое главное в человеке находится внизу. Брюхо, задница, половые органы. Все, что выше брюха, недостойно внимания художника. Партийный художник, будь он нацист, коммунист, постмодернист, пофигист, еще какой-нибудь «ист», смотрит на человека так высокомерно, словно сам принадлежит к иному биологическому виду. Разве это так уж далеко от концлагерей?
Григорьев нервно засмеялся.
– Нет, Всеволод Сергеевич, я все-таки зря не пересказал вам главы романа «Фальшивый заяц». Поверьте, это очень далеко от концлагерей, это другой полюс жизни, другое мышление. Зайдите в музей современного искусства, хотя бы здесь, в Ницце. Вы старомодный человек, Всеволод Сергеевич! Влезьте в Интернет, сходите в какой-нибудь литературный клуб, в Москве, в Нью-Йорке, в Париже, послушайте нынешних авангардистов, только послушайте, читать вы вряд ли сможете. Я, как и вы, не хочу называть это искусством, но оно существует, с самого начала двадцатого века. Усы, намалеванные под носом Монны Лизы, унитазы, швабры и сломанные куклы. Богохульство, некрофилия и порнография. Да, вы правы, оно так же агрессивно и пронизано идеологией, как искусство тоталитаризма. Но из того, что основоположник футуризма итальянский поэт Маринетти был фашистом и соратником Муссолини, вовсе не следует, что современный авангард потенциально опасен и писатель Рихард Мольтке со своими единомышленниками – активные нацисты, да еще связаны с «Аль-Каидой». Вы сами сказали, это не бритоголовые с дубинами. Вы ведь даже не можете внятно объяснить, зачем это Рики?
– Во-первых, деньги. Очень приличные проценты, {вели сделка состоится. Во-вторых, Рики – член неонацистского оккультного общества. Зачем нацистам нужно, чтобы их единомышленники в разных странах имели больше влияния и больше власти? Да мы же с вами вместе смотрели кассету! Он встречался с арабами и вел переговоры. Это факт.
– Но откуда вы знаете, что они террористы? Что «он», который хочет с их помощью навести порядок в «его» стране, это именно Вова Приз?
– Господи, – Кумарин схватился за голову, – вы сами это знаете, но не желаете верить! Ужас в том, что никто не желает! Приз – хороший добрый мальчик, душка, для пожилых. Прикольный стебный пацан для молодых. Демократ для демократов. Патриот для патриотов. Политикам кажется, что им можно манипулировать. И это, пожалуй, самое опасное.
– Всеволод Сергеевич, почему вы не можете уничтожить Приза? – тихо спросил Григорьев. – Вы, с вашим всесильным УГП, – почему?
– Уничтожить? – Кумарин усмехнулся. – Убить, что ли?
– Нет, ну скомпрометировать, посадить.
– Он не олигарх и пока даже не политик. Понятие компромата в России давно размыто и чаще работает, как дополнительный пиар. Заключение под стражу тоже, между прочим, пиар. Вы хотите, чтобы Вова Приз стал мучеником, жертвой произвола пакостных спецслужб? Кстати, сажать его пока не за что. Разве только за клевету.
– На кого?
– На меня. Он пустил слух, будто это я его раскручикваю. Приз, как кальмар, окружает себя чернильным облаком. Вокруг него сплошные мифы, сплетни. Это умно. Флер тайны никогда не мешал популярности. С другой стороны, в такой мути можно любую правду объявить мифом. Я – один из его мифов, меня он сделал частью своего чернильного облака. Кальмар! – Кумарин пошевелил пальцами, как щупальцами. – Меня так еще никто не использовал. Собственно, поэтому я им и заинтересовался всерьез.
– Погодите, Всеволод Сергеевич, насколько мне известно, если вы кем-то интересуетесь всерьез, вам довольно скоро удается узнать о человеке все. Почему же Приз до сих пор остается для вас загадкой?
– Потому, что никто не понимает, зачем мне это понадобилось. УГП – это не только я. Мои сотрудники – не куклы, не винтики. В моей структуре нет слепого беспрекословного подчинения. У меня не гестапо и не мафия. Самое забавное, что, когда я пытаюсь говорить с людьми из моего аппарата о Призе, они все скептически хмыкают. Приз – это несерьезно. Им кажется, я просто ревную к нему своего внука и, вообще, завидую его молодости и популярности. Я надеялся на историю с мемуарами, с убийством Драконова. Я с самого начала почти не сомневался, что это заказ Вовы Приза.
– Зачем убивать старика? Чем мешали мемуары? Тем более мемуары, которых нет?
– Я не уверен, что их нет. Но дело не только в них. С вашим драгоценным Рейчем Приза познакомил именно старик Драконов, сам не ведая, что натворил.
– О, да, – усмехнулся Григорьев, – Вова купил у Генриха магический перстень Отто Штрауса, надел на пальчик и стал всесильным.
– Перестаньте, – Кумарин поморщился, – перстень – ерунда, побрякушка. Тем более он его уже не носит. Дело совсем в другом. У Рейча Вова встретился с Рики, через него вышел на неонацистов. У них денег мало, зато есть связи. Что из этого получилось, мы с вами видели на кассете. Приз ищет денег. Не сегодня-завтра кто-то вложит в него пару-тройку миллионов. Не важно, кто именно. Саудовцы, американцы, наши богатые политизированные болваны. Кстати, знаете, сейчас среди богатых i людей в России очень модно покупать всяких экзотических животных – крокодилов, бегемотов, черных свиней мини-пигов и держать их дома вместо банальных собак и кошек. Почему не завести кальмара? У него такие отпад-ные щупальца с присосками. Он та-акой прикольный, блин! Смотрите, как он лихо раскрутился за какие-то пятьсот тысяч. Что будет дальше?
– Да погодите вы, Всеволод Сергеевич, со своими блинами и кальмарами, – рассердился Григорьев, – я все понимаю, кроме одного: зачем было убивать Драконова? Ну познакомил, и что?
– А то, что мог потом болтать об этом в разных эфирах и в интервью. Драконов был любопытен, всюду совал свой нос, и болтлив до безобразия.
– На Рики не написано, что он неонацист, состоит в обществе «Врил» и тем более, что через него можно выйти на террористов. Я, например, узнал об этом только сегодня, – сказал Григорьев, – почему вы думаете, что об этом мог узнать Драконов?
– А почему вы думаете, что он не мог об этом узнать? Вы поймите, Драконов в последние годы пользовался любым информационным поводом, чтобы появиться в эфире или в какой-нибудь газетенке. Я вас уверяю: и во Франкфурте – Рики, и потом, в Москве – Вове он задал много неприятных вопросов. Франкфуртские контакты Приза должны быть герметичны Драконов представлял потенциальную опасность. Не сегодня, гак завтра или через год, он мог стать косвенным источником информации о тех связях Приза, о которых никто не должен знать Так не лучше ли сразу заткнуть писателя? Впрочем, я сам не был уверен, что это работа Приза. Я нарочно не лез в расследование, наблюдал. Следствие вели нехилые люди Лиховцева Зинаида Ивановна, железная гетка. лучший следователь прокуратуры. Ваш знакомый, майор Арсеньев. Мне было интересно, что они нароют. Гак вот Там тупик. Формально все чисто. Наркоман, рецидивист, ударил писателя по голове дубиной. Хотел ограбить. Улики, мотив, личность преступника, все о'кей. Правда, наркоман никак не признавался, тянул время. Но сегодня ночью он повесился в камере, оставил записку «Я виноват, мама, прости».
Вошла Клер, как всегда бесшумно. Кумарин и Григорьев не сразу заметили ее, и оба вздрогнули, когда она тактично кашлянула.
– Мольтке беседовал с каким-то человеком, плавая в море. Они заплыли за буйки, довольно далеко Простите, месье, боюсь, у меня плохая новость.
– Что? – хором крикнули Кумарин и Григорьев. Клер улыбнулась, на этот раз мягко, открыто.
– Нет-нет, месье, совсем не то, что вы думаете Просто беседа была короткой, зафиксировать ее не удалось. Человека, с которым он беседовал, наши агенты, к сожалению, упустили. А с Мольтке все в порядке Он вылез на берег, съел порцию мороженого. Сейчас он на такси направляется в госпиталь Святой Терезы, навестить своего больного друга. Кстати, что касается здоровья месье Рейча, там все значительно лучше, чем казалось в начале Необходимости в операции нет.
– О человеке, с которым беседовал Мольтке, нет вообще никакой информации? – спросил Кумарин.
– Молодой мужчина спортивного телосложения. Короткая стрижка, темные волосы. Отлично плавает. Не исключено, что беседа в море носила случайный, незапланированный характер и никакого практического значения не имеет
* * *
– Сергей Павлович, вы можете пойти погулять, – сказала Дмитриеву медсестра Надя. w Старик ей надоел Он крутился под ногами, пытался помочь, без конца предлагал чаю или кофе. Василиса сидела в ванной на табуретке, в тюрбане из полотенца. Надя только что очень ловко вымыла ей голову и теперь занялась ее руками.
– Колечко у тебя какое интересное, – сказала она и как бы нечаянно царапнула ногтем ожоговый пузырь.
Василиса сморщилась от боли.
– Мужской перстенек, да? – продолжала Надя, не отпуская ее руку. – Подарил кто-нибудь? Или нашла?
– Надя. в аптеке надо что-нибудь купить? – спросил Дмитриев из прихожей.
– Да вроде все есть у вас! – крикнула в ответ Надя и добавила совсем тихо, обращаясь к Василисе: – Молчать долго собираешься?
Дмитриев появился на пороге, уже в уличных ботинках и в линялой джинсовой кепочке.
– Точно, ничего не надо? – он переводил взгляд с
Нади на Василису и вдруг нахмурился. – Что с тобой, Васюша?
У нее были испуганные глаза.
– Да нормально все, Сергей Павлович. Не переживайте. Идите, воздухом подышите, – добродушно улыбнулась Надя.
Он подошел к внучке, поцеловал ее в щеку
– Я скоро вернусь, Васенька.
«Дед, не уходи, не оставляй меня с ней!»
Надя отпустила ее руку и принялась размешивать фурацилин в большой кружке. Дед еще раз поцеловал Василису и ушел. Хлопнула дверь. Василиса вздрогнула Еще несколько секунд она видела перед собой зеркало, раковину, стакан с зубными щетками и мыльницу на стеклянной полке. В зеркале плавало ее собственное лицо, маленькое, бледное, рядом большое розовое лицо медсестры, но сквозь эту реальность опять неотвратимо и ясно просвечивала другая, чужая.
Все грохотало и рушилось. Первую половину дня 20 апреля 1945 года английская авиация непрерывно бомбила центр Берлина. Отто Штраус вместе с Гиммлером и Геббельсом должен был подняться наверх из бункера в рабочие помещения Имперской канцелярии. Туда прибыла небольшая группа членов «Гитлерюгенд», поздравить фюрера с днем рождения и получить из его рук награды за отличную службу в отрядах противовоздушной обороны.
Путь из бункера казался бесконечным. Гиммлер нервничал. Ему не хотелось наверх. Там рвались бомбы. Он безумно боялся за свою жизнь, еле справлялся с животной паникой, которая не покидала его в эти дни и в любой момент могла вырваться наружу в виде постыдной истерики. Внешне рейхсфюрер обязан был оставаться спокойным, собранным, и Отто Штраус каждые шесть часов вводил ему один из препаратов собственного изобретения, сложную смесь наркотиков, от которой человек делается почти бесстрашным, но при этом не перестает соображать и может продержаться без сна и отдыха несколько СУТОК Однако паника нарастала, с каждой инъекцией дозу приходилось увеличивать. По своей природе Гиммлер был провинциальным чиновником, мелочным, нудным человечком, с налетом романтического мистицизма. В иных обстоятельствах он прожил бы жизнь тихо, как амбарная мышь. Ходил бы на службу, аккуратно сортировал бумаги, слушался начальства. Или продолжил бы разведение кур. По выходным мог посещать какой-нибудь оккультный кружок. Но история вознесла его на небывалую, невозможную для такого характера высоту
Гиммлеру удалось воспользоваться заговором и неудачным покушением на Гитлера 20 июля 1944 года таким образом, что в его руках сосредоточилась гигантская власть. Он добился поста командующего группой армий, подмял под себя внешнюю разведку. С августа 1944 года по март 1945-го Гиммлер был самым могущественным человеком Рейха. Никто не имел столько титулов и полномочий: министр внутренних дел, министр здравоохранения, высший руководитель всех полицейских служб, служб разведки, спецслужб гражданских и военных. Сокровенные дерзкие мечты маленького человечка, тихой чиновной Золушки, на несколько месяцев стали явью. Отто знал, чем это закончится, но предпочитал не портить своему другу удовольствия. Доктор Штраус использовал возможности, открывшиеся перед ним благодаря временному взлету Гейни, чтобы обеспечить себе благополучное будущее, спокойно продолжить свои исследования, уже в новых условиях, под крылом других покровителей.
Перевешав заговорщиков-генералов на мясных крючьях и рояльных струнах, Гиммлер воспользовался их планами. Военная аристократия и высшие офицеры бвера надеялись, что смерть Гитлера позволит им договориться с Западом, заключить перемирие и совместно продолжить военные действия на Востоке, против Советского Союза Гиммлер, конечно, не собирался убивать фюрера В этом уже не было необходимости. Фюреру осталось совсем немного.
Первую осторожную попытку договориться с Западом Гиммлер предпринял еще в 1942-м, через Шелленберга. Тогда ничего не получилось. Но не стоило терять надежду Гиммлер видел себя единственным человеком, способным управлять Германией после Гитлера. Он считал, что главы западных держав не могут не понимать этого, и упорно продолжал присылать к ним своих представителей
Однако события на фронтах развивались столь стремительно, что шансов договориться с каждым днем оставалось все меньше. Запад требовал безоговорочной капитуляции Германии. Для Гиммлера это было невозможно. Не только потому, что Гитлер пока еще дышал, но главным образом из-за собственных амбиций Гейни так мучительно прогрызал себе дорогу к власти, что, добившись наконец своей цели, не келал признать себя побежденным.
Сейчас, в апреле 45-го, он падал, летел вниз с нарас тающей скоростью, совершая в воздухе забавные телод вижения. Штраус мог бы помочь своему другу Гейни –нет, не удержаться наверху. Никакой вершины уже не было. Остались только кровавые закопченные обломки. Отто мог смягчить падение, не дать милому Гейни раз биться насмерть. Однако доктору это не нужно было Время Гиммлера кончилось. Для Штрауса начиналась другая эпоха. Падающая мышь интересовала его лишь как объект лабораторных наблюдений.
Едва пи не больше, чем английских и американских бомб. Гиммлер боялся встречи с Борманом. Он не переносил открытого взгляда в глаза врагу. Борман был враг хитрый и сильный Но даже он, при всем своем прагма-тише, не желал видеть, что все уже кончилось. Он по инерции продолжал интриговать, отталкивать всех от фюрера Бедняга Мартин не понимал, что нельзя быть тенью тени Не понимал этого и Геббельс. Вместо того чтобы удрать подальше с женой и детьми, он привез свое семейство в страшное здание рейхсканцелярии и поселил всех бункере, рядом с разлагающейся биологической оболочкой своего искусственного божества.
Геббельс шел медленно, как во сне, тяжело прихрамывая и повторяя
– Этот народ не достоин нашего великого фюрера. Высокий прямой Штраус, вышагивая рядом с коротышкой Геббельсом, косился сверху вниз на его смешной носатый профиль
В глубине коридора маячили фигуры Бормана и Геринга. Первый был мрачен и спокоен. Второй нервозно сотрясал брюхом, пыхтел, таращил глаза. Все обменялись партийными приветствиями и прошли в просторный кабинет, служивший церемониальным залом.
Там строем, вытянувшись в струнку, стояли шестнадцатилетние мальчики в парадной форме «Гитлерюгенд». Отто Штраус смотрел на их здоровые молодые лица и думал– «Последнее живое мясо Германии. Исчезая, человекоподобная машина пытается утащить с собой как можно больше жизней Как они ждут его, как волнуются, какая честь для них – получить из его рук железный крест и благословение на героическую смерть с его именем на устах»
Наконец открылась дверь. Появился фюрер. Запах одеколона, которым побрызгала его верная Ева не мог заглушить зловония. Тусклые, без блеска глаза, еще не давно голубые, теперь мутно-белые, как у тухлой рыбы, равнодушно оглядели кабинет.
Адъютант держал большую бархатную подушку с железными крестами. Церемония проходила с похоронной торжественностью, в полной тишине Все боялись, что Гитлер сейчас упадет или откроет рот, заговорит, что было бы еще хуже. Мальчики могут не выдержать его зловонного дыхания. Если кто-нибудь из них нечаянно сморщит нос, фюрер заметит. Реакции его настолько непредсказуемы, что может случиться скандал
Фюрер переходил от одного мальчика к другому, трясущимися руками крепил к их о глаженным белым рубашкам железные кресты. Мальчики выбрасывали руки в партийном приветствии, привычно выкрикивали «Хайль!». У некоторых были еще детские голоса.
При каждом выкрике Василиса вздрагивала Ей казалось, она сейчас задохнется от вони, исходившей от сгорбленного распухшего чудовища. То, что она наблюдала сквозь глазницы Отто Штрауса, не могло быть правдой но она знала: все это было на самом деле, пятьдесят семь лет назад. И все это происходит опять, в каком-то ином, вневременном измерении, где прошлое переплетается с будущим и ничего не исчезает бесследно.
Церемония завершилась.
– Мне надо поговорить с вами, Отто, – сказал Гитлер, проходя мимо Штрауса.
– Да, мой фюрер.
– Ты должен осмотреть его, – прошептал Гейни, – он совсем плох. Мне надо знать, сколько еще осталось.
– Конечно, Гейни.
– Вы принесли, что обещали? – спросил Геббельс.
Штраус молча кивнул, и нахмурился, услышав отчаянное чужое «Нет!» у себя в мозгу.
Василиса знала, что речь идет о капсулах с цианистым калием Геббельс собирался взять их не только для себя, но и для жены, и для шестерых детей. Младшая девочка совсем маленькая, ей три года. Старшей всего четырнадцать.
Штраус открыл портфель, достал небольшую картонную коробку, протянул Геббельсу.
– Здесь десять штук Вы просили восемь, я положил еще две, на всякий случай.
– Благодарю вас. доктор.
– Вы уверены, что хотите дать это детям? У меня есть возможность вывести их отсюда и передать под опеку Красного Креста
Штраус не собирался говорить этого. Оно вырвалось само, он едва успел перехватить, перевести на немецкий, иначе эти две простые фразы прозвучали бы по-русски, они разрывали ему не только мозг, но и гортань.
– Еще раз благодарю, – сухо ответил Геббельс, – мы с Магдой приняли решение и не собираемся его менять.
– Господа, кто-нибудь может сказать, который час? – прозвучал на лестнице глухой голос Бормана.
Никто не мог У всех остановились часы. Стрелки застыли на двенадцати.
– Это, наверное, как-то связано с вибрацией из-за бомбежки, – пропыхтел умник Геринг.
Фюрер ждал Штрауса в бункере, в своем кабинете. Штраус брезговал подходить к нему близко, но осмотреть все-таки пришлось. Было неприятно притронуться к страшной, изъеденной экземой, коже великого вождя. Тело его имело странный, зеленовато-багровый оттенок и уже мало напоминало человеческое.
– Кругом ложь и предательство, – говорил он чуть слышно, пока руки доктора щупали его живот, – все хотят, чтобы я покинул Берлин. Нет. Я останусь.
Заглянуть в горло вождю было крайне сложно, так сильно тряслась его голова.
– Кругом ложь и предательство, – повторил он как только осмотр закончился. – Я останусь здесь. Или я выиграю битву за Берлин, или погибну в Берлине.
Когда он говорил, все в нем клокотало, гудело, поскрипывало, как будто сквозь тихие звуки человеческого голоса проступал натужный скрежет последних оборотов сломанного механизма. Несколько раз, как заевшая пластинка, он повторил: ложь и предательство.
«Протянет еще дней десять, не больше», – решил Штраус.
Василису затошнило. Она думала о шестерых маленьких детях, которые находились здесь, где-то совсем близко.
«Какие дети?» – раздраженно спросил себя Штраус. Но, покосившись на часы, понял, почему дети Геббельса все не выходят у него из головы.
– Вы не забыли о моих собаках? – спросил Гитлер.
– Нет, мой фюрер. Не забыл, – ответил Штраус и положил на стол картонную коробку с капсулами.
Когда генерал покидал кабинет, позади него прозвучал скрипучий механический голос:
– Нас только двое в мире. Двое гигантов.
– Простите, вы о ком, мой фюрер? – спросил Штраус.
– О Сталине.
«Ты подумал, он имеет в виду тебя? Ты правда решил, что тебя он считает гигантом, равным себе?»
Штраус зажал уши ладонями. Его шатнуло к стене. Еще один шаг, и он ударился бы головой о притолоку.
– Что, так плохо, доктор? – услышал он рядом живой женский голос с приятным баварским выговором.
В маленькой гостиной, смежной с кабинетом Гитлера, за столом сидела молодая белокурая женщина, пухленькая и свежая. Круглое лицо было напудрено, на губах блестела красная помада. Короткие волосы аккуратно завиты и уложены.
– Добрый день, фройлен Браун, – откашлявшись, уронив руки, сказал Штраус.
– Сядьте и расскажите, – приказала Ева и принялась подпиливать свои длинные ногти серебряной пилкой. Штраус послушно опустился в кресло напротив.
– Сожалею, но порадовать мне вас нечем.
– Что-то еще можно сделать, чтобы облегчить его страдания, поддержать в нем силы? – пилка вопросительно замерла и тут же занялась следующим ноготком.
– Глюкоза, витамины, – Штраус пожал плечами и добавил, кашлянув: – свежий воздух. Больше прогулок на свежем воздухе.
Ева удивленно вскинула тонкие, как ниточки, брови.
– О чем вы говорите? На улице бомбят и стреляют.
– Простите, фройлен, тут я бессилен, – Штраус поднялся.
Ему надо было скорее уйти. В голове у него опять зазвенело, громко и требовательно: «Дети. Шесть маленьких детей. Младшей девочке три года».
– Вы уже уходите, доктор? – разочарованно спросила Ева.
– Да, фройлен.
– Бедный, бедный Адольф. – Ева принялась за следующий ноготок, от быстрых движений пилки рябило в глазах. – Все его оставили, все изменили. Лучше пусть погибнут сто тысяч других, чем он будет потерян для Германии. Германия без Гитлера не пригодна для жизни. Подождите, доктор, вы можете мне сказать, который час? У нас здесь почему-то сломались сразу все часы.
– Я не знаю, Ева. Мои тоже стоят.
– Да? Это странно. Послушайте, Отто, а вы придете к нам на свадьбу? – она, наконец, оставила в покое свои ноготки, отложила пилку. В руках у нее появилось хорошенькое ручное зеркало и золотой футлярчик с губной помадой.
– На свадьбу? – удивленно переспросил Штраус.
– Вы разве не знаете? Адольф, наконец, сделал мне предложение. Совсем скоро я стану фрау Гитлер.
– Поздравляю, – кивнул Штраус и быстро вышел.
Ему пришлось пройти через столовую. Там за столом сидел генерал Кейтель и сосредоточенно ел что-то жидкое и мутное из красивой фарфоровой тарелки.
– Добрый день, доктор. Хотите супу? Гороховый. Очень вкусный. Фюрер распорядился, чтобы приготовили.
– Спасибо, Вилли. Не хочу.
Прежде чем покинуть канцелярию, Штраус раздал еще десяток картонных коробок. Химический состав оболочки капсул он разработал сам. Если капсулу случайно проглотить, ничего не случится. Оболочка не растворится в желудочном соке. Но если разгрызть – наступит мгновенная смерть.
Когда он шел к выходу, до него донеслись тихие детские голоса. Дети Геббельса гуляли в закрытом внутреннем дворе канцелярии.
«Забери их отсюда!Забери детей, ты, чудовище!»
Ему до смерти надоел этот глупый голос. Голова пульсировала, разрывалась болью, перед глазами стояла густая пелена. Несколько раз он споткнулся на лестнице и чуть не упал.
На воздухе ему стало легче.
«Погибли миллионы детей. Что тебе дались эти шестеро?» – подумал он, еще не отдавая себе отчета, что вступает в диалог с неведомым бесплотным существом, от которого никак не может отвязаться.
– В машине его ждал Гиммлер. Шофер вышел и открыл дверцу.
– Садись, Отто, скорее! – нервно прошептал Гейни. – Скоро начнется налет, мы не успеем!
Но Штраус медлил. Он стоял, смотрел сквозь Гиммлера, не моргая. Губы его едва заметно шевелились. Он бормотал:
– Я не понимаю, почему тебя так волнует судьба этих шестерых, когда погибли миллионы? Объясни, я не понимаю. Это же простая арифметика.
«При чем здесь арифметика? Там остались дети!»
– Что с тобой, Отто? С кем ты разговариваешь?
– Не знаю, Гейни. Кажется, с самим собой. – Он сел наконец в машину, рядом с Гиммлером, крепко зажмурился, потряс головой, пытаясь вытряхнуть из мозга чужой голос, чужие мысли.
Машина тронулась. Следовало спешить, пока не начался очередной налет. Штраус приоткрыл окно. В ноздрях все еще стоял запах разлагающейся плоти, знакомый по концлагерям. Но даже там так не воняло, как в рейхсканцелярии 20 апреля 1945 года, в последний день рождения Гитлера.
– Что за черт! Сломались они, что ли? – медсестра Надя пыталась подкрутить колесико своих наручных часов.
У нее не получалось. Колесико заклинило. Все три стрелки почему-то сомкнулись на двенадцати и замерли. Этого не могло быть. Надя знала, что сейчас без чего-то шесть вечера. Часы были дорогие, новые, настоящая швейцарская «Омега». Надя купила их всего месяц назад, и то, что они сломались, вывело ее из себя.
– Ну, блин! – крикнула она, и шарахнула кулаком по столу так, что подпрыгнул деревянный стаканчик с карандашами. – Неужели китайская подделка? Я же в магазине покупала, не на рынке, твою мать!
Она схватила свой мобильный, хотела по нему узнать время, но увидела мертвый зеленоватый экранчик. Попыталась включить. Без толку.
– Да что же это такое! – она стала материться, громко, зло и беспомощно.
Надя была аккуратной девушкой, рассеянностью не страдала. В ее мобильнике батарея неожиданно сесть не могла, она заряжала ее регулярно, согласно инструкции.
Василиса лежала на диване с открытыми глазами и смотрела в потолок. Комнату сотрясал громкий сердитый голос Нади. Через открытое окно был слышен собачий лай и нудный вой чьей-то сигнализации. Надя тяжелым мужским шагом отправилась на кухню курить. Василиса не заметила, что ее больше нет в комнате, не услышала, как она вернулась со своей сумкой в руках, достала упаковку со шприцем и коробку с ампулами.
Она не могла избавиться от нестерпимой вони, хотя воздух в комнате был чистым и свежим. Она еще долго слышала тихие, далекие голоса шестерых детей, оставшихся в бункере рейсхканцелярии в апреле 1945 года.
* * *
Григорьев столкнулся с Рики в коридоре госпиталя.
– О, князь! Рад вас видеть! – Рики приветствовал Андрея Евгеньевича ослепительной улыбкой и нежным женским рукопожатием. – Гейни ждет вас с нетерпением.
– Как он? – спросил Григорьев. – Вы говорили с врачом?
– О, да, все отлично. Сначала я так испугался, сердечный приступ – это звучит ужасно, правда? Оказалось, никакой опасности для жизни, и даже операция не нужна. Врач сказал, еще два дня, и Генриха можно будет забрать. Он разрешил нам продолжить отдых, правда, избегать солнца и всяких излишеств. Ну, вы понимаете.
Застенчиво-кокетливая улыбка. Трепет длинных ресниц. У Григорьева зачесалась ладонь, так хотелось дать мальчику оплеуху в этот момент. Разумеется, он сдержался и произнес самым ласковым тоном, на какой только был способен.
– Рики, я вижу, вы огорчились, переволновались из-за Генриха. Вам нужны положительные эмоции. .
– Да, мне как воздух нужны сейчас положительные эмоции. У меня у самого чуть не случился сердечный приступ от переживаний, – Рики прижал ладонь к груди и помахал ресницами.
– У меня для вас приятная новость, – улыбнулся Григорьев.
– О, как интересно! Я вас слушаю, князь. – Брови домиком, на щеках нежнейший румянец и легкое, как бы случайное прикосновение руки.
– Дело в том, что я здесь гощу у своего старого приятеля. Он русский, очень состоятельный человек, у него своя вилла. Так вот, он интересуется современной европейской литературой, не трэшем, а настоящей литературой, вы понимаете. В Москве у него небольшое издательство. Я рассказал ему о вашем романе, книга у меня с собой, он читает по-немецки. Ваш «Фальшивый заяц» произвел на него сильное впечатление. Он уверен, этот роман мог бы иметь большой успех в России. Он хочет с вами встретиться.
Рики сделал важное деловое лицо, слегка надул щеки.
– Конечно, я готов. Он уже успел прочитать роман?
– Как раз сейчас дочитывает. Я его за уши не могу оттянуть от вашей книги. Читает, и за обедом, и на пляже. Он, безусловно, разбирается в литературе лучше, чем я, и сказал, что ваша книга – событие. Вы писатель с огромным потенциалом, причем с международным потенциалом.
Григорьев расслабился. Он не боялся переборщить. Он уже успел заметить, что никакая лесть Рики не смущает и не кажется лестью. Юноша искренне верит в свою гениальность,
– Да, князь, ваш приятель действительно разбирается в литературе. Где же он? Мне не терпится пожать ему руку! Как его зовут?
– Всеволод.
– О, старинное русское имя. В древности, кажется, был такой князь. Всеволод Птичье гнездо.
– Большое гнездо, – поправил Григорьев, заметив про себя, что юноша неплохо знает русскую историю и в очередной раз вспомнив слова Маши о том, что иногда требуется очень много ума, чтобы выглядеть глупым.
– Он тоже князь, этот ваш приятель?
– Разумеется!
Григорьев взял Рики за локоть, развернул его и повел к выходу.
– Я провожу вас, а потом вернусь к Генриху. Мы могли бы пообедать втроем, прямо сегодня. Здесь неподалеку есть русский ресторан. Я знаю, как вы любите икру. Мой приятель ждет в сквере у госпиталя. Сейчас я вас познакомлю. Вы побеседуете, я побуду с Генрихом, а потом мы вместе поедем обедать.
Рики кивал, улыбался, прижимался к Андрею Евгеньевичу то плечом, то коленом. Надувая щеки, болтал о чистоте крови, об эстетизме древнего язычества и антиэстетизме христианства. О преодолении коллективной ментальности христианства, зарождении нового, надче-.ловеческого эго, свободного от всех нравственных и биологических табу.
– Ничто так не сковывает человека, как семья, взаимные обязанности детей и родителей, – рассуждал Рики, – клонирование позволит избавиться от этого древнего рабства, от фальши так называемых родственных отношений.
Григорьев подумал, что юноша уже успел принять дозу. Путь от госпитального коридора до скамеечки под старым вязом показался Андрею Евгеньевичу бесконечным. Он с ехидной радостью сдал Рики Кумарину с рук на руки, познакомил их и поспешил вернуться в госпиталь, к Рейчу.
Перед тем как войти в палату, он хотел поговорить с врачом. Коридорная сестра вызвала доктора по селекторной связи.
Доктор, аккуратный маленький толстяк, был облеплен белоснежным хрустящим халатом, как сахарной глазурью. Он любезно улыбнулся, объяснил, что у месье Рейча теперь все хорошо.
– Чем был вызван приступ? – спросил Григорьев.
– Жара. Возраст, – ответил доктор и посмотрел на часы.
– Анализ крови показал наличие каких-нибудь наркотиков?
Доктор нахмурился, покачал головой.
– Честно говоря, я не имею права отвечать на этот вопрос.
– Значит, все-таки наркотики, – вздохнул Григорьев.
– Экстази, – тихо уточнил доктор и добавил еще тише: – Его можно понять, у него молодой друг. Но во всем надо знать меру. Я уже говорил с ним об этом. Кажется, он меня не услышал. Возможно, услышит вас. Если он не остановится, он умрет. Сердце слабое.
– Простите, доктор, еще минуту. Я плохо разбираюсь в наркотиках, но, насколько мне известно, экстази поднимает сексуальную потенцию и вызывает феерическую радость, экстаз. А обратный эффект возможен?
– Почему вы спрашиваете?
– Может экстази вызвать страхи, кошмарные галлюцинации?
– Вы что, наблюдали это у месье Рейча? – доктор слегка напрягся. – Пожалуйста, если можно, подробней.
– Я не наблюдал. Я слышал по телефону, как он кричал, словно его мучили кошмары.
Доктор помолчал, сдвинул тонкие, как будто нарисованные, брови.
– Хорошо. Мы сделаем дополнительный анализ крови на наркотики. Наш психиатр поговорит с месье Рейчем.
– Благодарю вас, – кивнул Григорьев.
Генрих лежал в отдельной комфортабельной палате, больше похожей на гостиничный номер.
– Андрей, видите, все обошлось. Я не умер, и мне даже не нужна операция. Рики, бедняжка, так волновался.
– Да, я встретил его в коридоре, – Григорьев сел в кресло у кровати.
Повисла пауза. Рейч смотрел в потолок. От руки его тянулась трубка капельницы.
– Я знаю, вы меня осуждаете, – сказал Рейч, – но что делать, если я не могу оторваться от него. Только с кровью, с мясом.
– Вам нельзя принимать экстази, – сказал Григорьев.
– Доктор говорил мне, – Рейч прикрыл глаза.
– Я звонил вам утром. Рики не позвал вас к телефону. Я слышал, как вы кричали. Что происходит, Генрих?
– Андрей, вас это интересует как профессионала? Вам надо получить информацию от меня, и вы боитесь, что я стал законченным наркоманом, у меня расплавились мозги и я не сумею внятно изложить эту информацию?
– Меня это интересует как человека, который знает вас больше двадцати лет. Мне вас жалко, Генрих. Мне за вас страшно.
Губы Рейча растянулись в мгновенной резкой улыбке, как будто лицо треснуло вдоль, Григорьеву даже почудился сухой щелчок.
– Не волнуйтесь, Андрей. Я, конечно, плохо стал соображать, но спектакль с пропавшими альбомами разыграл перед вами совсем недурно, согласитесь.
– Да, – кивнул Григорьев, – все выглядело очень натурально.
Рейч опять улыбнулся, на этот раз мягче.
– Я ведь давно понял, Андрей, кто вы. Вы работаете в ЦРУ. Мне было грустно, что они прислали именно вас. Я разыграл спектакль, и вы мне легко поверили. Я мучил вас Третьим рейхом, и вы терпеливо меня слушали. Вы действительно хорошо ко мне относитесь, и вам не хотелось докладывать руководству, что конверты отправил именно я. Но ведь ничего противозаконного я не сделал, верно? Это не шантаж, не разглашение секретной информации. Я просто поковырял палочкой в вашем гнилом термитнике.
– Вы поступили неразумно, – тихо сказал Григорьев.
– Я поступил нерационально. Насчет разумности можно спорить, но у меня сейчас нет сил, – он усмехнулся, – вы, конечно, решили, что в этом замешан Рики? Нет. Мальчик ничего не знал. Мы путешествовали по Европе, и я потихоньку опускал конверты в почтовые ящики в разных городах. Зачем? Затем, что я скоро умру, и напоследок мне захотелось сделать что-нибудь хорошее. Если хотя бы одному из пятидесяти четырех адресатов, получавших мои послания, на мгновение стало стыдно, я добился своей цели. Они вырастили монстра, дали ему оружие и научили им пользоваться. Пусть помнят об этом и не строят из себя благородных защитников демократии.
Он говорил совсем тихо, с тяжелой одышкой. Григорьеву пришлось подвинуться ближе и склониться к нему. От Рейча пахло лосьоном после бритья и мятными конфетами. Дыхание его было шумным и частым. Неожиданно для себя Григорьев спросил:
– Генрих, зачем вы сказали? Честное слово, лучше бы я вернулся с пустыми руками.
Рейч, мучительно морщась, приподнялся на подушке и тихо, хрипло засмеялся.
– Андрей, как вы не понимаете, мне захотелось похвастать единственным за всю мою жизнь поступком, которым я горжусь. Я не смог удержаться. Простите меня за спектакль. Сейчас я сказал вам правду, бесплатно, бескорыстно. Просто так, для собственного удовольствия. Вы можете спокойно докладывать своему руководству, что конверты с фотографиями отправил я. Пусть делают со мной, что хотят. Я все равно скоро умру. Чем скорее, тем лучше, «…доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Я даже не из земли, не из праха, я из самой черной, самой жуткой грязи. Там черви, вонь. Там обитают тени, ненавидящие себя и свою тухлую, бездарную, самодельную вечность. Я ребенок «лебенс-борн», они меня создали, они и уничтожат. Я благодарен им, что они выбрали такой приятный способ. Мой Рики прелесть, правда?
– Генрих, перестаньте. Вы разумный, свободный, образованный человек. Что за бред вы несете? Да пошлите вы этого бесенка подальше! Зачем вы хороните себя заживо?
Григорьев разозлился, занервничал. Ему захотелось курить. Он встал, прошелся по палате. Генрих следил за ним взглядом, не поворачивая головы.
– Вам, правда, жаль меня, Андрей?
– Да, Генрих, да! Вам надо порвать с Рики, прекратить принимать наркотики. Не мудрено, что вам мерещатся всякие тени, черти, червяки. Посмотрите, небо за окном, деревья, море. Вылезайте вы наконец из своего страшного подвала!
Рейч молчал. Глаза его были закрыты. Губы мучительно сжаты, уголками вниз. Седой пух на лысине едва заметно шевелился от искусственного ветерка вентилятора.
– Знаете, Андрей, – сказал он, не открывая глаз, – мне сейчас тяжело с вами разговаривать. Простите. Я устал.
Григорьев вышел в сквер. После охлажденного воздуха госпиталя жара показалась особенно тяжелой. На лавочке под вязом Кумарин и Рики беседовали как добрые старые знакомые.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Деревня Кисловка находилась в двадцати километрах от бывшего лагеря. Она была маленькой, всего два десятка домов. Сонный толстый участковый заметно оживился, узнав, что майор из Москвы и его спутница интересуются девчонкой-потеряшкой. Новость о приезде группы из Москвы, о том, что в заброшенном лагере обнаружено шесть обгоревших трупов, до маленького деревенского отделения дойти еще не успела.
– Ну что, личность барышни установили? – спросил участковый, застегивая мятую форменную рубашку на толстом пузе.
– Да. Все нормально, – кивнул Арсеньев.
– А я вот сюжет видел в криминальных новостях, как там, в больнице, заговорила она, нет? Чего это вообще такое – афлигия?
– Афония, – машинально поправила Маша.
Они шли втроем по тихой деревенской улице, к дому фельдшерицы. Участковый, еле справляясь с одышкой, рассказывал, как послала за ним Настя Кузина, как он увидел потеряшку, которая не могла говорить и выглядела как бомжонок. О своем звонке в Лобню он упомянул мельком, просто сказал, что поставил в известность районное начальство, как положено. А потом фельдшерица вызвала «скорую».
Поликарпыч не счел нужным рассказать о том, что после его звонка в деревню из Лобни приехал Лезвие.
…Дело в том, что старший лейтенант Колька Мельников не сразу покинул Кисловку. Он дождался, когда Поликарпыч вернется к себе в отделение, и минут через двадцать явился к нему.
– Знаешь, Поликарпыч, тут, это, неудобно так получилось, я тете Насте замок на калитке сшиб нечаянно и банку с квасом грохнул.
– Ничего, – сдержано кашлянул Поликарпыч, – бывает.
– Я, понимаешь, жару плохо переношу.—Лезвие сел, достал свои хорошие сигареты, протянул Поликарпычу: – Угощайся.
Закурили. Помолчали.
– Ну и вот, – понизив голос, продолжал Лезвие, – я перед этим пивка вмазал, а потом водкой заел, – он подмигнул старому участковому и сделал смешное, виноватое лицо, как он умел еще в детстве. Брови домиком, губы подковкой.
– Нехорошо, Коля. Тыже за рулем, ктомуже на службе. А от меня чего хочешь?
– Ты, это, тете Насте передай от меня, на новую задвижку.
Лезвие достал из кармана купюру в пятьсот рублей и положил на стол.
– Она не возьмет, – Поликарпыч покачал головой и покосился на деньги.
– Тогда сам купи и прибей.
– На задвижку это много, – заметил Поликарпыч.
– А ты на сдачу купи Лидуне чего-нибудь, тоже от меня. И вот еще. Младшему твоему, Ване, вроде шестнадцать исполнилось недавно?
– Ну да, тридцатого июля.
– Он у тебя отличный парень, я слышал, он на мотоцикл копит.
Еще две купюры, по тысяче рублей, легли перед Поликарпычем на стол.
– Чего это ты вдруг, Коля? – тихо спросил участковый.
Не хотелось на них глядеть, на эти деньги, очень уж было странно – с какой стати вдруг Лезвие сделался таким внимательным и щедрым. Но взгляд сам собой прилипал к купюрам, а правая ладонь вдруг нестерпимо зачесалась.
– Понимаешь, у нас сейчас сплошные проверки, особенно насчет этого дела, – Лезвие щелкнул себя по крутому кадыку, – ты, это, если там какие разговоры, то, да се, не рассказывай, что я приезжал.
Поликарпыч нахмурился, подумал немного и спросил:
– А Настя? Если она расскажет?
– Ой, ладно, – махнул рукой Лезвие, – ее и не спросит никто, а тебя могут, – он легонько подвинул купюры к Поликарпычу. – ты деньги со стола убери. Примета плохая. Да, слушай, я тут к ребятам в «Викинг» заезжал, на соревнования по бегу с препятствиями. Ну, я тебе скажу, Ваня твой молодец!
И он стал рассказывать, как быстро бегает, как высоко прыгает младший сын Поликарпыча, какой он сильный, ловкий и смелый.
Участковый даже покраснел от удовольствия. Он, в принципе, был рад, что его сын этой зимой записался в «Викинг». Там хорошие ребята, не пьют, не шатаются по дискотекам, занимаются спортом. И дисциплина крепкая, и мысли им внушают правильные, патриотические.
Вот ведь тоже, Миха и Серый были такой безнадежной шпаной, а сейчас воспитывают подрастающее поколение.
Поликарпыч сам не заметил, как исчезли со стола три купюры и спрятались в кармане его штанов.
На следующее утро он купил для Насти Кузиной новую задвижку, для Лидуни футболку с картинкой и спортивные трикотажные штаны. Пока возился с Настиной калиткой, провел беседу, рассказал, как извинялся Колька Мельников, какой он стал правильный человек, и не надо на него держать обиду. Он просто выпил лишнее, поэтому такой был дурной.
Настя растроганно повздыхала, а Лидуня до сих пор бегает по деревне, всем показывает свои обновки, скачет от счастья и песенки поет.
– Вот мы пришли, – сказал участковый и громко крикнул: – Настя!
Из дома вышла пожилая крепкая женщина, удивленно оглядела гостей. Поликарпыч объяснил, кто они и зачем.
– Ой, да как же ее зовут? – Анастасия Игнатьевна так разволновалась, что чуть не наступила на курицу, пока шла с гостями от калитки к крыльцу.
– Грачева Василиса Игоревна, – сказал Арсеньев.
– Василиса! Господи, так она почти тезка Васе моему! Надо же, как бывает!
Усадив гостей за стол, Настя принялась расспрашивать их, рассказывать сама, как пошла на кладбище, как нашла обожженную девочку. Поликарпыч сидел тут же, иногда вставлял реплики. Один раз он улучил момент, шепнул Насте на ухо, незаметно для гостей:
– Ты им про Кольку не говори!
Настя ничего не сказала и забыла спросить – почему. Она так рада была, что Василису Грачеву нашел ее дедушка, что она теперь дома и все у нее хорошо. Особенно сильно на нее подействовало совпадение имен. Она даже вспомнила, как девочка подпрыгнула на кровати, когда прибежала Лидуня и стала кричать: «Вася! Вася!».
– Наверное, подумала, что Лидуня к ней обращается! А кстати, как ее дедушка называет? – спросила она своих гостей.
– Вася. Васюша.
– Я тоже своего сына так называла, когда был маленький. Видите, как странно получилось, я ведь ее нашла потому, что решила его могилку проведать. Вы ей передайте от меня привет, ладно? Может, когда поправится, найдет время, заедет ко мне. Хочу посмотреть на нее, живую и здоровую, голос ее услышать, поговорить. Вы ей адрес мой напишите, чтобы не забыла. Лидуня будет рада.
Юродивая успела прибежать, крутилась перед незнакомыми людьми в своих обновках, потом принялась возбужденно, картаво рассказывать что-то, повторяла «Лезие, лезие», зачем-то схватила кочергу, но Анастасия Игнатьевна отняла, прикрикнула на Лидуню, чтобы сидела тихо и не мешала разговаривать.
– Ну и что ты так рвалась сюда? – спросил Арсеньев, когда они сели в машину. – Времени потратили кучу, информации – ноль.
– Ноль, – эхом отозвалась Маша, – ты сейчас куда?
– К Зюзе, в прокуратуру. Отвезти тебя к Рязанцеву?
– Нет. К Дмитриеву. Мне надо забрать машину и зайти, узнать, как там у них дела.
– А потом?
– Не знаю. Саня, – она прижалась лицом к его плечу, – тебе ведь сегодня придется все рассказать матери и брату Гриши, да?
– Зюзя сообщит, – он оторвал руку от руля и погладил ее по волосам, – но мне, конечно, придется прийти к ним.
– Хочешь, я приеду к тебе?
Он резко свернул к обочине, затормозил, обнял ее, стал быстро, бестолково тыкаться губами в ее глаза, нос, щеки.
– Машенька, когда мы там сидели, у фельдшерицы, я смотрел на тебя, ты была такая холодная, красивая и далекая Мери Григ, мне вдруг стало казаться, ничего у нас еще не было. Ты, другая Маша, моя Машенька, приснилась мне. Я уже проснулся, и ничего никогда не будет, ты вежливо попрощаешься, исчезнешь, и я сойду с ума. Я знаю, ты все равно исчезнешь, но только не сейчас, пожалуйста! Не сейчас!
* * *
Кончик ампулы никак не отпиливался. Стекло треснуло. Надя поранила палец, уронила ампулу, выругалась, приложила к царапине ватку с перекисью и тут заметила, что ее любимые часы опять идут, показывают правильное время. Без пяти шесть.
– Ни хрена же себе! Бли-ин! Нет, ты смотри, а? Бывает такое? – обратилась она к Василисе. – Нет, ну твою мать! Колесико крутится! Все в порядке. И мобильник заработал, причем сам, я его не включала. Просто взял и заработал. Слушай, может, здесь у вас какая-нибудь магнитная зона?
Василиса не слушала ее. Она, не отрываясь, смотрела на шприц, который лежал на столике у дивана. Большой 20-миллиграммовый шприц. Упаковка надорвана. Рядом коробка с ампулами. На коробке латинскими буквами написано «КЕТАМИН ГИДРОХЛОРИД». Ампул всего две, но здоровые, по десять миллиграмм.
На боку у Нади заверещал телефон. Она подпрыгнула от неожиданности, схватила трубку.
– Да! – лицо ее мгновенно изменилось, щеки надулись, брови сдвинулись. – Привет. Все нормально. Нет. Пока нет. Блин, короче, уверена и все, какие тебе еще доказательства? Сейчас, одну минуту, – она покосилась на Василису и быстро вышла из комнаты.
– Ой, блин! Не знаю! Молчит, вполне натурально молчит. Точно тебе говорю, все это время, пока я здесь, ни слова, ни звука, по-моему, она вообще слегка того, – доносился до Василисы приглушенный, но все равно ужасно громкий голос.
Надя хоть и поругивалась, но говорила со своим собеседником ласково, кокетничала немного, интонации были тягучими и сладкими, как ириски.
Хлопнула дверь в прихожей.
– Все, прости, я больше не могу! – голос Нади прозвучал испуганно.
Через минуту в кабинет вошел запыхавшийся возбужденный дед.
– Вася, представляешь, я паспорт забыл! – сообщил он. – Хотел деньги снять с книжки, пришел в сберкассу, главное, очередь выстоял, книжка с собой, а паспорт забыл. Ну как ты, Васюша?
За ним следом явилась Надя. Губы ее были растянуты в сдобной улыбке.
– Ой, Сергей Павлович, вы вернулись, я не слышала, как вы вошли.
– Я на минуту, мне надо успеть в сберкассу, я паспорт забыл, они в семь закрывают… – он вдруг замолчал.
Он смотрел на столик у дивана. Надя перехватила его взгляд.
– Я вот хочу витаминчиками ее поколоть, – объяснила она, не снимая с лица улыбку.
– Витаминами? —Сергей Павлович растерянно моргнул. – А почему именно поколоть? Есть много таблеток.
– Так лучше усваивается, к тому же глотать ей трудно, – Надя прищурилась, и глаза ее стали похожи на узкие петли, обметанные синими нитками.
– Что за витамины? Без очков не разберу, – Дмитриев взял упаковку с ампулами, подошел к окну, громко вслух прочитал: «КЕТАМИН ГИДРОХЛОРИД».
– Это такой новый комплекс, очень хороший, дорогой, там сразу витамины и успокоительное, я специально принесла, ей нужно иммунитет поднимать, чтобы ожоги быстрей заживали, – быстро заговорила Надя и выхватила у него коробку, – да вы идите, идите, Сергей Павлович, в сберкассу не успеете.
Василиса резко села на диване и коленом опрокинула столик. Все, что на нем лежало, разлетелось по полу, в том числе небольшая сумка медсестры. Сумка была открыта, она упала вверх дном.
– Надя, – совсем новым, каким-то вкрадчивым голосом произнес Сергей Павлович, – кетамин – это не витамины.
– Ну, я же говорю, новый комплекс, импортное лекарство, французское, два в одном, успокоительное и витамины, сейчас так много новых лекарств появилось, вы не можете все знать, вы разве врач? – Надя подняла с пола свою сумку и принялась быстро, нервно запихивать все, что вывалилось на пол.
– Нет, Надя, я не врач, – четко, словно на уроке сценической речи, произнес Дмитриев. – Я режиссер, но это не значит, что я полный идиот. Кетамин гидрохлорид – это что угодно, только не витамины.
– Ой, ладно вам, Сергей Павлович, какой вы подозрительный, прямо не могу, – Надя все улыбалась и теснила его к двери, – вы опоздаете, сберкасса до семи.
– Ничего. Я завтра схожу.
– Ну тогда отдохните, расслабьтесь, чайку попейте. Я тут разберусь. – Она сделала еще шаг и как бы нечаянно толкнула его плечом.
Сергей Павлович попятился к дивану, сел рядом с Василисой.
– Погодите, погодите, что значит – вы разберетесь?
Надя встала перед диваном, широко расставив ноги. Сумка ее все еще была прижата к животу.
– Вы хотите, чтобы ваша внучка заговорила?
– Глупый вопрос! Конечно, хочу.
– А в таком случае вы должны мне доверять.
– Но вы же не врач!
– Я медсестра. Я только что говорила по телефону с одним умным доктором, —она вдруг хихикнула, —с профессором, который отлично разбирается в таких вещах. Он сказал, что при афонии обязательно нужны успокоительные лекарства.
– Что за профессор? Как фамилия? – быстро спросил Дмитриев и обнял Василису за плечи.
– Профессор Сидоров. Очень опытный, квалифицированный невропатолог, – Надя опять хихикнула и тряхнула желтой челкой.
– Надя, не морочьте мне голову. Я не позволю ничего колоть моей внучке, на какого бы профессора вы тут ни ссылались. Тем более профессор этот Васю не смотрел и судить о ее состоянии, советовать что-либо, после одного телефонного разговора с вами не может. А если может, тогда тем более не стоит ему доверять. Вот что, Надя. Я вам очень благодарен, вы нам помогли, и все, больше не надо. Спасибо. Пойдемте, я вас провожу, расплачусь с вами.
Она положила сумку на письменный стол, шагнула к дивану, опустилась на корточки, посмотрела на Дмитриева снизу вверх, медленно облизнула губы.
– Сергей Павлович, ну что вы так напрягаетесь, – рука ее легла к нему на колено. – Я ваши фильмы прямо обожаю, можно сказать, преклоняюсь перед вами, а вы, оказывается, такой недоверчивый человек.
– Какой я человек, мы обсуждать не будем. Всего доброго, Надя.
– Ну, миленький мой, давай расслабимся, успокоимся, – рука поглаживала, мяла его коленку.
Дмитриев резко встал, стряхнул эту руку, толстопалую, широкую, с короткими аккуратными ногтями без маникюра.
– Вы что, не поняли? Я прошу вас уйти, Надя.
– Как же я уйду?
Она тоже встала и задела его бюстом.
– Вы без меня не справитесь. Что вы завелись, Сергей Павлович? Подумаешь, укольчик хотела сделать? Я как лучше хотела, не нравится вам лекарство, я колоть не буду. В чем проблема?
– Проблема в том, Надя, что я вам не доверяю и прошу вас уйти. Вы в мое отсутствие собирались вколоть моей внучке какую-то дрянь. Огромные ампулы, огромный шприц. Вот тут у меня лекарственный справочник Машковского. Давайте вместе посмотрим, что такое кетамин.
– У-тю-тю, какие мы грозные, какие нервные! Справочник. Зачем нам справочник? Нам и так хорошо, а сейчас будет совсем хорошо, хочешь, я тебе покажу, как бывает классно, без книжек, без справочников всяких, а? – она облизнула палец и медленно провела им по губам Дмитриева.
– Вы с ума сошли! – он отшатнулся, сморщился и вытер рот тыльной стороной ладони. – Что вы себе позволяете?
– Ой, ну ладно, перестань, ты чего, совсем не мужик уже? Средний род? Не переживай, зайчик, я тебя так пощекочу, что твоя маленькая вялая морковка станет большой и свежей. Или внучку стесняешься? Брось, она поймет, – Надя повернулась к Василисе и подмигнула ей, – тебя ведь не надо стесняться, а? Ты девочка взрослая, сама много чего умеешь, знаешь, какие бывают морковки и как с ними обращаться.
– Вон! – крикнул Дмитриев и схватил со стола первое, что попалось под руку, бронзовую статуэтку «Нику», которую получил одиннадцать лет назад за свой последний фильм.
Если бы Надя не успела увернуться, кинопремия за лучшую режиссерскую работу наверняка разбила бы ей голову. Но у воспитанницы «Викинга» была отличная реакция. «Ника» пролетела в сантиметре от ее уха, вылетела в дверной проем. Из прихожей послышался звон стекла. «Зеркало», – машинально отметила про себя Василиса.
– Да пошел ты, псих, старый козел, со своей б… малолетней! Сдохните вы оба! – Надя оттолкнула Дмитриева, кинулась в прихожую. Через минуту хлопнула входная дверь.
Дед не удержался на ногах, за его головой были книжные полки, он мог сильно стукнуться затылком, но Василиса метнулась к нему и успела подхватить.
* * *
Столик заказали заранее, в дорогом ресторане, в тихом крошечном городке, в десяти километрах от Ниииы. на высоком отвесном берегу. Там были отдельные кабинеты с балконами, выходившими на море.
Рики опять взял себе только икру и тосты. Съел очень быстро, запил шампанским, принялся рассуждать о литературе, новой и старой. Понятно, что вся старая была плохой, ее следовало срочно отменить, уничтожить, освободив место на книжных полках и в сознании людей для литературы новой, хорошей, правильной.
– Я думаю, такая задача выполнима только на государственном уровне, – серьезно заметил Кумарин
– Да. И в этом я возлагаю большие надежды именно на Россию. Ментальность новой, сегодняшней России, на мой взгляд, максимально готова к глобальному пересмотру устаревших догм и табу, к освобождению от грязных пут христианской морали и от прочих биологических предрассудков. – Он икнул и облизнулся. – Когда президентом станет Владимир Приз, я уверен, он займется этим. Общество уже созрело, оно подает нам знаки, оно зовет на помощь, нужно только небольшое усилие, и останется убрать мусор, вывести шлаки. Анус мунди.
– Что, простите? – спросил Кумарин.
– Задница мира, – перевел Григорьев, – Рики объясняет нам, что Россия – это прямая кишка. Так когда-то называли Освенцим.
– Ну что ж, спасибо, Рики, – кивнул Кумарин
– Благодарить надо не меня, – улыбнулся юноша, – благодарить вы будете Владимира Приза. Он оздоровит эту страну, наведет порядок, вычистит грязь
– Только на него и надежда, – вздохнул Григорьев, – но и на вас тоже, Рики. Вы ведь поддерживаете его, помогаете ему, верно?
Рики, казалось, не услышал последней фразы. Он слегка осовел и клевал носом. Подошел официант, быстро бесшумно убрал со стола. Кумарин попросил принести еше коньяку, кофе и какой-нибудь легкий десерт.
– Ваш Толстой был трэш, бульварщина, – заявил Рики и опять икнул, на этот раз очень громко.
– Который из них? – осторожно поинтересовался Кумарин и протянул Рики стакан воды, – выпейте.
– Спасибо, – Рики взял стакан, но пить не стал, только смочил губы. – сколько их там у вас было, этих Толстых? – он сморшил нос и принялся загибать пальцы, бормоча что-то. – Трое, четверо? А впрочем, не важно. Сегодня все они никому не нужны. Трэш. Нудный сентиментальный мусор. Так же, как ваш Достоевский, от которого стонут старые девы. Так же, как, впрочем, и наши Манны. Томас, и Генрих. Эти два брата только позорят великого Манна, первого человека, родоначальника трех племен германцев, упомянутых Тацитом. Ингевоны, истевоны. герминоны. Три великих племени, которым суждено владеть миром в двадцать втором веке, когда будет создан клон Манна. Настанет новая эра, и на нас, сегодняшних людях, лежит огромная ответственность. Мы обязаны расчистить для нее пространство, не только духовное, но и физическое. – Он вдруг оскалился, посмотрел на Григорьева, потом на Кумарина и громко расхохотался Между белыми зубами чернели икринки – Это я делюсь с вами творческими планами, господа Я собираюсь написать роман о Манне и о трех племенах
– Очень интересно. – кивнул Григорьев, – уверен, у вас получится замечательная книга. Будем с нетерпением ждать.
– Боюсь, ждать придется долго. – вздохнул Кумарин, – господин Мольтке слишком много времени тратит на дела, не имеющие отношения к литературе. Возможно, мы вообще не дождемся. Честное слово, обидно, когда такой талантливый человек так неразумно, по-детски, рискует жизнью и доверяет людям, которых совсем не знает. Скажите, сколько раз вы встречались с Владимиром Призом?
Рики замер. Глаза его забегали, он нервно облизнулся, хлебнул шампанского. Григорьев и Кумарин смотрели на него очень серьезно и молчали.
– Я не понимаю, – наконец произнес Рики, – что вы имеете в виду?
– Неужели все дело только в деньгах, в процентах от сделки? – грустно спросил Григорьев Кумарина, как бы не обращая внимания на Рики. ,
– Ну что вы, Андрей. Нельзя так плохо думать о людях. Господин Мольтке пошел на это по идейным соображениям. Он хотел внести свой вклад в великое дело очищения мира от шлаков. Он искренне поверил Призу решил, что у этого актеришки великое будущее.
– Я не понимаю. – повторил Рики и замотал головой, – пожалуйста, выражайтесь ясней.
– Вы стали жертвой собственного легкомыслия, Рики. – Сказал Григорьев, Видите ли, подозрения, что культурная деятельность общества «Врил» всего лишь ширма, за которой скрываются весьма некультурные дела. прямо скажем, международная уголовщина, существовали давно. Но доказательств не хватало. Сегодня вы их предоставили.
– Ваша встреча в арабской кофейне записана на видео, – пояснил Григорьев, – обидно, что именно вы попались на этот крючок.
– Владимир Приз, которого вы видите будущим президентом России, всего лишь крючок, точнее, личинка, жирный червяк. Он только актер, шоумен. Да, знаменитый. Но не более того. Что касается политики, в ней он шолный ноль. – Кумарин посмотрел на часы, – вот сейчас ваши аравийские друзья выходят из самолета в аэропорту Женевы. Там их встречают сотрудники Интерпола. Арестовывать их пока не будут, за ними продолжат наблюдение. За ними давно уже ведется наблюдение, высвечиваются все их международные контакты.
Лицо Рики постепенно преображалось. Черты отяжелели, щеки побледнели, на них стала видна нормальная мужская щетина. На шее и на руках вздулись жилы. Он как будто повзрослел сразу на десять лет.
– Хватит ломать комедию, господа, – сказал он спокойно, – выкладывайте, что вам надо.
– Да. в общем, уже ничего, – пожал плечами Кумарин, – информации и так вполне достаточно. Нам просто интересно, чем вас купил Приз? Почему вы ему поверили и согласились стать посредником в таких рискованных переговорах9
– В каких переговорах? – тихо спросил Рики и оскалился – И при чем здесь Владимир Приз?
– Все снято на пленку. Записано каждое слово, – напомнил Григорьев
– Кто вам сказал, что это касается Владимира Приза? – губы Рики растянулись в плоской холодной усмешке.
– А этого не надо говорить, – Кумарин слегка пожал плечами. – в Женеве ваши аравийские друзья зайдут в банк, переведут деньги. Факт поступления известной суммы на известный счет будет подтверждением того, что вы успешно провели переговоры от лица Вла димира Приза.
Григорьев закурил, сквозь дым взглянул на Рики. Тот болезненно поморщился. Он не терпел табачного дыма.
– Вам было лестно общаться со знаменитостью, знакомить его со своими товарищами. Вот, русская звезда, будущий президент. Ваш приятель. Что делать, Рики, многие страдают этой слабостью. Вы не исключение. Владимир Приз, правда, играет сейчас в политику. Депутат Думы, рекламное лицо партии «Свобода выбора» Вполне возможно, ему этого недостаточно. Ему нужны деньги, чтобы сделать себе политический пиар. Но мало ли, чего он хочет? Все это не более чем мыльная опера. Трэш, как вы любите выражаться.
– А вы развесили уши, – Кумарин сочувственно вздохнул. – Вы ради авантюриста, пройдохи, рискнули воспользоваться серьезным каналом связи вашей серьезной организации.
– Я вам не верю, – пробормотал Рики.
– А вас никто и не уговаривает верить, улыбнулся Григорьев.
– Я не знаю, кто вы. Нужны доказательства
– Доказательства чего? – спросил Кумарин. – Что Приз пустышка? Что вы подставили своих товарищей?
– Чем же он все-таки вас купил? – спросил Григорьев. – На кого он ссылался? Почему вы так легко и быстро ему поверили и согласились стать посредником?
– Вы порете чушь, – прошипел Рики сквозь зубы.
– О каких условиях шла речь? Что должен был вы полнить Владимир Приз, получив деньги от спонсоров-террористов? Принять мусульманство Что еще9 – спросил Кумарин
Рики молчал. Глазные яблоки двигались, как два безумных маятника, туда. сюда. Жилы на шее вздулись и посинели Казалось, внутри него работает какой-то механизм, и сейчас повалит дым и полетят искры от трения перегретых металлических деталей.
Вдруг зрачки остановились. Рики заговорил, спокойно, четко, чеканя каждое слово.
– Люди, с которыми я встречался, издатели. Мы говорили о переводе моего романа на арабский язык и о последующей его экранизации. И еще, я рассказывал им содержание нового романа, который собираюсь написать. Мы так увлеклись, что в кофейне стали разыгрывать сцену из этого романа Это были виртуальные переговоры, они касались вымышленной страны и вымышленного героя Они касались мифологического Манна, прародителя грех германских племен.
Рики замолчал и шумно, со свистом, выдохнул.
– Молодец, – покачал головой Кумарин, – лихо. Григорьев посмотрел на часы.
– Через пятнадцать минут здесь будет французская полиция и представители Интерпола. Чем скорее вы ответите на наши вопросы, тем больше у вас останется времени, чтобы уйти отсюда. Быстрее, Рики. Что конкретно готов был делать Владимир Приз за деньги террористов?
– Ничего. – отчеканил Рики.
– Четырнадцать минут, – тихо сказал Кумарин. Рики молча встал, не спеша, расхлябанной походкой, направился к выходу из кабинета. В дверном проеме маячила мощная фигура Ивана, шофера Кумарина. Сделав несколько шагов к выходу, Рики остановился, качнулся. Казалось, он сейчас упадет
– Лучше сядьте. – посоветовал Кумарин, – не дергайтесь Все равно не уже успеете.
Рики стал пятиться назад, к столу. Вдруг схватил тяжелое кресло, запустил им в Ивана, резко развернувшись, в три прыжка долетел до балкона, перемахнул через витые перила и исчез в темноте. Иван метнулся к нему, но опоздал на пару секунд. Море шумело, никакого звука не последовало.
– Темно, – сообщил Иван, свесившись вниз.
Григорьев и Кумарин, опомнившись, кинулись на балкон. Действительно, внизу был полный мрак, волны бились о скалы. Высота небольшая, всего метров десять над уровнем моря.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
–Марина. кого вы мне прислали? —Дмитриев старался не кричать в трубку, но голос его црожал и срывался.
– Сергей Павлович, что случилось? – испуганно спросила корреспондентка.
– Вы показались мне нормальным, интеллигентным человеком, достойным доверия. Кого вы прислали ко мне в дом?
Марина тоже занервничала. Она сидела дома, за компьютером Ей срочно надо было сдавать материал. Она и так потеряла кучу времени, согласившись участвовать в этом странном, сомнительном спектакле, который придумал Володя Приз. А тут еще неожиданный неприятный звонок, претензии Дмитриева.
– Сергей Павлович, не кричите, пожалуйста. Объясните, что случилось? Вам не понравилась сиделка?
– Не понравилась?! Да она чудовище! Где вы ее взяли' Как вы могли так поступить? По вашей милости ко мне в дом проникла настоящая уголовница, бандитка
– Погодите, она что-нибудь украла? – спросила Марина, чувствуя, как запылало у нее лицо.
– Не знаю! Все может быть! Я еще не проверял!
Марина слегка расслабилась, потянулась за сигаретой, прикурила
– Сергей Павлович, будьте добры, объясните, почему вы гак расстроились? В чем я виновата?
– Эта ваша Надя выставила меня из дома и в мое отсутствие пыталась сделать Васе укол! – он так кричал, что не слышал тихого сигнала домофона.
Домофон звонил и звонил. Василиса слезла с дивана, заковыляла в прихожую.
– Ну, возможно, вы преувеличиваете, – говорила Марина, все более успокаиваясь, – я уверена, Надя хотела помочь вашей внучке, скорее всего, это были какие-нибудь витамины.
– Витамины?! – взревел Дмитриев, – Так вы с ней заодно! Все, я больше не желаю с вами разговаривать! Я сейчас же звоню в милицию!
Василиса добрела до входной двери. Морщась от боли, попыталась взять трубку, но выронила ее. Трубка повисла на проводе, оттуда прозвучал голос:
– Алле! Это я. Вася, ты что, одна? Где дедушка? Ты можешь мне открыть?
Сергей Павлович, продолжая кричать в телефон, вышел наконец в прихожую.
– Недоразумение?! Вы поручились за нее, вы сами мне предложили! Что значит – никогда не видели? Откуда в таком случае она взялась? Не морочьте мне голову, вы при мне ей позвонили и говорили, как с хорошей знакомой. Ну тогда объясните мне, как это могло произойти? Нет, я спокоен, я вполне вменяем, я весь внимание!.. Вася, что ты делаешь? Не вздумай никому открывать! Нет, это я не вам, извините!
Не слыша тихого голоса из трубки домофона, он повесил ее на место. Домофон опять загудел.
– Иди сию минуту ложись! – рявкнул он Василисе. – Не смей открывать! Мы никого не ждем! Сейчас я договорю и буду звонить в милицию! Мне это надоело!
Марина машинально отбила несколько восклицательных знаков на компьютере.
– He надо в милицию, Сергей Павлович! Тут никакого преступления нет и быть не может. Дело в том, что меня попросили помочь вам, я просто выполнила просьбу.
– Чью?! Кто вас просил?
– Ваш ученик. Понимаете, так получилось, он случайно узнал о вашей беде, очень за вас переживал, боялся, что вы откажетесь от помощи, – лопотала Марина.
Домофон замолчал. Василиса стояла перед дедом и делала ему отчаянные знаки, пыталась что-то объяснить на пальцах.
– Какой ученик? Погодите, значит, интервью, фотограф – все это блеф? Кто-то инкогнито решил подать мне такую, с позволения сказать, милостыню?
– При чем здесь милостыня? Вам искренне хотели помочь. Интервью вовсе не блеф. Я обязательно сделаю материал, он будет опубликован. Фотограф, правда, не из нашего журнала, – Марина говорила быстро, боялась, что старик перебьет, опять начнет кричать.
– А откуда?
Марина загасила сигарету и тут же закурила следующую. Перед ней по компьютерному экрану прыгала смешная кошечка, потягивалась, облизывала лапки. Марина смотрела на кошечку и не понимала, как она, взрослая неглупая женщина, опытный журналист, умудрилась так нелепо вляпаться. Почему, когда Володя Приз просил ее помочь своему учителю, все выглядело совершенно нормально, достоверно. Доброе дело. А теперь, под крики старика, даже невозможно внятно сформулировать, что же произошло, почему, зачем?
Из сумбурной речи Дмитриева ей удалось понять, что сиделка Надя пыталась сделать его внучке какой-то укол, потом материлась и хулиганила. Но Дмитриев – человек нервный, вспыльчивый. Он может и преувеличивать. Ну, не понравилось ему медсестра. Что, в самом деле, она могла вколоть девочке? Яд? Наркотик? Смешно! Наверняка это были либо витамины, либо мягкое снотворное, чтобы девочка поспала. Старик устроил скандал, как вот сейчас, медсестра вспылила, они поругались. А ей, Марине, теперь приходится расхлебывать. Все, как в старой банальной поговорке: нет такого доброго дела, которое осталось бы безнаказанным.
– Фотограф работает для разных изданий, просто нигде не состоит в штате, – стала она спокойно объяснять Дмитриеву, и подумала: «Боже, я опять вру!».
Василиса опустилась на скамеечку. Ноги подкосились. Прихожая стала предательски прозрачной и медленно растаяла, вместе с фигурой деда, с его голосом и шаркающими нервными шагами, туда-сюда, от вешалки до кухонной двери. Последнее, что успела увидеть Василиса, – маленький яркий осколок зеркала у коврика. Потом наступил мрак, и спокойный незнакомый голос произнес:
– Не волнуйтесь, господа. Сейчас принесут свечи, и мы продолжим.
Это говорил шведский граф Бернадот, президент Международного Красного Креста, аристократ, потомок старинного королевского рода. Василиса почувствовала всю силу ненависти Отто Штрауса к нему. Граф ничего не хотел для себя лично, ничего не боялся, и потому был неуязвим. Его снобизм, его ирония бесили Штрауса.
Переговоры продолжались уже четвертый час. В просторном подвале шведского консульства не было окон. Когда выключили из-за бомбежки электричество, повис абсолютный, бархатный мрак. Можно закрыть глаза, потом открыть, ничего не изменится. Снаружи шарахнула очередная бомба. Зазвенели невидимые стаканы на столе.
Консульство находилось в небольшом городке Любек, на северной окраине Германии. Город бомбили англичане. Они летели над Балтикой. Через Балтику собирался сегодня покинуть Германию шведский граф Бернадот. Два дня назад Гиммлер встречался с графом в Берлине. Теперь догнал его в Любеке, попросил о последней встрече.
Стаканы на столе продолжали тихо позванивать.
Василису от мелодичного стеклянного звона пробирала дрожь. Отто Штраус нахмурился в темноте. Он еще не обнаружил ее присутствия, решил, что этот страх – его собственный, и неприятно удивился. Он давно привык к бомбежкам и не боялся их, особенно когда находился в надежном убежище, как, например, этот подвал.
– Только я обладаю реальной властью в Германии. Мне подчинены части СС, – говорил Гиммлер, – в том положении, какое сейчас создалось, у меня развязаны руки. Чтобы спасти возможно большие части Германии от русского вторжения, я готов капитулировать на Западном фронте, с тем чтобы войска западных держав как можно скорей продвинулись на восток. Однако я не хочу капитулировать на Востоке. Я всегда являлся заклятым врагом большевизма и останусь таковым.
– Но мы уже не раз обсуждали это. Частичная капитуляция невозможна, – устало напомнил Бернадот, – впрочем, я, конечно, передам ваши предложения моему правительству.
– Этого хотят сегодня все здравомыслящие немцы, – сказал Гиммлер, – я веду переговоры не только от своего лица, но от лица империи. Гитлер практически уже мертв. Ему совсем немного осталось. Господин Штраус, как врач, может подтвердить это.
– В иных обстоятельствах мы бы с интересом выслушали мнение господина Штрауса о состоянии здоровья господина Гитлера, – сказал Бернадот, – но сейчас нам бы хотелось узнать, как чувствуют себя заключенные Захсенхаузена и Равенсбрюка. Сегодня мне удалось связаться с доктором Пфистером. В данный момент он находится на территории лагеря Захсенхаузен. Он сообщил мне, что на его просьбу передать заключенных Красному Кресту комендант лагеря полковник Кейндель ответил категорическим отказом.
– Этого не может быть, граф, – глухо откашлявшись, сказал Гиммлер.
– Полковник Кейндель сослался на ваше распоряжение, – сказал Бернадот, – там около сорока тысяч голодных истощенных людей. В основном женщины и дети. Вы обещали дать нам возможность спасти их, господин Гиммлер.
Гиммлер начал переговоры с Бернадотом еще в феврале 1945-го. Красный Крест и правительства нейтральных стран предложили рейхсфюреру сделку. Они готовы были стать гарантами его личной безопасности в том случае, если он прекратит уничтожение десятков тысяч заключенных концлагерей и даст возможность правительствам Швейцарии и Швеции вывезти этих людей на свои территории. Гиммлер колебался. Он боялся гнева фюрера. Ему трудно было беседовать с графом Бернадотом. Он робел перед аристократами. Но главное, он живо представлял, что будет, когда все кончится и уцелевшие заключенные заговорят.
– Они все равно заговорят, Гейни, – объяснял ему Штраус, – они заговорят, даже если уничтожить всех до одного. Голоса зазвучат оглушительно громко, но совсем не долго их будут слушать. Сначала, конечно, в нас полетят камни, нас станут судить. Одно из самых острых удовольствий – судить и казнить. Однако чем острее удовольствие, тем оно скоротечней. Праведный гнев увянет, в пламени речей обуглятся красивые слова. Всему дадут определения. Мы – злодеи, палачи, они – невинные жертвы. Кого-то из нас повесят, кого-то посадят. Выживут, останутся на свободе только самые сильные и умные из нас. Таков закон природы. Мучеников будут жалеть, бесплатно лечить. По всей Европе поставят памятники их страданиям. Но довольно скоро станет неловко и скучно говорить об этом. Страны-победительницы будут долго, нудно делить трофеи, займутся своими рутинными склоками. Пройдет двадцать, тридцать, пятьдесят лет. Их, мучеников, забудут. Нас, палачей, никогда. Но память о нас приобретет совсем новые черты, привлекательные, таинственные. Божьи детки любят страшные истории. Им без этого скучно.
Гейни не понимал. Он никогда не отличался остротой ума. Был гениально хитер, этого не отнять. Но все-таки хитрость и ум – разные вещи. В последние месяцы бедняга совсем отупел от страха и от наркотиков. Он все не желал верить, что война проиграна. Его интрига с Бернадотом работала вхолостую.
Наконец принесли свечи. Гиммлер сидел, низко опустив голову, сдвинув колени, аккуратно положив на них руки. Так когда-то он сидел, выслушивая строгие наставления своего отца. Бернадот бросил на него холодный брезгливый взгляд, потом посмотрел на часы, шевельнул бровями, чуть склонился к одному из своих спутников и тихо спросил:
– Который час, Рене?
Рене приподнял манжету, поднес циферблат своих наручных часов к пламени свечи и удивленно прошептал в ответ:
– Не знаю, кажется, мои встали. Сейчас не может быть двенадцать.
Доктор Штраус поднялся так резко, что опрокинул тяжелый стул, отступил в темноту. Оттуда послышался глухой удар. Никто не увидел, как генерал стукнулся головой о стену.
– Что с тобой, Отто? – испуганно спросил Гиммлер.
– Оставь меня в покое! – глухо рявкнул Штраус из темноты.
Все подумали, что слова это были обращены к Гиммлеру. Очередной разрыв бомбы заглушил следующую фразу:
– Что тебе надо? Кто ты?
Штраус зажал себе рот и обжег губы раскаленным перстнем.
– Доктору стало нехорошо, —спокойно заметил Бернадот, —думаю, пора заканчивать, господа. Господин Гиммлер, я передам все ваши предложения своему правительству, оно решит, следует ли доводить эту информацию до сведения союзников. Надеюсь, что вы, в свою очередь, поможете решению вопроса о заключенных. Прошу вас сделать это как можно скорей. Речь идет о десятках тысяч жизней, которые для нас чрезвычайно важны.
– Конечно, граф, – энергично кивнул Гиммлер, – я сделаю все, что в моих силах.
Он встал. Все холодно попрощались. Гиммлер остался в подвале. Штраус слегка взбодрился, отправился провожать Бернадота и его спутников.
Пока шли по коридорам опустевшего консульства, доктор все держал руку у рта. Он немного отставал, и вместе с ним отстал от группы еще один человек, среднего роста, лет сорока, с неприметным лицом. Швед по национальности, он числился в охранной службе президента Красного Креста и являлся сотрудником американской разведки.
– Что с вами, доктор? – произнес он и незаметно сунул Штраусу в карман толстый маленький конверт из плотной бумаги.
– Благодарю вас. Со мной все в порядке, – ответил Штраус, – просто несколько бессонных ночей и зубная боль.
Он опять прижал ладонь к губам и мучительно сморщился. Молчаливое присутствие неизвестного существа было еще ужасней, чем открытый диалог с ним. Оно, или, скорее, она молчала. Она знала, что в плотном конверте был американский паспорт и другие документы, которые помогут группенфюреру СС доктору Штраусу исчезнуть и возродиться вновь под именем гражданина США, профессора Джона Медисена. Об этом никто не должен был знать. Даже она, хотя ее нет.
– Я есть, а ты – где? Кто ты, зачем? – прорычал Штраус и постарался скрыть слова в искусственном приступе кашля.
Ответа не последовало, Штраус споткнулся и чуть не упал. Голова сильно закружилась, в ушах зазвучали какие-то смутные голоса, мужские, женские, в глазах на долю секунды вспыхнул бледный белый луч.
Осколок зеркала, валявшийся у коврика в прихожей, отразил свет лампы. Василиса продолжала смотреть на него, не отрываясь, пыталась сосредоточится на световом пятне, избавиться от чужой постылой реальности.
… Когда Штраус вернулся, Гиммлер сидел за столом и при слабом свете свечей что-то быстро писал.
– Письмо Кристиану Понтеру, министру иностранных дел Швеции, – пояснил он, не поднимая головы, – Понтер должен ускорить процесс передачи моих предложений американцам и англичанам. Нам надо срочно сформировать новое правительство. Вместо НСДАП я создам новую партию. Партию Национального единства.
Он был сильно возбужден. Глаза сверкали. Штраус не слушал его. Он тяжело опустился в кресло. Ему было нехорошо: дурнота, озноб. Он убеждал себя, что все дело в обыкновенной простуде и переутомлении. Он не заметил, что часы опять идут. В ушах невыносимо громко звенело, он вдруг вспомнил, как много лет назад, в Мюнхене, еще студентом, посещал психиатрическую лечебницу. Там был больной, который все кричал, чтобы ему срочно сделали операцию, вырезали чужие чувства из сердца и чужие мысли из мозга.
* * *
Девушка в ларьке «Кодак» узнала Приза и попросила автограф. Он машинально расписался на каком-то календаре.
– Ой, спасибо, а то мне никто не поверит, что я вас видела, живого, так близко. Вы знаете, вы совсем другой в жизни. На экране вы кажетесь моложе и как-то крупней. А можно вас спросить? – щебетала девушка, заклеивая конверт со снимками, укладывая пленку в фирменный пакет.
– Да. Что?
Конечно, это было ошибкой, не стоило самому заезжать за снимками. Серый сдал пленку, и он должен был взять готовые фотографии. Но он забыл квитанцию у Приза дома, на журнальном столе, обещал заехать только вечером. А Призу не терпелось.
– Вас, когда снимают, сильно гримируют? А трюки вы правда все сами выполняете? У вас никаких нет дублеров? Вот я читала…
– Извините. Я очень спешу.
Оказавшись в машине, он распечатал конверт. Серый был совсем неплохим фотографом. Приз мог, наконец, разглядеть Василису Грачеву, ее сумасшедшие круглые глаза, маленькое, с кулак, лицо, ссадину на скуле, темные патлы, тонкую жалкую шейку, распухшие обожженные руки и свой перстень на ее пальце. Она была типичным «лютиком», слабеньким, ядовитым. И главное, смазливым. «Лютики» женского пола с привлекательными личиками были ему особенно гадки. Сквозь слой сахара он видел их дерьмовую суть. А что может быть гаже дерьма? Только дерьмо в сахаре.
Он перебирал снимки, и тяжелые жгучие волны поднимались в нем от живота к груди, к горлу, душили его, мешали соображать. Голова пульсировала болью. Чтобы успокоиться, потребовалось значительно больше сил, чем когда он заставлял Серого поднять полотенце. Он отложил две фотографии Василисы, остальные порвал в мелкие клочья. От этого стало чуть легче. Клочья аккуратно ссыпал в конверт. Позже надо будет сжечь. Главное, не забыть, не оставить в бардачке.
В машине, в аптечке, был парацетамол. Он проглотил две таблетки, равнодушно отметив про себя, что с утра ничего не ел и на голодный желудок это вредно. Закурил, пару раз жадно затянулся и набрал номер Михи. Из них четверых Миха был самый молчаливый и четкий. В свое время дядя Жора помог Мише Данилкину, деревенскому мальчику из неблагополучной семьи, попасть в юношескую сборную Москвы по вольной борьбе. Миха никогда не забывал об этом. Он был фанатично предан Шаману с детства. Смотрел ему в рот, пытался подражать во всем. В отличие от Лезвия и Серого, он всегда помнил о дистанции, которая их разделяла с самого рождения. Шаман для него был безусловным лидером. Но у Михи имелся один изъян: тупость. Ему приходилось очень долго все объяснять. Фразу, в которой больше пяти слов, он не понимал. Если длинными фразами с ним говорил чужой, Миха зверел и мог набить морду. Если свой – он терпел дольше, честно пытался понять, но потом все равно зверел и тоже мог набить морду. Всем, кроме, конеч-(но, Шамана. Правда, свои знали эту его особенность и, общаясь с Михой, использовали простые, нераспространенные предложения. Не больше пяти слов. Мат и «блины» не в счет. То, что не несло смысловой нагрузки, Данилкина не раздражало.
– Есть дело, – сказал Приз, – Лезвие и Серый не знают.
– Понятно, – ответил Миха.
– Надо встретиться. Ты где сейчас?
Говорить по телефону он не хотел, хотя знал, что ни каких прослушек нет и быть не может. Однако лучше не рисковать. Слишком серьезный предстоял разговор.
– В «Кильке», – ответил Миха, пережевывая что-то.
– Нет. Там нельзя. Через полчаса выйдешь, пройдешь квартал, до сквера. Стой и жди меня. Я подъеду.
– Понял.
– Никому не рассказывай.
– Понял.
«Килька» была одной из московских резиденций Лезвия. Хозяин кафе когда-то вместе с Лезвием служил в армии. Лезвие назначал в этом неприметном, но приличном заведении важные встречи, помогал своему бывшему сослуживцу решать проблемы с «крышей», с налоговой инспекцией. Старший лейтенант Коля Мельников, хотя и работал в Лобне, имел прочные связи в московской милиции и в прокуратуре.
На самом деле писателю Льву Драконову не повезло, что он жил поблизости и часто наведывался в «Кильку». Если бы не это, возможно, он остался бы в живых. Впрочем, писателю Драконову и во многом другом не повезло. Есть такие хронически невезучие люди. Тоже – типичные «лютики».
Когда Приз узнал, что «лютик», да еще с ярко выраженной нерусской внешностью, да еще Абрамович по отчеству, собирается писать книгу о дяде Жоре, ему это, разумеется, не понравилось. С Драконовым он был знаком с детства, относился к нему неплохо, но одно дело – личные отношения и совсем другое – память и честь дяди Жоры.
Для начала Приз решил понять, что собирается изложить в своей книге Лев Абрамович. Он стал чаще встречаться с Драконовым, сочетая приятное с полезным. Старик много знал о Гитлере, о Третьем рейхе и с удовольствием рассказывал. Тогда-то и возник на горизонте коллекционер Генрих Рейч.
Во Франкфурте Приз не только купил перстень, но и познакомился с Рики, который свел его со своими товарищами из культурной организации «Врил».
Приз знал, что они существуют, что их много в Европе, в Америке, что их не сравнить с нашими, разрозненными, жалкими шоу-придурками, со шпаной, не имеющей ни денег, ни связей, ни четкой идеологии. Он давно хотел выйти на них, настоящих, близких по духу, но все не получалось. А тут – такая удача.
С немецким у Приза не было проблем. Он закончил хорошую московскую спецшколу и болтал по-немецки вполне свободно. До знакомства с ними он считал себя одиноким волком. Лезвие, Миха, Серый, ребята из «Викинга» казались ему мелкими грызунами. Во Франкфурте он, наконец, оказался среди равных, среди своих братьев и единомышленников.
У него было слишком мало времени в первый приезд, и он решил съездить еще раз, уже на неделю. О второй поездке не знал никто. Приз сказал, что отправляется в Австрию, на курорт, хочет привести себя в порядок перед съемками очередного сериала. Альпийский воздух, массаж, всякие полезные процедуры. Никому в голову не пришло сомневаться и проверять. Он взял билет до Вены, оттуда, через Мюнхен, на поезде, добрался до Франкфурта.
В течение семи дней он умудрился сделать невероятное. Какой ценой – не важно. В Москву он вернулся другим человеком, не только из-за целебного действия перстня, но еще потому, что довольно скоро должна была решиться одна из самых серьезных его проблем – проблема денег.
Все было отлично. Оставалось только ждать. Что касается Драконова, дядиных мемуаров, он, окрыленный франкфуртской удачей, на время выкинул эту лабуду из головы.
Но Лев Абрамович Драконов был все-таки фатально невезучим человеком. Угораздило его той же осенью отправиться во Франкфурт, на книжную ярмарку, угораздило встретиться там со своим старым знакомым Генрихом Рейчем! Разумеется, они говорили о Вове Призе, обсуждали его, сплетничали. Он ведь знаменитость, а о знаменитости всегда приятно посплетничать. Рики присутствовал при их разговорах. Нет, никакой серьезной информации он выдать не мог, в это смысле Рики был абсолютно надежен. Он продумал все до мелочей и даже подарил Призу мобильный телефон. Номер был записан на имя Рихарда Мольтке. Теперь они могли общаться, не опасаясь, что кто-то через телефонные кампании зафиксирует их разговоры.
Когда Драконов вернулся, при первой же встрече с Призом он, подмигнув, шепнул ему на ушко:
– Вова, тебе привет от Рики. Он от тебя в полном восторге. Похоже, это любовь. Ты что, переспал с ним? Клянусь, я никому не скажу.
Вот тут пришлось вспомнить о дядиных мемуарах.
Следовало как-то объяснить Лезвию, почему надо убрать Драконова. И Вова принялся обрабатывать своего нерешительного друга, убеждать, что все это очень серьезно.
Просто приказать Лезвию он не мог. Не те у них были отношения.
Лезвие отличался исключительной, филигранной осторожностью. Он старательно взвешивал все за и против, сомнения одолевали его. Для начала он решил посмотреть, что там кропает этот писака.
В «Викинге» занимались не только стрельбой, борьбой и истреблением «лютиков». Была небольшая группа программистов, пока только пять человек. Трое из них жили в Москве, учились в разных институтах.
Бармен из «Кильки», с которым Драконов любил поболтать и поделиться творческими планами, узнав о его проблемах с компьютером, порекомендовал ему Стаса, студента, подрабатывающего обучением «чайников». Стас стал приходить к Драконову два раза в неделю. Драконов учился трудно, не мог запомнить элементарных вещей: как открывать новый файл, сохраняться, перегоняться на дискету.
В самом разгаре работы над мемуарами случилась беда. Полетел твердый диск, Стас взялся помочь, кое-что восстановить. Но, чтобы впредь не случалось таких несчастий, посоветовал купить новый приличный компьютер. Драконов хотел ноутбук.
Именно тогда Лезвие и Приз получили возможность ознакомиться с текстом так называемых мемуаров. По общему мнению, это оказалось полнейшее паскудство. Доблестный генерал Колпаков представал пьяницей, бабником, вором и мерзавцем. Более того, несколько уже готовых глав были посвящены племяннику генерала, его бурному детству и отрочеству, его жизни на генеральской даче, дружбе с деревенской шпаной. Старый писатель даже сумел вспомнить клички друзей будущей звезды: Лезвие, Серый, Миха.
Из уважения к памяти дяди Жоры Лезвие сам лично взялся организовать убийство, чистое и аккуратное. Пока он думал, произошел один маленький, незначительный эпизод, который ускорил развязку.
В «Кильке» числился экспедитором некто Куняев, по прозвищу Булька, наркоман, с двумя небольшими «ходками» за плечами. В кафе он выполнял всякую грязную работу, грузил ящики, иногда подменял уборщицу. И очень любил слушать разговоры про деньги: у кого, сколько и откуда. Однажды швейцар Иваныч застукал его в туалете, когда он нервно рылся в портфеле писателя. Лев Абрамович, уходя, забыл свой портфель в туалете на подоконнике.
Швейцар заставил Бульку все сложить на место, закрыть портфель, рявкнул на него как следует. Булька плакал, клялся, что больше не будет. Швейцар сжалился над ним, пообещал молчать, забрал портфель, а через двадцать минут отдал его испуганному писателю, который вернулся в кафе. Все осталось в портфеле, кроме папки с рукописью.
– Ну что же вы, Лев Абрамович, нельзя быть таким рассеянным.
Драконов правда был рассеянным, тем более в тот вечер крепко выпил за ужином в «Кильке». Он обрадовался, что портфель нашелся и вроде бы все цело: бумажник, кредитка, паспорт. Что касается папки с рукописью, он не помнил точно, клал ли ее туда, или она дома, в ящике письменного стала.
То, что текст паскудных воспоминаний существует не только в компьютере, но и в рукописном варианте, подействовало на Лезвие отрезвляюще. Он понял наконец: откладывать нельзя.
На следующее утро Драконову позвонил Стас, пригласил в гости. Ему как раз принесли несколько недорогих, но отличных ноутбуков.
Времени, чтобы поискать дома рукопись, обнаружить пропажу, у Льва Абрамовича уже не осталось. Да ему и в голову не приходило, что ее могли украсть. Он не успел также обратить внимание, что теперь ни в компьютере, ни на кассетах, ни в блокнотах, нет ничего, касающегося генерала Колпакова.
Вечером, пока Драконов пил чай в маленькой комнате студента Стаса, обсуждал с ним достоинства и недостатки разных моделей ноутбуков, двое ребят из старшей группы «Викинга» в подсобке кафе «Килька» накачивали «дурью» несчастного Бульку. Они делали это не насильно. У него начиналась ломка, а денег не было. Они предложили попробовать новый синтетический наркотик. Остальное было делом техники. Стас задержал писателя допоздна, и, как только тот ушел, позвонил и предупредил своих товарищей. Товарищи точно рассчитали время, завели накачанного Бульку в подъезд, встретили писателя, ударили по голове дубинкой со свинчаткой, убедились, что он мертв, и убежали, оставив лежать рядом с ним Бульку, который к этому моменту полностью отключился.
Правда, произошла одна накладка. Булька пришел в себя раньше, чем они рассчитывали, увидел труп, обнаружил в руке дубинку, рядом портфель. Заметался в панике, выскочил из подъезда, успел выбросить дубинку в один мусорный контейнер, портфель в другой. Серебря нуюручку и кредитку товарищи предусмотрительно сунули ему в карман, поэтому их он нашел только через сутки, когда окончательно пришел в себя. Но сообразить, как к нему могли попасть эти два предмета, он сумел значительно позже.
.« Уже после того, как Бульку задержали по подозрению в убийстве, был найден портфель Драконова. Дубинку отыскать не удалось. Без орудия убийства все выходило не так гладко, как хотелось. А тут еще к Лезвию поступила информация, что Булька во время одного из допросов вспомнил, как заглядывал в портфель писателя за сутки до убийства. Под угрозой оказалась очень важная улика – его отпечатки на внутренней стороне крышки портфеля. Лезвие связался со швейцаром Иванычем, своим верным помощником, и попросил его сказать, что в тот вечер у Бульки на руках были резиновые перчатки.
К этому моменту Булька всем надоел, особенно Лезвию. Вова постоянно попрекал своего друга тем, что дело еще не закрыто. Когда Лезвие узнал, что Приза допрашивал майор Арсеньев, он разозлился, быстро поговорил, с кем нужно, заплатил, сколько нужно, и на следующую ночь Булька повесился в камере, оставив записку, какую нужно.
В итоге комбинация с Драконовым и Булькой полу чилась вполне аккуратная. Но Приза тошнило от того, что Лезвие все решает сам. Драконова он счел нужным убрать.
А Василису Грачеву – нет. Сдвинуть его с мертвой точки было невозможно. И Приз решил пойти в обход, использовать Миху.
Михе не надо было ничего объяснять и доказывать. Он просто дал ему адрес и две фотографии. На одной было лицо Василисы, на другой – рука с перстнем. Он знал, что Миха сделает все грубо, но быстро. Это его устраивало.
Как раз сегодня ему позвонил, наконец, Рики и сказал, что все хорошо. Деньги скоро будут, правда, пока небольшая часть. Хотелось полноценно порадоваться, почувствовать себя триумфатором, отметить наедине с самим собой начало нового этапа своей великой жизни. То, что до сих пор где-то рядом все еще дышит этот маленький ядовитый «лютик» с его перстнем на пальце, отравляло радость победы.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Рики разбился насмерть. Если бы прыгнул чуть дальше, на глубину, мог бы выплыть, выжить. Но не рассчитал. Впрочем, никто никогда не узнает, что творилось у него в голове в тот момент.
Факт его встречи с двумя саудовцами, зафиксированный на видео, был для него двойным приговором. Если бы ему удалось сбежать от полиции, его бы нашли и убили свои. Он их подставил. Предал. Пусть случайно, неумышленно. Товарищи из «Врила» не стали бы слушать оправданий.
Рики не мог не понимать этого.
Оригинал записи переговоров в арабской кофейне Кумарин отдал сотрудникам Интерпола. Копию они с Григорьевым просмотрели дважды, прослушали запись своего разговора с Рики в ресторане. Кумарин совсем скис.
– А вы ожидали, что он сразу назовет страну и имя? – спросил Григорьев, глядя на своего шефа с состраданием и чувствуя себя не лучше, чем он.
– Я не ожидал, что он сразу выпрыгнет с балкона.
– Ну, что теперь делать? Кто мог такое представить? : – Мы нарочно выбрали этот ресторан, решили, что скалы надежней любой охраны. Вы говорили: охрану он заметит и спокойного разговора не получится Вот вам и спокойный разговор! Мы с вами все провалили, понимаете?
– Невозможно все время выигрывать Иногда случаются провалы.
– Но не такие глупые провалы! Этот мальчик-девочка был у нас в руках. Когда вы познакомили меня с ним, я решил: он сразу потечет, захнычет, станет торговаться.
– Да, мне тоже так казалось.
– Вот именно что – казалось! Вы имели право на ошибку. Я – нет. Я знал, что такое «Врил». Я обязан был просчитать все варианты. Мы, два старых самонадеянных идиота, возомнили себя гениями разведки и все провалили Теперь у нас нет и не будет прямых доказательств, что именно Приз связывался через немецких неонацистов со спонсорами террористов. Как были размытые подозрения, так и остались. Мало ли в России политиков и чиновников, готовых взять деньги у кого угодно? Да и где сказано, что речь идет именно о России?
– Погодите, Всеволод Сергеевич, а саудовцы? Их арестуют. Они заговорят. И потом, можно отследить по банковскому счету.
– Не надо. – Кумарин раздраженно поморщился, – не факт, что саудовцы заговорят, они могут долго нудно торговаться, выдавать информацию мелкими порциями, и когда дойдет очередь до Приза, неизвестно. Если вообще дойдет. Сейчас, знаете, довольно часто посредники такого уровня, как эти саудовцы, погибают в тюрьме от разных неожиданных хворей, не успевая раскрыть рта. Что касается денег – это почти безнадежно. Никаких денежных операций саудовцы пока не производили. Мы с вами придумали этот блеф для Рики. Вы, надеюсь, понимаете, что сразу после переговоров никто не побежит в банк. Им достаточно просто сообщить номер счета кому-то другому, и сделать это они могут легко и незаметно, даже при интерполовской наружке.
– Рики звонил кому-то, сообщал о результатах переговоров, – вспомнил Григорьев, – можно проверить через телефонные компании.
– Уже проверили, – покачал головой Кумарин, – он звонил в Москву, на номер, который был куплен во Франкфурте и записан на его имя.
– То есть он звонил в Москву самому себе, – растерянно пробормотал Григорьев, – надо же, даже это предусмотрели. Ну хорошо, зато теперь у вас есть веские основания организовать за Призом наблюдение по полной программе, используя могучие возможности вашей структуры.
– Авось что-нибудь нароем, —усмехнулся Кумарин.
Григорьев закурил. Они сидели в полутемной гостиной у распахнутой двери балкона. Перед ними была ночь, море, небо, дымчатый профиль скалы, тонкий месяц, как открытая скобка. Шуршали волны, покачивались яхты и катера, стоявшие в бухте на якоре. В толще тяжелой подвижной воды лениво переливались разноцветные огни, слышалась музыка, далекий смех ночных купальщиков.
– Всеволод Сергеевич, по-моему, мы с вами тихо сходим с ума. Вова Приз – тень, миф. На самом деле нам обидно, что наши соотечественники так легко покупаются на дешевку, и мы пытаемся доказать сначала себе, потом им, что он все-таки личность, а не пустышка.
– Дайте ему власть, и тогда все увидят наконец, какой он дурак, – улыбнулся Кумарин, – так о Гитлере говорили в конце двадцатых годов интеллектуалы, снобы, вроде нас с вами. Интеллектуалы болтали, а толпа делала свой выбор.
– Ну в случае с Призом о выборе толпы говорить рано, – перебил Григорьев, – пока есть только футболки и бутылки с портретами. Сегодня это портреты Приза, завтра будут чьи-то еще. Никакой конкретной политической программы, и даже партии, нет.
– Как нет? А «Свобода выбора»? – усмехнулся Кумарин. – Сегодня это американское лобби, завтра – чье? Или вы думаете, что демократы не могут поступиться принципами? А что касается программы – так и у германских нацистов ее не было. Только порядок, дисциплина и личность Адольфа Гитлера. Еще был напор, наглость, мощный пиар. Багровые лозунги, пропагандистские фильмы, патефонные пластинки с речами фюрера в каждом немецком доме, бесплатно. Сам фюрер в самолете над Германией, в день по три города, десятки речей, сотни, тысячи пожатых рук, слезы умиления, дети с флаж-ками. Нет, Андрей Евгеньевич, футболки и бутылки с портретами – это не так безобидно, как вам кажется. Это только начало.
– Простите, Всеволод Сергеевич, вы сейчас каркаете, как Рейч, – сердито проворчал Григорьев, – соблазн коммерческих проектов, конечно, штука опасная, но есть еще соблазн апокалипсического сознания. Завтра к власти придут неонацисты, нелюди, настанет конец света, и пошло оно все на фиг, давайте готовиться к смерти! .-. Кумарин улыбнулся, поднял рюмку с коньяком.
– Ваше здоровье, Андрей Евгеньевич. Насчет конца света не знаю, но то, что вам завтра предстоит навестить Рейча и сказать ему о Рики, это факт.
* * *
Звонок в дверь прозвучал так резко, что Дмитриев подпрыгнул. Василиса показала ему на дверной глазок. Он взглянул в него, увидел Машу, тут же успокоился, открыл дверь и произнес в трубку:
– Марина, извините, ко мне пришли. Я перезвоню вам позже.
Дмитриев открыл дверь и сказал:
– Наконец-то! Я думал, вы о нас забыли. А где ваш майор?
Маша, бледная, усталая, сняла босоножки и еле слышно спросила:
– Сергей Дмитриевич, можно, я вымою руки?
– Да, конечно, только не ходите босиком, у меня не так чисто. Боже, Маша, у вас вся юбка в какой-то копоти, вы еле держитесь на ногах. Где вы были? Что случилось?
– Простите, Сергей Павлович, я чуть позже расскажу, мне надо немного прийти в себя, – сказала Маша и скрылась в ванной.
Зазвонил телефон. Дед схватил трубку.
– Алле! Да, я слушаю! Ну, говорите! Марина, это вы? Перезвоните, вас не слышно, – он бросил трубку и гроз-ио взглянул на Василису. – Что ты здесь сидишь? На тебя Смотреть страшно. В постель, сию минуту.
Василиса встала и поплелась в кабинет. Ей хотелось лечь. Она поняла, где была Маша, почему так долго не отвечали телефоны, ее и майора. До этой минуты у нее оставалась надежда, что Гриша жив. Теперь все. Достаточно было посмотреть на Машу. За время своего молчания Василиса научилась понимать без слов, без вопросов значительно больше, чем понимала раньше.
– Маша! Пока вас не было, к нам приходила настоящая бандитка! Вы заметили, что в прихожей нет зеркала? Это я его разбил! Я запустил в нее «Никой», и она убежала, – прокричал Дмитриев, стоя у двери ванной.
Он не мог дождаться, пока Маша выйдет, ему не терпелось все рассказать. Но в ванной шумела вода. Маша умывалась и ничего не слышала. Сергей Павлович замолчал, быстро огляделся, прикрыл дверь в кабинет, где лежала, свернувшись калачиком, Василиса, рванул на кухню, к холодильнику, достал бутылку водки. До смерти хотелось выпить, хотя бы глоточек.
Оставшись одна, в закрытом кабинете, Василиса поднялась с дивана, неуклюже влезла на спинку широкого кресла. Дотянулась до верхней полки, умудрилась, не упав, снять и не уронить несколько книг по истории Третьего рейха. Голова кружилась. Василиса до слез расчихалась от пыли. Негнущимися пальцами открыла «Историю гестапо» на толстом вкладыше иллюстраций.
Отто Штраус отлично получался на фотографиях. Умное тонкое лицо. Светлые спокойные глаза. Крупный прямой нос. Волосы, то ли белые от рождения, то ли совершенно седые в сорок лет, остриженные коротко, аккуратным бобриком. Высокий, просторный и гладкий, без единой морщины, лоб. Округлые, ровные, словно циркулем очерченные залысины по бокам. Бледные сухие губы растянуты в легкой, иронически вопросительной улыбке. Все в этом лице приятно и правильно. Только уши странные. Несоразмерно маленькие, какие-то острые сверху, и мочек совсем нет.
Под портретом короткая подпись: «Доктор медицины Отто Штраус, личный врач Гиммлера. Мюнхен, 12.02.1899– ?»
Василисе показалось, что знак вопроса вместо даты смерти как бы продублирован улыбкой на портрете и обращен к ней. Она положила книгу на столик у дивана, открытыми страницами вниз, уткнулась лицом в подушку.
«Зачем мне все это? Вот моя маленькая жизнь, мизерный атом, неразличимый среди миллиардов других таких же атомов. Теплый слабый сгусток живых клеток, никому особенно и не нужный, кроме мамы с папой да дедушки. Зачем у меня в голове так больно и страшно ворочаются космические глыбы чужих времен, пространств, сознаний? Зачем грохочет артиллерия, и ночь от пламени светла, как день, а день черен от дыма, как ночь?»
Василиса принялась сдирать зубами бинт с правой руки. Она решила, что снимет проклятый перстень, пусть даже вместе с пальцем. Она хотела остаться в живых. Ей казалось, что в Берлине, в конце апреля 45-го, она непременно погибнет. Впрочем, это уже были не ее страхи, не ее реальность. Последнее, что ей удалось услышать сквозь приоткрытую дверь кабинета, – тихий усталый голос Маши: – Сергей Павлович, ну что же вы делаете? О, Господи, да еще из горлышка! Хотя бы в стакан налейте и закусите чем-нибудь!
* * *
Приз вместе с Михой сидел в машине с затемненными стеклами, неподалеку от дома, где жил Дмитриев. Он убедил себя, что собирается просто поужинать в закрытом клубе, который находился в том же доме, со стороны площади. За ужином он непременно выпьет, поэтому ему нужен шофер. Миха вполне подходит.
Оказавшись у въезда во двор дома, Приз забыл про ужин. Аппетит у него пропал. Он увидел, что у подъезда все еще стоит черно-серый «Форд» с красным дипломатическим номером. Он знал, что на «Форде» ездит американка Мери Григ. Он слышал об этой американке и вообще обо всех шашнях Женьки Рязанцева с ЦРУ от Егорыча, от разных людей в пресс-центре. Ему заранее было известно, кто такая Мери Григ и зачем она приехала.
Когда он увидел ее в «Останкино» в гостиной перед началом ток-шоу, подумал, что не худо с ней поближе познакомиться. Наверняка она пишет всякие отчеты для своего руководства, надо сделать все, чтобы о нем она отозвалась хорошо.
Если бы он не был так взвинчен, он познакомился бы с американкой прямо там, в гостиной. Ему хотелось, чтобы она почувствовала разницу между ним и Женькой Рязанцевым. Но показали сюжет из больницы, и Призу уже было не до нее. Хотя, когда он увидел, как она возится со стариком Дмитриевым, автоматически отметил, что запудрить мозги такой сентиментальной жалостливой дуре будет нетрудно. Более того, он не сомневался, что уже понравился ей. Как она на него смотрела в гостиной, прямо таяла вся! Именно это последнее обстоятельство помогло ему держаться молодцом на ток-шоу.
Идея использовать Мери Григ в качестве буфера, выйти через нее на тех, кто вкладывает деньги в Рязанцева, и попытаться перевести финансовые потоки на себя показалась Призу гениальной. Он собирался заняться этим, как только решит проблему с перстнем и с Василисой Грачевой.
Когда Серый сообщил ему, что «Форд» американки все еще стоит во дворе у дома Дмитриева, он удивился.
Он думал, она привезет старика с внучкой домой из больницы и сразу уедет. Мысль о том, что она застряла там надолго, неприятно кольнула его. Но он был так взвинчен, что вскоре вообще забыл об американке.
Позже, когда Серый побывал у Дмитриева вместе с кор респонденткой Мариной, Вова узнал, что «Форд» все еще стоит у подъезда, но самой американки в квартире нет.
«Ну мало ли, может, машина сломалась, она оставила, решила забрать потом, когда будет время». Это объяснение показалось ему вполне достаточным.
Сейчас «Форд» стоял. И то, что одно так странно переплелось с другим, раздражало все больше. Василиса и Дмитриев являлись его проблемой. Американка олицетворяла собой приятную перспективу. Они должны были существовать отдельно друг от друга. Но «Форд» стоял у подъезда Дмитриева. Мери Григ могла появиться здесь в любой момент. Вряд ли она просто заберет машину и не поднимется в квартиру. Наверняка навестит дедушку с внучкой.
Когда Приз и Миха приехали, Маша была уже там. Но они этого не знали.
– Слышь, так может, пацанов привлечь? – спросил Миха.
– Нет. Чем меньше людей, тем лучше. Только ты и я. Тебе я верю. Больше никому.
Миха был польщен, растянул тубы в довольной улыбке.
– Ну, а это, чего Лезвие с Серым?
– У Лезвия штаны мокрые от страха, Серый только все напортил со своей Надькой. Ты один сделаешь быстро и тихо, а потом мы с тобой обсудим, как быть дальше.
– Так я не понял, обоих, что ли, делать? – Миха опять жевал, на этот раз пиццу, и запивал своим любимым спрайтом из железной банки. – Прямо сразу и девку и деда?
– Да. Девку и деда, – кивнул Приз.
– Надо хлопушку в машину им заложить, – Миха кинул в рот последний кусочек пиццы, – хлопушка – самое простое и надежное. Сядут, заведутся. Быдыжж! Никаких проблем.
– Быдыжж не получится. Сначала надо забрать мой перстень. К тому же нет машины, – сказал Приз.
– Как это? – удивился Миха.
– Ну вот так. Нет, и все.
– Ты же говорил, дед режиссер. Сейчас у всех нормальных людей хоть какая-нибудь тачка, но есть. Да-а, блин, хлопушку под мотор – это было бы надежней всего.
– Ага, – кивнул Приз, – надо срочно подарить Дмитриеву машину.
– Не понял, – нахмурился Миха.
– Шучу, – объяснил Приз.
Миха подумал с минуту, потом засмеялся.
– В принципе, в квартиру войти не сложно. Серый сказал, замок элементарный, любая отмычка возьмет. – Приз закурил, руки его тряслись, но голос звучал вполне спокойно. – Смотри, можно дождаться, когда они лягут спять. Свет погаснет. Тихо войти, пальнуть и быстро исчезнуть. Главное, глушитель навинтить, не оставить пальцев нигде и снять у девки с руки мой перстень.
– Шама, ты чего, не слышишь? У тебя мобильный, – сказал Миха.
Приз достал телефон.
– Володя, здравствуй, это я.
Голос, который еще недавно так нравился ему, теперь вызвал бешенство.
– Да. Привет, Марина. Что случилось? – он старался говорить с ней как можно мягче, но не получалось.
– Володя, мне звонил Дмитриев, у него произошел конфликт с этой медсестрой, ты, конечно, извини, но я оказалась в дурацком положении.
«Этого только не хватало!» – рявкнул про себя Приз.
От Серого он знал, что Надька просто поцапалась с Дмитриевым, старик с приветом, швырнул в нее какой-то тяжелой штукой, она обматерила его и убежала.
– Скажи, пожалуйста, какое лекарство пыталась вколоть твоя медсестра девочке? – спросила Марина.
«Идиотка, ты все-таки оставила Дмитриеву свой телефон! Я же предупреждал тебя!» – Приз вовремя спохватился, чтобы не произнести это вслух.
– Погоди, погоди, Мариша, солнышко мое, успокойся и расскажи толком, что случилось.
– Дмитриев позвонил, очень раздраженный, стал выговаривать мне: зачем я прислала к нему в дом какую-то уголовницу, хулиганку. Единственное, что я поняла – Надя якобы пыталась сделать его внучке укол, ему не понравилось лекарство, он стал возражать.
– Что ты ему сказала?
– Ну я попыталась его успокоить…
– Ты мое имя называла?
– Нет.
– Умница. Не называй ни в коем случае!
– Володя, я не понимаю, ты можешь объяснить, что происходит? Зачем тебе все это понадобилось? Какое лекарство. Надя собиралась вколоть девочке?
– Да обычные витамины! Надя – нормальная медсестра, очень хороший, порядочный человек. Ну нервная немного, как все в наше время, бывает грубовата. А старику могло что угодно померещиться спьяну.
– Он разве пьет? – удивилась Марина.
– Еще как! Слушай, я соскучился по тебе до жути, ты умница, я тебя люблю, прости, что так получилось. Только одна к тебе просьба – не говори ему про меня, ладно?
– Да, Володенька, конечно, – пролопотала она растерянно. – Я тоже соскучилась. Но все-таки почему я не могу сказать о тебе? Если ты не сделал ничего плохого, почему я не могу сказать?
Он выругался беззвучно и произнес нежно, ласково:
– Мариша, зайчонок мой, есть одна пикантная подробность. Я не хотел тебе говорить, поскольку ты журналистка. Но, учитывая наши отношения, скажу. Дело в том, что эта девочка, внучка Дмитриева, моя фанатка. Так получилось, что я отнесся к ней ну, скажем, более внимательно, чем к другим девочкам, которые за мной охотятся. Она все-таки внучка Дмитриева, в общем, ты понимаешь. Нет-нет, ничего серьезного не было и быть не могло. Но как раз это ее и оскорбило. Она сочинила Бог знает что, будто у меня с ней бурный роман, и так далее. Поэтому ты ни в коем случае не должна говорить Дмитриеву, что я прислал сиделку.
– А как же быть? – упавшим голосом спросила Марина. – Я ему уже сказала, что Надю порекомендовал его бывший ученик. Узнал о его беде и хотел помочь. Он наверняка перезвонит мне, спросит, кто именно. Мы недоговорили. Володенька, а у тебя правда ничего с ней не было?
– С ума сошла? – он нервно засмеялся. – Ты ее видела? Она ребенок совсем. Я что, похож на педофила? В общем, так, Мариша. Если старик перезвонит, назови любое имя, какое придет в голову. Петя Иванов. Ну прости, прости меня. Я понимаю, как тебе неприятно врать.
– А если он начнет спрашивать подробности, потребует телефон Пети Иванова?
– Ничего страшного. Дмитриев читал лекции во ВГИКе, лет пятнадцать назад, к нему толпы ходили. Скажешь, что телефона у тебя нет, потеряла, пообещаешь найти. Все, солнышко, я дико занят. Больше не могу говорить. Прости. Что делать? Связалась со знаменитостью, никуда не денешься. Тебе не раз еще придется врать и скрывать мое имя. Таковы законы славы. Целую тебя, моя маленькая, и очень верю, что ты меня не подведешь.
Он нажал отбой, перевел дух и не без удовольствия отметил, что голова еще неплохо работает. Проблему с Мариной можно считать решенной. Она не проболтается. Впредь следует быть аккуратней с бабами.
– Срочно, Миха, срочно надо делать девку с дедом. Девка может заговорить в любую минуту.
– Сделаем. Слышь, а я не понял, блин, этот дед, ну режиссер, он Надьку за воровку принял?
Приз изумленно взглянул на него. Оказывается, Миха очень внимательно слушал разговор с Мариной. Надо же, а казалось – спит.
– Ну почти. А что?
– Так если, это, я форму надену ментовскую, у меня ксива есть. Приду туда, культурно позвоню в дверь. То, да се, по нашей информации, у вас в доме побывала мошенница, которую мы разыскиваем. Нет, а чего? Дед алконавт да девка немая, вся в ожогах. Делов-то! Как ты говоришь: «лютики»!
Приз секунду молчал, смотрел на глупую толстую морду своего друга детства и наконец, откашлявшись, произнес:
– Миха, ты знаешь, когда я стану президентом, я тебя назначу министром внутренних дел. Тебя, а не Лезвия. Потому что ты, Миха, значительно умней.
– Ну так! – хмыкнул Миха.
– Ты молодец. Ты это здорово придумал. Но переодеваться ментом не надо. Вдруг дед не откроет сразу? Он после Надьки пуганый. Начнет звонить в милицию, проверять, кого к нему прислали, зачем. Лучше уж ты сам отмычкой, потихоньку. Теперь смотри. Видишь, «Форд»?
Прежде чем зайти в подъезд, убедись, что его нет. Пока он здесь, не заходи. Жди, когда уедет. Понял?
– Понял. А он чей?
– Одной американки. Она может появиться здесь в любой момент, подняться в квартиру. Ты не должен с ней встретиться. Понял? Ладно, поехали. Забросишь меня домой, потом заедешь к себе, возьмешь пушку, отмычки. Перчатки есть у тебя?
– Нет.
– Хорошо. Сейчас остановимся у аптеки, купим. Не забудь надеть. Ты все усвоил? Смотри, тут нет мелочей.
– Ага. Слышь, ты в клуб не пойдешь, что ли?
– Нет. Я раздумал.
– А чего так?
– Жрать не могу, пока вся эта бодяга не кончится. Достали, суки, в натуре, блин! – он потянулся с хрустом. – Вот закончим дело, тогда завалимся в самый крутой кабак. Нажремся, напьемся, телок снимем, загудим по полной. Хочешь?
– Ага, – кивнул Миха, – хочу.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Утром 27 апреля Берлин был полностью окружен союзными войсками. Кольцо сомкнулось. Во время полуденного совещания в бункере Гитлер трясущимися руками приколол железный крест на грудь маленького мальчика, который бросил гранату в русский танк и взорвал его. Ребенок, получив крест, сказал «Хайль Гитлер!», вышел в коридор, упал на пол и заснул, как убитый. Все присутствующие, даже Мартин Борман, прослезились от умиления. Позже, рассказывая об этом, летчица Ганна Рейч, одна из последних свидетельниц агонии великого вождя, тихо всхлипывала.
Самая ценная часть архива Отто Штрауса хранилась в его доме в Берлине, в маленьком бронированном сейфе. Всего три толстые тетради, густо исписанные мелким косым почерком. Текст, похожий на шифровку, мог разобрать только он. Немецкий и латынь. Формулы, рецептура, дневники наблюдений за подопытными особями, подробные описания множества уникальных экспериментов на человеческом материале. Без этих трех тетрадей Штраусу трудно будет продолжить работу. Поэтому ему предстояло вернуться в Берлин.
Перед отъездом из Фленсбурга, где нашел свое временное пристанище Гиммлер, доктор проделал небольшую операцию: под местным наркозом вшил в щеку Гейни, с внутренней стороны, под слизистую, капсулу с цианистым калием. В отличие от других желающих держать во рту на всякий случай эту маленькую спасительную штуку, Гейни не имел ни одного искусственного или даже пломбированного зуба. У него был удивительный рот. Все тридцать два зуба, здоровые, крепкие, белые. Жалко портить. Редкий случай природной санации.
– Смотри, не прикуси щеку нечаянно, – сказал Штраус, – надеюсь, нарочно тебе этого делать не придется.
– Никогда! – весело ответил Гейни, – через неделю, максимум через месяц, ты эту гадость из меня вытащишь.
Сыворотка ему уже не требовалась. Ему и так было отлично. Кожа его, всегда болезненно-белая, приятно порозовела. Морщины разгладились. Голубые глаза казались больше и восторженно сверкали. Без пенсне, без своих знаменитых усиков, с непривычно голой верхней губой, Гейни помолодел необычайно. В нем появилась младенческая свежесть и резвость.
Гиммлер сбрил усы и снял пенсне, когда узнал, что фюрер проклял его, лишил всех чинов и званий, объявил предателем и приговорил к смертной казни.
– Вот он, результат дипломатической суеты Шелленберга, глупого трепа с этим надутым графом, – говорил Гейни, трогая свою голую верхнюю губу, – я всегда знал, что с аристократами лучше не иметь дел.
Это был странный юмор. Впрочем, раньше у Гиммлера вообще никакого юмора не было. Он стал шутить только сейчас.
Переговоры с Бернадотом, многофазные, многочасовые, действительно не привели ни к какому результату. Заключенные, о которых шла речь, погибли. Буквально через день после встречи в Любеке оставшихся узников погрузили на баржи в торговом порту Любекской бухты и утопили в Балтийском море. Тысячи людей, прошедших через ад, до последней минуты надеялись, что будут жить.
Потом еще многие годы в рыбацкие сети попадали их останки.
Граф Беркадот свое обещание выполнил, предложения Гиммлера были переданы союзникам. Черчилль и Трумен отказались обсуждать с Гиммлером вопрос о частичной капитуляции, заявили, что переговоры такого рода не могут вестись без участия Сталина и частичная капитуляция Германии невозможна. Только полная, безоговорочная, на всех фронтах.
Информация об этом тут же просочилась в прессу, дошла до Гитлера. Он был в ярости. Он кричал, что Гиммлер грязный предатель. У него случился припадок, похожий на эпилептический. Люди, окружавшие его в бункере, испугались, что он умрет. Но нет, не умер. Ему оставалось жить еще три дня. Он должен был обвенчаться с Евой Браун и продиктовать свое политическое завещание.
Из Любека Гиммлер хотел вернуться в Берлин, но не получилось. Уцелевшие дороги были забиты беженцами. Покружив по обломкам великого Рейха, рейхсфюрер повернул на север и осел с группой верных эсэсовцев во Фленсбурге, неподалеку от датской границы.
Оптимизм Гейни в эти дни превышал все разумные пределы.
– Мы должны выиграть время, – говорил он, – американцы начнут войну с русскими, и тогда им очень пригодятся мои отборные, верные дивизии СС, которые были, есть и будут главным гарантом освобождения мира от коммунистической заразы.
Не существовало уже ни дивизий, ни армий.
Гитлер в Берлине, разбитом, окруженном со всех сторон войсками союзников, сидел глубоко под землей и часами мог двигать по карте пуговицы, планируя атаки, наступления, победы. Гиммлер во Фленсбурге исходил радужными пузырями планов своего будущего могущества. С детской гордостью он разевал рот, выворачивал щеку и демонстрировал всем ампулу с цианистым калием. Находиться с ним рядом было опасно. Едва ли не опасней, чем возвращаться в окруженный союзниками Берлин.
Отто Штраусу пришлось лететь по воздуху, пронизанному огнем, над пылающими развалинами немецких городов, прыгать с парашютом из подбитого самолета, прорываться пешком сквозь колонну обезумевших беженцев; трястись в американском военном джипе, переплывать реки на баржах и паромах. Под обстрелами, под бомбами, по руинам, сквозь блокпосты союзников, он шел вперед, к городу, которого не существовало. Он был так занят и так измотан, что не чувствовал присутствия Василисы, не смотрел на часы. В эти последние апрельские дни время сошло с ума. Минута вмещала сутки. Сутки равнялись десятилетиям.
Василисе было так же страшно, как когда она плутала по тлеющему лесу и чуть не утонула в болоте. Вместе со Штраусом она кашляла от дыма, задыхалась от запаха гари и тлена, слепла от вспышек. В чужой реальности она не могла почувствовать себя бесплотной и неуязвимой, и если рядом стреляли, ей казалось, пули и осколки летят в нее.
* * * .,
Пулевые отверстия у всех шести погибших обнаружили еще до вскрытия. Кроме Гриши Королева удалось установить личности двоих, мальчика и девочки. Лица обгорели, но с помощью специальной компьютерной программы их сравнили с фотографиями пропавших подростков. Девочка и мальчик, которые не могли жить друг без друга и собирались пожениться. Оля Меньшикова и Сережа Катков.
Трое других так и остались неизвестными.
Позже на месте бывшего лагеря «Маяк» и вокруг него, в лесу, в болоте, было обнаружено еще три десятка неизвестных трупов, мужчин и женщин, в основном пожилых. Ни о ком из них не было подано заявлений от родственников и знакомых. Никто не числился в розыске. Ни у одного не было пулевых ранений. Если бы не количество их, погибших в одном месте, за короткий период времени, то причины смерти можно было бы счесть естественными. В каждом отдельном случае вскрытие показывало плохое состояние здоровья, больное сердце, разрушенную алкоголем печень, прокуренные легкие. Это были бомжи, алкаши, никому не нужные люди. «Лютики».
Следствие тянулось долго, судебные заседания, закрытые и открытые, еще дольше. Было много шума, статей в прессе, сюжетов по телевизору. Но это все потом. А пока следователь Лиховцева сидела, сжав ладонями виски так сильно, что наружные уголки глаз опустились вниз. Глаза были красные и мокрые.
Завтра утром Зинаиде Ивановне предстояло сообщить родителям погибших детей о том, что их нашли. Приглашать для опознания матерей и отцов, присутствовать при опознании, отвечать на вопросы, произносить бессмысленные слова утешения, когда утешить невозможно.
Она говорила тихо, медленно и невнятно. Под языком у нее таял шарик нитроглицерина. Сане приходилось напрягаться, чтобы услышать ее. Несколько минут назад он говорил по своему мобильному с Витей Королевым, братом Гриши, и тяжело врал, что пока ничего не известно.
– Вы были там? – спросил Витя.
– Туда отправилась группа специалистов. Они работают. Не волнуйся, ложись спать.
– У вас голос какой-то механический.
– Я просто очень устал. Успокойся, успокой маму и ложись. Ты понял? Как только будет что-то известно, я позвоню.
– А если ночью?
– В любое время.
– Обещаете?
– Обещаю.
– Поклянитесь!
– Не буду.
Он нажал отбой и вернулся к разговору с Лиховцевой.
– Когда ты отвез к Дмитриеву свою Мери Григ, ты должен был остаться там, с ними, – повторила Зюзя уже в третий раз.
Арсеньев не стал ей напоминать, что она сама приказала ему «пулей оттуда в прокуратуру».
– Нельзя, преступно в моем возрасте продолжать работать. Я старая тупая баба, ничего не соображаю.
– Перестаньте, Зинаида Ивановна, вам требовалась информация, которой только я владею. Поэтому я вам нужен был здесь.
– Перестаньте, Зинаида Ивановна, – зло передразнила Зюзя, – ты еще мне слезки вытри и конфеткой угости. Я старая. Это факт. Мне пора на пенсию. Давай дальше, что там у нас еще?
– Номер на черной «Тойоте» оказался фальшивым. Машина с таким номером второй год числится в угоне, это была «Шкода», красного цвета.
– Да. Понятно. Ну-ка, набери еще раз Дмитриева или свою Машу.
– Только что набирал. У Маши батарейка села, телефон отключен. У Дмитриева постоянно занято.
– Все, Саня, – она шумно высморкалась, вытерла глаза, вскинула голову. – Ты сейчас едешь к Дмитриеву. Ты проведешь там ночь. Мне так будет спокойней. Утром мы повезем девочку на обследование, мы должны знать, заговорит она или нет и можно ли что-то сделать, чтобы помочь ей. Если вдруг это случится сегодня ночью, звони мне в любое время.
* * *
– Как сильно она вздрогнула! Что с ней? Васюша, ты меня слышишь?
Сергей Павлович опустился на диван рядом с Василисой, тронул ее за плечо. Она не услышала его и ничего не почувствовала.
Маша взяла ее руку, нащупала пульс. Он бился ровно, спокойно, не более семидесяти ударов в минуту.
– Все нормально. Она спит, ей просто снится что-то, – прошептала Маша, не отпуская руку Василисы, – давайте не будем ее будить.
Бинт на правой кисти промок, узел распустился. Маша решила, что повязку лучше сейчас снять, чтобы не засохла и не прилипла.
– Так вот, – продолжил рассказывать Дмитриев, – я позвонил корреспондентке, и она сказала, что никогда медсестру Надю не видела. Якобы какой-то мой ученик разыграл весь этот идиотский, оскорбительный спектакль, чтобы помочь мне инкогнито! Какое благородство!
Язык у него заплетался. Он успел хлебнуть слишком много водки.
– Что за ученик? – спросила Маша.
– Понятия не имею. Да это все бред какой-то! Зачем она собиралась колоть ребенку препарат для общего наркоза? Ну зачем, как вы думаете?
– Я думаю, вам надо срочно перезвонить корреспондентке и выяснить фамилию человека, который попросил ее порекомендовать вам сиделку, – быстро, жестко сказала Маша.
– Конечно. Я собирался спросить, но не успел. Как раз вы пришли. Боже мой, зачем здесь эти книги? «История гестапо», «Материалы Нюрнбергского процесса». Как они попали на журнальный стол?
– Сергей Павлович, пожалуйста, позвоните корреспондентке.
– Да, да, сейчас. Куда я дел ее визитку? Кажется, где-то в прихожей или на кухне. Очень странно, как попали на стол эти книги? Я их лет сто не доставал, они стояли на самом верху, – продолжая ворчать, он вышел из кабинета.
Маша размотала бинт. Почти все пузыри на пальцах лопнули. Кисть была очень горячей. Средний палец распух больше остальных. Нечаянно задев перстень, Маша отдернула руку, как будто прикоснулась к раскаленному утюгу. Не поверив себе, притронулась еще раз, осторожно, кончиком пальца, и опять отдернула руку. На подушечке у ногтя осталось красное пятно. Ожог.
* * *
На рассвете 30 апреля Отто Штраус, то есть американец Джон Медисен, высокий худой человек в штатском, с приятным умным лицом, был в Берлине.
Над руинами великого города носились английские истребители. От окраин ползли русские танки. Грохотала артиллерия. Из поврежденного газопровода вырывалось пламя, освещая черные обломки домов, на которых еще остались фрагменты последней пропагандистской истерики Геббельса, надписи красной краской: «С нашим фюрером к победе!»
Дом Штрауса находился на Вильгельмштрассе. Стены уцелели. Строение было старинным, добротным. Рядом чернела глубокая воронка от снаряда. Не осталось ни одного целого окна, двери были выбиты, внутри все разгромлено мародерами. Доктор, пригнувшись, осторожно обежал глубокую воронку, прошмыгнул внутрь.
Квартира его занимала первые два этажа. Еще в 39-м он оборудовал в подвале дома надежное убежище, маленький бункер. Сейчас главной его задачей было проникнуть туда, разгрести гору мусора над люком, спуститься по лестнице. Кроме тетрадей в сейфе хранилась приличная сумма денег, в американских долларах и английских фунтах, кое-какие ювелирные украшения.
Уже в конце марта высшие офицеры и чиновники великого Рейха грузовиками вывозили из Берлина свое имущество, награбленное за годы войны. Бесценные полотна старых мастеров, золото, драгоценные камни, мебель, фарфор. Отто Штраус был аскетически скромен, но кое-что все-таки припас на черный день.
Мародеры поработали на славу. Зачем-то переломали старинную мебель и, как будто нарочно, свалили весь мусор именно туда, где находился люк в убежище, замаскированный под дубовые панели, совсем незаметный. Оттаскивая от крышки люка груды разодранных книг и обломки книжного шкафа, он услышал совсем близко несколько отдельных выстрелов. Затем громкие голоса:
– Стой, тебе говорят! Хенде хох!
– Да стой ты, зараза!
Опять выстрелы.
Штраус замер. Он уже закончил разгребать завал. Глаза слезились от пыли. По грязному лицу тек пот. Одежда и руки были в копоти, в известке. Оставалось только поднять люк. Там, в убежище, имелся запас свежей воды, чтобы умыться, белье и одежда, чтобы переодеться.
За стеной послышался шум, голоса зазвучали совсем близко и отчетливо. Штраус, тяжело дыша, обдирая распухшие пальцы, поднял люк.
– Товарищ капитан, я гляну быстренько, они могли с той стороны зайти в дом. Кстати, дом хороший, почти целый.
– Давай, Пашка, только осторожно. А дом правда хороший. Ты там посмотри все, как следует, проверь верхние этажи. Под командный пункт, конечно, не годится, а ребята отдохнуть здесь могут. Мусор разгрести маленько, и ничего.
Штраус спустился вниз по ступенькам, тихо закрыл люк и оказался в кромешной темноте. Никакого электричества давно не было. Он щелкнул зажигалкой.
Удивительно, как среди руин мог уцелеть этот маленький оазис чистоты, покоя и порядка. Все в убежище осталось, как было месяц назад, когда Штраус зашел сюда, чтобы спрятать последнюю, третью, исписанную от корки до корки тетрадь.
Даже запах прежний: сандаловое мыло, хороший американский табак, одеколон с мягким хвойным оттенком. Штраус не ведал чувственных удовольствий, но чистота, уют, хорошие запахи были ему приятны. Они означали покой и безопасность, две вещи, необходимые для нормальной работы.
В зажигалке осталось мало бензина. Огонек вздрагивал и гас. Штраус на ощупь нашел комод. Там, в верхнем ящике, имелся запас свечей и спичек. При свечах стало совсем хорошо, уютно. Он сел на диван и тут же почувствовал, что засыпает. В последние десять дней он ни разу не спал больше трех часов подряд. Пока добирался до Берлина, не смыкал глаз двое суток.
Наверху отчетливо слышались шаги. В любом случае следовало дождаться, когда русский уйдет. Главное, не заснуть здесь, на этом милом мягком диване. Штраус позволил себе посидеть с закрытыми глазами минут пять, не больше. Встал, потянулся, сделал несколько приседаний и наклонов. Налил в умывальный таз воды, разделся, намочил полотенце, аккуратно, не спеша, обтер тело. Он знал, что сюда больше не вернется, но все равно не хотелось плескать воду на мягкий дорогой ковер, которым покрыт был пол. Затем почистил зубы, поставил подсвечник у зеркала и побрился.
Шаги над головой затихли. Штраус быстро оделся во все чистое. Проверил карманы. Прочистил и перезарядил пистолет. Открыл сейф. Переложил все его содержимое в небольшой добротный чемоданчик, запиравшийся на кодовый замок. Следовало уходить, пока наверху тихо. С каждым часом, с каждой минутой все трудней выбраться из Берлина, даже имея американские документы. Глупо умереть от случайной шальной пули, когда ты так близок к разгадке тайны, которая в течение долгих веков дразнила и сводила с ума разных упорных одиночек. Но совсем уж глупо, что именно сейчас, в такой ответственный момент, стоят часы и раскалился перстень.
* * *
«Эта вещь кричит о себе», – подумала Маша.
Такое объяснение никуда не годилось, но других не было. а из прихожей послышался растерянный громкий шепот Дмитриева:
– Прямо как сквозь землю провалилась!
– Вы о чем, Сергей Павлович?
– Да о визитке! Там же все ее телефоны! И фамилию я забыл, как назло. Теперь одна надежда, что она сама перезвонит. Вы точно недоставали с верхней полки эти книги?
– Какие книги?
– Ну вот же! «История гестапо» «Нюрнберг». Кому это могло понадобиться? Ведь не сами они спрыгнули!
Маша взглянула на Василису. Глаза ее были приоткрыты, ресницы дрожали. Она дышала ртом, очень быстро, с легкими хрипами. При таком дыхании пульс не может быть семьдесят ударов в минуту.
«История гестапо» была открыта, лежала обложкой вверх. Маша взяла ее в руки, перевернула. Несколько жутких фотографий: узники Освенцима и Дахау. Лагерная больница, в которой проводились опыты на заключенных. Личный врач Гиммлера, генерал СС Отто Штраус.
– Сергей Павлович, можно я позвоню по вашему телефону во Францию? – шепотом спросила она Дмитриева. – У моего мобильного села батарейка. я, – Конечно. А я пока поищу визитку.
Он метнулся к столу, покосился на Машу, быстро схватил бутылку, налил, выпил.
– Ваше здоровье, Машенька. Все. Это последний глоточек. Я больше не буду, честное слово.
– Хотя бы закусите, – вздохнула Маша. – Вы знаете, что все это время у вас телефонная трубка лежит неправильно? Сюда никто не мог дозвониться, ни ваша корреспондентка, ни Арсеньев.
Дмитриев болезненно сморщился, помотал головой и залпом допил все, что осталось в рюмке.
Отец долго не отвечал. Маша посмотрела на часы.
Была полночь. Значит, в Ницце сейчас десять вечера. Хотя нет. Не может быть полночь. Она приехала сюда в начале десятого, прошло минут сорок, не больше.
Дмитриев встал и продолжил суетиться, искать визитку журналистки, заглянул даже в банки с сахаром и крупой. Иногда замирал, растерянно смотрел на Машу, виновато разводил руками и шептал:
– Куда я мог ее деть, не понимаю!
«Он пьян от водки, я от усталости, – подумала Маша, – часы, кажется, стоят, причем не только мои. Настенные тоже показывают полночь. Этого не может быть. Ну хорошо. А кольцо на пальце Василисы может быть раскаленным, как утюг? Папа, пожалуйста, возьми трубку!»
Она слушала протяжные гудки и, не отрываясь, смотрела на часы. Стрелки не двигались. Даже секундная застыла. Гудков прозвучало много, не менее десяти, прежде чем раздался наконец голос отца. Маша перевела дух и выпалила быстро, на одном дыхании:
– Папа, насколько достоверна информация, что Приз мог носить перстень из белого металла, с печаткой, на которой профиль Генриха Птицелова? От кого ты ее получил? , Он удивленно кашлянул и ответил:
– От Рейча. Приз якобы купил у него перстень, принадлежавший Отто Штраусу. Ты все-таки видела его?
– Да. Но не у Приза.
– У кого?
– У девочки, которая попала в зону лесного пожара и пока не может говорить. Возможно, она единственная свидетельница убийства. Возможно, она нашла этот перстень на месте преступления. Там шесть трупов Сейчас он у нее на руке. Папа, он горячий, как утюг К нему нельзя прикоснуться. Девочка молчит. Но зачем-то достала с полки книгу, «История гестапо», и открыла ее на фотографии Отто Штрауса.
Было слышно, как отец щелкал зажигалкой
– Машуня, успокойся, не кричи. На внутренней стороне перстня должно быть выгравировано имя «Отто Штраус». Прежде всего, надо снять и посмотреть.
Маша тихо всхлипнула. Дмитриев сидел рядом с ней. На руке его были часы. Стрелки замерли на двенадцати.
– Папа, который час? – спросила она в трубку.
– У нас без двадцати девять, у вас, стало быть, без двадцати одиннадцать. Ты поняла, что надо снять перстень?
– Папа, это невозможно. Он не снимается!
* * *
Чемоданчик был пристегнут к левому запястью браслетом наручников. Кроме американского паспорта у Штрауса имелась бумага, подписанная лично Алленом Даллесом. Достаточно добраться до любого американского или английского блокпоста. С такой бумагой никто не посмеет обратить внимание на то, что у американского профессора отчетливый немецкий акцент.
Очень медленно, осторожно, он поднял крышку люка. Огляделся. Никого. 1де-то совсем близко затараторила автоматная очередь. Разорвалось сразу несколько снарядов. Если сейчас начнется уличный бой, неизвестно, как долго придется просидеть в убежище. А если русские захотят здесь остановиться на отдых? Дом почти целый. Они же говорили об этом.
Он вылез из люка. Постоял секунду, прислушиваясь. Очереди замолчали. Стрельбы не было. Наступила тишина, странная, невозможная для этих дней в Берлине. Внутри Штрауса тоже стало тихо. Существо притаилось, вероятно, подавленное торжественностью момента. Доктор Штраус уходил в вечность. Ему даже захотелось взглянуть на себя в зеркало. Возможно, эта великая война, которая закончится через пару дней, была посвящена ему. Во всем должна быть целесообразность. Высшая мотивация. Что может быть выше тех знаний, которые приобрел он. Отто Штраус, используя уникальные возможности, подаренные войной? Что может быть целесообразней самой войны, санитарного очищения пространства от лишних жизней, миллионов жизней, в которых нет смысла? Чем примитивней существа, тем быстрей и обильней они плодятся. Если их не уничтожать, они заполнят землю так. что дышать станет невозможно. Войны выводят шлаки Как говорят англичане, организм без слабительного похож на дом, в котором сломана канализация. Отто Штраус гений. Гений должен жить вечно.
Едва заметная дрожь пробежала по гелу. Напряглись губы, стало щекотно в солнечном сплетении Штраус не сразу понял, что это смех, причем не его, а чужой
«Посмотри, посмотри на себя в зеркало Ты сейчас лопнешь от гордости, гений! Ты все знаешь, все разгадал. Зачем? В твоей вечности можно сдохнуть со скуки»
Он не слушал. Ему некогда было слушать. Он делал скидку на возможную легкую контузию от взрывной волны. Он спокойно, осторожно шел к выходу, перешагивая через мусор и обломки.
Разорвался очередной снаряд, на этот раз достаточно далеко. Прямо перед Штраусом, в дверном проеме, возник молодой русский офицер в полевой форме, судя по погонам, лейтенант. Каска съехала набок, лицо в копоти. В руках автомат. Ствол направлен на Штрауса и – Стой! Хенде хох!
Откуда он взялся, этот русский9 Он должен был давно уйти. Но вернулся. Зачем? Впрочем, не важно Штраус покосился на оконные дыры. Прислушался Судя по всему, никого, кроме них двоих, здесь не было.
– О, хелло, рашен! – доктор приветливо оскалился. – Хау ар ю?
– Американец, что ли? – русский не опустил автомат, но слегка расслабился, улыбнулся, сверкнув белыми зубами. – Привет. Хелло, – взгляд его уперся в пистолет, зажатый в правой руке Штрауса, – документы покажи. До-ку-ментс. Андерстенд?
– О, докъюментс? Оф коуз!
Улыбка полиняла на чумазом лице. Лейтенанту явно что-то не нравилось. Штраус легко и быстро просчитал в уме, что именно. В этом районе американцев еще не было. Лейтенант, разведчик или связист, должен это знать. Спрашивается, откуда тут взялся американец, да еще в штатском, такой весь чистый, одеколоном пахнет? Пистолет у него вроде бы «Вальтер», маленький, блестящий, на вид легкий, и держит он свое красивое оружие наготове. В любой момент может пальнуть.
Штраус спокойно смотрел русскому в глаза, продолжал улыбаться.
– Релекс, май френд. Виктори! Гитлер капут!
– Капут, капут, – кивнул русский, уже без всякой улыбки, – ты давай, документы показывай. И пистолет убери.
– О'кей, о'кей, донт уарри! Уан момент, плиз!
Пистолет был снят с предохранителя. Палец лежал на спусковом крючке. Легкий хлопок выстрела, прямое попадание в сердце. Лейтенант даже не успеет понять, что его уже нет на свете. Доктор Штраус перепрыгнет через тело, найдет самый короткий и безопасный путь среди руин, доберется до ближайшего американского блокпоста. Через неделю окажется в Вашингтоне и продолжит свою научную работу.
Он не будет жить вечно, однако протянет долго, почти до ста лет. Не важно, что он там еще изобретет, каких намешает эликсиров. Жалко этого парня, лейтенанта. Он дошел до Берлина, ему хочется домой. С какой стати он должен погибать здесь и сейчас, за двое суток до конца войны, от руки Отто Штрауса? Безумно, до слез, жалко лейтенанта.
* * *
Сразу после разговора с отцом Маша набрала мобильный Арсеньева, узнала, что Саня будет здесь минут через десять-пятнадцать. Часы по-прежнему стояли.
Дмитриев выпил еще водки и заснул в кресле, в кабинете.
Маша сидела на краю дивана, рядом с Василисой. Осторожно взяла ее руку. Прикоснуться к перстню было по-прежнему невозможно. Металл раскалился докрасна. Или просто красный абажур торшера отражался в нем? Если смазать палец синтомицинкой, попытаться прихватить перстень сквозь несколько слоев бинта, все равно не получится. Палец слишком распух. Василисе будет больно. Наверняка в больнице пробовали снять и не смогли.
Маша встала, тихо вышла на кухню, включила чайник, села, не замечая, что теребит в руках дешевые сигареты Дмитриева.
Отец сказал, что информацию Рейча нельзя считать достоверной на сто процентов. У старого коллекционера что-то сдвинулось в голове. Генрих Рейч рассказывал, будто перстень он получил от самого Отто Штрауса. Якобы Штраус явился к нему под видом американского профессора, надел ему на палец перстень и сказал: «Приз победителям». Это случилось в начале 70-х. Пока перстень был у Рейча на руке, он не мог говорить. Ему то и дело мерещились кошмары, он проживал целые куски жизни Отто Штрауса, видел его глазами войну, концлагеря, думал и чувствовал вместе с ним. Когда это происходило, все часы, которые были рядом с Рейчем, останавливались. Стрелки замирали на двенадцати, а перстень раскалялся так, что на пальце оставались ожоги. Палец распух. Снять перстень удалось только через неделю. Рейч хотел избавиться от него, но боялся выбросить. Решил ждать, когда за ним придет какой-нибудь покупатель. Показывал и предлагал многим. Никто не покупал. Только через тридцать лет за перстнем явился русский по фамилии Приз, купил его, не торгуясь, надел на мизинец и теперь носит, не снимая. «Суди сама, можно верить человеку, который рассказывает такое, или нет», – сказал отец.
Дыры во времени. Можно ли верить Генриху Рейчу? Или он сумасшедший?
«Но в таком случае я тоже сумасшедшая. Перстень горячий. Часы стоят. Василиса молчит. Рядом с ней книга, „История гестапо“, раскрытая на портрете Отто Штрауса. Спрашивается, откуда девочка могла узнать, чей это был перстень? Интересно, а что происходило с Призом, когда он носил его? Руку не жгло? Кошмары не мерещились?»
Маше вдруг пришло в голову, что о докторе Штраусе она узнала еще до того, как всерьез заинтересовалась Владимиром Призом. Сначала был доктор Штраус, потом Приз. Приз победителям.
«Я несколько лет изучала пиар, способы манипулирования сознанием. Самый мощный, самый фантастический пиар был у нацистов. Кроме пропаганды они занимались экспериментами с грубым гипнозом, электрошоком, наркотиками, искусственными гормонами в разных сочетаниях. Концлагеря давали им неограниченные возможности. Они влезали глубоко в самые сокровенные уголки человеческого сознания и добились потрясающих результатов. Вот тогда я и узнала о докторе Отто Штраусе. О нем, как обо всех, кто был приговорен к смертной казни в Нюрнберге заочно, кто исчез бесследно в сорок пятом, существовали разные легенды. Одна имела прямое отношение к ЦРУ, к Аллену Даллесу. Впрочем, если бы исследования, которые проводил Штраус в концлагерях и якобы продолжил в Ленгли, завершились успехом, если бы результаты его опытов имели практическое значение для разведки и контрразведки, вряд ли я, или кто-то вроде меня, узнал бы об этом. Но имя доктора Джона Меди-сена я не встречала нигде. Существует разная степень секретности. У меня получается даже не цепочка. Замкнутый круг. Кольцо. Элите „Черного ордена“, членам так называемого „внутреннего круга“, выдавались серебряные перстни с черепом на печатке. Они были носителями знака „мертвой головы“. Но существовала еще и сверхэлита. Те, кто состоял в тайном оккультном обществе „Туле“, получали лично от Гиммлера перстни из платины. На печатке профиль кумира Гиммлера, Генриха Птицелова… Господи, что же происходит? Этого не может быть. Я не желаю верить. Но моя вера, мое неверие не являются истиной в последней инстанции».
Маша закрыла глаза. Тошнило, кружилась голова. Давила мертвая тишина квартиры. Хоть бы Дмитриев храпел, что ли. Ни одного живого звука. Окно во двор распахнуто, но и там, снаружи, почему-то мертвая тишина. Все замерло и не дышало.
Зазвонил домофон. Наконец приехал Саня. Он обнял ее, минуту они стояли молча, согреваясь и оживая.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Пушечка у Михи была классная, маленький легкий ПСМ. Глушитель он навинтил заранее. Дома Миха переоделся в удобный спортивный костюм и кроссовки. Одежда не сковывала движений, шаги были беззвучны. Машину оставил в соседнем переулке. В карманах трикотажных штанов ничего лишнего. Только набор отмычек. Пистолет спрятан под широким блузоном, прикреплен к нательной портупее.
Пока шел, думал о том, что скоро они с Шамой завалятся в кабак. Какая там будет жрачка, какое бухло, каких потом они снимут телок. Шаме нравились зрелые, с низким голосом и мягким животом. Миха предпочитал совсем молоденьких, не старше восемнадцати, невысоких, грудастых, с большими пухлыми губами. Цвет волос значения не имеет, хотя, конечно, беленькие симпатичней черненьких. Но если сразу две, то лучше, чтобы разноцветные. Когда Шаму выберут президентом и он сделает Миху министром внутренних дел, телок можно будет менять хоть каждый день. Жрать черную икру столовой ложкой, носить ботинки из крокодиловой кожи. Тачек у него будет много разных, самых крутых, какие только есть в мире. Что еще? А хрен знает. Главное, чтобы было круто, отпадно, прикольно, по кайфу, блин, и чтобы всем вставляло, в натуре. Он ведь не «лютик» и себя не на помойке нашел.
Миха шел к подъезду в легкой задумчивости. Перед его мысленным взором быстро листались картинки будущей красивой жизни. Машины, виллы, яхты, часы, бутылки, банки с икрой, ресторанные залы, официанты с бабочками, жареные поросята, вареные лобстеры, голые женщины. Все это промчалось, блеснуло глянцевыми типографскими красками какого-то мужского журнала и растаяло в душном ночном сумраке московского двора. Он огляделся, принюхался.
Трое бомжей тихо пировали в песочнице. Облезлый кобелек мочился на чье-то колесо. Бабка рылась в мусорном контейнере. На спортивной площадке одинокий пожилой дурак бегал трусцой по кругу. Миха смачно сплюнул под ноги, матюкнулся для бодрости и остановился у подъезда. Посмотрел на окна. За шторами был свет. Значит, спать еще не легли. Но это теперь без разницы.
Стандартный домофон для думающего человека не проблема. Всегда рядом с аппаратом можно найти код, нацарапанный чьей-то глупой рукой.
Подойдя к двери, он прислушался. В квартире было тихо. Достал набор отмычек. Домушником Миха никогда не был и быть не собирался, но пользоваться отмычками умел, и обучал этому искусству своих питомцев в «Викинге». На всякий случай.
Замок, правда, оказался элементарным. Дверь открылась легко и беззвучно. В маленькой прихожей горело тусклое бра. Расположение комнат Миха изучил заранее. Серый, после того, как побывал здесь, набросал план на бумажке и оставил Шаме.
Налево в глубине узкого коридора дверь на кухню. Она закрыта. За ней слышны голоса, мужской и женский, звяканье посуды. Двое говорили так тихо, что слов Миха разобрать не мог.
«Сидят на кухне. Наверное, чай пьют. А девка, значит, заговорила, – подумал Миха, – ну ладно. Теперь это по фигу».
Направо кабинет, дальше проходная гостиная, за ней спальня. Девка обычно лежит в кабинете. Но сейчас сидит на кухне. Не забыть снять с нее перстень. Плохо, что окно открыто. Нельзя застрелить из одного пистолета сразу двоих. Вдруг кто-нибудь из них успеет крикнуть. Третий этаж. Во дворе могут услышать.
Миху тормозило. Он не хотел себе в этом признаться, но его тормозило. Ему стало страшно. Одно дело в лесу, в компании своих пацанов, истреблять безродных бомжей, точно зная, что за это ничего тебе не будет. И совсем другое – действовать в одиночку, в центре Москвы. Войти в квартиру, убить двух человек, известного режиссера и его внучку, а потом еще перстень снимать, уматывать через лестничную площадку, через двор. Легко было обсуждать это, сидя с Шамой в машине с темными стеклами.
Перед глазами у него вдруг ясно возникло лицо Шамы. «Перчатки не забудь. Там не должно быть твоих пальцев».
Миха похолодел. Упаковку с резиновыми перчатками он оставил в машине. И пальцы его тут уже есть, на замке, надверной ручке. Вот сейчас он откроет дверь кухни, и тоже останутся отпечатки. Значит, придется еще задержаться, вытереть все, к чему успел прикоснуться.
Он медлил всего минуту. Голоса затихли. Он протянул руку, чтобы открыть дверь, но она открылась сама, легонько толкнув его в плечо. Прямо перед ним появилась незнакомая женщина, худая блондинка лет тридцати.
«Американка! – шарахнуло у него в голове. – Шама предупреждал. Я забыл! Я должен был посмотреть, стоит ли у подъезда черно-серый „Форд“ с красным номером. И если стоит, ждать, когда уедет».
Она замерла в дверном проеме. На подоконнике сидел и курил мент. Миха сразу узнал его. Дважды видел в «Кильке». Этот опер занимался убийством писателя.
Допрашивал всех официантов, барменов, швейцара Иваныча.
Паника тошной горячей волной поднялась от живота к горлу. Миха увидел, что опер уже вытащил из расстегнутой кобуры свою пушку. Если сейчас пальнуть в упор в американку, все равно мент успеет уложить его.
Не думая, что будет делать дальше, повинуясь уже не рассудку, а какому-то киноинстинкту, который выработался у него благодаря телевизору, видику, компьютерным играм, Миха схватил американку за волосы, прикрылся ею, как щитом, приставил дуло с глушителем к ее голове и произнес хриплым, чужим голосом:
– Не двигайся. Я прострелю ей башку! Брось пушку.
По закону жанра следовало поудобней прихватить заложницу и медленно отступать с ней назад, к двери.
Но тут она заговорила. Она обращалась к Михе так спокойно, словно он не вцепился рукой в ее белые патлы и не было никакого дула с глушителем у ее виска, словно они просто сидели и разговаривали.
– У вас розовые пятна на коже. Это солнечная крапивница. Вам нельзя загорать, а вы жаритесь на солнце. Может начаться рак кожи.
Если бы она дернулась, крикнула, Миха пальнул бы наверняка. Слишком много всего неожиданного сразу, слишком сильный шок. Когда она обратилась к нему на вы, сказала про розовые пятна и про рак, которого он боялся больше всего на свете, это тоже был шок, но уже совсем другого рода.
– У вас дрожат руки, дрожат коленки, вы тяжело дышите. Вам плохо. Аллергию могут вызывать разные масла, в том числе оружейная смазка. На правой руке пятен больше, смотрите, они появляются прямо на глазах. Сочетание химического аллергена и стресса. Вам нельзя держать пистолет, тем более с глушителем. Близкий контакт аллергена с кожей провоцирует рост раковых клеток еще быстрей, чем ультрафиолетовые лучи.
Миха не мог не слушать ее. Она говорила, как хороший, умный доктор. Она говорила о его здоровье. Она обращалась к нему на вы. Миха очень дорожил своим здоровьем, и ему нравилось, когда к нему обращались на вы. Голос ее звучал нежно, сочувственно. Она не дергалась, не пыталась вырваться. Он внимательно слушал ее. Тревожно косился на свою руку и не заметил, что дуло сместилось, уже не упиралось американке в висок, а смотрело чуть в сторону. Он отвлекся и пропустил самое важное: опер успел бесшумно соскользнуть с подоконника.
В следующее мгновение Миха взвыл от боли, согнулся пополам, выронил пистолет, отпустил американку, стал хватать ртом воздух. Перед глазами плавали огненные круги, в ушах звенело. Опер применил какой-то очень знакомый болевой прием, и Миха пытался понять, какой именно. Он сам знал кучу приемов, учил им своих пацанов в «Викинге». Теоретически он мог бы сейчас попробовать отбиться, уложить здесь всех к едрене фене. Герой какого-нибудь боевика точно отбился бы. Но героям боевиков не бывает больно. А Михе было дико больно, жалко себя и страшно. Ну отобьется, уложит. А дальше что?
Американка молча быстро обыскала его, вытащила маленький набор отмычек и ключи от машины. Опер держал его на прицеле.
Еще через минуту Миха лег на кухонный пол, лицом вниз, прижался щекой к холодному кафелю. Он видел перед собой облезлые ножки табуреток, слышал голоса, но все в тумане. Руки его были вывернуты назад. Американка связывала их обычным бинтом. Майор сидел рядом на корточках и держал дуло у его головы. В левой у него был телефон. Он вызывал группу, потом говорил с какой-то Зинаидой Ивановной. Отложив трубку, он обратился к Михе.
– Кто тебя прислал?
Миха молчал. Ему вдруг все стало безразлично, захотелось спать, такая тоска навалилась. Он подумал, что если заснет, то проснется уже дома, в своей постели, как будто ничего не было.
– Я ведь пальну сейчас, – сказал майор, – кто тебя прислал? Ну, быстро!
– Пальнет, – подтвердила американка, —давай, дружок, колись. У тебя нет вариантов. Скажешь, кто прислал, останешься жив.
Миха затылком чувствовал твердый холодок дула. Опер мог правда замочить его здесь и сейчас. Ничего ему за это не будет. Оперу очень этого хотелось, от него волнами исходила смертельная угроза. У Михи волоски на всем теле поднялись дыбом.
– Я не хотел, – пробормотал он, – я только перстень взять.
– Какой перстень? Чей? – опер вжал дуло в затылок еще крепче.
– Друг попросил, – Миха зажмурился, – честное слово, я не хотел.
– Как фамилия друга? Ну? Быстро!
– Приз, – простонал Миха, жалобно растягивая «и».
– У кого ты должен был взять перстень?
– У девки. У этой… которая…
– Которая —что?
– Не знаю… убери пушку… убери, скажу.
Дуло отлипло от затылка, но все равно было рядом. Говорить Миха уже не мог. Только выл, тонко и протяжно. Они больше не задавали вопросов. На кухне появился еще один человек. Миха приоткрыл глаза, увидел застывшие мужские ноги в обтрепанных джинсах и байковых тапках. Майор поднялся, они оставили Миху лежать, отошли, исчезли из поля зрения, но были где-то рядом. До Михи доносился их невнятный шепот. Потом послышалось шарканье, и старческий испуганный голос забормотал:
– Господи, какой ужас! Да-да, я понял, у меня был где-то капроновый шнур, или что-то в этом роде, я сейчас посмотрю. Маша, когда вы освободитесь, пожалуйста, загляните к Васе. С ней что-то не то, она дрожит, тяжело дышит. Глаза закрыты, и слезы текут.
* * *
. У Штрауса слезились глаза, от этого заложило нос. Он не мог нормально дышать. Правая рука занемела. Палец лежал на спусковом крючке, но не слушался. Штраус перестал чувствовать руку, от кисти до плеча, словно ее парализовало.
В первый раз такое случилось на площади, когда он не сумел выстрелить в инвалида. Второй – в лагере, когда еврейская девушка разбила ему нос. Сейчас опять. Он понял это слишком поздно. Возможно, если бы клевому запястью не был пристегнут заветный чемоданчик, Штраус сумел бы быстро и незаметно перехватить свой пистолет и выстрелить левой. Время на это у него имелось. Палить в американца лейтенант не собирался. Он хотел проверить документы и проводить до контрольного пункта. Но, увидев у своей груди дуло «Вальтера», дал короткую очередь из автомата.
Лейтенант потом еще много лет рассказывал, и детям своим, и внукам, родственникам и друзьям, как чуть не погиб в Берлине, в один из последних дней войны, в доме на Вильгельмштрассе.
Перед ним появился, словно из-под земли, странный человек в штатском. Вроде бы американец, но кто на самом деле – неизвестно. Его красивый «Вальтер» дал осечку. А через секунду рядом рвануло очень сильно, начался массированный артобстрел, надо было мотать скорей, от греха подальше. Лейтанант едва успел выскочить, в дом попало сразу несколько снарядов, стены рухнули. Так и не удалось узнать, кто это был: американец, немец, черт из табакерки. Его завалило обломками вместе с чемоданчиком и документами, которые он так и не показал лейтенанту.
Потом по дымящимся развалинам дома на Вильгельмштрассе шныряли, как тени, оборванные, голодные, безумные люди. Поживиться им было нечем. Повезло только одному. Из-под обломков торчала рука. На мертвом пальце поблескивал перстень. Мародер снял его, завернул в бумажку, положил в карман и был счастлив, когда через пару дней удалось обменять эту глупую побрякушку на банку американской тушенки.
Боль была быстрая и жгучая. За ней последовал свист, вой, треск, месиво звуков, медленные ритмичные вспышки синеватого света, мрак, опять свет. В каждой вспышке содержались тысячи подвижных картинок, в звуковом хаосе можно было различить рваные нити отдельных звуков: шепот, крик, хоровое пение, карканье кладбищенских ворон и ораторов с трибун, плеск знамен, грохот военных оркестров, плач, вопли ужаса и лай партийных приветствий. На картинках были люди с одинаковыми лицами. Ряды близнецов, то в полосатых пижамах заключенных, то в военной форме, то в джинсах и футболках, на которых отштампованы портреты какого-то человека. Близнецы качались, взявшись за руки, синхронно открывали рты, пели что-то дружным хором, прыгали и тянули вверх руки, похожие на белую траву. Маршировали колоннами, работали у громадных конвейеров, иногда разбегались, заполняли собой пространства, похожие на города, забивались в мелкие ячейки серых огромных зданий, потом опять стекались в единую массу, как ртуть из разбитого градусника. Они не имели ни пола, ни возраста, ни чувств, ни мыслей, они даже не знали, что живут, и умирали легко, по команде. Они умирали, а новые не рождались. Не было жизни. Отто Штраус разгадал ее тайну. Разгадка оказалась простой, как все гениальное: смерть. Его личная смерть. Его вечность, которая состояла из четкой смены света и мрака, семьдесят вспышек в минуту, в ритме здорового пульса. Черная глухая тоска чередовалась со вспышками синевато-белой, ослепительной злобы. И так всегда, без конца и начала.
Господи, я умерла. А как же мама, папа, дед ?Дед, я тебя люблю.
– Что это? Вы слышали?
Сергей Павлович вздрогнул, подскочил в кресле и открыл глаза.
– Она сказала: «Дед, я тебя люблю», – Маша сидела возле Василисы и держала перстень, осторожно, двумя пальчиками. Он был все еще горячий.
Василиса долго, мучительно кашляла. Дмитриев принялся колотить ее по спине.
Голос ее был сиплым, слабым. В горле першило. Губы пересохли, потрескались. Язык отяжелел, стал шершавым и еле ворочался.
– Дед, ты что! Больно! Лучше принеси мне попить. Чаю хочу, горячего, с молоком.
* * *
– Судя по тому, что вы явились так рано, такой мрачный, и без звонка, случилось что-то серьезное, – сказал Рейч.
Глаза его блестели. Он сидел на кровати, уже без капельницы, умытый, побритый, свежий.
– Доброе утро, Генрих, – Григорьев тяжело опустился в кресло, – позвонить я не мог, ваш мобильный выключен.
Рейч, продолжая в упор смотреть на Григорьева, протянул руку, взял трубку с тумбочки.
– Да, действительно. Наверное, сестра отключила, когда заходила ночью. Ну, в чем дело, Андрей? Вы уже доложили своему руководству, что это я отправлял конверты с фотографиями?
– Нет. Как вы себя чувствуете, Генрих?
– Спасибо. Теперь значительно лучше. Скоро меня выпишут. Мы с Рики собираемся поездить по побережью, здесь так красиво. Не понимаю, Андрей, почему вы тянете? Я сгораю от любопытства, ужасно хочется увидеть их реакцию. Интересно, арестуют они меня и если да, то какое предъявят обвинение?
«Я не могу, – думал Григорьев, глядя на улыбающегося Рейча, – он проскочил инфаркт. Я знаю это счастли-жое чувство выздоровления. Что будет, когда я скажу? Доктор предупредил, его ни в коем случае нельзя беспокоить. Никаких отрицательных эмоций».
– Да, слушайте, что за фарс вы придумали с русским издателем, миллионером, владельцем виллы? Рики позвонил, сказал, вы пригласили его в ресторан. Зачем вам понадобился мой мальчик?
– Рики так переживал из-за вашего приступа. Я хотел его утешить и накормить икрой, – пробормотал Григорьев, болезненно морщась, – мой старый знакомый составил нам компанию. Он очень интересуется новой западноевропейской литературой. Денег и времени у него много, планирует открыть в России небольшое издательство.
Дверь распахнулась. Пожилая монахиня вкатила столик на колесиках. Григорьев перевел дух и посмотрел на нее с искренней благодарностью.
– О, это кстати! Я голоден, как волк, – обрадовался Рейч и потер руки, – спасибо, сестра Мадлен. Андрей, вы завтракали? Тут замечательно кормят.
– Я могу принести завтрак для вашего гостя, – ласково улыбнулась монахиня.
– Благодарю вас, не стоит, – сказал Григорьев.
– Не слушайте его, сестра, принесите. Только кофе для месье сделайте настоящий, с кофеином. Не люблю есть в одиночестве, – добавил он по-русски, – придется вам составить мне компанию. И разговаривать за едой приятней.
Монахиня установила на кровати Рейча раскладной столик, заправила ему салфетку за ворот пижамы, пожелала приятного аппетита. '
– Знаете, мне сегодня приснился Отто Штраус, – весело сообщил Рейч и цокнул ложкой по яйцу, – наверное, после всех наших с вами разговоров. То есть моих монологов, потому что вы в основном молчали, а я говорил. Так вот, мне приснилось, как он уходил из Берлина тридцатого апреля сорок пятого года. Он ведь рассказывал мне об этом, очень подробно. Ему пришлось вернуться в свой дом на Вильгельмштрассе, чтобы забрать из тайника тетради с записями, деньги, драгоценности. Он уже имел американский паспорт на имя Джона Медисена и специальную бумагу, подписанную Алленом Даллесом.
Ему удивительно везло, пули и осколки летели мимо Выходя из дома, он столкнулся с русским лейтенантом и пристрелил его. Не то чтобы он боялся попасть к русским. Просто устал и очень спешил. Хотел поскорей вернуться к цивилизации, принять горячую ванну, отоспаться, приступить к работе. Поэтому убил лейтенанта. Но, знаете, в моем сне все получилось немного иначе. Лейтенант успел выстрелить первым. У лейтенанта было черное от копоти лицо, зеленые глаза и рыжие ресницы.
Опять явилась монахиня со столиком, на котором был завтрак для Григорьева.
– Осторожней, месье, кофе очень горячий. Генрих, почему вы не едите? Вам нехорошо?
– Спасибо, сестра. Все в порядке.
Она ушла, мягко прикрыв дверь. Минуту они молчали. Рейч принялся за яйцо всмятку, ел аккуратно, собирал кусочком хлеба капли желтка. Запил соком, промокнул губы салфеткой и улыбнулся.
– Доктор Штраус погиб в Берлине тридцатого апреля сорок пятого года и был погребен под обломками сво-.его дома, вместе с чемоданчиком, в котором остались тетради с самыми важными его записями.
– А как же перстень? – тихо спросил Григорьев.
– Вы не поняли, Андрей, – Рейч разрезал на две половинки киви и стал выгребать ложечкой зеленую мякоть, – мне это приснилось. Я не знаю, как было на самом деле. Что касается перстня, его носит Владимир Приз. И, между прочим, отлично себя чувствует. Мне он жег руку, я не мог говорить, меня мучили кошмары. С Призом не происходит ничего подобного. Наоборот, он помолодел, поздоровел. Перстень стал для него чем-то вроде целебного талисмана. Да вы ешьте, ешьте, Андрей. Все остывает. А русский издатель, как я понимаю, ваш коллега, – Рейч весело подмигнул, – не томите. Выкладывайте. Я правда отлично себя чувствую сегодня. Не бойтесь. Если что-то плохое, я выдержу.
– Он сотрудник Интерпола, – Григорьев хлебнул сока, во рту у него пересохло, – они зафиксировали контакт Рики с членами «Аль-Каиды». Его встреча с двумя гражданами Саудовской Аравии была снята скрытой камерой. Рики выступал в качестве посредника. Он просил у саудовцев денег для молодого перспективного политика, который собирается очистить свою страну от еврейско-американской заразы. Есть серьезные основания предполагать, что страна – Россия, а политик – Владимир Приз.
Григорьев произнес все это по-немецки, быстро, на одном дыхании.
Рейч слушал и старательно мазал масло на горячую булочку. Масло таяло и текло. Казалось, это занимало Рейча значительно больше, чем рассказ Григорьева.
– Саудовцы контактируют с неонацистским обществом «Врил», в котором состоит Рики, – продолжал Андрей Евгеньевич.
– «Вриль» – перебил Рейч, поморщился и положил желтую от масла булочку на тарелку, так и не откусив, – в конце мягкое «л». Так называлось одно из многочисленных оккультных обществ в Германии в начале двадцатого века. Членом «Вриля» был Карл Хаусхофер, генерал, дипломат, географ, профессор Мюнхенского университета, один из ведущих теоретиков нацизма. – Рейч откусил булочку, задумчиво похрустел. – Я же говорил вам, Андрей, торг продолжается. А вы не верили. Приз победителям.
Григорьев залпом допил сок, налил себе кофе из маленького кофейника.
– Генрих, вы ненавидите нацизм. Вы ненавидите его так сильно, что отдали ему полжизни. Какже получилось, что с вами рядом оказался Рики? Вы не могли не знать, что он неонацист.
– Мне не важно, кто он. Я его люблю. У меня не было родителей, семьи, детей. Теперь у меня есть Рики. Что с ним? Он арестован?
– Он погиб. Мы ужинали в ресторане, он выпрыгнул с балкона. Внизу было море, скалы. Он разбился насмерть. Это произошло неожиданно, мы не успели…
Рейч закрыл глаза, помотал головой. Ложка с тихим звоном выпала из его руки. Губы шевелились. Григорьев встал, подошел ближе и услышал жалобный быстрый шепот:
– Деточка, мальчик мой… Господи, это невозможно, я знаю, я все понимаю, но, пожалуйста, прости его, прими его несчастную глупую душу.
Не открывая глаз, он перекрестился и продолжал шептать, уже совсем невнятно. Губы быстро, сухо трепетали, по щекам текли слезы.
– Генрих, может быть, позвать врача? – осторожно спросил Григорьев.
– Нет. Никого не зовите. Уйдите, Андрей. Мне надо побыть одному.
* * *
Капронового шнура Дмитриев так и не нашел. Когда приехала группа, бинты поменяли на нормальные наручники, застегнули их спереди, посадили арестованного на стул и дали покурить.
Он наконец представился: Данилкин Михаил Анатольевич. Сообщил дату рождения, адрес. Сказал, что документы его лежат в машине, назвал марку и номер машины, объяснил, где она стоит.
– Ничего говорить не буду без адвоката, – заявил он следователю Лиховцевой, после того, как она зачитала ему его права.
Данилкина привели в кабинет, показали Василисе.
– Нет. Я его никогда раньше не видела, – сказала Василиса, – тот, которого я видела, меньше ростом, плечи не такие широкие. Форма головы другая.
– Уведите его отсюда, пожалуйста, – испуганно попросил Дмитриев.
Арестованного вернули на кухню. Усадили.
– С какой целью вы проникли в квартиру? – спросила Лиховцева.
– Не буду ничего говорить без адвоката. .
– Ты сказал, тебя прислал сюда человек по фамилии Приз, – напомнил Арсеньев, – он прислал тебя забрать перстень.
– Какой перстень? – Данилкин захлопал глазами.
– Этот? – Зинаида Ивановна кивнула на кухонный стол.
Там лежали отмычки, пистолет и мужской перстень белого металла, с печаткой.
– Не знаю. Никогда не видел.
– Пистолет, отмычки тоже никогда не видели?
– Без адвоката говорить не буду.
– Человека, которого зовут Приз Владимир Георгиевич, знаете?
– Ночью допрашивать не имеете права.
Арестованного увезли. В квартире остались Маша, Арсеньев и Зюзя. Дмитриев заварил свежий чай, Василиса вышла на кухню, села со всеми за стол и спросила:
– Вы точно знаете, что Гриша Королев погиб? Вы видели его мертвым? Вы уверены, что это он?
– Да, Вася, я видел его, – сказал Арсеньев.
– Но вы же его не знаете, вы только по фотографии…
– Мы были соседями. Его мама и брат живут этажом ниже.
– В новом доме? На Зональной улице?
–Да.
– Значит – вы Александр Юрьевич. Он рассказывал о вас. А другие? Оля, Сережа?
– Их тоже нет, – сказала Зюзя. Дмитриев вдруг вскочил и протянул Зинаиде Ивановне маленький белый прямоугольник.
– Вот!
– Что это? – удивилась Лиховцева.
– Визитка журналистки, которая рекомендовала медсестру. Оказывается, визитка все это время спокойно лежала у меня в кармане.
– Погодите, какая журналистка? Какая медсестра? – Зюзя устало прикрыла глаза. – Нет, я так не могу, давайте по порядку.
– Медсестра связана с бандитами, – сказала Василиса, – они ее прислали. Она хотела вколоть мне кетамин, но не успела. Дед ее прогнал. Надо позвонить журналистке и расспросить ее. Фотограф, который был с ней, тоже как-то замешан, – она всхлипнула и спросила: – Значит, точно все погибли? Гриша, Оля, Сережа?
– Да, девочка. Все, – кивнула Лиховцева, – если тебе тяжело сейчас говорить, мы можем завтра. Разговор долгий, сейчас очень поздно, тебе надо поспать.
Василиса слабо улыбнулась сквозь слезы.
– Мне? Тяжело говорить? Знаете, мне все время кажется, что вот, еще слово, и я опять не смогу. Замолчу.
* * *
Приз ждал звонка Михи. В половине первого к нему приехала Марина. Он заставил себя вызвать ее, опять принял стимулятор и сделал все возможное, чтобы она окончательно расслабилась, не задавала больше никаких вопросов по поводу Дмитриева и медсестры Нади. Это было важно, поскольку новость о жестоком убийстве известного режиссера и его внучки дойдет до нее непременно, и довольно скоро.
К трем часам утра Марина заснула со счастливой улыбкой. Она знала, что Володя любит ее, искренне, нежно, именно так, как мечтала она, когда была еще совсем юной и глупой. Ее не смущала разница в возрасте, не пугала его слава, не беспокоило количество поклонниц. Она верила Володе, как самой себе, потому, что они стали единым целым и оба поняли сегодня, что с самого рождения были созданы друг для друга.
Марина спала, а Приз сидел в гостиной перед телевизором, переключался с канала на канал и ждал звонка Михи.
Звонить самому нельзя. Если вдруг его замели, каждый звонок фиксируется. Но это крайний, почти невозможный вариант. Скорее всего, Миха просто сидит в машине и ждет, когда уедет американка на своем «Форде». Ему ведь четко было сказано: пока «Форд» там, в квартиру не заходить. При всей своей тупости Миха – человек исполнительный. Другое дело, что он мог заснуть в машине. Но это не страшно. Просто придется подождать еще сутки. Главное, ничего больше не предпринимать самому. Затаиться и терпеливо ждать. Все скоро закончится. Перстень вернется на свое законное место.
Иногда он проваливался в тяжелый обморочный сон и тут же дергался, вскакивал. Ему мерещился тихий звонок мобильного. Трубка лежала рядом, он хватал ее, но не было никакого звонка.
В четыре он вырубился, заснул, глубоко и крепко, на диване в гостиной, при включенном телевизоре.
В десять его разбудила Марина.
Он вскочил, как ошпаренный, тупо уставился в ее счастливые, тщательно накрашенные глаза.
– Который час? Мне никто не звонил?
Она улыбнулась, поцеловала его, погладила по голове.
– Конечно, звонили.
– Кто?
– Не кричи так. Все хорошо. Звонили из пресс-центра. В двенадцать ты должен быть на пресс-конференции. Не волнуйся. Сейчас только десять. Прими душ, побрейся, а я приготовлю завтрак.
* * *
Перед тем как уйти из больницы, Григорьев попросил врача заглянуть к Рейчу.
– Произошел несчастный случай с его молодым другом. Мне пришлось сообщить.
– Я же предупреждал вас, ему нельзя волноваться, – сказал врач.
– Он бы все равно узнал. Не сегодня, так завтра.
Кумарин ждал на лавочке, в больничном парке. Григорьев сел рядом, закурил.
– Ну, что? – спросил Кумарин.
– Не знаю. Плачет. Молится.
– Тогда все в порядке.
– Будем надеяться.
– Вы собираетесь сообщать Макмерфи, кто отправлял конверты?
– Я буду все валить на Рики. Ему уже безразлично, а старика лучше оставить в покое.
Кумарин сорвал веточку лиственницы, понюхал.
– Наверное, это правильно. Вы телефон оставили. Вам звонила Маша.
Григорьев взял у него свой мобильный, начал набирать номер.
– Не надо. Как раз сейчас она спит. У нее была долгая бессонная ночь. А до этого – сумасшедший день. Вам рассказать? Или вы по-прежнему не желаете узнавать что-либо о вашей дочери от меня?
– Рассказывайте, – вздохнул Григорьев.
Человек Кумарина был внедрен в группу, которая отправилась по вызову Арсеньева на территорию бывшего пионерлагеря. Он же оказался в составе группы, которая приехала в квартиру Дмитриева. Кумарин выложил всю информацию, которую получил от этого человека. Только не стал рассказывать, как арестованный Данилкин держал дуло у Машиной головы.
Григорьев слушал молча, курил, вертел в руках телефон.
– Ну вот, а теперь поехали завтракать, – сказал Кумарин и поднялся, – ну что вы опять молчите?
– Думаю.
– Поделитесь мыслями.
– Еще немного подумаю, потом поделюсь.
– Да, я забыл самое главное, – сказал Кумарин, когда они сели в машину, – Машу из квартиры Дмитриева повез домой майор Арсеньев. И знаете, он остался у нее ночевать.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В небольшом зале, где проходила пресс-конференция, было холодно. Работало несколько мощных кондиционеров. Евгений Николаевич Рязанцев не сомневался, что это кончится в лучшем случае бронхитом. Сочетание уличного пекла с искусственным холодом в машине и в помещениях действовало на него ужасно. Он уже слегка покашливал, в горле першило, и голос звучал глухо, хрипло.
Он знал, что конференция транслировалась в прямом эфире по одной из популярных радиостанций и через полчаса после окончания будет подробно освещаться во всех новостях, сегодня до глубокой ночи и завтра утром. Ее собрали для того, чтобы официально объявить о готовящемся объединении трех главных оппозиционных политических партий и выдвижении единого кандидата на выборы президента России.
Формально претендентов на должность нового единого лидера было пятеро. Евгений Николаевич Рязанцев возглавлял самую крупную и влиятельную из трех партий, «Свободу выбора», и был номером один. Лидеры двух других партий имели слишком скандальную репутацию, постоянно грызлись между собой, не выдерживали ни одного совместного публичного выступления без грубых и злых взаимных упреков и практически не имели шансов на победу. Они были вчерашними людьми в политике.
Существовали еще независимые кандидаты. Из них на конференции присутствовал только один, вернее – одна.
Популярная демократическая дама-политик Светлана Павловна Кулакова.
Рязанцев сидел между нею и Вовой Призом. Кулакову он знал уже пятнадцать лет и не ждал от нее сюрпризов. Она вполне комфортно расположилась в своей политической нише, успела сколотить хороший капиталец, наелась популярности до отвала и теперь лишь лакомилась, появлялась только на самых свежих и забавных публичных мероприятиях. С самого начала было оговорено, что ее участие в новой политической акции носит чисто декоративный, так сказать, эстетический характер. Раньше она бы взбесилась, выслушав такие условия игры, надавала бы дюжину скандальных интервью о мужском шовинизме и дискриминации женщин. Но это раньше. По сути, она тоже была вчерашним человеком в политике. Высокая, чуть располневшая к своим пятидесяти, пережившая три развода, четыре замужества, две пластические операции, она сидела справа от Рязанцева, то и дело трогала белокурую челку, щелкала под столом застежкой сумочки из змеиной кожи. Рязанцев мог поклясться: сейчас она думает о том, как бы поскорей достать пудреницу и убедиться, что с лицом все в порядке. На вопросы журналистов она отвечала вяло, надменно и не проявляла никакого энтузиазма.
Владимир Георгиевич Приз сидел слева и, наоборот, проявлял энтузиазм. Он был на двадцать лет моложе Кулаковой и Рязанцева.
Евгений Николаевич чувствовал себя ужасно старым, каким-то выжатым и ненатуральным. Многолетние усилия по созданию своей политической харизмы казались пустой нелепостью, пошлостью. Вот она, жизнь, молодая, здоровая, крепкая. Вот оно, природное обаяние лидера, за которым нет никаких специальных усилий. Щеки его небриты не потому, что щетина в моде, он просто не успел побриться. Глаза припухли, мало спал. Голос мягкий, низкий, с легкой естественной хрипотцой. Вся страна знала, что он курит дешевый «Честерфильд», любит пельмени и жареную картошку с луком. Всей стране это было интересно.
На конференцию Приз явился с небольшим опозданием. Евгений Николаевич приехал значительно раньше, и ему пришлось проходить сквозь строй поклонников и поклонниц Приза. Подростки в футболках с его портретами, старики с плакатами, на которых были его портреты. Они ждали своего кумира и на Рязанцева не обратили внимания.
Потом, стоя у окна, Евгений Николаевич видел, как подъехала его машина, как он вышел в сопровождении мрачных молодцев из команды Егорыча. Толпа ожила, закипела. К Призу тянулись руки, у него брали автографы, трясли транспарантами с его портретами и лозунгами «Очнись, Россия!», «Хочу Приза!», «Вова, мы с тобой!». Скандировали хором:
– Володя Приз! Россия, очнись!
Старшее поколение называло его Володенька. Младшее – Вова. Именно так обратился к нему молодой журналист с хилым хвостиком, когда закончил вступительную речь представитель оргкомитета. Самый первый вопрос на этой пресс-конференции был обращен к Призу, а не к Рязанцеву. Вопрос заставил Евгения Николаевича вздрогнуть.
– Вова, а когда ты собираешься выставлять свою кандидатуру?
Приз широко улыбнулся, пошевелил бровями и почесал кончик носа. Он выглядел как резвый умненький подросток, который слегка озадачен вызовом к доске. Урок не учил, но ответит, непременно ответит. Он ведь умница, хотя и шалун. Рязанцев заметил, как у первых двух рядов дергаются губы. Улыбка Приза обладала волшебным свойством. Она отражалась в чужих лицах, как в зеркалах, и даже самые мрачные скептики невольно улыбались в ответ.
– Я? Ну, думаю, к следующим выборам – обязательно.
– А почему не сейчас?
Вова сделал задумчивое лицо, сдвинул брови и произнес медленно, с расстановкой:
– Приз надо честно заслужить, – задумчивость сменилась сияющей мальчишеской улыбкой, все поняли его шутку и поддержали дружным смехом, – нет, я серьезно. Каждая страна должна заслужить своего президента. И каждый президент должен заслужить право управлять своим народом. У нас с вами все впереди, ребята, с Последовали аплодисменты.
Следующий вопрос задала молодая строгая брюнетка с мужской стрижкой.
– Вы не могли бы коротко сформулировать свою будущую предвыборную программу?
– Да вон она, моя программа, – он кивнул на окно, за которым стояла толпа поклонников с транспарантами. – Ее народ сформулировал. Россия должна очнуться. Ребята, мы же с вами себя не на помойке нашли. Мы сильная, красивая нация, у нас древние благородные корни, у нас гигантский потенциал. У нас самая культурная культура и самая научная наука. Россия должна стать, наконец, самой великой и могущественной державой мира. Мы этого достойны.
Последовали аплодисменты. Затем вопрос:
– Как вы сами оцениваете свои будущие шансы на пост президента России?
Он опять почесал нос, нахмурился, тут же улыбнулся, весело подмигнул.
– Ну, изберете – стану.
– А вам это зачем нужно? Вы же актер, шоумен.
Вопрос задала полная женщина лет пятидесяти. Круглое грубое лицо ее было сильно накрашено, маленькие светлые глазки, обведенные черным карандашом, смотрели на Приза в упор, не моргая.
Приз ответил тут же, не задумываясь, и без всякой улыбки:
– Я родину люблю, – это прозвучало так просто и искренне, что глаза недоброжелательной дамы смущенно погасли.
Евгений Николаевич ждал, когда же наконец журналисты обратят на него внимание, начнут задавать вопросы ему. Кулакова тоже ждала, делала вид, что скучает, иронически хмыкала, слушая ответы Приза, один раз даже пробормотала на ухо Евгению Николаевичу:
– Боже, какой примитив, какая банальность!
Ожидание было унизительно для них обоих, а вопросы, которые наконец стали им задавать, казались грубыми, бестактными.
– Господин Рязанцев, вы сделали Владимира Приза рекламным брэндом вашей партии. Скажите, вы не боитесь конкуренции?
– Привлечение известных, талантливых людей, деятелей искусства является одной из генеральных линий позитивной стратегии нашего движения. Политическая партия, чтобы жить, должна постоянно пополняться свежими молодыми силами. А конкуренция только бодрит, – Рязанцев постарался улыбнуться и подумал с тоской: «Что за белиберду я несу!»
Двери в соседний зал были распахнуты. Там уже накрывались столы для фуршета и собирался дежурный набор тусовочных персонажей. Телеведущие, сериальные звезды, галлерейщики, дизайнеры, бизнесмены, главные редакторы, политтехнологи, имиджмейкеры, эстрадный певец Вазелин, десяток красавиц и красавцев, то ли моделей, то ли артистов из какого-то нашумевшего мюзикла. Наконец, просто люди, разного возраста и пола, одетые дорого и модно. Такие всегда появляются на подобных мероприятиях, но неизвестно зачем и кто они.
Конференция длилась уже минут сорок, публика из задних рядов ускользала в соседний зал, к накрытым столам. Постоянно кто-то ходил туда-сюда. Евгений Николаевич сидел лицом к двери и думал: когда же наконец кончится это бодяга? Настроение его было испорчено еще и тем, что не пришла Мери Григ. Обещала, но не пришла. Правда, предупредила, что опоздает. Оживление в дверном проеме нарастало. Журналисты опять переключились на Приза, и многие хотели вернуться, послушать. Он отвечал бойко, шутил и вдруг замер, напрягся, скомкал удачно начатую реплику.
– Сейчас чихнет, – прошептала Кулакова.
Приз действительно выглядел так, словно хотел чихнуть, но не мог. Он покраснел, глаза сузились, рот широко открылся. По виску потекла мутная капля пота.
В зале стало тихо. Все смотрели на Приза и ждали, когда он продолжит говорить. Но он молчал, уставившись в широкий дверной проем. Там, в толпе, происходило какое-то легкое движение. Рязанцев увидел Мери Григ. Она пробиралась в зал. Рядом с ней маячило лицо мужчины, смутно знакомое. Дальше шла девочка лет пятнадцати, очень худая, бледная, с темными волосами, гладко зачесанными назад, с глазами, такими огромными и блестящими, что ничего, кроме них, на лице нельзя было раз глядеть. Девочку держала под руку седая, полная, чиновного вида дама. Все четверо мягко прорезали толпу собравшуюся в дверях, и направились по боковом проходу прямо к столу, за которым сидели герои конференции
Пока они шли, Приз молчал. Он молчал слишком долго, по залу прокатился удивленный ропот Рязанцев кивнул Маше, она кивнула в ответ. Он узнал мужчину, который шел с ней рядом, и даже вспомнил его фамилию, майор Арсеньев.
– Что происходит, вы не знаете? – шепотом спросила Кулакова.
Девочка остановилась напротив Приза. Рязанцев увидел, что на руках у нее белые нитяные перчатки. Она протянула Призу раскрытую ладонь и сказала:
– Это ваше? Возьмите.
На ладони лежало кольцо из белого металла. Рязанцев успел подумать: «Действительно, это, кажется, его. Он постоянно носил на мизинце».
– Тварь. Убью.
Приз произнес это очень тихо, но на столе были выставлены микрофоны, поэтому получилось громко. Евгений Николаевич отшатнулся, упал на Кулакову, она охнула. Приз попытался схватить руку девочки, он хотел взять свой перстень, но позади уже стоял Арсеньев. Он очень быстро и незаметно умудрился обойти стол и удержал Приза, не дал прикоснуться к девочке. Приз вырывался и кричал.
Евгений Николаевич вместе с Кулаковой отошли подальше. Приз стал похож на механическую куклу. Он дергался, из открытого рта бил непрерывной струей мат вперемежку с проклятиями, угрозами. В голосе сквозили какие-то скрипы, шипение, словно внутри Приза работал старый проигрыватель и крутилась поцарапанная пластинка. Все это усиливалось десятком микрофонов, транслировалось в прямом эфире по радио, снималось на телекамеры.
Рязанцев видел, как Маша вместе с пожилой дамой уводили девочку, с трудом пробираясь сквозь толпу журналистов. Приза держал уже не Арсеньев, а двое мощных охранников. Было заметно, что они удерживают его с трудом, пытаются успокоить, заставить замолчать и не могут.
Из банкетного зала лезли любопытные. Поднялся гвалт, журналисты, фотографы, телевизионщики с камерами напирали друг на друга, вспышки слепили глаза. Милиция пыталась навести какой-то порядок. Рязанцев и Кулакова осторожно, по стеночке, стали пробираться к выходу.
Приз затих лишь после того, как на него была натянута смирительная рубашка и врач вколол ему мощное успокоительное. Спеленутого, на носилках, его вынесли через ресторанную кухню, увезли в Ганнушкина.
Когда его увозили, у главного входа все еще оставалась небольшая толпа поклонников. Они ждали своего кумира, пили пиво из банок с его портретами, ели чипсы из пакетов с его портретами и от нечего делать иногда покрикивали:
– Володя Приз! Россия, очнись!
ЭПИЛОГ
Кумарин и Григорьев сидели в полутемной гостиной. Завтра они оба улетал и Григорьев в Нью-Йорк, Кумарин – в Москву Это была последняя ночь в Ницце Они смотрели очередные новости. Мощная антенна принимала почти все российские телеканалы Репортажи со скандальной пресс-конференции показывали уже третьи сутки, по разным каналам, в разных новостях. Произносилось много ерунды, с комментариями выступали политики и эстрадные звезды Кто-то возмущался, кто-то удивлялся, кто-то жалел Приза. Евгений Николаевич Рязанцев сказал, что все это ужасно неприятно и должно послужить уроком для всех, прежде всего для средств массовой информации, которые сделали национальным героем человека с явной психической патологией. Известный эстрадный певец Вазелин заявил, что скандал на пресс-конференции и насильственное помещение Вовы Приза в психушку является не чем иным, как грязной провокацией силовых структур, и еще раз доказывает, .что грядет диктатура, свирепствует идеологическая цензура.
– Я там был, все видел и слышал. Я не понимаю, за что Вову взяли. Ребята, это же натуральный произвол, тридцать седьмой год. Если за нецензурные выражения .всех начнут пихать в психушки, у нас вообще, блин, никого не останется. Между прочим, матерился Вова гениально. Песня, произведение искусства!
Журналистам удалось взять короткое интервью у следователя Лиховцевой. Она сказала, что прокуратурой возбуждены уголовные дела по факту сразу нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, включающих убийства, покушение на убийство, поджог и многое другое. То, что произошло на конференции, можно определить как следственное действие, конечно, не совсем обычное, но вполне правомерное. Свидетельница, имя которой пока не разглашается, предъявила одному из подозреваемых вещественное доказательство, мужской перстень из белого металла. Он был обнаружен на месте преступления. Реакция подозреваемого оказалась настолько неадекватной, что пришлось срочно госпитализировать его в Институт имени Ганнушкина. В настоящее время гражданин Приз находится на обследовании в Институте судебной психиатрии имени Сербского.
Корреспондент задавал еще вопросы, но Зюзя от дальнейших комментариев отказалась.
Кумарин приглушил звук в телевизоре. Налил коньяка Григорьеву и себе.
– Ваше здоровье, Андрей Евгеньевич.
– Не понимаю, зачем было привлекать к этому ребенка. Она через такой ад прошла, могли бы пощадить девочку, – проворчал Григорьев и выпил, не чокаясь.
– Да, – кивнул Кумарин, – мне тоже не понравилась эта идея. Но знаете, это ведь была ее идея.
– Чья? .
– Василисы Грачевой. Ни Лиховцева, ни Арсеньев, никто сначала не хотел этого делать. Больше всех возражала ваша дочь.
– Еще бы не возражать. Девочка объяснила ей, каким образом она узнала, что перстень когда-то принадлежал Отто Штраусу. Слишком много всего для ребенка.
– А правда, как Василиса узнала о Штраусе? Вы мне этого не рассказывали.
Григорьев поморщился и махнул рукой.
– Все равно не поверите. И я не верю. С Василисой Грачевой происходило то же самое, что с Генрихом Рейчем тридцать лет назад, когда перстень оказался на его пальце.
Кумарин тихо присвистнул, покачал головой и спросил:
– А Маша?
– Что Маша?
– Она верит?
– Как вам сказать? Она точно знает, что перстень на руке девочки раскалялся, как утюг. Это подтверждают еще два человека, Арсеньев и Дмитриев. Стояли все часы в квартире, причем все они показывали одно время. Ровно двенадцать. Это тоже факт. Василиса заговорила, как только удалось снять перстень. Часы сразу пошли. Кстати, где теперь эта магическая дрянь?
– Это не дрянь, Андрей Евгеньевич, а вещественное доказательство. Приобщено к уголовному делу. Потом, наверное, будет отправлено в музей МВД. Погодите, если я не ошибаюсь, когда Маша позвонила вам из квартиры Дмитриева, она сказала, что рядом с девочкой лежит книга, «История гестапо», раскрытая на портрете Отто Штрауса, – вспомнил Кумарин.
– Ну да. Именно поэтому Маша потом и спросила ее, как она узнала, чей это был перстень.
– И она поведала Маше о своих путешествиях во времени? – Кумарин иронически хмыкнул.
– Нет. Она только спросила, не знает ли Маша, удалось ли спасти кого-нибудь из детей Геббельса. Потом сказала, что Отто Штраус погиб тридцатого апреля сорок пятого года в Берлине. Обстоятельства его смерти она описала точно так же, как Рейч, когда я был у него в больнице в последний раз. Рейчу это приснилось.
– А Василиса Грачева видела своими глазами, – Кумарин нервно засмеялся и налил еще коньяка.
– Нет. Этого она не говорила. Она только сказала, что ей стало безумно жалко лейтенанта и больше всего на свете хотелось, чтобы он, а не Штраус успел выстрелить первым. Лейтенанта звали Пашка. Так его назвал капитан, с которым он разговаривал перед тем, как войти в дом на Вильгельмштрассе. У Пашки были зеленые глаза и рыжие ресницы, длинные, как у теленка.
Кумарин встал, выключил кондиционер, открыл окно. Пахнуло ночной свежестью, стал слышен мягкий плеск моря. Всеволод Сергеевич хотел что-то сказать, но просигналил факсовый аппарат. Пришло очередное сообщение из информационного центра УГП.
Пока Кумарин читал, Григорьев стал набирать номер на своем мобильном.
– Перестаньте, – сказал Кумарин, не отрывая глаз от страницы.
– Что?
– Не звоните ей.
– Почему?
– Потому! О, хорошая новость. Еще одного взяли. Бандит в милицейской форме, о котором рассказывала Василиса, оказался сотрудником Лобнинского УВД. Старший лейтенант Мельников Николай Иванович. Девочка его опознала. Он пока молчит. А Данилкин потек. Торгуется с Лиховцевой, как на арабском базаре, и закладывает всех потихоньку. Так, замечательно. При обыске на даче Приза обнаружен склад оружия. Гаубицы, гранаты, пистолеты-пулеметы. В сейфе паспорт Грачевой Василисы Игоревны, ключи от ее квартиры, а также документы убитых подростков, – Кумарин вздохнул, покачал головой, – а с самим Призом дело плохо. До сих пор не удается привести его в чувство. То буянит, то песню поет, одну и ту же: «Лютики-цветочки у меня в садочке». Поговорить, допросить пока невозможно. Сегодня был консилиум. Предварительный диагноз – паранояльная психопатия. Между прочим, Гитлер страдал тем же недугом. Ух, ты! Вот тут уже проясняется кое-что по убийству Драконова. Да положите вы телефон!
– Слушайте, это, в конце концов, мое дело! – разозлился Григорьев. – Это моя дочь, когда хочу, тогда звоню.
– Андрей Евгеньевич, неужели вы не понимаете, их сейчас надо оставить в покое.
– В покое?! Вы что, с ума сошли, Всеволод Сергеевич? Вы сами сказали, они, как приехали после пресс-конференции к Маше в квартиру, так третьи сутки не выходят! Чем они там занимаются?
Кумарин несколько секунд молча смотрел на него, потом тяжело вздохнул, хлебнул коньяка и тихо, серьезно сказал:
– Андрей, вы вроде бы неглупый человек, тактичный, хорошо воспитанный.
Григорьев вспыхнул, покраснел, тоже хлебнул коньяка.
– Но это невозможно. Это тупик. Абсолютный тупик! – он опять схватил телефон, тут же бросил, закурил, нервно щелкнув зажигалкой, встал, прошелся из угла в угол. – Она должна вернуться в Нью-Йорк через две недели. Неизвестно, когда она опять прилетит в Москву. Наверняка кто-нибудь стукнет руководству, ее больше не пустят. И его, этого майора, никогда никаким ветром в Америку не занесет, я уверен. В командировку не пошлют, а самому прилететь – денег не хватит. Нет, я должен позвонить, поговорить с ней!
– Андрей Евгеньевич, не трогайте вы ее сейчас. У них и так слишком мало времени. Они сами разберутся.
– Да как же разберутся?! Они оба с ума сошли! Третьи сутки не выходят!
– Завтра выйдут.
– Откуда вы знаете?
– Они обещали Василисе завтра свозить ее и Дмитриева в Кисловку, навестить женщину, которая ее подобрала. У вас сейчас пепел упадет. А ковер, между прочим, дорогой, персидский. Как, вы сказали, звали того лейтенанта?
– Какого лейтенанта?
– Ну того, с рыжими ресницами, который убил Штрауса.
– Пашка, кажется, – Григорьев немного успокоился, сел, подвинул себе пепельницу. – Это вы к чему спросили?
Кумарин сел напротив, налил.
– Давайте уж допьем эту бутылку. Ваше здоровье. Знаете, мой отец, Кумарин Сергей Николаевич, во время войны служил в «Смерше», в отделе контрразведки 79-го стрелкового корпуса. Войну закончил в Берлине, в чине капитана. Был там у них лейтенант Кузьмин Павел. Пашка. Дядя Паша. Ресницы рыжие, длинные, как у теленка. Глаза зеленые, лицо в веснушках. О том, как дядя Паша чуть не погиб в Берлине, тридцатого апреля, я слышал в детстве, от него самого. Он после войны ушел в отставку, жил в деревне на Сенеже, каждое лето отец ездил к нему в гости, рыбачить. И брал меня. Я раз десять слышал о странном человеке, который выскочил из-под земли в доме на Вильгельмштрассе. Чистенький, гладкий, в светлом костюме. Волосы белые, глаза голубые, улыбочка такая приятная, клевой руке пристегнут чемоданчик. В правой – пистолет «вальтер». Заговорил по-английски, сказал, что американец, но дядя Паша заметил акцент. Он все-таки был лейтенантом контрразведки. Убивать незнакомца он не собирался, попросил документы, хотел проводить до нашего блокпоста. Но у того были другие планы. Дядя Паша запомнил даже запах одеколона, сосновый такой, свежий, и перстень с печаткой на руке, в которой был пистолет «вальтер». Он только успел подумать: вот она, моя смерть. Каждый раз, когда дядя Паша рассказывал эту историю, в конце обязательно добавлял, что в тот момент как будто ангел над ними кружил – и прикрыл его от смерти своим легким крылышком.